Дела Разбойного Приказа-Шесть королев Тюдоров. Компиляция. Книги 1-12 [Сергей Алексеевич Булыга] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Сергей Булыга Углицкое дело
© Булыга С.А., 2011 © ООО «Издательский дом «Вече», 20111
15 мая 7099-го года от Сотворения мира (или 1591-го от Рождества Христова) в удельном городе Угличе преставился царевич Димитрий Иванович. А если прямо говорить, так там было вот что: убили его Борисовы люди, Мишка Битяговский с товарищами. Или же, говорили другие, что поосторожнее, это царевич сам себя убил – играли в тычку, он упал горлом на нож и от него зарезался. Или вообще он не убился, говорили третьи, самые упрямые, и теперь, по их словам, в Углицком кремле в Спасо-Преображенском соборе лежит в гробу не он, а безродный подменыш, а сам сказанный царевич спасся. То есть спасли его верные люди, скрыли до поры в надежном месте, и пусть Борис теперь локти кусает! Вот что тогда на Москве говорили – натрое. То есть могло быть и так, и сяк, и этак, а вот как оно было на самом деле – это, говорили, знает только один Господь Бог. Но Господь Бог – он высоко и далеко, и он судить будет еще нескоро, а посему царь и великий государь Феодор Иванович, старший брат сказанного убиенного (или же счастливо спасшегося) царевича Димитрия, как только дошли до него эти слухи (через трех разных гонцов), вначале крепко закручинился, а после велел скакать в Углич и во всем доподлинно на месте разобраться, как оно на самом деле было. И поручил это боярину Василию Шуйскому, и сказанный Василий Шуйский со своими людьми в тот же один день собрался и поскакал (отъехал) в Углич… Нет, всё было, конечно, не так просто, а так только, когда Шуйский уехал, между собой болтал подлый народ, который ничего толком не знал, да ему и знать не полагается. А на самом деле это начиналось вот как: поздним вечером 16-го мая уже сказанного 7099-го года прискакал в Москву из Углича губной дьячок Влас (Авласка) Фатеев, которому было строго-настрого наказано крепко держать язык за зубами и добиваться прямо к государю, и уже только государю говорить о том, что у них там случилось. И так Авласка и молчал почти что всю дорогу, и даже почти всю Москву. И уже только в Никольских воротах, то есть при самом въезде в Кремль, сказанного Авласку остановили стоявшие там на карауле стрельцы и стали допытываться у него, чего ему здесь надо. Авласка поначалу как мог отнекивался, нес что ни попадя, но после вскоре понял, что ему так в Кремль никогда не попасть, и сказал, что, мол, пустите меня, братцы, у меня наисрочное дело: у нас в Угличе беда, царевича зарезали, мне надо срочно к государю, мне приказано. То есть вот так прямо и брякнул! Стрельцы от таких слов сразу опешили, потому что больно уж Авласкина новость была непростая, а после все же опомнились и, правда уже без прежнего задора, продолжали: к государю, как же, обязательно – и повели Авласку под уздцы, не давая ему слезать с лошади, через ворота в Кремль. Авласка думал, что они ведут его в палаты государевы. Да и откуда ему было что знать, когда он в первый раз был в Кремле и он ни тамошних палат не знал, ни тамошних обычаев, а только слышал краем уха. И как слышал, так оно и вышло: те никольские стрельцы привели его не к государю, а, ничего не говоря, прямо к государеву шурину Борису Годунову! То есть к тому, кто и послал убийц к царевичу! И это еще хорошо, думал Авласка, что он не был такой дурень, чтобы ничего не понимать, и поэтому когда его ввели вверх по лестнице и там завели в богатую просторную светлицу и велели ждать, он уже сразу почуял неладное! Не туда его ввели, он понял, не может того быть, чтобы вот так его, последнего раба, сразу допустили бы до государя! Поэтому когда к нему в довольно скором времени вышел Борис Годунов (а он одет был просто, по-домашнему, ведь была уже почти что ночь), Авласка сразу пал перед ним в ноги, но при этом ничего не говоря. А Борис Годунов сел на лавку и сам начал его расспрашивать. То есть сперва спросил, кто он таков, и Авласка ответил, после спросил, кем он прислан, и Авласка сказал, что Иваном Мурановым. – Кто таков Иван Муранов? – спросил Годунов. – Наш губной староста, – сказал Авласка. – Что он велел мне передать? – спросил дальше Годунов тем же простым негромким голосом. Но Авласке стало очень страшно, он поднял голову и посмотрел на Годунова (а Годунов смотрел и хмурился) и, ничего не говоря, перекрестился. – Э! – усмехнулся Годунов. – Ты что это задумал, вор, ты меня перехитрить задумал?! – Помилуй Бог, боярин, разве я посмел бы! – быстро-быстро отвечал Авласка. – Робею я, боярин, вот что. Дело, – продолжал Авласка, – больно страшное. – И уже громко, и как бы отчаянно добавил: – Убили нашего царевича, вот что! – Ах, Господи! – воскликнул Годунов и широко перекрестился. – Ах, Господи! – сказал он еще раз и еще раз перекрестился. А после крутнул головой и повернулся к образам и губами вот так быстро сделал, и только после опять повернулся к Авласке и тихим голосом велел: – Рассказывай! А Авласка смотрел на него и молчал, и думал: кто это такой, не Годунов ли? А почему он так подумал, как он после объяснял, так потому что на кого еще было думать, ведь же кто тогда не знал, у кого вся власть в Москве?! У Годунова, у кого еще! Кто бы еще посмел-решился перехватывать гонца с такой страшной вестью? Но, тут же подумал Авласка, если он сейчас хоть одно лишнее словечко брякнет, после не найдет его никто и никогда! И он еще губы облизал, а после сказал так: – Я сам ничего не знаю, боярин! Я тогда сидел дома, обедал, как вдруг слышу: загремел набат! А после почти сразу вижу: уже по моему двору идет ко мне мой староста Иван Муранов, с лица очень красный. Я сразу почуял: дело дрянь! И только я встал из-за стола, а он уже входит, смотрит на меня звериным глазом и громко-грозно говорит: чего расселся, пес, царевича зарезали, а ты где был?! Я говорю: а здесь. А он еще громче: пес, пес, не здесь тебе надо сидеть, а скачи, пес, в Москву и скажи государю, что его братца любимого Димитрия зарезали! Я говорю: как, когда?! А он еще страшнее вызверился и кричит: вон, пес, во двор, я уже Никитке велел, он тебе уже коня привел, скачи и доложи, как велено! И я вышел во двор и как в чем был тогда, в том и сюда прискакал. Скакал со вчерашнего обеда. Сказав это, Авласка замолчал и еще раз перекрестился, чтобы прибавить своим словам силы. Годунов, увидев это, усмехнулся. Тогда Авласка добавил: – Не вели казнить, боярин, но мне было велено перед всеми молчать, а рассказать только самому государю. – Кем было велено? – спросил Годунов. – Иваном Мурановым, – сказал Авласка, – нашим губным старостой. На что Годунов усмехнулся и так же с усмешкой добавил, что пусть Авласка не боится гнева старосты, потому что, он прибавил, скажешь, что государь в ту пору спал и поэтому ты, не решившись его тревожить, поспешил к боярину Борису, его шурину… И тут Годунов замолчал. А зато Авласка подскочил и ретиво воскликнул: – А, а, я так и думал! – Вот-вот! – сказал на это Годунов. – И дальше тоже крепко думай, и я тебя не забуду. А не будешь думать – тоже не забуду, но уже иначе! – И при этом опять усмехнулся и еще пальцем погрозил. А после вдруг хлопнул в ладоши, вошел его человек, и он сказал человеку, что нужно всех поднимать, и государя тоже. Человек ушел. А Годунов встал с лавки и еще раз хлопнул, но уже иначе. Вошел иной человек, одетый сильно проще, и Годунов сказал ему, указав на Авласку, чтобы покормили этого. И Авласку увели куда-то на поварню, и там сонный повар или кто еще из тамошних людей дал ему миску холодной каши, кусок дрянного хлеба и квасу запить. Квас был такой же, как хлеб. Но Авласка был крепко голодный, он быстро жадно ел, но все равно при этом думал, что никогда бы не подумал, что его в царских палатах будут кормить такой дрянью. Но он так только думал, а вслух ничего не сказал. Да у него никто ничего и не спрашивал, и он сидел в том закутке, всеми забытый, и уже было даже начал думать, что он до утра никому не будет нужен. Но тут опять пришел тот человек, который и привел его туда, и опять велел идти за ним. Они пошли. Шли они не очень долго, но очень хитрым ходом, то есть то вверх, то вниз по лесенкам, и из сеней в сени, и из светлиц в светлицы, пока не дошли до такой двери, возле которой стояли двое дюжих молодцов в высоких черных шапках и с бердышами на плечах. Тут они остановились, тот сильно простой человек что-то быстро сказал молодцам, что – непонятно, но молодцы на это сразу расступились и тот человек и Авласка (тот человек толкнул ту дверь) вошли туда. А там было очень светло! Там же кругом были свечи! Их, может, было сорок штук, и все толстенные, и все ярко горели! И в этом ярком свете Авласка увидал перед собой (напротив) стол, а за ним сидели какие-то важные люди, и их было больше десятка. Как на иконе, подумал Авласка, он такую в церкви видел, подумал он дальше, а сам в это время продолжал смотреть на тех людей… Но тут тот человек, который ввел его, теперь схватил его за шиворот и со словами «пес, пес» ткнул его мордой в пол. Только тогда Авласка спохватился и запричитал: «Царь, государь, отец родной, спаситель!», а после замолчал и замер, но головы уже не поднимал, не смел. А те за столом все молчали. И тот человек, который его ввел сюда, тоже молчал. Потом вдруг кто-то тихим голосом сказал: – Ты кто такой? Авласка поднял голову и опять, теперь уж неспешно, посмотрел на тот стол. Там и вправду сидели очень важные люди, бояре конечно, и среди них Годунов, этот сидел почти посередине, а рядом с ним сидел царь. Царя Авласка сразу узнал, и это было очень просто, потому что бояре все были простоволосые, без шапок, а царь сидел в шапке. Шапка у него была вся в алмазах и так и сверкала, а сверху на ней был крест, тоже весь в каменьях. А сам царь из себя был вот какой: щечки кругленькие, сытые, бородка редкая и стриженная коротко, губки сложены кротко, в улыбку, а глаза блестят. Это от слез, понял Авласка, это ему уже сказали, что его младшего братца убили, и он по нему скорбит… И тут царь опять тихо спросил: – Ты кто, пес, такой? Авласка назвался. Тогда царь спросил, откуда он, и Авласка сказал, что он из Углича и что послал его сюда их губной староста Иван Муранов сказать, что злые люди убили государева братца Димитрия. Вот так прямо и сказал: убили! Государь, услышав это, вздрогнул и посмотрел на Годунова. Годунов нахмурился и быстро глянул на Авласку, а после как бы осмотрел других бояр, но все они молчали и вообще как будто ничего не слышали. Тогда он (Годунов) опять посмотрел на Авласку, теперь уже неспешно, и так же неспешно спросил: – Убили? Кто это? – Я не знаю, – ответил Авласка, а сам весь похолодел от страха. Вот как Годунов умел смотреть! И он еще тут же спросил, опять неспешно: – А если не знаешь, тогда чего мелешь? Авласке стало совсем страшно. И он от страха же и брякнул: – А я не мелю! А мне так сказали. – Кто? – грозно спросил Годунов. Эх, горько подумал Авласка, сказать, что не знаю, тогда здесь убьют, а сказать, что Муранов, тогда убьют там. И от этого сказал: – Как кто?! Да Битяговский, кто еще! – А! – громко сказал Годунов и сразу встал из-за стола. А все остальные бояре стали между собой переглядываться, но это тоже опять молча. Битяговский! Кто его не знал! А Годунов смотрел на Авласку и, кажется, сожрал бы его сразу, вот какие были у него глаза! А вслух он тоже ничего не говорил, как и бояре. Тогда царь похлопал глазами, а у него ресницы были вот такущие, а после спросил: – Это Мишка Битяговский, что ли? Авласка кивнул. Государь посмотрел на Годунова. Годунов на это только усмехнулся, опять повернулся к Авласке и сказал уже вот что: – Юлишь ты, пес. Ох, юлишь! Ты же мне только что как рассказывал? Что ничего не знаешь! Что сидел у себя и обедал, и вдруг бьют в набат. Так ты был там или нет? Видел, где кого убили? А если не видел, то чего ты мелешь?! – продолжал он уже совсем громко. Авласке стало холодно. Он перекрестился и сказал: – Вот как Бог свят! Ничего я не видел! Ванька Муранов пришел и сказал: убили нашего заступника, скачи, пес, в Москву и скажи государю, пусть пришлет стрельцов и пусть стрельцы ищут злодея! – Какого злодея? – спросил Годунов, и это уже улыбаясь. – Ты же сказал, что убил Битяговский, так что его тогда искать?! Сказал и даже подмигнул с улыбочкой. Авласку как огнем ожгло! И он сказал будто раздумчиво: – Ну, Битяговский или кто, кто знает! Я там не был. И Муранов говорил, что не был. Он говорил, что ему так сказали. А дальше сказал, что кто знает! Может, сказал, и не убили, а может, сам убился. И после сказал: а ты скачи в Москву, Авласка, скажи государю, государь сам разберется, это же его младший любимый брат, он же брата не оставит. Сказал и выдохнул. И незаметно, меленько перекрестился. И также глянул на тех за столом. Те молчали. Государь опять моргал глазами. Потом вдруг сказал: – Как убился! Сам, что ли? – Сам! – отчаянно сказал Авласка. Годунов молчал, смотрел как каменный. Государь опять спросил: – Как сам? – Ну, я не знаю, я там не был, – осторожно ответил Авласка. – Не видел. Но мало ли! Может, упал на нож и накололся насмерть. – Отчего это упал? – тут же быстро спросил Годунов, и это почти что со смехом. И так же со смехом добавил: – Он что, пьян, что ли, был? – Зачем пьян? – сказал Авласка. – А мог просто упасть. От падучей. – Падучей! – сказал кто-то за столом, а кто, Авласка не успел заметить. А государь тихо сказал: – Какой падучей? – Ну! – только и сказал Авласка и даже поднял руки, но и тут же опустил. И все молчали. Молчали они очень страшно. Тогда Авласка облизал губы раз, два, а потом опять стал говорить: – А, может, и не убился совсем. Может, Муранов напутал. И в набат ударили тоже напутавши. Потому что мало ли кого убили! Там же, вы бы только видели, сколько их там, малышья этого, по двору бегает! Ему же было скучно одному, и их же там набрали вон сколько! Бывало, придешь, а их там как татарвы, и он у них коногоном. Так что могли и не его убить, а по ошибке другого. А он увидел такое и спрятался. Он же смышленый был, ого! А эти дурни – в набат! А Муранов, тоже дурень, ко мне. И меня к вам. А он жив, здоров, на крылечке сидит, орешки щелкает и скорлупой на нас поплевывает. – Э! – грозно сказал Годунов. Авласка сразу замолчал. Годунов спросил: – А почему орешки? – А он до них очень охоч, – сказал Авласка. Годунов пожал плечами и посмотрел на государя. Государь улыбнулся и сказал: – Шутовство какое-то. – После чего посмотрел на Авласку, потом опять на Годунова и продолжил: – Но и оставлять это нельзя. Поэтому вот что, Борис. Ты, Борис, поручи это кому надежному. Вот хоть бы… – И тут он посмотрел сперва направо от себя, после налево, а после сказал: – А вот хоть тебе, Василий. – И указал, на какого из них, потому что там был не один Василий. Тот, на кого указал государь, встал за столом. Это был еще совсем не старый человек, сам из себя сухой, высокий и лицом такой же долголицый. И не было на том лице никакой радости, а была одна печаль. И так же с печалью он сказал: – Как прикажешь, государь. Вот что сказал тогда Василий Шуйский, а это был он, как после узнал Авласка. А тогда сразу он там уже ничего не узнал и ничего не сказал, потому что государь вдруг отвернулся от Шуйского и опять посмотрел на него, на Авласку, и сделал рукой от себя. Теперь уже Авласке объяснять было не надо, что он теперь должен делать, а он сразу сам вскочил с колен и задом-задом вышел из той горницы, а тот человек, к нему приставленный, быстро пошел за ним. И дверь сама собой сперва перед ними открылась, а после так же закрылась. А дальше было так: тот человек опять повел Авласку, но теперь уже совсем не далеко, а только вниз по лесенке, а там запихнул в какой-то темный чулан и сразу замкнул его. В чулане было пусто, была только одна голая лавка при одной стене да в самом вверху окошко в ладошку. В окошке была тьма. Авласка лег на лавку и очень крепко закручинился. Эх, думал он, чего это он так перепугался и намолол чего ни попадя. Надо было правду говорить! А теперь ему несдобровать, думал Авласка дальше, не выбраться ему отсюда, и зачем он только сюда ехал, ведь мог же не ехать! Да только что теперь! И Авласка перестал кручиниться, а перелег на спину, закрыл глаза и стал вспоминать все молитвы, какие он знал, и их тихонько вслух читать. Но таких молитв отказалось немного, и Авласка вскоре замолчал. Но молчать было еще страшней, и он стал читать молитвы заново. А после еще раз. А после еще. Но только когда в окошке начало виднеть, вдруг резко открылась дверь (а Авласка вскочил с лавки, а то он дремал) и в чулан вошли почти целой толпой дьяк, за ним его подьячий, за ними стрелец с огнем, после еще стрелец, этот уже с пищалью, и еще какой-то служка непонятно для чего. Авласка стоял не шевелясь и только глазами зыркал. А дьяк, очень важный с виду, может даже думный дьяк, велел стрельцу с огнем выйти вперед и посветить как следует. Стрелец вышел и стал светить Авласке прямо в глаза. А дьяк еще сказал: – Не щурься! Авласка стал не щуриться. – Га, хорош! – сказал дьяк насмешливым голосом. – Я так и думал, что вор! – После чего велел встать в угол и указал, в какой. Авласка встал туда. А думный дьяк сел на лавку, рядом с ним сел подьячий и положил дощечку на колени, а на дощечку бумагу и приготовился записывать. Авласке стало жарко-жарко, и он стал про себя молиться Богородице. Но домолиться не успел, потому что думный дьяк стал спрашивать. Спросил, как его звать, и Авласка ответил. После ответил, сколько ему лет, и где живет, и где служит, и сколько у него детей, и что его раньше не судили. – Га! – сказал думный дьяк весело. – Не судили, а теперь засудим! – И продолжал уже без смеха: – Слушай внимательно, Влас, потому что это про тебя: за небрежения в службе и за лживые речи твои, а особливо за поносные слова на его братца, это про орешки, государь велел тебя казнить: сперва отрубить ноги, после руки, после голову, а после вынести все это на задний двор и бросить псам на съедение! Вот так! Авласка молчал и только чуял, как у него по лбу течет холодный пот, но утираться не смел. Тогда думный дьяк усмехнулся и продолжал уже не так свирепо: – Но государь, Влас, милостив, и он сказал: спросите у него, у вора этого, как оно было на самом деле, и если правду скажет, то отрубите только ноги, и то только по колени, а руки и голову велел не трогать. Вот что сказал думный дьяк! А после глаза прищурил и спросил: – Ну, что, будешь признаваться? Авласка тихо сказал: – Буду. – И попросил воды. Служка сбегал за водой. Авласка выпил, облизался и начал рассказывать. И рассказал теперь вот что: – В ту ночь перед всем этим у нашего младшенького зубки резались и он орал неумолчно и мы глаз до утра не сомкнули. А после я ходил на службу, и там тоже было много мороки. А после я пошел домой обедать. И вот когда я уже дообедывал, в кремле ударили в набат. Жена перепугалась, спрашивает: что это? А я говорю: пожар, наверное, и дальше ем. А там в кремле били, били, а после стали бить везде, уже и на посаде. А я, был грех, даже в окно не выглянул, а дообедал, лег и сказал не будить. Потому что я же ночь до этого не спал! Но и тогда, днем, когда били в набат, тоже было не заснуть никак. Эх, думал я, когда ворочался, как же там крепко горит, наверное, а не вставал. Но после думаю: нет, так не годится, потому что так все равно не заснуть, а только после будут меня жрать за то, что не пришел. И тогда я встал и вышел. А набат уже почти затих. Я шел к кремлю и не спешил и думал, что, может, зря иду, может, там уже все потушили, да и дымов нет нигде, может, повернуть обратно? Но нет, вижу, все идут к кремлю, и все даже бегут! Это было видно впереди, я же живу почти что на самом конце Богоявленки, а это почти при Московской дороге. А кремль вон где, на берегу, у Волги. И я иду. И вдруг вижу: скачет мне навстречу наш губной целовальник Никитка Черныш на мурановской кобыле Клуше. А Муранов – это наш губной староста. А Никитка на его кобыле. Что такое?! Это я так тогда подумал. А Никитка уже подскакал, остановился и говорит дурным голосом: Влас, тебя мне сам Бог послал! Тебя, говорит, Муранов ищет! А сам с кобылы спрыгивает. И еще сует мне повод и говорит дальше, аж захлебывается: Муранов говорил, чтоб я нашел тебя и передал, чтоб ты живо скакал в Москву, Авласка, и рассказал там государю все как есть, что у нас здесь приключилось! И уже кричит: садись! И вот так кулаком замахнулся! И я оробел и сел, и уже только тогда спросил, что случилось. Великая беда, сказал Никитка, убили нашего царевича, вот что. И еще в сердцах сказал: зарезали! Как, кто? – спросил я. Кабы кто знал, сказал Никитка, там же такая замятня сейчас! Народ кинулся искать, кого убить в отместку! И уже кого-то, говорят, убили. И прибавил: эх, Авласка, счастье-то тебе какое привалило, тебе теперь вон куда, в Москву, а мне здесь оставайся и, может, самого сейчас убьют, народ же зверь! И опять грозно сказал: гони! И я не сдержался и погнал. И так гнал до самой Москвы. – На той же Клуше? – спросил думный дьяк. – Нет, – сказал Авласка, – куда ей, три раза лошадей менял, низкий поклон добрым людям. Думный дьяк кивнул на это, как бы соглашаясь, а после спросил: – А почему ты прежде говорил на Битяговского, а теперь уже не говоришь? Что, наговаривал тогда, при государе? Авласка помолчал, после сказал: – Не наговаривал. А это просто Никитка сказал, а я сейчас забыл прибавить, что люди в кремле говорили, что это Битяговские зарезали: старший за руки царевича держал, а младший бил ножом. Но, – тут же прибавил Авласка, – Никитка сказал, что это только такой слух, потому что кто-то же зарезал! – А что, он зарезанный был? – спросил думный дьяк. Авласка помолчал, поморщился, потом сказал: – Я этого не знаю. Я, боярин, тогда крепко напугался. И я ехать не хотел, а это все Никитка напутал. На что думный дьяк усмехнулся и сказал: – Да, верно, это же ему ехать надо было, ему, чую, Муранов это приказал, а он тебя, дурня, послал вместо себя, а ты, дурень поехал. – Да как же так! – громко сказал Авласка. – Не вели меня казнить, боярин, да я государя нашего больше чем отца родного почитаю, да пусть он мне не только ноги рубит, да пусть, боярин… Но тут думный дьяк махнул рукой, Авласка сразу замолчал, после чего думный дьяк продолжил уже вот как: – Я не боярин, а я думный дьяк. Думный я потому, что сижу в думе. Выше меня сидит царь, ниже меня – бояре. Если бояре что-нибудь хотят сказать царю, то сперва говорят мне, а уже я передаю наверх. И так же царь, когда хочет сказать боярам, то сперва говорит мне, а я уже после говорю боярам, которые сидят ниже меня. Все ниже! А ты мне: боярин, боярин! Авласка молчал. Тогда думный дьяк продолжил уже вот как: – Но нам теперь не до бояр. А вот что слушай: государь мне тебя поручил и сказал, что если у меня нет в этом такой спешной надобности, то ноги тебе можно не рубить пока что, а сперва отвезти тебя обратно в Углич и там на месте проверить, лживы были твои слова или нет. И вот мы теперь туда и поедем. И это прямо сейчас! После чего он встал с лавки и сразу пошел к двери. И все, и Авласка с ними, пошли за ним следом.2
Но так сразу уехать им не получилось, потому что, когда они только вышли из палат во двор (через заднее крыльцо, конечно), их там уже поджидали. То есть поджидал всего один какой-то человек. Но все равно думный дьяк (а это был Вылузгин Елизарий, так и будем его дальше называть) при его виде сразу очень сильно помрачнел, велел всем стоять, а сам прошел дальше вперед и громко спросил: – Чего тебе? Тот человек ему не очень низко поклонился и быстро сказал что-то негромкое и краткое. Вылузгин сразу сменился в лице, взял того человека под локоть, они отошли в сторонку и начали чуть слышно переговариваться. А после тот ушел, а Вылузгин вернулся и будто бы веселым голосом сказал Авласке: – Свезло тебе, злодей, бояре еще совещаются, что с тобой делать, так что еще маленько поживешь! – После чего повернулся к стрельцам и уже очень серьезно продолжил: – Смотрите за ним зорко, ироды, а я сейчас буду обратно! – И ушел. И пропал до самого полудня. Стрельцы стояли, а Авласка сидел. Стрельцы вначале были очень злы и говорили, что не сносить ему головы, и смеялись, и говорили дальше, что и угличским всем тоже не сносить, потому что это же где такое было видано, чтобы дали убить царевича, царского братца! И еще много другого гадкого они говорили, стращали, как только могли, а Авласка знай себе помалкивал. Эх, думал он при этом, прав был думный дьяк: обманул его Никитка, это Никитку послали в Москву, а он его, дурня, увидел и послал вместо себя, а он, дурень, согласился и поехал! А теперь, думал Авласка дальше, вернется он обратно в Углич или нет – это еще неизвестно, потому что мало ли что думный дьяк сказал, что надо ехать, а вот не поехали, передумали бояре, вот что, или даже Годунов сказал: убили, вот как славно, давно я ждал, когда его убьют, и вот наконец убили! А что, думал еще Авласка, у них в Угличе многие так про него говорили, случалось… Ну, и так далее еще немало чего думалось, а вслух Авласка молчал и на стрелецкие речи ни одного словечка не ответил. И даже когда они перестали стращать, потому что самим надоело, а сели с ним рядом и стали, уже с лаской, на разные лады у него выспрашивать, что же у них там такое случилось и как такое могло быть, Авласка опять по большей части помалкивал, и только если уже особенно сильно они на него наседали, то неизменно отвечал, что ничего толком не знает, а что он и в самом деле сидел дома и обедал, а после лежал и подремывал, а после велели ему ехать – и он поехал. Но стрельцы ему, было видно, не верили. А время шло! А день был жаркий. А они сидели на задах царских хором, рядом с хлебным дворцом (не дворцом, конечно, а амбаром, но у царей всё дворцы) и уже больше молчали и просто смотрели через реку на цветущий государев сад, а дальше за ним были видны дома, дома, дома до самого края, казалось, земли. Вот какой здоровущий был город Москва! А потом, когда уже обедня кончилась и уже полдень отзвонили, вернулся Вылузгин. Он опять был как будто веселый и сказал, что их дело сделалось и им уже даже дали лошадей, и сказал идти за ним. Они (а это Авласка со стрельцами) пошли за ним. Но там, в еще одном дворе уже между другими дворцами, кормовым и сытным, то есть возле государевых конюшен, они опять ждали, Вылузгин куда-то уходил и приходил обратно, гневался, после смеялся, после опять гневался и уходил… А после, когда солнце уже заметно опустилось, то есть уже часа через три пополудни, он опять к ним пришел и как ни в чем не бывало сказал, что давно пора садиться, чего они ждут! И еще раз повел их дальше, теперь уже близко, за угол, и оказалось, что там и в самом деле уже все в сборе и только их и ждут. А в сборе это были вот кто: сказанный боярин Шуйский Василий Иванович со своими людьми, и окольничий Клешнин Андрей Петрович со своими, и Сарский и Подонский митрополит Геласий со своими чернецами тоже, то есть вот их было сколько! Да, и еще стрелецкий голова Иван Засецкий со своими же, и эти тоже конные. Но Авласка их тогда не знал почти что никого, и поэтому когда он их всех сразу вместе увидел, то очень крепко оробел. Но долго ему робеть не дали, а велели садиться, он сел, впереди задудели в рожки, и они все вместе тронулись. И уже проехали шагов с десятка два, как впереди вдруг затолпились, затеснились, а после совсем встали. Это, как позже объяснилось, Шуйский вдруг остановился, осмотрелся и спросил: – А где Косой? – Какой Косой? – спросили у него. – Как какой! – гневно воскликнул Шуйский. – Тот самый, вот какой! И, сказав это, еще раз оглянулся и даже привстал в стременах. И тут как раз из-за угла вышел обычный человек, одетый очень просто, увидел их и повернул в их сторону и быстро пошел, почти что побежал их догонять. – О! – сказал Шуйский. – Это он! – И отвернулся, и тронул коня, и они все поехали дальше. И тот, который их догнал, тоже поехал. У них же коней был достаток, ему дали пегого, сказали, что это Мухрышка, и он поехал вместе с ними. Зовут его Маркел, он так сказал, а больше никто ничего у него не спрашивал, и он ехал в общей толчее, держался людей Шуйского, и понапрасну рта не разевал совсем. Да, и еще: он был никакой не косой, а смотрел прямо и ясно, и мог смотреть долго, и при этом глаз совсем не отводил, и они у него не косили. Просто когда он смотрел, то почему-то было непонятно, он смотрит только на тебя или еще куда-нибудь. Вот такой у него был необычный взгляд! И, наверное, поэтому Шуйский (от других, конечно, слыша) назвал его Косым. И еще почему-то очень беспокоился, почему он не идет. Зато когда он пришел, Шуйский сразу отвернулся и после, сколько они в тот день ни ехали, ни разу на него не обернулся. И это, думал Маркел, хорошо, и на глаза боярину не лез, то есть вперед не выезжал и, не приведи Господь, не кланялся, а скромно ехал сзади в толчее, как об этом уже говорилось. И сам, как и вокруг него все остальные, помалкивал. А если кто и заводил где разговор (только вполголоса, конечно), Маркел к нему не прислушивался. Потому что он и без того всё знал! То есть знал он и историю Авласки, как будто тот ее сам ему поведал, и даже знал, почему они так поздно собрались в дорогу. Это, как ему сказал один знающий человек, случилось из-за того, что Шуйский бы поехал сразу, и даже когда ему сказали, что ему дают в подмогу Вылузгина, он и на Вылузгина тоже сразу согласился. Но тут ему еще прибавили, то есть передали от Годунова, что ему надо еще взять с собой князя Туренина. Тогда Шуйский сказал: не поеду, кто он такой – Туренин, для меня это бесчестье. Тогда ему сказали: ну, тогда бери или кого из Сабуровых, или кого из Вельяминовых. А те и другие, равно как и князь Туренин, были люди Годунова. И Шуйский, больше ничего не говоря, собрался и уехал, он сказал, к себе домой обедать. То есть в Китай, в Подкопаево. И как уехал, и как пообедал, так после там же и лег отдохнуть по древнему обычаю. А время шло! Тогда к нему приехал сам Туренин, тот самый, и сказал: – Не заносись, Василий, тебя по добру просят, не жди, когда будут просить иначе, и я не за себя прошу, потому что не хочешь меня, так пусть тогда едет Клешнин. – Андрей? – спросил Шуйский. – Андрей, – сказал Туренин, – государь за Андрея просил, или ты и государя не уважишь? Андрей Клешнин был дядька, воспитатель государев, государь его с юных лет крепко жаловал, Клешнин был человек государев и только уже после годуновский. Шуйский подумал и сказал, что с Клешниным он поедет. И стал собираться. А вот теперь они уже все вместе, то есть Шуйский, Клешнин и Вылузгин, все со своими людьми, и митрополит со своими, и Иван Засецкий со стрельцами, подъезжали уже к Сретенским воротам и на них со всех сторон смотрел народ и понимающе помалкивал. Эх, думал Маркел, а ведь они все уже знают, что царевича зарезали, и если даже им теперь хоть кто любой скажи, что не зарезали, а сам зарезался, ведь не поверят же! Но это он так только думал, а вслух ни словечка не сказал. И вот они уже выехали из Москвы и, всё быстрей и быстрей, поехали по Переяславской ямской дороге, и всё это молча. Только порой вдруг кто поругивался, когда вдруг конь оступался, если попадал в колдобину. А колдобин было много, это верно. А все они были конные, и только один митрополит ехал в возке. Когда возок застревал, его скопом толкали. Шуйский каждый раз на это гневался, потому что он очень спешил и говорил, что они будут хоть всю ночь ехать, а остановятся только в Александровой Слободе. В Александровой, ого, думал Маркел, погоняя Мухрышку, да чтобы до нее доехать, тебе, боярин, надо было сразу соглашаться на Туренина и тогда же сразу выезжать! Но это он, опять же, так только думал, а вслух помалкивал. И гнал Мухрышку, гнал. Мухрышка был уже весь в пене, а бежал и не отставал от других. Хоть у всех других были сменные кони, а то и по два, и они их меняли, а Маркел гнал Мухрышку и гнал, уже стемнело, а после стало совсем темно, а Шуйский знай себе порыкивал: гони, гони! И гнали. Но все равно не по Шуйскому, а по-людски, как говорится, вышло. То есть вдруг Клешнин взмолился, что у него схватило спину и он не может больше ехать, и тогда Шуйский его пожалел и велел сворачивать к ночлегу, тем более что они тогда как раз были уже невдалеке от Троицкой Лавры. Когда они туда, к Лавре, подъехали, время было уже совсем позднее, почти что полночь, отец настоятель (Киприан) давно уже спал, но всё равно их, то есть Шуйского и всех его людей, а особенно митрополита, встретили с великим почетом – провели всех сразу в трапезную и там им нашелся перекус на скорую руку, но сытно, а после Шуйский и его советчики (Клешнин и Вылузгин) и митрополит Гелассий были проведены в отдельные палаты, а всех остальных определили в малый братский корпус на нижний этаж, то есть туда, где обычно принимают простых богомольцев. И там всех начали селить по кельям. А Маркел не стал селиться. Маркелу и спать не хотелось, и, что еще важней, ему очень хотелось проведать Авласку и с ним поговорить, поспрашивать его о том о сем. А то, думал, что это ему чужие пересказы! Но Авласку сторожили строго! Возле него весь день (в дороге) всегда были стрельцы, хотя бы двое. А тут, когда Маркел к нему подошел, возле него еще оказался и сам стрелецкий голова Иван Засецкий. И этот Засецкий сразу сделал вот что: сперва одной (левой) рукой сделал знак своим людям, чтобы они живо убрали Авласку с глаз долой, а после второй приветливо махнул Маркелу и тут же сказал: – О! А я тебя знаю! Тебя Маркелом звать. – Угадал, – сказал Маркел безо всякой радости. – И я тебя за Камнем видел! – продолжал стрелецкий голова. И тут же спросил: – Помнишь меня? – Я? – спросил Маркел как будто очень удивленно. – За Камнем! Вон куда хватил! Нет, я там не был. Стрелецкий голова обиделся, нахмурился, еще раз осмотрел Маркела и сказал: – Нет, видел! На что Маркел только хмыкнул. – Ладно! – сказал стрелецкий голова. – Не хочешь говорить, не надо. Да, может, тебе и нельзя. – После чего, и уже не сердито, спросил: – А здесь ты чего делаешь? Ты теперь чей? – Я, – ответил Маркел, усмехаясь, – ничей. – Э! – сказал стрелецкий голова. – Ничьих на свете не бывает! И замолчал, и осмотрелся. Никого рядом с ними не было, и была ночь, и они стояли на крыльце. Стрелецкий голова еще раз осмотрелся, а после сел прямо на верхнюю ступеньку и снизу вверх посмотрел на Маркела. Тогда сел и Маркел. Стрелецкий голова еще раз осмотрел его, усмехнулся и сказал с большим значением: – Служба! Маркел кивнул. Стрелецкий голова спросил: – Небось, хотел Авласку допросить? – А что его допрашивать, – сказал Маркел, – он и так уже всё рассказал. – Да, это верно, – сказал стрелецкий голова. – Да и чего он знал?! – сказал он дальше. После чего еще раз осмотрелся и сказал уже чуть слышным голосом: – Второй гонец знал много больше! – Второй? А что он знал? – спросил Маркел. – Скоро узнаешь! – сказал стрелецкий голова и усмехнулся. – Га! – насмешливо сказал Маркел, этим давая знать, что он не верит. – Га! – повторил стрелецкий голова очень сердито. И так же сердито, но тихо добавил: – Что царевич! Горькое дитя! А вот царева дьяка убили, вот что! – О! – только и сказал Маркел. А стрелецкий голова еще быстро добавил: – И двоих подьячих! И губного старосту! И мамку-кормилицу! И дядю, Афанасия Нагого! И еще пятьдесят человек! – Ну! – громко воскликнул Маркел. – Вот и не ну! – передразнил его стрелецкий голова свистящим шепотом. – Убили и в ров побросали. Вот так! И еще дали знать в Ярославль, и там тогда убили еще больше! А завтра будут бить в Москве! Попомни мое слово! Маркел не удержался, хмыкнул и еще прибавил: – Тогда куда мы едем? Надо было в Москве оставаться! – В Москве, – сказал стрелецкий голова, – и без нас силы достаточно. В Москве им быстро рога обломают. А зато ни в Угличе, ни в Ярославле нет никого наших! Или ты думаешь, что меня просто так с вами послали? А мой брат?! – А что твой брат?! – спросил Маркел. – А брат еще утром ушел, – сказал стрелецкий голова. – Мой родной брат, Тимофей. И с ним тоже сотня! Смекаешь? Брат уже, может, там! Маркел задумался, после принюхался. От стрелецкого головы шел крепкий медовый дух. Маркел еще принюхался, и это уже не таясь. Стрелецкий голова обиделся, встал и в сердцах сказал: – Дурень ты, Маркел, ох, дурень! За Камнем ты был поумней! – И развернулся, и ушел в дом. И стало тихо. Маркел сидел на ступеньках и смотрел в небо. Небо было чистое, звездное. Звезды держались крепко, ни одна из них не падала. А еще Маркел думал над словами стрелецкого головы о том, что в Угличе и Ярославле бунт и там много людей побито. Верить такому или нет, думал Маркел дальше. Стрелецкий голова не врет, конечно, что ему сказали, то он ему и передал. А почему вдруг передал? Да потому что невтерпеж с таким ходить, когда никто кроме него не знает, может, даже Шуйский тоже, потому что гонец был не царский, а годуновский, конечно, у Годунова же сейчас вся сила! Ну да и ладно Годунов, в сердцах дальше подумал Маркел, а вот стрелецкий голова какой прилипчивый! Он его за Камнем видел! Ну и что?! За Камнем теперь тоже наше царство!.. Подумав так, Маркел поморщился. Не любил он вспоминать о том, где он бывал раньше и что где и кого видел. И он опять стал смотреть в небо и думать уже вот что: как хорошо здесь, в Троице, тишина и благолепие, хорошо, что дальше не поехали, потому что в Александровой Слободе им так хорошо бы не было. Эх, вспомнил давнее Маркел, бывал он и в Слободе, и бывал не раз, а теперь перекрестился и не хотел, а все равно вспомнил дальше, как спустили на него медведя и он от него чуть отбился, а царь смеялся и плескал в ладошки, как дитя. Царь, еще раз подумал Маркел, покойный царь, когда он умер и отнесли его в собор, все они тогда жарко молились, как бы он вдруг не ожил. Вот где был страх так страх! Маркел даже мотнул головой, чтобы больше об этом не думать… Но покойный царь его не отпускал! Тогда Маркел резко встал, повернулся к куполам собора и широко на них перекрестился, прочел Отче наш, еще раз перекрестился, развернулся и пошел обратно в корпус, в сенях на ощупь, как слепой, нашел ведро и ковш, напился и так же в полных потемках пошел дальше. Шел на храп. На храп же нашел дверь, а дальше, где лежали на соломе плотно, как поленья, протиснулся как мог и растолкал где мог, после лег на спину, зажмурился (теперь храп был со всех сторон) и в больших сердцах подумал: при царе Иване так крепко не спали, разбаловался народ! И, еще раз перекрестившись, опять стал думать о стрелецком голове и о его словах – и мало-помалу заснул. Следующий день прошел быстрее, даже правильнее, проскакал, потому что рассказывать о нем почти что нечего. Утром встали на заре, перекусили и двинулись, точнее, поскакали дальше. Мухрышка стал прихрамывать, Маркелу стало его жаль, и на первой же остановке он подошел к дяде Игнату (так его все звали) и сказал, что ему нужен подменный конь. – Ты кто такой?! – начал было выговаривать ему дядя Игнат… Но потом вдруг, надо думать, вспомнил, что Маркел – это тот самый человек, из-за которого сам Шуйский вчера всех останавливал и ждал, и велел дать Маркелу коня. Теперь это был Птенчик. На Птенчике и на Мухрышке в переменку ехать стало много лучше. После, и очень вскоре, они проехали Александрову Слободу. Теперь это, подумал Маркел, была совсем другая Слобода, не то что при покойном царе, теперь даже ее почти что не было, а были одни пустые дома и такие же пустые царевы хоромы. В Слободе они остановились только чтоб воды испить, как говорится, и сразу поехали дальше. И еще: в Слободе Шуйский у тамошних спрашивал (все это слышали), нет ли у них каких известий из Углича, и те сказали, что нет. И Шуйский и все остальные поехали дальше. В Переяславле они были ближе к вечеру. Там их встречал уже сам тамошний воевода Иван Сицкий. Его же велением там были прямо на его воеводском дворе расставлены столы, и они все там быстро, на скорую руку, перекусывали. Шуйский, было видно, опять спрашивал, нет ли каких новых известий из Углича, и Сицкий ему на это что-то отвечал. Но что – неизвестно. И только уже после перекуса, когда они опять поскакали, коней не щадя, по рядам пошел слух, что Сицкий Шуйскому сказал, что наши стрельцы проехали на Углич еще утром. – Что за стрельцы? – спросил Маркел. – Да Тимошкины, – сказал подьячий Яков, с которым Маркел ехал рядом, – брата нашего Ивана, они вместе служат. – Ага, ага, – сказал в ответ Маркел, а сам подумал, что стрелецкий голова и в самом деле не врал, он так и думал, так что вполне возможно, что в Угличе и в Ярославе вправду бунт, вот тогда будет забот и суеты! Но так он только подумал, а вслух, как всегда, ничего не сказал. А там вскоре и совсем стемнело и они остановились. Ночевали они тогда почти что в чистом поле, потому что там была деревня из всего пяти дворов, места на всех не хватило, конечно, а только Шуйскому, его советчикам и их ближней дворне. А Маркел тогда пристроился на сеновале (почти что пустом, потому что был уже май месяц) вместе с тем самым Яковом, подьячим Поместного приказа, то есть человеком Вылузгина, и еще тремя другими такими же подьячими, приятелями сказанного Якова. Перекус был так себе. Но зато выпили! Поэтому когда легли, то не сразу заснули, а сперва завели пустой разговор о том да о сем, и чуялось, как они все мнутся и языкам воли не дают, потому что не знают, кто такой Маркел и что он здесь делает, а спрашивать его об этом не решаются. Но после все же спросили! На что Маркел, усмехнувшись (а в темноте этого видно не было), ответил, что он княжий едчик, то есть еду пробует, если князь в ней отраву чует. Они такому не поверили, один из них даже спросил: – А почему князь тебя сейчас к себе не спрашивает, почему ты сейчас здесь сидишь, когда князь за столом? А вдруг там кто дурное что задумает?! – Значит, не задумает, – сказал Маркел. – Не чует князь отравы, вот и не зовет меня. – А если позовет? – спросили. – Тогда, – сказал Маркел, – пойду и на что укажут, того и отведаю. – А если, – спросили, – там отрава? – Ну что ж, – сказал Маркел, уже не усмехаясь, – мы к этому привычные, в брюхе поскворчит, поколет и отпустит. – И всегда отпускает? – спросили. – Почти всегда, – сказал Маркел. – Мы же, – повторил, – с детства привычные, мне хоть сейчас дай толченый мухомор – и я его съем. И поганку тоже съем, дай поганку. Но ни мухоморов, ни поганок у них не было, и поэтому тогда один из них спросил: – А если совсем крепкий яд, тогда что? – Тогда мы тоже крепкие, – сказал Маркел. – У нас такая порода, нас яд не берет. – А после, помолчав, всё же прибавил: – Но случается, конечно, всякое. Тот, который до меня служил, дядя Трофим его звали, прослужилпятнадцать лет и только после помер. А я еще только восемь лет служу, значит, мне еще семь лет до сроку. А это еще ого! – И хмыкнул. А эти не хмыкали, просто молчали. Маркел тоже молчал. Но эти ничего уже больше у него не стали спрашивать, а только, было слышно, о чем-то между собой пошушукались. А после затихли. А после и совсем заснули. И так же сделал и Маркел. Утром они все вместе дружно встали и, не поминая вчерашнего, перекусили (все смотрели, как он перекусывает) и поскакали дальше. И так, с малыми остановками, они скакали до полудня. В полдень им навстречу прискакал конный стрелец (из тех, которые выехали раньше), Шуйский его встретил, выслушал, а после повернулся к остальным и, уже не скрывая, сказал, что в Угличе был бунт, убили государева разрядного дьяка Михаила Битяговского, а с ним еще пятнадцать душ, всё верных царских слуг, но мы им ужо сейчас покажем! И они все вместе поскакали дальше. И скакали так до вечера. А вечером, уже почти перед самым закатом, может, за час, ну, за два до него, в полуверсте от сказанного Углича, на ямской переяславской дороге, они увидели большущую толпу народа, а впереди троих конных бояр, а сбоку сотню стрельцов, уже пеших, но всех с пищалями почти наизготовку. Га, подумал Маркел, как забавно!3
Но никакой забавы дальше не было. А было вот что: в толпе вдруг задудели в рога, забухали в бубны, и всё это очень громко, а от города, и это еще громче, начали звонить в колокола. У них там очень складно получалось: сперва одни частили меленько: «Кто там? Кто там?», а после другие сердито: «Зачем пришли? Зачем пришли?», а после третьи совсем уже грозно: «Каз-нить! Каз-нить!», и опять сначала, и опять! Эх, думал, слушая, Маркел, а ведь так, небось, и будет, и тянул шею, и смотрел вперед, и чем ближе подъезжал, тем лучше видел тех троих бояр и думал, что это, конечно, Нагие, родня вдовой царицы. Двое тех, что помоложе, – это ее братья, Григорий и Михаил, а старший – это кто, думал Маркел, ведь старших Нагих тоже двое, и одного из них, Афанасия, Маркел однажды мельком видел, это когда царь Иван умер и тоже была замятня, и Афанасий был тогда в великой силе и чуть было всех не одолел, а этот, думал Маркел дальше, нет, не тот, а это Андрей Нагой, но тоже царицын дядя. Но рассмотреть его уже не получалось, потому что к тому времени они к ним уже совсем близко подъехали и передние перед Маркелом загородили Нагих шапками. И тут все остановились, и стало еще тесней и хуже видно. Но, правда, Маркел уже успел отъехать в сторону и поэтому его не затеснили и он всё, что хотел, рассмотрел. А рассмотреть там можно было вот что: когда Шуйский остановился (а с ним и Клешнин, и Вылузгин с митрополитом тоже, и все со своими людьми), Нагие, дядя и племянники, сошли с коней и низко, большим поклоном поклонились, а после старшему из них, Андрею, служки подали хлеб-соль, и Андрей с хлебом-солью выступил, а младшие за ним, навстречу к Шуйскому, и еще раз остановились. Старший Нагой теперь смотрел прямо на Шуйского, а Шуйский смотрел на него, но с коня сходить даже не думал. Старший Нагой держал хлеб-соль и что-то говорил, но слов нельзя было расслышать из-за рогов и бубнов и колоколов, а Шуйский смотрел на Нагого и хмурился. Тогда старший Нагой замолчал и теперь просто держал перед собой хлеб-соль, а молодые Нагие стояли за ним. А за Нагими стояли попы и монахи, а дальше была уже просто толпа всех подряд. А время шло и шло. А колокола опять, уже который раз, звонили: «Кто там, кто там, зачем пришли, зачем пришли…» И тут Шуйский махнул рукой, и мало-помалу смолкли бубны, затихли рога, а после также и колокола, и стало тихо. И только тогда Шуйский, даже немного вперед наклонившись, через старшего, спросил младших Нагих: – А где ваша сестра? Но младшие молчали, а ответил старший: – А ей неможется. Ведь горе же какое! Ведь же единственный сынок, кровиночка, вот кого она лишилась! – Лишились! Га! – грозно воскликнул Шуйский, глядя теперь уже только на старшего. – А вы куда смотрели?! Не уберегли! Старший Нагой на это ничего не ответил. Тогда Шуйский спросил: – А Афанасий где? Ага, смекнул Маркел, нет здесь Афанасия, верно! И посмотрел на Андрея Нагого. Андрей Нагой, глядя на Шуйского, сказал: – Он у себя сидит. – Где это – у себя? – сердито спросил Шуйский. – В Ярославле, на своем подворье, – ответил Андрей, усмехнулся и прибавил: – Как ему царь велел. А царская воля как Божья! – А сообщали ему про царевича? – Сообщали, – сказал Нагой, – как же, сразу, в первый вечер же! – И что? – Скорбит, – сказал Нагой отрывисто. – И… – начал было Шуйский, но передумал, посмотрел на хлеб-соль, которые Нагой по-прежнему держал перед собой, и спросил уже не так громко: – И как там, в Ярославле? Тихо? – А кому там шуметь? – как будто с удивлением спросил Нагой. – А здесь? – быстро спросил Шуйский. – Здесь тоже тихо. – А говорили – шум! – сердито сказал Шуйский. – Говорили – государевых людей побили! Было такое, а?! Старший Нагой молчал. И младшие Нагие тоже. – Где Битяговский? – грозно спросил Шуйский. – Почему его не вижу?! – И тут же добавил: – Убили его! Чую! На что старший Нагой сказал упрямо: – Не убили! А покарали. Шуйский свел брови, помолчал, а потом совсем не громко, но очень твердо сказал: – Карают только Бог и государь. Ну и я, раб Божий, слуга царский, царской волей, если царь позволит. – И помолчал, и осмотрел Нагих. Нагие опустили головы. А он быстро сказал: – Поехали! И он, а за ним и все его люди, и с ними и Маркел, разом тронулись дальше вперед. Опять задудели рога и загремели бубны, опять пошли звонить колокола, и так, впереди всех, Шуйский и въехал в город, а хлеба-соли так от Нагих и не принял! Углич еще и тогда, до польского пожара, был город небольшой. Также там и вал, и частокол по верху вала, и въездные, так называемые московские, ворота тоже были невысокие. Также и Богоявленская улица, по которой все дальше поехали, тоже была нельзя сказать чтобы широкая или богатая. А тут она еще была пустая, то есть никого там вдоль заборов не стояло, так как народ, вышедший встречать приехавших за город, теперь шел немного сзади их и, как думал Маркел, обгонять их и не собирался. Ну еще бы, думал Маркел дальше, если здесь царева дьяка убили, то Ефрем здесь без работы не останется! А Ефрем, к слову сказать, – это был здоровенный детина, заплечных дел мастер, лучший мастер на Москве, Шуйский на него очень надеялся, как говорили, а теперь он, то есть сказанный Ефрем, ехал в почти самом переду и грозно поглядывал по сторонам и жадно понюхивал ноздрями. Так они проехали по Богоявленской и выехали к Торгу. Торг тоже стоял пустой, или, может, они там попрятались, кто знает, думал Маркел, поглядывая по сторонам. Так же и дальше за Торгом, уже перед самым рвом налево, на кабацком дворе, тоже было никого не видно. В горло не идет, а как же, почти со злорадством подумал Маркел, отворачиваясь от кабака и глядя уже на кремль за рвом. Углицкий тогдашний кремль был еще каменный и очень даже внушительный с виду, почти как московский. Да его так когда-то и строили похожим на столичный, чтобы Москва не очень заносилась, вспомнил Маркел чьи-то слова, въезжая на мост через ров, и быстро глянул вниз… И увидел то, что и думал увидеть, – во рву лежали убитые люди, и их там было много, десятка два, никак не меньше… Но сосчитать их Маркел не успел, потому что он уже проехал по мосту (а сзади все время напирали), и через так называемую Никольскую проездную башню въехал в кремль, и дальше поехал прямо к уже видневшимся впереди, сбоку от храма, царевичевым хоромам. Да, и сразу справа от Маркела тоже стояли хоромы, одни и вторые и третьи, но эти были попроще и, как после узнал Маркел, это были хоромы Нагих. А, ну, и вот что еще: эти хоромы были деревянные, а царевичевы хоромы были деревянные только с краев, а посередине были каменные, то есть, конечно, кирпичные, но кирпич крепкий как камень, на века поставлен, он и после польского пожара выстоял, а тогда был и совсем красавец! И вот к этим каменным хоромам они все тогда и подъехали и сразу, конечно, спешились. Только Шуйский с Клешниным не спешились, и Шуйский, как Маркел услышал, спросил, где Мария. Ему что-то негромко с красного крыльца ответили. – Как это так?! – грозно воскликнул Шуйский. – Я это что, сюда по своей воле ехал? Нет, меня государь посылал! А ей государь уже не государь, так, что ли?! И он, наверное, еще бы долго гневался, но тут успели подъехать Нагие (а так они ехали сзади), и старший из них, Андрей (Маркел видел только его голову), приблизился к самому Шуйскому и стал ему что-то очень жарко и быстро-быстро говорить, и даже размахивать руками, что ему было уже совсем не в честь. Но Шуйский это стерпел. Он даже сказал: – А! Это вот как! Ну ладно. – И бросил поводья. Поводья сразу подхватили, и Шуйский слез с коня. После Андрей Нагой повел его наверх по лестнице. А младшие Нагие повели один Клешнина, а второй митрополита. А Вылузгина повели, хоть и с почетом, но уже просто тамошние дворовые. А после дверь сверху закрылась, и это было всё. То есть больше никого наверх не звали, а дальше было вот как: пришел сбоку какой-то человек, сказал, что ему матушка-царица их всех поручила и что он здесь всё знает, и стал указывать вроде того, что этим сюда, а этим сюда, а лошадей туда ведите и так далее, и все стали расходиться кому куда было сказано. А о Маркеле ничего не говорилось, и он пошел за подьячими, потому что он их уже знал хоть немного и еще потому, что он же не холоп, которым было сказано, что их место вон там, под навесом, будто они свиньи, что ли, и они и пошли туда молча. А подьячих, и вместе с ними Маркела, повели сперва направо, мимо второго крыльца, а там нужно было пройти еще немного и дальше были ворота во внутренний двор. Они вошли туда и по двору, теперь уже налево, прошли еще, и там их ввели в подклеть, а дальше почти сразу в еще одну дверь, и сказали, что это для них, они здесь будут жительствовать, место сухое, теплое, всё рядом, да и им же ненадолго, правда же. Ну да и что тут было спорить! Хотя, конечно, сразу было видно, что это бывшая холопская и что ничего там, кроме голых лавок, нет. Но все были крепко уставшие с дороги и поэтому пока просто посели по лавкам, и Яков, как старший, строго велел подать перекусить. Эти сразу побежали исполнять, а Яков утер руки и сказал, что всякое дело надо сперва обдумать, и с этими словами достал ложку. Но тут за ним пришли и, как сказали, увели к боярину. Так что когда принесли перекус (и запивку), пришлось перекусывать уже без Якова. Да, и еще: теперь, когда Яков ушел, у подьячих за старшего остался Парамон, и это он и предложил садиться, и все, и с ними и Маркел, сели к столу. Всего их, с Маркелом, было шестеро. Парамон сел во главе, Маркел сел с краю, а остальные – между ними. Челядницы накрывали быстро, ловко, на столе было всего, как говорится, Маркел смотрел на это и помалкивал, как и помалкивали все остальные. Когда же уже всё было накрыто и челядинцы вышли, тогда и их старший, который до этого просто стоял в стороне и приглядывал за порядком, теперь повернулся к Парамону и сказал вроде того, что не обессудьте, чем богаты, тем и рады, угощайтесь, гости дорогие, после чего сразу поклонился, а распрямившись, сразу повернулся уходить. Но Парамон тут же сказал: – Э, погоди! – А когда тот остановился и повернулся к нему, он спросил: – Тебя как звать? – Сазоном, – сказал тот. – Садись с нами, Сазон, – предложил Парамон. – Будем вместе перекусывать. – Так я на службе же! – сказал Сазон. – Вот это и будет твоя служба, – уже строго велел Парамон, – Садись, кому сказал! Сазон снял шапку, подошел к столу. Маркел подвинулся, Сазон сел рядом с ним, перекрестился. Парамон насмешливо сказал: – Выпей с нами, Сазон, не побрезгуй. Они все взялись за чарки, а там было хлебное вино, Парамон важно кивнул, и они дружно выпили, до дна, конечно, и сразу начали закусывать. Парамон еще закусывал, когда уже спросил: – Ты кем здесь служишь, Сазон? – Сенным сторожем, – ответил тот и сразу перестал закусывать. А Парамон еще спросил: – Из самых царицыных сеней? – Нет, не из самых, конечно, – ответил Сазон уже с опаской. – А я здесь, на этой стороне. – И сразу быстро добавил: – Я что! Я этого дела не знаю! И мне и знать не положено! – Не положено чего? – строго спросил Парамон и пальцем указал, чтобы ему еще налили. Ему налили, а Сазон сказал: – Ничего мне не положено, боярин. Я же ночной сенной сторож. А приключилось это днем, когда я после службы спал. Парамон взял чарку, повернул ее в руке, но пить не стал, а спросил, глядя прямо на Сазона, прямо ему в глаза: – Ну и что у вас тут приключилось? – Но Сазон молчал. Тогда Парамон гневно спросил: – За что царевича убили? Отвечай! Сазон от таких слов стал белый-белый, но головы не потерял и поэтому твердо сказал: – А почему это мне отвечать? На меня разве кто показал? – Надо будет – и покажут, – строго сказал Парамон, после чего поднял чарку и осмотрел их всех. Они все тоже подняли свои. Тогда Парамон сказал: – И покажут, и расскажут. И наговорят, если что. Но правда наверх выйдет! И вот за это и выпьем! А кто не пьет, тот зло таит! А кто не допивает, тот утаивает! Вот как покойный государь учил! И с этими словами он, а с ним они все вместе выпили, на этот раз тем более до дна. После чего Парамон, повернувшись к Сазону, сказал: – Закусывай, закусывай! А то после спьяну наплетешь чего ненужного! Сазон сразу принялся закусывать. Также и все остальные тоже сложа руки не сидели, и также с ними и Маркел. А когда немного закусили и когда даже Сазон уже перестал закусывать, а нет-нет да и поглядывал на Парамона, Парамон сказал: – Чего-то Яков всё не возвращается. А Яков скоро пишет! За ним никто не угонится! – После чего опять спросил: – Сазон, а, Сазон! Так про что там у них сейчас на верху наш Яков пишет, а? – Ну! – протянул Сазон с опаской. – Мало ли. Тут же смотря кого начнут расспрашивать. – А что, – сразу дальше спросил Парамон, – такое дело темное? Ведь день же был! И, говорят же, прямо во дворе убили. И тех, кто убивал, тоже убили же. Вон же, – продолжил Парамон, – целый ров злодеев навалили, мы же видели! – Я не валил, – сказал Сазон. – А почему? – Я спал. – А если бы не спал? Сазон молчал. – Ладно, ладно! – сказал Парамон. – Чего я это я в самом деле на тебя кидаюсь. Мы же сидим в тепле, сытно едим и сладко пьем. Вот и еще раз давайте! – и поднял свою чарку. Ему в нее сразу налили. И так же налили и всем остальным. После чего они, это уже в третий раз, выпили, после так же в третий закусили, после чего Парамон сказал так: – Да ты так не белей, Сазон. Мы же сейчас не на службе. Мне же это просто любопытно. И я же приезжий, а ты здешний, поэтому кто больше знает? Ты конечно. Да и я же тебя разве не уважил? Вот и рядом с собой посадил, вот и от себя угощаю. А теперь я у тебя просто спрашиваю: что же у вас тут такого приключилось? Кто тут у вас кого убил? Как? И за что? И ты же, Сазон, креста не целовал и не божился, а ты мне это просто говоришь, а я тебя просто слушаю и при этом никто из моих людей твоих слов не записывает. Разве не так? Так, закивали все, так. Также и Маркел кивнул, что так. Тогда и Сазон сказал: – Эх, я же понимаю! – А после еще раз сказал: – Эх! Тогда Парамон кивнул, Сазону сразу налили еще. Но он теперь пить не стал, а даже отодвинул чарку, а еще помолчал и сказал, то есть начал вот с чего: – Я всего этого не видел, сразу еще раз говорю. А говорили люди! А я только слышал: это уже обедню отстояли, и государь и государыня ушли наверх… – Кто, кто? – быстро спросил Парамон. – Государь и государыня? А я думал, государь в Москве. – Ну-у! – сердито потянул Сазон. – Тогда я… – Ладно, ладно! – сказал Парамон. – Продолжай. Сазон взялся за чарку и продолжил: – Государь и государыня ушли наверх. А день был погожий, летний. А до обеда было еще вон сколько. А государь у нас же юный, крепкий, и ему на месте не сидится же! И он начал проситься: государыня, мол, матушка, позволь мне на двор выйти до моих товарищей, они меня все ждут, я с ними позабавлюсь. Она и позволила, и он пошел. – Один? – быстро спросил Парамон. – Нет, конечно, – ответил Сазон. – Кто же это государя одного отпустит! Да и говорили же уже давно… – Что говорили? – спросил Парамон. – Да говорили всякое, – осторожно ответил Сазон. – Ходят, говорили, злые люди, желают тебя, государь, зарезать. – Кто говорил? – Я не помню. – Ладно! – в сердцах воскликнул Парамон. – Ефрем напомнит! – Какой Ефрем? Но Парамон молчал. Сазон тяжко вздохнул, но продолжал: – И он вышел во двор. Вот почти нам сейчас под окна. На этот хозяйственный двор. И тут уже эти бегают: это Петрушка Колобов и это Яшка, как его… Ну, вы это спросите, они вам скажут. – Кто скажет? – Бабы эти, которые с ним были. А это Арина Тучкова, кормилица, и Петрушкина мать Марья, постельница. Теперь они всё помнят! А тогда вышли на крыльцо и давай лясы точить! А ты, царское дитя, делай что хочешь! И он пошел вниз со сказанным Петрушкой, и с Яшкой, и с кем там еще! И дальше под яблоней, уже возле самой стены, они стали играть в тычку. Ножом в землю тыкать, кто ловчей воткнет. И тут вдруг идут эти змеи! И тут Сазон замолчал, а Парамон спросил: – Какие змеи? – Данила Битяговский, это Михаила сын, – резко, отрывисто сказал Сазон, – да Никитка Качалов, его же племянник, да Осип Волохов. Осип – это Василисин сын. Вот, никого чужого не было! И они идут себе, и их никто не останавливает, и они подходят к государю, а государь стоит и ест орешки. – Какие орешки? – спросил Парамон. – Обыкновенные, – сказал Сазон. – Ему их Петрушка поднес, а Петрушка их из дому вынес. И государь их теперь щелкал. А эти подошли и Осип первым говорит: «Какое на тебе, государь, славное ожерельице, дай посмотреть!». А ожерельице вот здесь, на самом горле. И государь его еще вот так вот вперед выставил, чтобы им было лучше смотреть. А тут Данилка цап его за одну руку! А Никитка за вторую цап! А Осип выхватил нож и вот так государя по горлу – шах, шах! И сразу все трое побежали! А эти все в крик! А бабы в голос! А беда уже случилось, кричи не кричи. Лежит наш белый голубок, не шелохнется! И тут Сазон замолчал, и даже отставил чарку и нахмурился. Все молчали. После Маркел вдруг спросил: – Насмерть зарезал? Сразу? На что Сазон кивнул, что да. – Эх! – только и сказал Парамон очень сердитым голосом, и опять все еще помолчали, после чего уже Иван, тоже их подьячий, сказал удивленно: – На что же они, ироды, надеялись! Ведь же куда было бежать?! И ведь же все их видели! Сазон в ответ только пожал плечами. – Да-а! – потянул Парамон. – Бывает же! – После спросил: – Убили их? – И их, – сказал Сазон, – и их старшего, когда он их спасать приехал. Это про Битяговского я говорю, про Михайлу. А вначале было так: эти двое тогда здесь заперлись, в дьячей избе, это его Данилка и его Никитка, сын с племянником, а наши рвались в дверь… – А ты спал, – подсказал Парамон. – Такой тут был ор, а ты спал. – Ну! – только и сказал Сазон, после чего продолжил: – Михайло конно прискакал и стал ломиться оттуда в ворота: откройте! Ну, ему и открыли! И сразу его с коня оглоблей! Я даже… Ну, не я сам, конечно, а другие после говорили, что из него дух сразу вон, из Михайлы этого. И он снопом на землю. А потом дверь вышибли и этих обоих оттуда выволокли и осудили сразу. А Осип, тот, который резал, он вдруг как сквозь землю провалился! Вот был рядом – и вот уже нет! Это уже после, уже, может, еще час прошел, уже царицыны братья-бояре приехали, а их здесь сразу не было, – только тогда уже доведались, где Осип – в Спасе! А как его из Спаса брать? Место же святое, храм! И вот тут уже низкий поклон отцу Степану – он туда пошел и оттуда его вывел. А дальше Осипу случилось то, что и им всем. И вот на этом весь мой сказ, боярин! – закончил вдруг Сазон сердито и решительно. И никто не стал с ним спорить, а они только еще немного помолчали, после чего Парамон молча повел глазом, то есть велел всем налить, всем налили и все молча, не чокаясь, выпили. Вот такое там было тогда застолье. А потом, когда все закусили и Парамон опять взялся за чарку и так же опять посмотрел на Сазона, Сазон сразу быстро встал, взял шапку, поклонился и сказал, что он благодарит их всех за честь и он бы так сидел всю ночь, но у него же служба, и попросил, чтобы ему позволили откланяться. Парамон молча позволил, он откланялся, еще раз их всех поблагодарил и только уже после вышел. А они еще немного помолчали, а после еще раз налили и выпили, после чего Овсей, а это тоже был их подьячий, начал рассказывать о том, как он на прошлой неделе покупал коня и как его хотели обмануть и как он на это не повелся. Рассказывал он скучно и нескладно, да и сама эта история была всем его товарищам очень хорошо известна, Маркел это сразу приметил, но всё равно все они слушали Овсея как будто с большим интересом и как будто в первый раз. Потому что, подумал Маркел, не сидеть же им теперь всем молча, а говорить о том, о чем им только что рассказывал Сазон, никому не хотелось. Трезвы они еще, думал Маркел, языки еще не развязали, ну да это недолгое дело. И только он так подумал, как вдруг раскрылась дверь и к ним вошел, то есть вернулся, Яков. Вид у него был так себе, сердитый, но он с порога сразу будто весело сказал: – Чего носы повесили? Танцуйте, голуби! Завтра домой поедем! Все сразу оживились, зашумели, стали вразнобой спрашивать, отчего это так, не случилось ли чего. Но Яков не стал пока что ничего рассказывать, а только сказал, что он крепко голоден, потому что там же ни одна собака не поднесла ему ни крошки хлеба. А только: – Яша! Яша! – в сердцах сказал Яков. – Как будто я не знаю, кто я! Как будто меня не крестили! После чего сел к столу, ему сразу подали чарку и он так же сразу ее выпил, после чего взялся закусывать, а они все терпеливо его ждали. А он не спешил! Он сперва еще два раза выпил, то есть сделал троицу, и также трижды закусил, и только уже после широко утерся, а после шумно выдохнул, после откинулся спиной к стене и осмотрел их всех, и только уже после всего этого сказал: – А чего здесь еще делать, если всё дело раскрыто? Не убивал его никто, вот что! Эти все молчали и смотрели на него, то есть даже между собой не переглядывались, не то чтобы спросить. И тогда спросил Маркел: – Кого его? – Кого, кого! Царевича! – строго ответил Яков. – А говорили же… – начал Маркел. – Мало ли что говорили! – сказал Яков. – Теперь же тоже говорят! Но говорят иначе! И осмотрел их всех. И все они, и даже Парамон, который только что был такой важный, теперь скромно помалкивал. Но вдруг Маркел спросил: – А как на самом деле было? Тогда Яков повернулся на него и сперва немного помолчал, а после хмыкнул и сказал: – Вот, верно! Вот и там сперва так было! После чего опять их осмотрел. Тогда один из них, Иван, не удержался и спросил: – Так что там было, Яков? – А ничего, – сказал тот и опять замолчал. Но уже было ясно видно, что долго он не удержится и сейчас расскажет все подряд! И так оно и случилось – он начал: – Не убивал царевича никто, а это он сам убился. А народ увидел его мертвого и сразу стал кричать, что убили, убили! И еще бить в набат и созывать еще народу, чтобы еще больше было замятни. А Битяговский прискакал их унимать, а они ему: а, это ты его, змей, убил! И самого его убили. И всех, кто заступился за него, – их тоже. И побросали в ров как собак. А царевич лежит мертвый в Спасе. Царевич свайкой закололся. – Чем, чем? – спросил Маркел. – Свайкой, – сказал Яков громко. – Свайки, что ли, не видал? – Видал. – Вот такой и закололся. – А, – сказал Маркел упрямо, – а говорили, что его зарезали. Зарезали – это вот так, – и он показал, как режут, – а колют так, – и показал, как колют. – Так! – еще громче сказал Яков. – А ты сам кто? Ты за боярином миски вылизываешь… – А! – быстро перебил его Маркел. – Говори, говори! Что ты еще про боярина скажешь?! Яков поджал губы, помолчал, после осмотрел своих подьячих, а после, на Маркела уже не оборачиваясь, продолжил уже вот как: – Они же меня как отсюда вывели, так сразу повели наверх. А там эти прямо за столом, как мы сейчас, среди всего сидели, только немного сдвинули. И боярин Василий сидел там, как и я здесь сейчас сижу, – а Яков сидел на месте Парамона, – а полубоярин Андрей здесь, это я про Клешнина, а наш Вылузгин его напротив, а митрополит здесь, конечно. А здесь сбоку эти трое, дядя и племянники, Нагие. Мне наш Елизарий говорит: «Яша, садись!». Я сел, сразу приготовился. И эти сразу начали! Нет, я даже думаю, что там уже кто-то был до меня и этот кто-то уже что-то им рассказывал, потому что боярин Василий сразу начал вот с чего: ты, мол, Мишка, что себе такое позволяешь, почему государева дьяка убили, кто тебе такое позволил? А Мишка, а это Михаил Нагой, конечно, встал с лавки, стал красный-красный и стал говорить, что он ничего не знает, что он был на обеде и стал от этого немного выпивши… А боярин перебил его, сказал: не выпивший, а мертво пьян! А Михаил опять: выпивший. Боярин махнул рукой, не стал дальше спорить, и тогда этот стал дальше говорить, как он сюда во двор приехал, а царевич уже лежит мертвый, а те, которые его убили, уже заперлись в дьячей избе и народ уже рвет двери. А ты что, спросил боярин. А тот: а я ничего. А кто велел их убивать? А он: а так Божьим судом случилось! Эх, тут боярин аж вскочил и закричал уже: Мишка, Мишка, подлые твои глаза, не смей так на меня смотреть! А этот опять свое: а я был выпивший, а как сестрица кричала, а как народ негодовал! Боярин махнул рукой, сел, после сказал: Мишка, уйди с глаз долой. Этот сел. Тогда боярин говорит: Григорий, а ты что скажешь? Тогда встал этот второй и стал уже говорить медленно, с оглядкой, и это всё больше на меня, как будто он смотрит, успеваю ли я за ним. А мне чего не успевать! Я успеваю. Да и он же еще кругами, кругами, как будто что топчет, что он сам здесь не был, что он был у себя на подворье, а это не здесь – в кремле, в хоромах, а на посаде, за Торгом. Боярин усмехнулся, говорит: ну, вы здесь гнезд навили, воронье! Вот так и сказал: воронье! А Григорий с ним не спорит, Григорий дальше говорит, как он приехал и как тут уже всё без него давно уже приключилось, так что откуда ему чего знать, как оно на самом деле было, уже и царевич давно мертв, и эти псы мертвы… А боярин сразу: мы еще узнаем, кто здесь псы, Гришка, придерживай язык! Тогда тот сказал просто, что он ничего не знает, и боярин сказал: ладно, и этот тоже сел. Тогда стали спрашивать их старшего, дядю Андрея. А дядя что? А дядя жизнь видел! Дядя у покойного государя у поставца стоял! И дядя стал рассказывать издалека, что люди говорили всякое, и что ему сны дурные снились, и что он говорил смотреть, и что они смотрели, а все равно от судьбы не уйти! И что царевич упал и зарезался. На этом месте Яков замолчал, а после медленно повернулся к Маркелу и добавил также медленно: – Вот как боярин Андрей Федорович боярину Василию Ивановичу сказал: зарезался царевич Димитрий. За-ре-зал-ся! – сказал он по складам. – А тебе как послышалось? – А мне никак, – просто сказал Маркел. – Вот и славно! – сказал Яков и опять повернулся к своим. И там один из них, и это опять Иван, спросил: – А отчего царевич вдруг упал? – От падучей, – строго сказал Яков. – Была у него падучая, вот что. – Давно была? – спросил Маркел. – Нет, – сказал, подумав, Якров. – Шуйский об этом тоже спрашивал. И эти ему сказали, что с зимы, а раньше не было. И что государыня кричала, что извести хотят царевича, что напускают прочу и что напускает Битяговский! – И, помолчав, добавил: – И вот за это его и убили. Это я про Битяговского. Теперь все молчали, и даже Маркел. Вот же где было известие! И так тихо у них было достаточно долго, после чего Яков сказал: – Вот так и там молчали, а потом Шуйский сказал: но кто вам позволил его убивать? А они сказали: а это не мы, а этот народ так решил. Какой народ? Посадские. Кто посадские? Не знаем. Народ же, сразу стали говорить, ты же, Василий, знаешь, горячий! Царевич же мертвый лежит! А как они его здесь все любили! Он же для был как солнце ясное! И вдруг лежит убитый. Погорячился народ, говорят, стыдно нам за него, совестно, готовы за него казнь принять, вот и сестрица пишет! И тут подают, старший, Андрей подал, грамоту. Шуйский стал ее читать. Это была ее челобитная до государя в Москву, чтобы народ не казнили, это мне Елизарий шепнул уже после. А так только вижу, Шуйский прочел, вот так бороду огладил и сказал: это не мне решать, но государь у нас милостив, молитесь за государя, может, государь простит. А после махнул рукой и сказал уже почти что совсем просто: ладно, завтра даст Бог день и даст ума, а пока что время уже позднее, а мы с дороги. И на этом было уже совсем всё, они ушли и я ушел. А теперь еще налейте! Ему так и сделали. И остальным всем тоже. А когда они все выпили, а после закусили, Яков сказал: – Не усмотрели. Будет им теперь. Елизарий так сказал. И то! – сразу продолжил Яков. – Это же среди бела дня! И у всех на виду! А если у него падучая, как можно было такому нож дать?! А?! – А как не дать? – сказал Овсей. – Овсей! – строго сказал Яков. – Много ты стал понимать! Овсей теперь уже молчал. Зато сказал Иван – задумчиво: – Да, это уже у кого какая планида. Один и в огне не горит, а другой и в ложке утопится. – Ты про кого это? – опять же строго спросил Яков. – Ни про кого! – сказал Иван громко, потому что был уже довольно крепко выпивши. И так же громко и почти смело продолжил: – А говорят, что у покойного царя Ивана уже однажды был такой сын, тоже Димитрием крещенный. Так тот Димитрий утонул! Тоже тогда все рядом были: и царь, и царица, и царевы дядья и тетки, и царев брат, тогда еще живой, они на богомолье ехали, а через ручей переходили – нянька оступилась, царевич у нее из рук – и в воду! И только пузыри пошли! Вот какое имя, говорят, Димитрий несчастливое! Вот что тогда сказал Иван – и все молчали! Первым Парамон опомнился, сердито хмыкнул и также сердито сказал: – Брехня какая! Где это ты такое видел, чтобы царь пешком через ручей переходил! Царя всегда переносят! – Вот его и унесли не туда, куда надо! – сразу и тоже сердито ответил Иван. – А нянька понесла царевича! И уронила! И сама упала! А это же царевич, надо понимать! Это же царская кровь, это же нам Богом данная! Кто до него смел дотронуться?! Вот он и лежал тогда в воде и пузыри пускал, а никто к нему не подбегал! Потому что нельзя было, не по чину! Покуда царица не кинулась, да только было уже поздно. Так, может, было и теперь – царевич сказал: «Дайте нож», – и кто ему поперечит? Я бы не перечил, я бы дал. – Ладно! – сказал Яков. – Больно умный. И завтра таких же, как ты, умных будет уже Ефрем расспрашивать: зачем нож давали, зачем после всё на Битяговского валили, зачем били в набат, кто позволил? Разбаловался народ, вот что! При прежнем государе было строже! Знаешь, что той няньке после было? Иван промолчал. – Вот, это верно, – сказал Яков. – Язык надо беречь и без лишней нужды не высовывать. – После чего сказал еще сердитее: – Фу, пересохло в горле всё! Но тут оказалось, что вино уже закончилось, Овсей вышел в сени и велел подать еще. Быстро подали. Также еще подали перекусу. Они еще выпили и закусили, после чего Яков вдруг повернулся к Маркелу и так же вдруг спросил: – А ты чего сегодня не на службе? Или ты сегодня наше проверяешь? А Маркел в это время как раз взялся на добрый кусок мяса. И поэтому, его не отпуская, сказал так: – Да, сегодня ваш черед. Боярин мне сказал: смотри, Маркел, как бы моим верным слугам какой кто беды не учинил! Вот я и смотрю каждый кусок, – и тут же его надкусил. А Яков тут же продолжил: – А я у боярских спрашивал сегодня, их ли ты. Они сказали, что не их. – А ты у боярина спроси, – сказал Маркел, уже пережевывая мясо. – Я не у них служу, а у него. – Может, у кого еще спросить? – в сердцах спросил Яков. – Может, – сказал Маркел. – Вот хотя бы спроси у Ефрема. Яков помолчал, даже еще поморщился, после сказал язвительно: – Я так и думал, чей ты человек. – Чей? – Сам знаешь! – Я-то знаю, это верно, – сказал Маркел решительно. – А ты думаешь, что я Борисов. – Я ничего не думаю! – очень сердито сказал Яков. – Меня сюда не думать привезли, а записывать за теми, кто не так подумал! – Ага! – Вот и ага! И на этом этот разговор закончился. Потому что, эх, сердито подумал Маркел, сказал бы я тебе, а вот не буду, я же тоже не для этого сюда приехал, чтобы говорить, а чтобы дело делать, а дело на месте стоит! И промолчал Маркел, и начал есть мясо, которое он раньше взял, из-за которого всё это началось. Мясо было жилистое, жесткое, Маркел его в сердцах жевал и так же в сердцах думал, что какой же Углич дрянной город, если здесь даже в кремле такое мясо гадкое. А эти смотрели на него и ничего не говорили. Только когда Маркел уже добрался до кости, Яков сказал, что уже поздно, хватит, пора и честь знать, завтра им рано на службу, и они все пошли укладываться. Им было хорошо укладываться, у них же у каждого хоть что-нибудь с собой да было, а Маркел ехал как соко́л, с пустыми руками, и поэтому он так и лег просто на лавку, руки заложил за голову и, чтобы не думать о другом, стал думать о деле, которое никак не делалось, и, как подумал Маркел, никто его не хочет делать, даже Шуйский, а все хотят скорей его спихнуть, хотя же ясно видно, как из него отовсюду торчат уши! И он дальше стал думать о том, что он называл ушами, то есть о тех несообразностях, которых он сегодня наслушался вдосталь… А вот еще, еще послушай, уже совсем сердито подумал Маркел, потому что подьячие, которые в своем углу сперва едва шушукались, теперь стали все громче и громче похрюкивать, а вот уже Иван сказал почти что в голос: а давайте его ночью задушим, когда он заснет! Тут они еще громче захрюкали, после чего Яков сказал: давайте, а после скажем – спьяну задохнулся! Давайте, давайте, сказал Парамон. После чего они притихли. Это, подумал Маркел, они, наверное, ждут, когда он начнет или ворочаться со страху, или даже что-нибудь дурное скажет. Но Маркел ничего не стал говорить, потому что что таким скажешь, а лег на правый бок, прочел «Отче наш» и подумал: Господи, спаси и сохрани, авось, просто брешут спьяну, не задушат, Бог спасет, – и так, с такими мыслями, почти сразу заснул.4
Утром Маркел проснулся и первым делом, перекрестившись, подумал: Бог спас, не задушили. А вслух ничего не сказал. И тут же почти сразу к ним пришли и стали накрывать на стол, Яков сразу же поднялся и начал поднимать всех остальных. Да уже и начало светать, пора было. Они встали и перекусили, ни о чем таком особенном не говоря, а только о всяких пустяках, а после, почти сразу, Якова опять позвали, а вместе с ним и Илью, это был у них еще Илья. А про остальных как забыли! Подьячие, когда им убрали стол, сели играть в гуська, а Маркел, не зная, чем пока заняться, взял из растопки тоненькую чурку и начал ее ножом (который он достал из рукава) обтесывать, а после вырезать на ней узоры, а сам тем временем думать, когда же это Шуйский о нем вспомнит и призовет его к себе и велит начать искать злодея и даст ему людей в помощь, чтобы дело шло быстрей. Но время шло, чурка строгалась, а от Шуйского никто не шел. Тогда Маркел встал, отложил чурку, убрал нож и пошел к Шуйскому наверх. Наверху его остановили и спросили, к кому он. Он сказал, что он к боярину Василию и что он Маркел Косой. Дворовой ушел, после вернулся и сказал, что надо ждать, что боярин сейчас у царицы. Маркел сел ждать. Ждал он там тоже долго. А когда опять стал спрашивать, дворовой разгневался и стал почти кричать, что кто Маркел такой, и что ему уже один раз сказали, что боярин занят, что надо честь знать! Тогда Маркел еще немного подождал, а после развернулся (но сперва перекрестясь, конечно!) и пошел вниз, при этом думая, что ладно, пока боярин у царицы, он здесь хоть осмотрится как следует, и, к себе уже не заходя, сразу вышел во двор. Утро было уже позднее, народу по двору сновало много, и шуму там тоже хватало. А двор там был такой – как кремль. То есть как сам углицкий кремль (и как сперва московский) был из себя кривой трехстенок, таким же был и внутренний царевичев (а теперь уже царицын) двор, где задняя для Маркела стена была задней стеной хором, а две другие впереди сходящихся стены были стенами самого кремля. По краям, вдоль стен, стояли службы, а посреди стояла маленькая церковь, Константиновская, как после узнал Маркел. И дальше за той церковью, возле стены, стояли яблони. Вот там, под яблонями, подумал Маркел, его и убили. Или он сам убился. Ага, вот оно как, дальше подумал Маркел, после чего осмотрелся и увидел, что сзади него во внутренний двор был только один вход – это те ворота, через которые они сюда вошли. И, наверное туда же въехал конно Битяговский и его сразу, то есть там, в воротах же, убили. То есть тогда ворота были сперва заперты, хоть день был такой же, будний, а теперь, в такой же будний день, они стояли открытые. То есть теперь кто хочешь через них ходи, а тогда разрядный дьяк, глаз государев, государева сума и государев меч карающий, стоял под ними и не мог в них въехать. Ладно! И тут, еще раз осмотревшись, Маркел увидел человека, который стоял на небольшом помосте и колол дрова. И тоже нет-нет да и поглядывал в Маркелову сторону. Маркел подошел к нему, сказал: – Бог в помощь. Тот опустил топор и сказал: – Спаси Бог. – Ты кто такой? – спросил Маркел. – Сидор я, – сказал тот человек. – А здесь что делаешь? – спросил Маркел. – Истопник я. На царицыной поварне, – сказал Сидор. – А я, – сказал Маркел, – Маркел. Стряпчий Разбойного приказа. Слыхал про такой? – Как не слыхать! – ответил Сидор и перекрестился. – Не крестись, рано еще, – сказал Маркел. После осмотрелся и сказал: – Тут, говорят, царевича убили. Сидор пожевал губами и сказал: – Не тут, а там, под яблоней. Под той, самой левой. – А ты видел? – спросил Маркел. – Бог миловал. Нет, – сказал Сидор. – А тогда откуда знаешь, что под той? – спросил Маркел. – А так все говорят, – сказал Сидор. – И все это видели? – спросил Маркел. – Да нет, какое там, – уже сердито сказал Сидор. А после так же сердито продолжил: – Люди сейчас горазды говорить всё, что ни попадя. Одни говорят, будто они видели, как царевича убили. А другие говорят, будто они из Москвы, из сам знаешь какого приказа. Маркел сразу громко хмыкнул и так же быстро спросил: – А ты небо с овчинку видел? – А это что? – спросил Сидор. – А вот что! – сказал Маркел и, подступив к нему как можно ближе, достал из-за пазухи круглый кусок овчины, перевернул его – и стало видно, что там, на гладкой стороне, как тавро, выжжен царский двуглавый орел! Сидор побелел и даже забыл перекреститься. А Маркел уже убрал овчинку, отступил на шаг и уже только тогда опять спросил: – Ну так что там люди видели? – Да ничего не видели, – ответил Сидор, но не сразу. А после, осмелев уже, стал добавлять: – Брехня это всё, вот что. Государь с ребятками пошел под яблони, и они стали там играть. А няньки на крыльце остались и там лясы точили. И народу тут везде было как и сейчас, да только никому из них никакого до царевича дела не было. Вот как сейчас всем до нас. И тут Сидор замолчал, а Маркел еще раз осмотрелся и увидел, что и в самом деле всякого народу сейчас во дворе много, но никто в их сторону не смотрит и уже тем более никто к ним не прислушивается, потому что всякий занят сам собой и своим делом. И Маркел опять посмотрел на Сидора. И Сидор тогда сказал уже вот что: – Я не знаю, что там, под яблоней, было. И я не знаю, был там Осип или не был, резал он кого или не резал. А я только одно верно знаю: вдруг вижу, и слышу конечно, бежит по двору Петрушка Марьин Колобов и как оглашенный орет, что царевича убили. Ну я и подумал, что, видно, убили крепко. Но не думал, что убили насмерть. И так же другие думали, я спрашивал. – Ага, – сказал Маркел. – Ага. – После спросил: – А дальше что? – Вот после дальше и забегали, – ответил Сидор. – Это сперва няньки вниз с крыльца, а после к ним царица, а уже после к ним народ. – А после что? – спросил Маркел. – А после стали Волохову бить. – Какую Волохову? – Осипову мать. Потому что будто он царевича убил, ее отродье, вот она и виновата. – А она, а Волохова эта, она откуда здесь взялась? – очень быстро, даже сбивчиво спросил Маркел. – А как из-под земли! – ответил Сидор. Вот что он вдруг тогда сказал! А ведь и верно, подумал Маркел, ведь же от царицы кто с царевичем пошел гулять? Нянька Арина Тучкова и постельница Марья Колобова, Петрушкина мать. А Волоховой с ними не было. Да о ней и разговора раньше не было. Ага, ага, уже еще быстрей подумал он, а потом так же быстро спросил: – Так кто же тогда всё это видел? Своими глазами?! – Да только один Петрушка получается, – подумав, сказал Сидор. – А где он сейчас? – спросил Маркел. – А они все на ров побежали, вся ребятня, – сказал Сидор. – Зачем? – спросил Маркел. – Так там же этих раздают, убитых, – сказал Сидор. – Их же раньше не велели раздавать, говорили, пусть гниют злодеи. А теперь же как будто уже не злодеи, говорят, ваш же боярин Василий так велел – раздать родне и пусть завтра хоронят по-христиански. И ребятня вся там, им интересно же смотреть на это. – Ага, – сказал опять Маркел. – Ага. – После сказал: – Ну, ладно. Надо будет, позовем еще и спросим. И не дожидаясь, что ему Сидор на это ответит, Маркел развернулся и пошел к дворовым воротам. Шел он очень быстрым шагом, потому что думал, что ему нужно еще успеть обернуться обратно, пока боярин сидит у царицы, и тогда как славно было бы! Шуйский спросит, чего он сидит, дожидается, а он скажет: нет, я не сижу, боярин, а я уже вон сколько успел вызнать! И станет говорить… Ну, и так дальше и дальше. А пока Маркел прошел через сказанные дворовые ворота и пошел вдоль терема. Там, не доходя до красного крыльца, к главной стене была пристроена высокая добротная изба, Маркел ее и вчера видел, когда их вели устраиваться, но только тогда Маркел ничего не заметил, а теперь он ясно видел, что эта изба стоит пограбленная, с выломанной дверью и такими же выломанными окнами. А, подумал про себя Маркел, даже не сбавляя шага, это, наверное и есть та самая дьячая изба, в которой прятался Данила Битяговский, младший, пока его толпа оттуда не достала. Тогда получается, что старший мимо младшего проехал и уже дальше, у ворот, его убили, а уже после младшегоубили здесь. А чего старший тогда ехал дальше, он же ехал спасать младшего! Подумав так, Маркел нахмурился, потому что ничего уже не понимал, уже совсем запутался… Но все равно пошел дальше, прошел мимо Спаса, в котором раньше прятался Осип, покуда спасский поп его оттуда не вывел, после прошел мимо колокольни, с которой неизвестно пока кто и неизвестно по чьему велению начал тогда бить в набат, а теперь за это Ефрем будет спрашивать строго – так, что язык отнимется! Или отнимут, подумалось дальше, после чего Маркел прошел через ворота, устроенные в проездной Никольской башне, и вышел на мост. На мосту стоял стрелец – с той, с посадской стороны. Маркел вышел на середину моста, посмотрел в ров и ничего там не увидел. Ров был пуст. Ров был старый, наполовину обсыпавшийся, поросший сорной травой. Когда-то там была вода, а еще вчера там на дне лежали убитые люди, а теперь там было пусто. Маркел перешел через мост, подошел к стрельцу, узнал его, а стрелец, видно, узнал Маркела, и Маркел спросил: – А где все эти? – и кивнул на ров. – Забрали всех, – сказал стрелец. – Давно уже. – Кто забирал? – спросил Маркел. – Люди, – сказал стрелец. – А что? – Но тут же добавил: – Вон, у него лучше спроси, – и указал рукой. Маркел обернулся и увидел, что к ним подъезжает Иван Засецкий, то есть тот самый стрелецкий голова, с которым он так нескладно поговорил в Троице. Зато теперь Маркел сразу сказал – и громко: – О, Иван! Давно не виделись! А где твой брат? Засецкий важно нахмурился, молча подъехал, молча сошел с коня, молча бросил повод (а стрелец ловко его поймал) и, кивнув Маркелу, ступил в сторону. Маркел ступил за ним. Засецкий, еще помолчав, тихо сказал: – Уехал брат. И все его уехали. В Ярославль, брать Афанасия, их старшего! Как я тебе и говорил. Вот так! То есть, подумал Маркел, это они и вправду думают, что Афанасий Нагой хочет поднять (или даже уже поднял) Ярославль. Ого, подумал Маркел дальше, но вслух, как всегда, ничего не сказал. – Вот! – еще раз сказал Засецкий. – От него вся измена! Он всему зачинщик! А вы: царевич, царевич! Маркел подумал, что молчать нельзя, стрелецкий голова еще обидится, и поэтому спросил: – Что за измена? – Э! – насмешливо сказал Засецкий. – Тебе это надо было первей меня знать! Это твоя служба! – Но после, еще раз усмехнувшись, сказал: – Быстро всплыло! С самого утра, еще не развиднелось толком, а приказчик уже челобитную подал! – Какой, – спросил Маркел, – приказчик? – Русин Раков, городской! – сказал Засецкий. – Власть местная. Сразу боярину Василию, через Нагих. Ох, Михайла Нагой гневался! Челобитная ведь на него написана! И на всех их, вот как! И также на Муранова, и на его губных, на всех, я говорю! И даже на нее, вот так! – И тут он даже рубанул рукой по воздуху. После чего спросил: – На нее – это ты знаешь, на кого? – А на нее за что? – спросил Маркел. – Ей-то когда было чего? Горе же какое было! – А другим что, не горе?! – уже совсем громко воскликнул Засецкий. – Государь скольких слуг верных лишился сразу – это как? Это не горе, да? А кто кричал их убивать?! А кто кричал бить в набат?! – Она, что ли? – спросил Маркел. – Она, – сказал Засецкий. А помолчав, добавил уже тише: – А ее на это братья надоумили. А братьев – дядя Афанасий. Вот мы за ним и послали. Вот так! Ого, подумал Маркел, сколько всего сразу! А он тут ходит, непонятно кого ищет. И спросил: – А где отсюда все? – А кто тебе здесь нужен? – настороженно спросил Засецкий. – Да, – сказал Маркел, поморщился, потом дальше сказал: – Да ребятишки кремлевские, Петрушка Колобов, Марьи постельницы сын. – Э! – сказал Засецкий и посмотрел на Маркела, наверное, хотел спросить, зачем ему этот Петрушка, но не стал, а только молча повернулся к стрельцу. Стрелец сказал: – А они, вся ребятня, за покойником пошли. Он впереди, а они сзади. Понесли его, не сам пошел, конечно, а они за ним. – Тут было много покойников, – сказал Маркел. – А за каким они? – Много, – сказал стрелец, – ой, много. А они туда! – и указал правее Торга опять на ту же улицу, по которой они все сюда и прибыли, то есть на Богоявленскую. Маркел повернулся к Засецкому. – Ну, иди, иди, вынюхивай! – насмешливо сказал Засецкий. – Вижу, ты уже что-то задумал. Ну, иди! Маркел развернулся и пошел. Теперь он шел еще быстрее и при этом думал, что ну и что, ну и начнут люди боярина его искать и не найдут, невелика беда, зато беда будет тогда, если он напрасно проболтается и вернется ни с чем. Но он же идет по делу, он же чует, что он не напрасно идет! Вот о чем Маркел тогда еще подумал и пошел еще быстрей, уже стараясь ни о чем лишнем не думать и не вспоминать ничего. Так он перешел через площадь, затем мимо Торга, народу там было мало, а дальше кабацкий двор и вообще стоял закрытый, потому что обедня еще не только не закончилась, но даже и не начиналась, и вышел к посаду. То есть там был, конечно, еще один мост, даже скорей мосток через ручей, Маркел перешел через него и уже только тогда оказался совсем на посаде. И сразу остановился, потому что он теперь увидел, что дорога перед ним раздваивается – левая идет на Богоявленскую улицу, по которой он вчера уже ездил, а правая, мимо церкви, идет на еще одну улицу, Ильинскую, как после оказалось, и которой он вчера не увидел. Но зато теперь, видел Маркел, народ, пусть его было и немного, а весь сворачивал именно на ту Ильинскую улицу. И, что еще важнее, оттуда же, с Ильинской, был слышен громкой немой крик, каким обычно кричат по покойнику. И Маркел, не долго думая, свернул на этот крик. Также недолго он прошел по той Ильинской улице, когда, по правую от себя руку, увидел богатое подворье, ворота там были открыты настежь и в них так шел и шел народ, и оттуда же слышался тот крик. Маркел вначале сбавил шаг, а после и совсем остановился, и это, на всякий случай, на другой стороне улицы. Да ближе и не нужно было подходить, потому что через открытые ворота и так было хорошо видно, что там собралась уже немалая толпа, они там что-то обступили, и там же кто-то продолжал кричать. Это было бабье причитание, обычное, про то, что на кого их сокол покинул, и зачем еще забрал с собой молодого соколенка. Э, подумал Маркел, тогда это подворье Битяговского, потому что его и самого убили, а с ним и его сына. И хоромы вон какие здоровущие, богатые! И сколько служб по двору! И сколько там всего вокруг пограблено, тут же дальше подумал Маркел, когда увидел, что ворота на конюшне высажены, вырваны и так до этой поры и валяются рядом. Гневен народ, чего и говорить, еще дальше подумал Маркел, не любили углицкие Битяговского, Битяговский же рука Борисова, душил Борис Углич, потому что понимал же, что, когда Димитрий вырастет, никто Федора терпеть не будет – ни бояре, ни народ, ссадят его, посадят Димитрия, и что тогда Борис? Да он тогда… Но дальше Маркел подумать не успел, потому что увидел, что прямо напротив него в тех воротах стоит очень недобрый человек и так же недобро смотрит на Маркела. А вот и еще двое к нему подошли и тоже стали смотреть так же. Э, уже совсем невесело подумал Маркел дальше, тут могут и самому по горлу полоснуть – таким злодеям это запросто! И вдруг увидел во дворе детей. Это было трое ребятишек, им было лет по семь, по восемь, они стояли позади толпы и с интересом поглядывали по сторонам. Это они, кремлевские, с радостью подумал Маркел, он их нашел, и там Петрушка Колобов, который всё видел и сейчас всё как было расскажет! Но тут тот человек очень громко, потому что через улицу, да и еще рядом кричат, спросил: – Ты чего так сюда смотришь? Что тебе здесь надо?! – Э! – быстро сказал Маркел. Потом также быстро прибавил: – Я Власа ищу. Мурановского человека Власа. Сказали, что он здесь. – А Влас к себе пошел, – сказал тот человек. – А где это «к себе»? – спросил Маркел. – А там, – сказал тот человек и указал дальше по улице. И Маркел так туда и пошел. И, не оглядываясь, думал, что Петрушку он еще найдет, Петрушка никуда не денется, но заходить за ним сейчас в тот двор было никак нельзя. Да и говорить было нельзя, что ему Петрушка нужен, потому что после мало ли что может быть, ребятёнка могут и зарезать запросто, чтобы не сболтнул чего. Да и если бы он сам туда вошел, подумал про себя дальше Маркел, так и его тоже могли зарезать. То есть ножик в спину быстро чик из рукава! Сколько раз Маркел такое видел и расследовал! И никто бы не сказал из всех с того двора! А только бы сначала его сразу в погреб, чтобы с глаз долой, а после, ночью, камень на шею – и в мешок, и в Волгу отнесут. Потому что зачем у себя на подворье закапывать? И хлопот много, и голодные собаки после могут откопать. А так ничего такого не было, Бог спас, весело подумал Маркел и так же весело перекрестился, удержал Господь, стопы отвел – и славно, дела идут дальше и надо пока идти к Авласке, подумал дальше Маркел, потому что эти сейчас за ним смотрят, он же чужой, московский, городок же маленький, поэтому они сразу увидели, что он не свой, и теперь, может, идут за ним следом. Ну и пусть идут! А он пока пойдет к Авласке, раз уже так судьба сложилась, и, может, это и есть перст судьбы – идти к нему, делать дело, а не сидеть же под боярской дверью и не ждать, пока его соизволят позвать. А соизволят, а он уже всё вызнал! Вот как надо делать дело! И вот с такими мыслями Маркел шел и шел по той улице, которая все время забирала влево, пока не забрала до самых городских ворот, а там Маркел осмотрелся и увидел, что тут эта улица опять сошлась с Богоявленской, то есть что он здесь вчера был, и он свернул на Богоявленскую, там у первого же прохожего спросил, где живет Влас Фатеев, и тот указал где, и это оказалось совсем рядом. То есть, подумал Маркел, здесь Влас сказал правду, когда называл, где он живет. А теперь посмотрим, много ли еще было в его словах чего полезного, подумал дальше Маркел, подходя к фатеевскому, прямо скажем, небогатому подворью. А там дальше было так: когда Маркел еще стучал в ворота, он уже тогда услышал, что с той стороны кто-то стоит и, затаив дыхание, слушает. Тогда Маркел, немного подождав, постучал еще раз, уже громче, и так же громко спросил: – Это Фатеева усадьба? Это Влас? Тогда из-за ворот ответили: – А ты кто такой? Чего орешь? – Меня боярин послал, – сказал Маркел. – Знаешь, какой боярин, дурень? Или кнута желаешь?! Открывай! Тогда тот, из-за ворот, сказал: – Нет хозяина. Ушел хозяин. – А хозяйка где? Жива? – еще грозней спросил Маркел. За воротами тяжко вздохнули, а после стали открывать. Когда Маркел вошел в ворота, то увидел старика, наверное, из приживальцев, и поэтому уже только для вида строго приказал: – Веди к хозяйке. Тот повел. И это было близко, потому что почти прямо напротив ворот, шагов через двадцать, стояли две избы с сенями между ними, обе они и сени были на подклетях. Небогато, подумал Маркел, оглядывая избы, после чего, за стариком, стал подниматься по крыльцу. А в сенях, опять за стариком, свернул налево, это будет в большую избу, подумал он, а меньшая у них направо. В большей избе они прошли в светлицу, там никого не было, старик осмотрелся и громко сказал: – Хозяйка! Пришел человек московского боярина! Хозяина спрашивает! Никто ему на это не ответил. Старик обернулся на Маркела. Маркел сел и осмотрелся. Стол стоял голый, но чистый, полавочники на лавках были худые, потертые, и также в углу на образах позолоты было мало. Бедно живут, подумал Маркел, а тут еще беда такая! И тут как раз вошла хозяйка, остановилась и молча поклонилась Маркелу. Маркел ей в ответ кивнул и стал ее дальше рассматривать. Одета она была просто, принаряжаться не стала, подумал Маркел, экий норов, а собой хороша, хороша, и молода еще. После чего обернулся на старика и сделал ему рукой уйти. Старик ушел. Тогда Маркел опять повернулся к хозяйке и строго спросил: – Где хозяин? – А ты кто такой, добрый человек? – вопросом на вопрос ответила хозяйка. – Меня звать Маркелом, – ответил Маркел. – Я из Москвы приехал. Когда твой Влас к нам приезжал, сама знаешь зачем, мы с ним крепко познакомились. – Это, – сказала она, – запросто. – Он как чарку выпьет, так уже ничего не разбирает и с любым сойдется. Но про тебя он ничего не говорил. И ни про каких Маркелов тоже. – А тебя Авдотьей звать! – сказал Маркел. – Мне он про тебя рассказывал много чего. – Чего?! – быстро спросила Авдотья, потому что ее и на самом деле так звали. – Так это же мне, а не тебе, – так же быстро ответил Маркел и при этом даже усмехнулся. Но тут же продолжил уже очень строго: – Вот что, Авдотья! Ты меня не гневи! У меня силы много! А не хватит – мне боярин еще даст! Поэтому слушай внимательно: я не для того сюда пришел, чтобы твоего Власа под кнут подводить, а только для того, чтобы узнать все, как тогда было. Ведь же твой Влас здесь никаким боком ни к чему не касается! Его же ни на том дворе, ни даже совсем в кремле тогда не было, когда там сперва царевича не стало, а потом государева дьяка, а потом еще четырнадцати душ. Или пятнадцати? Авдотья молчала. – Вот это правильно, – сказал Маркел. – Когда наверняка не знаешь, лучше помолчать. А то твой Влас как к нам в Москву приехал, чего только не наплел! А ведь же трезвый был! А был бы пьяный, так могу только представить! И тут Маркел замолчал. Авдотья тоже молчала и только хмурилась. Тогда Маркел опять спросил: – Где Влас? – Ушел. Вот только что, – тихо сказала Авдотья. – Ладно, – сказал Маркел. – Пусть так. Тогда, если его нет, сама рассказывай. – О чем? – О том, что здесь тогда, в тот день, было. И чем правдивее расскажешь, чем я скорее Власа твоего выгорожу. Потому что он мне показался. И вот на том крест! – и тут Маркел, повернувшись к образам, перекрестился. После чего опять посмотрел на Авдотью и уже не спросил, а велел: – Говори. Авдотья помолчала и сказала: – А чего тут говорить! У нас всё чисто как в кринице. Мой Влас ни у кого вот столечко не взял ни разу! – и показала кончик ногтя. – И что в этом хорошего? – спросил Маркел. Авдотья прикусила губы, помолчала, а после продолжила: – Я ему сразу говорила: не иди, Влас, в дьячки, не иди! У тебя же руки золотые, ты же какой мастер! А он кузнец, иголочник. Да у него иголки сами в шитье лезли! Мы же с его иголками беды не знали! А тут он говорит: а общество! А говорят: иди, Влас, к Ивану, ты же грамоту, Влас, знаешь, а кто еще, а некого, а ты, Влас, нас всех тогда спасешь, верим тебе, Влас, как себе! И он пошел в эти дьячки проклятые. А ремесло свое забросил! И тут она замолчала и посмотрела на Маркела. А тот сказал: – Я это знаю. Мне это еще в Москве было известно. А вот скажи, что здесь у вас было в субботу в пятнадцатый день, когда царевича на заднем дворе зарезанным нашли? Где тогда Влас был?! И ты в глаза мне смотри! – Здесь был, – тихо ответила Авдотья. – Обедал. А после лег отдохнуть. – А почему, когда в набат ударили, он никуда не побежал? Ему что, до царского добра никакого дела нет?! Гори, царское добро, так, что ли?! – Нет, не гори, – чуть слышно сказала Авдотья. – Мы разве нехристи? А просто Влас был уставший и лег. – Отчего уставший? – От вина, – уже совсем чуть слышно сказала Авдотья. – Как от вина! – грозно сказал Маркел. – Это же какое время еще было! А он же до этого на службе был! Да и кабак же был еще закрыт. Или вы тут сами вино курите?! – и с этими словами он даже привстал и очень громко принюхался. – Спаси Господь! – воскликнула Авдотья. – Дурная баба сдуру ляпнула! – Э! – сказал Маркел. – Дурная не дурная, а проговорилась. – Вот оно было как! Влас домой пришел пьян и завалился спать, а тут набат, а ему не до набата, он же был в тайной корчме, кто-то у вас здесь тайно корчемствует, добрых людей от кабака отводит, царевой казне чинит урон, а за это знаешь что бывает? Колесо! Авдотья стояла молча, красная, не знала, куда девать руки. Маркел усмехнулся и сказал: – Дура! Никогда на мужа, на господина своего, не ропщи и не наговаривай! А то: мой Влас, мой Влас, язык как помело, а как напьется, тогда совсем нет спасу! А ты что трезвая наговорила? Вот захочу и уморю вас под кнутом обоих! Авдотья тяжело вздохнула, помолчала, потом несмело начала: – Боярин… – Я не боярин, – перебил ее Маркел. – Я стряпчий. Из Москвы. – С пыточного двора? – не без яду спросила Авдотья. – Нет, – сказал Маркел и усмехнулся. – С пыточного двора у нас Ефрем Могучий, а я из Разбойного приказа. – Нам это всё едино, – сказала Авдотья. – Э! Зря так говоришь! – сказал Маркел. – На пыточном дворе всех подряд пытают, а наш Разбойный приказ ищет только разбойников, а честных людей не трогает. – Зачем же тогда нас тронули?! – уже в сердцах спросила Авдотья. – Э! – опять сказал Маркел. – Разве я здесь кого тронул? И разве я твоему Власу зло чинил? Он сейчас где? Он же сейчас, чую, здесь внизу, в подклети, сидит за мешками, затаился, а я делаю вид, будто этого не знаю и сейчас уйду! И только он так сказал, как где-то вдалеке ударили колокола, потом еще, а потом еще и еще громче. Ого! Маркел даже привстал, так он тогда внимательно прислушался. А колокола продолжали звенеть, и уже было понятно, что это звенят от кремля. – Так и тогда звонили, да? – спросил Маркел. – Нет, – сказал Авдотья. – Тогда били набат, а теперь перебор погребальный. Хоронят государя нашего. – Как государя! – воскликнул Маркел. – Прямо сейчас, что ли? – Так слышно ведь. Так и с утра еще все говорили, что сегодня, – сказала Авдотья. – Эх! – только и сказал Маркел. – Ладно, Авдотья, после еще свидимся. И с твоим Власом тоже! Поклон ему! – После чего быстро развернулся и так же быстро пошел из светлицы.5.
Так он и дальше всё время шел быстро и по ступенькам вниз, и по двору, и дальше по улице, а колокола звонили и звонили. Эх, думал Маркел, не опоздать бы, потому что не зря же они так спешат, неспроста это, он царевича еще не видел, а они уже норовят его скорей в землю и накрыть плитой, как и отца его царя Ивана тоже так тогда хоронили на скорую руку, как будто кто их гнал! Ну да тогда это еще было понятно, думал Маркел дальше, прибавляя шагу, тогда же столько страху натерпелись и даже не верилось, что наконец всё кончилось, а здесь чего спешить? Только если надо скрыть чего. А чего скрыть? Да что убили его, вот что! Потому что если не убили бы, тогда чего спешить? Тогда горюй и говори, что приходите и смотрите, кто желает, вот он лежит, как голубок закладенный, напала на него падучая и он упал и зарезался, горе какое, Господи, ну да Господь дал и Господь же забрал. Но это если сам зарезался, а если другие зарезали? Эх, опять думал Маркел уже совсем в сердцах, переходя через ручей и выходя уже к Торгу, говорил же он вчера псам этим: колют так, а режут вот как, и поэтому по ране сразу видно, зарезали кого или он сам закололся. Да и сваей как зарежешься? Сваей можно только заколоться, свая для того и сделана, чтобы колоть. Но, выходя на площадь перед рвом, вдруг спохватился и подумал, что начнешь много болтать – и самого зарежут, и кому тогда от этого будет какая польза? Никому и никакая! Потому что сразу концы в воду. Поэтому нужно пока что молчать и больше он тем псам ни полсловечка не скажет! А то еще ночью дразнили: задушим, задушим! Тьфу, только и сказать, подумал Маркел дальше, но вслух, как всегда, ничего не сказал, а перешел через мост, вошел в кремль и дальше пошел к собору. Возле собора стояла толпа, очень плотная, колокола звенели и звенели очень тягостно, а так все молчали и только от собора глухо доносилось пение – там отпевали. Маркел вошел в толпу и стал потихоньку проталкиваться вперед, к собору. Народ подавался очень неохотно, Маркел долго толкался, его в ответ тоже толкали, порой очень крепко, но Маркел на это не смотрел, а толкался дальше и наконец протолкался. И увидел, что собор закрыт, а на паперти стоят стрельцы с пищалями и к ним никто не смеет даже близко сунуться, такие они на вид грозные. А Маркел не оробел и сунулся! Но без толку. Потому что когда он сказал, что ему нужно срочно в собор, что у него спешное дело до самого боярина, стрельцы его и слушать не стали, а просто молча загородились пищалями и стали теми же пищалями пихать его в грудь. Я, начал тогда Маркел, скажу на вас боярину, боярин вам шеи поскручивает, пропустите меня до него! Но стрельцы его не только не послушали, а уже не вдвоем, как вначале, а вчетвером спихнули его с паперти. И он отступил. Сзади него толпа молчала, как и раньше, а в соборе, как и раньше, отпевали, а сверху били колокола. День был погожий, даже жаркий. Маркел стоял и думал, что ведь отпоют же и он так ничего и не увидит. Да и разве бы чего увидел, рассмотрел бы, думал Маркел дальше, чтобы хоть немного успокоиться, ведь же когда покойный государь Иван в гробу лежал, разве можно было что увидеть? Да и как тогда было близко подходить и рассматривать, Бельский тебе рассмотрел бы! Но все равно, еще немного подождав, Маркел еще раз, но уже не так дерзко, а даже как будто робко поднялся на паперть и стал упрашивать стрельцов, чтобы его пустили, что его боярин отправлял по делу и теперь ждет его с ответом, а он не идет. Но и это стрельцов не смягчило, они сказали, что какое может быть другое дело важнее того, которым сейчас занят боярин, когда отпевают царское дитя. И Маркел отступился и сошел в толпу. А потом мало-помалу, потому что на душе было несладко, протолкался из толпы обратно и вышел, и там еще немного постоял в сторонке, а после совсем развернулся и пошел совсем к себе, то есть туда, где их вчера поселили, при этом по дороге думая, что разве ему больше всех надо или разве он и без этого дела мало чего знает и хочет узнать еще? Нет, совсем не хочет, подумал он уже совсем в сердцах, заходя к себе, то есть в ту бывшую холопскую, и ложась на свою лавку, вторую слева от двери. На соседней, третьей от двери, лежал Варлам, тоже подьячий, и то ли на самом деле крепко спал, то ли просто сделал вид, что не услышал, как вошел Маркел. Вот и славно, подумал на это Маркел, а то бы сейчас встал и начал спрашивать, а ты ему отвечай! А так хоть можно тихо полежать. И так он лежал без всякой суеты довольно долго, потому что сперва было слышно, как перестали бить колокола, потом как разошелся народ, а потом стало так тихо, что просто не верилось. И еще вот что было удивительно: больше к ним туда никто не заходил и не тревожил их. Так и обед прошел, правда, еды не принесли. Ну да и ладно, леший с ней, в сердцах думал Маркел и лежал себе, полеживал, и думал, что такого дела он еще ни разу не видал, хотя как будто бы видал всякие. Да и, может, никакого дела уже нет, подумал он дальше. А что! Вчера же Яков прямо говорил: завтра домой поедем – вот уже и собирайся, и они все ушли собираться. А и в самом деле, что здесь еще делать? Все же они как один говорят, что здесь дело ясней ясного, царевич упал на нож и зарезался, а теперь его уже похоронили и отпели, какой тут еще может быть розыск, что и кого разыскивать, когда никто, все говорят, не виноват? Вот и заворачивай обратно! И, может, так даже лучше, подумал Маркел дальше, а то стал бы он разыскивать и разыскал бы, что царевича убили злые люди, а этих людей прислал Борис – и что тогда? Кому такой розыск надобен?! Э, тут же подумал Маркел и при этом даже взял себя рукой за шею и потрогал, крепка ли она… Но тут вдруг открылась дверь, вошел какой-то человек, подошел к Маркелу и сказал: – Вставай! Пошли! – Куда? – спросил Маркел, вставая. – Со мной! – сказал тот человек. Маркел пошел за ним. Маркел не спрашивал, куда его ведут, потому что, думал, чего спрашивать, ведь же если сразу не сказали, то после тоже не скажут. Да он же и так уже чуял куда! И он не ошибся. Долго его водил тот человек вверх, вниз и вправо, влево по лесенкам, ходам, сеням и переходам, а после ввел в большую и богато убранную горницу и, сам туда не входя, закрыл сзади за Маркелом дверь. Маркел остановился и сразу снял шапку, и так же сразу низко поклонился, потому что прямо перед ним лежал на мягкой лавке сам боярин Василий Иванович Шуйский и строго на него поглядывал. Боярин был в легкой маленькой домашней шапочке, очень богато расшитой, и в такой же легкой, очень тонкого сукна летней шубе, она тоже вся так и горела, и сапоги на нем были короткие и мягкие. Зато смотрел боярин очень грозно! Маркел робко откашлялся. – Молчишь! – сердито сказал Шуйский. – Ох, молчун! Маркел опустил глаза и стал смотреть в пол. И еще подумал, что раз боярин такой гневный, то никуда они еще не едут, а надо вести розыск дальше, а вот куда его вести, боярину неведомо! И он опять не ошибся, потому что Шуйский вновь заговорил, и уже не так грозно, а будто просто с обидой: – Мне князь Семен тебя крепко нахваливал. Глаз, говорил, у тебя на сажень под землю видит. И через стену так же. – И тут Шуйский замолчал. А потом вдруг спросил: – А здесь ты что увидел? Почему молчишь?! Маркел поднял голову и посмотрел на Шуйского, прямо ему в глаза, а после опять опустил и сказал: – Так когда еще было смотреть? Да и не успел я. Да и не через всякую я стену вижу. И не через всякую землю. – О! – сказал Шуйский. – Вот как! – И строго добавил: – Говори яснее! Не виляй! – А я и не виляю, государь боярин, – сказал Маркел, уже глядя прямо на Шуйского. – А я только говорю, что спроси у меня прямо и я также прямо отвечу. – О! – уже совсем сердито сказал Шуйский. – Прямо! А вот и прямо, если хочешь! Вот мы сюда приехали, а здесь царевич лежит мертвый. Одни говорят, будто его зарезали, а другие – будто он сам зарезался. А ты что на это скажешь? Что ты видишь? – А мне не дали посмотреть, – сказал Маркел. – Меня даже в храм не пустили. Как я могу теперь чего сказать? Шуйский насупился, задумался, после сказал: – А что бы ты увидел, если бы смотрел? – А то, – сказал Маркел, – что если его зарезали, то рана была бы резаная, длинная, потому что резали ножом, а вот если бы он на сваю накололся, то рана была бы маленькая, колотая. – И тут же спросил: – А так она была какая? – Какая? – тоже было спросил Шуйский, но тут же спохватился и нахмурился, опять подумал и сказал: – А ведь и верно. А я не подумал. А Маркел опять сказал: – А теперь что! А теперь поздно. Не плиту же теперь поднимать. – Тьфу, тьфу! – сердито сказал Шуйский. – Ты у меня не очень-то! Маркел согласно кивнул, помолчал, а после уже так спросил: – Царевич в чем лежал? – В платне, – сказал Шуйский. – Платно длинное, до пят. Всё золотое, в каменьях. А здесь, на горле, бармы, горла было не видать совсем. – Вот, – сказал Маркел, – я так и думал. Переодели его. Потому что он тогда был совсем не так одет. Он тогда в белой рубахе был, в атласной. – Откуда ты это знаешь? – спросил Шуйский. – Как откуда! – повторил Маркел. – Ведь как же все рассказывают? Что эти подошли к нему, и Осип говорит: какое на тебе ожерельице, государь, славное, дай посмотреть! И вот если на нем было ожерельице, так ведь же не бабье, на шею, а наше, на ворот, а ворот на рубахе, а рубаха у царевича какая? – не посконная, атласная, а если сказали, что лежал как голубок, значит, она была белая, потому что ни на красной, ни на синей кровь так бы не была видна. Ведь так? Шуйский помолчал, похмурился, после сказал: – Ну, может, и так, я не знаю. Только какая нам с этого польза? – Великая, – сказал Маркел. – Потому что… – И тут он на всякий случай осмотрелся, после подступил ближе к боярину и очень негромко добавил: – Теперь надо только узнать, кто его обмывал, и у того спросить, какая была рана. Сказав это, Маркел отступил и посмотрел на Шуйского. Шуйский же еще сильнее помрачнел, после чего спросил: – А дальше что? – Как что! – удивился Маркел. – Наверняка знать будем! – Нет, – сказал Шуйский. – Не будем. – Почему это? – спросил Маркел. – Да потому что, а как я проверю? – сказал Шуйский. – Обмывала его кто? Колобова Марья, мамка его, кто еще. И что теперь дальше? Мне она сегодня скажет, что рана была резаная, а завтра – что колотая. И что мне тогда делать? – Ну-у! – протянул Маркел. Потом сказал: – Так ведь же к кресту приведем. Ведь же крест поцелует. А назавтра тогда как? – А назавтра скажет: бес попутал! – уже совсем сердито, в сердцах сказал Шуйский. И, не давая Маркелу даже рта раскрыть, продолжил: – Или скажет: я не рассмотрела, боярин, не до того было, такая же беда, боярин, государя нашего убили. А! – И тут Шуйский махнул рукой, и заворочался, и приподнялся, сел на лавке и продолжил уже вот что: – Это же ты ничего не знаешь, тебе же там внизу чего! А тут так с самого начала это началось! Мы же, когда только вчера сюда приехали и когда сразу стали их допрашивать, так я ушам своим не верил! Я же думал: да что вы, братцы, не могли заранее договориться, что будете нам отвечать? А то первый, Мишка, начал, что государя царевича зарезали. Ладно, пусть зарезали. То есть, конечно, прости, Господи, беда какая! – И тут Шуйский перекрестился. И сразу продолжил: – И вот один, Мишка, сказал, что зарезали. После сразу спрашиваем Гришку. И Гришка здесь же стоял и Мишкины слова все слышал. Ну так и скажи следом за братом! Так нет! Гришка говорит: а я не видел, я не знаю! А их дядя, старый пень, этот совсем: царевич сам зарезался! Я тогда хотел ему сразу сказать: тогда чего ты меня звал сюда, чего ты всю державу взбаламутил, ирод, почему… Вот как! – жарко воскликнул Шуйский. – Вот что они тогда нам там наговорили! Это я уже не говорю того, что мне тут по углам нашептали: что Мишка мертво пьяный был, что он кричал сам знаешь на кого тогда словами всякими, мы, грозил, Москву еще поднимем, еще дайте только срок! Но меня, Маркел, не за этим сюда посылали, нам чужой крови не надо, меня посылали только для того, чтобы узнать, что с государем царевичем, с царевым братцем, случилось, а Мишка-пес псом и останется, мне до Мишки дела нет! Вот о чем я, Маркел, всю нынешнюю ночь не спал и думал! А утром только встал, а мне уже суют под дверь челобитную. Русин Раков, тутошний городовой приказчик, где он вчера, собака, был, почему сидел, хвост поджавши, под забором, а теперь давай брехать! А мне на это надо что-то делать, надо же вести розыск! Потому что это же уже измена, если подается челобитная, а там ясно написано, что Мишка подбивал народ на бунт, а Марья подбивала Мишку! Марья – это государыня-царица вдовая, царевичева матушка. И что мне с ней делать? Кто мне давал такую власть, чтобы я ее расспрашивал? А если я ее не расспрошу, ты знаешь, что со мной там будет, когда я вернусь? Вот то-то же! И поэтому я вызываю Ракова! И Мишку. И ставлю их рядом. И этот Раков-пес перед Мишкой от всех своих слов отрекается! И Мишка мне в глаза смеется! Вот что сегодня здесь было, Маркел! Я сижу так, как сейчас сижу, эх, думаю… И вдруг входят, говорят: боярин, всё готово, митрополит уже в храме, сейчас будем отпевать, надо скорей успеть, народ уже волнуется. И я что? Я пошел! И там стою и думаю… Прости, Господи, а не о том же думаю! Невинное дитя хороним, а я только о Мишке думаю! Дался мне этот Мишка, Маркел! Но только и это не всё! Потому что только я из храма за порог, а Елизарий уже говорит: боярин, пока мы там были, вот еще одна челобитная, и она опять на Мишку и на государыню. И подал ее наш человек, московский, Васька Спиридонов, так его зовут, приказчик, он здесь уже две недели и всё видел, и написал на Мишку и на государыню так хлестко, что куда там Ракову! Вот так! И тут Шуйский замолчал. Маркел спросил: – Что написал? – Да то же самое, – сердито сказал Шуйский. – Про то, как они народ мутили и как он сам это слышал своими ушами. Он же здесь уже давно и здесь народ в посошные записывал. Ему надо было сорок человек, и вот он их, сорок, собрал как раз к той субботе, и они вышли и пошли. А тут вдруг набат! Они и повернули обратно, и пришли в кремль, а тут как раз это все и творится: Мишка народ подбивает! Посошные давай его срамить! А он тогда давай на них народ натравливать! Посошные и побежали, и разбежались кто куда, и до сегодняшнего дня кто где сидели, носа не показывали. А сам этот Спиридонов был за Волгой, и он только на колокола и вышел, осмелел. А тут видит – Мишкина власть кончилась, и он тогда сразу к нам и челобитную нам, и в ней все сказано, кто и когда что кричал и что делал, вот так. И мне теперь с ней разбирайся. Последние слова Шуйский сказал уже совсем в сердцах. Маркел смотрел на него и молчал. Потому что что тут было говорить? Кто такие посошные люди? Самая что ни на есть последняя теребень, от которой все всегда не знают, как избавиться. И тут вдруг приходит человек из Москвы, садится, как обычно, в кабаке, на черной половине, и начинает эту теребень поить и уговаривать записываться на царскую ратную службу. Но не в стрельцы, конечно, что почетно, а или куда возчиком в обоз, или куда рубить новую крепость, или копать чего, или носить, и поэтому ни один добрый хозяин никогда к такому человеку близко не подсядет и разговоров заводить не будет, а не то что у него записываться! А уже если кто записался, так уже все знают, кто это такой! А тут они, такая теребень, подали челобитную. Ага! И Маркел, еще немного помолчав, так и сказал: – Так это же посошные, боярин, какая им вера, если ты и царевичевой няньке верить не хочешь, и также Нагим… – Сам знаю! – грозно сказал Шуйский вперебивку. После еще сказал: – А их сразу вон сколько пришло! Все сорок! И все показали: мутил Мишка народ! Говорил: бей Битяговских, Борисовых выползков! И весь двор сегодня это слышал! Елизарий же сказал: давайте во дворе их принимать, уже столы стоят. У нас, он еще сказал, суд праведный, нам от наших людей скрывать нечего. Так оно, конечно, и есть, – сказал уже не так сердито Шуйский, – только они теперь что говорят? Одно и то же! Потому что это же понять нетрудно, что, если Мишка их подбил, тогда за все ответит Мишка! Вот они и говорят, что Мишка! На весь двор! А Елизарий руки потирает! Потому что Елизарий… Но тут Шуйский, спохватившись, замолчал. А, вот где они все после собора были – слушали посошных, подумал Маркел. А Шуйский строго сказал: – Ладно, Елизарий это Елизарий. А я тебя зачем позвал? Хочу еще раз сказать: князь Семен мне говорил, что ты мой хлеб зря есть не будешь. Да и что хлеб! Если ты меня порадуешь, так и я в долгу не останусь, так и знай! Потому что вижу, что тут с этим народом толку не добьешься, а одна надежда на тебя. И еще вот что. Тут, сам видишь, у меня много забот и я на виду. А ты человек маленький и незаметный. Но сметливый! И ты узнаешь и мне скажешь, кто убил царевича. – А если не убил, а сам убился, тогда как? – спросил Маркел. – Тогда скажешь, как убился, – сказал Шуйский. – Мне нужно правду знать. Мне нужно! Очень! Понял? Маркел на это кивнул. – Вот и всё пока что, – сказал Шуйский. – Надо будет – призову тебя. А не надо – сам не приходи. Даже если резать будут! Ну да тебя разве зарежешь, вон верткий какой! – сказал он уже даже будто с завистью. И тут же быстро прибавил: – Ну, ладно, иди. Бог тебе в помощь, иди! – и даже махнул рукой. Маркел поклонился, повернулся к двери и вышел и надел шапку уже за порогом. Тот человек, который приводил его, теперь повел обратно. Маркел шел за ним и думал, что Шуйскому тоже непросто, он же тоже вертится как уж, у него же старшего брата в прошлом году задушили, а до этого сперва сослали, а зато младшего женили на Борисовой жены сестре, и как теперь Шуйскому быть? Вот он и вертится. А тут еще этот Вылузгин, которого Борис ему нарочно дал в подручные, чтобы Вылузгин толкал его под руку, когда только можно. Вот он и толкает! Потому что это же и вправду – как это допрашивать, когда вокруг все стоят и, рты разинув, слушают? Эх, этот Вылузгин-налим, подумал дальше Маркел, от него нужно держаться подальше! Но только он так подумал, как они уже пришли, Маркел открыл дверь и увидел, что у них в бывшей холопской все уже в сборе и уже даже сидят за столом и закусывают. А в красном углу, под образами, сидит сам Вылузгин и на Маркела с ухмылкой поглядывает! Эх, сколько раз зарекался, подумал Маркел, ни про что не зарекаться, ну да теперь уже поздно! И поприветствовал их всех, а они ему ответили. А Вылузгин еще добавил: – Вот я, наконец, и встретился с тобой, Маркел, а то раньше все не доводилось! – И тут же добавил: – Садись! – и даже указал куда. Маркел туда и сел – это напротив Вылузгина, с краю. Вылузгин посмотрел на Маркела, усмехнулся будто добродушно и сказал: – Ты угощайся, угощайся, на нас не смотри, мы давно уже здесь сидим. – И подождал, пока Маркел накладывал себе в миску, а после кивнул, и Маркелу налили. Тогда Вылузгин еще сказал: – Будь здрав, Маркел! И мы вместе с тобой! – и с этими словами поднял свою чарку. И все остальные тоже подняли, и вместе с ними Маркел, и они выпили и принялись закусывать. После Вылузгин сказал, продолжая закусывать: – Мне про тебя много говорили, Маркел. Говорили, что боярин на тебя крепко надеется. Ты же, говорят, только ты не обижайся, ты как борзой по следу ходишь! Злодея чуешь за версту! – Ну, за версту не за версту… – сказал Маркел и усмехнулся. – А за сколько? – спросил Вылузгин. – За полверсты, – сказал Маркел, да так, что было непонятно, он это всерьез сказал или так, к слову. Подьячие начали между собой переглядываться. Тогда Вылузгин, к ним обращаясь, сказал: – Это же Маркел Косой! Вы что, разве ничего про него не слыхали? У князя Семена в Разбойном приказе Маркел! Да этой зимой за Коломенской заставой атамана Ногтя кто перехватил? Все сразу посмотрели на Маркела. Маркел даже засмущался и сказал: – Ну, там был не я один. – Так ведь и здесь ты не один, – весело продолжил Вылузгин. – Вон здесь нас сколько! И сколько еще не выпито! – И посмотрел на Овсея. Овсей взялся наливать. А Вылузгин опять спросил, теперь уже серьезным голосом: – Ну и как тебе здесь? Нашел уже чего? Или пока что нет? – Пока не знаю, – сказал Маркел. – Надо еще посмотреть. – Ну, смотри, смотри, – сказал Вылузгин. – Тебе куда спешить? Твой князь Семен вон где, в Москве. А у нас боярин Василий, этот вот где – прямо на ухо дышит. Поэтому нам смотреть надо быстро! – Ну и много ли вы насмотрели? – спросил Маркел. – Много не много, а всё наше, – сказал Вылузгин. – Мы, конечно, не такие ловкие, как ты, мы сами ничего не чуем, а что нам скажут, в то и верим. – Ну и во что же вы поверили? – спросил Маркел. – В то, что народ не обманешь, – сказал Вылузгин. – Народ все видел и все слышал. И уже завтра начнем брать. – Кого? – спросил Маркел. – Да тех, кто Михаила Битяговского, государева дьяка, убил! – А кто царевича убил – тех как? – быстро спросил Маркел. – А кто тебе сказал, что будто его кто убил?! – так же быстро, но очень сердито спросил Вылузгин. – Так говорили же, когда мы сюда ехали, – сказал Маркел. – Ну, это когда ехали! – сказал Вылузгин насмешливо и даже осмотрел своих подьячих, потому что было ясно видно, как ему очень хочется поддеть Маркела. И Вылузгин еще сказал: – Тогда говорили одно, а теперь уже заговорили другое. Потому что когда их одного против другого поставишь да дашь крест поцеловать, ох они тут много чего начинают рассказывать, Яков только успевай записывать! – Что успевай? – спросил Маркел. – Ну! – сказал Вылузгин. – Мало ли. – Потом не стерпел и добавил: – Да вот хотя бы то, кто первый начал Битяговского с коня стаскивать, кто его первый ударил. – Как стаскивать? – спросил Маркел. – А говорили же, что ворота были закрыты и он с коня и так сошел и стал стучаться. Значит, с коня его никто не стаскивал. – Ну, не с коня, а все равно, убили же! – очень сердито сказал Вылузгин. – Ведь же убили? Убили! И вот про это нам сегодня, может, сорок человек сказали, а вот про то, что убили царевича, ни один не говорил! Почему так? Маркел молча пожал плечами. – Вот так! – радостно продолжил Вылузгин. – Потому что государь царевич сам убился, и это все видели! Да и государь царевич ни от кого не прятался, зачем ему было прятаться. Государь царевич был у всех на виду. – У кого? – спросил Маркел. Вылузгин помолчал, пооблизывал губы, но не стал кричать, хотя ему очень хотелось, а продолжал вполне спокойным голосом: – Ты, Маркел, не забывайся. Я думный дьяк, ко мне в думе бояре не смеют так обращаться, перебивать меня, потому что, еще раз повторяю, я думный дьяк. Ну да ладно, чего с тебя взять. Много ты знаешь! А вот послушай, что другие знают. Как оно тогда было с самого начала? Государыня вдовая царица и государь царевич были у обедни, после пришли к себе и царевич стал проситься погулять, пока за стол садиться. Она его и отпустила. И он пошел. А с ним пошла Арина Тучкова, нянька, и Марья Колобова, постельница. А там во дворе его уже ждали ребятки, их было четверо. Это Петрушка Колобов, этой же Марьи сын, и Баженко Тучков, сын этой же Арины, и еще двое сторожевских, Ивашко Красенский и Гришка Козловский. И они все впятером сразу пошли под стену, где яблони, и стали там играть в тычку. Это значит тыкать ножом в землю. Понятно? – А где были няньки? – спросил Маркел. – А они остались на крыльце, – сердито сказал Вылузгин, – нянькам за это еще будет, погоди. Теперь дальше. Они стоят на крыльце, лясы точат, а государь с ребятишками играет в тычку. Они всегда так играли, всегда на том месте, поэтому никто в их сторону и не смотрел. И вдруг оттуда крик! Это бежит Петрушка, забегает на крыльцо, кидается к Марье и кричит, что государь царевич зарезался. Зарезался, а не его зарезали, вот что Петрушка кричал и вот что все это тогда слышали и сегодня вот что показали! И Марья, Колобова мать, и Арина, Баженкина тоже, сразу туда, под яблоню! И тут же государыня на тот же крик тоже с крыльца! А подбегает и видит – лежит ее дитя в крови! А тут же над ним, она тоже на крик прибежала, стоит Василиса Волохова, тоже нянька, но другая. Ах ты, змея, кричит царица, Василиса, это ты наколдовала, это твой Осип, я знаю, это он убил, это его Мишка Битяговский научил! И поленом ее, и поленом! И на крик стал сбегаться народ. И все видят: государь лежит в крови. Стали кричать: набат, набат, созывайте народ, горе-то какое. И стали бить набат. На набат прискакал Битяговский и стал их срамить, а они на него кинулись и стали его стаскивать… Но тут Вылузгин остановился, замолчал, задумался, потом сказал: – Конечно, не совсем так было. Он прискакал, а ворота закрыты. Он стал стучать, Моховиков ему открыл. – А чего они вдруг были закрыты? – спросил Маркел. – Кто закрыл ворота и зачем? Ведь же били в набат, созывали людей. И вдруг ворота закрыты. Как им было туда проходить? – Так здесь есть еще одни ворота, – сказал Вылузгин. – За Константиновской церковью. Это же здесь задний хозяйственный двор, сюда же кто только не ходит и кто не ездит, не будут же они все через кремль таскаться, под царскими окнами. Вот онии подъезжают сзади, через Фроловские пролазные, а там через мост и на ту сторону, на посад. Так они и тогда набежали через Фроловские. – Ага, ага, – сказал Маркел. – Посадские через Фроловские набежали, их тут набилось вон сколько, а царева дьяка Битяговского пускать к себе не стали. Почему? – Так ведь после пустили же! – сказал Вылузгин. – А он стал их срамить, и стал говорить на государыню и на ее братьев, особенно на Мишку, и тогда государыня велела, так ее брат Мишка научил, убить Битяговского. И народ его убил. Все это видели и слышали! – Кто? – спросил Маркел. – Да хоть посошные! – сказал Вылузгин. – Они на свои уши это слышали и сегодня мне на этом крест поцеловали! – Ого! – сказал Маркел. – Посошные! Какие быстрые! С твоих слов получается, что они раньше Битяговского сюда на задний двор прибежали! А теперь давай смотреть! Как оно было? Битяговский был у себя на подворье, услышал набат, сел на коня и поскакал смотреть, что здесь случилось. Сколько ему было скакать? Сажен триста, не больше. Но все равно покуда прискакал, а посошные уже тут! А ведь они, как я слышал, тогда еще с утра из города вышли и шли по переяславской дороге. Услышали набат и повернули и побежали обратно. Бежали не одну версту, а все равно раньше прибежали! И на этом крест поцеловали! – Но-но! – сердито сказал Вылузгин. – Не очень-то! – Это ты мне? – сказал Маркел. – Это я, что ли, сперва крест целовал, а после лгал бессовестно? Это, Елизарий, знаешь, надо Ефрема звать, ей Богу! – Ладно! – сказал Вылузгин уже почти примирительно. – Я завтра их опять спрошу. – И Василису тоже надо было бы спросить, – сказал Маркел. – Волохову, что ли? А ее за что? – удивленно спросил Вылузгин. – А первым делом спроси, – сказал Маркел, – как она там очутилась вдруг. Никого там не было, одна она была. – Прибежала на крик! – сказал Вылузгин. – Ладно, – сказал Маркел. – А дальше что? – А дальше государыня ее увидела и закричала, что это она виновата… – Почему она? – быстро спросил Маркел, не давая Вылузгину начать говорить дальше. Вылузгин подумал и сказал: – А я откуда знаю! – А надо знать, – сказал Маркел. – Ты же, Елизарий, подумай: был полный двор народу, а царица сразу стала говорить на эту Василису. И, Василиса говорит, ты говорил, стала бить ее поленом. – Стала, – сказал Вылузгин. – Я говорил. – И долго, – спросил Маркел, – била? – Покуда Битяговский не приехал, – сказал Вылузгин. – О! – сказал Маркел. – Это прибежали люди, им велели бить в набат, они ударили, Битяговский это услыхал, встал от стола, вышел во двор, ему оседлали коня, он поскакал сюда, а его не пускают, а после пустили… А царица, будто заведенная, бьет и бьет Василису поленом! Сколько раз она ее ударила, ты можешь посчитать? – А так как Вылузгин молчал, Маркел еще спросил: – Тяжелое было полено? – После еще: – И где оно сейчас? Ты его видел? И было ли оно? – Э! – с гневом вскричал Вылузгин. – Ты из меня шута не делай! – Я и не делаю, – сказал Маркел. – Я только одно хочу сказать, Елизарий: не верь ты им, вот что! А проверяй. Вот я всегда проверяю. Вот как сейчас. Мне говорят, а я глаза закрою и смотрю, и если я вижу то, о чем они рассказывают, значит, это правда. А если не вижу – значит, брешут. И никогда я никого к кресту не подвожу. Потому что все равно набрешут, и получается грех. А зачем в грех вводить? А так я просто говорю: ты рассказывай, рассказывай, как оно было, а сам глаза прикрою и смотрю. Вот как сейчас: я смотрю, как Битяговский у себя сидит и вдруг слышит набат, он тогда сразу во двор, на коня, и прискакал сюда, а тут вдруг ворота закрыты. Почему? И замолчал, и посмотрел на Вылузгина, а после осмотрел и всех его подьячих. Все они молчали. – Закрыто было потому, – сказал Маркел, – что там уже что-то случилось. Там уже, может, кого-то убили и поэтому закрылись, чтобы государев дьяк не видел этого. Или, может, ловили кого-то и закрылись, чтобы те не убежали. А ловили известно кого: Данилку Битяговского, Никитку Качалова да Осипа Волохова. Потому что государыня царица, как только увидела царевича всего в крови, сразу на них крикнула. А почему сразу на них, а ни на кого другого? Что государыня об этом говорит?! Вылузгин насупил брови и сказал: – Ничего она не говорит. Ни с кем говорить не хочет. Закрылась у себя! Даже боярин Василий, и тот ее еще ни разу не видел. – Эх! – сказал Маркел. – Плохи наши дела. Но ничего! Исхитримся! Надо исхитриться, вот что! – Колдун ты! – сказал Вылузгин. – Чистый колдун! – Колдуны чистыми не бывают, – сказал Маркел. После сказал: – Что вы знаете о колдунах! А вот я как-то раз… Но дальше рассказывать не стал, а замолчал и задумался. И все за столом молчали. Было уже темно, надо было разживаться светом. Парамон велел Овсею принести огня, но Вылузгин остановил его, сказал: – Не надо. Завтра хлопот будет много. Ложитесь. И я к себе тоже уже пойду. – После чего встал и начал со всеми прощаться. Маркел ему только кивнул, также и он только кивнул Маркелу и ушел. Когда все легли и затихли, Маркел долго не спал, а лежал и думал, и пытался представлять себе то одно, то другое, и то этого не видел, то того, а под конец никак не мог понять, почему только один Петрушка побежал тогда к крыльцу, а все остальные ребятки остались с царевичем. Неужели им было не страшно, подумал Маркел… И тут как раз заснул.6
Назавтра была пятница, постный день. Они все встали и перекусили на скорую руку, потому что да и что там было перекусывать, после чего Яков и Илья ушли, а после позвали и всех остальных, остались только Овсей и Маркел. Но и Маркел не стал сидеть, а тоже вышел и пошел, дай, подумал, посмотрю, как это у них там ведется. А велось это у них, как оказалось, не на заднем, а на теремном дворе, почти перед самым красным крыльцом. То есть когда выйдешь в ворота и даже еще пройдешь мимо дьячей избы, которую, кстати, к тому времени уже всю починили и у нее на крыльце уже даже стояли стрельцы и дверь была закрыта. Маркел прошел мимо дьячей избы прямо к толпе, которая стояла дальше, возле сказанного красного крыльца. Там Маркел, когда протолкался, увидел столы, их было три, и посередине, за самым из них высоким, сидели Клешнин и Вылузгин, а с одного, с правого от них бока, сидели московские подьячие, то есть тоже уже сказанный Илья и с ним Парамон и Варлам, а слева сидели чужие, то есть незнакомые Маркелу пищики – наверное, подумал он, это углицкие. Так оно после и оказалось, но пока это было совсем не важно, а важно было вот что: перед столами стоял человек, его туда только привели, и он еще озирался. Но тут Вылузгин не дал ему как следует опомниться, а знаком поманил к себе. Тот человек подошел. Вылузгин поднял со стола крест, а это был большой серебряный наперсный, и тот человек поцеловал тот крест и невнятным быстрым голосом стал говорить, что во имя Отца и Сына и Святаго Духа он душой кривить не будет, а будет говорить только то, что было и что сам видел и сам слышал, и так далее. Говорилось это быстро и толково, никто тому человеку ничего не подсказывал, из чего Маркел подумал, что здесь подобным образом уже немало народу божилось, а вот теперь божится этот. А этот человек уже вернул крест Вылузгину, Вылузгин положил крест на стол и начал спрашивать, кто перед ним такой и почему его сюда позвали и что он может дельного сказать. Тот человек сказал, что он Немир Бурков, здешний бывший царевичев сытник, а теперь, когда царевича не стало, он просто царицын. – Царица, – строго сказал Вылузгин, – в Москве. На что Немир Бурков подумал и сказал, что он сытник государыни Марии Федоровны, вдовой супруги государя Ивана Васильевича всея Руси. После чего осмотрелся. Все молчали. А народу вокруг было много! Да и что было сказать, Немир Бурков сказал все верно. А все равно крамола чуялась! Вылузгин сердито хмыкнул и посмотрел на Клешнина. Клешнин сказал: – И царь тоже в Москве. Христианнейший и боголюбивый государь Феодор Иоаннович, сын Иоанна Васильевича. – И, помолчав, добавил: – И старший брат Димитрия Иоанновича, которого вы, псы, не смогли уберечь! – Эти слова Клешнин сказал уже довольно громко и грозно. И так же грозно продолжил, оборотясь уже только к Буркову: – Где ты был, когда царевича не стало? Почему его не уберег?! Бурков сразу побелел, и руки у него, было видно, тоже сразу затряслись, но отвечал он бойко: – А я, государь-боярин, тогда был в передних сенях, а двери были закрыты, и я ничего не видел. Да и кто я такой, чтобы видеть? Моя служба простая: носить блюда. Михалыч скажет: неси огурцов, я несу. Скажет: медов – я медов. – Кто такой Михалыч? – спросил Вылузгин. – Наш старший сытник, боярин, – ответил Бурков. – У нас два старших сытника, на переменку, Осип Михалыч и Тимошка. – Где они? – спросил Клешнин. На эти слова из толпы вышли двое, один назвался Осипом, второй Тимошкой. Им тоже велели подойти к кресту, они подошли и поцеловали его и побожились не кривить душой. После чего Осип, который, по его словам, тоже ничего не видел, а только слышал со слов верхнего, как он его назвал, сытника Семейки Юдина, что государь царевич занемог падучей и упал на нож, и долго бился и зарезался. Вот что он, сказал Осип, слышал, а видеть ничего не видел. – Это, – сказал на это Вылузгин, – ты сразу не видел – а когда ударили в набат, что видел? – Видел, что бежит народ, – ответил Осип. – А дальше что? – спросил Клешнин. – Набежало их ой сколько! – сказал Осип. – А ты что? – опять спросил Клешнин. – А что я? – испуганно ответил Осип. – Я человек маленький, меня робость взяла, ой, думаю, беда какая, надо ноги уносить, пока здесь чего не случилось! И я побежал. – Ага! – громко сказал Вылузгин и даже потер руку об руку. – Значит, государь царевич здесь лежи и помирай, а нам всем дела нет, так, что ли?! – Нет, конечно, – сказал Осип, а сам еще сильнее побледнел. – Разве же такое можно?! – А зачем тогда бежал? – спросил Вылузгин. – Так это я только вначале побежал, – сказала Осип, – а после сразу вернулся. А мне говорят: а чего ты вернулся? Государь лежит убитый! – Какой тебе еще государь! – громко воскликнул Клешнин. – Государь царевич, – сказал Осип. – Убитый? – спросил Вылузгин. – Ты почему сказал: убитый?! – Обмолвился! – испуганно воскликнул Осип. – Руби голову, боярин, обмолвился! Никакой крамолы не держал! Да ты бы только видел, что здесь творилось! Крик, гам, колокола гремят! – Кто велел бить в колокола? – сразу же спросил Клешнин. – Не ведаю, – ответил Осип уже почти спокойным голосом, потому что, подумал Маркел, он уже устал бояться, теперь от него нужно отстать и взять в гужи другого, свежего, а этот пусть стоит и радуется, что от него отстали, а ты ему тут вдруг… Но Вылузгин решил иначе и опять спросил: – Кто? – И сразу же добавил: – Почему молчишь? Язык короткий? Сейчас удлиним! – и обернулся, и позвал: – Ефрем! Сзади стола расступились, и вышел Ефрем. Он был в красной атласной рубахе, говорили, что ее ему еще покойный государь Иван за верную службу пожаловал. Так это было или нет, Маркел наверняка не знал. Но все равно рубаха была славная, Осип ее как увидел, так даже зажмурился. Но Вылузгин сразу прикрикнул: – В глаза смотри, в глаза! – И Осип опять разжмурился. А Ефрем вышел на середину и осмотрелся безо всякой грозности, а разве что только постукивая обухом кнута по голенищу, но народу и того хватило – и все еще шире расступились. Ефрем стоял и помалкивал, и по сторонам поглядывал, и даже будто бы кое-кому подмигивал. Но никто ему не отвечал, конечно! И все молчали. Вылузгин подумал и сказал, чтобы привели Семейку Юдина. Юдин почти сразу вышел из толпы. Ему велели подойти к кресту, он подошел, поцеловал его и побожился. – Рассказывай! – велел Клешнин. Семейка Юдин стал рассказывать, что он, как он это назвал, в те поры был наверху, в трапезной, стоял у поставца, но яств еще не приносили, да и царевич еще не вернулся, и государыня сидела там же, где и он стоял, на лавке, и попрекала свою боярыню Настасью Голощекую за нерадивость, и было уже время садиться, а государь царевич всё не шел и не шел, а ходил возле стены под яблоней и играл с жильцами, то есть это ребятишками, в тычку, ножом через черту метал, как вдруг напала на него падучая, и он упал, и стало его бить, трясти, а ребятишки напугались и побежали кто куда, а Петрушка побежал к крыльцу и стал кричать, и вот тут все это подхватили и побежали туда, где он лежал, и так и он, Семейка, побежал. – Сам это видел? – спросил Вылузгин. – Сам, – сказал Юдин. – Я же вот так, возле окна стоял. А кто окно открыл, подумал Маркел, а почему ты видел, а не крикнул сразу, и ты там разве один стоял, у поставца же даже у боярина стоят по четверо! Вот что тогда Маркел подумал, но ничего не сказал, потому что кто у него спрашивал? А Вылузгин спросил другое: – А когда ты на низ прибежал, кто возле царевича стоял? – Арина Тучкова, – сказал Юдин. – На руках она его держала, а он был весь в крови. – А еще рядом был кто? – спросил Вылузгин. – Ой, тогда народу было уже много! – сказал Юдин. – А чего ты так поздно прибежал? – спросил Вылузгин. – Виноват! – сказал Юдин. – В другой раз буду быстрей. – Но-но! – грозно воскликнул Вылузгин. – Я тебе дам в другой!.. И вдруг увидел Маркела! И сразу узнал его в толпе, и усмехнулся, и, продолжая усмехаться, опять повернулся к Юдину и уже не так строго спросил у него: – А Василиса Волохова где тогда была? И чем ее государыня била? Поленом? – Вот не приметил! – сказал Юдин. – Но чем била, тем, значит, и было надо! – А чего ты к Василисе так недобро ставишься? – спросил Вылузгин. Юдин подумал, осмотрелся и сказал: – По недомыслию. – И тут же прибавил: – Винюсь! Эх, подумал Маркел с горечью, ничего они из Юдина уже не выбьют, уже поздно, а раньше ведь могли! Да и еще много чего другого здесь можно было выбить, подумал Маркел дальше, уже выбираясь из толпы, и даже не выбить, а выспросить, а теперь не выбьешь и не выспросишь, ведь же эти уже крест поцеловали, как же они теперь другое скажут, эх! И вот с такими невеселыми мыслями Маркел выбрался из толпы на свободное место, прошел еще немного и присел под дерево в тенек. Оттуда тоже было очень хорошо слышно всё из того, о чем говорили у столов, но слушать это было скучно, потому что будто что в ступе толкли! Потому что кого бы там ни вызывали и не приводили бы к кресту, а говорили им одно и то же: царевич был, царевич накололся, у царевича падучая, долго его било, виноваты мы, не досмотрели и так далее. Скучно было, что и говорить. Но Маркел сидел и слушал, думал, может, кто проговорится вдруг, такое тоже бывает. Но тогда такого не случилось, и Маркел, хоть и сидел в теньке, уже начал даже подремывать, когда начали звонить к обедне. Маркел сразу встрепенулся, сел ровней и опять осмотрелся. Возле красного крыльца, там, где вели розыск, народ почти даже не стронулся с места, а так и остался стоять. Чего они там еще могут ждать, ничего им никто нового не скажет, сердито подумал Маркел и повернулся дальше, это уже к малому крыльцу дьячей избы, и как раз увидел, как там из сеней на крыльцо вышли двое попов. Нет, даже не попов, подумал Маркел, когда их рассмотрел, а это были монахи высокого звания. И так оно после и оказалось, но тогда Маркел только видел, как они сошли с крыльца и скорым шагом пошли по кремлю в сторону Никольской башни, то есть на службу, на посад. А Маркел, наоборот, поднялся и пошел к дьячей избе. Когда он к ней подошел, там дверь была уже опять закрыта, а на крыльце стоял стрелец. – Здорово живем, – сказал Маркел. Стрелец ничего не ответил и даже на Маркела вниз не посмотрел. Маркел усмехнулся и сказал: – День-то какой погожий! Как солнышко светит! – А после вдруг спросил: – Кто это такие были? – А тебе какое дело! – сердито ответил стрелец и при этом уже посмотрел на Маркела, и это тоже грозно. А Маркел медленно полез за пазуху, так же медленно достал оттуда овчинку, повернул ее той стороной, где был выжжен двуглавый орел, и теперь уже ничего не сказал. Зато стрелец сразу сказал: – А! Ну, тогда! – И уже не так громко продолжил: – А это их здешние, два настоятеля. Который выше и толще – этот отец Феодорит из Воскресенского монастыря, а второй – это отец Савватий из Алексеевского. Были здесь у нас в расспросе. – Ага, – сказал Маркел, – ага. И мой боярин тут, он их расспрашивал. – Он, он, – сказал стрелец. И от себя еще добавил: – И митрополит с ним. – Ну, а как это иначе! – тут же сказал Маркел. – Как же их без митрополита расспрашивать! Грех! – И также тут же спросил: – Долго они здесь были? – Долго, – сказал стрелец. – Ой, долго!.. Но тут же замолчал, потому что заскрипела дверь. А после она открылась и на крыльцо вышел сам Шуйский. Стрелец сразу как окаменел. Да и Маркел тоже стоял смирно и не шевелился. Шуйский подошел к перильцам, уперся в них руками, осмотрелся, и на Маркела тоже посмотрел, но как на пустое место, а после поднял голову и посмотрел на купола собора. Там с колокольни продолжали звонить к службе. – Эх! – громко сказал Шуйский, после чего поднял руку и перекрестился на купола. А после еще раз. А после еще. А после развернулся и опять ушел в избу. Маркел еще немного подождал, после спросил чуть слышно: – Кто там еще у них? Стрелец подумал и сказал: – Их губной староста, как его звать забыл. И еще один с ним кто-то. – Староста – это Муранов, – уверенно сказал Маркел. – А еще кто-то – это не их ли приказчик? – Он, он! – сказал стрелец. – Раков, – сказал Маркел. – Русин! Стрелец с уважением сказал: – Откуда ты всё знаешь?! Маркел на это молча показал овчинку и так же молча опять ее спрятал. После посмотрел на закрытую дверь, после на заставленные окна и сказал: – Долго им сегодня здесь сидеть. Ой, чую, долго! Ну да тебе чего! Ты же при службе! Также и я пойду да тоже послужу маленько. После чего он и на самом деле развернулся и пошел неспешным шагом сперва мимо той толпы, которая стояла возле красного крыльца, а после мимо колокольни, с которой тогда ударили в набат, но вот кто именно ударил, теперь Вылузгин никак не мог дознаться, как слышал Маркел, сидя в теньке под деревом. Так же и теперь, как он слышал опять, люди в этом путались и путались, и поэтому, думал Маркел, идя дальше к воротам, скоро надо будет звать Ефрема. И Ефрем всё разъяснит, Ефрем всегда всё разъясняет, еще дальше думал он, подходя уже к самым воротам. В воротах стояли стрельцы. Теперь здесь везде стрельцы, думал Маркел, проходя через ворота (то есть через ворота в проездной Никольской башне, вот как правильно), и были бы они здесь сразу – ничего бы здесь такого не случилось, никто бы не посмел мутить народ и бить в набат, в Москве никто не бьет, не смеют, а здесь всякий страх потеряли, вот боярин Василий и гневается. Подумав так, Маркел остановился, и это было как раз на середине того моста, под которым еще вчера лежали люди, а теперь был только сухой ров, местами поросший травой. Если людей вчера отдали, подумал Маркел дальше, значит, их сегодня будут хоронить, и Битяговского тоже, и посмотрел в ту сторону, где было его подворье, но с моста его видно не было. Зато хорошо был виден Торг, тоже почти пустой, а за ним кабацкий двор. О, сразу подумал Маркел, а ведь верно, он же туда собирался, а сегодня пятница и постный день, значит, будет в самый раз! Подумав так, Маркел сразу взбодрился, и поправил шапку, и пошел с моста вперед и, через площадь и Торг, в горку на кабацкий двор. Маркел шел легким и широким шагом и так же с легкостью думал, что нечего ему в кремле делать, да и даже грешно, потому что если кто уже был приведен к кресту, так как же ему теперь быть, говорить против креста, так, что ли? Нет, так нельзя, это грех, и он никого вводить в грех не желает, думал Маркел дальше, все ближе и ближе подходя к кабацкому двору, который, как это и положено по постным дням, стоял закрытый. Маркел подошел к воротам, взялся за висевшую там колотушку и постучал условным стуком, немного подождал, а после, когда в воротах приоткрылась маленькая дверца, решительно вошел в нее.7
А там, за той дверью, стоял высоченный детина и грозно смотрел на Маркела. Рожа у детины была вся изодрана, исполосована, будто ее медведь в прошлом году подрал (а, может, так оно и было), а сам детина был одет в овчинный полушубок на голое тело и в правой руке держал нож. Вот как там тогда Маркела встретили! Но Маркел ножа как будто не заметил, а просто достал овчинку и показал ее. Детина сразу оробел и убрал руку с ножом за спину. Маркел усмехнулся и сказал: – Из Москвы я, из Разбойного приказа. Где хозяин? – А, это! – растерянно сказал детина. – Так ведь сегодня пятница! – Веди! – грозно велел Маркел. – Кому сказали! Детина развернулся и повел. Нож он так и держал за спиной, а так как Маркел шел за ним следом, то он этот нож хорошо рассмотрел – нож был мясной, рабочий. А они тем временем поднялись в горку, прошли мимо ледника и повернули прямо к стоялой избе. Там дверь была открыта и оттуда были слышны голоса. – Как его звать? – спросил Маркел. – Евлампий Павлов сын Шатунов, – ответил детина, не останавливаясь и даже не поворачивая головы. После чего они поднялись по крыльцу и первым в дверь вошел детина, а уже за ним Маркел. Там, в стоялой избе, то есть в самом кабаке на его ближней черной половине, тогда было непривычно пусто, потому что только возле стойки, по ту и эту ее стороны, стояли двое: там целовальник, как сразу подумал Маркел (и, как после оказалось, не ошибся), а здесь, с этой, – сам кабацкий голова Евлампий, человек невысокий, но ловкий и крепкий, и это сразу чуялось. Увидев чужака, Евлампий сделал вид, что удивился, и спросил: – Ты кого это привел, Григорий? – А это из Москвы! – сказал детина (а его звали Григорий), а про Разбойный приказ не сказал, побоялся. Маркел сам сказал: – Мы из Разбойного, стряпчий я тамошний, вот что. – Из Разбойного? – переспросил Евлампий. – А мы разве чего наразбойничали? – Я пока что этого не знаю, – ответил Маркел. – Но хочу узнать! – И уже только после этого достал и показал овчинку. – Ага! – сказал Евлампий. – Ну, если такое дело! – И повернулся к целовальнику и приказал: – Петя, сбегай за горячим, а то, чую, разговор будет небыстрый. – Нет, – сказал Маркел, – горячего не надо. Нынче пятница. – А мы постного! – сказал Евлампий. И еще раз сказал: – Петя! Петя куда-то нырнул и пропал. А Евлампий, опять повернувшись к Маркелу, продолжил: – И чего это мы здесь, на подлой половине? Идем в белую! – Нет-нет, – строго сказал Маркел. – Мы люди простые, к холе непривычные. И мы на службе! После чего повернулся и отступил, и сел к общему столу на край, и указал рукой, куда (то есть напротив него) нужно сесть Евлампию. Евлампий скучно усмехнулся, но вслух спорить не стал и сел там, где ему указали. Маркел, глядя на него, сказал: – Евлампий Павлов Шатунов, так правильно? – Так, – сказал Евлампий. – Давно здесь? – Пятый год. – Ага! – сказал Маркел. – Вот славно! Значит, всех здесь знаешь. Как облупленных. – Ну, не лупил, а знаю, – уклончиво, но в то же время с гордостью сказал Евлампий. – А Ваську Спиридонова? – спросил Маркел. – Какого Спиридонова? – спросил Евлампий. – А московского приказчика, – сказал Маркел, – который здесь посошных нанимал. Небось, прямо за этим столом! Наливал им и записывал! И еще наливал! И еще раз записывал! Так было?! – Ну, я не этого знаю, – уже совсем скучным голосом сказал Евлампий. – Да как ты этого не знаешь? – еще пока просто спросил Маркел. – Он же у тебя здесь сколько просидел? Может, недели три! – Я не считал, – сказал Евлампий. – Ага, – сказал Маркел уже сердитым голосом. – Ага! – Да, не считал, – сказал Евлампий уже тоже не так скучно. – Потому что знаешь, сколько у меня здесь народу по скоромным дням сиживает? Может, пол-Углича, вот как! Разве за всеми уследишь? – Конечно нет! – сказал Маркел. – Куда там! – Тут он как раз увидел подходившего Петра с миской закуски и грозно сказал ему: – Неси обратно! – А Евлампию сказал: – Ну, ладно! – и снял шапку, положил ее на стол, после чего сказал усталым голосом: – Жаль мне тебя, дурака, ох, как жаль! А никуда теперь не деться! Потому что служба! – Что служба? – настороженно спросил Евлампий. Маркел на это молча осмотрелся. Евлампий поднял руку и махнул. Петр и Григорий сразу вышли, и даже закрыли дверь. Стало темнее. Маркел сказал: – Ты напрасно Ваську выгораживал. Ваське и так веры нет. Кто не знает, кто он такой и кто такие посошные, и кто же это будет их слушать! Важно другое: то, что ты меня не послушал, Евлампий, и это уже беда. Твоя беда, конечно, не моя. Я приехал и уехал, и у меня таких Евлампиев ты знаешь сколько? До самой Сибири! А за корчемство знаешь, что бывает? А если не знаешь, так Ефрем напомнит. Мы же с собой Ефрема привезли! Ефрема видел? – Видел, – сказал Евлампий, – как не видеть. Но я не только это видел. И я еще не только видел, но и слышал, кто тебе сказал, что я корчемствую. – Кто?! – быстро спросил Маркел. – Авдотья Власова, вот кто! – также быстро ответил Евлампий. И замолчал, но продолжал смотреть очень сердито. Зато Маркел, наоборот, заулыбался и сказал: – Э, нет! Мне Авдотья про тебя ни слова не сказала. А сказала она только вот что. – И тут уже и Маркел замолчал, подождал немного, а потом продолжил: – Она сказала только вот что: что ее Влас тогда пришел домой крепко пьяный, а время было еще раннее. Вот я и подумал, – еще дальше продолжил Маркел, – что где ему еще было напиться, если не в корчме!? Государев же кабак, пока обедня не закончится, всегда закрыт. Так или нет? – Так, – сказал Евлампий. – А где Влас тогда напился? – опять быстро спросил Маркел. Евлампий промолчал. Маркел покачал головой и сказал: – Эх, ты! Ничего ты не знаешь! Васька Спиридонов сколько здесь сидел, может, две недели, а ты его не видел. Но это ладно Спиридонов. А вот теперь еще! У вас люди пьют невесть где невесть что, несут мимо тебя деньги, а ты здесь кто? А ты казна, ты царский интерес, а мимо тебя идет царю поруха, а ты опять не знаешь! Если, конечно, сам тайно не гонишь, вот я чего очень боюсь, Евлампий! Вот что тогда сказал Маркел! Евлампий помолчал, потом сказал: – Не я это! Вот крест! – и поднял руку и перекрестился. – Что не ты? – спросил Маркел. – У меня, – с жаром сказал Евлампий, – всё чисто! У меня всё записано, у меня на всё счет: и сколько мне чего привезли, и сколько было заплачено, сколько поставил, сколько выгнал. Вот хоть сейчас давай смотреть! Вот только Петра позову! – Э! – сказал Маркел и усмехнулся. – Без этого никак! Это мы всё обязательно сделаем: и книги просмотрим, и шнуровку, не вынимались ли листы и не вставлялись ли, не вырезались ли, и нет ли где подчисток. Подчисток не было?! – Христос с тобой! – сказал Евлампий. – Что ты такое говоришь?! – То что буду делать, то и говорю, – сказал Маркел. – А тебе чего пугаться? У тебя всё чисто, сам же говорил! И в подвалах тоже чисто, и мы и их проверим, не завалялось ли чего. И вес ли выдержан, и стопы ли по мере. – Э! – весело сказал Евлампий. – Это хоть сейчас! – Нет, – строго сказал Маркел. – Это уже завтра. Сегодня же нельзя, сегодня постный день, сегодня грех! – и подморгнул. – Завтра так завтра! – радостно сказал Евлампий. – Завтра мы тебя, боярин, еще в воротах встретим! – Но это завтра! – уже опять строго сказал Маркел. – А сегодня ты пока повспоминай, может, чего и вспомнишь. – Чего вспомню? – настороженно спросил Евлампий. – Я этого пока не знаю, – так же строго продолжал Маркел. – А ты пока вспоминай, вспоминай! Тут же у вас вон что случилось! Государева братца убили! Или он, может, сам убился, но ведь беда какая! Может, ты про это чего слышал? Люди же у тебя здесь собираются всякие, много чего видавшие. Но человек же как устроен! Он, пока трезв, молчит, а зато как чарочку пропустит, а за ней другую – так, глядишь, и скажет что-нибудь. Или молчат? – Молчат! – сказал Евлампий. – Я просто сам своим ушам не верю, а молчат! – Так, может, у тебя что с ушами случилось? – как будто бы участливо спросил Маркел. И тут же так же предложил: – Может привести тебе кого их прочистить? Вот у нас есть Ефрем, могу его. – Нет, – сказал Евлампий и поморщился. Потом сказал: – А что тут говорить! Люди очень оробели, просто удивительно! А как было им не робеть! Пятнадцать человек убили! А после еще и ведьму. – Ведьму? – спросил Маркел. – Какую? – А! – в сердцах сказал Евлампий. – Я не знаю! – А кто знает? – спросил Маркел. Но Евлампий не ответил. Он смотрел в стол и молчал. – Ведьма! – задумчиво сказал Маркел. – Я так и думал. – А после еще помолчал и спросил: – Ведьма жила у Битяговского? – Зачем у Битяговского? – сказал Евлампий. – Тогда у кого? – быстро спросил Маркел. – У царицы? У царицы, ты сказал?! – Разве я такое говорил? – испуганно сказал Евлампий. – Говорил! Еще как говорил! – очень уверенно сказал Маркел. – А если и не говорил, так сейчас скажешь! Ведь скажешь же?! – Нет, не скажу! – в сердцах вскричал Евлампий. На что Маркел только усмехнулся и сказал: – А это уже и не надо. Я это уже и так знаю. С твоих же слов! Так всем скажу! – Черт! Вот ты кто! – тихо сказал Евлампий. И еще раз сказал: – Черт! – а после перекрестился. Маркел еще немного помолчал, потом сказал: – Эх, ты! Жаль мне тебя, болвана. Да я, если захочу, теперь могу в золу тебя стереть. А не буду. Потому что жаль. А еще и потому… – И тут он опять помолчал, а после медленно сказал: – Потому что ты мне сейчас про эту ведьму все расскажешь, и никто про это не узнает, потому что это я сказал, Маркел, а я от своих слов не отступаюсь никогда. – И еще помолчал, и сказал: – Говори. Евлампий тоже сперва помолчал, а после начал говорить чуть слышно: – А что мне сказать, когда я ничего почти не знаю. Слышал только, люди говорили, что у государыни жила баба-уродка, эта баба была ведьма, государыня ее взяла к себе наверх, когда государь царевич захворал, это когда напустили на него черную порчу, а уродка говорила, что она ту порчу снимет, а тут вдруг пришла эта беда, не стало с нами нашего царевича, и государыня велела прибить ту уродку, и ее прибили насмерть, и это всё, что я знаю. – А что, – спросил Маркел, – раньше царевич не хворал? – Не приведи Господь! – сказал Евлампий. – Такой был голубок! А тут вдруг такая порча! – Отчего? – спросил Маркел. – Да злые люди напустили, – в сердцах сказал Маркел. – Отчего она еще бывает?! А злых людей много! – Где? – На Москве! – О! – громко сказал Маркел и помолчал. Потом тихо спросил: – А ты знаешь, что за это может быть? – Да уж как не знать! – сказал Евлампий. – А как было, так оно и есть. – И все у вас так думают? – спросил Маркел. Евлампий промолчал и только усмехнулся, отчего стало ясно, что все. – А почему не говорят? – спросил Маркел. – Кому? – спросил Евлампий. Маркел вздохнул, задумался. – Принести? – спросил Евлампий. – Чего? – спросил Маркел. – На пробу, – ответил Евлампий. – Одну чарочку! И постного холодного. Горячего у нас нельзя, ты же знаешь, и мы закон блюдем. А чарочку надо! И это же не пьянства ради, а для проверки. Ты же должен знать, что у нас тут люди пьют, а то вдруг тут одна гадость какая-нибудь, вдруг я народ травлю и обираю, и ты это тогда сразу пресечешь. Если это гадость. А? – Нехорошо это! – сказал Маркел. – А что в нашей жизни хорошего?! – в сердцах вскликнул Евлампий и тут же в сторону добавил: – Петя! Не зевай! – и, опять поворотившись к Маркелу, продолжал уже опять обычным голосом: – А ведь ничего нет, это верно. Хотя кажется, что есть. Вот, как сейчас у меня: не стало нашего царевича – народ сразу сюда ни ногой. Потому что это же известно: выпил всего вот столечко, а брякнул вот на столько! И голова долой! Вот они и не идут. И мои говорят: хозяин, ой, беда! А я им говорю: вы погодите. И только так сказал, наехало стрельцов, опять пошла торговля, и уже не на запись, как раньше, а сразу платят, мои говорят: ой, радость-то какая! А я им опять говорю: погодите! И только сказал… И тут Евлампий замолчал и усмехнулся. Тогда Маркел продолжил за него: – И тут я к тебе пришел и говорю, что надо перемерить, перевзвесить. Так? – И это тоже, – сказал Евлампий. – Да и другого тоже есть. – Чего? – спросил Маркел. – А, всякого! – сказал Евлампий. И тут же добавил: – А вот и она! Маркел обернулся и увидел, что Петр уже вернулся и у него в одной руке миска грибочков, а во второй чарка (даже, правильнее, чара) хлебного вина. От вина шел добрый дух. – Надо, надо испытать, – сказал Евлампий. – А то как же. Маркел подумал и кивнул. Петр поставил перед ним миску, в миске уже была ложка, так что доставать свою было не нужно, а чарку поставил под самую руку, нет, даже почти что в пальцы вставил. Маркел усмехнулся. Евлампий вдруг спросил: – А не боишься? Маркел сердито мотнул головой, перекрестился, взял чарку и, не отрываясь, выпил, поставил и сразу принялся закусывать. Петр и Евлампий молча ждали. Маркел перестал закусывать, кивнул головой и сказал: – Хороши грибочки. Хрумкие! – А винцо? – спросил Евлампий. – Просто царское! – сказал Маркел. – Но недоразбавлено. Небось, горит. – Ну, может быть, – сказал Евлампий. – Виноват, перестарались! – Ладно, – сказал Маркел. – Чего там. Это не самый грех. Но завтра приду и проверю из общего чана! – Милости прошу! – сказал Евлампий. – Всегда добрым людям рады. А Маркел опять взял чарку, поднес ее к носу и понюхал. – Еще? – спросил Евлампий. – Нет, – сказал Маркел, – хватит, мы на службе. – После еще понюхал и сказал: – Чистый дух, так бы всю жизнь и нюхал. – Потом спросил: – Что добавляешь? – Э! – сказал Евлампий. – А вот это я тебе уже и под кнутом не расскажу! Знаешь, сколько мне за это сулили? А я молчу. Маркел опять понюхал чарку и сказал: – Через вишневый уголь чистишь. – Нет, – сказал Евлампий. – Не через него. – А через что? – спросил Маркел. – Га! – сказал Евлампий радостно. – Так я тебе и рассказал! А налить еще налью, пей сколько сможешь, и все даром, мне не жалко. Маркел опять понюхал чарку и сказал: – Тоже колдовство какое-то! – и посмотрел на Евлампия. Евлампий покривился и сказал: – Вот так и угощай добрых людей. Так и на дыбу недолго попасть. – Ладно, ладно, – примирительно сказал Маркел. – Не буду. Да мне уже и некогда. – Тут он встал из-за стола, взял шапку, и Евлампий тоже встал, и он сказал Евлампию: – Завтра опять приду. Так что у тебя еще вон сколько времени! Вспоминай про эту бабу, спрашивай. – Тут он повернулся к Петру и спросил: – А ты что про нее знаешь? – Про кого? – спросил Петр. – Про бабу-уродку, – быстро продолжал Маркел, а сам при этом повернулся так, чтобы закрыть собой Евлампия, чтобы тот не делал Петру знаков, и опять сказал: – Про ту уродку, что государыня убить велела, где она сейчас? – Так закопали ее, что еще! Еще вчера, – сказал Петр. И тут же громко сказал: – А! – потому что понял, что проговорился. Маркел посмотрел на него и подумал, что зато теперь его хоть в кипятке вари, он уже больше ничего не скажет. Поэтому Маркел не стал его дальше расспрашивать, а только строго усмехнулся, надел шапку, отвернулся и сказал уже Евлампию: – Вот так-то! Завтра я к вам приду. А вы пока что вспоминайте, вспоминайте, спать вам сегодня будет некогда! – и развернулся, и пошел к порогу. – Эх, не тех грибочков мы тебе подали! – сказал ему в спину Евлампий, но он и не подумал оборачиваться, а как шел к порогу, так и вышел, а там и вышел со двора в открытые Григорием ворота – вот какой ему тогда был сделан почетный выход.8
Маркел вышел за ворота, отошел еще шагов с десяток и остановился. День был погожий, время тихое, послеобеденное. Честной народ отдыхает, подумал Маркел, а нечестной настороже, и еще раз осмотрелся, опять никого не увидел и медленно пошел вниз с горки, к торговым рядам. Там тоже всё было закрыто, да у Маркела дел там не было, он просто шел, не зная, куда идти дальше. Поэтому возле рядов он еще раз остановился, осмотрелся, но опять никого не увидел и повернулся и пошел теперь уже совсем обратно, то есть к мосту, к Никольской башне. Но до моста он не дошел, а еще раз свернул, теперь уже совсем немного влево, то есть туда, где шагах в двадцати от моста стояла деревянная церквушка (по-московски, конечно, часовенка) Николы, как после Маркел узнал, Подстенного. А тогда Маркел просто снял шапку, остановился и перекрестился, а уже после вошел внутрь, стараясь сильно не дышать, чтобы вином не разило. Да только некому там было вино нюхать, служба давно закончилась и в церкви было пусто. Маркел опустил в кружку копейку, взял две полукопеечные свечки и поставил первую по убиенному отроку Димитрию, а вторую святому Николе, на добрый совет. Маркел всегда так делал, а тут, подумал он, давно было нужно это сделать, а он вон сколько протянул, грех это и гордыня. Подумав так, Маркел еще раз, теперь уже во весь мах, перекрестился и начал читать Отче наш. После еще читал всё подряд, что вспоминалось. А после, замолчав и повернувшись к Николе, Маркел просто долго на него смотрел и старался ни о чем не думать, потому что нужно было ждать и не пропустить того, когда Никола начнет говорить. Но Никола молчал и молчал. Маркел опять начал читать молитвы. Потом опять молча смотрел. Потом сам не заметил, как задумался. Дум было много: и о ведьме думалось, и о кабацком голове, и о царевиче, и о его приятелях, которые тогда с ним были, когда он то ли сам зарезался, то ли его зарезали, а если сам, тогда чего они так напугались, или они еще что-то видели, а теперь не говорят, потому что им сказали ничего не говорить, никто, сказали, московских не звал, они потолкутся и уедут, а нам здесь дальше жить, а так еще самих зарежут… Эх, в сердцах спохватился Маркел, грех о таком в храме думать, в храме душа должна быть чистой, а он какой сюда пришел, из кабака, прости, Господи, но он же не по своей охоте туда хаживал, а он по службе, и ведь же вон что выслужил – ведьму!.. Эх, тут же еще сильней осадил себя Маркел, не о том он думает, нельзя такое пускать в душу… И вдруг услышал: – Маркел! И сразу поднял голову и осмотрелся. В церкви был только один он. А сверху на него смотрел святой Никола – с иконы, конечно. Святой Никола, подумал Маркел, не оставь меня, грешного, я не за себя прошу, а за невинное дитя, кто за него заступится, когда все расступились, а что я один могу, когда я слеп и глух, святой Никола, надоумь меня, наставь мои стопы, век тебе буду благодарен, век тебя буду поминать, как и поминал до этого, святой Никола! А после встал (потому что он до того был на коленях, а когда он на них опустился, не помнил) и еще раз перекрестился, а после поправил свечку, после отступил на шаг и вдруг подумал, что не в кабак нужно было идти, а искать Петрушу Колобова и остальных ребят и их расспрашивать. И не будет им греха за то, потому что ну и что, что они однажды уже крест целовали, когда их приводили к кресту, они же дети неразумные, безгрешные… И тут же подумал: нет, кто это он такой, чтобы о таком судить, червь он, вот кто! И еще раз перекрестился, постоял и успокоился, ни о чем таком ему уже больше не думалось, и вот тогда уже он развернулся и вышел из церкви, опять к ней повернулся и перекрестился, надел шапку и пошел к мосту. На мосту стоял стрелец. Маркел прошел мимо него как мимо пустого места, прошел через башню, вошел в кремль и пошел дальше. Шел не спеша. На пути ему никто не попадался, а это тогда слева от него были службы, а справа – подворья царицыных братьев, Михаила и Григория. Также и когда Маркел уже зашел за них, то есть уже дошел до колокольни, то увидел, что и возле красного крыльца нет никого, то есть стоят одни только столы, а ни московских, ни народа нет. Маркел пошел дальше. На крыльце дьячей избы стоял уже другой стрелец, не утренний, и грозно смотрел на Маркела. Дверь в дьячую избу была закрыта, но голоса оттуда слышались – и очень громкие. Но Маркел не стал выслушивать, чьи это были голоса, а как шел, так и прошел дальше, и дошел до ворот, ведущих на внутренний двор. И они вдруг оказались закрыты! Как и тогда, вспомнил Маркел, когда приехал Битяговский, то есть уже после набата, когда царевич был уже, ну, как это сказать, не жив, а они там собрались и непонятно для чего закрылись! Маркел взял колотушку и стукнул в ворота. В воротах открылся глазок, в глазке показался глаз, а после глаз пропал и в воротах открылась небольшая дверца. Маркел вошел в нее. Возле ворот стоял служитель. Маркел строго сказал: – Тебя как звать? – Кирилл, – ответил тот. – Моховиков. – А! – грозно сказал Маркел. – Тот самый! Это ты тогда здесь стоял, когда государев дьяк приехал, а его сразу убили, ты?! – и еще сразу показал овчинку. – Ну я, – сказал Моховиков, сердито косясь на нее. – Только ты мне это в нос не тычь! Мне сегодня не такое тыкали! – Кто тыкал?! – спросил Маркел, пряча овчинку. – Да этот ваш, в красной рубахе! Дикий бык! – сказал Моховиков. – Я, говорит, тебе на одну ногу наступлю, а за другую дерну и порву как жабу. И уже при всех схватил, и уже начал рвать! Но низкий поклон боярину, сказал пока что погодить. И погодили. – Да, – сказал Маркел. – Боярин у нас мягкий. Не то что ваши. А ведь из-за них все началось! – продолжал он уже с жаром. – Мишка же всё это заварил, а кто еще! А теперь нам с тобой расхлебывать! Он же теперь, Мишка, где? У себя на перине лежит, его как жабу не порвешь! Да к нему и не подступишься! А это он тебе велел ворота запирать, ведь он, ведь так! – Ну так, – сказал Моховиков. – А для чего? – спросил Маркел. – Чтобы злодеи не сбежали, так?! – Ну так, – опять сказал Моховиков. – И ты пошел и запер, – продолжал Маркел. – А Фроловские что? Они же так открытые и простояли! А ты, дурень, эти запирал! – Э! – сказал Моховиков. – Какой ты сейчас ловкий, а я какой был тогда дурень! А вот я посмотрел бы тогда на тебя, когда бы это не мне, а тебе боярин Михаил тогда велел закрыть ворота, а ты бы, такой умник, стал бы говорить! Да он бы тебя саблей пополам! Он же тогда был ох какой горячий! Царевич же тогда лежал зарезанный, его кровиночка, ох, он был лют! – А крепко пьян? – спросил Маркел. – Да как будто не особенно, – сказал Моховиков. – А может, и не пьян совсем. Он же тогда был не в себе! Я же говорю тебе:царевича зарезали! – Или зарезался? – спросил Маркел. – Я этого не знаю, я этого не видел ничего, – сказал Моховиков. – Я уже только на крики выбежал. А тут на меня сразу наш боярин Михаил, царицын, брат, и сразу в крик: беги на ворота, скотина, закрывай, пока злодеи не сбежали! И я побежал. – Так, может, ты побежал не на те, – сказал Маркел. – Может, нужно было Фроловские запирать. – Нет, – в сердцах сказал Моховиков. – На те. Он мне рукой указал. И я побежал и закрыл. – А дальше было что? – спросил Маркел. – Кого они первым поймали? Моховиков подумал и сказал: – Не знаю. Я у ворот стоял, и на них я не смотрел. – А почему не смотрел? – А потому что чуял: ох, недобрым это кончится, лучше мне этого не видеть и не знать! И так оно и оказалось. Вот что тогда сказал Моховиков. Теперь уже Маркел задумался, после сказал: – Ну ладно. Значит, они тут злодеев искали, ловили, а ты ничего не видел и не слышал, стоял к ним спиной и, думаю, творил молитвы. Так? – Так! – сказал Моховиков. – А дальше, – продолжал Маркел, – приехал Битяговский и стал стучать в ворота. А ты что? – А я ему открыл, – сказал Моховиков. – Тебе кто это велел? – спросил Маркел. – Никто мне не велел! – сказал Моховиков. – Не до меня им тогда было. Сам открыл. Потому что вижу: государев дьяк! И открыл вот эту боковушечку, как и тебе, и он через нее вошел. Нет, даже вбежал. – А Данила, его сын, был тогда уже убитый или нет? – спросил Маркел. – Ничего я этого не знаю, вот что! – в сердцах сказал Моховиков. – И кто ты такой… Но тут Маркел опять достал овчинку, Моховиков помрачнел и сказал: – Он мимо меня вбежал, и сразу к ним. И стал на них всяко кричать. А они на него. Очень страшно! А я стою, вот так вот сюда завернулся, уши заткнул и думаю: спаси меня, царица небесная, никому зла не желал и не желаю… – А они что? – перебил его Маркел. – А они ко мне! – сказал Моховиков. – И в крик: зачем ворота открывал, кто тебе это велел, знаем, знаем тебя, битяговский последыш! И стали меня убивать. И убили, но не до смерти, вот, видишь, очухался. Вот только где осталось. И с этими словами он вначале снял шапку и показал разбитый лоб, после стал заголять рукава и показывать там синяки. – Кто тебя так, назовешь? – спросил Маркел. – Много их было, – сказал Моховиков. – Всех не запомнил. А кого запомнил, тех забыл. По голове же били, ироды! – Побожись, – сказал Маркел. – Я уже божился, – сказал Моховиков, – два раза божиться грех. – Ладно! – сказал Маркел. – Больно ученый стал! – После опять спросил, уже не так сердито: – А чего сегодня опять ворота заперли? Кто велел? – Ваш боярин, кто еще, – сказал Моховиков. – Сказал, шатаются тут всякие, неровен час еще кого зарежут, хоть царицу, и опять скажут: московские зарезали! – Так и сказал? – спросил Маркел. – Сам слышал? – Ну, не сам… – Тогда помалкивай! А не то… – начал было Маркел, но продолжать не захотелось, и тогда он только сказал, чтобы Моховиков и в самом деле больше много не болтал, надо будет – его еще спросят, а пока пусть лучше копит силы на ответы, и развернулся и пошел дальше. Но не налево, к себе, а направо, мимо старой Константиновской церкви, за службы и дальше к Фроловским, так называемым пролазным, воротам. И это было верное название, потому что как и сама башня (сказанная Фроловская), так и устроенные в ней ворота были широкие и низкие, в них и в самом деле нужно было почти пролезать, тут не всякому конно проехать, подумал Маркел, примеряя на глаз высоту того пролаза. Ну да, пролаз и есть, думал Маркел дальше, так ведь на то это и задние ворота, они для того и устроены, чтобы, скажем, не возить навоз через передний, так называемый царевичев, двор, а здесь тихонько вывезти, да и вони будет меньше, и так же и другое всякое, без чего хозяйства не бывает, и также без всякого подлого люда, который тоже лучше чтобы на глаза не лез, а здесь скромно шнырял. Вот как тогда думал Маркел, стоя перед теми задними воротами, а мимо него взад и вперед (то есть в ворота или из ворот, кому как это было нужно) ходили дворцовые люди, не обращая на него внимания, потому что у всех было дело. Так и тогда, думал Маркел, их здесь было полно и так же были открыты ворота, когда вдруг ударили в набат. Подумав так, Маркел обернулся и увидел верхушку колокольни, а остальное всё было закрыто спереди Константиновской церковью, слева самим царицыным дворцом, а справа – кормовым дворцом, то есть, если по-простому, то кладовыми с припасами. Но у царей всё дворцы, не удержавшись, подумал Маркел. После чего сразу подумал, что с того места, где он сейчас стоит, да и вообще от Фроловских ворот, того места, где преставился царевич, не видно. То есть если кто его убил (а вдруг всё же такое было!), то отсюда никто этого не видел. И поэтому тот, кто убил, мог ножик тихо в кусты бросить и мимо кормовых построек незаметно проскользнуть сюда и выйти в ворота! А там – через Каменный ручей и на посад, а там ищи-свищи! И грози, саблей маши боярин Михаил Нагой, а злодей уже сбежал! Подумав так, Маркел насупился, поправил шапку и еще раз посмотрел на ворота, в которых никто не стоял, кроме дворцового сторожа, да и тот был, сразу видно, крепко выпивший, а тогда и его, может, не было. Подумав так, Маркел еще раз осмотрелся и подумал, что весь внутренний дворцовый двор – это большой трехстенок, у которого одна стена – это сам царевичев дворец, а вторая – это каменная кремлевская стена, повернутая к Волге, а третья – это стена тоже кремлевская и тоже каменная, и из этого трехстенка есть только два выхода: один – это перед ним, а второй – это те ворота, на которых как тогда, так и сейчас стоит Кирилл Моховиков, вот так-то! Ему тогда велели их закрыть. А почему эти не велели? Да потому, наверное, что Михаил Нагой про них и не подумал, он в них, может, никогда и не езживал, не лазил, вот и не подумал. А злодей (если он был) наоборот, подумал бы! Потому что если будешь выходить через передние брусяные ворота, то тебя могут приметить, а тут разве кто кого приметит: вон сколько их туда-обратно шныряет! Так что если был тогда злодей, то он побежал через эти ворота, даже просто только обязательно! Вот о чем тогда Маркел подумал, хотя тут же подумал и такое, что злодея могло и не быть, а царевич просто сам зарезался или его зарезали те, кого народ побил, то есть младший Битяговский, младший Волохов и младший же Качалов, и их сегодня хоронят. Но всё это, тут же подумал Маркел, пока что только его выдумки-придумки, а голос ему был совсем другой: иди, Маркел, ищи Петрушу Колобова и остальных ребят и их расспрашивай, и не будет в том греха, что они однажды крест уже целовали, они же дети неразумные, безгрешные, вот как сказал ему святой Никола! Или он так сам подумал, а Никола только на него смотрел и сердито молчал, потому что почему Маркел пришел не сразу, а только на пятый день, как загордился! Ну да сейчас он всё исправит, он одумался! И с такими мыслями Маркел быстро развернулся и пошел, но не обратно, а дальше, то есть сперва мимо сказанной старой Константиновской церкви, а дальше мимо кормовых палат, а после уже между ними и стеной, то есть, думал он, тем же ходом, которым тогда убегал злодей, а он теперь как бы шел ему навстречу! Вот так-то, думал он, на ловца и зверь бежит, а здесь пока наоборот, ловец идет на зверя!9
Но, правда, никого он тогда на том своем пути не встретил, а даже больше. То есть, никем не замеченный, прошел под кремлевской стеной и вышел прямо к тем яблонькам, под которыми царевича тогда не стало. И тогда там было много крику и много народу, а теперь зато пусто и тихо. Но Маркел еще раз осмотрелся и опять ничего такого приметного или необычного не заметил, а только под одной из яблоней стояла маленькая скамеечка. Маркел сел на нее и подумал, что эта скамеечка стоит здесь неспроста, а это ему знак. И только он так подумал, как из-за угла (а это был угол уже не кормового, а хлебного дворца) вышел мальчик лет примерно десяти и с удивлением, а еще больше с робостью посмотрел на Маркела. А Маркел его сразу окликнул: – Петруша! Мальчик от этого еще сильнее оробел и сразу заскочил обратно, и его не стало видно. А ведь и вправду он Петруша, если он так напугался, подумал Маркел, низкий тебе поклон, святой Никола, это ты мои стопы сюда направил. И только Маркел так подумал, как тот Петруша опять показался. Маркел махнул ему рукой, чтобы не робел и подходил. Но Петруша опять скрылся. Понятное дело, подумал Маркел, натерпелся отрок страху, это же какая страсть – царский сын при нем преставился, ведь же могли сказать, что это Петруша его и зарезал. А что, продолжал думать Маркел, вон как в прошлом году был случай, князь Семен рассказывал, а Ларка Фомин ездил расследовать… Ну и так далее. То есть Маркел, пока Петруши видно не было, стал вспоминать про то, как в прошлом году в Рязани было дело, когда такие же мальчишки, и тоже играючи в тычку, заспорили между собой, а после один пырнул другого, и вся недолга. И Ларка ездил, и его там подкупали, дело получилось очень шумное, и тогда сам князь Семен Михайлович, а это вам не просто кто-нибудь из неизвестно какого разряда, а из самих Лобановых-Ростовских, племянник князя Петра, Новгородского наместника, ездил в сказанную Рязань и раздавал там подарки, вот каковы тогда пошли круги! А тут… Но дальше Маркел подумать не успел, потому что на этот раз из-за угла хлебного дворца вышел уже не хлипкий мальчишка, а высокий и широкоплечий человек, по одежде сразу было видно – непростого звания, и руку он держал на сабле, которая пока что еще была в ножнах. И этот человек шел прямо на Маркела! Но Маркел не стал заранее вставать, а только тряхнул правым рукавом, чтобы поправить в нем нож. А тот непростой человек уже подошел совсем близко и, не убирая руки с сабли, сердито спросил: – Ты кто такой и что здесь делаешь?! – Я Маркел, я из Москвы, – сказал Маркел. – Я человек князя Лобанова-Ростовского, а здесь пока что при боярине Василии. А ты кто? – А я Самойла Петров Колобов, боярский сын, – сказал тот человек. – Я здесь при царице служу. И мой сын при ней же служит. А ты чего к нему цепляешься?! – Я, – сказал Маркел, – ни к кому не цепляюсь. Я не репей. А я, еще раз повторяю, из Москвы, служу там стряпчим в Разбойном приказе, князь Семен Михайлович Лобанов-Ростовский – мой господин. Про таких слышал? – Ну слышал, – сказал Колобов. – А это видел? – продолжил Маркел и показал овчинку. Колобов уже только кивнул, а рта уже не раскрывал. – Садись, – сказал Маркел, – чего там, в ногах правды нет, я знаю, где она. Садись! – сказал он еще раз и указал рядом с собой. И Колобов, боярский сын, сел рядом, а куда ты денешься, с безродным стряпчим. А этот стряпчий (Маркел) продолжал, глядя на него вполоборота: – Зря ты, Самойла, горячишься. Я же ничего ни твоему Петрушке, ни тебе самому творить дурного и не думал, и не думаю. Царевича не стало, вот где горе! И вот из-за этого мы сюда и приехали. Ты думаешь, мне в Москве плохо было? Я же и там тоже в кремле живу, только в московским, у князя Семена, если будешь там, так мимо княжеских хором налево за поварню и там, но это уже направо, наверх отдельный ход. А дальше так: князь Семен за стол садится, и сразу бегут за Маркелом. Маркел – это я. И князь Семен на серебре – и я на серебре. Ему чашу – и мне чашу. И не хмыкай! Потому что что такое князь Семен, если Маркела нет поблизости, а нужно срочно делать дело, раскрывать злодея, царь-государь гневается и при всей Думе его срамит, и все, кто и выше и ниже сидят, над ним, отпрыском славных князей ростовских, потешаются?! А с Маркелом славят! Так и князь Василий, отпрыск славных князей суздальских, давняя родня князей ростовских, как только к вам сюда собрался, сразу послал гонца к князю Семену и стал просить его, чтобы он дал ему меня в дорогу, чтобы я сюда приехал и сразу взял злодея, вот как! И тут Маркел наконец замолчал. Зато Колобов сразу недобро усмехнулся и так же недобро спросил: – Ну и как, взял уже? На что Маркел так же недобро усмехнулся и ответил: – Взять не взял, зато уже нашел. А не беру потому, что боярин пока не велит. – А почему он не велит? – спросил Колобов. – Ну мало ли, – сказал Маркел. – Может, хочет взять всех сразу. А может, хочет взять на Троицу, чтобы была людям память, не знаю. – Ловок ты! – сердито сказал Колобов. – Языком молоть мы все умеем. – Э! – строго сказал Маркел. – Ты поосторожнее, Самойла. Я-то мелю потому, что у меня служба такая, а тебе могут язык и подрезать. – За что?! – Да вот хотя бы за то, что я твоего Петрушку звал, хотел снять с него расспрос, а ты мне этого не дал, а я царев слуга, я блюду царев интерес, а ты его рушишь! Так на козла тебя и пятьдесят кнутов тебе, вот так! И тут Маркел даже махнул рукой очень сердито и решительно. – Э! Э! – быстро сказал Колобов. – Ты что это?! Ты не пугай! Я пуганый! И с меня расспрос уже снимали! И с моего Петруши тоже! А ты что его здесь караулишь? Знаешь, он какой после того напуганный?! Он по ночам не спит, подкидывается! Беда, совсем беда, совсем дитя испортили! – Эх, да, – сказал Маркел уже без всякой злости. – Жалко мне Петрушу твоего. Разве я не понимаю? Понимаю! А чем помочь? Изолгались же здесь все! Никто слова прямого не скажет! И может, я даже всё знаю, а чем докажу? Вот как твой Петруша! Вот ты говоришь, что его уже к кресту приводили и уже расспрашивали. Ну и что?! Да я, хоть там не был, скажу, что там было. Твой Петруша сказал так, что они и государь играли в тычку, но тут вдруг на него нашла падучая и он упал и бился на земле, пока не наткнулся на нож и зарезался, и твой Петруша тогда закричал и побежал отсюда вот туда, – и тут Маркел при этом даже показал рукой, куда бежал Петруша, а после продолжил: – и там добежал до крыльца, а там стояла его мать, твоя жена, и он ей крикнул, что царевича не стало, так? – Так, – сказал с опаской Колобов. – Ладно, – сказал Маркел, немного помолчал и вдруг спросил: – А куда побежали другие? – Другие кто? – не понял Колобов. – А другие ребятишки, – продолжал Маркел. – Их же там было четверо: твой Петруша, это раз, и еще Ивашко Красенский и Гришка Козловский, и еще, чуть не забыл, Бажен Тучков, Тучковой Арины сын. А та Арина, как и твоя Марья, тоже стояла на крыльце тогда же. А теперь мне объясни, Самойла, почему твой побежал, а Тучков нет? Ведь твоего и его матери обе стояли там вместе, а побежал только один Петруша. А что Бажен? – Ну! – только и сказал на это Колобов. – А вот и ну! – гневно сказал Маркел. После спросил: – Дьяк у него про это спрашивал? – Нет, – уже совсем невесело ответил Колобов. – А ты? – спросил Маркел. – А что, – теперь уже сердито спросил Колобов, – ты что, хочешь сказать, что наши ребята в этом виноватые?! – Я, – сказал Маркел почти насмешливо, – никогда ничего не говорю, пока наверняка не узнаю. А тут я ничего пока не знаю. А ты не хочешь отвечать. А почему это так? Ты что, злодея укрываешь или, может, сам злодей?! – А! – только и воскликнул Колобов очень сердитым голосом. А после повернулся к углу и грозно велел: – Петруша, выходи! Из-за угла вышел Петруша. Старший Колобов, уже ничего не говоря, только махнул рукой младшему, и тот подошел ближе. – Вот, Петруша, – сказал, обращаясь к сыну, старший Колобов, – приехал из Москвы вот этот человек. – И он кивнул на Маркела. – Это главный ловец разбойников по всему нашему царству. И он приехал нас с тобой ловить. – Нет, я приехал не ловить, – сказал Маркел. – А я приехал за правдой. Потому что а кого ловить, если никто не виноват? Ведь так же, Петруша?! Тот кивнул. – Вот, хорошо, – сказал Маркел. – Я тебе верю, Петруша. И мне тебя жалко. Ты же вон каких страстей здесь натерпелся! Перед тобой царевича не стало! А вы же с ним, небось, крепко дружили? Но Петруша молчал и головы не поднимал. Тогда за него сказал его отец: – Крепко не крепко, как тут скажешь, а каждый день были вместе. И государь Петрушу отличал. И нам за это была честь от государыни. Так или нет? – Так, – тихо сказал Петруша и, осмелев, даже немного поднял голову. Маркел молчал и улыбался. Петруша смотрел на него уже почти прямо и его уже почти что не боялся. Тогда Маркел заговорил: – Я приехал из Москвы, царь-государь послал меня с боярином Василием расспросить вас всех, как было дело. У государя братьев больше нет! Один брат, самый старший, утонул, это очень давно было, второй, старший за ним, Иван Иванович, тоже велел нам долго жить, так получилось, а теперь и третьего не стало. Государь Федор Иванович, как только ему об этом сказали, сразу как дитя расплакался, ох, говорил, беда какая, младший мой любимый братец, на кого ты меня покинул, кто посмел на тебя нож поднять!.. И тут Маркел резко замолчал, а то до этого он говорил все громче и громче. И вот опять стало тихо. Петруша опять опустил голову. Тогда Маркел опять заговорил, теперь уже вполголоса: – Я знаю, твой родитель говорил, что тебя сегодня уже расспрашивали и ты на том крест поцеловал. Поэтому я тебя о том, о чем ты уже говорил, больше расспрашивать не буду. Да и разве это здесь у нас расспрос? Ты же креста не целуешь и твоих слов никто не записывает, и мы тут только одни, и ты мне говоришь как на духу, и всё, что от тебя услышу, я никому не скажу, вот тебе крест на этом! И тут Маркел перекрестился. И сразу добавил: – Вот видишь, теперь я сам себя к кресту подвел. Теперь мы с тобой равные. Даже ты равней меня, потому что ты больше знаешь, и сейчас будешь меня учить, а я, как малый дурень, буду тебя спрашивать. И вот мой первый вопрос, с самого начала: ты где его тогда встретил, уже здесь, внизу, или еще там, на крыльце? – На крыльце, – сказал Петруша. – Ты там сидел и ждал его? – быстро спросил Маркел. – А делал что? – Орешки щелкал, – сказал Петруша. – Много их у тебя было? – Кулек, – сказал Петруша. И уже уверенней продолжил: – Я там сидел на приступочке, и тут царевич вышел. И говорит: айда. И мы пошли. – А орешков не просил? – спросил Маркел. – Нет, не просил, – сказал Петруша. – Я ему сам кулек подал. Он до орешков охоч, я для него их и взял. И я подал ему кулек, и он один орешек взял, сощелкнул его, и мы пошли вниз. И сюда пришли, и начали играть, и он зарезался. – Ага, ага, – сказал Маркел. И тут же спросил: – А свая у него была какая? – Нож у него был, – сказал Петруша. – Вот такой! – И показал немало. И еще сказал: – Индейский. – Какой, какой? – спросил Маркел. – Индейский, – повторил Петруша. – Он сам так про него сказал. – А что, раньше у него такого ножа не было? – спросил Маркел. – Не было, – сказал Петруша. – Мы когда вниз сошли, он мне его показал и сказал, что это нож индейский. Я сказал: дай подержать, а он не дал. – Почему? – спросил Маркел. – Сказал, мал еще, – нехотя сказал Петруша. – А откуда он его взял, не говорил? – Не говорил. Маркел задумался. Потом спросил: – А какой он из себя был, этот нож? – Так и горел огнем! – сказал Петруша. – Жало кривое, острое, а че́рен золотой и в самоцветах. Известное дело: Индейское царство! – Ага, ага, – опять сказал Маркел. После спросил: – А дальше что? – А дальше мы стали играть, и он этим ножом зарезался, – сказал Петруша. – Как это так? – спросил Маркел. – Он что, его не удержал или махнул им не так, или что? Как это было? Покажи! Но Петруша стоял как стоял, и даже руки не поднял. – Эх! – сказал Самойла Колобов, который до этого молчал. – Ты бы видел, как его ночью трясет! Не пытай ты его больше! – Да ты что! – сказал Маркел. – Да я разве это со зла? Не хочет говорить – пускай не говорит. Если ему царевича не жалко. – И тут же, опять повернувшись к Петруше, спросил: – На него что, падучая напала? – Да! Да! – сказал Петруша. – Она! – И как она его била? – спросил Маркел. – А вот как-то и не била вовсе! – растерянно сказал Петруша. – А как-то он вдруг весь скрючился, ему как-то руки свело, и он их как-то вывернул, очень неловко, и сразу по горлу полоснул. И упал. Я стал кричать. А из него кровища так и хлещет! Я испугался и бежать! Бегу, кричу! И так на крыльцо и взбежал. – А остальные что? – Кто остальные? – Бажен Тучков, – сказал Маркел. – Кто там еще? – Ивашка Красенский и Гришка Козловский! – быстро ответил Петруша. И также быстро добавил: – И они тоже в крик и бежать. – А тетка Василиса Волохова? – дальше спросил Маркел. – Она там где была? – Ее я тогда не видел, – сказал Петруша. – Мы же сперва играли и я по сторонам не смотрел. А после, когда это там случилось, я туда уже больше не ходил. Меня даже со двора сразу домой свели и давали пить воды. – Трясло его всего! – сказал Самойла Колобов. – После всю ночь кричал! – А ты тогда где был? – спросил Маркел. – А я был за рекой, на пасеке, – сказал Самойла. – Мы покуда сюда прибежали, так этих уже всех в ров побросали, вот как было быстро тогда дело! Маркел кивнул и помолчал. Петруша стоял перед ним и переминался с ноги на ногу. – Ладно, иди, – сказал Маркел. Петруша быстро повернулся, но Маркел еще быстрей добавил: – После, если надо будет, сам придешь. А то и прибежишь! Петруша стоял и смотрел на Маркела. Маркел махнул рукой, опять сказал: – Иди! Петруша развернулся и ушел как мог быстрее. Самойла Колобов еще немного подождал, а после с опаской спросил: – Ну и что? – Хороши дела! – сказал Маркел очень недобрым голосом. – Петрушу жаль, вот что. А тебя, дурня, не жаль нисколько! – За что ты это так? – спросил Самойла. – А за то, – сказал Маркел, – что зачем вы надоумили дитя душой кривить?! Не было тогда его дружков при нем, когда царевича не стало! Один он был здесь, поэтому так напугался. И я еще не знаю, что здесь было, что это за нож такой и кто здесь еще по этим вот кустам таился! – И он повел рукой вокруг. И тут же, не давая Самойле опомниться, грозно спросил: – Зачем дитя врать подучили, а?! – А, это, – сказал Самойла чуть слышно, а сам стал белый-белый. – Так они должны были быть вместе все! А тут Ивашка прибежал и говорит: айда на берег, там вот такущего сома поймали! Ну и побежали Гришка и Бажен с Ивашкой. А наш один остался на крыльце. А должны были быть все вместе. А так недосмотр. И когда было первое разбирательство, еще когда только-только в первый день, когда еще Нагие разбирали, ребятки стали говорить Петруше: ты на нас не говори, а скажи, что мы были с тобой. И он сказал. А после как от своих слов откажешься? И так и осталось. Но умысла же в этом никакого не было! Ведь же… – Не знаю! – грозно перебил его Маркел. – А знаю только вот что: что если кто в одном раз покривил, то он потом и во втором будет кривить, и в третьем, и так всегда. Поэтому против такого есть только одно средство: подрезать язык, чтобы не болтал чего не надо. Теперь выбирай: чей будем подрезать, твой или Петрушин? Самойла помолчал, подумал, а после в сердцах сказал: – Эх, ночью сон был гадкий. Снился черный шелудивый пес. И так и сталось! – Да разве я черный?! – сказал Маркел. И, не давая Самойле ответить, продолжил: – Ладно, иди пока что. А там будет видно. Но если что любопытное вспомнишь, тогда приходи. Иди, иди! Самойла встал и пошел, и ушел за тот же угол, что и Петруша. А Маркел сидел и думал. А подумать ему тогда было о чем! Первым делом он думал о том, почему это Петруша тогда так испугался, не кинулся к царевичу и не пособил ему. А ведь мог же! Царевича не сразу же скрутило! А Петруша стоял рядом и смотрел. А ведь теперь ему, да и тогда было жалко! А вот не помог. Помешало ему что? Или, может, даже кто? Подумав так, Маркел невольно осмотрелся. А что, подумал он дальше, место глухое, вполне подходящее, вон там встань за бузиной – и дожидайся. А где это они в тычку играли, сразу же подумал Маркел дальше, встал и походил вокруг скамейки. Земля там была сырая, мягкая, в такую нож тыкать легко, вот они это место и выбрали, думал Маркел, а сам тем временем зорко поглядывал по сторонам, как будто думал что-нибудь найти или следы увидеть. Но ничего там не было, ни сора, ни травы, ни тем более того полена, которым царица будто била Василису Волохову. Псы, псы, сердито думал Маркел дальше, да как они это себе представляют, чтобы государыня хваталась за полено, будто мужичка какая! А тут еще ее дитя лежало всё в крови, разве тут ей до Василисы было?! Подумав так, Маркел распрямился, еще раз осмотрелся и подумал, что царица первым делом кинулась к царевичу, осмотрела рану и стала зажимать ее руками, потому что рана была очень велика, из нее хлестала кровь и ничем, никак нельзя было ее унять, царица начала кричать, вот так царевича к себе прижала… И упала. Э, тут же подумал Маркел, почему это упала, никто ему об этом не говорил, а вот ему представилось: упала! А няньки где были? Тут же они должны быть были, они же прибежали первыми, они же были на крыльце, когда к ним Петруша прибежал и стал кричать, царица услыхала крик и побежала сверху. А тут уже народу было видимо-невидимо! Они сперва боялись подходить, пока царицы рядом не было, царевич лежал на земле и из него хлестала кровь! А вот теперь уже они стояли и смотрели на царицу, которая лежала на земле и прижимала к себе мертвого царевича. Вот как оно было, подумал Маркел, пока не прибежал старший Нагой, Андрей, и бросился к сестре, поднял ее вместе с племянником и начал кричать: «Марья, Марья, что с ним, Марья?!» Ну а дальше ничего уже не представлялось, а стало путаться и даже как-то расплываться. Маркел стал трясти головой, в глазах стало понемногу проясняться. Эх, тяжело подумалось Маркелу, какое дело трудное, будет еще с ним хлопот, ой, будет, взялся руками за голову и еще немного постоял, ни о чем совсем не думая. А после вдруг само подумалось: надо сперва начать с ножа. Да, подумал Маркел дальше, уже опуская руки, надо ему увидеть этот нож и спросить, но осторожно, как он попал к царевичу, и, может, это можно уже прямо сейчас сделать, потому что время уже позднее и эти уже все вернулись, сидят за столом, едят и обговаривают то, что они сегодня на расспросах вызнали. Так что как бы он еще не опоздал! Подумав так, Маркел поправил шапку, развернулся и пошел к себе, то есть в ту бывшую холопскую. А во дворе тем временем уже смеркалось.10
Когда Маркел пришел к себе, там уже и в самом деле все сидели за столом, кроме разве только что Ильи, и перекусывали. Перекус был постный: хлеб да каша. Да еще посреди стола стоял квасной кувшин. Вот только дух от него шел совсем не квасной! Ага, вот оно как, подумал Маркел, а вслух всех поприветствовал. Они ему ответили, а Вылузгин еще сказал, что заждались они его, да у него, наверное, дело было сильное важное. Маркел на это ничего не ответил, а сел на свое вчерашнее место с краю, ему служка подал миску, а Вылузгин мигнул – и кружку тоже подали. Эх, сказал тогда Маркел, перекрестил рот, потому что грешно это, после взял кружку и выпил. После облизал губы, поставил кружку и сказал, что это от Евлампия. – О! – сказал на это Вылузгин. – Видали? А я вам сразу говорил, что он у князя Семена по правую руку сидит! – И сразу же спросил: – По правую? – Когда по правую, когда по левую, – сказал Маркел, пододвинул к себе миску и продолжил: – Когда государь к нам приезжает, тогда меня по левую. – И начал есть. – О! – опять сказал Вылузгин. – Слышали? Вот как надо отвечать! С блеском в глазах! И так же спрашивать! – тут же продолжил он. – А ты как, Яков? А то залебезил: боярин, боярин! А они нам сейчас все никто! Да и даже пусть боярин, ну и что? Знаешь, каково мне в думе? Нас, дьяков, там сколько? Я, да Андрей, да Василий. А их, бород, не перечесть! А я выхожу и говорю: вот так вот будет, бояре! Или не так, царь-государь?! И вот так повернешься к нему. А он сидит и зевает. Вот так! – закончил говорить Вылузгин и уже только рукой указал, что нужно дальше делать. Овсей начал наливать, ему подавали кружки, а он лил в них из квасного кувшина и при этом то и дело проливал. Э, подумал, глядя на него, Маркел, да они, видно, давно уже сидят. И тут же подумал: сидят неспроста! И только он так подумал, как Вылузгин уже сказал: – А что, Маркел, нанюхал ты сегодня что-нибудь? Маркел пожал плечами. – Ну, тогда выпей за наше нюханье, – веселым голосом продолжил Вылузгин. Все разобрали кружки, выпили, утерлись и начали закусывать. Только один Вылузгин почти что не закусывал, а опять начал говорить, на этот раз уже вот что: – Видел я тебя, когда ты под деревом сидел, когда мы этих дурней расспрашивали. Скучно тебе было, я видел. И думал ты тогда, я знаю, что эх, вот дурни, только время тратят, не тех расспрашивают, и не о том, и не так. Думал ты такое, а? Маркел подумал и сказал: – Ну, думал. И угадал, потешил! Вылузгин аж подхватился и сказал: – Ах, шельма ты какая! Ну да ладно! А ведь надо было бы тебя самого на расспрос! Почему, спросить, ты в постный день в кабак ходил и там пил вино с кабатчиком да и еще это вино нахваливал?! – Э! – сказал Маркел. – А вот такого я не говорил. Кабатчик вина не пил, не надо на него наговаривать. Да и разве дурное вино? – и с этими словами поднял кружку и шумно понюхал ее. – Ладно, – сказал Вылузгин уже не таким веселым, а больше уже строгим голосом. – Я знаю, чего ты кругами ходишь да выискиваешь. И знаю, кто тебя на это науськал. Им это очень надо, вот что! – Что надо? – спросил Маркел. – Вывернуть всё так, что будто бы царевич не зарезался, а будто бы его зарезали, – уже просто сердито сказал Вылузгин. – Только теперь уже не вывернуть! Потому что нам сегодня показали, когда ты ушел, что дядья покойного царевича еще тогда утром, в тот день в прошлую субботу, за три часа до всего того, из-за чего мы сюда приехали, сказали, что Михайле Битяговскому не жить, что убьют они его сегодня же. И ведь же убили! И ты не щерься, Маркел, потому что так оно и было, что вначале все здесь тогда утром слышали, как они ему грозили, а после также все здесь видели, как они его убили! – Кто ему грозил? – спросил Маркел. – И где? И кто это слышал? Но Вылузгин пока молчал и только усмехался. И еще поглядывал по сторонам. После сказал: – Яков, скажи ему. И Яков, глядя на Маркела, сказал ему вот что: – Они тогда утром крепко здесь повздорили. В дьячей избе. Битяговский там сидел, и там были все его люди, и он их проверял, они книги сличали, и тут приходит Михаил Нагой и начинает говорить прямо при них, при этих людях, что ты, мол, дьяк, – он так его назвал, как будто Битяговский пес какой-то некрещеный без имени, – ты, дьяк, когда деньги отдашь?! А Битяговский: а какие деньги? И дальше как начали они кричать один на одного из-за этих денег, так просто страх! А тут еще приходит Григорий Нагой, и они уже вдвоем на одного его, и крику стало еще больше. Битяговский видит, что ему одному их не перекричать, и развернулся, и пошел из избы вон, сказал, что обедать. А они, братья, за ним! И вот то, что было дальше, уже весь передний двор слышал, кого хочешь спроси: Михаил Нагой с крыльца громко сказал, почти что выкрикнул, что мы тебя, Мишка, а Битяговский тоже Михаил, мы тебя убьем вот хоть сегодня же! – За что? – спросил Маркел. – А за гаденыша! – с жаром ответил Яков. – Кого, кого? – спросил Маркел. Но Яков теперь уже молчал, и побелел, и просмотрел на Вылузгина. А Вылузгин, теперь уже совсем без всякого веселья и также без всякой к тому охоты, стал говорить: – Они, когда вышли на крыльцо, уже очень крепко распалились все трое. И Битяговский, бес попутал, не сдержался и сказал, что, мол, сколько мне вас терпеть, окаянных, псы вы ненасытные, вот кто, только и знаете, что из государевой казны тащить, а кто вы такие, чтобы вам было столько почету? Тогда Михаил Нагой на это закричал, что они царские дядья, они скоро будут царством править и Битяговский тогда пожалеет, что он им сегодня пожалел. Ну а Битяговский тут возьми и ляпни, что он не знает, чьи они дядья, равно как и не знает, можно ли того… Ну, Яков уже сказал, как Битяговский поименовал тогда покойного царского братца, можно ли его, как он еще прибавил, признать законным наследником грозного и в самом деле настоящего царя Ивана Васильевича. Вот что он тогда сказал. А Мишка Нагой в ответ крикнул, что еще посмотрим, кто кого быстрее, вы его или мы вас! – Быстрее что? – спросил Маркел. – Ладно! – сказал Вылузгин. – Заговорились! Овсей, не спи, наливай! Овсей опять взялся наливать, и все опять задвигали кружками. А когда они все выпили и уже начали закусывать, Вылузгин тоже вначале зачерпнул из своей миски полную ложку каши, но тут же в сердцах отложил ее, повернулся к Маркелу и так же в сердцах заговорил: – Вот как тогда было! Они при всех тогда пообещали, что убьют его за то, что он не дает им денег, они же раньше жировали как хотели, а тут государь его прислал и он стал их прижимать, стал считать каждую копейку, потому что это царские копейки, а не их! А они тогда: а мы тебя, Мишка, убьем, Борисов выползок! И как сказали, так и сделали! В тот же день! Царевич невзначай зарезался, а они сразу в крик: это Битяговские его убили, православные, бей Битяговских! И начали бить. И вон сколько набили, полный ров! Но и этого им показалось мало! И они тогда пошли толпой к Битяговским на подворье, и там всё побили, покрушили и пограбили, и Битяговского вдову выволокли там во двор и на потеху всем сорвали с нее платок и так всем простоволосую показывали на глумленье, и народ глумился, свиньи! А дочерей его, двух девок, с теми еще хуже: их уже поволокли топить, благо, что отец Степан не растерялся и заступился за них, а так бы и их убили бы. И это у нас всё записано, кто и когда и при ком говорил, и кресты целованы, руки приложены, можешь смотреть и сличать. Вот что тогда сказал Вылузгин очень сердитым, даже гневным голосом, и пока он это говорил, он весь очень сильно покраснел. И, еще будучи таким же красным, опять взялся за ложку и опять начал закусывать. А Маркел помолчал и сказал: – Может, так оно и было, как ты говоришь, я не знаю. Да мне этого знать и не надо. Это пусть сами бояре Михаил с Григорием держат за это ответ или не держат, а Битяговского вдова пусть, если желает, подает на них челобитную. Это, еще раз говорю, их дело, и пусть их судят Господь Бог и государь Феодор. А мне князь Семен, когда отправлял меня сюда, сказал только одно: узнать, что с царевичем случилось: или это он сам зарезался, или это ему в этом пособили, вот и всё. – Га! – гневно вскричал Вылузгин. – Так это же и так всем известно! Царевич упал на нож и зарезался! – На какой нож?! – тут же спросил Маркел. – На какой, на какой! – сердито передразнил его Вылузгин. – Да их, если хочешь знать, целых три! Два вот таких и один вот такущий! – продолжал он уже с жаром, и даже показал, какие были те ножи. И так же с жаром продолжал: – Эти же, когда пошли подворье Битяговских грабить, они же тогда долго этот нож искали, всё там вверх дном перевернули, нашли два ножа, но, как им сказали, те ножи были не те, и они тогда давай дальше искать! А он не ищется! А уже вон сколько людей во рву лежало, они что, тогда ни в чем не виноватые? И тогда эти псы, эти этого царевича дядья, придумали вот что: у Григория был нож, вот такой здоровенный, ногайский, весь в каменьях, этот, говорят, похож, и они взяли этот ногайский нож, вымазали его куриной кровью, отнесли ров и вложили в руку Битяговскому. А его сыну Даниле вложили пищаль, а Осипу Волохову палицу, а Никите Качалову другой нож, а Сеньке, человеку Осипа, еще один, третий нож, и так всем кому что повкладывали. Это, – продолжил Вылузгин уже со смехом, – чтобы мы, когда приехали, посмотрели бы на них и ужаснулись бы, а Нагие нам сказали бы, что вот, мол, эти злодеи, которые сейчас во рву лежат, тогда и убили их любимого племянника. Про которого они думают, будто бы его кто-нибудь когда-нибудь признал бы законным сыном покойного царя Ивана, а это же смех один и только! Вот что он тогда сказал, но уже совсем без смеха. Так же и Маркел тогда молчал с очень сердитым видом. А потом так же сердито сказал: – Ладно. Это вы сами разбирайтесь, это вам видней. А мне ты опять только одно скажи: где тот нож, или свая, не знаю, которым царевич зарезался? Ты его видел? – Нет, – сказал Вылузгин. – О! – сказал Маркел. – Так если ты его не видел, так, может, его и не было? А если не было, тогда царевичу чем было резаться? Нечем! Тогда он и не резался вовсе! – Как не резался?! – сердито вскричал Вылузгин. – Он лежал с перерезанным горлом! Все это видели! – А я, – сказал Маркел, – не видел. Ни тогда, на поляне, не видел, ни после, когда он уже в гробу лежал. Меня в храм не пустили! Почему? И что я теперь скажу князю Семену? Вот я, может, теперь и скажу, что он, может, и не зарезался совсем, и, может, там, в гробу, лежал другой, подмена там была, вот что, потому что если честных людей в храм не пускают, почему так делается, а?! – Но-но! – грозно сказал Вылузгин. – Не кощунствуй! Я его там видел, и твой боярин Василий, и митрополит службу служил, и мать его там стояла, слезы проливала, без тебя там обошлись, вот так! Да и, – продолжал Вылузгин, уже обращаясь к подьячим, – это же какую дурость выдумать: подмена! Да вы только подумайте, ребята: это чтобы государыня вдовая царица позволила бы положить в царевичев гроб не царевича! Да это же бы земля под ней тотчас разверзлась бы! Да это же… – И тут он замолчал, опять повернулся к Маркелу и, как у малого дитяти, спросил: – Да как ты мог, Маркелушка, такую пакость про царицу выдумать, а? И не стыдно ли тебе? И язык не свербит ли? – Ну, тут ты, может, и прав, – сказал Маркел. – Может, я тут дал маху. Но все равно согласись, Елизарий, что всё то, о чем ты сейчас говорил, это же только слова, их к делу не пришьешь, хоть вы и пришиваете, а на деле опять говорю: нет ножа! Как и того полена нет, которым государыня побила Василису Волохову. Так что, может быть, она ее и не побивала. Но это не мое дело. Нет полена – и не надо. А вот то, что ножа нет, – это уже не дело. Нож надо найти. – Найдем! Найдем! – сердито сказал Вылузгин. – А то заладил: нож, нож! Что ты к ножу привязался? Ножа ему нет! Ну и что? Царевича не стало, вот что важно! И его мы уже не вернем. А нож найдем, не сомневайся! Вот хоть ты, Яков, найдешь! Найдешь ведь? – спросил он со смехом. – Будем искать, – сказал Яков без всякой охоты. – Вот так уже совсем другое дело! – сказал Вылузгин. – А теперь пора и честь знать, солнце уже давно зашло, темно за окнами, а мы все никак не уймемся! Спать пора! Спать! – И опять, как и давеча, встал, поклонился образам и вышел. А все стали готовиться ко сну, и также с ними и Маркел.11
Ночью Маркел спал плохо, несколько раз просыпался. Первый раз он проснулся оттого, что вернулся Илья и в темноте совался взад, вперед, искал Якова, а когда нашел, стал ему что-то шептать, а Яков шептал ему в ответ. Так они долго шептались и после затихли, заснули, а Маркел еще долго лежал, потому что перебили сон, но после все-таки тоже заснул, потому что Овсей с другой стороны очень сладко посвистывал. Но скоро и свист не помог, снилась всякая дрянь, то будто бы его убить хотят, то будто бы отравить, а то еще что-то, и он тогда опять каждый раз просыпался и, чтобы заснуть, думал о делах. Первым делом, думал Маркел, ему нужно узнавать про нож, это важней всего. Другим делом – это водка, чем ее Евлампий чистит, потому что там, он чует, ему что-то очень важное откроется. И про ведьму не забыть, про ведьму – это тоже очень важно, тут нужно найти Самойлу Колобова и сказать ему, что на него вся надежда, а не обнадежит – тогда пусть сам на себя пеняет, потому что… Ну да это, может, еще рано говорить. Да и Петрушу жалко, сам когда-то был таким же Петрушей. Вот о чем (и о другом, конечно, тоже) тогда думал Маркел, когда раз от разу просыпался. И только уже в последний раз, почти перед самым рассветом, вдруг вспомнил: а как же губная изба? Ох, надо туда сходить и расспросить их всех, а то что же это получается: к своим и не зашел ни разу! Да он же как только вернется в Москву, князь Семен же сразу спросит: а что наши, а ты был у наших, кто там у них староста, Муранов, что ли, что он говорил, а что говорили остальные? Эх, подумал Маркел дальше, ничего ему они там дельного не скажут, даже если что и знают, а все равно сходить к ним надо, это же их люди. Так что, может, думал Маркел дальше, с ножом можно не спешить, про нож пусть пока что Вылузгин расспрашивает, а Маркел пойдет к своим! И он так и сделал. После завтрака, когда они еще вместе вышли на передний царевичев двор, дальше все подьячие свернули к красному крыльцу, вокруг которого уже стоял народ, и только один Маркел пошел дальше прямо. Губная же изба была за Спасом и за колокольней, направо от Никольской башни, там нужно еще пройти за пруд, и уже только там была она, и там же был тын высоченный, потому что там же и тюрьма была. Дверь в избу была закрыта, окна тоже, а на крыльце стоял стрелец. Маркел подошел к крыльцу, сказал: – Здоровы будем! – а когда стрелец ему ответил, сразу же спросил: – Есть там кто? – Нет никого, – сказал стрелец. – И не будет никого. И здесь не стой! Не велено стоять! – Да ты что? – сказал Маркел. – Не узнаёшь меня? Меня князь Семен сюда прислал. Вот этот! – и достал и показал овчинку. Но стрелец на это только усмехнулся и ответил: – Вот ты к нему иди и жалуйся. А мне князь Василий сказал гнать всех отсюда в шею! – Э! – сказал Маркел уже совсем сердито. – А ну покажи язык! Не длинен ли?! – Как бы тебе свой не показать! – ответил на это стрелец. – Да я… И неизвестно, что он еще сказал бы (если бы успел, конечно, потому что болтунов кто любит?!), но тут из двери вышел стрелецкий голова Иван Засецкий и строго сказал ему: – А ну молчать! – а после, поворотившись к Маркелу, продолжал уже почти что весело: – А, это ты опять! К своим пришел? – К своим не к своим, а проведать желал бы, – сказал так же почти весело Маркел. И сразу же спросил: – А что они? Куда все подевались? – Никуда они не подевались, – сказал стрелецкий голова. – Все они здесь сидят. Только теперь внизу. – И посмотрел себе под ноги. Маркел тоже посмотрел туда же, то есть на подклеть, на тамошние узкие окошки, которые еще никто после зимы не открывал. Ага, вот оно что, подумал Маркел, всех их посадили, вот как, вот чего Илья ночью шептал! А стрелецкий голова прибавил: – Вот как оно в жизни бывает. Сперва ты сторожишь, а после сторожат тебя. – А за что их так? – спросил Маркел. – А всё опять за Битяговского, – сказал стрелецкий голова. – Это же они его пограбили. Девять коней с конюшни увели, Третьяк сказал, две сабли, епанчу, шлем червленый, сарацинское седло, всё в самоцветах. Это только Третьяк насчитал! А что его вдова, Михаилова вдова, конечно, так это сундуки, Маркел! Ну да ладно сундуки, – продолжалстрелецкий голова, – барахло это, наживная рухлядь всякая, говорит, у нее же две девки на выданье, если ты знаешь. А тут же еще и умысел! Они взяли у него палицу и два ножа, принесли сюда к себе и обмазали куриной кровью – и Михаилу это в руки. Это будто он этим убил! Вчера это мы узнали, уже совсем вечером. Ну, и сговор получается! И тогда их всех прямо с расспроса сюда вниз. И они и сейчас здесь. Настрого! Боярин князь Василий сам сказал, чтобы никто даже близко сюда не подходил! Так что и ты, Маркел, тоже иди отсюда, боярин про тебя ничего отдельного не сказывал. Иди! Но Маркел по-прежнему стоял на месте. Тогда стрелецкий голова еще сказал: – Не сомневайся! Не упустим! И будет здесь так же тихо, как и в Ярославле. – А в Ярославле что? – спросил Маркел. – Тихо, я же говорю, – сказал стрелецкий голова. – Ночью от брата был гонец. Брехня это была, вот что. Никто там не бунтовал и не мутил, и старший Нагой там на месте, у себя на подворье сидит и помалкивает. А эти вон как намутили! Это же они вот этих дурней научили грабить Битяговского! – Ну, так уже и грабить! – возразил Маркел. – Ну, конечно, – согласился стрелецкий голова. – никто им не говорил: идите, грабьте! А им сказали: идите и найдите, чем они царевича убили! Нож, говорили, найдите, нож пропал, а вы найдите! Ну, и они пошли толпой. И пока они искали нож, девять коней кто-то увел, саблю, кольчугу, два приданных и еще много чего по мелочам. – А нож? – спросил Маркел. – А нож, говорят, как дымом улетел. Но, – тут же сказал стрелецкий голова, – ты все равно здесь не стой, не велено. А то будет идти боярин Василий – и тогда мой Егорий тебе лоб сразу прострелит, так и знай! И Егорий, тот стрелец, начал нахально усмехаться и даже поигрывать пищалью. Маркел молчал. И тут издалека послышалось: – Маркел! Маркел! Он оглянулся и увидел, что это к нему идет, даже почти бежит, Овсей и машет рукой. А когда он подошел, то быстро, запыхавшись, сказал: – Тебя Елизарий зовет. Сейчас будут снимать расспрос про нож, нарочно для тебя, идем! Ну как тут было не пойти? И Маркел пошел, конечно. Когда они пришли туда, там была уже очень здоровенная толпа, и также очень плотная. Но Маркел с Овсеем вместе довольно скоро пробились до того места, откуда было и видно, и слышно, и тогда Маркел увидел, что теперь там за столом, кроме Вылузгина, опять были Шуйский и Клешнин, не было только митрополита (да ему это и не по сану было бы – сидеть в таком нечистом месте), а перед ними, то есть перед Шуйским, Клешниным и Вылузгиным, стоит человек, одетый во все добротное и чистое, сразу ясно, что это царицын человек, и смотрит прямо на них и молчит. А звали его Карп Микитин сын Крюков, как после стало известно, и он был сенным сторожем в так называемых ближних сенях, а тогда, когда с царевичем это случилось, он как раз вышел во двор – и тут и услышал крик, и побежал на него. Но всё это Маркел узнал после, Карп же тогда об этом уже рассказал и поэтому, когда пришел Маркел, он уже просто стоял перед боярами и ждал, что они еще у него чего-нибудь спросят. А они пока молчали. Да, кстати сказать, ни Шуйский, ни Клешнин тогда за весь тот день почти ничего ни у кого не спрашивали, а спрашивал только один Вылузгин. И так было и тогда – то есть как только он увидел, что Маркел уже пришел, уже стоит в толпе и смотрит на него и ждет, он (Вылузгин) сразу поворотился к Карпу и спросил: – А когда Петруша закричал и показал, куда бежать, ты что тогда сделал? – Как что! – сказал Карп. – Побежал куда было указано. – А дальше? – спросил Вылузгин. – А дальше вижу, – сказал Карп, – государь царевич лежит на земле весь окровавленный. – А что еще видишь? – спросил Вылузгин уже будто украдкой. – Вижу – толпа кругом! – громко ответил Карп. – Очень много народу, вот что. И все на него смотрят. – А он еще живой? – спросил Вылузгин. – Не знаю. Может, и живой, – ответил Карп уже негромко. – Вот так на спине лежит и руки у него вот так раскинуты. И не шелохнется. – А говорили, – сказал Вылузгин, – что его тогда трясло. – Трясло! А как же! – сразу сказал Карп. – Еще как трясло! Просто смотреть было страшно! – А если трясло, почему не помог? – А чего тут помогать, – сказал, подумав, Карп. – От падучей ничто не поможет. – А ты раньше видел, как его трясло? – это спросил уже Шуйский. – Нет, Бог миловал, – ответил Карп и перекрестился. – А тогда откуда ты узнал, что это падучая? – опять спросил Вылузгин. – Так говорили все, которые стояли, – сказал Карп. – Кто говорил? – спросил Шуйский. – Запамятовал, – сказал Карп. – А если, – сказал Вылузгин, – я велю дать кнута, тогда вспомнишь? – Может, и вспомню, – неохотно сказал Карп. – А может, и нет. Кто же такое заранее знает! Вылузгин вздохнул очень серьезным вздохом, помолчал, посмотрел на Шуйского, а после мельком на Маркела и продолжил уже вот как: – Ну ладно. А вот еще скажи, Карпуня. А чем он зарезался? – Ножом, известно, – сказал Карп. – Каким? – быстро спросил Вылузгин. – Э! – сказал Карп. – Бог его знает. Он в стороне лежал, в траве. Да и не до него мне тогда было! Горе же такое: государь зарезался! – А вдруг его зарезали! – сердито сказал Вылузгин. – Да кто бы такое посмел?! – решительно воскликнул Карп. – Да никогда никто! Только если кто пришлые. – А пришлые здесь были? – спросил Шуйский. – Нет, – сказал Карп. – Значит, зарезался сам, – сказал Вылузгин. – Значит, сам, Божьим судом, – сказал Карп. – Но, но! – строго прикрикнул на него Вылузгин. – Ты за Бога не решай! Карп стал смотреть в землю. Тогда Вылузгин спросил: – Куда после этот нож девался? – Я не знаю, – сказал Карп. – Мы тогда пошли оттуда. Не до ножа мне тогда было. – Куда пошли? На Битяговского? – очень грозно спросил Вылузгин. – Это ты его убил, скотина?! – Не я, не я! Вот крест! – испуганно воскликнул Карп. – Знаешь, сколько там тогда было толпы? Я Битяговского не видел даже! Я только слышал, как они кричали: бей, бей его! А бить не бил. Не пробиться туда было, вот как. – А! – сказал Вылузгин. – Вот как! Не пробился! А пробился, так бы и убил! Так, нет? Но тут Карп ничего не ответил, а опять стал смотреть в землю. А Вылузгин оборотился к Парамону (а Парамон тогда записывал) и что-то тихо у него спросил, наверное о том, не утомился ли, не надо ли подмены. На что Парамон замотал головой, то есть не стал просить подмены. Тогда Вылузгин опять спросил: – Где нож? – и посмотрел сперва на Карпа, Карп молчал, а после на всю толпу, то есть осмотрел их всех. Все, конечно, тоже промолчали. – Ладно! – сказал тогда Вылузгин. – Иди пока что приложись. Карп подошел к столу, Парамон подал ему перо, после подал свиток, Карп черканул на нем, Парамон перевернул свиток на оборотный бок и подставил его еще раз, Карп черканул и там, после чего Вылузгин махнул рукой – и Карп отошел в сторону. И сразу вызвали (вызвал Илья) другого. Это тоже был сенной сторож, но уже других сеней, травных, и звали его, как он себя назвал, Тимошка Андронов сын Зыграй. Этот Тимошка тоже слышал крик, и тоже прибежал туда один из первых, и тоже видел, как царевича била падучая, и он к тому же еще видел (когда Вылузгин у него об этом спросил), как государыня царица била поленом Василису Волохову и простоволосила ее, а вот ножа он не видел совсем. Но Вылузгина это на этот раз нисколько не опечалило, и он опять начал его расспрашивать о том, как государыня гневалась на сказанную Василису, но на этот раз Тимошка вспоминал об этом уже очень неохотно, даже совсем не хотел вспоминать, и стал говорить, что, может, он и раньше, то есть только что, говорил не то, что надо было говорить, потому что после того, что он увидел, то есть после того, как на его глазах преставился государь царевич, он многое перепутал и стал заговариваться и за свои слова не отвечает. Нет, ответишь, грозно вскричал Вылузгин, после чего велел Тимошке подойти столу и приложить руку к своему расспросу. Тимошка приложил и тоже отошел в сторону и там встал рядом с Карпом. После Тимошки пришла очередь Макара Семенова, а после Гриши Ананьева, а после Януша Климентьева, всех тоже сенных сторожей, и чем дальше, тем скучнее было их слушать, потому что они, как заведенные, говорили почти что одно и тоже, а если Вылузгин (или особенно Шуйский) их о чем-либо спрашивал, они сразу это подтверждали, но это не только не помогало Вылузгину, а, напротив, только еще больше запутывало, и Вылузгин чем дальше, тем сильнее гневался. А Маркелу слушать это было еще горше, но он стоял смирно и помалкивал. И еще нет-нет да и поглядывал на Карпа, потому что никто больше ничего о ноже не рассказывал, вот и была только одна надежда на Карпа. А Карп тоже стоял смирно и тоже помалкивал. Но глазами так и зыркал, это было ясно видно! А после вдруг ступил на шаг назад, а там развернулся и пошел вначале совсем за толпу, а после совсем пропал с глаз! Но Маркела так не проведешь! Маркел тоже быстро вышел из толпы и тоже боком-боком, но и так, чтобы Карп не заметил, пошел за ним следом.12
И идти за ним тогда пришлось не близко, потому что Карп сперва прошел за колокольню, а после прямо из кремля через Никольскую башню и дальше по мосту и через площадь, а еще дальше с горки и через ручей, а после опять на горку и к кабацкому двору, который был еще закрыт, потому что еще не кончилась обедня. Но это кому обедня, а кому алчба, вспомнил Маркел слова князя Семена, остановился возле Николы Подстенного (это где он был вчера и ставил свечки) и посмотрел вслед Карпу. А Карп перешел через ручей и подошел еще к закрытым воротам кабацкого двора, где уже сидели другие, такие же как он, то есть кому обедня не в обедню. Там Карпа, как видел Маркел, сразу признали, и он там сел среди других, и у них там пошел разговор. А Маркел стоял молча и ждал. Эх, думал он, святой Никола, это ты мне его подвел, низкий поклон тебе, и если я на этом деле разживусь, то сделаю тебе богатый вклад. И вдруг еще подумал: если останусь жив, конечно. И прикусил язык и перекрестился. И опять просто стоял и ждал. Мимо него никто не проходил, площадь была пустая, а день был погожий, даже уже жаркий. Маркел стоял и думал, что надо бы еще подробнее узнать про царевича, и это не только про то, была ли у него падучая, но и каков он был сам из себя, то есть какой у него был нрав, был ли он так же крут, как и его отец. Только что проку было с этой крутости, тут же подумал Маркел, потому что, когда покойный государь упал, никто к нему не подскочил и руки ему не подал, как рассказывал дядя Трофим, и государь вот так вот скреб руками по ковру, а все стояли рядом и смотрели, и ждали, когда он преставится, даже попа не позвали и не дали исповедаться! Так что и здесь могло быть так же, подумал дальше Маркел, и тогда никакого злодея искать здесь не нужно, а нужно просто еще раз спросить у Петруши: почему не пособил царевичу?! Как и Вылузгин спросил у Карпа, что почему стоял, не помогал, когда царевича трясло?! Подумав так, Маркел вспомнил о Карпе, повернулся в сторону кабацкого двора и увидел, что там уже открыли ворота и все туда уже вошли, и с ними и Карп, и что теперь туда уже идут стрельцы, значит, обедня уже совсем кончилась. Тогда и Маркел пошел туда же, но не спеша, конечно. Когда он подошел к кабацкому двору, там уже от ворот было слышно, что люди там есть. Там же, при воротах, стоял вчерашний знакомец Григорий, правда, уже без ножа, и сделал вид, что он Маркела не знает. Также и кабацкий голова Евлампий, и целовальник Петр, когда Маркел уже вошел к ним внутрь, тоже не стали его приветствовать. То есть они как будто бы не знали, кто он такой, и это ему было на руку. Он дал полушку, и ему на нее и налили. Только когда Маркел брал чарку, Петр вдруг ему кивнул налево. Маркел глянул туда и увидел Авласку Фатеева, который сидел сбоку от всех и был уже как будто крепко выпивши. А Карп сидел дальше по столу, с приятелями, у них там была шумная, веселая компания, там уже даже примерялись петь. С Карпом Маркелу было бы, конечно, интересней, но Карп был еще совсем трезв, и Маркел пошел и сел к Авласке. Когда Маркел сел напротив него, Авласка его сразу не узнал. Зато когда узнал, то весь аж побелел от страха и уже даже открыл рот! Но Маркел отставил палец и едва заметно погрозил им – и Авласка промолчал. Маркел отпил, и утерся, и опять посмотрел на Авласку. А вокруг становилось шумней и шумней, потому что уже начали шуметь стрельцы, а кто их и чем уймет! Ну да Маркелу это было на руку, потому что он теперь уже совсем затерялся в общем шуме. Тогда он немного наклонился вперед, в сторону Авласки, и сказал: – Меня зовут Маркелом. – Знаю, – сказал Авласка. – Я был у тебя в гостях, – сказал дальше Маркел, – и ты это тоже знаешь, тебе про это твоя Авдуля сказала. Да ты и сам меня видел! Ты же тогда сидел в подклети, и я тебя там чуял! – Авласка опять промолчал, и тогда Маркел строго спросил: – Почему от меня прятался? – Не знаю, – ответил Авласка. – А вот я знаю! – продолжал еще строже Маркел. – Но об этом пока ладно! А теперь пока скажи, где ваши все и ты почему здесь? – А где мне еще быть?! – сказал Авласка уже с горечью. – А они все в подполе, вот где. – У вас? – спросил Маркел. – У нас, – сказал Авласка. – Рассказывай, – велел Маркел. Авласка помялся и начал рассказывать: – Не будет мне здесь больше жизни, вот что. Вот что со мной ваша Москва сделала! Мне же теперь все здесь говорят: это из-за тебя, скотина, на нас столько их наехало, это ты нас оббрехал! А я разве брехал, Маркел? И я разве туда к вам просился? Это же тогда Никитка, пес, сказал: садись, Авласка, скачи, Иван велел скакать! И я поскакал. – Дальше! – сказал Маркел. – А что дальше! – продолжал Авласка. – Дальше вернулся, а мне говорят: это все из-за тебя, мы тебе, пес, это припомним, выпрем тебя из губных и в игольщики обратно тоже не возьмем, и подыхай как знаешь! Вот что они мне сказали! А я как утро, так к ним и к ним! Авдотья говорит: иди, в ноги пади Ивану, целуй Ивану сапоги, у Ивана сила, Иван за тебя заступится! Иван – это наш губной староста. Это он меня же и позвал к себе! Иди ко мне служить, Влас, говорил, ты же и в грамоте силен, и в счете, и глаз у тебя какой, и голова какая! Вот что он раньше говорил! А теперь прихожу, а он рожу воротит! Ну, я и начал прикладываться. Потому что жизнь такая стала тяжкая! Ну и вчера тоже приложился, но самую малость, и пришел к ним, и стою, а они на меня и не смотрят. А я все равно стою. А мне спешить некуда. И вдруг приходят эти ваши, и с ними стрельцы, и говорят: кто из вас Ванька Муранов? Кто Никитка Черныш? Кто Юшка Терентьев? Кто – и смотрят на меня. А я говорю: а я Влас Фатеев. Они тогда: а ты нам не нужен, а ты выйди вон. И выгнали меня оттуда. А их всех в подпол заперли. – А тебя почему нет? – спросил Маркел. – Так их же за что заперли?! – сказал Авласка. – За то, что Битяговского пограбили. А меня там не было, я тогда был в Москве. Вот и мне от Москвы польза! И тут Авласка даже засмеялся. А Маркел строго спросил: – Пограбили? Так ты сказал?! – Это не я, а это ваши так сказали, что пограбили, – сказал Авласка. – А ничего они не грабили, я же Ивана знаю. А это им… – и тут Авласка осмотрелся, и уже тише продолжил: – это Михайла Нагой им велел. Ножи они искали, вот что. У Битяговского был с собой нож, да не тот. И у Данилы у его не тот. И у других тоже не те. Вот наши и пошли искать тот нож. А народ тогда, Иван рассказывал, совсем осатанел! Народ пошел за ними и с ними же вошел на подворье, и они стали искать, а народ давай грабить! И разграбили конюшню, увели коней, разграбили хоромы, унесли там все, что только могли унести, а что не унесли, то все поломали, подрали, пожгли! – Чего это народ у вас такой очень какой-то злой! – сказал Маркел. – За что они их так? – За государя царевича, за что же еще, – сказал Авласка. – Так разве же это они его убили? – спросил Маркел. – А кто еще?! – сказал Авласка, опять осмотрелся и опять сказал чуть слышно: – Утром же тогда что было? Михаил с Григорием к нему пришли, а он им говорит: не дам вам больше денег, кто вы такие, чтобы вам давать, и не дал. И собрался уезжать обедать, и уже даже вышел на крыльцо. А братья тогда за ним! Они же к такому не привыкли! Покойный государь как завещал же? Чтобы обоим царевичам, старшему и младшему, всё было поровну. А получилось что? Сперва младшего сослали к нам, и это еще хорошо, что мы народ приветливый, его пригрели, как могли, так тогда эти давай притеснять его дальше: прислали сюда этого, и этот стал распоряжаться, стал считать казну, будто свою, и вот уже сказал: не дам совсем! И не дал. И уже вышел на крыльцо. А братья следом за ним! И грозить: да мы тебя задавим! А он им в ответ, при всех, весь двор это слышал: это еще кто кого первей задавит, это мы первей, и первым задавим вашего гаденыша! Вот как он тогда сказал при всех, сел на коня и уехал. И после за стол сесть не успели, а они его уже убили. Не задавили, это правда, но зато зарезали. Вот что сказал тогда Авласка и взял свою чару и выпил. Маркел спросил: – Сам это слышал? – Сам, – сказал Авласка. – Да и не я один, а все. – И утерся. Маркел молчал и смотрел на Авласку. Авласка усмехнулся и сказал: – Возьми еще винца. – Хватит тебе, – сказал Маркел. – Ты и так много пьешь. Сегодня пьешь, и вчера тоже пил, хоть был постный день. – Я вчера не пил! – сказал Авласка. – Нет, пил! – сказал Маркел. – Сам же только что сказал, что когда вчера пришел в губную избу, был уже выпивший. Был?! Теперь уже Авласка молчал, и уже глаз от стола не поднимал. Эх, с досадой подумал Маркел, сейчас бы взять его в расспрос, он бы сейчас все рассказал. Но не до него сейчас! И с этой мыслью Маркел встал и поворотился к Карпу, за которым он давно уже приглядывал и ждал. А теперь ждать было уже больше некуда, потому что еще немного, подумал Маркел, и Карп совсем упьется, и тогда от него ничего не добьешься, а сейчас он в самый раз! И Маркел оборотился к стойке, и махнул рукой, и оттуда сразу подошли к нему Евлампий, Петр и еще один Петр, Малый, как его там звали, тоже целовальник, и остановились. А Маркел шагнул еще вперед, достал из-за пазухи овчинку, одной рукой поднял ее вверх, а второй указал на Карпа и строго и громко велел: – Вот этого надо! Берите! Евлампий и оба Петра подскочили к Карпу, ловко выдернули его из-за стола и поставили перед Маркелом. Карп ничего не понимал, но и не шумел, молчал, а только хлопал глазами. И также его приятели, которые остались за столом, тоже языков не распускали. Да и к тому же там же в кабаке тогда только половина была углицких, а остальные стрельцы, пусть себе даже и хмельные. Вот и была тогда почти что тишина! И в ней Маркел строго сказал: – В белую его! И Карпа потащили из так называемой ближней в так называемую дальнюю избу, или, правильнее, белую, куда кого попало не пускали, а только людей именитых, а остальной народ обычно сидел и выпивал в ближней (или, если хотите, черной) избе. Так вот, когда Карпа притащили в белую избу, там только в одном углу сидели трое купцов, которые теперь оборотились на шум и молчали. Маркел им показал рукой, они сразу, но не очень быстро поднялись и так же не спеша ушли. А Малый Петр понес за ними их питье и их закуски. То есть он увел их в ближнюю избу. А Евлампий и Большой Петр подволокли Карпа к стоявшей рядом лавке и посадили его на нее – да так резко, что он даже крякнул. На что Маркел строго сказал: – Не повредите! – А посмотрел на Карпа и прибавил: – И не стойте над душой! Кто вас здесь держит?! Евлампий и Петр сразу ушли и еще даже дверь за собой закрыли. Карп сидел боком на лавке, наверное боялся шевелиться, и с опаской посматривал на Маркела. Вид у Карпа был уже почти что трезвый. Маркел осмотрелся, отступил, сел на другую лавку, которая была напротив, и сказал: – Я из Москвы, я из Разбойного приказа. Я по твою душу нарочно приехал. Понятно? Карп молча кивнул. – У тебя что, язык уже вырвали? – строго спросил Маркел. – Нет, – сказал Карп. – Вот и славно! – продолжал уже веселым голосом Маркел. – А теперь мы будем вот как: я буду спрашивать, а ты будешь отвечать. – Я уже отвечал, – сказал Карп. – Нет, – опять строго сказал Маркел. – Ты не ответил. У тебя спросили, куда девался тот нож, а ты сказал, что не знаешь. А знаешь! Карп молчал. И было видно, что его теперь хоть веревкой надвое перетирай, а он ничего не скажет. И Маркел не стал об этом спрашивать, а вместо этого спросил: – Нож был вот такой? – и показал, какой. Карп утвердительно кивнул. – Черен огнем горел? Весь в самоцветах, да? И Карп кивнул, что в самоцветах. Маркел засмеялся и сказал: – Ты что, и в самом деле боишься язык показать? А ты не бойся! Я же знаю, что не ты взял нож. Нет на тебе этого греха, я знаю. А на ком он есть, тому не сладко. – Карп молчал. Тогда Маркел продолжил тихим голосом: – Когда государь Иван Васильевич преставился, я у него тогда был в рындах. И тогда было вот как: вот тут я стою, а вот тут он. А вот тут Сеня, мой верный товарищ, тоже рында. А государь, наш господин, он в окошко смотрит на Москву и на все царство сразу. И вдруг вот так взялся за сердце, вот так рукой по груди стал скрести, и пуговка оторвалась, упала на пол, покатилась и закатилась под сундук. А пуговка золотая конечно! И Сеня смотрит на сундук, под который она закатилась, а я смотрю на Сеню. А государь стоит столбом и никуда уже не смотрит! А после зашатался и упал бы, когда бы мы его не подхватили! И сразу в крик, и сразу звать бояр, митрополита, все они прибежали, снуют… А государь Иван Васильевич уже преставился у нас прямо на руках. После много времени прошло, похоронили государя, помянули, прошло еще, может, недели две и опять мы стоим, я и Сеня, а уже государя нет, а Сеня, вижу, так и смотрит, так и смотрит под сундук, куда тогда та золотая пуговка укатилась. Я не утерпел и говорю: что, Сеня, вспомнил про ту пуговку, хочешь ее подобрать незаметно, понести в кабак и там пропить? Так это грех великий, Господь тебе такого не простит, а поразит на месте! И только я так сказал, мой Сеня вдруг как зашатается, а после как шарах как сноп об землю! Об ковер, конечно! И так на месте и помер. И уже когда только помер, тогда у него кулак разжался и из него выкатилась та золотая пуговка. Это он, как я после думал и вспомнил, когда все вокруг забегали, когда государя не стало, незаметно наклонился к сундуку и подобрал ту пуговку. А после Господь и его подобрал! – сказал уже громче Маркел и тут же грозно спросил: – Кто взял нож? – Давыдка! – сказал Карп. – Давыдка Жареный! – И тут же истово перекрестился и добавил: – Прости, Господи, раба твоего Давыда, не ведал он, что творил! – А что, – спросил Маркел уже без спешки, – Давыдку уже что, того? – Того! – быстро сказал Карп. – Того! – Кто? – Не знаю! Вот истинный крест! – И Карп перекрестился. – Как это было, расскажи, – сказал Маркел совсем обычным голосом и только на дверь покосился. Дверь была плотно закрыта. Карп покривился, помялся и начал рассказывать: – Толкотня тогда была, боярин, крики, набат. А государыня его держала, его от нее отнимали, а она не отдавала. Отнимал ее дядя Андрей. А она кричала немо! Родную же кровинушку зарезали! А про нож никто не вспоминал, он на траве лежал. И я бы его не заметил, но у него жало как огнем горело! И че́рен весь в самоцветах, и они тоже как огни. А я подумал: как змеиные глаза! И как я в них посмотрел, так и не мог оторваться! Колдовство это, боярин, было, вот что! Не бывает таких самоцветов! Я ли, что, самоцветов не видел? Да государыня у нас всегда вся в самоцветах, она их ох как любит, и покойный государь их ей горстями даривал! А тут, вижу, они в траве лежат. А после вижу Давыдку: он наклоняется – и цап за нож, и в сторону, и нож за пазуху, и за Якима Зайцева, а там Яким Зайцев стоял, и я еще хотел крикнуть ему: Давыдка, что ты делаешь, это же какой грех смертный! Но тут как раз закричали другие, что где Мишка Битяговский, дайте Мишку, будем Мишку рвать – и потянули меня к Мишке. И затянули. И так еще полдня прошло. А после, когда все уже затихло как-никак, я тоже сюда пришел, а народу здесь тогда было просто туча, ну, после такого как не выпить, руки же дрожат, и вдруг думаю, вдруг только вспомнил: а где Давыдка? А мне говорят: а он пошел на берег. Тут же у нас рядом берег, и когда нас отсюда уже гонят, когда уже надо закрывать, мы тогда идем на берег. А тут я пошел раньше, прихожу и за кустами вижу: лежит мой Дывыдка, уже насмерть зарезанный, вот сюда, в грудь, весь в крови, а ножа нигде не видно, вот как! И тут Карп замолчал и стал медленно моргать. Маркел спросил: – А дальше что? – А ничего, – сказал Карп. – Я прибежал сюда, стал говорить, что там лежит Давыд убитый, они пошли со мной, а там уже нет никого. И так он пропал, этот Давыд. – А кто он был такой? – спросил Маркел. – Раньше был добрый мастер, – сказал Карп. – А после спился. – И что, – спросил Маркел, – так и не нашли его? Не всплыл? – А кто будет его искать, – сказал Карп. – Никого у него не осталось, всех пропил. А ножик был славный! И из-за него его зарезали. – А как он на берег попал? – спросил Маркел. – Сначала здесь сидел, а после пошел туда? Так? – Так. – А с кем пошел? Или один? – Сказали, что один, – подумав, сказал Карп. – Кто это сказал? – быстро спросил Маркел. – Кто видел? Карп еще подумал и сказал: – Игнаха Гвоздь. Как будто бы. Но Игнахи здесь сегодня нет. А завтра будет точно! Чтобы его два дня подряд здесь не было, такого еще не бывало. – Ладно, – сказал Маркел. – Тогда завтра его и проверим. А пока тебя! Вставай! – велел Маркел и сам встал первым. – Поведешь на берег, на то место! Карп медленно встал с лавки и так же медленно пошел к двери. Маркел пошел за ним. Когда они вернулись в черную избу, там все сразу замолчали и стали на них смотреть. А они прошли мимо и через входную дверь вышли наружу. И вот что еще: когда они там проходили, Маркел успел заметить, что Авласка сидит белый-белый и весь прямо трясется от страха. Ну еще бы, подумал Маркел дальше, идя следом за Карпом к воротам, теперь же опять будут говорить, что Авласка спутался с московскими, все же видели, как он с Маркелом выпивал и разговаривал, так что надо будет как-то за Авласку заступиться! И поэтому, когда они выходили из ворот, Маркел сказал Григорию, который им открывал: – Скажешь Авласу Фатееву, чтобы он сегодня домой не ходил, а сперва пришел ко мне, а это на внутренний царевичев двор, а там пусть меня спросит. Запомнил? Григорий сказал, что запомнит, и Карп с Маркелом пошли дальше. Карп шел впереди, Маркел за ним. Да там идти было просто, потому что там была хорошо протоптанная тропка вдоль кабацкого забора все время налево, а после с бугра резко вниз по лопухам и кустам, к самой реке, то есть Волге. Место было нежилое, дикое, они спускались уже медленно, потому что было уже сильно круто. – Чего его сюда несло? – спросил Маркел. – Так он здесь жил, – сказал Карп, не оглядываясь. – Как потеплело, так и перешел сюда. А до этого жил у вдовы Варфоломеевны, за ямой. А здесь не яма, здесь простор! Тут Карп даже остановился и начал осматриваться. Место там было и впрямь красивое, просторное, видно было очень далеко и по реке, и так же за рекой. – Эх! – сказал Карп и пошел дальше. Маркел пошел за ним. Идти вниз оставалось немного, и Карп опять заговорил: – Я думал, он к себе пошел. У него там дальше лежанка. А он, вдруг вижу, прямо здесь! – И Карп указал перед собой. А они тогда уже сошли к самой воде, и тропка повернула дальше вдоль самого берега, а тут впереди был желтенький песчаный выступ, и ничего на нем не было – ни камней, ни коряг, ничего. – Вот здесь он лежал, – сказал Карп и показал на песок. Они оба сошли на тот песок, Маркел остановился посреди него и начал осматриваться. Снизу вид был не такой красивый, видно было только немного противоположного берега, то есть только крыши так называемой Тетериной слободы, да реку слева и справа. И много песка на этом берегу, и это тоже с обеих сторон. Да тут, сердито подумал Маркел, можно не один нож закопать, а тысячу, и никогда не найдешь. А человека, подумал он дальше, и закапывать не надо, а тем же ножом вспорол брюхо, спихнул в воду – и никогда не всплывет. Вот что он тогда в сердцах подумал! Но вслух ничего такого не сказал, а повернулся к Карпу, посмотрел ему прямо в глаза и спросил: – Пришли, а его нет уже, так было? – Так, – сказал Карп. – И мы тут тогда всё излазили. Все кусты кругом обшарили. И в воде тоже шарили, а нет нигде. – А хорошо ли вы тогда искали? – спросил Маркел. – Га! Еще как! – сказал Карп. – Я же им сказал, что у него мое колечко за щекой, найдем – сразу несем Евлампию. Ну, и они старались! – А, ну тогда да, – сказал Маркел и еще раз осмотрелся, но это уже только для виду, потому что было уже ясно, что здесь ничего не найти. Но Маркел еще все же спросил: – А к нему на лежанку ходили? – Аж два раза! – сказал Карп. И туда тоже нечего ходить, подумал Маркел и посмотрел на реку, а после на небо и дальше подумал уже про то, что слишком долго он здесь завозился, другие дела уже ждут, и спросил, где Карп живет. Карп сказал, что от Никольской башни прямо по Сарайской улице, справа до второго поворота. Ага, сказал Маркел, запомним, и когда надо найдем, а пока пошли, сказал. И они пошли обратно вверх. Маркел шел и думал, Карп тоже помалкивал. Когда они опять дошли до кабацких ворот (а дальше впереди уже опять стал виден кремль), они остановились. Карп смотрел на Маркела и ждал, что тот ему скажет. А Маркел еще немного помолчал, после сказал: – Дела у меня важные. И их у меня много. Но мы тебе из-под земли найдем, если что! Где ты живешь, я знаю. А ты ничего не знаешь, понял?! Чтобы молчал, как те рыбы, которые Давыдку съели! Понял? Карп кивнул, что понял. Маркел усмехнулся и сказал: – Иди, иди, догуливай, – и при этом кивнул на ворота. И тут вдруг вспомнил и спросил: – А как это у Евлампия такое славное винишко получается? Чем он его чистит? Я спросил, а он сказал: тайна! – Да какая это тайна, – сказал Карп. – Это ему ее Андрюшка чистит. – Какой Андрюшка? – спросил Маркел. – Андрюшка-травник, – сказал Карп. – С Конюшенной слободы. – С Конюшенной? – спросил Маркел. – А там где? – А прямо напротив Фроловских ворот, первый дом с краю, – сказал Карп. – Второй – братья Григорьевы, а первый – он, Андрюшка-травник, сын Мочалов. – Ага, ага, – сказал Маркел. – Ну, смотри, сильно не гуляй! – И усмехнулся, развернулся и пошел обратно в город. А Карп пошел в кабак.13
Время тогда было послеобеденное, тихое. Маркел опять шел по площади в сторону моста к Никольской проездной башне и думал о том, что ему надо обязательно проверить этого Андрюшку-травника. Но сперва нужно, думал Маркел дальше, о нем еще что-нибудь выспросить. Или, может, еще дальше подумал Маркел, раньше всего нужно опять сходить к святому Николе и послушать, что он теперь скажет. Подумав так, Маркел остановился и посмотрел на церковь (церквушку) Николы Подстенного, а после уже даже повернулся, чтобы к ней идти, но тут его окликнули. Маркел обернулся и увидел, что его зовет стрелец, который стоит на мосту через ров. Маркел опять развернулся и пошел к стрельцу. Когда он подошел к нему, стрелец сказал: – Тебя боярин Михаил Нагой велел искать, тебя давно ищут. А ты где был? – Служба у меня такая – быть по всяким разным местам, – уклончиво сказал Маркел, после чего спросил: – Что ему от меня нужно? – Допросить тебя хотел, – сказал стрелец. – Он меня? – удивился Маркел. – А что, ты его, что ли? – дерзко спросил стрелец. И также дерзко прибавил: – Иди скорей! Боярин долго ждать не любит! Где его хоромы знаешь? Маркел сказал, что знает, и пошел мимо стрельца на мост, а там прошел через башню, а там мимо запертой губной избы налево и разных служб направо, прошел еще, и там же, с правой руки, подошел к палатам боярина Михаила Нагого. Палаты были деревянные, но все равно очень видные, с высоким каменным крыльцом, на крыльце стояли сторожа, все как один широкоплечие, щекастые, с серебряными бердышами на плечах. Всего их было шестеро. У князя Семена в Москве и то только четверо, не удержавшись, подумал Маркел. Ну да князь Семен не царевичев дядя, подумал Маркел дальше, подошел к крыльцу, снял шапку и назвался. Один из сторожей сказал, что проходи. Маркел мимо них поднялся на крыльцо и вошел в нижние сени. Там на лавке у стены сидел еще один сторож, он встал и сказал сердитым голосом, что где это кого черти носят, после чего велел идти за ним, и Маркел пошел за ним наверх. Там были еще одни сени, но уже светлые и чистые, и на полу был постелен ковер, и тамошние сторожа сидели на мягкой лавке и при виде Маркела не встали, а только один из них спросил, что это ли и есть тот самый Косой. Маркел Косой, сказал Маркел, нажимая на слово «Маркел». На что тот говоривший сторож только пожал плечами, а после велел подождать, а своему товарищу велел сходить узнать, желают ли видеть. И тот как ушел, так после долго его не было обратно, первый сторож сидел себе на мягкой лавке да позевывал, а Маркел стоял как столб в дверях и ждал, что будет дальше. После и первый сторож встал и ушел вслед за вторым, а Маркел остался стоять в том же месте. В другой раз он только бы обрадовался такому случаю, когда можно без всякой помехи вспомнить всё, что за день виделось, и обдумать это со всех сторон, и не по одному даже разу. А тут ничего не думалось! Думалось только одно: что если бы Маркел тогда пошел не сюда, а к Николе, Никола бы его уже надоумил идти к тому Андрюшке, потому что от Андрюшки, чуялось Маркелу, ниточка быстро потянется дальше и вытянется к самому ножу. А тут он только понапрасну время тратит. И так Маркел думал еще немало времени примерно об одном и том же, когда наконец открылась дверь, вышел первый сторож и сказал идти за ним. На этот раз, через еще одни, уже очень богато убранные сени Маркел вошел в уже совсем богатую светлицу (у князя Семена такой тоже не было), где на широкой мягкой лавке сидел боярин Михаил Нагой, одетый по-домашнему в красный татарский шелковый халат. А возле окна стоял, одетый тоже просто, Михаилов брат Григорий. Маркел им поклонился, то есть вначале одному, потом второму, а уже только после поклонился образам. Григорий на это только кашлянул в кулак, а Михаил строго свел брови и сказал: – Слыхали мы про тебя всякое. А ну посмотри в глаза! Маркел посмотрел. – Косой! – громко сказал Михаил. – Ну да ладно. Сейчас выпрямим! – После чего еще строже спросил: – Тебя кто сюда послал? – Государь Феодор Иоаннович, – сказал Маркел. – Брат вашего почившего племянника Димитрия. – Сам знаю, кто такой Феодор! – в сердцах сказал Михаил. Но не удержался и спросил: – Так сам и послал, что ли? Вот сам так тебе говорил, как я тебе сейчас?! – Конечно нет, – сказал Маркел. – Кто я ему такой? Червь ползучий. А это он призвал к себе моего господина, князя Семена Лобанова, из славных князей Ростовских, и сказал ему: Семёнка, а ну-ка дай мне для наиважной службы своего самого наилучшего раба, как его зовут, забыл. Князь Семен сказал: его зовут Маркелом. Царь тогда сказал: давай Маркела. Князь Семен дал, и я поехал. – Хе! – сказал боярин Михаил и посмотрел на своего брата, который тоже усмехнулся, а после опять оборотился к Маркелу и сказал: – А чем ты такой наилучший? – Мне что ни велят, все сделаю. Я на аршин под землю вижу. – Боярин Михаил открыл рот, чтобы сказать, но Маркел сказал быстрее: – Это так только говорится, конечно, а на самом деле я просто везучий, то есть за что возьмусь, все вывезу. Так же и с этим делом будет: я злодея выищу. – Какого злодея? – спросил боярин Михаил. Маркел молчал. – Ведь же, – продолжал боярин Михаил, – боярин Василий говорит, что никакого злодейства тут не было, а что это Митя сам упал на нож и закололся. Или это ты, – сказал он уже громче, – меня за злодея держишь, потому что будто это я велел людям убить Мишку Битяговского?! Так?! – Нет! – сказал Маркел. – Так я не говорил. И боярин Василий тоже не так говорит. Да он и не будет спешить говорить. А он сперва все наверняка вызнает, а уже только после скажет. – Скажет! – сердито сказал боярин Михаил. – Да он все скажет, что ему прикажут. Знаем мы его! А вот тебя пока не знаем! – сказал он дальше и замолчал и стал и вправду очень пристально рассматривать Маркела. Маркел смотрел ему в глаза. Боярин Михаил опять сердито хмыкнул и посмотрел на боярина Григория. Боярин Григорий сказал: – Вы там в своей Москве сидите и ничего не знаете. А мы здесь все видим и слышим. Знаешь, что нам этот паршивый дьяк сказал, когда мы с ним в последний раз виделись?! – Знаю, – сказал Маркел. – Он сказал, что покойный государь царевич покойному государю царю Ивану Васильевичу никакой не законный наследник, а что он гаденыш и что он его задушит. Братья молча между собой переглянулись, а после Михаил тихо спросил: – А ты откуда это знаешь? – Так же все это тогда слышали, – сказал Маркел. – На всю же площадь было сказано. – Ну, сказано! – сказал Григорий. – Зато теперь все молчат. Потому что знают, что боярин Борис Федорович длинных языков ой как не любит! А зато у самого его ого какие руки длинные! Он, из московского кремля не выходя, может здесь любому язык вырвать! Так это или не так? – Так, – сказал Маркел. – Вот так-то! – прибавил боярин Григорий и посмотрел на боярина Михаила. А тот еще посмотрел на Маркела и сказал очень сердито: – Запутал нас Борис проклятый! Околдовал как будто бы! Ведь я же за племянника родного заступался! А теперь хоть ты иди и сам клади голову на плаху. Вот как Борис все ловко вывернул! – Как вывернул? – спросил Маркел. – А очень просто! – вскричал уже совсем в сердцах боярин Михаил. – Люди здесь, пока вас не было, были одни. А вы приехали – они стали другими. И стали совсем другое говорить и делать. И если это не колдовство, тогда что это?! – Оробел народ, – сказал Маркел. – Осатанел, – сказал боярин Михаил. – Этот свинья говорит, что я тогда был пьян, как земля. А когда бы я успел напиться? Мы же тогда только сели за стол, а уже слышим: набат! Так, Григорий? – Так, – сказал боярин Григорий. – Набат! – еще раз повторил боярин Михаил. – И как пошел частить, и как пошел! Я кинулся к окну, смотрю, а ничего не видно! Но я все равно сразу почуял: нет, не то, не пожар это! И в сердце кольнуло: это Митя, думаю. Вот как сразу только про него подумал. И за саблю, за шапку – и в дверь! Прибегаю, а там уже народу, просто не пробиться! Я тогда стал кричать: зарублю! И они расступились, и я подбегаю, и вижу: дядя Андрей стоит и держит Митю, а Марью боярыни держат. И Митя уже не живой, я это сразу вижу. Я кричу: кто это сделал, убью! А мне кричат: это Битяговские, их шайка. – Кто кричал? – спросил Маркел. – Не перебивай! – грозно сказал боярин. – Черт его знает кто, они все на одну рожу! Ага, Битяговские, думаю, а самому кровь в голову так шухнула, что аж темно в глазах. А сабля у меня в руке! И я кричу: где они?! И на толпу! А толпа в стороны. Я одного хватаю, а он вырываться, я второго, а он тоже, но я его уже не выпустил, кричу: где Битяговские?! Тогда сбоку стали кричать: они к стене побежали! А другие – что они за церковь, то есть черт знает что кричат. Тогда я: закрыть ворота! И они побежали закрывать. А я… И тут он сбился, замолчал, потому что начал задыхаться, потому что до этого много кричал. И тут Маркел быстро спросил: – Какие ворота закрыли, передние? – Да, – сказал боярин Михаил, – передние. А что? – А Фроловские как? – спросил Маркел. Боярин Михаил открыл рот, задумался, после весь аж почернел и очень в сердцах сказал: – Эх, мать честная! Про Фроловские я забыл. Вот куда они, скоты, сбежали! А ты голова, голова, – дальше сказал боярин Михаил уже не так сердито. После опять сказал: – Фроловские! Вот что тогда было! – Что? – спросил Маркел. – Да не могли мы их нигде найти, вот что! – опять очень в сердцах сказал боярин Михаил. – Избегали весь двор, а их нет нигде, вот что! А они, оказывается, вон куда сбежали, через Фроловские. Головастый ты, как тебя звать, забыл, но головастый! И боярин Михаил опять задумался. Маркел осторожно спросил: – А что дальше? – А дальше этот пес приехал, – сказал боярин Михаил. – И ему открыли. И он вошел. Под горячую руку! Ну, и… – боярин Михаил поморщился. – Ну, и не удержался народ, порвал его в клочья. – Вот так сразу порвал? – спросил Маркел. – Нет, зачем сразу! – грозно сказал боярин Михаил. – Он сперва еще сказал: что, Мишка… Это он мне «Мишка», будто он меня крестил!.. Что, Мишка, бунтуем? и опять бельмы залил? в Москву неймется? так я тебя в Москву отправлю в железных оковах, будешь знать, как бунтовать! А я ему: свинья, опомнись, чего ты мелешь, какой бунт, Митю зарезали, вот что! А он: это вы его нарочно зарезали, чтобы мне досадить. Вот что он мне тогда сказал! Так кто был пьян тогда: я или он? Ну, я и сказал тогда… Но что он тогда сказал, Маркел так и не услышал, потому что боярин Григорий сказал первее: – Миша! И боярин Михаил опомнился и промолчал, зорко, грозно глянул на Маркела, а после сказал: – И я сказал: ох, дьяк, с огнем играешь, ох, на уголья дуешь, дьяк, ох, как бы… А он тут давай кричать, что бунт бунтуете, собачьи дети, кто вас сюда звал, разойдитесь, пока с вас шкуру не спустил! И саблю выхватил. Ну а народ: ага! И на него! И разве тут уже кого остановишь?! Ну и стали его рвать. И как мы с Гришей и с дядей Андреем, а он тут же рядом был, как мы на них ни кричали, они не унялись, покуда до конца его не кончили. Нет, даже еще не кончили, а уже к нам туда бегут в ворота и кричат, что младший Битяговский и его приятели заперлись в дьячей избе и что айда теперь на них! И они все туда сразу. И там взяли Данилку Битяговского и Никитку Качалова и с ними еще Третьякова Данилку, это тоже был их человек, и еще двоих кого-то, по именам не помню, и только Оськи Волохова нет нигде! А резал Оська! И вдруг бегут, кричат: Оська забежал в Спас и там схоронился, бегите к Спасу! Прибежали. А что дальше? Потому что как из Спаса выведешь, это же святое место! И тогда отец Степан пособил, он же там служит, вошел туда и вывел Осипа, и Осипа тоже порешили. Осипа особенно решили, Осип же был главный, Осип же резал. – А кто это видел, что он? – спросил Маркел. – Как кто! – сказал боярин Михаил. – Все видели. Ну, – спохватился, – не все, конечно, но все же слышали, как Осип кричал, что не убивайте, православные, винюсь… А видел Максимка Кузнецов, и ему это по службе положено, Максимка был тогда на колокольне Спасовской, и оттуда видел, как они подошли и как Никитка взял Митю за ворот, аОсип ножом ударил. И Максимка ударил в набат. И мы все сбежались, и Максимка об этом и тогда кричал, и нам после рассказывал, поэтому все это знают. – А здесь его сейчас боярин Василий спрашивал? – спросил Маркел. – Я этого не знаю, – сказал боярин Михаил даже с некоторою неприязнью. – Мне до этого нет дела. Это Васильево дело, это Василию поручено. – Ага, ага, – сказал Маркел. После спросил: – А что было раньше: Максимка ударил в набат или Петруша в голос закричал? – Я этого тоже не знаю, – сказал, уже в сердцах, боярин Михаил. – Я тогда здесь был, у себя. Я на колокольне не стоял! – Ага, ага, – опять сказал Маркел. После сказал: – А другие еще говорят, что государь царевич сам зарезался. – Другие пусть что хотят говорят, – сказал боярин Михаил, – им после за это ответ держать. А я говорю как было. – А еще, – сказал Маркел, – говорят, что у царевича была падучая. Была? – Раньше не было! – сказал боярин Михаил очень сердито. – Ведь не было, Гриша? – Не было, – твердо сказал боярин Григорий. – Покуда эти скоты не приехали, не было. А приехали и навели. Испортили Митю, вот что! – Испортили, испортили! – еще грозней сказал боярин Михаил. – Как Маша убивалась, как слезы лила! И чем только мы его не лечили, каких только шептух не водили! – И шептунов! – сказал боярин Григорий. – И шептунов, – сказал боярин Михаил. А как же! А дитя сохнет и сохнет. – А что за нож у него был? – спросил Маркел. – Нож? – переспросил боярин Михаил. – Какой нож? – А которым он тогда зарезался, – сказал Маркел. И тут же быстро добавил: – Или каким его зарезали. – А! – грозно воскликнул боярин Михаил. – И ты туда же, пес! Не знаю я никакого ножа! Пошел вон! – Миша, Миша! – воскликнул боярин Григорий и сделал знак Маркелу, чтобы тот не уходил. – Миша, чего ты кричишь?! Человек по делу спрашивает, у человека такая служба. – И продолжал, уже оборотившись к Маркелу: – Был, говорят, нож. В траве лежал. Очень красивый, просто загляденье. Я у Маши спрашивал, у государыни Марии Федоровны: Маша, что это за нож был такой? А она говорит: я не знаю, никакого такого ножа я у Мити не видала. А нож там был! А после пропал. Унесли его их люди, там же их людей было немало, и унесли они его обратно к себе на подворье и спрятали. И я тогда велел Ваньке Муранову: идите и найдите его там хоть бы и из-под земли. И они пошли и всё подворье разграбили, а принесли палицу, самопал, ножны от сабли и два ножа не тех. Я говорю: а где тот?! – А ты, боярин, его видел? – спросил Маркел. – Видел как будто бы, – сказал боярин Григорий. – Да не до ножа мне тогда было. А после, когда он пропал и эти принесли не те ножи, я говорю: ищите, дурни, вот такой нож: че́рен весь в самоцветах, а лезвие огнем горит, вот как на мой похожий. А у меня был нож, отцов подарок, а тут я его этим дал и говорю, что это вам для примера, идите и ищите еще раз. Только они обратно к Битяговским уже не пошли! А пошли на торг, купили курицу, зарезали ее моим ножом, нож стал весь в крови, и они отнесли его в ров и вложили старому Битяговскому в правую руку. Будто это он моим ножом Митю убил. Ну не уроды ли?! – А дальше что? – спросил Маркел. – А дальше вы приехали, – в сердцах сказал боярин Григорий. – Ну, еще не вы, а ваши первые стрельцы. И что, было мне при них уже лезть в ров или кого в ров посылать, чтобы после Бориска Татарин на всю Москву орал, что мы тут все совсем ума лишились?! Ну уж нет! Правда и так наверх выйдет. Ведь выйдет же? – Выйдет, – сказал Маркел не очень уверенным голосом. – Вот то-то же, – сказал боярин Григорий тоже так же. После еще сказал: – Ладно, время уже позднее, пора нам за стол садиться. А ты иди пока! – и ласково махнул рукой. Маркел поклонился братьям, после поклонился образам и вышел.14
Маркел сошел с крыльца, прошел еще немного и остановился. Почти прямо напротив него стоял тамошний Спасский собор, в котором, как только что рассказывал боярин Михаил, прятался Осип Волохов, думал, что он там спасется. А поп Степан пришел за ним и вывел его к людям, и люди с ним посчитались. Если, конечно, было за что с ним считаться, тут же подумал Маркел и посмотрел направо, на передние ворота, которые вели на внутренний царевичев двор, и там, на том дворе, царевича убили. От ворот до собора было не очень далеко, саженей с полсотни, это пробежать недолго, подумал Маркел. Но, тут же подумал он дальше, если передние ворота были тогда уже закрыты, то Осип должен был бежать из-под той яблоньки сперва к Фроловским воротам, а там по мосту через так называемый Каменный ручей на так называемую Конюшенную слободу, а оттуда давать здоровенный крюк по посадам и опять забегать в кремль, но уже через Никольские ворота, и прятаться в Спасе, вот как! Подумав так и еще это представив, Маркел сдвинул шапку, почесал затылок и подумал, что далековато что-то получается и трудно в такое поверить. После чего поправил шапку и посмотрел на Спасовскую колокольню, снизу до самого верху, и еще сильней задумался. А после посмотрел на сам собор. Там входная дверь была открыта и было видно и слышно, что там идет вечерняя служба. Маркел перекрестился и пошел к собору. Возле собора, на приступочке, сидел еще нестарый человек, который, завидев подходившего к нему Маркела, встал. Маркел, остановившись перед ним, спросил: – Это ты Максимка Кузнецов? – Нет, – робко сказал тот человек. – Я Венька Баженов, а Максимка завтра заступает. – А где он сейчас? – спросил Маркел. – Спит дома, что еще, – ответил Венька. – Ага, – сказал Маркел, – ага. После велел: – Сведи меня на каланчу. – Э! – сказал Венька испуганно. – Я не могу. Мне надо здесь присматривать. Ты сам иди, чего тебе. И в самом деле, подумал Маркел, и пошел, открыл калитку, зашел за оградку и только тогда увидел, что возле лестницы на колокольню стоят два стрельца. Маркел им сказал: – Здорово живем, ребятки. Мне надо наверх. – И показал овчинку. Стрельцы расступились. Маркел стал подниматься по лестнице. Лестница была крутая, тесная, а сама колокольня высокая, саженей в двадцать, не меньше, так что Маркел запыхался, покуда на нее взобрался. Зато смотреть оттуда сверху вниз было очень способно: Маркел видел и Авласкино, и Битяговское подворье, и кабак, и заволжскую Тетерину слободу, и уже с этой стороны Конюшенную, а за ней дальше, уже даже за городским валом, Янову, и еще много чего другого. А вот зато сам внутренний царевичев двор был виден плохо, потому что с ближней стороны половину его закрывали каменные так называемые Тронные палаты царевичева дворца, а дальше самый дальний угол был не виден из-за старой Константиновской церкви. Так же и другие разные постройки тоже лучше не стояли бы, думал о них Маркел, внимательно рассматривая внутренний царевичев двор. Хорошо еще, думал он дальше, что хоть то самое место, где та великая беда случилось, было видно хорошо. Так что вполне такое могло быть, что Максимка Кузнецов отсюда, сверху, видел, что же там тогда сотворилось. И завтра его надо будет привести к кресту, а после при всех спросить, с жаром подумал Маркел, и опять стал смотреть сверху вниз на тот угол двора, где ровно неделю тому назад, даже уже больше, еще в полдень, государь царевич Димитрий Иванович пришел туда живым и невредимым, а обратно его унесли неживым. Так что же там тогда случилось в самом деле?! Вот о чем тогда думал Маркел, и стоял, и смотрел еще и еще. А после стал смотреть и по другим сторонам, особенно на пролазные Фроловские ворота, которые оттуда, сверху, тоже были видны очень хорошо, и через них сновал народ по мосту через ручей туда, где на самом берегу реки, то есть Волги, стояли одна за другой три, пять, семь царских конюшен. А перед конюшнями стояла слобода, где, вспомнил Маркел, в первом доме с краю живет некто Андрюшка Мочалов, который умеет славно чистить хлебное вино. И кому, как не ему, тут же подумал Маркел, держать тайную корчму?! Вот кого сейчас бы стоило проверить, подумал Маркел дальше, поправляя шапку и поворачиваясь к лестнице. И с этой мыслью он быстро спустился вниз, так же быстро миновал стрельцов и через открытые передние ворота прошел дальше, к таким же открытым Фроловским, а через них взошел на мост через сказанный Каменный ручей, перешел через него и оказался в тоже уже неоднократно сказанной Конюшенной слободе. Там сразу начиналась улица. Маркел решил брать налево, потому что он же шел по нечистому делу, и там, по левую руку, в первом же подворье, подошел к высоченным воротам и постучал в них в колотушку. Никто не шел открывать и даже голоса не подавал. Тогда Маркел еще раз постучал. А после еще раз. И еще. Тогда с противной, правой, стороны открылись ворота, из них вышел человек и спросил, кому кого нужно. Маркел сказал, что Андрюшку. Э, сказал тот человек насмешливо, его уже который день ищут, а его нет. И нечего, прибавил этот человек уже сердито, здесь шуметь. Винюсь, сказал Маркел, и даже взялся за шапку, но снимать ее все же не стал, а развернулся и пошел обратно. Брешет этот человек, думал Маркел, усмехаясь, никуда Андрюшка не сбегал, иначе где бы это Авласка вчера выпил, как не здесь, а если люди брешут, то это не зря, то, значит, здесь надо искать – и непременно что-нибудь найдешь, и даже не только тайную корчму! Вот о чем тогда думал Маркел, опять поднимаясь на мост через опять сказанный ручей. А проходя обратно через тоже уже сказанные Фроловские ворота, Маркел уже совсем в сердцах подумал о том, что день уже совсем кончается, солнце садится, а он за все это время ничего не ел, только в обед горелого вина на три пальца отведал, когда был в кабаке, а псы-бояре хоть бы коркой хлеба его угостили, так нет же! То есть вот с какими мыслями Маркел тогда вошел к себе, то есть в ту бывшую холопскую. Но, правда, и там никто не собирался его потчевать, потому что там давно уже перекусили и им даже стол уже прибрали, и теперь они на нем играли в зернь на запись. Играли Яков, Илья, Иван, Варлам и Овсей, а Парамон уже лежал у себя и, может, уже даже спал. А Вылузгина не было совсем. Ну да Вылузгин, подумал Маркел, садясь на свою лавку, и так слишком часто сюда заворачивал, слишком много здешним местам чести. Подумав так, Маркел посмотрел на подьячих, которые продолжали играть в зернь и при этом еще делали вид, будто они так увлеклись, что даже не заметили его прихода. Значит, им хвалиться совсем нечем, подумал Маркел дальше, ничего они сегодня интересного не вызнали, а ножа тем более не отыскали, хоть вчера и хвалились. Маркел спросил: – Вы что, уже поели? – Давно, – сказал Яков, закладывая кости в кожаный стаканчик. – А ты где так долго был? – сказал он дальше не поворачивая головы и бросил кости. Кости упали чиквой, то есть по два зерна на каждой. Яков поморщился. Маркел молчал. Яков передал стаканчик Овсею и, повернувшись к Маркелу, сказал: – Сходи на поварню, там возьми, пока там еще не закрылись. – А ко мне никто не приходил? Никто меня не спрашивал? – спросил Маркел. – Ефрем с клещами приходил, – сказал вперед Якова Илья, и за столом недобро засмеялись. – Цыть, ироды! – прикрикнул на них Яков и только уже после ответил: – Нет, никого не было. А кого ты ждал? – Да никого как будто бы, – сказал Маркел, встал и сказал, что надо и в самом деле сходить на поварню, и вышел в дверь. А там спросил у сторожа, куда надо идти, и пошел туда, куда сказал сторож. Дальше Маркел шел и думал, что Авласка не пришел к нему, хоть он ему и наказывал. Не то чтобы Авласка был ему нужен, думал еще дальше Маркел, а просто, думал, как бы это ему, то есть Авласке, местные не накостыляли по шеям за то, что он опять снюхался с московскими. А то и вообще как бы они его не закололи бы насмерть для пущей для других острастки. Вот о чем он тогда думал, пока шел на поварню. А на поварне уже почти никого не было, был только кухарь и его жена, толстая злобная баба, которая с очень большой неохотой, и то только когда кухарь на нее уже прикрикнул, поднесла Маркелу стылых щей и хлеба два ломтя и квасу. Маркел поискал ложкой в миске, но мяса не нашел и рассердился. Ел и думал: как в тюрьме. Кухарь ушел куда-то по своим делам, а его жена не уходила, стояла, сложив руки на груди, и смотрела прямо на Маркела, наверное, хотела его сглазить, то есть чтобы он хотя бы поперхнулся, а еще лучше подавился бы. Маркел терпел это, терпел, а после перестал терпеть, посмотрел на эту бабу и сказал: – Чего так на меня смотришь? Хочешь чего сказать? Или назвать кого? Или сама повиниться?! – Чего? – переспросила нараспев эта баба очень сердитым голосом. – Повиниться, говорю, желаешь? – строго спросил Маркел, облизывая ложку. – Ты Битяговского убила, а?! Кочергой по голове! Ты, говорю?! – Ирод! – сказал баба очень гневным голосом. – Что ты такое плетешь?! Тьфу! Да не стану я с тобой язык чесать! – Э! – сказал Маркел уже намного веселей. – Это будет не тебе решать! А вот скажу, чтобы тебя завтра к кресту подвели, и подведут! И поцелуешь его! И будешь язык чесать, как говоришь, или Ефрем его тебе почешет! Потому что целовала крест и молчать не моги! – Крест! Целовать! – громко вскрикнула баба. – Это вы можете, московские! Совсем там в своей Москве последний стыд потеряли! Малых детей заставили крест целовать! Да где это такое видано, чтобы малые крест целовали?! Даже при покойном государе, до чего уже крут был, и то такого не было! – Но, но! – грозно сказал Маркел. – Много ты себе позволяешь, негодная баба! Не тебе это решать! А сказано, что целовать, и поцелуют! А то, что малые целуют, ну и что? Они что, разве не крещеные, им это что, не в радость крест поцеловать? А то, что малые, так ведь и малое дитя убить – это тебе было как?! А кто-то же убил! И затаился! И нет его нигде! А государь в Москве, старший брат вашего царевича, благоверный и христолюбивый государь Феодор Иоаннович мне, провожая сюда, говорил: грех, Маркелка, а меня зовут Маркел, грех, Маркелка, деток к кресту приводить, да только привести всех всё равно, только дознайтесь до правды! Вот чей это завет, понятно, баба?! – грозно закончил Маркел. И вдруг еще быстро прибавил: – Дай мяса, пока сама жива! Баба аж вздрогнула, но покорилась, пошарила сбоку в печи и подала Маркелу еще одну миску, еще теплую, и в ней был кусок мяса с гречневой кашей. – Вот! – радостно сказал Маркел. – Давно бы так. – И заулыбался, и так, продолжая улыбаться, он сперва съел мясо с кашей, после доел щи, после допил квас, а оставшийся хлеб взял с собой и, уходя, еще подмигнул той бабе, которая на него уже не смотрела, потому что ей это было противно. А Маркел в очень веселом виде вернулся к себе, снял сапоги, лег на свою лавку и стал поглядывать на стол, а там продолжалась игра. Было уже не так светло, как раньше, зерна были видны уж не так хорошо, и поэтому за столом то и дело начинали спорить, сколько зерен выпало, и уже даже начали нет-нет да один на другого покрикивать. Маркелу это скоро надоело, и он сказал: – А говорят, что есть тут один человек, который сам видел, как Осип Волохов зарезал царевича, вот как! Эти за столом сперва просто замерли, а после переглянулись между собой, и тогда уже Яков сказал: – Это Максимка Кузнецов, так, что ли? – Ну, так, – сказал Маркел почти с досадой. – Так про него кто не знает! – сказал Яков. – И он у нас на завтра записан. Завтра увидишь, что он видел, – сказал Яков дальше, а сам взял в руку стаканчик. – Приведем к кресту, и там увидим. А нет – укоротим язык! – И бросил кости, и аж засмеялся, потому что очень славно выпало, так называемое «с пудом», то есть шесть и пять. Вот какая там тогда пошла игра, то есть никому сразу не стало дела ни до самого Маркела, ни до его слов. Так же и Маркел больше ничего не стал говорить, а просто лежал на лавке, положив шапку под голову, и думал о том, что он за тот день нового услышал. А после встал, вышел во двор до ветру, а после вернулся и по дороге, в сенях, взял у сторожа тюфяк и полушубок накрыться, после чего сложил себе добрую лежанку и спал, как малое дитя, до самого рассвета крепко-крепко.15
Назавтра была Троица, то есть воскресенье и праздничный день. Но розыска никто не отменял же. Да и какого розыска! Поэтому они утром поднялись и, помолясь, перекусили, а после сразу пошли к красному крыльцу, к столам. Народ там уже стоял, собравшись, и там же уже были люди Битяговского – это из тех, которых тогда не убили. Тогда они поразбежались кто куда и кто где попрятались, а вот зато теперь важно расхаживали взад-вперед и грозно поглядывали на толпу. А толпа робко помалкивала. Там же были и стрельцы, десятка с три, не меньше, и там же был их стрелецкий голова Иван Засецкий, который, завидев Маркела, благостно кивнул ему, а Маркел также кивнул ему в ответ. Илья с Варламом сели с краю левого стола и приготовились записывать. Маркел встал там же, рядом. Сверху робко зашумели и задвигались. Это, посмотрел Маркел, из терема вышли Шуйский с Вылузгиным (а Клешнина тогда не было) и стали спускаться к столам. Стрельцы же стали оттеснять народ, и ближние бы оттеснились с радостью, да шибко напирали задние, поэтому стрельцам пришлось непросто, но они все же пересилили и оттеснили народ. Шуйский с Вылузгиным сели, пошептались, после Вылузгин обернулся и почти неслышным голосом обратился к стоявшему у него за плечом Якову. Яков кивнул и велел подать Максимку Кузнецова – это было уже слышно сказано. Да и тут еще Овсей громко называл его: – Максимка Дмитриев сын Кузнецов, есть такой здесь?! Из толпы вышел высокий худой человек очень испуганного вида и сказал, что это он. Овсей поманил его. Максимка подошел к столу. Парамон дал ему крест, и Максимка сперва приложился к нему губами в самое скрещение (а не в подножье или мимо, как иные порой делают), а после приложился правым глазом, после левым, и только уже после сказал, что он, Максимка, целовал сей крест сам за себя без принуждения и в этом иске в первый раз и что как истинный Бог свят, так и чисты будет слова его, ну и так далее, и после отдал крест. Тогда Вылузгин спросил, кто он такой и как он здесь оказался. На что Максимка ответил, что он Максимка Дмитриев сын Кузнецов и что он служит сторожем в здешней церкви Преображенного Спаса. Тогда Вылузгин спросил: – А где ты был, Максимка, когда эта ваша здешняя беда тогда случилась? – Здесь же и был, – сказал Максимка. – На дворе. – И что ты видел? – спросил Вылузгин. – Вижу, идет Суббота Пропотопов, идет очень быстро, прямо на меня, и кричит: ты почему, скот, не на месте? А ну беги к себе и бей в набат! И я побежал. И ударил. Вот что сказал тогда Максимка. Маркел растерялся. Как же так, подумал он, боярин же вчера совсем не это говорил, и посмотрел на Вылузгина. А Вылузгин смотрел на Маркела, и теперь он ему подмигнул, непонятно, с каким смыслом, и опять повернулся к Максимке, и грозно спросил у него: – А почему люди говорят, что ты тогда был наверху и все оттуда видел?! – Что видел? – спросил Максимка. – Ну, – сердито сказал Вылузгин, – видел, как царевича не стало. – Нет, – сказал Максимка довольно твердым голосом, – я этого не видел, Христос миловал. Я же внизу тогда был, говорю. Здесь, во дворе. А Суббота подошел и говорит: звони, скотина. И я побежал звонить. – О! – сказал Вылузгин. – Вот как! Вот, значит, кто всему зачинщик! Вот кто народ взбаламутил! Ефрем! Из толпы вышел Ефрем, он, как всегда, был в красной шелковой рубахе и, как всегда, усмехался. Максимка, как только его увидел, очень сильно побелел и быстро-быстро сказал: – А почему я? Почему? Мне Суббота приказал! Сказал: царевича убили, бей в набат! И я ударил, а как же! – А! – сказал Вылузгин. – Суббота! Ладно! – и грозно приказал: – Подать сюда Субботу! Но, как быстро объяснилось, Субботы Протопопова в толпе не было, он, как о нем сказали, остался дома. Вылузгин тут же спросил, где живет Протопопов, ему это назвали, и Вылузгин послал туда стрельцов. И, пока искали Протопопова, Вылузгин начал опять расспрашивать Максимку, и очень подробно, о том, где он тогда стоял, когда увидел Протопопова, и что тот ему сказал, и что он ему ответил, и в чем был одет Протопопов, и были ли на небе тучи, и когда он сошел с колокольни, кто ему это позволил, далеко ли с колокольни видно и так далее. То есть, думал Маркел, слушая все это, Вылузгин пытается запутать Максимку, а тот никак не путается. И Маркел стоял и ждал, когда приведут Протопопова. Так же и Илья с Варламом ждали Протопопова, а этого расспроса не записывали, потому что а чего было записывать, нечего. И толпа тоже стояла, скучала. И Шуйский скучал. Но вот привели Протопопова, кормового дворца стряпчего, так он назвал себя, когда крест целовал, после чего сказал, что это не он велел бить в набат, а в набат тогда уже и без него били, а он бежал туда спросить, с чего это вдруг бьют, как вдруг видит, что Максимка стоит снизу, а сверху, с его колокольни, кто-то бьет в набат. Вот тогда он и сказал, а может, даже крикнул, что Максимке надо посмотреть, кто там на его колокольню забрался и так недобро безобразничает. Вот что сказал Суббота Протопопов! То есть еще сильней запутал! Шуйский ничего на это не сказал, а только поднял руки и осторожно взялся ими за голову с обеих сторон. Зато Вылузгин не выдержал и закричал: – Что ты несешь, скотина?! Ты же что мне вчера говорил?! Что тебе боярин Михаил велел сказать бить в набат и ты побежал велеть! Так было, нет?! – Так, – сказал Суббота Протопопов вялым голосом и опустил руки. – Вот! – сказал на это Вылузгин. – Так уже лучше. А теперь скажи другое: если боярин Михаил велел тебе велеть бить в набат, значит, в набат тогда еще не били? – Ну! – сказал Суббота. – А как же ты тогда, – продолжил Вылузгин, – начал кричать на Максимку, что зачем он позволяет бить в набат, когда в набат еще никто не бил?! – И, поворотившись к Максимке, спросил уже почти что тихим голосом: – Когда он к тебе пришел, у тебя на колокольне в набат разве били? – Били, боярин, винюсь, – отчаянно сказал Максимка. – Тьфу! – только и сказал на это Вылузгин и посмотрел на Шуйского. Шуйский молчал и смотрел на народ. Народ тоже молчал – подавленно. Тогда Вылузгин даже привстал за столом и, обращаясь к народу, спросил: – Где Огурец? Где отец Федор Огурец, я спрашиваю! В толпе пошептались и сказали, что за отцом Федором сейчас пойдут. И побежали. А Вылузгин пока громко сказал: – Отец Федор говорил, что это он первым звонил. Что ему сказали, что царевича зарезали, и он побежал звонить. Сказав это, Вылузгин поднял руку и утер пот со лба, хотя утро было не такое уже и жаркое. Но зато скоро стало очень жарко! Потому что когда привели отца Федора, или, как он себя назвал, вдового пономаря царя-константиновской церкви (той самой, что на внутреннем дворе), то он сказал, что о том, что государя царевича не стало, ему сказали конюхи братья Григорьевы, и он побежал звонить, хотя и так уже звонили. Тут все сразу оживились, даже уже начали посмеиваться над тем, что, мол, сейчас опять начнут искать того, кто первым ударил в колокол, а он, может, сам зазвонил… Но тут Вылузгин уже не выдержал и громко выкрикнул: – Э! – А после сразу прибавил: – Не надо колокол! Подать сюда Григорьевых! Где Григорьевы?! А ну! И из толпы мало-помалу вытолкали двоих уже крепко перепуганных посадских, которые сразу, еще до креста, назвались один Данилкой, а второй Мишкой Григорьевыми, только они были не братья, а Мишка был отец, а Данилка его сын. И только им было сказали подойти к кресту… Как вдруг из толпы выскочил весь просто красный от гнева человек (как после узнали, Степанко Корякин) и во весь голос закричал: – Хватайте их, подлых злодеев! Это они меня убили! А господина моего Михайлу Битяговского убили совсем до смерти! Хватайте! И стрельцы Григорьевых схватили. Да эти Григорьевы от них и не вырывались, а молча терпели, когда их, хватая, били. И это битье, может, продолжалось бы еще довольно долго, но тут Шуйский грозно воскликнул: – Хватит! А ну, кому сказал, оставьте их! И стрельцы почти сразу их оставили. И эти Мишка с Данилкой, то есть отец с сыном Григорьевы, встали с земли, отряхнулись, народ тем временем притих, и они тоже молчали. Тогда Шуйский поворотился к Степанке Корякину (а он по-прежнему стоял впереди толпы и очень гневно смотрел на Григорьевых) и велел ему сказать, кто он такой и на кого он говорит и что. А Парамон тем временем (так ему Вылузгин кивнул) подал Степанке крест. Степанка приложился к кресту и сказал, что он Степанка Корякин, пищик покойного разрядного государева дьяка Михайлы Битяговского, и он указывает на отца и сына Григорьевых, которые сейчас перед ним стоят (и тут он и в самом деле указал на них рукой), и говорит, что старший Григорьев, Мишка, начал первым бить Михайлу Битяговского, а младший Григорьев, Данилка, сказанного Битяговского уже добил до смерти, а после еще пошел к тому же Битяговскому на двор и там взял саадак, да саблю булатную, да двух лошадей, и все это он, Степанка Корякин, своими глазами видел, а теперь в этом целует крест – и опять его поцеловал. После чего повернулся к Григорьевым и гневно на них посмотрел. Григорьевы, отец и сын, молчали. А Ефрем тоже смотрел на них и усмехался, и уже даже руки потирал. А руки у него были страшнющие! Но тут Вылузгин сказал, обращаясь к Григорьевым: – А вы чего молчите? Отвечайте! Или отвечать вам нечего?! Но старший Григорьев, Мишка, молчал по-прежнему и даже головы не поднимал. Зато младший сорвал с себя шапку, бросил ее об землю и в сердцах воскликнул: – Брешет он, собака! Не брал я сабли! И саадака я не брал! И Михайлу Битяговского не убивал! Его до нас уже убили, он уже мертвый лежал, когда мы туда прибежали! И коней мы давно уже вернули! Как боярин Григорий велел, так и вернули сразу. Идите у него спросите! – Ага, ага! – воскликнул Вылузгин и еще даже подмигнул Маркелу. И дальше продолжил: – Раз вернули, значит, сперва взяли! Так? – Был грех, – сказал Данилка и тяжко вздохнул. – Был! – повторил Вылузгин. – Славно! А Битяговского не вы убили. А кто? – Они, они! – гневно воскликнул Корякин. – Молчи! – приказал ему Вылузгин. – Под кнутом будешь кричать, а пока что молчи! – И, опять повернувшись к Данилке, спросил: – Так кто убил? Ты видел? А то все говорят, что ты! – Не я, вот вам истинный крест, – сказал Данилка и истово перекрестился. И так же истово добавил: – А кто его убил, не знаю. Там же людей было много. – Виляешь, значит, ты, – сердито сказал Вылузгин и еще сказал: – Ефрем! Ефрем выступил вперед и начал закатывать рукава. Данилка выкрикнул: – Не я его! Не я! А я только его младшего в дьячей избе! Вот это было, верно, – и еще раз перекрестился. – Как это в дьячей? – спросил Вылузгин. – Данилка! – закричал старший Григорьев. – Опомнись! – Э, э! – поворотившись к нему, грозно сказал Вылузгин. – С тебя мы шкуру еще снимем, придет и твой черед! А пока помолчи! – И сказал Засекину: – Иван! Стрелецкий голова Иван Засекин замахал руками, и к старшему Григорьеву тут же подскочили двое дюжих стрельцов и крепко скрутили его. Вылузгин сказал Данилке: – А ты говори, говори, я слушаю. Так кого ты где убил? – Так не я один! – сказал Данилка. – Это ничего, не бойся, – сказал Вылузгин. – Всех возьмем, никого на воле не оставим. Говори, как оно было! Ну! И Данилка, то и дело заикаясь и сбиваясь, стал рассказывать: – Мы с батюшкой у себя на подворье тогда были. Как вдруг слышим: набат! Мы подумали, пожар, и побежали. Прибегаем, а тут вот что. Государев дьяк уже лежит убитый и все кричат, что давайте бить дальше, давайте отпирать ворота. – А как тогда вы прибежали, – спросил Вылузгин, – если ворота были закрыты? – Так это передние были закрыты, – сказал Данилка, – а Фроловские нет. А мы живем прямо напротив Фроловских, нам это близко. Да и через Фроловские все тогда бежали, весь народ. Вот это верно, подумал Маркел, они все побежали туда, а злодей обратно. А Вылузгин тут же сказал: – Это теперь ясно. А дальше вы как? – А дальше, – продолжал Данилка, – мы с заднего царевичева двора выбежали на передний двор, через передние ворота, а там уже кричат, что младший Битяговский, и с ним Никитка Качалов, заперлись в дьячей избе и их надо убить, потому что это они убили царевича. И мы стали рваться в дьячую избу. Сказав это, Данилка опять замолчал. – Так, – сказал Вылузгин, – и это тоже ясно. Это вы с отцом вдвоем стали рваться в дьячую избу, а после, когда ворвались, всех, кто там был, поубивали, так? – Помолчал и еще раз сказал: – Ты да твой батюшка, так? – Нет, – медленно сказал Данилка, – не так. Нас там много было. – Сколько? – спросил Вылузгин. – Ну, может, не считал, – сказал Данилка так же медленно, – но сотни три, четыре будет. – И осмотрел толпу. Толпа подалась от него. Вылузгин аж потер руки и сказал: – Так, так! А чем вы дверь в дьячей избе высаживали? Там же она крепкая была, дубовая! – Так у кого что тогда было, – сказал Данилка. – Кто с топором прибежал, кто с дубьем. А кто и с копьем. – А с саблями, с ножами были? А с самопалами? – еще дальше спросил Вылузгин. – Были и так, – сказал Данилка. – О! – сказал Вылузгин и повернулся к Шуйскому. – О как! Как я и говорил! И как и Борис Федорович тоже! – И повернувшись к толпе, сказал: – Бунт! И это в такой день! На Троицу! Как вам не совестно! – и головой покачал. Все молчали. Вылузгин, немного подождав и посмотрев в листы к Илье с Варламом, что они там и как записывают, и даже там-сям пальцем указав на что-то, опять повернулся к Данилке и сказал теперь уже такое: – Ладно. А теперь называй прямо, кто тогда с тобой был рядом. Ну! Данилка помолчал, потом сказал не очень громко: – Тихон Быков. – Так! – сказал Вылузгин. – Тимошку Быкова сюда! – и указал куда, то есть к столу. В толпе началась суета, там хватали Быкова, а Быков вырывался. А Вылузгин уже сказал: – Так, дальше! Ну! – Полуэхтов Степан! – уже в отчаянье сказал Данилка. – Микитка Гунбин! Васятка Ляпунов! А больше не упомнил! – Ладно, ладно! – сказал Вылузгин. – Сейчас Быков тебе поможет! А Быкова уже вели к столу. Это был маленький невзрачный человек, но Вылузгин воскликнул: – Зверь какой! Прямо будто Кудеяр-разбойник! А ну, Быков, признавайся, кто там еще с вами был! А то сейчас Гунбин выйдет и первым скажет, и его отпустим, а тебя на кол посадим! Быков, хочешь на кол?! Быков молчал и только головой мотал, что не хочет. Вылузгин радостно щерился, Ефрем похрюкивал, и даже Шуйский начал улыбаться. – Брехня это, – тихо сказал стоявший рядом с Маркелом посадский. – Казнить на Троицу нельзя. Даже пытать нельзя. И даже просто если воскресенье, и то пытать нельзя, таков царский указ, потому что грех это, вот что! И это правда, подумал Маркел, ну так они до завтра подождут, им это недолго ждать, и начал мало-помалу отступать и выходить из толпы, потому что, он подумал, сейчас им уже наверняка будет не до царевича, сейчас они будут бунт раскрывать, а его послали не по бунт, а по царевичу, и он это крепко помнит.16
Выйдя из толпы, Маркел опять остановился и задумался о том, что же ему теперь делать. На расспросе, подумал он еще раз, теперь будут толочь только одно и то же – бунт, потому что их, может, сюда и посылали только для того, чтобы они искали бунт, и вот они его нашли, и им это очень радостно, а ему до этого нет никакого дела, ему же ясно было сказано, что он должен узнать, как и от чего преставился царевич. И он это узнает, и еще как доподлинно, подумал Маркел еще дальше, только, подумал он опять, нужно еще раз допросить Петрушу Колобова и напрямую спросить у него, почему он не помог тогда царевичу или ему тогда кто помещал, пусть ответит! И также пусть Василиса Волохова напрямую ответит, что она там тогда делала, почему ее никто туда не звал, а она там оказалась или ее черт принес – пусть тоже напрямую скажет! И также государыня пусть скажет, почему она тогда, как только увидела царевича, назвала этих троих, а не кого-нибудь другого, почему?! Хотя, тут же подумал Маркел, это так только думать легко, а как он такое у царицы спросит? Хотя а куда деваться, надо спрашивать, а иначе ничего узнать нельзя. Подумав так, Маркел даже вздохнул и еще раз осмотрелся. Возле красного крыльца поверх голов толпы слышался сердитый голос Вылузгина, а сама толпа стояла смирно. А дальше, это уже возле так называемого золотого крыльца, прямо напротив Спаса, стояли стрельцы, это уже другие, и их там было с полсотни, не меньше, и там же с очень важным видом прохаживался стрелецкий голова Иван Засекин. Маркел подумал и пошел к нему. Когда он подошел туда, стрелецкий голова спросил: – Что, там тебе уже наскучило? Или уже всех поймали? – Всех, да не всех, – сказал Маркел. – Если бы всех, ты здесь бы не стоял. – С чего это?! – строго сказал стрелецкий голова. – С того, – сказал Маркел, – что ты же здесь не зря стоишь, а кого-то от кого-то защищать собрался. – Ну, не защищать, – сказал стрелецкий голова, – а чтобы под ноги не лезли, это точно. – Государыне? – спросил Маркел. – Ей самой, – сказал стрелецкий голова. – Сейчас же служба начинается. Троица! Радость какая! А вы там глотки рвете. Грех это. – Грех, – согласился Маркел. – Грех. И повернулся к куполам. И вовремя – с колокольни начали бить благовест. Венька Баженов бьет, подумал Маркел, Максимка Кузнецов же там, в кругу, и снял шапку и перекрестился, и поклонился куполам. Стрелецкий голова сказал: – Из Москвы вчера приехал человек, говорил, крымцы пошли на Киев, а наши пошли их смотреть. – На Серпухов наши пошли, – сказал Маркел. – А ты откуда знаешь?! – спросил стрелецкий голова. – Знаю, – уклончиво сказал Маркел. Стрелецкий голова нахмурился. Но тут на золотом крыльце открылась дверь и оттуда начали выходить царицыны сенные сторожа, по случаю великого праздника одетые в парчовые кафтаны, а за ними уже почти валом повалили и прочие так называемые царицыны ближние люди и прямо с крыльца через паперть начали заходить в храм. Сейчас и царица пойдет, подумал Маркел, он сейчас ее увидит, а то ведь ни разу не видел и, может, опять не увидит, потому что вдруг его опять туда не пустят! И как он только так подумал, так аж перепугался и сразу ступил вперед, к этой толпе. Но его сразу схватили и слева, и справа под локти. – Иван! – громко сказал Маркел. – Чего они, Иван?! Я же на службе! – И так и они! – сказал стрелецкий голова. – Чего тебе туда?! – Мне к государыне, Иван! – быстро сказал Маркел. – Слово у меня преспешное, Иван! Пусти! – Не могу! – сказал стрелецкий голова. – Не велено. – И продолжал стоять грудью к Маркелу, а его стрельцы держали Маркела под локти. А за их спинами, видел Маркел, шли в храм царицыны сенные девки и боярыни, а среди них шла и сама царица, только Маркел ее не видел, а если видел, то не узнавал. Зато ее братьев он сразу узнал – и сразу, даже не успев подумать, выкрикнул: – Боярин, это я, Маркелка-стряпчий! Боярин Михаил Нагой оборотился на его слова, узнал его и усмехнулся. Маркел тут же прибавил: – Боярин, дай слово сказать! Боярин махнул рукой, чтобы его отпустили, стрельцы это так и сделали, Маркел сразу от них вырвался (хоть его уже и не держали) и в три шага доскочил до паперти, а там уже степенно снял шапку, так же степенно перекрестился и так же степенно вошел в храм. Народу в храме было уже много, да и не толкаться же там, да и какие сейчас могут быть слова, думал Маркел, прижимая к груди шапку и осторожно осматриваясь по сторонам. А народ всё прибывал и прибывал, становилось всё тесней. Маркел стоял в левом приделе, возле кружки, и никаких бояр он оттуда, конечно, не видел. Эх, жизнь – полденьги расклепанных, думал Маркел, теперь уже не отвертеться, если сам полез, а зачем он лез? Дядя Трофим, вспомнил Маркел, тоже полез однажды, и его не стало, и кто его теперь, кроме Маркела, вспомнит? А Маркела после если кто и вспомнит, так только если вдруг сдуру… Э, тут же спохватился он, какие думы в храме, да еще в такой день! И перекрестился, и прислушался, и услышал, что уже запели. Все вокруг него стали креститься, и он тогда еще раз тоже. И так он тогда и простоял всю службу, и даже подпевал порой, когда все подпевали. «Свете тихий» он еще с детства любил, мать его учила петь «Свете тихий», а теперь он пел один. То есть все там тогда пели, конечно, но он же никого из них не знал, и поэтому он был там как один. И не искал он, конечно, и даже не высматривал в храме ни государыни вдовой царицы, ни ее братьев-бояр, и даже не думал о том, зачем он их мог бы высматривать, а просто отстоял всю службу, как и все, а после, как и все, пошел из храма. А там на паперти стоял боярин Михаил Нагой и уже поджидал его! А после сразу шагнул к нему, крепко взял его рукой за ворот и очень строго, но очень негромко спросил: – Ты чего мне хотел сказать? – Я не тебе, боярин, а твоей сестрице, – хриплым голосом сказал Маркел, потому горло у него было сдавлено. И так же хрипло продолжил: – Только ей, боярин! А после она если скажет казнить меня, как ту уроду казнили, так и меня казните! Боярин Михаил подумал, помолчал, а после разжал руку, отпустил Маркела и сказал: – Надо будет – позовем. А пока иди и жди! И Маркел, уже больше ничего не говоря, развернулся и пошел. Сперва он прошел мимо красного крыльца, где возле столов никого уже не было, а после через передние ворота вошел на внутренний двор, а там свернул и вернулся к себе, то есть в ту бывшую холопскую. А у них там пусто уже не было, а даже почти наоборот, потому что и Яков, и Парамон, и все остальные подьячие были уже там и кто из них тогда еще сидел на своей лавке, а кто уже с нетерпением похаживал вокруг стола, который был уже почти накрыт, очень богато и сытно, а челядинцы всё несли и несли на него, так что просто глаза разбегались. Маркел остановился при пороге и снял шапку. – А! – сказал ему Яков. – Почуял! – И встал с лавки и еще сказал: – Сейчас будем садиться. Праздник же великий! – и повернулся к образам, которые по случаю Троицы были увиты аиром и березовыми веточками, и перекрестился с поклоном. Маркел чинно сделал то же самое и подошел к столу. И Яков подошел, и все остальные тоже, каждый к своему месту. Сенной сторож (как его звали, Маркел так и не узнал) пожелал сладко отведать и, поклонившись, вышел. А Маркел и подьячие сели, и Яков повел застолье, то есть сперва прочел «Верую» и все за ним повторили, а после начал провозглашать за Троицу и сделал сперва за Их всех, а после три раза по отдельности за Отца и Сына и Святаго Духа, а после опять за Их всех вместе, и это по полной чарке, и недопивать было нельзя, грешно, как сказал Яков, а дальше было уже можно, и Маркел стал недопивать, но все равно на всякий случай незаметно. Ну и закусывал, конечно, плотно, потому что думал, что а вдруг сейчас зайдут и позовут его к вдовой царице, а он лыка не вяжет, хорош же он будет тогда! И он налегал и налегал на мясо. А этих, он видел, уже повело и они уже не спрашивали у него, как вначале, где это он пропадает и правда ли то, что он вчера был у боярина Мишки Нагого, ну и так далее. То есть никакого разговора о том деле, которое привело их туда, то есть в Углич, дальше и в помине не было. То есть никто не вспоминал ни Данилки, ни Мишки Гаврилова, ни Битяговского, ни тем более Тихона Быкова или еще какого Степки Полуэхтова, ни даже Ефрема палача или боярина Василия Ивановича Шуйского, а теперь у них пошли уже совсем другие разговоры, вроде того, что сперва Парамон рассказал, как он на Страстной неделе ходил в баню и что там после приключилось, и все после долго смеялись, хотя было понятно, что они эту историю слушают уже не в первый раз, а может, и не первый год. А когда они еще раз выпили, начал рассказывать теперь уже Илья, и его история была про то, как он недели три тому назад на Гостином дворе, но в каком ряду не скажет, в подвале, сосал, как он его назвал, индейский дым из рога, и это пьянит крепче любого вина. У него стали расспрашивать, что это да как, и Илья стал говорить, что это такая трава дурманная, ее режут на мелкое крошево и забивают это в рог, и с одной, широкой стороны поджигают, а с другой, через маленькую дырочку, сосут этот дым, и от дыма становятся пьяными. И это очень смешно. Брехня это, сказал Варлам, зачем тебе эта трава индейская, а ты толченых мухоморов пробовал? Илья сказал, что пробовал, и они стали спорить, что крепче – мухомор или индейская трава, и одни стояли за Варлама, а вторые за Илью. А Маркелу было все равно, потому что он тогда думал, что Петруша говорил, что государь царевич, когда показывал ему тот диковинный нож, говорил, что это индейский нож, а тут вдруг индейская трава. Но, тут же дальше подумал Маркел, князь Семен говорил, что Индейское царство не одно, а их два, одно далеко-далеко за Персиянским царством и там живут колдуны и слоны, а другое с другой стороны, за Немецким морем, и там живут одни дикие люди, которые едят других людей, потому что у них нет другого мяса и также нет никакой другой еды, потому что у них в лесах нет никакого зверя, а в реках никакой рыбы, а земля не родит ничего, а только одно золото, как у нас морковь или репу, и поэтому за тем золотом в то заморское Индейское царство купцы просто пищом лезут, а дикие люди их жрут! Вот что о том заморском царстве вспоминал тогда Маркел, то есть он тогда был тоже крепко выпивший, раз о таком вспоминал. И тут вдруг открылась дверь и к ним в холопскую вошел, судя про парчовому кафтану, царицын сенной сторож и спросил, кто из них здесь Маркел, стряпчий Разбойного приказа. У Маркела сразу весь хмель из головы выскочил, он бодро встал и сказал (а все остальные молчали, конечно), что это он. Тогда пойдем со мной, сказал царицын сенной сторож. Маркел утер губы, взял шапку и пошел. Шел через сени, читал «Богородицу». После, во дворе, опять ее читал. А после, на крыльце (а это было заднее великое крыльцо, как его там называли), уже просто «Господи, помилуй, Господи, помилуй» и незаметно крестился. Дальше они вошли в так называемые Постельные или Покоевые хоромы, пока только на низ, а оттуда по лесенке вверх (и там везде стояли сторожа, все как на подбор высокие, плечистые ребятки и все с бердышами), и там им открыли дверь и они вошли в так называемые комнаты, но пока только в их сени, и там Маркелу велели стоять. Маркел остановился. А тот сторож, который его туда привел, прошел вперед дальше, в следующую дверь. И там как пропал! Маркел начал с опаской осматриваться. Там, то есть в тех сенях, в которых его остановили, теперь уже никого кроме него не было и было просторно и светло, вдоль стены стояли широкие лавки с мягкими парчовыми полавочниками, на стенах висели шпалеры, с одной стороны с евангельскими притчами, как их узналМаркел, а с другой – с просто травным узорным письмом. И то и то было очень красиво, Маркел стоял и рассматривал их. А время шло, а за ним никто не заходил и не вел его дальше, но и оттуда тоже ведь не выводил, думал Маркел и ждал. После вдруг открылась передняя дверь, вернулся тот царицын сенной сторож, подошел к Маркелу и сказал, что у государыни сейчас митрополит и нужно подождать, и встал рядом с Маркелом. Теперь они ждали вдвоем, но веселей от этого не стало, потому что они просто стояли столбами и молча смотрели на плотно закрытую дверь перед собой. Маркел попробовал о чем-нибудь подумать, но не думалось, а только смотрелось на дверь. После эта дверь вдруг неслышно открылась и из нее вышел митрополит Гелассий. Сенной царицын сторож ему сразу поклонился, а Маркел до того растерялся, что так и остался стоять прямо. Митрополит, проходя мимо него, перекрестил его быстро и мелко, будто крупой посыпал, и прошел дальше и ушел совсем. Маркел стоял, боясь пошевелиться. Сенной сторож подошел к передней двери, заглянул туда, что-то спросил, ему ответили, он оглянулся и махнул рукой, то есть позвал идти за ним. И Маркел пошел за ним в ту дверь.17
И там он увидел царицу. И, теперь уже не растерявшись, сразу поклонился ей низким земным поклоном. А после, не распрямляясь, встал на колени и уткнулся лбом в ковер. Ковер был пушистый, персидский. Царица негромко сказала: – Встань, Маркелка. Маркел встал и еще раз, но уже несильно, поклонился и уже только после этого посмотрел на царицу. Царица сидела сбоку от стола, одной рукой (локтем) опершись на стол, и смотрела на Маркела. Царица была очень красивая, просто на диво: лицо у нее было белое, щеки румяные, глаза голубые, брови соболиные. А голову она держала гордо, на ней был высокий золотой кокошник, весь в драгоценных каменьях, а сама она была одета в черный летник тончайшего рытого бархата с опять же соболиной оторочкой, а на пальцах у нее были толстенные перстни, а в глазах, вдруг подумал Маркел, у царицы тоска смертная, а под глазами черные круги, вот что! Так ведь беда же какая, подумал Маркел. А царица вдруг сказала: – Идите все! И все, кто там тогда был, а это сенные девушки, да сторожа, да сытники при поставце, вышли в ту дверь, в которую пришел Маркел. А Маркел пока стоял на месте. Царица усмехнулась и сказала: – Вот ты какой, Маркел Косой! Маркелу стало обидно, он же очень не любил, когда его называли Косым, потому что он же косым не был! А царица опять усмехнулась, после чего сказала: – Сенька тебя прислал. Я знаю Сеньку. Я и Ваську знаю, как не знать! – сказала она уже громче. – Он у меня на свадьбе дружкой был. А Борис был старшим дружкой. Ох, как Борис меня любил! – продолжала она уже с гневом. – Как только увидит, так сразу зубами скрежещет. А Ванюша сказал: будешь дружкой – и был!.. Ванюша! – еще раз сказала она с гордостью. – Все Ванюшу слушались, никто ему не перечил! Не смели! – и вдруг спросила: – Ты Ванюшу видел? Государя Ивана Васильевича? Ну? Что молчишь?! Язык, что ли, проглотил?! – Нет, – сказал Маркел. – Не видел. – Вот как, – сказала царица. – Не видел. А государя сына моего? – И его тоже нет, – сказал Маркел. – А чего тогда сюда пришел? – спросила царица уже опять очень сердито. – Было велено, – сказал Маркел. – Что велено? – спросила царица. – И кто велел?! – Государь Феодор Иоаннович, – сказал Маркел. – Велел узнать, кто это сотворил. – Что сотворил? – спросила царица и посмотрела на Маркела очень пристально. – Кто его зарезал, государыня, – тихо сказал Маркел. – Как ты сказал?! – воскликнула она. – Зарезал? – Зарезал, да, – сказал Маркел. Царица что-то прошептала и перекрестилась. Потом тихо сказала: – А другие говорят, что сам зарезался. – А раньше говорили, что не сам, – сказал Маркел. – Ведь так? – Так, так! – тихо, но истово ответила царица. – А ты это откуда знаешь? Ты разве это видел? Да тебя здесь не было, когда это здесь приключилось! – А ты, государыня, была? – спросил Маркел. И, не дождавшись ответа, еще спросил: – А видела? – Я была здесь тогда, – сказала царица. – Вот прямо здесь сидела, где сейчас сижу. Как я отсюда увижу? Маркел осмотрелся и спросил: – А окно было открыто? У царицы глаза сузились, и она гневно сказала: – Пес! Ты что, с меня расспрос снимаешь?! – Как бы я посмел такое, государыня! – быстрым голосом сказал Маркел и так же быстро добавил: – Я ищу злодея! У него был нож! Нож был весь в каменьях, индейский! Эх, государыня! – сказал Маркел уже неспешно и даже с досадой, – эх, если бы я знал, откуда у царевича взялся тот нож, мне бы тогда всё открылось! Вот как это окно, – сказал он дальше, – которое тогда было затворено, поэтому никто отсюда ничего не видел и даже не слышал, как кричал Петруша, пока он не добежал до самого крыльца, ведь так было, государыня, или разве не так?! – Так, – сказала, подумав, царица. После еще сказала: – Я так и думала, что они его убьют когда-нибудь. Ох, сердце чуяло! Сперва думала – убьют меня, а когда он родился, стала за него бояться. У него кормилиц не было! – сказал она уже громко и с гневом. – Я его сама кормила! Никому я его не давала! Все говорили: как это, царица сама кормит, где такое видано! – Это она еще тоже сказала очень громко, а после уже тихо добавила: – А зато жив остался Митенька. Выпестовала я его, румяненький он был, толстушечка, Ванюша даже гневался и говорил, что Ваня с Федей не такие были, что это как не их порода. И тут царица замолчала, и нахмурилась, и поднесла руки к лицу, стала будто рассматривать ногти. А ногти у царицы были крашеные и блестели, Маркел таких ни у кого прежде не видел. А царица вдруг опять заговорила, опять очень гневно: – Ваня с Федей, как же! Насмотрелась я на них! Ух как они невзлюбили меня сразу, и Ванька старший, ну, этот понятно, старший сын, наследник, так ведь и Федька тоже, даром что дурак, тоже ведь в глаза смотреть не мог и рожу так и воротил! А когда старший убился, упал головой и об косяк виском, и дух их него вон, Федька просто разъярился на меня! И я знаю почему: потому что это его Борис научил, что смотри, Федя, эта гадина родит гаденыша и тебя, Федя, из кремля тогда попрут и больше не дадут звонить в кремлевские колокола, потому что в них будет звонить гаденыш! А другим стал говорить, да ты и сам это слышал, небось, что это я Ванюшу натравила и он Ваньку посохом в висок. Слыхал такое? – Нет, – сказал Маркел. – Брешешь, – сказала царица. Маркел промолчал, потому что так оно и было, все так тогда судачили, да разве в глаза такое скажешь! А царица усмехнулась и сказала: – А зачем мне было на него натравливать? Потому что а зачем Ванюша взял меня? Чтобы я родила ему сына-наследника и чтобы он тогда мог бы ему, мимо своих старших, царство передать. Ванюша так и говорил, все это слышали. И он на нашей свадьбе так сказал, Борис это слышал, и этот Васька тоже, который сейчас приезжает, вот так бороду вперед сует и говорит: что, Маша, тут у вас такое приключилось? Свинья он, вот кто, твой боярин Васька! Был бы Ванюша жив, я бы только бровкой повела – и сняли бы с него шкуру, вот так! Ванюша меня ох как любил! И когда Митя родился, он ему в тот же день свой крест нательный отдал, сказал: носи, сынок, как после и мой посох и шапку мою, и всё моё будет тебе! И Борис тогда там с нами был и слышал это. А как ему такое было слышать, когда его сестра за Федькой, а Ваньки уже не было, он же уже думал, Федька за Ванюшей сядет, и вдруг Ванюша говорит, что Митя! Ой, Митя! – вдруг воскликнула царица. – Лучше бы он этого не говорил тогда, и был бы ты жив, Митя! И тут царица опять замолчала и даже лицо руками закрыла, и наклонилась вперед, и так сидела, наклонившись, и покачивалась, и молчала. Маркел тоже молчал, конечно, и ждал, что она еще скажет. И ждать пришлось не очень долго, царица распрямилась, посмотрела на Маркела и даже будто улыбнулась. После сказала: – Вот как оно царицей быть! Была бы я простой боярыней, а то и совсем какой купчихой толстомясой, кто бы на моего Митю чего недоброго задумал? Да никто! А так им царство дай! Так и моим дядьям, так и братьям. Так и батюшке-покойнику. Сколько мне тогда было? Шестнадцать лет, не больше, когда он пришел ко мне и говорит: дочурка, радость-то какая, я тебе жениха сговорил. Я говорю: кого? А он отвечает: царя-государя. Я так и обмерла. Лучше бы, думаю, ты меня псам бросил бы на растерзание. Я же всё знала, я всё слышала, кто он такой, этот Ванюша: он же уже три раза венчан был, а после еще три, где это такое видано, это же позор какой! А батюшка смеется, говорит: дочурка, ты не рада, что ли? Рада, я ему отвечаю, ох, рада, так что закопай меня живьем, радей не стану! А он мне вот так кулак к носу приставил! А после вот так сунул! – и тут царица даже показала как. – А после, – сказал она, – Ванюша точно так совал! А то и за волосы драл! А когда я родила, он три недели хоть бы показался, хоть бы посмотрел на Митю! Куда там! У него же тогда… А! – громко воскликнула царица. – Чего это я так? А тебе это зачем? Тебе и того, что ты здесь уже услышал, лучше бы не слышать. А то Борис скажет: а где тот Маркел, а не слыхал ли он чего от Марьи, не сказала ли она ему, как мы царскую духовную сожгли, где Митя был за Федором записан? А ведь был записан, был! А Борис ее сжег. Дядя Афанасий прискакал тогда из Москвы и стал кричать, и дядя Андрей с ним тоже, и Мишка с Гришкой. А я молчала и думала: Господь Бог милостив, сожгли ироды Ванюшину духовную – зато мой Митя жив. Ох, как я тогда была рада! Ох, думала, спасла я Митю! Обошел Митю Борис, и черт его бери, Бориса, был бы мой Митя жив. А вот не угадала. – И вдруг быстро подалась вперед и так же быстро спросила: – Кто его убил? – Я этого еще не знаю, – осторожно ответил Маркел. – Как не знаешь?! – сказала царица. – А куда смотрел?! А мне чего теперь голову морочишь?! Чего тебе от меня надо, отвечай! – Ничего не надо, государыня, – сказал Маркел. – Разве я чего посмею?! Червь я ползучий, государыня. Я только хотел спросить, что ведь раньше государь царевич был здоровенький, а это они его уже испортили, ведь так? – Так, – сказала царица. – Битяговский-вор его испортил, это все знают. С этим ты мог ко мне и не ходить, это тебе здесь всякий скажет. Мы здесь уже восьмой год. Как Ванюша умер, так мы сюда и переехали. Ванюша Мите это отписал в удел, это здесь всё наше. А этот вор приехал, – продолжила царица опять с гневом, – и стал заправлять, как своим. А это наше! Это Митино! А они тогда его убили! А ты знаешь, кто убил, а молчишь! Значит, ты тоже с ними! – Государыня! – сказал Маркел. – Как Бог свят, я не с ними. Я, государыня, только пришел спросить, откуда у Мити тот нож объявился, кто ему его дал и зачем. – Убить его хотели, вот и дали, – сказала царица. – И я этого ножа не видела. Все говорите: нож, нож! А я не видела. – Эх, государыня! – сказал Маркел. – Уйдет злодей! – Нет, не уйдет! – тут же ответила она. – Я ему все глаза исколола! – А! – сказал Маркел. – Вот как! – И быстро спросил: – Иголкой? – Иголкой, иголкой! – сказала царица. – Вот как! Вот так! – И даже показала, как она это делала, тыкая пальцем в ладошку. – Уродка тарелку держала? – опять быстро спросил Маркел. – Нет, я сама! – ответила царица. – А где сейчас уродка? Кто ее убил? – спросил Маркел. Царица замерла и стала молча смотреть на Маркела. После сказала: – А ты сам колдун. – Нет, не колдун, – сказал Маркел и для пущей крепости перекрестился. – Колдун, колдун, – сказала царица печальным голосом. – Одолели меня колдуны. Никуда мне от них не деться. А ведь не за себя я просила, за Митю. Навели на Митю порчу, стала его бить падучая. А раньше такой зайчик был! – А после усмехнулась и опять сказала: – А ты колдун, я это сразу вижу. – Как? – спросил Маркел. – А очень просто, – сказала царица. – У колдунов у всех глаза такие, никогда прямо не смотрят. – И уродка так смотрела? – спросил Маркел. – И она, – сказала царица. – И Андрюшка? – продолжил Маркел. – Какой Андрюшка? – спросила царица. – Андрюшка Мочалов, травник, – ответил Маркел. – Который еще водку знатно чистит. – Не знаю я про водку, – сказала царица и даже поморщилась. – Чистит, чистит! – повторил Маркел. – И тайную корчму содержит. – А ты его тогда на кол за это! – сказала царица. – Будет и на кол, – ответил Маркел. Но царица вдруг стала серьезная и так же серьезно сказала: – Ты Андрюшку не трожь. У Андрюшки было зельице, оно Мите помогало. – Какое зельице? – спросил Маркел. – Откуда мне это знать! – сказала царица. – Но была у него такая водица, он ее Мите давал – и Митю сразу отпускало. И уродка его крепко невзлюбила! Он только придет с этой водицей, а она уже стоит в дверях и шипит на него, шипит как гусыня, вся станет красная, и мы смеялись. – А как ее не стало? Отчего? – спросил Маркел. Царица помолчала и сказала: – Ты на меня так не смотри. Я этого сама не знаю. Я спросила где она, а мне сказали, что о ней уже можно не спрашивать. Я спросила, почему так, а мне сказали, что она над Митей насмехалась, на него шипела, когда он уже лежал. Ну и прибили ее, было дело. Люди же тогда были горячие в тот день, не приведи Господь! И что мне было им сказать, они же мне служили. Грех это, конечно, что и говорить. – Ага, ага, – сказал Маркел, и тут же спросил: – А где Андрюшка? – А он, говорят, сбежал, – ответила царица. – Потому что и к нему в тот день пришли, хотели и его убить, и он сбежал. И его изба стоит пустая, говорят. – А нож? – спросил Маркел. – А нож где? – А про нож я ничего не знаю, – сказала царица. И вдруг глаза у нее загорелись, она подалась вперед, к Маркелу, и стала быстро, жарко говорить: – Я ничего не пожалею, слышишь? Сколько попросишь, столько дам! Золото, серебро, самоцветы! Вот, даже с себя сниму. – И тут она стала сдергивать кольца. – И братья добавят! Только найди злодея! А еще лучше – убей! А то отдашь его им, а они его не станут убивать, а перепрячут, я их знаю! А ты убей! И будешь по золоту ходить, Маркелка! Маркел, отшатнувшись, молчал. Тогда и царица успокоилась, опять села прямо, провела ладошкой по губам, заулыбалась и сказала: – Голова кругом идет. Митя в глазах стоит. Маркел молчал. Царица тоже. Так они еще немного посмотрели один на другого, а после Маркел осторожно спросил: – А, может, и искать уже не надо никого? Ты же сама первая сказала, государыня, что государя царевича убили Осип Волохов, Никитка Качалов да Данилка Битяговский. Так они тоже давно уже убитые. Кого тогда искать? Но царица ничего на это не ответила. Тогда Маркел еще спросил: – Почему ты на них сразу указала, государыня, а не на кого другого? – А на кого еще? – ответила царица, и это опять в сердцах. – Я их давно приметила, они давно вокруг Мити вились. И когда мы тогда с обедни шли, я их опять возле паперти видела. А Миша-брат мне давно говорил: смотри, Маша, Борька не зря их к нам прислал, гони их от себя, гони как псов! А вот… Но тут царица замолчала, глаза у нее заблестели, она утерла их платочком, а они опять такими стали. Тогда она сморгнула слезы и строго сказала: – Чего сморишь? Никогда не видел?! Маркел сразу опустил глаза. А царица так же строго продолжала: – Не хочу больше об этом говорить. Надоело это мне! Иди и найди злодея. Живо! А не то не забывай, чья я вдова! Маркел низко поклонился, развернулся и пошел к двери. И вышел.18
Когда Маркел вышел от царицы (опять на заднее великое крыльцо), солнце было уже низко, скоро уже должны были звонить к вечерне. Маркел остановился и задумался. Жалко ему было царицу! Хотя кто он такой, чтобы ее жалеть, тут же подумал Маркел, он может ей только служить, если она того пожелает. Так ведь она и пожелала, сразу дальше подумал Маркел, и велела ему найти злодея, а сама при этом ничего почти ему не рассказала! Ну да, еще раз подумал Маркел, ему же много и не надо, низкий поклон ей и на том, что из ее слов он наверняка почуял, что без Андрюшки там не обошлось, не зря же уродка шипела, когда царевич уже лежал бездыханный. И поэтому ее после убили! Хорошо бы было знать, кто это сделал, жалко, что царица это не сказала, и это и вправду жалко! Ну да ничего, подумал Маркел дальше, у него же есть еще Авласка, Авласка его на Андрюшку выведет, Авласка же у Андрюшки в тайной корчме тайно пьянствовал, и вот он его, то есть Маркела, теперь туда и приведет! Нет, тут же подумал Маркел, осматриваясь по сторонам и также поневоле прислушиваясь к разным громким голосам и пению с разных сторон, время сегодня уже позднее, праздничное, и Авласка сейчас тоже празднует, так что из него сейчас много не вызнаешь, а на какое-либо дело он сейчас и вовсе непригоден. Потому что он или пьет в кабаке, или уже напился! Так что если сейчас кого идти расспрашивать, так можно только или Петрушу Колобова, или Василису Волохову, только они сейчас не пьют, потому что он дитя горькое, а она вдова, да и скорбит по сыну. А что, тут же подумал Маркел, а и пойдет и спросит, тем более что это здесь недалеко. И он и в самом деле прошел еще совсем немного вдоль хором, это теперь в сторону кормового дворца, а там остановился у еще одного, малого, так называемого медного теремного, крыльца и спросил у стоявшего на нем сторожа, не здесь ли живет боярский сын Самойла Колобов с женой Марьей и сыном Петрушей. – Здесь, здесь, – сказал сторож, – а что? – А вызови его ко мне, – сказал Маркел, – у меня до него есть дело. – Э! – сказал сторож веселым голосом, потому что он был выпивший. – Я этого не могу, потому что они всем семейством, а у них еще две дочери, уехали к Самойлову брату за Волгу. Это там, где Введенский монастырь, там у Самойлова брата подворье, и они только завтра оттуда вернутся, а что? – Так, ничего, – сказал Маркел, после чего сразу спросил: – А Волоховы где живут? – А Волоховы, – сказал сторож и нахмурился, – здесь больше уже не живут и жить больше не будут. – А где будут? – спросил Маркел. – Может, и нигде, – сказал сторож, – но пока она живет у Битяговских. И больше, – добавил, – меня не цепляй! Не отвлекай меня, я сторожу! Но Маркел на это не обиделся, а поблагодарил сторожа на добром слове и пошел. И он и в самом деле вначале вышел из кремля, а после перешел через площадь, где было уже много выпивших и где возле торговых рядов ладили уже какое-то представление, а дальше перешел через ручей, поднялся на горку и там, на Ильинской уже улице, подошел к уже знакомым ему воротам. Вот только когда он в первый раз их видел, они были широко раскрыты и во дворе был виден народ, стоявший вокруг двух гробов, а в самих же воротах стоял недобрый человек, а с ним еще двое таких же, и в рукавах у всех троих были ножи. А теперь эти ворота были плотно закрыты, а изнутри, наверное, еще и накрепко закладены. И со двора и из самих хором никакого звука слышно не было. И это при том, что вокруг везде гуляли, ведь же была Троица. Подумав так, Маркел перекрестился, ощупал нож и постучал в колотушку. Скоро у него спросили громким грубым голосом: – Кто там? Кого принесло?! Маркел сказал: – Маркел, стряпчий Разбойного приказа, хочу увидеть Волохову Василису, вдову боярина Алексея Никифорова сына Волохова. – Зачем она тебе? – еще грубей спросил тот голос. – Хочу расспросить ее, – сказал Маркел, – и записать, как она скажет, и выписать ей через это послабления и снять наветы, если таковые есть. – Нет на ней никаких наветов! – быстро сказал тот же голос. – И расспросов с нее снимать нечего! С нее их уже снимали, и пошел отсюда вон, скотина! И с этими словами тот человек из-за ворот вдруг резко открыл дверцу и даже сунулся было к Маркелу! Но Маркел уже выставил нож! Прямо ему под нос! И тот человек сразу убрался. А Маркел сказал: – Где тебя еще увижу, нос отрежу! – И сразу добавил: – А боярыне своей скажи, что я ее из-под земли, когда мне будет надо, достану! А пока живите! – и резко развернулся, и пошел себе по улице обратно. Шел и думал, что крепко он их разозлил, они его теперь в покое не оставят, значит, не нужно будет их искать, а они теперь сами всегда будут у него под рукой, а это очень удобно. И так оно впоследствии и оказалось! Но сперва Маркел шел просто прямо и думал, что он идет к себе в холопскую. Да только когда он стал спускаться с горки, то есть когда уже сошел с Ильинской и шел к ручью, он вдруг подумал, что так не годится, что и так он уже который день над этим делом бьется, а ничего добиться не может, а вот сейчас бы взять да повернуть да допросить Авласку, и дело, глядишь, и стронется, а почему бы и нет?! Подумав так, Маркел остановился, развернулся и пошел почти обратно, только немного беря вправо, к Волге, то есть туда, где на горе стол кабацкий двор, и там было шумно и людно, и так же было и вокруг двора, а уж как там внутри стоялой избы тесно, подумал дальше Маркел, так и представить далее трудно! А как представил, так даже, не сдержавшись, облизнулся и уже просто честно подумал, что надо и честь знать, бросать дела и пропустить за праздник чарочку, а то прежние обеденные чарки из него давным-давно выветрились. И вот с такими, да и другими подобными мыслями Маркел подошел к раскрытым настежь воротам кабацкого двора, возле которых прямо на земле сидел крепко выпивший Григорий, а рядом с ним другие люди, тоже все нетрезвые. Также и дальше по двору народ где сидел кучками, а где уже лежал, а где и как ни в чем не бывало расхаживал туда-сюда. Много было там посадских, но немало и стрельцов. А что, думал, глядя на стрельцов, Маркел, царская служба не постриг, пей, если душа просит. И вот с такой мыслью он поднялся на крыльцо, вошел в черную избу и осмотрелся. Но осматриваться там было непросто, потому что теснота там была просто страшная, так что Маркел зря осматривался, потому что никого знакомого он так и не увидел – ни Авласки, ни Карпа, ни своих подьячих. Вот только одно ему почудилось – будто мимо него сзади проскочил к стойке (и сразу за стойку) тот самый человек, который только что так недобро принимал его у Битяговских. А, подумал Маркел радостно, это добрый знак, но при этом проверил, на месте ли нож, и тоже начал проталкиваться к стойке. А там его уже как будто ждали. Большой Петр сразу широко ощерился, а Евлампий (а он стоял там же сбоку) громко, чтобы через других было слышно, сказал: – О, вот кого с утра ждем-поджидаем! Ведь же обещал прийти! И мы и мерку тебе пробную придерживаем, и мерный хвост! – И с этими его словами (а он еще мигнул Петру) Петр выдвинул перед собой большую красную кружку, так называемый боярский достакан, а нему еще прибавил толстоспиного сушеного леща. Но Маркел угощаться не стал, а сказал: – Нет, какая служба в праздник! Не стану я перемеривать. Да и не горит она. – Горит, горит! – сказал Евлампий. – Да еще как! Недоразбавленная, знаю. Виноват, сколько назначишь, уплачу, а выпей! Выпей, сокол! – После, – сказал уже серьезным голосом Маркел. – Не могу я пока что. Запряг меня боярин, вот что, – сказал он уже почти с горечью. И тут же с той же горечью, но еще и поспешно добавил: – Надо у тебя, Евлампий, кое-что спросить. И это мигом! – продолжал он уже быстрым голосом. – Айда в белую! – Э! – сказал Евлампий. – В белую! Да сегодня такое творится, такое! Нет, в белой нам тоже покоя не будет. А ты проходи сюда! – добавил он тут же. – Петя, отбрось доску! Целовальник отбросил доску, и Маркел прошел к ним за прилавок, а там Евлампий сразу взял его под локоть и сказал: – Есть место тихое! Вот там и сядем! И не успел Маркел опомниться, как он уже повел его за поставец, а дальше в дверь, а там через какой-то тесный закуток и дальше уже вниз по лесенке, при этом беспрестанно приговаривая примерно такие слова: – Много их сегодня, черт бы их подрал! А толку! Только под запись и берут, себе в ущерб торгуем, так в Москве и расскажи. Бедует, расскажи, Евлампий, последнее с себя снимает, а народу праздник, и Евлампию от этого легче. Видел, как понапивались, ироды?! И им еще дай закусить! И разнеси их после по домам, а уже ночь, а улицы закрыты, на рогатках сторожа, и все смеются: куда ты, Евлампий, кого несешь, пусть бы там и валялся, свинья, а нам здесь такого не надо! И не берут. Вот так! На этих словах они как раз пришли. То есть уже внизу остановились перед дверью, Евлампий ткнул в нее, она открылась, и они туда вошли. Там, в той подземной каморе, в стене над столом горела лучина и в этом ее кривом свете были видны двое, сидящие за тем столом, а между ними был кувшин и там же чарки и закуски всякие. Эти сидящие смотрели на Маркела и пока молчали. А Маркел смотрел на них и видел, что один из этих сидящих был из себя широкий и высокий, как медведь, и с виду такой же злобный, а второй был, напротив, щуплый и приветливый, он как блаженный улыбался, и даже борода у него была реденькая и коротко подсеченная. Маркел снял шапку и сказал: – Здорово живем. Щуплый ответил: – Здорово. А второй, злобный медведь, тут же прибавил: – И со святыми упокой! – Но, но! Сразу не очень! – строго сказал Евлампий. – А сразу что? – дерзко спросил этот медведь. – А сразу, – ответил за Евлампия Маркел, – надо гостя посадить за стол, налить ему и дать закусить. – А дальше что? – опять спросил медведь. – А дальше еще налить! – просто сказал Маркел, без всякой злости. После оглянулся на Евлампия и продолжал: – Так чего ты меня звал сюда? У меня до тебя дело, а как тут его делать? – А вот здесь его и сделаем, – сказал Евлампий, подходя к столу. – Садись! – И сел первым. Тогда сел и Маркел. Теперь Евлампий сидел прямо напротив его, а слева был щуплый, а справа медведь. И нож был в правом рукаве, и это хорошо, думал Маркел. Евлампий начал наливать, а там чарок был запас. Значит, тут кто-то уже был, думал Маркел, ох, это место нехорошее, думал он дальше, глядя, как Евлампий разливает, тут зарежут и тут же закопают, прямо под столом, пол же здесь земляной, копать будет легко, ну да не бежать же отсюда! И он взял чарку, когда ему ее дали, и вместе со всеми выпил, а после взял большой кусок пирога (а он был с мясом) и начал закусывать. Эти тоже все пока закусывали, и за столом было тихо. А после Евлампий первым перестал закусывать, широко утерся ладонью, осмотрелся и сказал: – Вот, братцы вы мои, товарищи старинные, это Маркел. Он из Москвы приехал. Из Разбойного приказа. Слыхал про такое? Это он сказал уже повернувшись к медведю. Медведь усмехнулся и сказал: – Слыхал, как не слыхать. Пострадали мы через него, через приказ этот. Четыре раза был на виске! Но оттерпелся, никого не выдал. А после товарищи меня отбили. – И повернулся к Маркелу и спросил: – Хочешь, я тебя зарежу? Вот прямо сейчас?! И уже стал поднимать руку… Как Маркел ш-шах! – и прибил ему рукав ножом к столешнице! Медведь оторопел и рукой уже не двигал. Маркел усмехнулся и спросил: – Тебя как звать? – Фома, – сказал медведь. – Здоровы будем, Фома, – опять, как с самого начала, повторил Маркел. И Фома сказал: – Здоровы будем. – Так-то, – сказал Маркел и вынул нож, повернулся к щуплому и у него уже спросил: – А как тебя? – Тит, – сказал тот негромким голосом. Маркел взял чарку. Евлампий налил. Маркел поднял ее, сказал: – Со знакомством! – И выпил. И эти трое тоже также одним разом выпили. И Евлампий, опуская чарку, веселым голосом сказал: – Эх, отпустило! – Да, – согласился Фома, – это верно. А Тит сказал: – Хороша! Маркел тут же добавил: – А как же! Кто чистил! – И осмотрел их, и еще сказал: – Андрюшка чистил, вот кто. – И посмотрел на Евлампия, и у него уже спросил: – Так? А Евлампий, вроде как бы крепко удивляясь, спросил: – Какой Андрюшка? Не знаю! – А сам так побелел, что это даже при лучине было видно. А Маркел сказал: – Как какой? Обыкновенный. С Конюшенной слободы, рядом с Григорьевыми жил. А сейчас, мне сказали, в бегах. – И повернулся уже к Титу, и спросил: – Знал такого? – Знал, – сказал Тит. – Как не знать. – И посмотрел сперва на Фому, после на Евлампия, и уже только после опять на Маркела, и у него и спросил: – А чего это он вдруг в бегах? – Вот я это и хочу узнать: чего, – сказал Маркел. – Нет его у себя на подворье, вот что. Я вчера у него был, закрыто. А мой боярин говорит: найди его, Маркел, хоть из-под земли достань, а найди! – А боярину он-то зачем? – спросил Евлампий. – Да как зачем! – сказал Маркел. – Ниточка к Андрюшке тянется, вот что. Он же царевича лечил, травки ему давал, питье, вот мой боярин и стал думать, а не заморил ли Андрюшка царевича? И послал за ним, а его нет. А его надо к кресту подвести и расспросить как следует. А ничего не скажет – на правеж тогда поставим, чтобы лучше вспоминалось. Так? – спросил он уже у Фомы. Фома на это только хмыкнул. Тогда Маркел спросил у Тита: – Так? – Страсти какие, – сказал Тит. – Я хорошо Андрюшку знаю, шельма он, конечно, но не злодей же. Нет, – сказал он, еще подумав, – не стал бы он царевича травить. Зачем это ему?! – Ну мало ли, – сказал Маркел. – Вот, – сказал он, опять обращаясь к Фоме, – ты почему пошел в злодеи? А ведь ты злодей! – Какой я злодей?! – сказал Фома. – Я просто душой горячий. Если меня кто обидит, я такому не спущу. Через это и попал на виску. И там пошло, поехало. А я не виноват! – продолжал он уже с жаром. – Господь Бог свидетель! – И, сложив персты для крестного знамения, огляделся по сторонам, но нигде образов не увидел и перекрестился просто так. – Ладно, – сказал Маркел. – Не хочешь говорить, не надо. Да и я не за тобой сюда пришел, а за Андрюшкой! – И теперь повернулся к Евлампию, и сказал: – Ты здесь у вас старший, тебе и решать, конечно, но товарищи твои пусть тоже слушают. Так вот, Евлампьюшка, дело такое, боярин сказал: если они, это вы, выдадут Андрюшку головой, тогда им всем мое, это его, боярское, прощение во всём и сверх того каждому по достакану серебра. И… – Маркел подумал, – и по горлатной шапке. И по золотому на шапку. Думайте! – И замолчал. И эти тоже молчали. Вначале они это делали просто, а после начали между собой переглядываться. А после Тит махнул рукой и начал говорить такое: – Нехорошие твои слова, добрый ты наш человек, не знаю, как тебя по батюшке. Как же это мы станем тебе Андрюшку называть? Андрюшка, может, здесь не виноват совсем, а мы его возьмем и выдадим. А вы его в колодки – и на виску. И шкуру с ребер спустите, и он на себя наговорит, чего никогда и не было! А вам же большего и не надо, вам не злодей нужен, а вам же только нужен кто-нибудь, кто бы на себя это взял. И вы его тогда в Москву. И там снесете ему буйну голову, а она ни в чем не виновата. Нет, я Андрюшку не выдам, я же не такая скотина, чтобы такую гадость невинному человеку подстраивать. Я мозгов еще не отпил! А вот другие люди, вот как Авласка-дьячок, да ты его знаешь, этот кого хочешь оболжет и обесчестит! Он и Андрюшку выдаст. Вот у Авласки и спрашивай, если хочешь узнать про Андрюшку. И тут Тит замолчал, облизал губы и посмотрел на Евлампия. Евлампий молчал. Фома тоже. Тогда Маркел спросил, и это опять у Тита: – А где сейчас Авласка? Тит посмотрел на Евлампия. Евлампий нехотя сказал: – Спит Влас Демидыч мертвей мертвого. До утра его теперь не добудиться. – А где он спит? – спросил Маркел. – У нас здесь, наверху, в омшанике, – сказал Евлампий. – Ага, – сказал Маркел, – ага. А когда будешь будить? – А что? – настороженно спросил Евлампий. Маркел подумал и сказал: – Без меня не будить, это можно? – Можно, – сказал, тоже подумав, Евлампий. После сказал: – Я утром сперва зашлю к тебе Григория. – Вот это славно, – сказал Маркел. – Это славно, – повторил он еще раз. После спросил: – А что, Авласка вправду знает, где сейчас Андрюшка? – Знает, – сказал Тит. И еще раз, еще тверже повторил: – Знает скотина! И завтра скажет, – и посмотрел на кувшин. Маркел кивнул. Евлампий легко встал и налил им всем. Они молча, не чокаясь, выпили. После Маркел так же молча поднялся, утерся, осмотрел их сверху вниз всех троих, и только после этого сказал: – По достакану серебра, по шапке и по золотому. Но сперва живой Андрюшка! – Как водится, – строго сказал Фома. После чего Маркел им поклонился, надел шапку, развернулся и пошел к двери. – И я! И я с тобой! Не торопись! – быстро-быстро зачастил Евлампий и кинулся следом. И они пошли вместе наверх по той узкой крутой лесенке. Маркел шел первым и гадал: Евлампий пырнет ему в спину ножом, не пырнет, пырнет, не пырнет…19
Не пырнул! А поднялись они наверх и остановились в том темном закутке перед дверью к прилавку. Маркел утер лоб и сказал: – Жарко у вас. – Так ведь Троица, – сказал Евлампий, – не зима как будто бы. – Да, – сказал Маркел, – твоя правда. И он замолчал. Евлампий тоже ничего не говорил. Так они еще немного постояли, после чего Маркел спросил: – Зачем ты меня туда звал? Убить хотел? А почему не убили? – Христос с тобой, Маркелушка! – с жаром сказал Евлампий. – Человека из Москвы убить! Ты что?! Да кто на такое решится! Фома, что ли? Да ему только под мостом сидеть и с пьяных посадских сапоги снимать, вот и вся его мочь! – А Тит? – спросил Маркел. – Он кто такой? – Ну, Тит, – неохотно ответил Евлампий, замявшись. – Тит – это птица залетная. Чистые ручки! Своего дела не держит, а что ему принесут, тем и приторговывает. – И что ему Фома принес? – спросил Маркел. – А они порознь пришли, – сказал Евлампий. – И оба ни с чем. А руки у обоих чешутся, в брюхе скворчит. Стали спрашивать службу. Прямо как с ножом к горлу пристали! – сказал Евлампий уже в голос, но тут же замолчал и оглянулся вниз, на лесенку, и опять вполголоса заговорил: – Евлаша, говорят, возьми на службу, может, чего кому надо. Да никому здесь ничего, я говорю, не надо, ироды, тут уже было всё, что может быть: царевича зарезали! Тут, говорю, надо сейчас тише травы сидеть! И тут вдруг вижу: ты. О, думаю, вот кому они послужат. И ведь угадал! Ведь послужили же! – Ну, послужили, – безо всякой охоты ответил Маркел. – И еще послужат, ты еще увидишь! – опять с жаром продолжал Евлампий. – Авласку в рог скрутят, если будет надо, и он всё тебе покажет! Он, этот Авласка… – И вдруг Евлампий замолчал, после спросил с обидой: – Или, может, мне не веришь? Так давай сходим в омшаник, я тебе его там покажу. И там их уже много, Петры их туда натягали, может, уже с десятка два. После бабы приходят, разбирают своих. А которых никогда не разбирают. Вот Авласку никогда, баба у него строгонькая… – И тут Евлампий сперва весело прихмыкнул, а после также весело продолжил: – А мы с тобой же холостые, Маркел, нас никто трепать не будет! Айда в белую, под образа, угол накроем – и по единой, и по единой, а?! – Нет, – строго ответил Маркел, – мне нельзя. Боярин ждет. Я же ему должен сказать, что служба служится, Авласка отсыпается, завтра пойдем с ним к Андрюшке. Так? – Так, – сказал Евлампий. – Вот и ладушки, – сказал Маркел и развернулся и пошел к двери, дальше прошел мимо поставца, Петр Малый (а теперь на раздаче был он) посторонился, Маркел поднял доску и вышел. И Евлампий вышел сразу за ним следом. И так он проводил его до самого крыльца. На крыльце Маркел остановился, дохнул воздуху: воздух во дворе был чистый и его там было много, дыши сколько хочешь, – и вдруг оборотился к Евлампию и так же вдруг спросил: – А какой этот Андрюшка из себя? – А, – сказал Евлампий, – мордатый такой, краснощекий и круглый, как репка. – И невысокий? – спросил Маркел. – Да, – сказал Евлампий и тут же спросил: – А что? – А чтобы узнать его, когда увижу, – сказал Маркел. – А! – опять сказал Евлампий. – Это запросто. Авласка завтра выведет. – Тогда, – сказал Маркел, – до завтрева. – До завтрева, до завтрева, – с улыбочкой сказал Евлампий и при этом даже поклонился. А Маркел уже пошел к воротам. И было тогда уже почти темно. Но Маркел шел быстро, и поэтому, когда он подошел к церкви (церквушке) Николы Подстенного, ее еще не успели закрыть. Маркел сразу вошел туда, там было очень сумрачно, только от свечей было немного света. Маркел вытащил три старые копейки-новгородки и одну просунул в кружку, а две отдал дьячку. Дьячок дал свечку, а после еще одну (потому что Маркел держал руку), и Маркел опять поставил одну свечку за упокой души невинно убиенного отрока Димитрия, а вторую – святому Николе для поставления на ум. Святой Никола морщил лоб, в церкви, кроме Маркела и дьячка, никого больше не было. Маркел стоял (на коленях, конечно) напротив святого Николы и ни о чем не думал и не спрашивал и даже не загадывал, а просто смотрел на образ. А дьячок сперва ушел куда-то, после вернулся и начал вначале прибираться, а после мести пол. Маркела он обмел с опаской. Маркел стоял (как и раньше, на коленях) неподвижно. После встал, еще раз перекрестился и вышел. На дворе было уже совсем темно, но тихо не было, а с разных сторон слышались разные голоса и шумы. Маркел перешел через мост, где его сразу пропустили, потому что узнали, а дальше прошел по кремлю и дальше его также почти сразу пропустили на внутренний двор, а дальше он уже совсем просто зашел к себе в их бывшую холопскую. Там было совсем темно, как в погребе, только от лампадки было немного света, и в этом малом свете Маркел увидел, что у них которые уже лежат по лавкам и спят, а которых еще нет на месте, и еще за столом кто-то спит, положив голову на руки прямо посреди закусок. Маркел подошел ближе и увидел, что это Ефрем-палач в своей знаменитой красной рубахе, подарке грозного царя Ивана Васильевича. Дурная примета, подумал Маркел, садясь на свою лавку, палач пьяный за столом на Троицу – это быть завтра кому-то убитым, а то и двоим, ну или послезавтра в крайнем случае. Вот с такой мыслью Маркел лег, перекрестился, закрыл глаза и не уснул, а лежал и представлял себе разное, по большей части то, как его могли убить в кабацком подвале и там же закопать, но Господь Бог не дал, слава Ему, Спасу нашему! Подумав так, Маркел опять перекрестился, а после опять задумался, теперь уже о разном, вразнобой, и так мало-помалу заснул. Проснулся он от того, что его кто-то дергал за ногу. Сапоги хотят украсть, быстро подумал Маркел и так же быстро сел. И увидел (даже больше догадался, чем увидел) перед собой Самойлу Колобова. – Чего тебе? – спросил Маркел, еще не совсем проснувшись. – Узнал? – спросил Самойла. – Узнал, – тихо, но очень сердито ответил Маркел. И так же сердито прибавил: – Долго жить будешь. – Ну, это как Бог даст, – так же тихо сказал Самойла. – Это же сейчас такое время, что утром даст, а вечером возьмет и отберет. Или вечером даст, а утром говорит: давай обратно. – Ладно! Разбудишь всех! – еще сердитей прошептал Маркел. – Зачем пришел? Что у тебя ко мне за дело? – Дела никакого нет, – сказал Самойла уже громче. И дальше почти весело продолжил: – Моя Мария как узнала, что ты к нам заходил, а нас дома не было, ой, раскудахталась! Говорит: Самойла, это не по-нашему, надо принять гостя! – Так не сегодня же уже! – сказал Маркел тоже уже вполголоса. – Ночь же уже какая! – Это мы понимаем, конечно! – сказал Самойла весело. – И она сейчас просто готовится, стряпает, а принимать будем завтра. И ждем тебя не к вечеру и не к обеду, а прямо с самого утра, Маркел, вот как! И она даже к заутрене не пойдет. Ну, вы, мы видим, никогда к заутрене не ходите, а она всегда. – Э! – начал было Маркел… Но Самойла перебил его: – Придешь, придешь, куда ты денешься! Небось, по домашнему соскучился. Это тебе не кабак, а домашнее, чистое, сытное. В Москве, небось, еще сытней. Да и знаю я московское, у меня дядя в Москве на Балчуге. И нам здесь московлянина принять почетно. Так придешь? – Ладно! – сердито сказал Маркел. – Приду, приду, уговорил. – И тут же в сердцах прибавил: – Сон перебил! Иди! Иди, я говорю! Сказал: приду – значит, приду. А пока иди, иди! И я, – сказал Маркел уже спокойнее, – выйду до ветру, а то сразу теперь разве заснешь? И с этими словами он поднялся. Самойла Колобов посторонился. Маркел обошел вокруг стола, за которым Ефрема уже не было (значит, уже проспался и ушел), и вместе с Самойлой вышел из холопской, а после через сени на крыльцо, а там и с него вниз, во двор. Дальше Маркел сделал знак рукой – и они молча прошли еще вперед, там зашли в тень, чтобы их под луной не было видно, и там остановились. Пусть другие думают, подумал Маркел, что они наладились втихую от Марии Колобовой выпить. И только он так подумал, как Самойла вдруг сказал: – Петруша сознался: был там тогда еще один человек, вот как! – Кто? – быстро спросил Маркел и весь аж задрожал, хотя примерно это он и ожидал услышать. Да только зря он радовался – Самойла развел руками и сказал: – Не знаю. Он же его не видел. – А откуда тогда знает, что там кто-то был?! – тихо, но уже опять очень сердито спросил Маркел. – Как не знать, – сказал Самойла. – Видеть не видел, зато чуял. Он же его сзади, со спины, тогда схватил и держал, не пускал к царевичу. И рот зажал, чтобы не пикнул. А после кулаком да по макушке бац – и Петруша повалился. А подскочил – глядь, а того уже и след простыл! А царевич весь в крови. И Петруша побежал кричать. – Сказав это, Самойла замолчал и отдышался. Потом сказал: – Вот как Бог свят! – и перекрестился. – Да, верно, верно, – шепотом сказал Маркел. После спросил: – Где Петруша? – За рекой, – сказал Самойла. – Нарочно не везли сюда? – спросил Маркел. – Чего? – спросил Самойла. – Нарочно сюда на ночь не везли, я говорю, – сказал Маркел. – Чтобы вдруг чего не приключилось. – Чего? – опять спросил Самойла. – А! – в сердцах сказал Маркел. – Не валяй дурня, Самойла. – И после уже спокойнее прибавил: – Да и на том тебе низкий поклон, что сам пришел. – И ты к нам завтра тоже приходи, – бодро сказал Самойла. – Утром они приедут раным-рано, и ты сразу к нам. – И тут же опять начал частить: – Не могу я Петрушу расспрашивать! Колотится он весь, заикается, белым становится. Как бы и его не разбила падучая, вот что! – А! – только и сказал Маркел. – Что? – спросил Самойла. – Да знаю я, кто это был! – с жаром сказал Маркел. – И ты тоже знаешь! – Нет, – сказал Самойла. – Ничего не знаю. – Вот и правильно, – уже опять спокойно ответил Маркел. – И так всем и говори, что не знаешь. И про Петрушу всем молчи. – Да я и так молчу! – сказал Самойла. – Ну так и молчи! – сказал Маркел. Самойла промолчал. Маркел подумал и сказал: – Никому не открывайте, кто бы что ни говорил. И за мной тоже не ходи. Сам приду, когда надо. А вы сидите и ждите. – И вдруг спросил: – А кто Петрушу завтра привезет? – Брат. С деверем, – сказал Самойла. – Вот это хорошо, – сказал Маркел. – И никуда его после не отпускайте! Пусть даже скажут, что к царице! Понял? Самойла кивнул головой. – А теперь иди, – сказал Маркел. – До завтрева. Самойла молча развернулся и пошел к себе. А Маркел – к себе. Когда же он пришел к себе и осмотрелся как мог, то увидел, что все лежат про местам и крепко спят, а Ефрема и вправду не видно. Только стоял винный дух и было душно, а так праздника как не было. Ну да душно не зябко, подумал, ложась, Маркел. И еще подумал: надо бы разуться. Хотя, тут же подумал дальше, а если вдруг что, тогда как? И так и остался обутым, и нож из руки не выпускал, а руку держал в рукаве, рукав был длинно спущен, ножа видно не было. Ну да чему тут удивляться, дальше подумал Маркел, у него же нож коротенький, а там был здоровенный нож, и если царица про него не знала, значит, он у царевича появился совсем недавно, может, даже только в тот день, может, даже сразу после обедни, когда они шли с матерью от Спаса к золотому крыльцу, а сколько там шагов совсем немного, и кто там тогда мог быть? Маркел полежал, еще подумал и после с радостной улыбкой вспомнил: а, и верно, говорила же царица, что эти трое там тогда крутились, а, вот оно что! Слава тебе, святой Никола, надоумил, быстро подумал Маркел и сразу же дальше подумал уже вот как: она их тогда увидела, разгневалась, они ей в голову запали, и поэтому, когда она после увидела убитого царевича, она сразу их и крикнула, вот как! Ну, и так далее и далее. То есть и не только так, а и еще много раз по-разному представлял Маркел тот день, когда царевича не стало, а время шло и шло, и вскоре начало светать, а мысли, напротив, начали смеркаться, путаться, и Маркел еще подумал, что в такое гадкое время в самый раз к ним заходить и кидаться на него и резать! И, чтобы такого не случилось, Маркел поднял руку и начал открещиваться… Но тут как раз и заснул, и его рука упала, и он больше ничего не помнил.20
Назавтра был понедельник, Духов день и девять дней по царевичу. Маркел, как только проснулся, сразу вспомнил про него и подумал, что нужно будет найти время и нарочно сходить в Спас и там постоять возле его могилки. Девять же дней – такой срок может, царевич что скажет, говорят, такое иногда бывает. А пока что надо ждать Авласку, подумал Маркел, поднимаясь. Нет, тут же подумал он, покуда этот глаза продерет, а после еще похмелится, Маркел успеет сходить к Колобовым. Да, Петруша Колобов сейчас важней всего, подумал Маркел как о совсем уже решенном деле. А у них тем временем уже накрывали на стол. Накрывали не ахти себе – гороховый кисель и каша. Ну да уже что Бог послал, как говорится, и они сели к столу и принялись за еду и запивку. Разговоров, как обычно после праздников бывает, никто никаких не вел. Даже Парамон, и тот помалкивал. В бывшей холопской было тихо. Вдруг раскрылась дверь и на пороге показался царицын сенной сторож в парчовом кафтане и в высокой черной шапке, и еще в руках он держал что-то завернутое в белый с узорами рушник. Все сразу перестали есть и стали смотреть на сторожа. Сторож спросил: – Кто тут у вас Маркел Косой? – Ну я, – сказал Маркел. Сторож подошел к нему, протянул ему рушник и сказал: – Это тебе государыня жалует. Маркел развернул рушник. Там был мягкий медовый калач. – Мать честная! – громко сказал Яков. А остальные просто повставали с мест. Маркел взял калач и тоже встал. – Сиди, сиди, – сказал сторож, добродушно усмехаясь. – Государыня велела сидеть. Пусть, сказала, сядет, перекусит, чтобы после легче бегалось. Садись! Маркел сел. Царицын сторож развернулся и ушел. Подьячие, которые уже тоже сидели, есть еще не начинали, а продолжали смотреть на Маркела. Маркел откусил кусок, калач оказался очень сладким и душистым, у князя Семена таких не бывало. Маркел запил киселем, еще раз откусил и подумал, что слаще калачей он в своей жизни не едал. – Ну как? – спросил Варлам. Маркел только головой кивнул. – Язык проглотил, – сказал Яков. – Га, еще бы! – сказал Парамон. А Варлам сказал: – А если бы в былые времена, так ему его бы вырвали. А что! Государь Иван Васильевич был строг на это дело! Да и государыне бы тоже мало не было! Га! Га! Чужим мужикам калачи подавать! – Но, но, но! – сердито сказал Яков. – Полегче! А то пораспускали боталы! А вот укорочу, и без Ефрема обойдусь! И все опять замолчали и стали есть дальше, как будто ничего и не случилось. Маркел ел царицын калач и думал, что теперь надо будет в блин разбиться, а этого гада найти. Да и чего его искать, думал он дальше, когда он от него почти не прячется, а даже нарочно лезет на рожон… И только Маркел так подумал, как опять открылась дверь, и теперь к ним вошел уже Авласка Фатеев и сразу с порога поднял руки и громко сказал: – Нашел, слава Тебе, Господи! Маркел отвел в сторону уже наполовину съеденный калач и осмотрел Авласку. Вид у того был очень неважный – он был без шапки, на лицо опухший, волосы всклокочены, а одежда вся в мякинном крошеве. Ну еще бы, сердито подумал Маркел, известно где валялся, и строго спросил: – Тебя Евлампий прислал? – Нет, – сказал, как выдохнул, Авласка. – Евлампий уже никого не пришлет. – Почему это?! – спросил Маркел. – Да потому что нет больше Евлампия, – с пьяной горечью сказал Авласка. – Приказал долго жить Евлампий сын Павлов, вот что! – Как?! – громко спросил Маркел. – И его тоже зарезали?! – Зачем зарезали? – сказал Авласка. – Сам помер, у себя в дому и на своей лежанке. Очень чинно! Но без покаяния. Потому что ночью помер, вдруг. Лег, говорят, здоровый, трезвый, а после взял и не проснулся. Вот как! – сказал он дальше уже почти весело. – Шум в доме у них, гам! Народ туда-сюда забегал. А Григорий мне сказал, что ты меня звал, и вот я и пришел. – Так, – сказал Маркел очень сердито. – Так! – И уже хотел было спросить, где Фома, но спохватился, промолчал и сказал совсем другое: – Отравили его, вот что! – И это он сказал, уже обращаясь к Якову, как к старшему среди подьячих. И сразу же добавил: – А отравили его вот кто: травник Андрюшка и вот этот гад! – И при этом показал, ткнул даже, калачом в сторону Авласки. И, повернувшись к Парамону, крикнул: – Вяжи его, ребята, и в тюрьму! В тюрьму, я говорю! Парамон с Иваном кинулись к Авласке, Яков велел им: – Крепче, ироды! Они схватили крепче. Авласка испугался, закричал: – Маркел Иванович, ты что?! Не виноватый я! – Я не Иванович, – сказал Маркел. И тут же еще раз сказал: – В тюрьму его! И не скули! – Это он сказал уже Авласке. – Вернусь – расспрошу, всё расскажешь! Я это умею – спрашивать! А я пока, – сказал он уже Якову, – пойду скажу боярину. – И быстро вышел в дверь. А дальше так же быстро он прошел через сени, а вот уже дальше не пошел, как говорил, наверх по лестнице, то есть туда, где теперь были палаты Шуйского, а почти бегом сошел по лестнице и так же почти бегом перешел через двор к так называемому медному крыльцу, то есть туда, где жительствовали Самойла с Марьей Колобовы, потому что, думал, сейчас нет ничего важней Петруши, надо Петрушу срочно расспросить, а Евлампий теперь что, теперь какой с него спрос, прости, Господи, а Авласке тоже лучше посидеть пока в тюрьме, там стены крепкие, дверь на запорах, его там никто не зарежет, не отравит и никаким иным способом не прикончит. А сейчас скорей, скорей к Петруше! И дальше тоже всё у Маркела получалось быстро: когда он взбежал на медное крыльцо, стража перед ним расступилась, он забежал в сени, так сразу сказали: а, московский стряпчий! – и дальше сказали, что ему налево и наверх, он так и сделал, а там наверху на лестнице сидел мальчишка, и как только Маркел взбежал туда, этот мальчишка сразу подскочил и быстро-быстро сказал: тебе сюда, боярин! – и открыл перед ним дверь. За дверью были маленькие сени, Маркел быстро через них прошел и попал в уже большие сени, даже это была горница, как он после увидел, и там сидел и ждал его Самойла Колобов, а рядом с ним, как Маркел сразу догадался, Самойлова жена Мария, нянька убитого царевича. Мария стояла неподвижно, опустив глаза и стиснув руки, а Самойла (который до этого сидел на лавке) сразу же вскочил на ноги и так же сразу выступил вперед и с жаром вскликнул: – Наконец пришел! А то мы тут уже измаялись! А… И замолчал, потому что увидел, что Маркел держит в руке объеденный калач. Маркел смутился и сказал: – Царицын. К столу принесли. – А! – сказал Самойла. – Вот что! – После сказал: – садись, садись, сейчас я его выведу. – И быстро развернулся и ушел в дальнюю дверь. А Маркел оглянулся, и отступил к стене, и сел там на лавку. А калач так и держал в руке. И Мария тоже как стояла, так и продолжала стоять молча и так же молча и не поднимая головы заламывать руки. Строгий у Марии муж, подумал Маркел с одобрением. Так он еще посидел, а она постояла, после чего раскрылась дверь и Самойла ввел Петрушу. Петруша тоже смотрел в пол. Самойла погладил Петрушу ладонью по голове, немного взъерошил ему голову, сказал: – Не бойся, ты же его знаешь. Он человек добрый. – И сразу спросил: – Так, Маркел? – Так, так, – сказал Маркел и даже улыбнулся. – Тогда иди, – сказал Самойла и легонько подтолкнул Петрушу в спину. Петруша медленно пошел к Маркелу. Самойла сказал Петруше: – Мы с матерью здесь будем, рядом. – После чего махнул ей рукой и они оба, то есть Самойла с Марией, вышли в ту дальнюю дверь. А Петруша подошел к Маркелу и остановился. Маркел разломил калач и одну половину оставил себе, а вторую дал Петрушу. Петруша начал есть калач. А Маркел не ел, а только смотрел на Петрушу. Когда Петруша съел свою половину, Маркел молча отдал ему свою. Петруша начал есть ее. Он ел медленно. Маркел молчал. Потом не удержался и спросил: – Хорош калач? – Хорош, – сказал Петруша. – И то! Царицын же! – сказал Маркел. – Я это знаю, – ответил Петруша. – Государь царевич мне такие давывал. – Когда? – спросил Маркел. – На Пасху? – И на Пасху, и так просто, – сказал Петруша и доел калач. Утер губы и прибавил: – Ему такие пекли часто, он их жаловал. – После чего не утерпел и начал рассказывать дальше: – Бывало, играем во дворе, и он же с нами, и он кричит: Арина! Это Жданова. Арина, пирогов неси! – кричит. И калачей! И эта несет. Да, – сказал Петруша уже с жалостью, – щедрот от него было много. А, говорил, стану царем, их будет еще больше. – Кому? – спросил Маркел. – Нам всем, – сказал Петруша. – А Годунова, говорил, велю зарядить в пушку и выстрелить в Крым. – Почему в Крым? – спросил Маркел. – А куда еще?! – удивился Петруша. – А, верно, – сказал Маркел. После спросил: – А что еще про царевича скажешь? Какой он был? – Щедрый, – сказал Петруша. – Но строгий. Если что не по его, так сразу палкой! – По голове? – спросил Маркел. – Обычно про спине, – сказал Петруша. – Но это не со зла, а для порядка. Он так и говорил: нет среди вас порядка, ироды, сейчас наведу! – и тогда палкой, палкой. Но это редко. И это же не посохом, как у царей заведено. А посох железный! Ну да чего тебе рассказывать, – тут же добавил Петруша, – ты же московский, ты царей навидался. Так? – Так, – сказал Маркел. После спросил: – А как на него падучая нашла, давно ли? – Нет, недавно, – сказал Петруша. – На Великом Посту началась. Тогда его, помню, крепко кинуло! Мы все перепугались и кто куда. Люди набежали, успокоили. – Где это было? – спросил Маркел. – Во дворе здесь и было, – ответил Петруша. – После, дня через три, опять. Государыня очень разгневалась, кричала: это Битяговские его испортили. Велела гнать его, не пускать его в ворота. А он кричал, что он царский слуга, и не стал денег давать, а все деньги были у него, так Годунов велел, чтобы у царицы денег больше не было, а все бы присылались Битяговскому, а уже он бы выдавал. Государь царевич за это очень крепко гневался: я, говорил, когда стану царем, сперва Годунова выстрелю, а после сразу – Битяговского. – А после кого? – спросил Маркел. – А после никого не называл, как будто бы, – сказал Петруша. – Ага, ага, – сказал Маркел. – А кто его лечил, когда у него была падучая? – Много кто лечил, – сказал Петруша. – Теперь всех и не вспомнить. Сперва одни, после другие, после третьи, и никто не вылечил. – А уродка? – спросил Маркел. Петруша подумал и, глядя себе под ноги, ответил: – Не знаю я никакой уродки. – Ладно! – сказал Маркел, усмехаясь. – Про уродку мне сама царица сказывала. – После помолчал, после спросил: – И, говорят, еще был Андрюшка травник с Конюшенной слободы, такого знаешь? Петруша молчал. – Это он царевичу дал нож? – спросил Маркел, и это уже строгим голосом. Петруша еще помолчал, а после ответил чуть слышно: – Я этого не знаю. – Эх! – тихо, но очень сердито продолжал Маркел. – А сзади кто тебя хватал? Андрюшка? – Не знаю я, – сказал Петруша, и его аж затрясло. – Не знаю! – повторил он уже громче. – Ладно, – сказал Маркел поспешно. – Ладно! Я же тебя не виню. Я же, может, тоже перепугался бы, если бы там тогда был. Хоть ты и малый, а я большой, а все равно страсть какая – царевича ножом зарезали! Или, – спросил, – он сам зарезался? Как было-то? Петруша помолчал, насупился, а после сказал вот как: – Нож его как будто сам зарезал! – О! – сказал Маркел. – Вот как! А Петруша, а он стал белый-белый, быстро-быстро продолжал: – Мне мать моя говорила: никому про это не сказывай, Петруша, не может такого быть, привиделось тебе это, скажут, что тебя испортили, околдовали, – и не видать тебе тогда добра, люди злы, Петруша, изведут они тебя тогда, начнут из тебя черта изгонять, молчи! А я тебе сказал! И тут он даже схватил Маркела за руки, и это получилось очень крепко! Маркел перепугался и сказал: – Петруша, что ты, что ты, успокойся, я никому не скажу! Вот крест! Вот только руки убери! Петруша убрал руки, и Маркел, когда освободился, осенил себя крестным знамением и тихо и очень серьезно сказал: – Как Бог свят! Никому ничего! Беды тебе не будет! Успокойся! Петруша молчал. Маркел тоже. Так они еще немного помолчали, после чего Маркел сказал: – Из дому никуда не выходи. И к себе никого не пускайте. А я скоро приду и еще калачей принесу. Сказав это, он еще раз усмехнулся и сразу позвал: – Самойла! К ним вышел Самойла. Маркел встал и еще раз ему сказал, чтобы они пока что никуда не ходили и к себе тоже никого не водили, а ждали бы его, он скоро будет обратно, после хотел еще сказать про Евлампия, да передумал, не стал, а надел шапку, развернулся и вышел. Внизу, в сенях, там, где был выход к медному крыльцу и дальше на внутренний двор, Маркел остановился и спросил у сторожей, как сразу выйти к Спасу. Один из сторожей встал и повел его. Там, оказалось, было всего две двери, и они через еще одни сени вышли на другую сторону хоро́м сразу на золотое крыльцо. Маркел быстро сошел с него и оказался на переднем дворе перед Спасом. Вот так же, подумал он, могли и другие тогда выйти, когда на внутреннем, так называемом заднем, дворе ловили злодеев. Ну да не до этого ему теперь, дальше, подумал Маркел, идя мимо Спаса, а после мимо колокольни, а после и мимо губной избы, в которой уже должен был сидеть Авласка. Но и не до Авсласки сейчас, пусть пока что посидит и протрезвеет, сердито подумал Маркел и прошел дальше, уже к самым кремлевским воротам. И так и дальше, нигде не останавливаясь, а только перекрестившись на купол Николы Подстенного, Маркел перешел через площадь, затем через ручей, затем поднялся в горку и подошел к распахнутым настежь воротам кабацкого двора. Григория в воротах не было. Заходи кто хочешь и бери что хочешь, дожили, совсем уже сердито подумал Маркел, входя в ворота.21
А после там было вот что. Маркел прошел дальше и увидел, что стоялая изба стоит закрытая, а люди видны дальше, справа, возле жилой избы. Маркел свернул направо и пошел туда. Там возле крыльца толпились люди, не меньше десятка. А на верху крыльца стоял Григорий и с ним незнакомый человек. Маркел стал подниматься по крыльцу. Григорий узнал Маркела и кивнул ему. Маркел остановился и хотел было с ним заговорить, но тут из избы на крыльцо вышел стрелецкий голова Иван Засецкий и с ним двое стрельцов. – О! И ты уже здесь! Как ворон, чуешь! – сказал стрелецкий голова. – Служба, – сказал Маркел. После спросил вполголоса: – Где он? – Там лежит, – сказал стрелецкий голова. – И не скажешь ничего. Румяненький! Живее нас с тобой! – И тут же добавил: – Прости, Господи! – и перекрестился. Маркел ничего на это не сказал, а снял шапку и вошел в избу. Там по такому случаю было темно, окна так и стояли, как были с ночи, закрытые, только впереди был виден свечной свет. Маркел пошел на него и вышел прямо к гробу, который стоял на столе, а стол стоял в трапезной и в гробу лежал Евлампий, уже обряженный. Евлампий и вправду лежал как живой и даже улыбался, только глаза у него были закрыты двумя золотыми ефимками. Рядом с Евлампием сидел чернец и чуть слышным голосом читал священное писание. Маркел подошел ближе и наклонился над Евлампием. Покойник был как покойник, ничем не примечательный, никаких следов на горле видно не было, и на руках ссадин тоже. Но могли и подушкой задушить, подумал Маркел, хотя это вряд ли, побоялись бы душить, он вчера же трезвый был, Маркел же его видел. Подумав так, Маркел перекрестил Евлампия и отошел к стене. А там уже стоял Большой Петр, целовальник. – О! – шепотом сказал Маркел, взял Петра за рукав и потащил к себе. Петр легко ступил к нему. – Поговорить надо, – сказал Маркел. Петр согласно кивнул и первым пошел к двери. Следом за ним пошел Маркел. В сенях они остановились, и Маркел сказал: – Покажи мне, где он помер. Петр повел. Евлампиева опочивальня (правильней, каморка) была рядом, через дверь. Они вошли туда, Петр развел огонь, и Маркел осмотрелся. Только смотреть там было почти не на что: широкая застеленная лавка да в углу сундук, закрытый на замок, напольный крест, окно и еще выше волоковое оконце, вот и все. На двери изнутри был пробой, а сбоку на стене – задвижка. Маркел спросил: – Было закрыто? – Нет, – сказал Петр, – как же! Было бы закрыто – дверь ломали бы. – Ага, – сказал Маркел, а сам при этом подумал, что Петр, значит, не виноват, и подошел к сундуку. Замок на сундуке был закрыт, а на самом сундуке, сверху, стояла пустая кружка. Маркел взял ее, понюхал, поморщился и спросил: – А это откуда? – Это он снизу принес, – сказал Петр. – Дурень! – сказал Маркел. – Ох, дурень! – и осторожно поставил кружку обратно. После сказал: – Это разбей потом. И не здесь бей, а над ямой, понял? И руки щелоком потри. Понятно? Петр кивнул, что понятно. Тогда Маркел спросил: – А внизу были? Есть там кто? – Нет никого, – сказал Петр. – А выходил кто? – Нет. – Тогда куда они девались?! – уже в сердцах спросил Маркел. – Кто девались? – спросил Петр. – Пойдем! – сказал Маркел. – Веди! Они вышли из каморки, прошли вперед по темным закуткам, после спустились вниз по лесенке. Внизу было совсем темно, но хорошо, что Петр взял с собой огонь, подумал Маркел, осматриваясь. Дверей там было всего три. Маркел открыл первую, ближайшую, – там под самый потолок стояли бочки. Во второй в углу лежал старый хомут, да и пол там был другой, глинобитный, а во вчерашней был обычный, земляной, в сердцах подумал Маркел и открыл третью дверь. Но и там тоже не было того, что он искал, там каморка была маленькая-маленькая и в ней стоял сундук. Маркел открыл его, там было пусто. Маркел повернулся к Петру и спросил: – А еще здесь двери есть? – Не знаю, – сказал Петр. – Я тут недавно. – А кто знает?! – спросил Маркел сердито. – Может, Григорий, – сказал Петр. Маркел утер губы, чтобы не плеваться, и, больше ничего не говоря, пошел наверх. Наверху он сразу вышел на крыльцо. Стоявший там стрелецкий голова спросил: – Ну что? – Помер Евлампий Павлович, – сказал Маркел. – Царство ему небесное! – И перекрестился. Стрелецкий голова перекрестился за ним следом. Маркел осмотрелся по сторонам и спросил: – И кому всё это теперь будет? – После спросил: – Был у него кто? – Сестра у него в Ростове, – сказал стрелецкий голова. – Он же сам ростовский. За сестрой уже послали. – Ага, ага, – сказал Маркел. И тут же спросил: – А где Григорий? – А он в кремль пошел, – сказал стрелецкий голова. – Прибежал мальчонка и позвал его. Сказал, к Варфоломеевне, как будто. И он с ним пошел. Быстро пошел, даже очень. – Тогда и я так же пойду! – сказал Маркел и, больше ничего уже не говоря, быстро пошел с крыльца, и дальше – с кабацкого двора, и еще дальше через площадь и к кремлю. Возле кремля, на мосту через ров, стояли стрельцы. Маркел спросил у них, не проходил ли здесь кабацкий сторож Григорий. – Нет, – ответили стрельцы, – не проходил, не видели. – Да как это не проходил?! – громко и уже в сердцах сказал Маркел. – Проходил же! Только что! И с ним еще мальчонка был! – Мальчонка, – сказали стрельцы, – проходил, это верно. Их даже было двое, а Григория не было, нет. Что мы, Григория не знаем, что ли? В кабак не ходим?! Но Маркел теперь уже молчал, поправил шапку и прошел в ворота. А пройдя через них в кремль, опять остановился и задумался. Хотя чего тут думать, тут же подумал он в сердцах, когда и так понятно, что обманул их Григорий и теперь его искать – это только тратить время. Ну да и ладно, подумал Маркел еще дальше и уже не так сердито, это, может, даже хорошо, что Григорий пропал, а то Маркел из-за него чуть было не забыл про Авласку. Авласка – вот кто ему нужен, с жаром подумал Маркел, вот кто всё знает и всё скажет, хватит ему сидеть в тюрьме! И с этой мыслью Маркел развернулся и свернул влево, к пруду, на берегу которого стояла губная изба, за которой сразу поднимался тын, и там была тюрьма. А на крыльце губной избы стоял стрелец. Маркел еще шагов за пять не доходя до него достал и показал ему овчинку, а на словах поприветствовал, после чего поднялся на крыльцо и сразу спросил: – Власа Фатеева сегодня приводили? – Дьячка здешнего? – спросил стрелец. – Приводили, как же, с час назад. А что? – Забрать его пришел, – сказал Маркел. И спросил: – Где он, внизу? – Нет, – сказал стрелец. – Внизу уже набито вон сколько! Нахватали же как не в себе! Но это посадских. А этот здесь сбоку сидит. – После пожевал губами и спросил: – Как это забирать его? Кто же его тебе даст?! Маркел, ничего не говоря, еще раз показал овчинку. На что стрелец сказал: – Ты мне ее не суй. Ты ее знаешь куда сунь! – Чего?! – грозно спросил Маркел. – Кого ее? И куда сунь?! Но стрелец не растерялся и ответил: – Э! Какой ловкий! Я никого никуда не совал! Я на стороже стою. А ты куда лезешь?! И кто тебя сюда звал?! – Я, – сказал Маркел спокойным голосом, а сам аж покраснел, – сюда не сам пришел, а вот с этим, – и еще раз показал овчинку. – А ты мне посоветовал ее… Чего? – Чего? – тоже спросил стрелец. – Скотина ты! – сказал Маркел. – Но-но! – сказал стрелец, поднимая пищаль как дубину. – Не очень-то! – Ладно! – сказал Маркел. – Чего это мы рассобачились? У тебя служба, и у меня тоже. У тебя своя и у меня своя. – И вдруг спросил: – Кто Власа приводил? Яшка-подьячий с товарищами? – Не знаю, как их кого звать, – сказал стрелец, – я вас не различаю всех. Но с ними еще были наши. И вот наши мне его сдавали с рук на руки. И только нашим я его теперь отдам. Или боярину Василию. Потому что его словом это делалось! – Это моим! – сказал Маркел. – У кого хочешь спроси, что моим! Это я велел его сюда! А теперь мне что, его обратно уже нет? – Нет, – строго сказал стрелец. И также строго прибавил: – Здесь обратно не бывает. Только если боярин Василий позволит. – Ладно, – сказал Маркел уже не с такой злостью, после убрал овчинку и сказал: – Будет тебе боярин, погоди еще. А пока ты меня хоть расспрос взять с него пустишь?! – сказал он уже очень громко и даже еще шагнул вперед. – Но! – так же громко ответил стрелец. – Осади! – и даже еще выше поднял пищаль и уже почти ударил ею! Но остановился, подумал и сказал: – Ладно. Иди. Но только расспрос! И только быстро! Понял?! – и даже указал рукой на дверь. Маркел прошел через нее дальше, в сени, а тот стрелец за ним следом. В сенях было уже четверо стрельцов, и они все сидели по лавкам. Маркел их поприветствовал и еще раз показал овчинку, а тот стрелец, с которым он пришел, сказал, что им нужен Влас Фатеев, дьячок этой губной избы, с него надо снять расспрос, и это боярину срочно. Срочно, еще раз сказал тот стрелец уже совсем громким голосом, после чего один из этих четверых стрельцов поднялся, подошел к ближней к нему двери и обернулся на Маркела. Маркел подошел к нему, стрелец открыл дверь, и они через еще одни сени (правильнее, сенцы) прошли к лестнице, после мимо нее провернули налево и оказались в еще одних, очень темных, но зато просторных сенях, в дальней стене которых было видно небольшое оконце, забранное крепкой железной решеткой. За решеткой было тихо. Маркел велел дать свету. – Здесь свету не положено, – сказал стрелец. – Как бы пожару не было. – А я сказал – дай! – грозно сказал Маркел. Стрелец что-то невнятно ответил и ушел. Зато из-за решетки сразу послышалось: – Маркел Иванович! Маркел Иванович! Маркел узнал голос Авласки, усмехнулся и сказал: – Я не Иванович, я говорил уже. Зови меня просто: боярин. – Боярин! – сразу повторил Авласка. И зачастил: – Боярин! Батюшка! Маркел Иванович! Вызволи меня отсюда, Христом прошу, они меня убить хотят! – Кто это – они? – строго спросил Маркел, подходя к окошку. – Да наши, губные, – ответил Авласка. – Они здесь все со мной. И Русин Селиванович здесь тоже. Шестеро их здесь, Маркел Иванович, а я один. А, вот оно что, подумал Маркел, и эти тоже с ним, ой, весело! После поправил шапку и спросил: – Ивашка Муранов, ты здесь? – Здесь, – мрачным голосом сказал Иван Муранов, углицкий губной староста. И дальше быстро-быстро продолжал: – Маркел, не обессудь, не знаю, как тебя по батюшке, но что это такое творится! Почему нас сюда посадили? Я ли народ не сдерживал? Я ли не послал гонца к вам, свинью эту, упредить? Я ли не… – Сам свинья! Сам свинья! – перебил его чей-то голос. – А кто начал! А кто подбивал! А кто велел бить в набат?! – Тпру! Тпру! – крикнул Маркел. И когда там затихли, спросил: – А это кто? Руська, ты? – Не Руська, а Русин Селиванович, – ответил Русин Селиванов сын Раков, углицкий городовой приказчик, правая, можно сказать, рука покойного государева дьяка Михаила Битяговского. – Русин, – еще раз сказал он. – Руська гусей пасет, не забывай это, Маркелка, я отсюда еще выйду, и сегодня же, потому что мне есть что сказать, а то, я вижу, распустили руки, а их укоротить недолго! А языки еще быстрей! – Это конечно, это всем известно, – сказал Маркел спокойным голосом. – Если за слова поносные, тогда укоротить язык. А если казне поруха, тогда что? – Что?! – грозно спросил Русин Раков. – А то, – сказал Маркел, – что за укрывательство тайной корчмы тебе, Руська, мало не будет. А ты ведь укрывал! – Чего?! – громко и даже с подвыванием спросил Русин. – Того, – сказал Маркел. – Знающие люди говорят, что укрывал. – Кто говорил? – задиристо спросил Русин. – Да вот хоть Евлампий говорил, – сказал Маркел. – Евлампий Павлов Шатунов, голова кабацкий. Еще вчера говорил! А теперь уже не говорит. А знаешь, почему не говорит? Потому что его сегодня ночью отравили. И кто это сделал, ты знаешь! Русин молчал. И все они там молчали. Маркел еще сказал: – Вот так-то, голуби. – После сказал: – Вот каковы дела веселые! А то наши уже стали поговаривать, что, мол, зря мы с собой Ефрема брали, а Ефрем зря брал свою рубаху красную, чтобы в работе не маралась. А вот не зря! – И тут он даже засмеялся. А за решеткой было тихо. Маркел грозно сказал: – Авласка! – И когда тот отозвался, сразу же спросил: – Ты когда в корчме в последний раз был? В пятницу? Авласка помолчал, после сказал: – Ну, в пятницу. – А когда царевича зарезали, ты тогда тоже там был? – быстро спросил Маркел, после сам же ответил: – Был! Был! А наливал тебе он или кто? Фома, что ли? – Нет, не Фома, – сказал Авласка. – Фомы тогда там не было. Баба его была, Хивря эта. Хивря и наливала. – А ты, – дальше сказал Маркел, – напившись там, пришел домой и лег спать. И тут хоть режь царевичей, а хоть кого еще повыше, тебе все равно! Так было? – Так, – тихо ответил Авласка. И тут вдруг опять заговорил городовой приказчик Русин Раков, он громко сказал: – Вот-вот! Вот, правильно! Они здесь все такие ироды, Маркелка! Так князю Семену и скажи! Воруют углицкие, все воруют! А государев дьяк их унимал, срамил, не давал воровать – и тогда они его убили всем скопом! – Ты что это?! – грозно вскричал Иван Муранов. – Что ты такое мелешь, старый пес?! – Пес! Пес и есть! – раздался еще чей-то голос, наверное губного целовальника Никитки. – Сами псы! – гневно ответил Русин Раков, и еще даже кинулся к самой решетке. Теперь Маркел увидел его голову и его руки, он ими схватился за решетку и продолжал с большим жаром: – Маркел! Слушай меня! Мне теперь что! Загубить они меня хотят, я знаю! Мишка с Гришкой, братья эти мерзкие, они в казну по локоть руки запустили, пресечь это надо, Маркелка, и по локоть им же руки обрубить, вот что Ефрему нужно приказать! И дайте мне бумаги, я буду челобитную писать на государево имя, я ему всё поведаю, Маркелка! – И тут замолчал и перевел дыхание, а после, сверкая глазами, спросил: – Так передашь?! Маркел подумал и сказал: – Грозные слова ты говоришь, Русин Селиванович. Да и не моего они ума. Да и писал ты уже одну челобитную, третьего дня, и боярин Василий ее уже читывал. Зачем ему еще одна? – Э! – сказал Раков громко. Отдышался и сказал: – Так та челобитная была ему, боярину, а эта уже будет царю! Дашь бумаги на царя? А, что ответишь?! – Ну-у! – сказал Маркел протяжным голосом. – Царь! Вот ты куда хватил! Тогда это тем более не моего ума. Ты это, про эту челобитную, должен говорить опять ему, боярину Василию, пусть он даст бумаги на царя или велит не давать, это он у нас державный человек, а я кто? Я человек маленький, моего ума дело – это тайная корчма, мне было велено ее сыскать, и вот я ее сыскиваю. Вот я и пришел по Авласку. Авласка в корчму хаживал. А ты, Русин Селиванович, разве тоже там бывал и сиживал и зернь метал? – Тьфу на тебя! – громко сказал городовой приказчик. – Вот то-то и оно, – сказал Маркел очень довольным голосом. И продолжал: – вот я и говорю, что ты не моего ума, Русин Селиванович, а моего – Авласка. И я сейчас пойду похлопочу, чтобы его отсюда взяли на двор на правеж, а то Ефрем засиделся совсем, говорит, что прямо руки затекли с безделья. – А я? – громко сказал городовой приказчик. – А про меня ты им скажешь? – И про тебя скажу, Русинушка, – сказал Маркел. – И попрошу. И боярин, знаю, на такое милостив. Принесут тебе бумаги, потерпи. А ты, Авласка, – продолжал Маркел, – тоже не спи, дожидайся, и за тобой скоро придут, – и с этими словами развернулся и пошел оттуда. Выйдя к стрельцам, Маркел сказал: – Так и не дали свету, ироды! – Свет там не положен, – ответил всё тот же стрелец. Маркел на это только гневно крякнул и вышел дальше, уже на крыльцо. Там тот стрелец, который раньше не пускал его, теперь насмешливо спросил: – Ну, как? Расспросил злодея? – Расспросил, – сказал Маркел сердитым голосом. – Много чего узнал! И мог бы узнать еще больше, если бы не здесь расспрашивал! Так ты же его не пускаешь, препоны чинишь! Ну так я теперь пойду к боярину и там скажу, что дело спешное и неотложное, но есть такие гады, которые… – Ладно, ладно, не пугай! – дерзко сказал стрелец, не дав Маркелу досказать. И так же дерзко прибавил: – Не ты его сюда привел и не тебе его отсюда забирать! Маркел на это только хмыкнул, развернулся и сошел с крыльца. А там прошел еще совсем немного, после чего остановился, осмотрелся… И увидел, что к нему идет какой-то человек. Человек этот шел очень быстро и при ходьбе махал рукой тоже очень решительно. Не к добру это, подумал Маркел. И, как оказалось, не ошибся, потому что тот подошедший человек сразу спросил, он не Маркел ли. Маркел ответил, что он. Тогда тот человек сказал, что ему надо идти к боярину, и тут же велел идти следом за ним. И повернулся и сразу пошел. Маркел пошел следом за ним и на ходу спросил, к какому это боярину, на что тот человек очень сердито ответил, что боярин здесь один – Михаил Федорович Нагой, и только дурни этого не знают. Маркел ничего на это не ответил, а только головой мотнул, идя за тем человеком.22
А дальше было вот что: они подошли к хоромам боярина Михаила Нагого, к тому самому крыльцу, что и раньше, и там стояли, может, даже те же самые мордатые сторожа с серебряными бердышами. Когда Маркел с тем человеком поднимались по крыльцу, сторожа молча расступились. А когда Маркел с тем человеком проходили через нижние сени, сидевший там на лавке сторож молча встал. Дальше они прошли наверх в просторные так называемые белые сени, где опять сидели сторожа, здесь уже на мягких лавках, и один из них сразу сердито спросил: – Куда прёте?! Тот человек, который вел Маркела, остановился и сказал: – Боярин звал же. – Может, и звал, да не так скоро, – сказал тот сердитый сторож. – Боярин еще не пришел. За дверью ждите! – И показал, за какой дверью, то есть у них за спиной. И тот человек с Маркелом вышли вон, и дверь за ними закрыли. Теперь они, как холопы, стояли обратно на лестнице. Тот человек, с которым был Маркел, сказал как ни в чем не бывало: – И правда! Служба же еще не кончилась. – И уже с важностью добавил: – Боярин службы соблюдает. Маркел молчал, только подумал: опять начинается, прошлый раз полдня прождал, и теперь тоже самое, эх, как не вовремя! Но что тут можно было поделать? Ничего. И Маркел стоял и ждал. А тот человек, который привел его туда, сперва молча стоял и смотрел в боковое оконце на двор, а после сел на ступеньку и снял шапку, и так и сидел, о чем-то думая и время от времени вздыхая. А Маркел ни о чем не мог думать! Да у него частенько так случалось, думал он, что вот, кажется, стой себе (или когда сиди себе) и ничего не делай, а только думай, а вот не думается же! То есть думается только об одном – что он напрасно тратит время вместо того, чтобы делать дело. Так и сейчас, думал Маркел, боярин стоит службу в Спасе – и пусть себе стоит и дальше, а Маркел мог бы пока что сбегать к красному крыльцу да там похлопотать перед Вылузгиным, а то даже и перед самим боярином Василием (хотя тот и запретил даже близко к нему подходить), чтобы Авласку отпустили из губной избы, ведь Маркел сам его туда отдал, чего там, и Авласку отпустили бы, и они с ним вместе пошли бы к Андрюшке, а там Маркел исхитрился бы… Но тут, как раз на этом месте, внизу послышался шум, и тот человек сразу вскочил, сказал: идут – и Маркел тоже снял шапку, которую было надел, и они оба отошли к стене и там замерли, как два болвана. А снизу послышались шаги, а после показались оба, Михаил и Григорий, Нагие, а за ними шла их дворня, Маркел и тот человек им низко поклонились, а после распрямились уже только тогда, когда Михаил с Григорием дошли до них. Михаил Нагой сразу узнал Маркела и сказал: – А, это ты! Хорошо, что ты здесь. Хочу с тобой поговорить. Так что никуда не уходи, жди здесь. А мы сейчас немного пообедаем, и я тебя позову. И Михаил и брат его прошли дальше. А после прошла и их дворня, и та дверь в сени за ними закрылась. Опять стало тихо. Эх, только и подумал Маркел, да что тут скажешь! И всего только и сделал, что опять надел шапку. А тот человек, при котором он был, опять сел на ступеньку и еще громко зевнул. А после совсем затих и не шевелился. Может, он и в самом деле заснул, думал Маркел, сердито поглядывая на него сверху вниз, потому что самому ему сон даже на ум не шел. Да и ничего другого тоже не шло, была только одна досада и лезла другая дрянь, а из толковых мыслей подумалась всего только одна – что если Андрюшки тогда в корчме не было, когда Авласка к нему приходил еще во время службы в ту субботу, за час до того, когда царевича зарезали, то Андрюшка вполне мог быть тогда в кремле, а то даже в самих царицыных хоромах, потому что, а что, а нужно было человеку, принес лечебной водицы, царевичу она очень нужна, она ему помогает, сама царица часто говорит позвать Андрюшку: царев дьяк напустил на царевича порчу, а травник Андрюшка ту порчу снимает – прямо как рукой берет и вон ее, – вот как царица, небось, говорила, и вот как тогда думал Маркел, вместо того чтобы, взявши Авласку, идти и искать Андрюшку. Да, а что, без Авласки никак, тут же дальше подумал Маркел, усмехаясь, вчера Тит же говорил, что Авласка знает, где искать Андрюшку, который, как все говорят, пропал неизвестно куда еще в тот день, когда царевича зарезали. Тит, еще раз подумал Маркел, закрыл глаза и представил, какой он из себя. И еще представил (правильнее, вспомнил), как изменился в лице Евлампий, когда Тит назвал себя Титом. И за это Тит его и отравил, тут же само собой подумалось. А что, дальше подумал Маркел, а нечего было рожу кривить, если тебя об этом не просили, да и не отравил бы Тит – так прибил бы Фома, а это чем лучше? Да ничто ничем не лучше, уже в сердцах подумал Маркел, а не водился бы ты, Евлампьюшка, с такими приятелями, так был бы жив. Ну да, подумал Маркел дальше, не водился бы Евлампий с кем попало – то и не был бы кабацким головой! Подумав так, Маркел даже сердито крякнул и даже кулаком махнул. Тот человек от этого аж встрепенулся и поднял на Маркела голову. Но Маркел уже стоял как ни в чем не бывало и молчал. Так он промолчал еще немного, думая опять о том же самом, а после вдруг раскрылась дверь, из нее вышел сердитый сторож и тоже сердитым голосом сказал: – Маркел Косой, ты где? Тебя боярин заждался! И Маркел, быстро сняв шапку, быстро пошел за тем сторожем в дверь. А дальше прошел через те сени, быстро глянул по углам, божницы нигде не увидел и тогда просто в уме трижды истово перекрестился, после чего уже вошел к боярину. На этот раз боярин был один, то есть только Михаил Нагой, без брата. И одет он был не по-домашнему, а в шубу (летнюю) и при сабле. И не сидел он, а стоял и грозно смотрел на Маркела. Маркел же, как только вошел, сразу же отвесил ему низкий поклон, а после распрямился и посмотрел прямо в глаза, но ничего ни спрашивать, ни просто говорить не стал. Михаил Нагой на это очень недовольно хмыкнул и сказал: – Дерзкий какой! Ну да и ладно, – сказал он сразу дальше. И велел: – Рассказывай! – О чем? – спросил Маркел. – О том, о чем ты за эти дни вызнал, о чем же еще! – сказал Михаил Нагой уже совсем в сердцах. – О другом мне мои люди скажут. Или грамоту пришлют от государя. А ты здесь для чего? И люди говорят, что ты уже узнал чего-то! Вон, Маша мне сегодня говорит, что ты знаешь, что Митю убили, и даже знаешь, кто убил. А мне такого ты не говорил! А ей сказал! Значит, узнал чего-то. Так скажи мне! Зачем от меня скрывать? Ну, говори! Маркел подумал и сказал: – Да ничего я не узнал. Откуда я узнал бы? Никто же ничего не говорит. – Э! – строго сказал боярин и даже пальцем погрозил. – Со мной так не шути. А то я тоже могу пошутить. Знаешь, как с такими шутят? Маркел кивнул, что знает. – Вот то-то же! – сказал боярин Михаил Нагой. – А теперь скажи: зачем ты Андрюшку Мочалова ищешь? – А что? – спросил Маркел. – Его искать нельзя? – Нельзя, – сказал боярин. И тут же вдруг спросил: – Или тебе это кто-то велел? – Как кто велел? – спросил Маркел. – А так! – сказал боярин. – А вот сказали: Маркелка, а ну сбегай и понюхай, нет ли у нас там чего на Мишку. Это значит, на меня. Нет ли, спросили, чего? А ты сказал, что нет. А они сказали: а ты поищи, а ты, Маркелка, постарайся, а мы тебя за это не забудем. – Это он сказал кисельным мягким голосом. И тут же по-волчьи взревел: – Было такое, а?! Маркел аж отшатнулся и сказал: – Нет, не было. – Нет, было! – сказал боярин. – Чую я, что было, было! Это Борис тебя сюда прислал, собака, а не Семен, что мне Семен, а вот Борис – этот моей смерти алчет, я это знаю! А я его алчу, да! И еще посмотрим, кто кого! Вот что тогда вскричал боярин Михаил Нагой! Но тут же унялся, замолчал, утер лоб, а после даже усмехнулся и сказал: – Только кому полслова пикни, понял?! Маркел молча кивнул, что понял. Боярин заложил большие пальцы рук за пояс и на каблуках туда-сюда качнулся, после хмыкнул, развернулся и прошелся по хоромине к окну и от окна обратно, остановился, осмотрел Маркела сверху донизу, после посмотрел в глаза и сказал уже совсем спокойным голосом вот что: – А, может, ты и вправду такой дурень, кто тебя знает. И ты ищешь Андрюшку, и думаешь, что он Митю убил. Да как он убил бы! Да и никому до этого уже давно нет дела, вот что! Понимаешь ты это или нет? Маркел молчал. Тогда боярин сказал уже тише: – Вот дурень! – И мотнул головой, и продолжил уже почти равнодушно: – И я тоже дурень, Маркелка. Я думал, они приедут, будут злодея сыскивать. А им злодей не нужен! Понял? Тут же такая радость: Мишка Нагой народ подбил, народ взбунтовался и убил государева дьяка, убил самосудом, и еще пятнадцать человек, радость-то какая, Господи! Давай Мишку в железа, давай его судить! Тут боярин замолчал и грозно засверкал глазами. А после еще сердитей и быстрей, и уже подступив к самому Маркелу, продолжал: – И вдруг ты, дурень, к ним туда же и кричишь: а еще там был колдун Андрюшка, Мишка с ним вместе ворожил, они хотели на государя напустить порчу и извести его, а пока что напустили порчу только на его младшего брата Димитрия и уморили его, хватайте Мишку – и на кол его, на костер! Так или нет, скотина?! И тут Михаил Нагой уже даже схватил Маркела обеими руками за ворот и начал трясти его. – Нет! Нет! – громко сказал Маркел. – Не погуби, боярин! Боярин отпустил его и даже отступил на шаг. А Маркел стал сразу говорить: – Да что же ты такое говоришь, боярин? Да кто же это скажет на тебя такое, что ты будто бы хотел своего родного племянника извести! Да у кого на это язык повернется?! – Га! – громко сказал боярин, но уже совсем без зла, а только насмешливо. – Га! – сказал он еще раз. – Да у Борьки повернется, у кого еще! И он так скажет, и никто ему не поперечит. И возьмут меня под белы руки и закуют в железа. И отвезут в Москву, и там сперва помучают, а после еще помучают, а после я, слаб человек, скажу:было такое, было! И тогда меня на кол. Вот так! И он опять засунул пальцы за пояс и начал ходить взад-вперед. После сел на лавку, вытянул перед собой ноги, начал вертеть ступнями и смотреть, как блестят-сверкают его начищенные сапоги. А Маркел молчал. А после боярин вдруг опять посмотрел на Маркела и начал говорить уже негромким голосом и с расстановкой: – Когда Митю в первый раз скрутило, я у сестрицы был, наверху. А он был во дворе. Снег еще был, зима. И вдруг бегут, кричат: в царевича нечистая вселилась! Сестрица сразу обмерла и глаза закатила. А я побежал на низ. А он там на снегу лежит и бьется. А все стоят вокруг и смотрят. Я к нему кинулся, скрутил его… – И вдруг спросил: – Ты думаешь, что мне нестрашно тогда было, а?! Маркел молчал. Боярин тоже помолчал, после опять заговорил: – Отвели его к отцу Степану, отец Степан дал ему святой водицы, он выпил, сразу зарумянился… А! – сказал боярин Михаил Нагой в сердцах. – Чего теперь это вспоминать. И чего только мы тогда не перепробовали! А ничего не помогало. И вдруг Василиса говорит: а вот на посаде есть Андрюшка-травник, ой какой силы человек, любую хворь прогонит! Сказав это, боярин перевел дыхание. А Маркел спросил: – Какая Василиса? – А… – сказал было боярин… И замолчал, нахмурился, а после медленно сказал: – Ты меня не лови, я не рыба. И я Мите добра желал. И я, – сказал он уже громче, – за Митю жизнь бы положил! И, может, еще положу, с Борисом это запросто. Но Андрюшку ты сюда не впутывай. Да и кому это теперь уже нужно?! – продолжал он уже со всем жаром. – Мне, что ли? Нет. И Марье тоже нет. Чего ей теперь?! Ей теперь одна дорога – в монастырь. А им, еще раз говорю, злодей не нужен. Да и дело уже сделано, Маркелка! Столы от красного крыльца уже убрали, расспросов уже не ведут, говорят, уже и так всё ясно, царевич сам зарезался, а ты, Мишка (это я) подбил народ на бунт и теперь за это ответишь. Ну, и буду отвечать. А ты, Маркелка, хочешь, чтобы я еще и за Андрюшку отвечал, за колдовство его. Чтобы мне еще и колдовство вчинили, так? Ты этого, Маркелка, хочешь?! – Нет, – сказал Маркел, – упаси Бог, боярин, чтобы я этого хотел. – После подумал и сказал: – Я, боярин, ничего им про Андрюшку сказывать не буду. Так это же я! А вот другие… мало ли. – А кто это другие? – настороженно спросил боярин. – А вот хотя бы Влас Фатеев, ваш здешний губной дьячок, – сказал Маркел. – Он сейчас в губной же избе сидит под запором. По моему слову, я велел. – Зачем? – спросил боярин. – А этот Андрюшка, – медленно сказал Маркел, – он еще держал тайную корчму у себя на подворье. А этот Влас Фатеев к нему хаживал, и я через эту корчму его и взял. Взял для себя! А он теперь у них сидит. И если они начнут его спрашивать, то он может со страху про Андрюшку брякнуть. И начнет дело крутиться, начнут Андрюшку искать… Ну и мало ли чего! – Ну! – сказал боярин. – А дальше? Зачем ты мне это рассказываешь? – А затем, – сказал Маркел, – что, может, ты, боярин, скажешь кому надо, чтобы этого Власа оттуда выпустили, пока он чего лишнего не брякнул. – Га, я скажу! – в сердцах сказал боярин. – И кто меня послушает? – А кто меня? – сказал Маркел. И дальше сказал же: – А мне он ох как нужен! Я без него никак! А с ним я сразу запросто найду! – Кого найдешь? – спросил боярин настороженно. – Ну как кого! – уже в сердцах сказал Маркел. После немного помолчал, после спросил: – Или пусть злодей на воле ходит? Боярин Михаил Нагой нахмурился, долго молчал, после сказал сердито: – Ладно. Иди! Там видно будет. Иди! – сказал он еще раз и даже махнул рукой. Маркел поклонился, развернулся и ушел – и всё это быстро, как мог.23
А когда он вышел из хором и уже даже сошел с крыльца мимо тех щекастых сторожей и прошел еще шагов с десяток, то остановился и поправил шапку (которую надел еще в сенях) и подумал, что неужели, как Нагой сказал, дело уже и вправду кончено? И повернулся в сторону красного крыльца, и увидел, что там и в самом деле нет никого и даже не видно расспросных столов. А ведь раньше, подумал Маркел, даже когда расспрашивать заканчивали, никто столы на ночь не убирал, а они так и стояли до следующего дня. А тут столов вдруг не стало! Вот те на, подумал Маркел дальше, подходя к красному крыльцу и останавливаясь ровно на том месте, где раньше стояли столы. Там уже даже стало видно место, где обычно стояла толпа (там теперь трава была сильно затоптана) и куда подводили к кресту, где уже тоже протопталась маленькая лысинка. А теперь там никого уже не было и только рядом, на красном крыльце, стояли стрельцы и с интересом смотрели на Маркела. Но Маркел ничего не стал у них спрашивать, потому что и так всё было понятно, и так же было понятно, куда кто отсюда ушел, потому что, подумал Маркел, время еще не слишком позднее, и повернулся и пошел к дьячей избе. И так оно и оказалось! Нет, даже еще быстрей, потому что не успел Маркел еще даже близко подойти к сказанной дьячей избе, как там на крыльцо вышел Яков, увидел Маркела и радостно воскликнул: – О! А вот и ты! А мы тебя ищем! – Зачем это я вам вдруг понадобился?! – так же весело спросил Маркел, продолжая подходить к избе. – Допить без меня не можете? Или закуска пропадает?! – Э, куда сразу хватил! – сказал Яков. – Это еще надо заслужить! А службы полный воз! А сроку до утра! Давай, скорей! – и даже рукой загреб, так он тогда спешил. Маркел поднялся на крыльцо и первым делом, мимо Якова, скорым глазом глянул в избу – и увидел Шуйского, стоявшего к нему спиной. Шуйский был в собольей шапке и собольей шубе и руки держал за спиной, что означало, что он сильно гневен. Маркел остановился и остолбенел и уже в таком виде увидел Овсея и Илью, они сидели за первым столом и писали. А дальше сидел Парамон, дальше Иван, Варлам, и они все тоже были с перьями и все писали. И перед каждым были свитки, и чистые листы бумаги, запас перьев, плошка с чернилами, плошка с песком. А дальше, в углу, стоял Вылузгин и смотрел прямо на Маркела. Маркел молча снял шапку. И тут Шуйский обернулся на Маркела и совсем не удивился и не обрадовался, а будто увидел в первый раз – и только поднял брови. Тогда Вылузгин сказал: – А это Маркел Косой, князя Семена человек. – После со значением сказал: – Проверенный! – А! – сказал Шуйский. – Тогда хорошо. – И уже у Маркела спросил: – Расспросы выправлять умеешь? – Как велишь, – сказал Маркел. – Садись! – велел Шуйский и указал на место рядом с Парамоном. Маркел прошел туда и сел. Парамон отжалел ему одно перо, после подвинул чернильницу, а Вылузгин тем временем сперва дал Маркелу две полудести чистой бумаги, а после сунул сверху еще полудесть исписанной и про нее сказал: – Это посошные. Перебелить. Понятно? Маркел кивнул, что да. – Тогда давай, не спи, – сказал Вылузгин. А после, уже обращаясь ко всем, строгим голосом прибавил: – Пока не кончим, отсюда не выйдем. Вот так! Никто, конечно, ничего на это не ответил. Все были заняты делом. Маркел тоже взял перо, зачистил ему носик ногтем, после взял исписанную полудесть и начал ее читать. Там кривым скорым почерком запись начиналась так: «Посошный человек Гриша Толстой Максимов в расспросе сказал: деялось это в субботу мая в пятнадцатый день, были они за городом с телегами, собирались уже отъезжать, как почали в городе звонить у Спаса, и они побежали в город через Никольские ворота, а там дальше сказали им многие люди, что царевич ходил на дворе и тешился с жильцами в тычку ножом, как вдруг пришла на него немочь падучая и он накололся, но сам Гриша того не видел, потому что был за городом». Маркел перевернул лист и на той стороне напротив того места увидел маленькую косенькую запись: «Гриша Максимов руку приложил». Маркел перевернул лист обратно и начал читать дальше. Там было уже так: «Посошный человек Конон Черныш в расспросе сказал: были они тогда все за городом рядом со двором Васьки Васильева, где кузница, когда в городе стали звонить, они побежали в город, и им там сказали, что это государь царевич тешился с жильцами в ножик в тычку, а тут его вдруг скрутило немочью и он упал и на ноже зарезался, а где он зарезался и как, того Конон не видывал, потому что он там не был». На оборотной стороне была Кононова подпись, тоже наискось. Маркел нахмурил брови и подумал, что кому всё это надо, такие расспросы! Но не успел он такое додумать, как Вылузгин подбросил ему на его угол стола еще одну исписанную полудесть и при этом сердито сказал: – Не читай! Не читай! И без тебя найдется, кому почитать! Ты знай пиши! Маркел вздохнул и положил чистый лист поудобнее, сверху сбоку приладил исписанный, обмакнул перо в чернильницу и начал переписывать. И при этом думать, что какая это служба гадкая – чужую дурь перебеливать, да только никуда не денешься, покуда здесь боярин. А боярин, сказанный Василий Шуйский, никуда пока что уходить не собирался, а сел сбоку на лавку, распахнул шубу и, глядя прямо перед собой, о чем-то своем задумался. А Вылузгин ходил между столами, заглядывая всем через плечо да и еще то и дело приговаривая примерно такие слова: – Не спите, голуби, не спите! Сделаете дело – после выспитесь. И от меня еще будет ведро, чтобы вам крепче спалось. А нет, так будет вам Ефрем! Государь боярин не велит, а я велю! А Шуйский на это молчал, даже как будто не слышал. А Вылузгин опять ходил туда-сюда и опять всех подгонял, а то еще и ругал, что, мол, написано где косо, а где густо, а где намарано, а как после царю читать, ну и так далее. Маркел тем временем перебелил расспрос Гриши Максимова, а за ним, и это уже быстрее, потому что приспособился, – Конона Черныша и начал Анкудина Рылова, который говорил почти что то же самое, что Гриша и Конон, и дело пошло еще быстрее. Да только, эх, думал Маркел, как ни спеши, а все равно будешь сидеть здесь до темного, потому что вон еще сколько письма, у Вылузгина стол просто завален весь, тут и до утра не справишься, так что если даже боярин Михаил Нагой и вызволит Авласку из губной избы, так боярин Василий Шуйский Маркела из дьячей не выпустит! И только Маркел так подумал, как Вылузгин остановился посреди хоромины и сказал им всем сразу: – Давайте, давайте! Скорее! Это только говорили, что гонец утром приедет, а он может и ночью нагрянуть! Ведь же может такое, боярин? И тут он поворотился к Шуйскому. И Маркел, и все остальные с ним вместе поворотились туда же. А Шуйский только головой кивнул, что может. Ага, вот оно что, подумал Маркел, опять принимаясь за письмо, они ждут гонца из Москвы, вот отчего такая спешка – Борис с них завтра будет спрашивать! Вот отчего Шуйский такой кислый: не хочется ему служить Борису, а приходится. Ну да это дело Шуйского, подумал дальше Маркел, заканчивая перебеливать расспрос Анкудина Рылова и принимаясь за Юшку Сопатого, а его, Маркела, дело, подумал дальше Маркел, – это дождаться Авласку и велеть, чтобы он вывел его на Андрюшку, показал, где тот скрывается, и пойти туда и взять Андрюшку! Да только как отсюда выйдешь, если они завтра ждут гонца! Подумав так, Маркел тяжко вздохнул и посмотрел сперва в окно, а после даже в раскрытую дверь, но нигде Авласки не увидел. Зато после почти что сразу к ним пришел так называемый дядя Игнат, любимейший и довереннейший слуга Шуйского, Шуйский, как только его завидел, сразу встрепенулся, но вставать не стал, дядя Игнат вошел в избу, подошел к самому Шуйскому, наклонился над ним и что-то жарко прошептал ему в самое ухо. – Иди ты! – громко сказал Шуйский. – Вот как Бог свят! – сказал дядя Игнат и перекрестился при этом. Шуйский встал и вышел за ним следом. Все сразу отложили перья и начали между собой молча переглядываться. Когда же Шуйский и Игнат совсем ушли, Яков негромко сказал: – Так, может, это не гонец, а сам Борис завтра сюда нагрянет? – Типун тебе на язык! – сердито сказал Вылузгин. После так же сердито сказал: – Давайте! Давайте! А то завтра из самих перьев наделают! Все опять взялись за дело. Маркел придавил пальцем то место, до которого он перебелил, а сам стал смотреть дальше. Дальше был расспрос Валерки Мальца, после – Нечая Баранчика, а после – Чудина Голована. А дальше была уже другая рулька, или, по-правильному, полудесть, Маркел взял ее и развернул и только начал было читать… Как Вылузгин громко и очень сердито сказал: – А ты сколько еще будешь возиться? – и подступил к нему. – Так как тут быстро справишься! – сказал Маркел. – Их вон сколько! – Знаю! – сказал Вылузгин. – Не хуже твоего! Сорок их человек было, вот сколько. И ты нам теперь, что ли, всех сорок будешь переписывать?! – А как еще! – сказал Маркел. – О! – сказал Вылузгин, обращаясь ко всем остальным. – Вы только гляньте на него! – И, опять обращаясь к Маркелу, теперь уже сказал ему как малому: – Нам они сорок не надобны. Что, государь про их всех сорок будет слушать? Да они одно и то же все нам говорили! Вот дай сюда! Маркел дал ему написанное. Вылузгин быстро мотнул по рульке взглядом сверху вниз, после также быстро снизу вверх, сердито усмехнулся и сказал: – Вот, я же говорил! Ну ладно. Некогда тебя сейчас учить. А сделай вот как. Сверху начни вот так: «Посошный человек Гриша Толстой Максимов, и с ним все другие посошные люди, сорок человек, в расспросе сказали…». Ну и так дальше. Понятно? Маркел молчал. Тогда Вылузгин сказал еще такое: – Ты из себя умника не строй! Тут люди дело делают. И ты его тоже делать будешь. Покуда я жив! И вот что еще. Ты чего так буковки выводишь? Тебя кто об этом просил? Ты же черновик выбеливаешь, а не беловик, понятно? Черновик от тебя нужен, вот что. Всё сначала переписывай! И чтобы рука легкость имела, легкость, чтоб плясала, вот тогда и будет черновик. Давай! Маркел вздохнул, взял другой, чистый полулист, подумал, посмотрел на старое и начал: «А городчане посошные люди Гриша Толстой Максимов и все посошные люди сорок человек сказали в расспросе…». Ну, и так дальше и дальше. Теперь рука так и летала, буквы скакали то густо, то пусто, Вылузгин, проходя мимо, с одобрением сказал, что славно получается. Тогда Маркел еще прибавил и всё поглядывал то в дверь то в окно, поглядывал… А у других то одно, то другое не ладилось, и тогда Вылузгин им то одному, то другому, то еще кому выговаривал примерно такими словами: – Что ты тут написал? Убери это немедленно! Гадость какая, и царю это читать?! Вымарывай, кому сказал! А здесь кратенько надо. И мяконько. Перепиши. Ну и так дальше. И вымарывали, и исправляли, и переписывали, потому что – а куда ты денешься. И дело мало-помалу шло вперед, Вылузгин брал подаваемые ему густо исписанные рульки, еще раз их прочитывал и передавал Илье, Илья их складывал одну к другой и некоторые даже уже склеивал между собой, а Вылузгин поглядывал на пустеющий короб с чистой бумагой и, с трудом скрывая радость, приговаривал: – Разорите вы меня! Все запасы скоро перепачкаете! Ох, завтра гонцу пожалуюсь! – И, потирая руки, усмехался. А за дверью, во дворе, уже понемногу начало смеркаться. А Авласки не было и не было. И вдруг… Маркел увидел через дверь Авласку. Авласка стоял во дворе и тоже поглядывал в дверь, но с другой стороны. Вид у Авласки был довольный. Ну еще бы, подумал Маркел, из тюрьмы человек вырвался! И отложил перо и встал из-за стола. Вылузгин удивленно посмотрел на него. Маркел сказал: – Пришли за мной. Я скоро. – И пошел к двери. – Эй, ты чего это! – сердито сказал Вылузгин. – Кто позволил?! А ну сядь! – Нет, не могу, – сказал Маркел, дойдя уже до двери и там обернувшись на Вылузгина. – Служба у меня такая, надо человека расспросить. – Какой человек! И какие расспросы! – уже просто гневно вскричал Вылузгин. – Всех, кого надо, уже расспросили. Да и кого зачем было расспрашивать? Царевич по небрежности зарезался, а эти рады бунтовать! И теперь они все тут! – И он хлопнул ладонью по стопке выправленных рулек и грозно осмотрел подьячих. Те все преданно молчали. А Маркел надел шапку и, даже не перекрестившись, вышел – вот как он тогда спешил! Но Вылузгин этого так не оставил – он тоже, и почти бегом, вышел следом за ним на крыльцо, увидел во дворе Авласку, и понял в чем дело, и грозно продолжил: – А, вот оно что! Ладно, ладно! Обоим виска будет! И вырвут вам ноздри, собаки! Уж я похлопочу, похлопочу! Завтра гонец, а им гули! Погуляете вы после мне, ох погуляете! Ремней из вас нарежут, сволочи! И он еще что-то грозил, а может, и увещевал уже, но Маркел его больше не слышал, а крепко схватил Авласку под руку и повел (почти что поволок) его прямо мимо колокольни к Никольским воротам, а там – через них, через мост…24
И остановился уже только на площади перед торгом, и то только для того, чтобы поклониться Николе Подстенному, после чего опять повернулся к Авласке и скорым голосом сказал: – Переговорить мне с тобой надо очень спешно! И чтобы никто не мешал! – А перевел дух и добавил: – И еще перекусить чего-нибудь. А то с самого утра хоть бы какую муху съел бы! – А, – сказал Авласка, осмотрелся, сказал еще раз: – А! – И только после этого, сообразив, чего Маркелу надо, ответил: – Тогда нам сюда, на торг. – Так торг давно уже закрыт! – сказал Маркел. – Для кого как! – сказал Авласка. – Ну! И они пошли к торгу. Торг, конечно, был уже закрыт по случаю позднего времени, в проходах между крайними лавками стояли рогатки. Правей, сказал Авласка и так и взял правей, а за ним так взял и Маркел. Так они дошли, и это лавок через пять, до следующей рогатки, где уже стояли сторожа, их было двое. Сторожа сразу узнали Авласку и дружески поприветствовали его, а он так же приветствовал их, после чего сказал, что он к Костырихе и этот человек с ним тоже, – и указал на Маркела. Сторожа посторонились, Авласка и Маркел легко перелезли через рогатку и пошли по пустому проходу. Ряд был, судя по запаху, какой-то из съестных, но везде всё было закрыто и никого, даже собак, там не было. Дойдя до поворота, они повернули, после еще два раза поворачивали и зашли в какие-то дальние, тесные места, но там тоже пахло снедью, Авласка подошел к одной двери (закрытой снаружи на заклад) и постучал в нее условным стуком. Там долго никто не откликался, а после бабий голос спросил, кто там. – Свои! Или не видишь разве?! – строго ответил Авласка. Бабий голос сказал «откидать». Авласка откинул заклад, тогда дверь с той (внутренней) стороны потянули на себя, она открылась и Маркел увидел очень старую старуху, одетую в такие же очень старые отрепья. – Жениха к тебе привел, – сказал Авласка. – Прими, обогрей. Старуха (правильней, Костыриха, ее так звали) отступила внутрь и махнула рукой проходить. Авласка и Маркел вошли. Теснота там была страшная! И темнота! И духота. Но, правда, дух был съедобный, лавка же, как после оказалось, была блинная, и поэтому там пахло квашней, сырым тестом, горелым маслом и просто блинами. – Огня дай хоть какого, мы же не кроты! – строго сказал Авласка. Старуха раздула огонь, стало кое-чего видно, Маркел с Авлаской протиснулись между мешками (а их было навалено под потолок) и сели к столу, в дальний угол, чтобы сидеть лицом к двери. Авласка, садясь, опять строго сказал: – А обогреться? Старуха (а она оказалась не по годам проворная) пошарила в углу и выставила на стол кувшин, сказав в при этом: – Не знаю, откуда взялся. – А! – радостно сказал Авласка. – Сейчас не узнаешь, куда он пропал. Дай шкаликов! И дай заедки! Старуха, ворча, выставила шкалики, а после в миске два окрайка хлеба, несколько головок луку, сушеную рыбу и еще полрыбы. – У нас всё есть! – сказал Авласка, наливая в шкалики. После строго глянул на старуху и сказал: – А теперь иди гуляй, красавица. Я после стукну, когда будет надо. Старуха (правильней, Костыриха) ушла на другую половину и плотно закрыла за собой дверь. Маркел и Авласка посмотрели один на другого, после один другому кивнули и выпили. После так же молча закусили. А там выпили и закусили еще раз, и это уже не так быстро. Дальше Маркел сказал: – А теперь пора за дело. Как тебя из тюрьмы вызволяли? – Просто, – сказал Авласка. – Пришел тот мордатый, сказал выходить, и я вышел. Он мне на крыльце еще сказал, что ты меня ищешь, и срочно, и это всё. И я пошел тебя искать. – Мордатый – это кто? – спросил Маркел. – Ваш стрелец, – сказал Авласка. – Теперь здесь везде их власть. – Ладно, – сказал Маркел. После сказал: – Это тебя боярин Михаил Нагой на волю выпустил. Помни об этом! Авласка хмыкнул. – И не хмыкай тут! – сказал Маркел. – Евлампий хмыкал и отхмыкался! А до него Давыдка Жареный. Про Давыдку знаешь? – Что знаю? – настороженно спросил Авласка. – То, что его тем же ножом зарезали, которым до того зарезали царевича, вот что! – сказал Маркел с жаром, но тихо. Авласка отшатнулся, а Маркел еще сказал: – И это не Фома убил, а Тит! Авласка, выпучив глаза, молчал. Отстраняться ему уже было некуда. А Маркел сказал всё так же тихо: – Он бы и меня убил тогда, да только того ножа с ним не было. – Того – это какого? – так же тихо спросил Авласка. – Красивый нож! – сказал Маркел. – И дорогущий! Че́рен весь в жемчугах, в самоцветах, а жало огнем горит. И кого надо сам режет! – Как это сам? – спросил Авласка. Но Маркел его будто не слышал, Маркел продолжал: – Мне Петруша про него рассказывал, Петруша Колобов. Петруша видел этот нож, когда они с царевичем пошли под яблоньку в тычку играть. Царевич еще сказал, что это не простой нож, а индейский. Это же какая сила в нем, Авласка! Этим ножом можно слона зарезать, индейцы так слонов и режут. – И вдруг спросил: – Знаешь, что это за зверь такой – слон? – Как пять быков, – тихо сказал Авласка. – А тут царевич! – так же тихо продолжал Маркел. – Разве царевич устоял бы? Вот его тот нож и зарезал. Авласка помолчал, подумал, после сказал чуть слышно: – Мудрено ты говоришь, Маркел Иванович. – Я не Иванович, – сказал Маркел. – Сколько можно повторять? – После помолчал, прислушался, ничего нигде подозрительного не услышал и заговорил уже вот как: – Я сразу почуял, что царевич не сам зарезался. А после смотрю, а чем зарезался? А ведь ножа нигде нет! И я стал искать нож. И мало-помалу люди стали говорить: лежал нож возле царевича в траве. После рассказали, каков он был из себя. Очень богатый нож! И вдруг, пока там была та замятня, когда царица прибежала и народ кричал, Давыдка этот нож украл. Может, пропить его хотел, не знаю. Но злодей ему того не дал! Злодей пришел и зарезал Дывыдку и нож с собой унес. А кто злодей? Никто его не видел! Только одна баба-уродка, она у царицы в шутихах жила, и еще зелья варила и царевича лечила от падучей. Так вот она одна сказала, что убил царевича ползучий гад! Знаешь, как его зовут? Авласка мотнул головой – нет, не знает. – Вот так и я, – сказал Маркел. После чего взял кувшин, налил им обоим, после взял свой шкалик, поднял, понюхал и сказал: – Гадость какая! А вот у Андрюшки чистая. Ведь чистая? Ты это знаешь? Авласка кивнул, что знает. Тогда Маркел поставил свой шкалик на стол и сказал: – Я вчера, когда ты уже в омшанике спал пьяный, приходил к Евлампию, было у меня к нему дело, и Евлампий отвел меня к себе в подвал, в каморку тайную, и там сидели двое его тайных же товарищей. Одного звали Фома, и ты, я так думаю, его хорошо знаешь, медведь такой здоровенный. Знаешь такого? – Ну, может быть, – сказал Авласка. – Вот до чего винишко доведет, вот до какого знакомства! – насмешливо сказал Маркел. – Ну да это ладно, после сам отмолишь. И был там еще один его товарищ. Невысоченький такой, румяный, борода подсечена, ручки холеные, беленькие, только вот тут, на мизинчике, как будто огнем когда-то обожгло. Он это место прятал. И назвал он себя знаешь как? – Андрюшка! – послышалось сзади. Маркел обернулся и увидел ту старуху (правильно, Костыриху), усмехнулся и сказал: – А я знал, что ты будешь подслушивать. И для тебя рассказывал. – И тут же, не давая ей опомниться, продолжил: – Я вижу, ты хорошо его знаешь. – Как не знать! – ответила Костыриха сердитым голосом. А Маркел, наоборот, веселым продолжал: – Еще бы! Это же он тебя до такой голоты довел. Разорил он тебя, я так понимаю. Раньше ведь все добрые люди к тебе да к тебе, и ты всем по шкалику, а они тебе в запись… Молчи! – строго велел Маркел. – Не спрашивали, помолчи пока! – И продолжал: – Раньше все к тебе по шкалик, а теперь все к нему. Потому что у него без запаха. И как слеза! Так? – Не понимаю я, боярин, – сердито сказала Костыриха. – Это ты про меня такое говоришь? Какие записи! У меня блинная лавка, боярин, блины мой товар, а если добрый человек пришел и я ему шкалик налила, так сказал бы «не хочу» – и я не подавала бы. Ну так хоть сейчас уберу! И она схватилась за кувшин. Но Маркел перехватил ее руку, сжал ее крепко, усмехнулся и сказал: – Садись, красавица, мы и тебе нальем, найдем шкалик и поговорим по душам. Ведь нам есть о чем поговорить! – И вдруг грозно велел: – Садись! Костыриха села. – Влас, налей баушке, – велел Маркел. Авласка взял пустой шкалик и налил Костырихе, а после даже пододвинул к ней ближе. Маркел сделал бровью вот так, и Костыриха послушно выпила. Маркел подал ей головку лука, Костыриха взяла ее закусывать. После Маркел спросил: – Давно Андрюшка здесь у вас? – С зимы, – ответила Костыриха, а Авласка утвердительно кивнул на это. – А откуда он здесь взялся? – дальше спросил Маркел. – Никто не знает, – сказала Костыриха. И продолжила в сердцах: – Черт его принес сюда, вот кто! И всё ему было позволительно! Он же сразу завел то, что ты ищешь. И все про это знали – и губные, и Русин, и бояре. И все молчали! Потому что он… – И вдруг замолчала. – Что «потому что он»? – спросил Маркел. Костыриха молчала, только сердито жевала губами. – Колдун, хочешь сказать? – спросил Маркел. – Не знаю я! – ответила Костыриха. – Может, он и не колдун, я в колдунах не разбираюсь, но то, что он в свое зелье какого-то опою добавляет, это точно! – Какого еще такого опою? – удивился Маркел. – Опой, зелье такое, – сказала Костыриха уже не таким уверенным голосом. – Этого опою выпьешь, а завтра его еще хочется, а на послезавтра еще больше, и так сильней и сильней. И после без этого опою уже совсем житья тебе нет, вот что! После все как дурные становятся. Вот ты на него посмотри! – продолжала Костыриха, указывая на Авласку. – Он же совсем ума лишился, домой по три ночи не кажется, а всё туда, туда! – Ты чего это такое городишь, бесстыжая! – грозно вскричал Авласка. – Помолчи! – велел ему Маркел и тут же спросил у Костырихи: – А с царевичем он как? Он же царевича лечил! Царица говорит, царевичу от этого легчало. – Легчало, га! – громко и гневно вскричала Костыриха. – Вон как полегчало, все видели! Где он сейчас?! А всё через тот же опой. Только этим дурням, – и она кивнула на Авласку, – он давал белый опой, а царевичу черный. От черного опою болезнь не болит, но и не лечится. – А ты откуда всё это знаешь? – строго спросил Маркел. – На правеже повторишь, если что? – Вот-вот! – сердито сказала на это Костыриха. – Пускай таких в избу, наливай таким по шкалику, а они тебя после под кнут да на дыбу. – Осади! – сказал Маркел. – Разве я про кнут сказал? – А про правеж? – сразу в ответ спросила Костыриха. – Ну не гневись, сорвалось по горячности, – сказал Маркел. – Тогда отвечай так, без правежа: отчего царевич помер? – Играл с ребятами в тычку, – сказала Костыриха, – а тут напала на него падучая, он упал на нож и накололся. А падучую, – сказал она громче, – на него наслал Андрюшка! – Нет, – сказал Авласка. – Сперва была падучая, а уже после люди стали говорить боярам, что объявился на посаде такой человек Андрюшка, большой искусник, он может царевича вылечить. И вот уже только тогда бояре, даже только один боярин Михаил, призвал того Андрюшку, испытал его и доверил ему вылечить царевича. И сулил большие богатства за это. – Так? – спросил Маркел у Костырихи. – Ну, можно сказать, что и так, – ответила Костыриха. – Только всё равно сперва Андрюшка к нам приехал и у себя на Конюшенной слободе поселился, а уже только после этого на царевича напала падучая. И злые люди научили боярина призвать его лечить того, кто эту порчу напустил. И он залечил царевича совсем! – Ох! – сказал Маркел насмешливо. – Как же ты крепко его не жалуешь! Зато у него винцо чистенькое и дух от него смородиновый. А у тебя, – Маркел принюхался, – фу, брагой как разит! А ты говоришь: блины, блины! – Блины и есть, – с большой обидой сказала Костыриха. – А не нравится мой дух, так и не сиди здесь. Вот Бог, а вот порог! – Но-но! – строго сказал Маркел. – Я тебя, баушка, могу прямо сейчас взять за шкирку и свести в губную, и будет тебе за урон казне знаешь сколько кнутов? А вот не беру же я тебя, а вот сижу же и даже выпиваю это мерзкое, корчемное! – После чего велел: – Налей, Авласка, а то в горле что-то запершило. Авласка налил. Они все трое выпили (Костыриха неполную) и начали закусывать. Маркел, жуя, заговорил: – Я, баушка, вообще-то к тебе только затем и пришел, чтобы перекусить маленько. Изголодался я за день на службе, маковой росинки с утра не было, и тут вдруг твои разносолы. А дело у меня к нему, Власу Фатееву. – И, повернувшись к Авласке, он продолжил уже так: – Ну так вот, опять говорю, начинаю сначала, а то она нас перебила тогда: вот прихожу я вчера к Евлампию по одному делу, а у него уже двое сидят: Фома и… Нет, не так! – сам себя сердито перебил Маркел. И так же сердито продолжил: – С самого начала надо начинать! Зачем мы все сюда приехали? Потому что было сказано: зарезали царевича ножом, зарезал неизвестно кто. А после оказалось, что и нож исчез, его украли, и тоже неизвестно кто украл. Никто не знал, куда тот нож девался. Да и не узнавал никто, никому до него дела не было, все только и знали, что искать крамолу! А я крамолы не искал, мне было другое велено. И я ходил, ходил кругами и высматривал, выслушивал, а когда, даже можно сказать, и вынюхивал, как пес… И рано, поздно ли, а вот узнал, куда тот нож девался, кто его украл! Украл его Давыдка Жареный, Карп Крюков мне это сказал, а после другие подтвердили. Но пока я искал Давыдку, его уже тоже убили, тем же ножом зарезали. И опять никто не знает, ни кто убил, ни куда опять нож подевался. Но я уже узнал, почуял! А когда я чую, никогда не ошибаюсь, такой уже у меня нюх. А тут чую, что это Андрюшкин нож! И тогда я уже стал везде искать этого Андрюшку, а его нет нигде. Одни мне говорили, что он съехал неизвестно куда сразу в тот же день, когда царевича не стало, а другие говорили, что никуда он не съезжал, а просто прячется. И вот тогда уже, а это было вчера, я пошел к Евлампию, потому что я знал, что у Евлампия с Андрюшкой была некая торговля тайная, баушка знает какая. И вот я пришел к Евлампию спросить, где мне искать Андрюшку. Строго спросить хотел! А он, этот Евлампий, тогда еще не покойный, вдруг встречает меня как родного и, хоть я того и не просил, сразу ведет в тайный подвал. А там уже двое сидят: один Фома, ты его знаешь. А кто второй, угадай! – Андрюшка? – спросил Авласка. – Нет, Тит! – сказал Маркел. – А говорили, что Андрюшка, – сказал Авласка и посмотрел на Костыриху, и даже сказал ей с упреком: – Это ты же сказала, что это был он! Костыриха на это промолчала. Зато Маркел сказал: – Так это он и был. И я это сразу почуял. А он сказал, назвал себя: он Тит. И Евлампий и Фома на это промолчали. Вот так же мы тогда сидим за тем столом и Андрюшка говорит: он Тит, а эти двое молчат. Вот как там вчера в подвале было, когда ты пьяный дрых! А мне стало весело тогда! Я же чую, кто он есть на самом деле, но молчу. Нет, я еще даже говорю ему: Тит, а скажи, где мне найти Андрюшку. А он на Евлампия, а после на Фому посмотрел, они опять молчат, и тогда он после говорит: а ты завтра спроси у Авласки, а то он сегодня пьяный спит и ничего не скажет, а завтра спроси, где найти Андрюшку, и он тебе скажет. Сказал мне это и смеется! И ты ведь скажешь, где искать? – Ну, скажу, – сказал Авласка без особой радости. – Вот! – сказал Маркел. – Я так и знал, что ты скажешь. И он, Андрюшка, это знал. Но вот что еще веселее, Авласка: он знал даже и то, зачем я его ищу, – за то, что он убил царевича! – Мудрено что-то говоришь, Маркел Иванович, – сказал Авласка. – А что мудреного?! – сказал Маркел. – Яснее ясного, вот как! Играет он со мной, как кот с мышью! Потому что нечего ему меня бояться! Ну и приду я, и скажу, что это он убил, а дальше что? Кто на него показывал? Никто. А я как покажу? Скажу, что я чую? А мне скажут: чует только пес, а с псов расспросов не снимаем и псов же, прости, Господи, к кресту не приводим, а вот ты людей, Маркелка, назови, пусть люди придут, и поцелуют крест, и скажут на него, и тогда мы вас всех на правеж, и там правду узнаем! А никто не говорит, и правежа тоже не будет. Вот Андрюшка и смеется: приходи! Сказав это, Маркел сильно нахмурился и помолчал, после опять заговорил, теперь уже спокойным голосом и вот о чем: – Эх, был бы у меня еще день-два в запасе, как я думал. Я бы тогда его выследил, я бы нашел людей, которые на него показали бы, потому что нет ничего на свете тайного, всегда есть кто-нибудь, кто видел, надо только его найти… Но нет у меня времени искать: дело закончилось, расспросов больше не снимают, а черновые перебеливают и в общую рульку склеивают, завтра из Москвы будет гонец, ему рульку отдадут и он увезет ее к царю – и всё, шабаш, как говорится, дело сделано! До утра у меня времени, вот сколько! – И вдруг очень сердито спросил: – Где сейчас Андрюшка? Говори! – Да чего там говорить, – сказал Авласка. – Он у себя на подворье сидит. Все эти дни. – Я там был! – сказал Маркел. – И никого не видел! И не открыл мне никто! – Га! – насмешливо сказал Авласка. – Надо уметь стучать! И не прямо, а вот здесь, сбоку, по дощечке. И вот так! – И тут Авласка даже показал, каким стуком это надо делать. – О! – сразу сказал Маркел. – Пошли! – И встал из-за стола. Авласка тоже встал. Но тут Костыриха строго сказала: – Нет! Погодите! – но и сама тоже встала. – Чего тебе? – спросил Маркел. – Охолонитесь, дурни! – еще строже сказала Костыриха. – Кто так на рожон лезет? Порежут вас там прямо в воротах – и вся недолга! А я знаю ту избу и того старого хозяина. Там есть еще один, старый ход, когда они еще не расширялись, через ту клеть, которая под Сенькино подворье, ты ее, Авласка, знаешь? – Ну, знаю, – нехотя сказал Авласка. – Вот к ней через тын и идите, – сказала Костыриха. – А псы? – спросил Маркел. – Какие псы, когда корчма, – сказал Авласка. Тогда Маркел, ничего уже не спрашивая, надел шапку, поправил ее, поблагодарил Костыриху за хлеб за соль, развернулся и пошел к двери. Авласка пошел за ним следом. А Костыриха пошла их провожать, а после стояла на пороге и молча крестила их, пока они не завернули за угол.25
И было тогда уже сильно темно, почти что ничего не видно. Но Авласка дорогу знал хорошо, и они быстро вышли к той самой рогатке, там стоял (прислонившись к стене) уже только один из тех давешних сторожей, он ничего лишнего не стал у них спрашивать, они попрощались с ним и пошли дальше. Теперь они шли через площадь вправо наискось, в сторону Конюшенной слободы, где Маркел уже бывал и где было Андрюшкино подворье. Но о самом Андрюшке никакого разговора между Маркелом и Авлаской тогда не было. Да они сперва шли совсем молча, только уже потом, на площади, Авласка спросил: – Так что, мы через тын полезем, а в ворота не пойдем? – Пока не знаю, – ответил Маркел. – Там посмотрим. – Га! Посмотрим! – повторил Авласка. – В такую-то темень! – Им не светлей, чем нам, – сказал Маркел. После чего спросил: – Куда дальше? Авласка показал куда, они свернули и пошли, и Авласка спросил уже вот что: – А Евлампия тоже зарезали или он сам помер? – Сам помер, – ответил Маркел. И добавил: – От яду. – После спросил: – А почему не спрашиваешь, кто отравил? Авласка, а он до этого шел первым, остановился. Маркел тоже. – Как ты узнал? – спросил Авласка. – Унюхал, как еще, – сказал Маркел сердито. – За меня он его отравил. А может, и еще за что другое. Не поделили они что-то! А отравить очень просто, – продолжал Маркел негромким голосом. – Знал я одного такого, в прошлом году расспрашивал. Так он делал так: когда кто отвернется, он ему палец в чарку сунет, туда-сюда размешает, и после только пригуби! – Как это так? – спросил Авласка. – А очень просто, – ответил Маркел. – Он еще дома палец ядом вымажет. – Да! – только и сказал Авласка. – Это еще что! – сказал Маркел. – А вот, рассказывают, у покойного царя государя Ивана Васильевича был аптекарь-иноземец, звали Бармалеусом, вот где искусник был! Он, говорили, вообще… Но что говорили, Маркел не сказал, а замолчал и прислушался. Вначале совсем ничего слышно не было, а после послышался стук колотушки. – Это наш, со слободы, – шепотом сказал Авласка. – Надо переждать пока что. – А то он нас как будто не увидит! – так же шепотом сказал Маркел насмешливо. – Увидит не увидит, – рассудительно сказал Авласка (тоже шепотом), – а если хорониться не будем, обидится. И может шум поднять. – Уважим старика, – сказал Маркел. Авласка согласно кивнул. Ночь была темная, свету ниоткуда, и от луны тоже, не было, они тихо стояли возле тына с другой от Андрюшки стороны Конюшенной улицы. До рогатки от них было шагов не больше сорока. Сторож опять стукнул в колотушку и, было слышно, пошел от рогатки в глубь улицы. – Услышал нас! – шепнул Авласка радостно. И почти сразу, но уже без радости, спросил: – Так куда пойдем: к воротам или через тын? Маркел подумал и сказал: – К воротам! А дальше я один пойду. Пошли! И они быстро пошли к рогатке, там быстро через нее перемахнули и кинулись через улицу к тыну, это был уже Андрюшкин тын, и вдоль него быстрым шагом прошли до ворот, там Авласка так же быстро постучал условным стуком в нужную дощечку, за воротами почти что сразу завозились, брякнули засовом, открылась узкая калиточка – и никого за ней видно не было! – Фома! – тихим, но очень строгим голосом сказал Маркел, вынимая нож из рукава. – Я от Евлампия пришел! По Андрюшку! Не замай! – И смело, нож вперед, вошел в ворота! – Га! – весело сказал Фома. Маркел обернулся. Фома стоял сзади, и в руке у него тоже был нож. А сбоку, слева, Маркел краем глаза увидел, стоял Григорий, и тоже с ножом. – Сопля! – сказал Фома насмешливо. – Да я таких дурней как ты, сорок сороков нарезал! – А одного не смог! – сказал Маркел и кивнул на избу, которая чернела дальше по подворью. И сразу же спросил: – Он там? – А где ему еще! – сказал Фома сердито. – Пойдешь со мной? – спросил Маркел. – Ты что это? – сказал Фома. – Грех это какой – на своего идти! – А своих травить?! – спросил Маркел. – Ладно болтать! – сказал Фома. – Иди уже! Маркел развернулся и пошел. Там идти было совсем немного, может, шагов двадцать, но Маркел успел за них много чего передумать! Мысли же так и кипели! Первая была такая: мог же Фома его убить, а вот же не убил! И Григорий тоже мог. После подумал, что убьет его Андрюшка, обязательно убьет, куда он лезет, на колдунов по одному не ходят, князь Семен сколько раз говорил! Ну да иначе что делать, время же кончается, завтра приедет гонец и увезет рульку с расспросами, дело закроют и Андрюшка будет по земле ходить, а царевич землю парить. А вот не бывать тому, очень сердито подумал Маркел, уже подходя к крыльцу, он знает, зачем его Андрюшка звал: пугал его Андрюшка, вот зачем, а он вот все равно пришел, хоть, может, он отсюда и не выйдет, но пришел! Эх, подумал он еще сердитее, уже начиная подниматься по крыльцу, а как же ему было иначе, никто же на Андрюшку не показывал, только сам Андрюшка может это сделать, если сам скажет, что убил, а еще лучше, если нож достанет и покажет! Только зачем ему его показывать? только если разве соберется им убить – и ведь тогда убьет же обязательно, на то он и колдун! И как раз на этом месте Маркел поднялся на крыльцо и остановился перед дверью. Теперь нужно было только в нее стукнуть. Но Маркел не стал стучать, а обернулся. Во дворе было темно и ничего не видно. И на всем посаде то же самое. И так же везде было тихо. Маркел закрыл глаза, крепко зажмурился… А после широко раскрыл и опять обернулся к двери и только начал в нее стучать, как она начала сама по себе открываться – и открылась настежь без всякого скрипа. В сенях было темным-темно. Маркел убрал нож, перекрестился и ступил в ту темень… И ничего такого не случилось! Маркел прошел через сени, после увидел сбоку щель, которая тускло светилась, он подошел к этой щели, нащупал еще одну дверь, толкнул ее ладонью – и она тоже легко открылась, и дальше сидел возле стола Андрюшка и с интересом смотрел на Маркела. Маркел переступил через порог и остановился, не зная, что делать дальше. – Дверь закрой, – сказал Андрюшка. Маркел, не отворачиваясь от Андрюшки, завел руку за спину и так закрыл дверь. Андрюшка сидел и смотрел на Маркела. Андрюшка был одет так же, как и в прошлый раз в подвале в кабаке, только теперь он был без шапки, потому что был у себя дома и никого не ждал. А еще перед ним на столе лежала раскрытая книга. Маркел присмотрелся. Буковки в книге были диковинные, и это была не латинка, латинку Маркел знал. Индейское письмо, подумалось. И тут Андрюшка спросил: – С чем пришел? – Повидаться, – ответил Маркел. – Всего-то? – спросил Андрюшка. Маркел усмехнулся и сказал: – Там дальше видно будет. – Вот, правильно! – громко сказал Андрюшка одобрительно. – Только дурень твердо наперед загадывает, а разумный человек смекает. Садись, – дальше сказал Андрюшка, – в ногах правды нет. – На чем сидим, там тоже нет, – сказал Маркел. – Зато ногам отдых, – сказал Андрюшка. И уже почти велел: – Садись! Маркел снял шапку и сел и еще раз посмотрел по сторонам, но иконы так и не увидел, темно было по углам. Андрюшка отодвинул книгу и спросил: – По единой? – Благодарствую, – сказал Маркел. – Но я на службе, мне нельзя. – Какая уже служба? – удивился Андрюшка. – Я слыхал, служба у вас уже вся закончилась. Уже расспросы перебеливаете. Завтра же утром гонец! – Ну, это те, – сказал Маркел, – которые по царевичеву делу, те да. А я про царскому. – По какому это царскому? – спросил Андрюшка. – Ищу тайную корчму, – сказал Маркел. – Урон это казне, Андрюша. Нехорошо! Андрюшка удивленно поднял брови и спросил: – За этим, что ли, только и пришел? – Да, за этим, – ответил Маркел. Андрюшка еще помолчал, посмотрел на Маркела, а после сказал уже веселым голосом: – Вот за что я тебя приметил, Маркел, – за твой разум! И так же и другие тоже. За это тебя и не зарезали до этой поры. Нужны нам такие люди, ох нужны! – Кому «нам»? – спросил Маркел. – Не мне, конечно же, кто я! – сказал Андрюшка. – Червь я, вот кто! Большим людям на Москве ты нужен! – Тем, которые тебя сюда прислали? – спросил Маркел. – Кто тебе это сказал? – строго спросил Андрюшка. – Евлампий-дурень? Маркел подумал, что Евлампий все равно не жив, усмехнулся и сказал: – А хоть и так. На что Андрюшка засмеялся и сказал: – А ты хитер! Все равно, думаешь, Евлампию теперь хуже не будет, свалю на него! – И, еще посмеявшись, сказал: – Почуял! И за это чутье ты нам нужен, особенно тем большим людям. А они щедры! Большие богатства будут у тебя, сундуки ломиться будут! И людишек, думаю, отпишут, они и это могут, и этих людишек у них много. А что у тебя сейчас? Угол у князя на заднем дворе, вдова Параска? Маркел побагровел от гнева! Не любил он разговоры про Параску! Андрюшка сделал вид, что испугался, зачастил: – Молчу, молчу! – И тут же строго прибавил: – Но и ты тоже молчишь! А что мне тогда про тебя говорить, когда они у меня спросят?! – А чего мне говорить? – сказал Маркел. – Я ничего не знаю. – Не знаешь? – повторил Андрюшка уже совсем сердитым голосом. – А ты вот хотя бы скажи, что тебе Самойла Колобов сказал? И даже особенно Петруша! Ну! Отвечай! Что тебе сказал Петруша?! А?! Маркел молчал, но глаз не опускал, смотрел прямо. Андрюшка разозлился еще пуще и сказал: – Все равно отсюда не выйдешь! Говори смело! Маркел еще подумал и сказал: – Петруша говорил, что тот, который его тогда сзади держал, имел знак: у него на правой руке, на мизинце, на коже пятно как от огня. – Вот даже как! – сказал Андрюшка, а сам убрал руку, помолчал немного и вдруг сказал сердито: – Га! Нашли кого жалеть! – А что? – спросил Маркел. – А ничего! – в сердцах сказал Андрюшка. – Может, он и не царевич был вовсе, вот что! Кто его мать, разве царица? Кто ее с царем венчал? Митрополит в Москве? Или поп Никита в Слободе их окрутил, как волчью свадьбу! И сколько их там таких у царя Ивана было, ты хоть знаешь?! – Сколько ни сколько, – ответил Маркел, – а в духовную только Димитрия вписали. Старшим Феодора, после его. Два сына было у государя, когда он помирал, два – Феодор и Димитрий! Феодору он царство передал, а Димитрию выделил отдельный удел! Как когда-то и отец его, Василий, ему, Ивану, старшему, передал царство, а младшему, Георгию, – удел, и этот же, Углич. Так что было все по старине, когда покойный царь Иван Васильевич преставился. – Ладно, – сказал, махнув рукой, Андрюшка. – Что это мы с тобой, как бояре в думе, местничаем, кому выше сесть. У нас тут один стол и мы сидим рядом. И я тебе говорю: давай по единой. А ты на это отвечаешь: нет, не надо. Потому что на меня замыслил! – Что, – спросил Маркел, – замыслил? – Известно что, – сказал Андрюшка. – Только кому это надо? У вас там никому не надо, у вас там уже рульки все перебелили и сидят, пьют винцо, ждут гонца из Москвы. А нашим углицким надо это, а? Или ты не слышал, о чем они все как в один голос отвечали, когда у них спрашивали? Все говорили: он зарезался, он сам так сделал! А ведь никто из них не видел этого! А говорили все! Потому что все хотели так сказать! Потому что все только и ждали, когда он это сделает! Потому что это вы там, в Москве, ничего не знали и не видели, а здесь все видели, что это за зверь такой растет! Да он бы пострашней царя Ивана был бы! Ты того царя хоть раз вот так, как меня, близко, видел? Маркел подумал и сказал: – Живого нет. – А я видел, – сказал Андрюшка. – И даже сейчас как вспомню, так мороз по коже. – Ладно, – сказал Маркел. – Про царя Ивана мне понятно. А вот кабацкий голова Евлампий. За что ты его отравил? – Я? Его? – спросил Андрюшка. – А кто? – спросил Маркел. – Тогда Фома? Андрюшка усмехнулся, и протянул руку к книге, и пододвинул ее к себе ближе. Маркел еще раз посмотрел на буковки и опять подумал, что они индейские. И не сдержался и сказал: – Но ты ведь был там. И держал Петрушу. Не пускал его. Андрюшка усмехнулся и сказал: – Так ведь не только я, а и никто другой не пустил бы. Я же три слова назад говорил: все здесь только и ждали того, когда он себе шею сломит! – Ты за других не отвечай, – сказал Маркел. – Ты за себя ответь. На правеже всяк за себя! – А как ты меня на правеж поставишь! – насмешливо сказал Андрюшка. – На меня разве кто-то показывал? А то, что вы Петрушу этого заставили крест целовать, так это не по закону, малых детей к кресту не приводят и их расспросным словам веры давать не должно! Или я что не так сказал? – Все это так, – сказал Маркел. – Вот только мне царевича жалко. Не верю я твоим словам, я о нем совсем другое слышал. – От государыни! – сказал Андрюшка. – Ну, еще бы! А ты что, хотел, чтобы она о нем правду сказала?! – И тут Андрюшка даже засмеялся, но негромко. Маркел смотрел на него и молчал. А Андрюшка опять стал говорить, теперь уже такое: – Он очень злой был, просто ярый. И грозил! Я, говорил, когда приду на царство, им тогда всем мало не покажется! А я, говорил, приду скоро, мой же старший брат дохляк, и я тогда, только в Москву вернусь, сразу велю Бориса сунуть в пушку и стрельнуть им по Крыму, пусть его там хан встречает! А второго, говорил, велю сунуть в пушку Битяговского. Это он так про того, с чьей руки он кормился, Маркел! Вот какой он благодарный был, ваш этот царевич! А ведь Борис говорил, чтобы ничего сюда не давали, пусть живут, говорил, как хотят, пусть хоть траву едят! А Битяговский, на свой страх, давал! – И при этом, – продолжил Маркел почти что Андрюшкиным голосом, – Битяговский еще добавлял, что задушу гаденыша! – Ну! – сказал Андрюшка. – Люди злы, дело известное. И Битяговский как все. Заносило его тоже. Как же! – А тебя? – спросил Маркел. – А что я! – сказал Андрюшка. – Я лекарь. Мне сказали лечить – я лечил. – И помогало? – спросил Маркел. Андрюшка помолчал, после сказал сердито: – А как оно могло помочь, если это уже Божий суд? У покойного царя Ивана как же было? Его самого родили колдовством, а до этого он двадцать лет не мог родиться, а после родился – и что? Где его племя? Старший его сын Димитрий утонул еще в младенчестве, за ним второй, Иван, ну, про этого сам знаешь, как он помер, грех даже подумать как. Теперь этот сам себя зарезал, и это же позор какой, руки наложил сам на себя, так получается. И кто остался? Федька Простоватый! А по-простому дурень, прости Господи, и в том чуть душа держится – и пресечется род. Так разве то не Божий суд? – А ты Божий Ефрем? – спросил Маркел. – Какой Ефрем? – переспросил Андрюшка. После сердито хмыкнул и сказал: – А, да, тот ваш, в красной рубахе. – И еще сердитее продолжил: – Нет, ты меня не марай, где не надо. Я до царевича и пальцем не дотронулся! Я вот как сейчас сижу, тогда сбоку стоял, а он как вон там, возле печи, зарезался. Вот так! – Так ты, получается, всё видел? – сразу же спросил Маркел. – А я и не отпираюсь от этого, – сказал Андрюшка. – Видел, конечно. – А что ты там тогда делал? – спросил Маркел. – Как ты там очутился? – Известно как, – сказал Андрюшка. – Как всегда, ходил к государыне, принес царевичу водицы. Они уже к столу садились, а его еще не было. Я водицу передал, Арина Жданова взяла, мне позволили идти – и я пошел, и вышел. И дальше через двор иду. И дальше вдруг вижу: государь царевич возле стены под яблонькой играет в тычку с Петрушкой-жильцом. Ну а дальше ты и так всё знаешь: стало царевича бить, стал он рукой махать, а после черканул по горлу и упал. И лежит, сучит ногами и хрипит. И кровь из горла! – Долго он так лежал? – спросил Маркел. – Когда смотришь, тогда очень долго, – тихо сказал Андрюшка. – А почему ты никого к нему не позвал? – спросил Маркел. – Или почему сам ему не помог? – Так бы сказали: я убил, – опять тихо сказал Андрюшка. – Почему? – спросил Маркел. – Так он моим ножом зарезался, – сказал Андрюшка. – Как это твоим? – спросил Маркел. – Откуда он его мог взять? – Вот и я так тогда подумал, – уже громко сказал Андрюшка. – Как, думаю, откуда, кто залез?! Вот еще какой на мне грех: только про себя я тогда думал, а не про царевича. – Ну и что, – сказал Маркел, – Ты же сам только что говорил, что нечего его жалеть и что никто из ваших, углицких, его не жалеет и тогда не пожалел бы. – Так это одно сказать, – сказал Андрюшка, – а другое вот так видеть, как он бьется и как из него кровь хлещет. Божье ведь создание! Ведь так?! – Так, – сказал Маркел, – конечно. – После спросил: – А Петрушу ты зачем держал? – А если бы пустил, что было бы? – уже запальчиво спросил Андрюшка. – Он удержал бы нож, – сказал Маркел. И добавил с жаром: – Нож же сам резал! Колдовство это! – Маркел, ты же не баба! – укоризненно сказал Андрюшка. – Ну как нож мог резать сам?! Где ты такое видел?! – Ну мало ли, – сказал Маркел. – Нож был необычный, индейский. – И сразу еще спросил: – А эта книга что, тоже индейская? – Нет, не индейская, – сказал Андрюшка и закрыл ее. – А где сейчас тот нож? – дальше спросил Маркел. Андрюшка отодвинул книгу, помолчал, а после начал говорить такое: – Украли его у меня, говорю. Но я этого не знал. А после иду и вдруг вижу: царевич моим ножом, как ты говоришь индейским, играет в тычку. Я остановился, думаю: откуда он у него взялся? И вдруг эта беда: царевич им зарезался! Эх, думаю, вот смерть моя пришла – скажут, это я царевича зарезал! И я только к ножу… А тут крик кругом, ор, народ бежит, колокола ударили! Сошлась толпа! Царица голосит! А я стою в кустах и вижу, как один посадский наклоняется, берет мой нож – и ходу! И тут Андрюшка замолчал. Маркел подождал, после спросил: – А дальше что? – Только под вечер я его нашел, того посадского, – сказал Андрюшка. – И что он говорил? – сказал Маркел. – А ничего, – сказал Андрюшка. – Он уже зарезанный лежал. Я нож забрал и ушел. Вот и всё. – Как это зарезанный? – спросил Маркел. – Он, что ли, сам зарезался? – Может, и сам, – сказал Андрюшка. – Не бери чужое – не зарежешься. – Вот и получается, что он сам режет, – задумчиво сказал Маркел. – Люди говорят, что сам. – Брехня! – сказал Андрюшка. – Бабьи россказни. Ножу нужна рука! – А откуда ты его добыл? – спросил Маркел. – Один человек дал поносить, – насмешливо сказал Андрюшка. – И тут вдруг эти украли! Навели их на него, как пить дать навели! Он же знаешь каких денег стоит?! Да мне за него полпосада сули, а я не соглашусь! И вдруг украли! – Сказав это, Андрюшка еще помолчал, после продолжил: – Я после ходил, присматривался, узнавал. Совсем как ты! И получается, что это Осип его потянул. – Волохов? – спросил Маркел. – Он самый, – ответил Андрюшка. – Они все трое были у меня вечером до этого, я им подносил, я их потчевал. А они двое меня отвлекали, а третий полез и достал! А назавтра, как мне люди говорили, – продолжал Андрюшка уже быстрым голосом, – когда государыня с царевичем из Спаса вышли, тут Осип ему нож и сунул. Не веришь – спроси у царицы! Она их там всех троих видала и потому после и кричала, что это они его зарезали! А его резать и не надо было, у него падучая, нож тяжеленный, острющий… – И вдруг Андрюшка замолчал, глазами сверкнул, усмехнулся и быстро спросил: – Ты его видел, нет? – Нет, – сказал Маркел. – Не видел. – Тогда смотри, – сказал Андрюшка и вытащил из книги нож. Нож и вправду был весь в самоцветах, а жало как огнем горело! Маркел на него засмотрелся! Андрюшка усмехнулся и сказал: – Я знал, что ты за ним пришел, и приготовил. На, смотри! – и протянул нож через стол. То есть он держал его за черен, а жалом к Маркелу. Маркел отшатнулся. – Не робей! – сказал Андрюшка. – Бери, чего ты. И тогда Маркел вскочил и своей правой рукой схватил Андрюшку за правую руку! То есть сжал своей рукой его руку на черене! Сжал очень крепко, со всей силы! – Эй, ты чего! – крикнул Андрюшка. – Отпусти! Ой, больно! Но Маркел держал, не отпускал! Андрюшка пыжился, пытался вырвать свою руку, только куда там – Маркел держал крепко! Андрюшка вертел рукой, сколько можно, черен сверкал, жало огнем горело и было как живое! – Маркел! Ой, не могу! – крикнул Андрюшка. – Ой, мне сейчас… И тут Маркел вдруг отпустил! Андрюшка рванул нож на себя – и резанул себя по горлу! Кровь из горла так и брызнула! Андрюшка закачался и упал под стол! Маркел кинулся к нему, встал на колени, наклонился! Андрюшка открыл рот, рот был полон крови, захрипел, забулькал и сказал с надрывом: – Вот и царевич… тоже так… ненароком зарезался… И откинул голову, задергался и почти сразу помер. Рука разжалась, и нож упал на пол. Маркел встал, прислушался. В избе было тихо-тихо… Но Маркел вдруг почуял шаги – там, во дворе еще! – и кинулся к сеням, а там к входной двери, нащупал в темноте заклад и только поднял и закинул его… как там, со двора, по ступенькам взбежали и рванули дверь, но она даже не дрогнула, и тогда Фома громко, свирепо сказал: – Маркел, гад, открывай, не то запалим! Маркел стоял за дверью и молчал.26
А дальше было так: Фома тоже замолчал, наверное прислушался, а после тихо, ласково сказал: – Открой, Маркелушка. Поделим поровну. Вот крест! Но и тогда Маркел не отозвался, а мягко, крадучись, вернулся через сени в горницу и уже оттуда услышал, как Фома начал опять рвать дверь – но теперь уже с опаской, чтобы не было лишнего шума, чтобы соседи не услышали. Вот и славно, подумал Маркел и обошел вокруг стола, снял лучину и посветил на Андрюшку. Андрюшка лежал мертвый, весь в крови. Маркел перекрестился и подумал, что желал он того или нет, а Андрюшка теперь неживой, получается, что он его зарезал. И еще раз перекрестился, и еще. А на крыльце, было слышно, Фома сказал Григорию, чтобы тот сбегал вниз и поискал там топор. А Авласке приказал стоять и никуда не отходить, не то убьет. Слава тебе, Господи, Авласка еще жив, а то был бы на нем еще и Авласка, радостно подумал Маркел. А после посмотрел на нож, и наклонился к нему, и осветил его лучше. Нож очень красиво сверкал. Колдовской нож, подумал Маркел, он даже вроде шевелится, надо отнести его боярину и показать, а там будет видно. Подумав так, Маркел воткнул лучину обратно, осмотрелся, взял с сундука рушник, после опять наклонился и уже только рушником взялся за нож, за черен, и увернул его в рушник (а на крыльце уже шумели) и, перекрестясь левой рукой, правой сунул нож за пазуху, даже еще прижал его там для верности, после опять взял лучину (левой, а какой еще, рукой) и быстро пошел из горницы. При всём этом думалось ему только одно: что Костыриха сказала, что здесь при прежних хозяевах был еще один ход из избы, его нужно искать в старой клети, вот только где здесь старая, где новая? И он шел, стараясь не шуметь, по каким-то закоулкам, открывал дверь за дверью, переступал через мешки, корзины, сундуки, ведра, туеса, опять мешки, открывал дверь, проходил, и тыкался в закрытую, и возвращался… А после вдруг открыл одну – и аж отшатнулся! Перед ним был двор, там было еще совсем темно, и небо было черное, но звездное. И еще дух во дворе был вольный! Маркел переступил через порог, шагнул во двор, остановился и прислушался. Шум был уже не во дворе, а в избе. Значит, уже открыли дверь, подумал Маркел радостно, значит, никто за ним сейчас не смотрит! И он смело выступил вперед и осмотрелся. Видно было очень мало, но Маркелу все же показалось, что прямо – это будет к соседу, и направо – тоже, но к другому, а вот зато налево – это как раз куда ему и надо, то есть к ручью и дальше к Фроловским воротам. И Маркел, повернувшись туда, быстро крадучись дошел до тына, как мог высоко подскочил, и чуть зацепился за верх, и стал карабкаться выше и выше… как сзади закричали: – Стой, убью! После они еще орали и грозили еще что-то, но Маркел этого уже не слышал – он перевалился через тын, упал, вскочил, проверил нож за пазухой – и кинулся бежать, пригнувшись, но не к ручью и мосту к Фроловским воротам, а вдоль тына (и вдоль ручья) к Волге. Добежав до края слободы, Маркел остановился, оглянулся и никого не увидел. Но возвращаться все равно не стал, он об этом даже не подумал, а поправил шапку и опять проверил нож, после нашел тропку и пошел по ней вниз, к воде. Воду было видно хорошо, а берега были оба совсем черные. Маркел, придерживая нож за пазухой, спускался медленно, с опаской, потому что ему все время казалось, что нож шевелится как уж и как будто так и норовит вылезти из рушника на волю. Бабьи это сказки, тьфу, думал Маркел, усмехаясь, а самого била дрожь. А он про нее думал так: это ему из-за Андрюшки, не мог Андрюшка так просто зарезаться, а это его нож зарезал, вот из-за этого теперь и робость нападает. Чтобы она его оставила, Маркел то и дело крестился, но это ему не помогало. Так он дошел до воды, остановился, осмотрелся и прислушался, опять никого не увидел и не услышал, после чего сел на землю и подумал, что сейчас ему лучше никуда не соваться, а тихонько просидеть здесь до света, а после, приедет гонец или нет, вернуться в кремль и там при всех пасть перед боярином в ноги, и ударить челом на имя государево, и еще нож приложить. Вот как ему тогда подумалось! И он от этой мысли успокоился и принялся ждать. Но прождал он совсем немного, когда вдруг почуял, что его в бок кольнуло! Нет, шалишь, подумал он сердито, он этот чертов нож брать в руку не будет! Он же уже знает, что бывает с теми, кто его берет – тот зарезается! И Маркел только прижал нож сверху, через однорядку. А нож тогда еще сильнее дернулся! А Маркел его еще сильней прижал! А нож еще! А Маркел еще крепче! А нож резанул его тогда! Тогда Маркел его наружу выхватил, рушник размотал, взял за черен!.. И тут у него свело руку! Окаменела рука у него! Ахти, Господи, подумал он испуганно, да куда тут малому царевичу, когда ему самому ничего не поделать! А руку начало крутить и выворачивать! И придвигать всё ближе, ближе к горлу! Маркел набычился, тряхнул рукой – а нож не стряхнулся! А нож еще сильней приблизился! Да как же это так, гневно подумал Маркел, его здесь как свинью зарежут, что ли? Кричать, что ли, звать Фому с Авлаской?! И тогда Маркел быстро склонился, прижал руку с ножом к земле и наступил ногой на нож! И стал рвать руку! Рвал-рвал, рвал-рвал – и вырвал! И тогда, не поднимая сапога, схватил рушник и обмотал им жало, весь порезался, но все равно схватил как мог, изо всех сил, размахнулся и швырнул как можно дальше! Нож тихо чмякнул в воду и затих. И ничего там не стало видно. Маркел посмотрел на руки. Они были все в порезах. Маркел заулыбался и перекрестился. Было тихо-тихо. Скоро начнет светать, подумал Маркел, чего ему теперь здесь сидеть, надо идти обратно. Но как только он встал, то сразу увидел, что выше его по тропке, шагах в десяти, не больше, стоят Фома, Григорий и Авласка. В руке у Фомы был нож, но он им не угрожал, а просто, наверное, забыл его убрать. Он всё видел, подумал Маркел, вот почему он такой. И только Маркел так подумал, как Фома спросил: – Утопил? Маркел кивнул. – Может, оно и правильно, – сказал Фома. – Хотя дорогая была вещь. – И помолчав, спросил, и уже строго: – Что у вас там между вами в избе было? – Да ничего и не было, – сказал Маркел. – Он стал мне его совать, на, сказал, глянь. И руку мне вот так! – и показал. – А ты? – спросил Фома. – А его руку вот так! – сказал уже в сердцах Маркел и опять показал. – А он рваться! А я отпустил! А он на себя и по горлу! Фома подумал и сказал: – Бывает! Но это по совести. – И убрал свой нож. И еще прибавил: – Не умеешь – не колдуй. А ты горазд, горазд! А Григорий и Авласка ничего не говорили, а только смотрели и слушали. Маркел, тоже ничего не говоря, стал подниматься по тропке. Фома, а за ним Григорий и Авласка соступили в сторону, и Фома еще спросил: – А теперь ты что? – Ну, что еще! – сказал Маркел и даже остановился рядом с ними. И продолжал: – Устал я как собака. Пойду лягу. А завтра будет видно. – Ага, ага, – сказал Фома. Маркел прошел мимо него и стал подниматься выше. Фома и Григорий с Авлаской за ним не пошли. Маркел взошел на самый верх. Уже светало. Маркел пошел к мосту через ручей. На мосту стоял стрелец. И дальше, увидел Маркел, стояли еще двое, это уже возле самой проездной Фроловской башни. Там их по ночам обычно не было, а тут вдруг на тебе, стоят, с удивлением подумал Маркел, подходя к мосту через ручей. А после, перейдя через ручей, Маркел еще больше удивился, когда увидел, что сторожка при воротах стоит открытая, а в ней стоит стрелецкий голова Иван Засецкий. Увидев Маркела, стрелецкий голова еще сильней нахмурился (а он и до этого был хмур) и строгим голосом сказал: – Живей давай! Таскался невесть где! – Но при этом отступил на шаг, освобождая дорогу. Маркел прошел мимо него в ворота. А там через внутренний двор – и завернул к себе, на их крыльцо, а дальше через сени – и в их бывшую холопскую. Там было темно как в погребе, но он легко прошел, уже привык же, к своей лавке и там сел, снял шапку и уже начал подправлять тюфяк… Как Яков из угла тихо спросил: – Маркел, это ты? – А так как Маркел промолчал, он добавил: – А мы тут тебя заждались. И еще громче окликнул: – Гаврила! При столе кто-то заворочался, поднялся с лавки и сразу спросил: – Пришел? – Пришел, – сказал Яков. – Вот он. Маркел сказал: – Здесь я. Что надо? – К боярину тебя, – сказал Гаврила. – Срочно! – В такую ночь? – удивился Маркел. – Значит, в такую, если велено! – строго сказал Гаврила, выходя из-за стола. Теперь Маркел его немного рассмотрел, это был тот самый человек, который уже однажды водил его к Шуйскому. Он и теперь опять сказал: – Чего расселся? Ты кого ждать заставляешь, а?! Маркел вздохнул, надел шапку и встал. И за Гаврилой пошел из холопской. После они опять, как в прошлый раз, долго плутали, а после все-таки пришли. Гаврила постучался в дверь, ему дозволили, и он ее открыл, Маркел снял шапку и вошел. Это была та же самая просторная хоромина, и там на той же самой мягкой лавке сидел Шуйский в том же легком татарском халате, но уже без шапочки, простоволосый и со сна растрепанный. И очень злой – это Маркел увидел сразу. И поклонился, и не сразу распрямился. Шуйский молчал, позевывал в кулак. После медленно убрал кулак и так же медленно спросил: – Ну, что? Где был? – На посаде, – ответил Маркел. – В Конюшенной слободе, на подворье Андрюшки Мочалова. – И замолчал. – Какого это еще Мочалова? – сердито спросил Шуйский. – Да того самого, – сказал Маркел, – который царевича зарезал. – Что?! – громко спросил Шуйский и весь аж подался вперед. – Как ты сказал?! – Сказал, что у Мочалова, – повторил, как ни в чем не бывало, Маркел. – Того Мочалова, который травник, которого известно кто прислал и он на царевича навел падучую, а после дал заговоренный нож и царевич от того ножа зарезался. Шуйский помолчал, потом сказал: – Тьфу на тебя! Что мелешь! – Истинный крест! – сказал Маркел и перекрестился. Шуйский еще помолчал и сказал: – Повтори еще раз. С толком! Маркел еще раз, не спеша, сказал. Шуйский молчал. Тогда Маркел стал говорить уже подробнее – вроде того, что сказанный Андрюшка Мочалов приехал в Углич совсем недавно, еще только в этот Великий пост, и назвался знатным травником, и тут почти что сразу государя царевича начала одолевать падучая и злые люди надоумили царицу призвать к себе сказанного Андрюшку, сказанный Андрюшка стал ходить к царевичу и давать ему заговоренной водицы, от которой царевичу становилось ни лучше ни хуже, а время шло, и тогда сказанный Андрюшка, через своего приятеля Оську Волохова, подсунул царевичу заговоренный поганый нож, царевич поскользнулся и упал на этот нож, жилец Петруша Колобов, сын Марьи Колобовой, кинулся царевича спасать, а сказанный Андрюшка, а он стоял сзади, схватил Петрушу за горло и не пустил его к царевичу, и царевич зарезался насмерть. Вот как было это дело, сказал после всего этого Маркел. А Шуйский почти сразу же спросил: – Кто тебе это сказал? – Сам Андрюшка, – ответил Маркел. – Где он сейчас? – Зарезался. – Где нож? – Я его в Волгу бросил. – Как в Волгу? – Так, – сказал Маркел и даже показал, как он это сделал. – Э! – сказал Шуйский очень гневно. – Да ты меня этим убил, собака! – А как мне было не убить! Э! Государь боярин! – тоже почти что закричал Маркел. – А что мне было делать? Этот нож, он был как змея верткий! Он мне все руки и весь бок изрезал! Он же живой был, этот нож! – Как живой?! Что ты мелешь, скотина! – грозно воскликнул Шуйский. – Я не мелю, – сказал Маркел уже спокойным голосом. – И я тоже сперва думал, что другие мелют, когда я их слушал. А после, когда посмотрел… – И замолчал, не зная, с чего лучше начинать. Шуйский это понял и сказал: – Давай с самого начала. Время у нас еще есть. И Маркел начал рассказывать. Но не обо всем, конечно, потому что, он подумал, он же обещал Самойле Колобову ничего лишнего о Петруше не рассказывать. И также о царице, когда дошла до нее речь, Маркел больше помалкивал. И о ее братьях тоже. И так же здесь не место, он подумал, поминать Костыриху. А об остальном он много говорил! И без утайки. А начал он с того, что сказал, что он сразу почуял неладное, когда увидел, что нигде нет того ножа, которым царевича зарезали. Или, как другие говорят, которым он сам зарезался, но ведь же нет его! И, продолжал Маркел, как он после ни бился и как ни исхитрялся, а ножа нигде не было и даже не было его следов. А если так, то это неспроста, продолжал уже с жаром Маркел, и так же с жаром стал рассказывать (а о чем не нужно, пропускать), как он сперва узнал, как этот нож называется, после – какой он из себя, после – что он лежал в траве возле убитого царевича, после его украл Давыдка, после – что Давыдку после нашли мертвым, после… А после сказал в сердцах (чтобы не говорить об уродке), что время шло, розыск заканчивался, а никто прямо ни на кого не показывал, а только у него, у Маркела, было такое чутье, что он знает, чьих рук это дело. – И что? – спросил Шуйский. – А то, государь боярин, – ответил Маркел, – что дал бы мне Бог еще день-два – и я бы нашел того, кто мне прямо показал бы на того, на кого надо. А тут вдруг этот гонец! Надо было поспешать. И тогда я, помолясь, пошел к Андрюшке. – Почему к Андрюшке? – спросил Шуйский. – Потому что мне так чуялось, – сказал Маркел. – Князь Семен мне всегда говорит: нюх у тебя, Маркелка, прямо волчий. – И вдруг спросил: – Говорил он про меня такое? – Ну, говорил, – сказал Шуйский. – За то я тебя с собой и взял. – И вот я и пошел, – сказал Маркел, – туда, куда мне чуялось! Но и он, пес, недаром колдун! Тоже почуял же! – и замолчал. – Ну! – сказал Шуйский. – А дальше? – А дальше что, – сказал Маркел. И, пропуская про Фому и про Григория, сразу сказал: – Я открываю дверь, вхожу, а он сидит и смотрит на меня. И у него на столе книга, а под книгой нож. Но я ножа не вижу! Я вижу только книгу, а в ней, вижу, буковки индейские! А, думаю, святой Никола, не продай! А он, Андрюшка, спрашивает: с чем пришел? – А ты что ему? – спросил Шуйский. – А говорю: повидаться, – ответил Маркел. И дальше рассказал, как оно было, в точности. Только уже в самом конце просто сказал, что во дворе почуяли неладное, а там были люди Андрюшки, и они стали ломиться в дверь, а он закрылся, взял нож и весь при этом изрезался, и через черный ход, и через тын, а дальше к Волге. И дальше опять подробно рассказал, как нож хотел его зарезать и как он бросил его в Волгу. А после посидел и отдышался, встал и пришел обратно в терем, а тут его уже ждали, и он пришел к боярину, и это уже совсем всё. И на этом Маркел замолчал. Шуйский тоже помолчал, подумал, а после негромко сказал: – Я сразу это почуял, что здесь не без нечистой силы дело. – А после добавил в сердцах: – Нельзя было нож выбрасывать! Кто ты теперь без ножа? А кто я? Кто нам теперь поверит?! – А был бы нож, – сказал Маркел, – так тогда что, боярин? Кому бы ты его показывал? Боярину Борису, что ли? – Э! – грозно сказал Шуйский. – Ты не очень! – Молчу, – сказал Маркел. Но почти сразу добавил: – А вот еще кого надо спросить: это Арину Тучкову. Андрюшка говорил, Арина видела, как Осип… – Хватит! – грозно сказал Шуйский, не давая ему досказать. – Нарасспрашивались уже вот сколько! Светло уже! Иди, не мозоль глаза! Надо будет – позовут. Ну, я кому сказал! Маркел поклонился и вышел, прошел мимо Гаврилы, надел шапку и пошел к себе. Пришел, все еще спали, лег, отвернулся к стене… И не заснул, конечно же, а сразу подумал, что вот и подставляй брюхо под нож, лезь на рожон, и что тебе за это? Пошел вон, собака! Эх-х, подумал он еще… Но тут же спохватился и подумал уже вот о чем: а что, а разве бывало по-другому, разве он иного ждал? А если не ждал, то лучше бы подумал вот о чем: Шуйский, хоть и разгневался, а ведь, похоже, поверил! Да и как ему в такое не поверить, подумал дальше Маркел, это же дело обычное, потому что это только простые люди умирают кто от старости, кто на войне, а кто от какой хвори, а непростые так не помирают! Вот как даже, подумал Маркел и мысленно перекрестился, четыре сына было у государя Ивана Васильевича, и одного утопили (а как еще это назвать, когда при семерых няньках дитя по колено в воде захлебнулось?!), второго посохом, четвертого ножом, а третий пока хоть и жив, так полоумный же, и сколько ему еще такому жить осталось, кто знает? А сам покойный государь Иван? Дядя Трофим рассказывал, да Маркел и сам кое-что видел, как государь Иван смерть принимал. А государя Ивановы жены – все, кроме пока последней? А государева мать, кто ее отравил? А государев отец, давно покойный государь Василий, какой, все говорят, был крепкий, как медведь, а в три дня вся его сила вдруг вышла. А сами Шуйские? И вдруг он опять спохватился и подумал: не о том он думает и не о тех, а вот сегодня приедет гонец, спросит, а ему ответят: а что мы, а это не мы, а это Маркел его убил, верного Борисова слугу. А, вот кто, крикнет гонец, подать мне его! И подадут, и повесят на виску, Ефрем закатает рукава, возьмет кнут, поплюёт на ладони… Тьфу, подумал Маркел, тьфу, какая глупость в голову полезла, мысленно перекрестился и начал читать «Отче наш» – и заснул, вот до чего он был тогда умаявшись.27
Когда Маркел проснулся, Яков и его люди уже сидели за столом и перекусывали. Маркел сразу подскочил и осмотрелся. Парамон первым увидел, что Маркел проснулся, и насмешливо сказал: – Лежи, лежи, чего уже теперь. Маркел спустил ноги, сел на лавке и пригладил волосы. После сказал: – Чего не разбудили? – Жалко было, – сказал Яков. – Больно сладко ты похрапывал. И они опять взялись есть. Тогда Маркел спросил: – Гонец приехал? – Нет, – ответил Яков, продолжая есть. – Гонец не приехал. Зато других наехало! – Кого это других? – спросил Маркел. – Ну как кого, – продолжал Яков. – Порядок должен быть! А здесь какой порядок? Нет здесь никого для порядка. Вот мы уедем сегодня, и что? А вдруг опять забунтуют! А так шалишь! Потому что наехали. Маркел смотрел на Якова и ничего не говорил. Тогда Яков медленно отложил ложку, повернулся к Маркелу и, глядя прямо на него, сказал: – Воевода Мисюрев приехал, вот кто. Со стрельцами. И дьяк Карпов. Карпов будет вместо Битяговского. А Мисюрев что! У государя братьев больше нет. Поэтому прислали Мисюрева. Ясно? Маркел промолчал. Яков опять взял ложку и сказал: – А мы домой. А ты, – он зачерпнул из миски, – а ты – я не знаю, – и опять начал есть. Вместо него досказал Парамон, он сказал: – Приходили от боярина. Тебе велели здесь сидеть и никуда не выходить. – После сказал: – Но ты вставай, перекуси пока. А то после могут и не дать! А и верно, подумал Маркел, поднялся и подсел к столу. Илья пододвинул ему миску. Опять была гороховая каша. Маркел достал ложку и принялся есть, хотя большой охоты к еде не было. А эти уже доедали и уже начали вставать из-за стола. – А что еще? – спросил Маркел. – А ничего, – сказал Яков, вставая. – Мисюрев приехал и сразу начал нашего трепать. Говорит, на Москве больше знают. Говорит, Борис крепко разгневался. И наш тогда сразу велел собираться. Вот мы и собираемся. – Яков помолчал, после добавил: – И так же и ты, дурень, не убегал бы вчера – сейчас бы тоже собирался. И надел шапку и пошел к дверям и сказал другим идти за ним. И они все ушли по делам. А Маркел, теперь уже совсем один, сидел за накрытым столом, и ему кусок в горло не лез. Эх, думал он в сердцах, а ведь верно Яков говорил, дурень он набитый, вот кто, черт его вчера понес к Андрюшке, а вот теперь приехали Борисовы люди и будут с него спрашивать. Нет, даже ничего не станут спрашивать, подумал он тут же, а просто призовут Ефрема и скажут: Ефремка, а ну-ка покажи свою удаль, а то мало ли что о тебе люди болтают, не верим мы, что ты можешь человека перебить надвое кнутом за восемь ударов! А Ефрем на это скажет: нет, за восемь не смогу, это вам наболтали, а вот за двенадцать – это уже можно, и то не всякого. А после утрется и спросит: а вам кого надо? А эти скажут: а вот этого. Тогда Ефрем посмотрит на Маркела и начнет прикидывать… Тьфу, дальше подумал Маркел, опять дурь в голову полезла! И еще перекусил, потому что, подумал, и в самом деле после могут долго не кормить, а так он уже поевший, ему будет легче, и облизал ложку и убрал ее, а после лег на лавку и подумал, что можно еще полежать, пока спина не посечена, и полежал. Лежал он довольно долго, потому что о многом уже успел передумать и уже даже подумать о том, что как было, так оно и хорошо, только одно недобро – что столько всего делал, а как будто и не делал, потому что ничего не осталось, может даже прав был боярин, что не нужно было нож выбрасывать, ну да теперь чего уже себя корить! И только он так подумал, как открылась дверь и к нему вошли трое незнакомых ему людей, двое были при саблях, а третий при бердыше, и один из тех, что были при саблях, сказал вставать. Маркел встал. Мы от боярина Василия, сказал тот человек, пошли. И Маркел пошел с ними. И ничего он у них не спрашивал, потому что чуял, что ничего хорошего он от них не услышит. Так они прошли по заднему двору и вышли через ворота, а дальше пошли через передний двор, то есть мимо Спаса, мимо колокольни, еще дальше, к губной избе. Ага, продумал Маркел, в тюрьму, значит, ну ладно. И вдруг еще подумал, это уже почти со смехом, что это ведь правильно, потому что приехал бы он сейчас в Москву, князь Семен сразу же спросил бы: как там наша губная изба, а как тюрьма, все ли там в порядке, и что Маркел ответил бы? А так, если Бог даст выйти, он князю Семену расскажет подробно… Но тут те люди, которые его вели, велели поворачивать налево, и это тогда получилось, что они идут не к тюрьме, а к воротам! И они и в самом деле дальше прошли через ворота Никольской проездной башни и через мосток вышли на площадь перед торгом. А там, сразу возле мостка, стоял так называемый дядя Игнат, довереннейший человек боярина Василия. Дядя Игнат был очень хмур. Когда люди подвели к нему Маркела, он махнул на них рукой, и они сразу отошли подальше. Дядя Игнат посмотрел на Маркела, еще сильнее нахмурился и очень недовольным голосом сказал: – Много от тебя было хлопот боярину. Эти приехали и сразу стали говорить про нож. – Про какой нож? – спросил Маркел. – Черт его знает, про какой! – в сердцах сказал дядя Игнат. – Боярин чуть отбрехался. Ну да не наше это дело! – быстро продолжал дядя Игнат. – Боярин велел передать, что он на тебя зла не держит, и что отпускает тебя. А мог и этим отдать! А не отдал! – И вдруг показал рукой Маркелу за спину, при этом прибавив: – Забирай! Маркел обернулся. К нему вели лошадь. И это был тот самый Птенчик, на котором он сюда приехал! И вели его не откуда-нибудь, а прямо из-за церкви (церквушки) Николы Подстенного! У Маркела аж в горле свело! Он шагнул к Птенчику, обнял его за гриву. – Давай, езжай, – сказал из-за спины дядя Игнат. – У нас тут дел и без тебя по горло! Маркел легко сел в седло и уже сверху вниз посмотрел на дядю Игната. Дядя Игнат вдруг усмехнулся и сказал: – А это тебе на дорожку, – и подал Маркелу калач. Точно такой, как в прошлый раз, когда калач был от царицы! Маркел принял калач, рассмотрел, после опять посмотрел на дядю Игната и осторожно спросил: – От кого это? – Говорить не велено! – сказал дядя Игнат. – Только сказала: за службу! Маркел открыл рот и уже хотел еще сказать, но дядя Игнат гикнул на Птенчика, Птенчик рванул – и Маркел поехал. Ехал он обратно по тем же улицам, по которым туда и приехал, то есть сперва по Ильинской, а после уже по Богоявленской. Думать ни о чем не думалось, потому что всё у него в голове было перепутано. Он даже по сторонам не смотрел, а если и смотрел, то ничего не замечал. Калач он по-прежнему держал в руке. А потом вдруг как почуял, осторожно разломил калач и увидел там внутри золотое колечко с большим самоцветом. Царицын подарок, подумал Маркел, вот Параска будет рада! И пнул Птенчика под брюхо и погнал. Птенчик побежал быстрее. Маркел ехал, улыбался и смотрел по сторонам. Только что там можно было рассмотреть! Даже когда он проезжал мимо Авласкиного подворья, то увидел только высоченный тын да закрытые ворота и закладенную подворотню – и поехал дальше. А Авласка в это время сидел у себя за столом и перекусывал. Жена его Авдотья стояла напротив него у стены, а дети лежали на полатях и смотрели вниз, на отца с матерью. Отец ел, мать молчала. После отец, то есть Авласка, не стерпел, посмотрел на мать (Авдотью) и спросил: – Чего так смотришь? Я что, у кого-нибудь украл чего?! – Где ты три эти ночи был? Где тебя черт носил? – очень сердито спросила Авдотья. – Какой черт, – сказал Авласка, – я был на службе. Я государю великому князю и царю служил! Мы с боярином Маркелом Ивановичем, дай ему Бог крепкого здоровья, животов своих не щадили, а ты тут теперь попрекаешь. – Видала я твоего боярина! – насмешливо сказала Авдотья. – Такой же ярыжка, как и ты. Сразу спелись! Только он теперь уедет, а ты здесь останешься! И не будет нам теперь здесь жизни! Как нам теперь после всего этого! Все говорят, что это твой дурень, Авдотья, нас перед московскими оговорил! Отольются ему наши слезоньки, вот что они говорят! – Не говорят, а брешут! – сердито ответил Авласка. – И пусть брешут! И пусть здесь и дальше сидят, в глухомани этой! А я в Москву уеду! К Маркелу Ивановичу! В Разбойный приказ пищиком, он меня звал. Он говорил: Авласка, Влас Демидович, да с такой рукой, как у тебя, только царские указы перебеливать! – Ой! – сердито сказала Авдотья. – Не смеши! – Вот и ой! – сказал Авласка. – Тоже в Москву со мной поедешь! Я тебя здесь одну не оставлю! И вас, пострелята! – продолжал он уже с жаром, обращаясь к детям на полатях. И опять сказал уже жене: – Москва большой город, всем места хватит. И там Маркел Иванович, и он нас в обиду не даст! Сказав это, Авласка поднял руку и стал осматривать стол. Авдотья сказала: – Бери, чего уже, если поставила. Но Авласка, уже почти дотянувшись до стопки, отдернул руку и сказал: – Нет, надо меру знать. У нас в Москве с этим строго! – и опять начал есть кашу. А Маркел тем временем уже выехал из Углича и ехал по Переяславской дороге. Маркел ехал быстро, показывал где надо овчинку, и уже к следующей ночи приехал в Москву. Но и в Москве он долго не задерживался, а только поднес Параске колечко, а Нюське сластей, Параска спросила, откуда колечко, на что Маркел сказал: не спрашивай, и на другое же сказал: тоже не спрашивай, а сам спросил, где князь Семен, на что Параска отвечала, что он три дня назад уехал по царевой росписи в Серпухов, к войску, первым воеводой при обозе, и уже от себя добавила, что там ждут крымского царя Казы-Гирея со многим собраньем. Вот и хорошо, сказал Маркел, как раз еще поспею. И назавтра рано утром выехал. Поэтому когда Шуйский со всеми своими (и не своими) людьми вернулся в Москву, Маркела там уже не было. Да и не до него было тогда! А после стало и тем более не до него, когда пришел Казы-Гирей с несчетным войском и с ним бились долго, пол-лета. А еще был великий пожар на Москве: на Арбате загорелся колымажный двор и после выгорел весь Белый город до Неглинной. А сказанный Казы-Гирей подступил до самого Коломенского! И уже только там, и то, как говорилось, больше Божьим милосердием да Пречистой Богородицы милостью крымского царя остановили, а после и повернули обратно, и он побежал. Радость тогда в Москве была всеобщая и несказанная. Кому тогда могло быть до Маркела? Да он и сам не высовывался, и князь Семен его не высовывал. И про Маркела забыли. Также и про царевичево дело тогда тоже мало кто помнил. И его решили быстро – уже на третий день после того, как Шуйский вернулся в Москву, царь и великий государь Феодор созвал бояр, Вылузгин вышел к ним и прочел им рульку с перебеленным следственным делом, после чего бояре, между собой посовещавшись, с рулькой согласились и постановили, что царевич зарезался сам, а угличане затеяли бунт и злодейским образом убили немалое число верных государевых слуг, которые стояли за правду, и как теперь быть, то есть кого как казнить или кого как миловать, во всем этом воля государя царя и великого князя, это ему решать. И решено было так: царицу Марию постригли и заточили в дальний монастырь на Белоозеро, а братьев ее, Михаила и Григория, рассадили по разным тюрьмам и еще двести посадских казнили – кого до смерти, а кого только секли нещадно, а после вместе с семьями сослали в Пелым. Также и Спасский соборный колокол, который бил в набат, отправили в вечную ссылку в Тобольск. И на этом сказанное углицкое дело сделалось. И после о нем еще целых двенадцать лет никто вслух не вспоминал, пока в Польше вдруг не объявился один человек, который назвал себя… Но это уже другая, не наша история. А наш Маркел? А что Маркел! Он после вернулся из войска, и Параска с Нюськой его встретили, а больше никто его тогда не видел. А что на него смотреть, он не заморская диковина. И он так еще три дня, никуда не выходя, на всякий случай, хоронился у себя. А на четвертый день к ним заявился Авласка. Маркел нельзя сказать, чтобы слишком обрадовался, но велел гостя принять. При малом свете и с закладенными окнами Параска собрала на стол, и они сели перекусывать. И там, чарка за чарку, Авласка рассказал о том, какие дела творились у них в Угличе после того, как Маркел от них уехал. И оказалось, что Мисюрев сКарповым напрасно хлеб не ели, а сразу начали свой розыск, и начали его с того, что велели хоть из-под земли найти и привести им Андрюшку Мочалова. – Злодея колдуна! – сказал Авласка. – Вот как они его назвали! Только где его было найти, когда его подворье всё дотла сгорело еще в тот же день, когда ты от нас поехал! И ничего там после не нашли, даже его костей! А искали. – Это Фома его поджег, – сказал Маркел. – И всё остальное тоже он. А кто искал? – Стрельцы, – сказал Авласка. – Так им было велено. И еще им было велено зорко смотреть, там, говорили им, великие богатства должны быть. Только ничего там не нашли, одна зола там была. Маркел на это усмехнулся и сказал очень негромко: – Это они нож искали. – Диковинный был нож! – сказал Авласка тоже тихим голосом. И также тихо спросил: – Кто им про него сказал? На что Маркел усмехнулся и уже ничего не ответил. Тогда и Авласка тоже хмыкнул. А Маркел сказал: – Князь Семен у меня спрашивал, как я съездил, что видел, что слышал. А я сказал, что ничего не видел и ничего не слышал. И он сказал: это славно, так я ему и передам. – Кому – ему? – спросил Авласка. На что Маркел только сердито сдвинул брови и даже на дверь не стал коситься, хоть очень хотел. Так они еще немного помолчали, а после Авласка спросил: – А что еще князь Семен говорил? – Про Индейское царство рассказывал, – сказал Маркел. – Там, говорил, такие колдуны бывают, что нашим куда до них! Индейский колдун такой, что ты его в землю закопай, а после через сорок дней откапывай, а он живой. Или на куски его порежь, а после сложи вместе, живой водой попрыскай – и он ожил. – Живой водой и я могу! – сказал Авласка. – Вот только где ее взять?! Но Маркел, его не слушая, продолжил: – А ножи-саморезы, сказал князь Семен, – это у них самое обычное дело. Только я про них не спрашивал. Вот так-то! – К чему это тогда он вдруг? – спросил Авласка. – Я не знаю, – ответил Маркел. После спросил: – А ты сам чего вдруг к нам приехал? Авласка засмущался и сказал: – Желаю поступить к тебе в подручные, Маркел Иванович. – Маркел Петрович! – поправил Маркел, но без зла. После без зла же продолжил: – И это не мне, это князю Семену решать. А он у нас строгий. А ты ничего не умеешь. Поэтому если он тебя и возьмет, так на первых порах только если сторожем. И то если я слово замолвлю. – Замолвь, Маркел Петрович! – с жаром воскликнул Авласка. – Век помнить буду! – Век! – повторил Маркел насмешливо. – Век у нас в приказе не живут. Служба у нас ого какая! – И помолчал. После сказал: – Язык у тебя длинный, вот что. А нам такие зачем? Вот как я к вам ездил. Много чего видел, а молчу. Потому что ничего уже не помню. А помнил бы? Сидел бы я с тобой сейчас? Нет, не сидел бы. А лежал бы неизвестно где. А не обидно мне? Обидно! Вот что у вас люди сейчас говорят об этом деле? – Известно что! – сказал Авласка тихим голосом. – Зарезали царевича лихие люди, а Борисовы бояре приезжали и наклепали на безвинных, и тех похватали, а лихим… – Но-но! – строго сказал Маркел. – Не очень-то! – А после уже не так строго продолжил: – Я же сказал: длинный у тебя язык. Не укоротишь сам – другие укоротят. Эх, – продолжал он с укоризной. – Учить мне тебя да учить! Ну да ладно! – И налил по стопке, и сказал: – Мы же с тобой, Влас, люди разумные. Вот за свой разум и выпьем! Но тут Параска не стерпела и из своего угла (а она там сидела) сказала: – Если разумные, так лучше бы не пили! Ночь на дворе давно! А если завтра с утра сразу к князю?! И она как в решето тогда смотрела: утром, чуть свет, к ним прибежал посыльный от князя Семена и сказал, что князь срочно зовет по делу! Дело, как после оказалось, было новое и дальнее, ехать нужно было далеко и на всю зиму. И еще вот что: дело это было не царского и даже не боярского разряда. Маркел этому очень обрадовался, но виду не подал, а, наоборот, стал говорить, что дело очень хлопотное, он боится, что один не справится, и начал просить, чтобы ему дали подручного. Подручных не было. Тогда Маркел сказал, что у него есть на примете один верный человек, проверенный, на что князь Семен только сердито хмыкнул и сказал, что у нас таких проверенных полцарства, но дальше отказывать не стал, а когда Маркел стал просить дальше, сказал, что если этот человек и вправду верный, то на первых порах пускай послужит сторожем, посмотрим, что это за гусь! И посмотрели. Но так как это уже хоть и наша, но не эта, а следующая история, то и рассказывать ее надо уже не в этот, а в следующий раз.Сергей Булыга Царское дело
1
В одна тысяча пятьсот восемьдесят четвертом году от Рождества Христова, в семнадцатый день марта, ближе к вечеру, въехал в Москву через Арбатские ворота человек. Звали его Маркел Косой, и ехал он издалека, от самой литовской границы, где в одном малом глухом городишке (городишко назывался Рославль) служил губным целовальником. А тут вдруг выдалось ему ехать в саму Москву! Даже не выдалось, а просто привалило, потому что у него в санях было полным-полно всего, чего только душа пожелает. А с виду сани у него были как сани, плотно прикрытые рогожей и еще сверху для верности прихвачены веревками. Но все равно Маркел то и дело оглядывался и будто невзначай кнутом помахивал. И, с нами крестная сила, никто его добра за всю дорогу так и не тронул, и дело кончилось тем, что Маркел доехал до Москвы, даже до самого Кремля, без огорчений. Только уже возле Кутафьей башни, когда он начал было поворачивать на Каменный мост, вдруг, откуда ни возьмись, выскочил ему наперерез стрелец и злобно закричал, что ты, мол, разве не видишь, что дальше ворота на запоре, вот я тебе сейчас дам по сусалам! Маркел, конечно, мог сойти с саней и показать стрельцу… Но не стал он с ним связываться, а только спросил с удивлением, чего это ворота вдруг в такую рань закрыли. — Не твое дело! — сердито ответил стрелец. — Закрыли, значит, так велели. Езжай дальше. И Маркел мимо закрытых Ризположенских ворот поехал вдоль Неглинки дальше, а там через другой мост, деревянный, заехал в Китай-город, где уже через Никольские ворота въехал-таки в Кремль и там дальше все время держал прямо, пока опять почти что не доехал до тех же самых Ризположенских ворот, но только с другой стороны. Вот какой ему пришлось дать крюк, даже почти удавку, из-за одного стрельца! А еще и день тогда был мокрый, слякотный, и все дороги, как это всегда в Москве, были разбиты в кашу, а Маркелова Милка-кобылка и без того за день умаялась. Поэтому так получилось, что, когда Маркел уже все же доехал до нужного ему двора, пришлось ему вставать с саней, брать Милку за хомут и помогать ей идти дальше, а то она сама уже не шла. Ворота на тот двор были распахнуты настежь. Да только кто туда добром зашел бы! Но об этом после. А так дальше было вот что: Маркел вошел в тот двор и мимо главного крыльца (на котором стояли стрельцы, и он им показал, что надо) прошел вдоль боярских хором налево за поварню и уже только там остановился. Время по мартовской поре было уже довольно позднее, начинало смеркаться, и поэтому хоть там, куда он тогда зашел, кругом было полно разных служб, но никого из дворни нигде видно не было. Да Маркелу они были не нужны, он сам знал, куда ему идти дальше: справа при главной хоромной стене была устроена лестница мимо подклети на первый жилой этаж, и там дальше, вдоль помоста, за перилами, были видны три двери. Маркелу нужно было в третью. И только он так подумал, как эта третья дверь вдруг распахнулась, и из нее на помост вышел рослый, крепкий, в черной однорядке человек лет сорока, а то и больше. А Маркелу было чуть за двадцать. Ну, или двадцать пять, не больше. Этот человек из той третьей двери, упершись руками в перила, внимательно посмотрел на Маркела, и было понятно, что узнал его, но все равно спросил: — А это еще кто? И по чью душу? — По твою, дядя Трофим, — ничуть не смущаясь, ответил Маркел. — Если, конечно, позволишь. — Га! — громко выдохнул дядя Трофим (а его почти что все так называли). — По мою? А сам ты кто? — А мы рославльские, — сказал Маркел. — Маркел меня зовут. Косой. Ты у нас летом был. — Ну, был. И что?! — строго спросил дядя Трофим. — Так, ничего, — скромно ответил Маркел. — Ехал мимо, дай, думаю, заеду. Вот. И покосился на сани. Дядя Трофим задумался, утер губы ладонью, повернулся и неспешными шагами сошел с лестницы, подошел к Маркелу и сказал: — Помню тебя, как же, помню. И всех ваших тоже. Служба такая, черт ее дери, всех помнить. — И вдруг очень тихо добавил: — А что в санях? — Так, всякое, — уклончиво ответил Маркел, тоже негромким голосом. — Гуси битые. Рыбка сушеная. Брусничка. Клюковка. Медок. Ну, и еще чего по мелочи. — Зачем это?! — еще строже спросил дядя Трофим, уже совсем почти неслышно. — И кому?! — Ну, как кому? Боярину, — так же тихо ответил Маркел. И почему-то прибавил: — Гостинец. — Да ты что это себе позволяешь?! — грозно сказал дядя Трофим. — Дачи суешь?! А если государь узнает?! Срубит голову! Да это у нас… О! И дядя Трофим начал оглядываться. Но вокруг по-прежнему никого не было, а только стало еще сумрачней. Маркел повернулся к Милке и стал поправлять на ней хомут. А после отступил к саням и взялся за вожжи. — Эй, ты чего?! — спросил дядя Трофим. Маркел молча расправил вожжи и уже приготовился ими встряхнуть. — Ты мне это не дури! — сказал дядя Трофим уже совсем сердито. — Ты куда это теперь собрался?! — Домой, — просто сказал Маркел. — Домой! — передразнил его дядя Трофим. — А люди скажут: а чего это он ездит? Туда-сюда, туда-сюда! Может, он умысел какой имеет? Может, погубить кого задумал?! — Так что, — спросил Маркел, — мне тогда теперь делать? — Га! — громко сказал дядя Трофим. — Ну, не на морозе же стоять. На вот, заноси пока что хоть сюда. — И он показал на дверь в подклеть. — Там открыто. И никто оттуда не возьмет, не бойся. У нас с этим строго. Га-га! Место же какое, сами понимаете! — А после что? — спросил Маркел, глядя на дверь. — После придумаем, — уже совсем уверенно сказал дядя Трофим. И еще радостней продолжил: — А вон Филька идет! — И позвал: — Филька! Иди сюда! Подошел какой-то Филька, от него крепко разило непонятно чем, и по приказу дяди Трофима он начал помогать Маркелу переносить мешки в подклеть. То есть Филька и Маркел носили, а дядя Трофим стоял. Когда все было перенесено, дядя Трофим велел Фильке взять Милку, поставить ее где-нибудь под крышу и задать чего-нибудь поесть. Филька повел Милку в конюшню. Дядя Трофим, еще немного помолчав, сказал: — Не готовился я сегодня к гостям. Да и живу я бобылем. Так ты это… Возьми того-сего на пробу. — И, оживившись, прибавил: — А то завтра понесу боярину, и вдруг это не то? И он тогда как взъярится! Маркел понимающе кивнул, открыл дверь в подклеть, взял, с большего, немного закусить и выпить, и они пошли к дяде Трофиму. Дядя Трофим шел впереди и что-то негромко насвистывал. Дядя Трофим, как Маркел это помнил, был человек веселый, хоть и служил в очень серьезном месте — в Разбойном приказе.2
Жилище у дяди Трофима было, как у всякого бобыля, плохо устроенное, бедное. Вначале Маркел следом за хозяином вошел в узкие темные сени, где сбоку стояла обыкновенная крестьянская лавка, а на ней ведро с водой. В ведре плавал деревянный ковш. Дальше прямо вперед была одна дверь, наверное, в чулан, а налево вторая — в светлицу. Если, конечно, эту полутемную каморку можно было так назвать. Убранство там было самое нехитрое: стол да лавки. Маркел повернулся к красному углу и перекрестился на икону. А вот икон у дяди Трофима было много, и среди них немало очень знатных. Но знатнее всех была Николина икона — сразу видно, очень старая, потому что сильно потемневшая. Да и письмо там было очень гладкое, сейчас, сразу подумал Маркел, так уже и не напишут. И, не сводя глаз с Николы, Маркел еще раз перекрестился — еще шире, а после поклонился низко, проведя рукой по половицам. Дядя Трофим радостно спросил: — Хорош Никола? — Эх-х! — только и сказал Маркел. И опять стал смотреть на Николу. Лоб у Николы был сильно наморщенный, взгляд неподвижный, строгий. Маркел оробел, отвел глаза… И только теперь увидел, что в светлице есть еще одна дверь, ведущая, так надо думать, на вторую половину. Но это что! А вот возле двери, в самом углу, висел богатый турецкий ковер, а на нем сабли, и ножи, и пищаль, и два пистоля. Маркел до этого пистолей никогда близко не видел, не то что в руках не держал, поэтому он сразу же шагнул к ковру, глаза у него снова загорелись, но уже совсем не так, как при виде Николы. Но дядя Трофим строго сказал: — Это после. Пока ставь на стол. Маркел опомнился и отступил, положил на стол мешок с провизией и рядом поставил бутыль и бутылку. Дядя Трофим тем временем откинул занавеску и взял с полки два шкалика — серебряных. Маркел, глядя на них, подумал, что дядя Трофим не только жены, но и прислуги не держит, вот это бобыль так бобыль. А не сказать, что бедный; вон какой ковер, его продай, и на три года хватит. А то и на пять! Дядя Трофим велел садиться. Маркел сел к столу, с краю, конечно, как приезжий. Дядя Трофим взял сушеную рыбу, ловко разломил ее и одну половину дал Маркелу, а ту, которая без головы, оставил себе. И кивнул. Маркел взял бутыль и налил по шкаликам. Дядя Трофим принюхался, после взял шкалик и поднес его к губам, принюхался еще раз и спросил: — Что это? — Вот и мы тоже про это думали, — сказал Маркел. — Спор у нас вышел с Карпом Никанорычем. Я говорю одно, а он говорит: нет. — Где взяли? — спросил дядя Трофим. — В хованке. Лежал бочоночек, — начал рассказывать Маркел. — Мы стали на него запись составлять. Я попробовал и говорю: литовское. А Карп Никанорыч: наше! А кто прав? Там же до границы всего две версты, так что могли и те, и наши подложить. Мы тогда сделали засаду. Три дня просидели. Никто не пришел! Карп Никанорыч рассердился, говорит: ты, как поедешь, забирай это с собой, и пусть Трофим Порфирьевич определит. Дядя Трофим посмотрел на Маркела, строго свел брови и медленно выпил. После пожевал губами и сказал: — Пиши: литовское. На березовых шишках и этого году. Но боярину я такое нести не советую. Пойло собачье, вот что это! Боярин за него может и шкуру снять. Ему, если чего несут, так помягче, послаще. Мальвазию ему подай, венгерское. А ты что принес?! — Так это мы только тебе на пробу, — ответил Маркел. — Это вроде как по службе, на проверку. А боярину мы вот чего! И он показал на бутылку. — А там что? — настороженно спросил дядя Трофим. — Мед стоялый. На папараць-кветке. — На чем? — Ну, это тоже из Литвы. Слово такое литвинское: папараць-кветка, — торопливо зачастил Маркел. — А по-нашему: цветок папоротника. Кто выпьет, тот сразу… — А! — радостно сказал дядя Трофим. — Понятно! Чтобы хованки легко искать! Чтобы под землей на три аршина видеть! Га-га-га! Это твой Карп ловко придумал! Это боярина потешит! Если, конечно, там тоже не дрянь. Как здесь! И он посмотрел на бутыль. Маркел смутился. Дяде Трофиму стало его жалко, он сказал: — Да ты не кручинься. Наливай еще. Может, я с первого раза ошибся. Может, это и не дрянь. И он опять взялся за шкалик. Маркел налил ему с горкой. — Со свиданьицем! — сказал дядя Трофим. И они выпили. — Ну, вот! — сказал дядя Трофим. — Теперь уже немного мягче. И начал закусывать. А из закусок там были в туесках грибочки, брусничка, капусточка, огурчики, еще грибочки, это уже рыжики — маленькие, в полденьги, хрустящие. Ну, и, конечно, копченый кабанчик. Дядя Трофим приналег на него: достал из-за голенища нож и подрезал кабанчика, и подрезал, а Маркел только успевал наливать ему с горкой (а себе только по первый верхний ободок). А разговор между ними был такой: сперва дядя Трофим спросил, как у них идут дела, и Маркел ответил, что дела идут хорошо, злодея, который прошлым летом сбежал от них по Марьинской насыпи, они осенью поймали и поставили на стряску, на второй стряске он обомлел, а когда его сняли и дали очухаться, он сразу всех своих назвал и место показал, и все это сбылось. — Всех взяли! — закончил Маркел и, не удержавшись, потому что уже выпил, хлопнул ладонью по столу. — Вот! — подхватил дядя Трофим. — Сразу на стряску! Это верно! И я своим тоже вчера говорил: на стряску его надо, на стряску! А они: нет, на виску! А ему что? И он висит себе, на нас сверху смотрит и только поплевывает. — Кто? — спросил Маркел. Дядя Трофим нахмурился и помолчал. После кивнул на бутыль. Маркел еще налил. Дядя Трофим опять кивнул, и они молча, не чокаясь, выпили. Не чокались они потому, что дядя Трофим свой шкалик для чоканья не подставлял. А выпив, утерся тыльной стороной ладони и вполголоса, очень печально сказал: — Хворает государь. Крепко хворает! Маркел молчал. Дядя Трофим спросил: — Ты как к нам сюда заехал? Прямо? — Нет, через Никольские, — сказал Маркел. — Вот так! Через Никольские! — со значением сказал дядя Трофим. — Потому что Ризположенские стоят закрытые. И также Фроловские, это уже третий день! Одни Никольские открыты! Почему? Потому что замысел имеется! — На кого? — тихо спросил Маркел. В ответ дядя Трофим только многозначительно хмыкнул. Маркел выжидающе молчал. Тогда дядя Трофим продолжил: — И все это вот здесь, на моей шее! — и для наглядности постучал себя по ней ребром ладони. — А как, — спросил Маркел, — вы про эту страсть дознались? — Очень просто, — сказал дядя Трофим. — Сорока на хвосте принесла. И я поехал. А это туда — за Новгород. За Ладогу. За Валаам. И там этот колдун, лопарь, Уйме Пойме. Нехристь, конечно. Я, говорил, знаю, мало вашему царю править осталось, помрет он скоро, как соб… Тьфу! Прости, Господи! — Дядя Трофим перекрестился, потом продолжал: — Говорит: пришла комета, это она по его душу, гореть ему огнем, спалит она его, будет его огонь жечь изнутри… Ну, и так дальше, много всякого, мы все это записали. И повезли сюда. И здесь в застенок. Боярин князь Семен у него спрашивает: кто тебя, пес, подучил? А он: я сам. И еще: а вы что, кометы не видели? Мы говорим: ну, видели. А он: тогда чего спрашиваете? Разве вы не знаете, для чего кометы запускаются? Чтобы дать нам знать, что скоро у нас будет большой огонь, потому что… Ну, ты понимаешь! Маркел кивнул, что понимает. Дядя Трофим молчал. Маркел спросил: — И что? — А ничего! — сказал дядя Трофим. — Ему что?! Мы его на дыбу, он висит. Мы его в кнуты, а он опять висит. Государя принесут… — Тут дядя Трофим замолчал, пристально посмотрел на Маркела и строго сказал: — И ты не сболтни где по дурости, понял?! Маркел кивнул. Дядя Трофим продолжил: — Не ходит уже государь. Встать не может. Разнесло его всего! В чирьях весь! Огнем весь горит! А этот нехристь насмехается: не жилец ты, говорит, великий царь-государь, дни твои сочтены, помрешь ты в среду, в Кириллов день. — Так сегодня уже вторник! — воскликнул Маркел. — А завтра среда, — сказал, недобро усмехаясь, дядя Трофим. — Кириллов день завтра. Завтра срок. И я говорю: надо его на стряску! И сечь до кости, чтобы он порчу снял! А князь Семен отвечает: больше трех раз в день поднимать на дыбу не положено, таков закон. А я: какой закон! А если государь помрет?! А князь… И дядя Трофим замолчал, начал оглядываться. А после перегнулся через стол и прошептал Маркелу на самое ухо: — А князь Семен отвечает: значит, такова будет Господня воля! И резко сел на место и перекрестился. Маркел тоже. Дядя Трофим посмотрел на бутыль. Маркел налил. Дядя Трофим сказал обычным голосом: — А ведь так оно и есть: все мы под Богом ходим. Как он пожелает, так и будет. Вот за это мы и выпьем. Они молча выпили. Дядя Трофим утерся и сказал: — Я сегодня целый день там был, в застенке. Рук, ног не чуял, так устал! А после только пришел, только прилег вздремнуть, слышу: сани подъезжают. И это ты. А завтра мне с утра опять туда. Может, еще до свету. Так что мне сейчас много пить нельзя. А то поднимут ночью, и надо идти к царю, а я — как грязь! Разве это дело? Маркел мотнул головой, что не дело. — Ладно, — сказал дядя Трофим. — Хватит про это. Ты лучше про себя расскажи, что там у вас, как Карп, как воевода. — Воевода у нас теперь новый, — ответил Маркел. — Старого еще по осени сменили. У нас же их почти что каждый год меняют. Чтобы корней не пускали. — Да-а! — нараспев сказал дядя Трофим. — И так сейчас везде. Царь у нас строгий. А если с ним вдруг что? Кого после него садить? А… — и опять замолчал, начал невольно осматриваться, а после сказал в сердцах: — А! Наливай! Все равно вечер пропал. А завтра если даст Бог день, так даст, и чем голову поправить. Маркел начал наливать, а сам подумал: темнишь ты, дядя Трофим, ох, темнишь, какая еще комета, не было этой зимой никаких комет, тихо было, слава Богу, а вот три года тому назад была, что правда, то правда, и бед она наделала. Подумав так, Маркел отставил на место бутыль и взялся за шкалик. Они выпили. — Надо закусывать, — сказал дядя Трофим. — А то вдруг и в самом деле посреди ночи поднимут и скажут: иди на службу! А как я пойду? И он срезал себе еще кусок кабанчика. Маркел осмелел и спросил: — А как это так получается, дядя Трофим, что наш такой грозный царь-государь вдруг какому-то нехристю такую волю дал?! — Какую еще волю? — настороженно спросил дядя Трофим. — Ну как какую?! — удивленно продолжал Маркел. — Ведь раньше всегда было как? Ведь же только государь почует или ему только подумается, что кто-то на него недоброе задумал, так, будь это хоть самый знатный боярин, а хоть и высший иноческий чин, он же его сразу на плаху! И голову долой! А тут какой-то лопарь — и вдруг напрямую царю говорит, что ему завтра не жить, и царь это терпит. Как такое понимать?! Дядя Трофим помолчал, после даже поморгал глазами и очень сердито, но очень негромко спросил: — Ты это что, с меня допрос снимаешь? — Зачем допрос? — сказал Маркел. — Просто любопытно стало. — Га! — громко выдохнул дядя Трофим уже не таким сердитым голосом. — А ты ловкий малый. И как это я тебя, когда у вас был, просмотрел?! Тогда Маркел, уже совсем осмелевший, продолжил: — И еще комета. Это про какую разговор? Не слыхал я в этом году про кометы. Дядя Трофим недовольно нахмурился, пожевал губами, посмотрел на бутыль… Но кивать на нее не стал, а сказал уже вот что: — Это была непростая комета. Не всем было дано ее видеть. А вот царь видел! И кое-кто еще другой. А ты кто такой?! Вот ты и не видел. И сколько можно болтать?! Я весь день был на ногах и завтра буду также, а ты знай себе лясы точишь. Тебе что?! Ты в разъезде, ты завтра можешь хоть до самого вечера дрыхнуть, а мне ни свет ни заря сразу в застенок, на службу. Ложись спать! Вот прямо здесь, на этой лавке. Завтра обо всем договорим. Маркел спорить не стал и, осмотревшись, сразу начал разуваться. — Погасишь свет! — строго сказал дядя Трофим, а сам развернулся и пошел к той двери, которая была возле ковра с пистолями. Маркел поплевал на пальцы и взялся ими за лучину. Огонь пошипел и погас. Маркел положил шапку под голову, лег, закрыл глаза… Но тут же спохватился и, опять открыв их, повернулся к иконам, к мерцавшей там лампадке, перекрестился и подумал, что в очень недоброе время приехал он в Москву. Не дай Бог, подумал Маркел дальше, с царем что-нибудь случится — что тогда? А что-нибудь случится обязательно! Помрет царь — будет один случай, выживет — будет другой. Если помрет, бояре между собой схватятся, потому что у царя два сына и одни бояре станут за одного, а вторые за второго, и что тут тогда в Москве начнется, даже представить страшно. Ну а если царь выживет, то он тогда сразу начнет розыск, откуда этот лопарь взялся, кто его научил такие речи говорить на государя, грозить ему смертью?! И как пойдет садить на колья, рубить головы, варить в котлах, веревками перетирать… И что там еще? А, вот, травить медведями. Подумав про медведей, Маркел вздрогнул, это ему было знакомо, он таким царя однажды видел. И, чтобы больше это не вспоминать, Маркел зажмурился. А чтобы совсем отвлечься, стал вспоминать слова дяди Трофима и думать, для чего ему было темнить… А для чего ему говорить правду, тут же подумал Маркел. Кто он такой дяде Трофиму? И кто он вообще такой? И тут Маркел как задумался, кто он в самом деле такой и для чего он сюда, в Москву, приехал и откуда, и дальше как начал вспоминать то одно, то другое, так очень скоро не заметил, как заснул.3
Но долго поспать ему не дали. Еще было темно, когда Маркел услышал, как затопали по ступеням сапоги, а после рванули дверь. Маркел хотел встать, но не смог, очень уж болела голова, и поэтому он только приподнялся и увидел — в дверях стоят двое. Один из них громко воскликнул: — Трофим, мать твою, ты где?! Маркел сунул руку к ножу. Те двое сразу кинулись к нему. Маркел остерегся бить ножом и затаился. И слава Богу! Один из них склонился на Маркелом и в сердцах сказал: — Так это не Трофим. — И сразу спросил: — А где Трофим? — Там, — сказал Маркел, показывая в сторону ковра. Там тут же отворилась дверь, и из нее вышел дядя Трофим. Он был уже полностью одет и теперь только пригладил волосы, надел шапку и спросил почти веселым голосом: — Что случилось? — Ироды! — в сердцах сказал первый вошедший. — Басурмане! Царь-государь при смерти, а у них только пьянка на уме. Дядя Трофим молчал, смущенно отирая бороду. Маркел уже сидел на лавке, держал перед собой свой полушубок и искал в нем рукава. — Кто это? — спросил про него первый вошедший. — Племянник мой, — сказал дядя Трофим. — Рославльский. Из губной избы. — А! — уже мягче сказал тот вошедший. Но тут же опять помрачнел и продолжал, тряся перед Маркелом пальцем: — Никуда не выходить! Сидеть и ждать здесь! Понял? Маркел ответил, что понял. И эти ушли, уведя с собой дядю Трофима. Маркел сидел на лавке, думал. Тем временем уже немного посветлело, на столе уже стали видны объедки вчерашней гулянки. Маркел поморщился. После не удержался и взял со стола огурец. И съел его. После взял еще два огурца. После покосился на иконы, на Николу. Никола смотрел очень мрачно. Маркел перекрестился. Никола будто моргнул. Маркел еще перекрестился, лег, отвернулся к двери и прислушался. Было еще тихо, значит, еще совсем рано, все службы спят… Кроме, конечно, нашей, подумал Маркел и зажмурился, представил, как он стоит у себя во дворе, колет дрова и складывает их в поленницу. Долго он так колол и складывал, сложил девяносто шесть полешек, весь измаялся и только тогда заснул. Когда он во второй раз проснулся, было уже совсем светло, со всех сторон шумели и так же шумели со двора. Маркел опять сел на лавке, потянулся, надел шапку. Подумал: если не звонят в колокола, значит, царь еще жив. А зазвонят, значит, помер. Царя Маркелу жалко не было, но и зла на него он тоже не держал. А что, думал Маркел, царь от него всегда был далеко, и какое ему дело было до Маркела, он про него знать не знал и поэтому никаких бед ему не чинил. Другое дело — бояре, этих, как рассказывали знающие люди, царь очень крепко не жаловал и часто их казнил всякими самыми страшными казнями. И это правильно! Потому что чего их жалеть?! Разве кто-нибудь когда-нибудь где-нибудь видел доброго и справедливого боярина? Нет! Вот как Маркел: сколько он их, этих бояр, у них в Рославле перевидывал, и каждый, как только приедет, так сразу начинает хапать, лихоимствовать, душить, изводить честных людей. Вот пусть царь их и казнит! Дай ему Бог долгих лет! А что?! Маркел царя однажды, не так давно, видел, царь был высокий, крепкий, румяный, он сидел вверху на золоченой лавке, застеленной дорогущим ковром, и за спиной у царя были ковры, и с боков, и так же со всех сторон вокруг него стояли рынды с серебряными бердышами, а царь, глядя вниз, на Маркела, кричал: «Дай ему, дай! Жги! Жги!» Маркел стоял внизу, в правой руке он держал нож, в левой шапку, а перед ним стоял медведь!.. Эх-х, сердито подумал Маркел, проведя рукой перед глазами, чтобы медведь исчез, эх, еще раз подумал он, царь же тогда ему, Маркелу, зла не желал, царь просто спросил у боярина, есть ли у него подходящий холоп, и боярин ответил, что есть, и Маркела сразу вытолкнули вперед всех и сказали держаться, потому что царь его тогда щедро пожалует. И Маркел, дурень, поверил им, махнул шапкой влево, медведь кинулся за шапкой, а Маркел его справа ножом! И еще! И еще! Медведь повалился и сдох. А царь поднялся, он был красный-красный, сердито плюнул и ушел. После Маркелу говорили, что не нужно было торопиться, а нужно было поиграть с медведем, побегать от него, царя потешить и только уже после убивать. И вот тогда была бы ему полная шапка серебра! А так ничего ему не было. Боярин сказал ему: дурень! И они поехали обратно. Но на полдороге их догнали, и боярин поехал обратно. Больше его никто не видел! А Маркел вернулся и служил дальше губным целовальником, вершил малый суд и расправу и, не дай Бог, на царя зла не таил. И вот теперь этот царь помирает. Маркел еще раз прислушался. Нет, в колокола пока не били. Уже, наверное, часа три прошло, как рассвело, но ни сам дядя Трофим, ни те, кто за ним приходили, пока что не возвращались. И, подумал Маркел, не вернутся до вечера, потому что это же какое дело не шутейное — на самого царя посметь сказать, что ему сегодня помереть! Вот же какой колдун отчаянный, одно слово — лопарь, лопари ничего не боятся, они же северный народ, к смерти привычные. Подумав так, Маркел встал с лавки и прошел к окну, открыл его и посмотрел во двор. Двор был как двор, по нему ходили дворовые по своим разным делам. Как у всех! И тут же подумалось: нет, это не простой двор, очень даже не простой, а двор князя боярина Семена Михайловича Лобанова-Ростовского, и кто князя Семена не боится?! Все боятся, еще как! А что?! Ведь будь ты хоть кто, хоть, страшно сказать, Шуйский, хоть Мстиславский, хоть Захарьин, а князь Семен возьмет четверть листа, черкнет на нем, что надо, и пошлет с этим листом своих людей! И эти люди, придя, скажут: боярин князь Семен велел по государеву хотению явиться к нему в приказ! Прямо дверь, после направо, на второй этаж! И придут! И их там в железа! Вот так! Вот что такое Разбойный приказ! И Маркел в нем пусть почти что последняя сошка, а все же имеет силу! И, дальше ничего уже не думая, Маркел открыл дверь и вышел на помост. Теперь перед ним был весь двор, двери везде были открыты, народ сновал туда-сюда, прямо напротив была колымажная, а чуть левее конюшня. Надо бы, сразу подумал Маркел, сходить туда, проверить Милку, но вдруг эти как раз вернутся, а его нет на месте? Тут и самому можно попасть на виску! И Маркел никуда не пошел, а только подумал, щурясь на ярком солнце, что какая сегодня жарища, этак в три дня все растает, как ему тогда ехать обратно, он же на санях, где брать колеса, а, главное, деньги на них… И, вдруг услышав сбоку шорох, Маркел обернулся и увидел, что это из соседней двери, из второй, вышла меленькая девочка, лет не больше семи, и теперь тоже стоит на помосте и смотрит на двор. А Маркела она будто бы не замечает. — Эй, стрекоза, — сказал Маркел. — Ты кто такая? Девочка посмотрела на него очень презрительно и также презрительно сказала: — Всю ночь вчера орали! Не давали спать! — Кто, мы? — спросил Маркел. — Мы с дядей Трофимом орали? — Дядя Трофим больше молчал, — сказала девочка. — А это все больше ты! Бу-бу-бу! Бу-бу-бу! Маркелу стало обидно, он только было открыл рот… Но тут опять распахнулась та дверь и на помост вышла… Ух, только подумал Маркел, какая же это красавица! Просто царица! А что! Высокая, чернобровая, статная, в собольей душегрее женщина плавно подошла к перилам, быстро посмотрела на Маркела — как будто огнем обожгла! — и тут же опять обернулась на двор и вылила туда, на снег, ведро помоев. — А! — громко сказал Маркел. Та женщина вновь повернулась к нему и строго спросила: — Чего пялишься?! — Я… Это… — промямлил Маркел. Женщина нахмурилась, развернулась и ушла к себе. Маркел немного погодя спросил у девочки: — Кто это такая? — Моя матушка. — А где твой батюшка? — На войне убитый. — А… — начал было говорить Маркел. Но тут опять вышла та женщина, резко взяла девочку за руку и увела ее. Маркел, оставшись один на помосте, стоял, упершись руками в перила, смотрел по сторонам, но больше всего на соседнюю дверь и то и дело негромко вздыхал. Так прошло, может, с полчаса, но ни та женщина, ни ее дочь больше от себя не выходили.4
Зато вдруг пришел дядя Трофим. Маркел еще издалека заметил, что дядя Трофим очень сердит, и не стал дожидаться его, а сразу вернулся в дом и сел за стол. Стол был не прибран. Маркел подобрал рукав и начал сдвигать все это к краю. Раскрылась дверь, вошел дядя Трофим и сразу, с порога, сказал: — Так и сидим! Ага! Больше заняться нечем! — Так мне же было велено, чтобы никуда не выходил, — сказал Маркел. — А на крыльце чего торчал? Маркел ничего не ответил. Дядя Трофим снял шапку и бросил ее на стол, на свободное место. После и сам сел на лавку. — Как дела? — спросил Маркел. — Как там твой лопарь? — Мой! — в сердцах сказал дядя Трофим. — Да чтобы его черти разорвали! Мы его подняли, и я спрашиваю: ну, что, баранья твоя голова, Кириллов день настал, а государь живой. И знаешь, что он на это ответил? Что день еще не кончился. И что мне князю Семену говорить? Повторять эти слова? Так он мне живо голову открутит! Маркел выжидающе молчал. Дядя Трофим немного погодя продолжил: — Вот так! Мне голову сразу долой. А лопаря не трожь! Повисел на виске и спустили. И водицы ему поднесли. И личико чистой тряпицей утерли, чтобы не сомлел. Скотина! — Чего вы с ним так возитесь? — спросил Маркел. — Га! Возитесь! — сердито повторил дядя Трофим. — Я бы ему повозился! Да я бы только кивнул, Ефрем взял бы кнут и его в три удара пополам рассек бы. Но не велено. — Почему? Дядя Трофим молчал. Маркел спросил: — Может, по маленькой? — Иди ты со своей маленькой! — грозно вскричал дядя Трофим и опять замолчал. После взял со стола кусок хлеба, начал его грызть… И отложил, и начал очень сердито, но и негромко рассказывать: — Все это от Федьки Ададурова пошло. Когда государю стало совсем худо, это как раз на Водосвятие, Федька Ададуров говорит (у них там, наверху): я вот тоже помирал, когда был в Олонце, и одна добрая баба сказала: надо ему (это мне) пригласить лопаря, есть, мол, тут у них один очень сильный ведун, из лопарей, Уйме Пойме зовется, и он многих лечит. А у меня, говорит Федька, тогда кровь горлом шла. И вот пришел этот лопарь и сперва начал плясать, бить в бубен, а после подсел ко мне, вырвал у себя из бороденки один волосок, дал его мне и говорит (это Федька говорит): пощекочи им у себя в ноздре. Федька и пощекотал. И сразу вдруг стал крепкий, здоровый и одарил того лопаря всяко, и лопарь уехал. А Федька и сейчас румяный, годовалого бычка за рога берет и себе на спину набрасывает. Вот! И Федьке сразу сказали: нам этот лопарь сгодится. Федька тогда к князю Семену. А князь Семен ко мне. И я поехал. За Ладогу, за Олонец, в Соломенский погост и собирался ехать еще дальше, когда мне вдруг говорят: а этот твой лопарь вчера вдруг сам сюда приехал, вон его олени, говорит, ему здесь нужно быть. Почуял, значит! Ладно. И я тогда сразу к нему. Так, мол, и так, говорю, такое дело, лопарь, государь тебя озолотит. А он посмотрел на меня, вот так носом понюхал и отвечает: нет, не поеду, смертью от тебя воняет, твой государь скоро помрет, и нет таких трав, нет таких заговоров, чтобы его спасти. Э, говорю, так ты бунтовать, лопарь! И череном ему вот так, прямо в лоб! И он кувырк на снег. А я нашим людям велел, а были со мной тогда люди, и мы повезли его сюда. Так он и здесь за свое: ваш государь помрет, нет таких трав, нет… Тьфу! И чего мы с ним только не делали, а он стоит на своем и не лечит. Мы говорим ему: дурень, царь тебе все отдаст! Три мешка золота! Пятьсот оленей! Две бочки зеленого вина! И Ададуров еще говорит… Тут дядя Трофим не удержался, хмыкнул и сказал: — А Ададурову всего страшнее. Государь же сказал, что лопаря он на костре сожжет, а Ададурова посадит на кол. И смажет кол свиным салом. Трясется Ададуров, высох весь, поседел… Но от судьбы не уйти! — И что теперь будет дальше? — спросил Маркел. — А ничего, — недобрым голосом ответил дядя Трофим. — Если государь сегодня не помрет, то завтра лопаря сожгут. Там уже и дрова сложены, и столб вкопали, я видел. А про Ададурова не знаю. Его, может, и помилуют. Государь же у нас вон какой — бывает милостив. Вот вдруг засмеется и скажет: ладно, Федька (это Ададурову), Бог с тобой, живи. А вот тебе, — и пальцем на меня укажет, — а вот тебе теперь ответ держать, почему такого лопаря привез, может, он не тот лопарь, которого мы ждали, а может, ты того на этого в дороге подменил! И спросит у Федьки: тот это? И Федька со страху скажет: не тот! И государь прикажет меня на кол. И меня посадят. А он к тебе повернется и спросит: а это еще кто такой? А это его племянник, ему ответят, они всегда вместе выпивали. Ну, тогда, скажет царь, и на кол их тоже рядом. И так и будет, прости Господи… Сказав так, дядя Трофим повернулся к иконам и широко перекрестился. Маркел сделал то же самое и, продолжая смотреть на иконы, сказал: — Старинное письмо. И очень знатное. — Это ты про Николу? — спросил дядя Трофим. Маркел кивнул. — Эта икона непростая, — сказал дядя Трофим. — Она у меня тринадцать лет уже. Я ее из Новгорода привез. Вот тоже было дело страшное! Столько тогда душ было загублено, что даже сам государь оробел. И развернулся и уехал. О! — вдруг сказал дядя Трофим. — Это Степан идет! Значит, государь того… И, уже глядя на дверь, перекрестился. Дверь сразу открылась, и к ним начали входить стрельцы в белых шубных кафтанах. Первый стрелец был с посохом, а остальные с бердышами. Первый остановился посреди светлицы, ударил посохом в пол и недобро усмехнулся. — Ты чего это, Степан? — опасливо спросил дядя Трофим. — А ты чего?! — грозно сказал этот Степан. — Зачем лопаря зарезал?! — Как это я зарезал? — еще опасливей спросил дядя Трофим. — Когда? — А только что! Ножом под сердце! А ну покажи нож! Степан резко подступил к столу, а за ним так же подступили остальные. Их было пятеро, как посчитал Маркел. А Степан уже сказал: — Чего ждешь? Показывай. Но дядя Трофим не стал браться за нож, а только немного поднял руки. Степан кивнул, и один из стрельцов достал тот дядин нож, который висел на виду. Степан взял этот нож и осмотрел лезвие. Оно было чистое. — Еще, — сказал Степан. Стрелец поискал по поясу, нашел и вынул еще один нож. Он тоже оказался чистым. — Еще! — опять сказал Степан. Дядя Трофим отставил ногу, выставил ее из-под стола. Нож, который вытащили у него из-за голенища, тоже сверкал как новенький. Тогда Степан повернулся к Маркелу. Маркел сказал: — А я здесь сидел и никуда не выходил. С самой ночи. Степан молчал. Потом взял дядины ножи и начал их по одному втыкать в столешницу. Дядя Трофим их доставал и убирал на место. Потом спросил: — Что у вас там приключилось? — Что, что! — мрачно сказал Степан. — Лопарь лежит зарезанный. Кровищи из него, как из быка. А сам был такой сухонький. А эти говорят, что ничего не видели. Они, говорят, обедали. А ты ушел! Может, сказали, это ты его пырнул, пока они отвернулись? Что-то быстро, говорят, ты уходил! А перед тем к нему заглядывал. Вот и пырнул тогда, так получается. И сразу в дверь. — Нет! — громко сказал дядя Трофим. — Да ты чего это, Степан! Да мы с тобой столько лет! — Э, — недобро усмехаясь, ответил Степан. — А то не знаешь, как это бывает. Бес быстро путает. Не успеешь оглянуться, а он под локоток толкнет, вот нож и войдет кому в брюхо, хоть ты того и не хотел. — Степан! — сказал дядя Трофим. — Ты же мои ножи видел. Они же все чистые! — Утереть нож — дело недолгое, — сказал Степан, опять недобро усмехаясь. Потом, немного смягчившись, прибавил: — Да ты не колотись так! Если они тебя оговорили, мы это быстро вызнаем. Прямо сейчас. Вставай! — Вот язвы! — сказал дядя Трофим, поднимаясь с лавки. — Зачем им было его резать?! Его завтра бы и так сожгли. — И вот тогда бы я к тебе не приходил, — насмешливо сказал Степан. — А так было слово, надо отвечать. Пошли! — И посмотрел на Маркела, а тот уже встал, и прибавил: — Да, и ты тоже пойдешь. Дядя Трофим сказал: — А он при чем?! — Молчи! И они все пошли к дверям. Когда они шли по помосту мимо соседской двери, Маркел посмотрел на нее, и ему показалось, что дверь закрыта неплотно и за ней кто-то стоит…5
Но это тут же забылось. Не до того тогда было Маркелу! Лопаря зарезали, лопарь был непростой, и теперь скажут: это вы, думал Маркел, и их с дядей Трофимом сразу посадят на колья, рядышком. И тут же горестно подумалось: эх, дядя Трофим, накаркал ты про колья, зачем ты про них говорил? Лучше бы ты говорил… Но ничего другого в голову не лезло, а опять про лопаря подумалось, и подумалось не просто, а вот как: прав дядя Трофим, никому этот лопарь не нужен, и что тогда получается? Что лопаря убили для отвода глаз, чтобы они только о нем сейчас и думали и бегали к нему, искали, кто его убил, а за это время что-то сотворится! А что? Да государя прикончат, вот что! Ведь лопарь же предупреждал, что государь помрет сегодня! И вот так оно теперь и будет, если они тех не остановят. И так Маркелу эта мысль запала, что он даже не заметил, как они вышли со двора и почти сразу же, через дорогу, оказались рядом с Государевым дворцом. Ведь же, как раньше уже говорилось, двор князя Семена стоял в самом начале Троицкой улицы, то есть направо от него были Ризположенские ворота, а налево крайний угол Государева дворца, там где Сытные палаты. И там же был проезд на задний, так называемый Хлебный Дворцовый двор. Проезд звался Куретными воротами, они были двойные. Первые были раскрыты настежь, они в них вошли, подошли ко вторым, толкнули их… А те оказались закрытыми! Степан чертыхнулся и начал стучать. Никто не отзывался. Тогда он закричал, чтобы скорее открывали, что он очень спешит. Но и тогда никто не отозвался. — Вот ироды! — гневно сказал Степан. — Поубиваю всех! Только что здесь шел, было открыто! — Давай через верх, — сказал дядя Трофим. — Сам знаю! — оборвал его Степан. Они все немного отступили, нашли в полумраке дверь в стене и открыли ее. За дверью была лестница наверх, в палаты. Они стали по ней подниматься — Степан, заним дядя Трофим с Маркелом, за ними стрельцы. Наверху было душно и тесно, воняло квашней. Они, теснясь, быстро прошли через сени и вышли на другую сторону палат, на галерею вдоль Заднего Государева двора. Но они по галерее не пошли, а еще по одной лестнице спустились вниз, во двор и быстро пошли по нему. Было видно, что Степан очень спешит. Еще бы, подумал Маркел, лопаря зарезали, а если царь вдруг сейчас спросит, как там лопарь, что он теперь говорит, день ведь уже кончается, а царь живой! Вот только живой ли? Подумав так, Маркел похолодел, и опять ему подумалось, что не туда они идут, не нужен им лопарь, а нужно идти к царю, зарежут его злые люди, лопарь знал, что говорил! И надо сейчас сказать дяде Трофиму… Но дядя Трофим шел впереди, плечом к плечу со Степаном и что-то ему быстро-быстро говорил, а Степан морщился, но ничего не отвечал. Во дворе было много народу и много подвод, у всех были свои дела, день был как день, грязи кругом было много, еще бы, такая жарища, снег тает, подумал Маркел и распахнул полушубок. Степан с дядей Трофимом шли очень быстро, Маркел за ними едва поспевал. Да вот только, в досаде думал он, куда это они идут, не нужен им лопарь, лопаря уже зарезали, а им нужно к царю, пока тот еще жив! А они тем временем уже прошли через весь двор и стали опять подниматься по лестнице. Лестница вела, как видел Маркел, к терему, то есть к царицыным палатам. Никого на той лестнице не было. Но как только они взошли по ней наверх, навстречу им выскочили две какие-то бабы и начали кричать, что кто их сюда звал, что вот они сейчас на них пожалуются — и царь велит поотрубать им головы. Но они на этих баб не обратили никакого внимания, а быстро шли себе по галерее мимо терема и, обойдя его, хотели опять спуститься уже в другой двор, так называемый Передний, но там при лестнице стояли стрельцы, тоже в белых кафтанах. Степан остановился перед ними и стал что-то спрашивать у их старшего, старший стал показывать налево. Степан кивнул. Маркел тоже посмотрел налево. Там вдоль теремной стены шел длинный помост, саженей на тридцать, не меньше, а после поворачивал направо и продолжался вдоль высоких брусяных хором. Окна в тех хоромах были большие, стрельчатые, на них поблескивали солнечные блики. — Что это там? — спросил Маркел. — Царева Столовая палата, — ответил дядя Трофим. — Эй, — тут же сказал им Степан. — Чего вы? Нам сюда! — и показал вниз, на Передний двор. Но тут со стороны палаты вдруг раздался крик! Очень громкий! Очень страшный! Как будто кого убивают! — Эх! — гневно воскликнул Степан. — Дождались! И побежал на крик. За ним побежали дядя Трофим, и остальные стрельцы, и Маркел. Но далеко они не убежали. В дверях Столовой палаты стояли рынды — в золотых кафтанах и с серебряными бердышами — и, чуть что, совали ими в наседавшую на них толпу. А толпа там собралась уже немалая и очень плотная. Дядя Трофим полез вперед, в самую гущу, следом за ним полез Степан. Маркел было пристроился за ними, но дядю Трофима и Степана пропустили — Степан им что-то крикнул, дядя Трофим что-то показал, — и они протиснулись в Столовую палату. А Маркела пнули бердышом, слава Богу, что плашмя, и он подался обратно, в толпу, к стоявшим в ней Степановым стрельцам. Теснотища вокруг была страшная, но толпа молчала. А тот дикий крик продолжался. Кричал кто-то в Столовой палате. Крик был бабий, визгливый, надрывный. Потом крик начал понемногу затихать. Толпа по-прежнему молчала, никто ничего не говорил. Время от времени в толпе там-сям крестились. Маркел посмотрел вверх. В небе было много рваных облаков, они плыли быстро. Ветер сильный, подумал Маркел. Потом подумал: царь преставился, что дальше будет? Потом тут же подумал: нет, царя убили, зарезали те злые люди, которые вначале лопаря зарезали. А то если он знал, сколько царю осталось жить, так он, конечно, узнал бы и про то, кто собирается его убить, и мог про это сказать. Вот его для того и зарезали, чтобы он им не мешал. Подумав так, Маркел невольно улыбнулся, потому что ему стало радостно из-за того, что он такой догадливый… Но тут же спохватился и опять стал мрачным, как и все, кто стоял рядом с ним. Нет, тут же подумал Маркел, они не мрачные, а они просто не знают, как им теперь быть, ведь сколько лет царь Иван царствовал? Сколько Маркел живет на свете, и еще примерно столько же, представить страшно! Вдруг впереди зашевелились, потом толпа начала раздаваться. А вот и совсем раздалась, и Маркел увидел, как двое рынд (без бердышей) выводят под руки какую-то старуху. Старуха была очень древняя, она чуть шла, глаза у нее были закрыты. Она слепая, подумал Маркел. И еще: это она кричала. А теперь она только порывисто вздыхала, а щеки у нее были все мокрые от слез. — Царская нянька, — услышал Маркел чей-то шепот. — Ей девяносто лет. А вот пережила его! Маркел меленько перекрестился. Толпа продолжала раздаваться дальше. Старуху подвели к лестнице и стали возводить по ней. Лестница вела к царицыному терему, сразу на верхний этаж. Толпа опять стихла, опять стало тесно и душновато. Маркел попытался думать о царе — не думалось. И о лопаре тоже не думалось. И вообще ни о чем. Маркел просто стоял и ждал, что будет дальше. Было очень тихо, было только слышно, как кто-то сопел Маркелу сзади прямо в ухо, но обернуться не было возможности. Вдруг впереди толпа опять заволновалась, а потом стала отходить назад. А потом из Столовой палаты начали выходить люди. Это их оттуда выпирают, подумал Маркел, и это правильно, нечего им там делать, у царицы горе, а они пришли глазеть! Толпа продолжала отступать. Маркел подумал, что ему уже и так достаточно бока намяли, и отступил еще, а после еще и еще и уже почти что вышел из толпы, как вдруг его схватили за плечо. Маркел обернулся и увидел одного из Степановых стрельцов — он продолжал крепко держать Маркела. А, это чтобы я не убежал, понял Маркел и замер. Но долго ему так стоять не пришлось, потому что почти сразу же за этим из Столовой палаты вышел вначале Степан, а за ним дядя Трофим. Они, один другому помогая, начали протискиваться через толпу и вскоре добрались до Маркела и Степановых стрельцов, которые, вся пятеро, держались кучно. — Ну, что там? — спросил Маркел дядю Трофима. Тот сделал строгое лицо и деревянным голосом ответил: — Осиротели мы. Всем царством! — и перекрестился. Но не истово! Степан это заметил и оскалился. Сказал: — Хватит болтать! Пошли! — Куда? — спросил дядя Трофим. — Куда, куда! — передразнил Степан. — К лопарю, куда еще. — И уже тише добавил: — Царя и без нас отпоют, а наше дело вместо нас никто не сделает. И он развернулся и пошел обратно, к той лестнице, которая вела вниз, на Передний двор. Дядя Трофим, Маркел и стрельцы пошли следом за ним. На полпути Маркел не удержался и спросил: — А почему так тихо? Почему колокола молчат? — Значит, не велено, — строго сказал дядя Трофим. — Кем не велено? — Кем надо! Маркел больше ни о чем не спрашивал, и дальше они шли молча.6
И весь дворец тогда молчал! Молчали стрельцы на лестнице. Молчали сторожа внизу возле нее. Молчала и вся многочисленная царская челядь, которой тогда было полным-полно на Переднем дворе. Да и не только все они молчали, но еще никто из них не двигался, будто их кто околдовал. Это лопарь их так, почему-то подумал Маркел, глядя на них всех, стоявших в самых разных позах, и только лица у них были повернуты в одну и ту же сторону — на окна Столовой палаты. А окна были закрыты, и ни одна солнечная искорка на них теперь уже не играла, потому что солнце зашло в тучу. А где ему еще быть, если царь преставился, с опаской подумал Маркел, теперь оно, может, три дня не выйдет. Но солнце тут же опять вышло и засверкало на стеклах. Вот только Маркелу было уже некогда смотреть по сторонам. Дядя Трофим строго шикнул: — А ну не зевай! И Маркел следом за ним прошел под ту лестницу, с которой они только что спустились, а теперь дальше, мимо сторожей вошли в какую-то низкую, узкую дверь, а за ней через такие же тесные сени вышли на еще одну лестницу, уже под хоромами, и начали по ней спускаться. — Эх! — сказал спускавшийся перед Маркелом дядя Трофим. — Государь всегда ругался, что здесь ни бельмеса не видно. А вот больше ругаться не будет. — Но-но! — где-то совсем снизу проговорил Степан. — Попридержи язык, Трофимушка, а то царь, может быть, уже и помер, а слуги его… — Понял, понял! — поспешно перебил его дядя Трофим. И дальше они опять спускались молча. Наконец они спустились совсем вниз и оказались в просторных сенях, свету в которых было, может, и немного, но для некоторых дел достаточно. Стены в сенях были каменные, а сами сени стояли пустые, почти что ничего там не было, только сбоку на лавке сидел дьяк, а возле него стоял стрелец. Степан спросил у стрельца, все ли у них тут в порядке, и стрелец ответил, что да. Тогда они — теперь уже только Степан, дядя Трофим и Маркел — прошли дальше, в дверь в стене, а стрельцы остались. За дверью из сеней открылась здоровенная, просторная палата, стены которой тоже были каменные. Это был, как после узнал Маркел, так называемый Ближний застенок. Там прямо, как входишь, стоит дыба, слева заплечное место, а справа расспросное. Дыба тогда была пустая. В заплечном месте среди своих инструментов сидел палач, и он даже бровью не повел и не подумал вставать. А справа, на расспросном месте, за столом сидели трое. При виде вошедших они сразу встали и поснимали шапки. Степан тоже снял свою, повернулся к образам, перекрестился и сказал: — Без государя мы! Эти, за столом, стали креститься. Степан надел шапку, помолчал, потом спросил: — А этот что? Старший из стоявших возле лавки (у него была уже седая борода) показал рукой еще правее. Там, за решетчатой дверцей, виднелся небольшой закуток. На дверце висел замок, но он висел просто так, а сама дверца была приоткрыта. Степан подошел к ней. За Степаном подошли дядя Трофим с Маркелом. — О! — только и сказал Степан и указал на закуток. После спросил: — Не трогали? — Нет, нет!.. — зачастили те, от стола. — Огня! — велел Степан. Один из тех поднес огня, и теперь Маркел увидел лежащего на полу закутка лопаря. Это был сухой морщинистый старик, очень диковинно одетый — как иногда одеваются скоморохи на Масленицу, то есть в вывернутые шкуры, обшитые бисером, ленточками, жемчугами и прочими подобными украшениями. Старик был без шапки, голова его была брита наголо, а усы и борода у него были очень короткие, кустистые. Да, и еще: старик лежал на соломе, солома была в крови, и даже дальше, на полу, была видна лужица крови. — Во, — сказал Степан, указывая на нее. — А раньше было совсем не подойти, все кругом было в кровищи. — Куда его резали? — спросил дядя Трофим. — Вот сюда, в брюхо, — показал Степан. — На себе нельзя показывать, — строго сказал дядя Трофим. И сразу спросил: — А где нож? — Как где? — спросил Степан. — Это не у меня надо спрашивать, а у того, кто резал. — Га! — только и сказал дядя Трофим. После еще насмешливей продолжил: — Глаза надо разуть, вот что! Тогда и спрашивать не надо! И он ступил в закуток, сунул руку лопарю под бок… И вытащил оттуда нож! Нож был весь в крови, Степан невольно отшатнулся. — Держи! — сказал дядя Трофим. — Это теперь твое. Степан взял нож, начал его рассматривать. Нож был как нож, обыкновенный сапожный. — Это тот нож, которым его резали, — сказал дядя Трофим. — Зачем ты тогда мои ножи спрашивал? — Этого ножа тут раньше не было, — сказал Степан. — Я хорошо смотрел. — После еще помолчал и прибавил: — Это они его после подбросили! И посмотрел на тех троих. Они молчали. Вдруг палач встал с места и сказал: — Меня тут не было. Я только что пришел. Я перекусывать ходил. — Знаю, — сказал Степан. И опять стал смотреть на тех троих. Самый старший из них, седоватый, не удержался и сказал: — А почему это мы? Может, он сам себя зарезал. — А где он взял бы нож?! — сказал Степан. — Так он колдун! Что ему нож! — продолжал седоватый. — Да он что хочешь наколдует. Наколдовал, что государь помрет, и помер! Так это же государь! А тут какой-то нож! Да ему это тьфу! А государь… — Ты на государя мне не наговаривай! — строго сказал Степан. — Государя он извел! Ага! Чего ты мелешь?! Государя Бог прибрал, а не этот ведун! — Ну, не знаю, ведун, не ведун, — продолжал седоватый, — а государь его слушал. Дядя Трофим не даст сбрехать. Ведь слушал же, дядя Трофим? Дядя Трофим молчал. Седоватый усмехнулся и закончил: — И что получилось? Извел государя. Поэтому я думаю вот как: если кто его после зарезал, то правильно сделал. Потому что свершил Божий суд. Вот пришел и свершил! И не просто кто пришел, а… Да! — прибавил он уже не так задиристо, а даже как бы с сожалением. И при этом быстро глянул на Степана. И тот как будто очнулся! И твердо сказал: — Да! И в самом деле! Божий суд! Не клевещи на государя! Не возжелай ему зла! А возжелаешь — прими кару. И посмотрел на дядю Трофима. Дядя Трофим был очень мрачный. Степан заулыбался и сказал: — А ты чего здесь стоишь? И ты, — это он сказал уже Маркелу. — Теперь же все ясно! Ни при чем ты здесь, Трофим, не ты его резал, так что ступайте с Богом, а я тут уже сам во всем остальном разберусь. Ступайте, соколы, ступайте! Но дядя Трофим стоял на месте. И еще сказал: — Куда это я пойду, если это наш лопарь?! Я его сюда привез, и я теперь должен знать, кто его зарезал. — Га! Ты привез! — насмешливо сказал Степан. — Вот когда ты за ним ездил, тогда он был твой. А когда ты его сюда привез и передал под запись, тогда он сразу стал наш, дворцовый. Ясно? А теперь вали кулем отсюда! То ваш приказ — Разбойный, а это наш — Дворцовый! И государь, — продолжил он уже не так свирепо, — и государь нынче преставился, так вы бы хоть пошли туда да постояли бы, да поскорбели по нему по-христиански, а то вам только сыск на уме! Дядя Трофим опять молчал, но и не трогался с места. Так же и Маркел стоял возле него, хоть ему было очень страшно. Степан добродушно улыбнулся и сказал: — Надо будет, я вас сразу позову. А пока не мешайте мне здесь. Дядя Трофим поднес кулак ко рту, кратко откашлялся, после махнул той же рукой, развернулся и пошел к двери. Маркел пошел за ним. Степан сказал им вслед: — Вот так-то оно лучше. А то какого-то поганца пожалели. Ведуна проклятого!7
Дядя Трофим с Маркелом (дядя Трофим, конечно, впереди) поднялись наверх по той же самой лестнице, но выходить во двор не стали, а сразу свернули в какую-то дверь и там дальше через сени, через переходы, опять через сени и так далее пошли по нижнему, нежилому этажу. Там было грязно и тесно да и воняло всяким. Известное дело, клети, подумал, потирая нос, Маркел. Да и свету там было немного, не рассмотреть, куда ступаешь, и поэтому то и дело что-нибудь да попадалось под ноги. Степан идти по низу побрезговал, думал Маркел, а вот дядя Трофим — пожалуйста, потому что дядя Трофим — свой, с ним легко, хоть они с ним по-настоящему еще не познакомились. А все равно душевный человек, продолжал думать Маркел и при этом улыбался. Но в то же время вдруг подумал, что если его сейчас вдруг оставят одного, то он ни за что обратно не выйдет, заблудится, а спросить будет не у кого, потому что никто навстречу им не попадается, пусто кругом, все двери или уже закрыты, или при их приближении поспешно закрываются, а если кто и стоит в сенях, то сразу шугается куда-то в тень и исчезает напрочь. И то, думал Маркел с пониманием, ведь же какой сегодня день: царь Иван преставился! И тут же захотел спросить, как это случилось, что дядя Трофим там, в царских покоях, видел, но не решился, промолчал. И почти сразу же после этого дядя Трофим открыл еще одну дверь, и они вышли во двор, на свет. Это опять был Задний, то есть тот самый двор, на который они попали сразу после того, когда не смогли войти в закрытые Куретные ворота. Эти ворота теперь были сбоку, и возле них стояли стрельцы в белых шубных кафтанах. А раньше они не отзывались! Дядя Трофим строго сказал им: — Где вы только что шатались?! Степан крепко гневался, не мог до вас достучаться. Поотрывает он вам теперь головы. — Так, это… — начали было оправдываться стрельцы. Но дядя Трофим не стал их слушать, а приказал открывать. И они открыли. Но не все ворота, а только калитку при них и объяснили, что так им велел боярин. — Какой еще боярин? — строго спросил дядя Трофим, входя в калитку. Но ему ничего не ответили. Дядя Трофим с Маркелом вышли из дворца. Дядя Трофим остановился, посмотрел на двор князя Семена (который, как уже говорилось, стоял прямо напротив дворца) и сказал: — Не в доброе время ты к нам приехал, Маркелка. Надо бы тебя прямо сейчас домой отправить. Домой хочешь? Маркел промолчал. А что, он подумал, ждет его дома? И кто? Но тут же опять подумал, что и тут, конечно, тоже настали очень непростые времена. И Маркел вздохнул. Тогда дядя Трофим поправил шапку и сказал: — Ну, ладно. Чего это я вдруг? На голодное брюхо ни о чем добром не думается. Пойдем-ка, сперва соберем чего-нибудь на стол. И они пошли — через дорогу, на князя Семена двор и дальше налево, за поварню. Проходя мимо поварни, дядя Трофим остановился и велел позвать Герасима. Когда вышел Герасим, дядя Трофим сказал, чтобы тот принес ему чего-нибудь перекусить, и чтоб погорячей. Герасим поклонился и ушел к себе обратно. Дядя Трофим прошел еще немного и, увидев Фильку (того самого, вчерашнего), подозвал его к себе и вначале спросил про Маркелову кобылку, как там она, а после велел, чтобы Филька сбегал к Демьянихе и принес от нее пирогов. — И чтоб не горелых! — прибавил он строго. Филька ушел скорым шагом. А дядя Трофим с Маркелом поднялись по лестнице и вошли в дяди Трофимово жилище. Там дядя Трофим велел сесть, и они сели. Дядя Трофим посмотрел на бутыль. Маркел сразу взялся за шкалики. — Погоди, — сказал дядя Трофим. — Сперва горячее. Сейчас от Герасима принесут. А вот и несут уже! И вправду на лестнице послышались шаги. После открылась дверь и вошли два холопа. Один поставил на стол миски — белой глины! — а второй котел с половником и начал разливать по мискам. Это была щучья уха. Дух от нее шел очень заманчивый, Маркел не удержался и облизал губы. — А пироги? — спросил дядя Трофим. — Сейчас принесут, — ответил один из холопов. Дверь снова открылась, вошла баба с подносом, накрытым вышивным полотенцем. Под полотенцем были пироги — тоже рыбные, конечно, потому что это было в среду, в постный день. Но пироги были толстенные и очень аппетитные. Дядя Трофим махнул рукой. Баба и холопы вышли. Дядя Трофим, не глядя, взял один из пирогов, сильно надкусил его и пожевал немного, после второй рукой взял ложку, зачерпнул ушицы и попробовал. Подумал и сказал: — Годится. И начал есть — не спеша. Маркел тоже — ложка в ложку. Так они ели достаточно долго, съели уже больше половины, когда дядя Трофим наконец остановился, утер ладонью губы и сказал: — Ядреная. И только теперь уже велел налить. Маркел налил из бутыли своего, вчерашнего. Дядя Трофим взял шкалик, поднял его, покосился на образа, левой рукой перекрестился (потому что в правой держал шкалик) и сказал: — Земля ему пухом. Пока что. И они выпили. Дядя Трофим опять утерся, посмотрел на Маркела — и вдруг усмехнулся и сказал: — Что, Маркелка, глазки выпучил? Оттого, что они все передо мной вот так?! — И он показал рукой, как вьется дым. Маркел молчал. — А что, — продолжал дядя Трофим, — ты думал, что если я с тобой вот так запросто сижу и хлебное вино хлещу, то я со всеми такой? Или что я им и тебе ровня?! А? Отвечай! И он аж покраснел лицом! А Маркел по-прежнему молчал и только вот так — непонятно, как — сделал бровями. Дядя Трофим рассмеялся. А отсмеявшись, продолжал — и уже опять сердито: — А я какая вам ровня? Вы кто?! А я стряпчий, Маркелка, слышишь?! Стряп-чий! Стряпчий я! Разбойного приказа! Не Сытного, не Дровяного, не Царицына и даже не Аптекарского, а… — и замолчал. — Разбойного! — сказал Маркел. — Разбойного, — кивнул дядя Трофим. И еще раз повторил: — Стряпчий. Разбойного! А выше стряпчего кто? Стольник! А выше стольника только окольничий! А так как у нас в приказе стольников нет, то я после князя Семена второй человек! А князь Семен сидит в Думе. На нижней лавке, правда, потому что еще молод, а как царь пожалует ему боярина, так он пересядет на верхнюю. А мне выхлопочет стольника! А то я и сам выхлопочу. Есть за что! И еще как! Вот как сегодня я… Но тут дядя Трофим вдруг резко замолчал и стал смотреть в стол. Маркел потянулся к бутыли. — Нет! — строго сказал дядя Трофим. — Не тот сегодня день! А вот! — и тут он сделал вид, будто смеется, и также будто весело продолжил: — Ты, я видел, удивлялся, как все тут мне несут все, что я ни потребую. А как им еще быть? Весь этот угол княжеских хором — мой собственный, я его у князя выкупил. Это теперь мое жилье, и я его сдаю внаем, недорого. Ну, и… — Тут он улыбнулся. — Ну, и еще беру харчами. А сколько мне надо харчей? Вот они и несут и еще спасибо говорят. Мои приживальцы! Га! — и показал еще налить. Маркел налил. Дядя Трофим начал пить. Но не допил, поморщился, отставил шкалик, еще сильней поморщился и вдруг сказал: — А лопаря кто-то убил! Да только что теперь кому этот лопарь, если самого царя… — Но сразу же поправился: — Если государь усоп! Кому теперь до лопаря? И посмотрел на Маркела. Маркел молчал. Дядя Трофим усмехнулся, сказал: — Это хорошо, что ты молчишь. Болтунов не люблю! Я бы, если б был царем, указ издал бы: всем болтунам резать язык. Хотя, — тут же прибавил он, — если все будут молчать, как мы тогда свое дело будем делать? Маркел спросил: — А тот строгий человек в красной рубахе, который в застенке при инструментах сидел, это кто? — Это Ефрем-палач, — сказал дядя Трофим. — Эту рубаху ему сам покойный царь пожаловал. За службу! И он только в ней теперь ходит. Какой бы ни был мороз, а он везде в ней. Ну, иногда полушубок на плечи накинет, но не застегнутый, чтобы рубаху было видно. Царь раньше любил говорить: «Эх, Ефрем, Ефремушка, мне тебя Бог дал. Без тебя я кем бы был? Безруким!» Вот как покойный государь, бывало, говаривал. А сегодня я смотрю: а он лежит на спине, ноги разутые, в чулках, а Федоска, его поп крестовый, его вот так за волосы держит, ножиком их перепиливает и приговаривает: «Нарекается Ионою». А у государя глаз уже стеклянный, государь уже почил! Федоска его неживого постриг, и это великий грех! — Ты это сам видел? — спросил Маркел. — А что, — злобно сказал дядя Трофим, — ты что, хочешь сказать, что я брешу?! — Нет, почему… — Тогда молчи! Маркел сжал губы. Дядя Трофим посмотрел на бутыль. Маркел еще налил. Но дядя Трофим пить не стал, а только взял пирог, отломил от него ухо и начал мять его в пальцах. После опять заговорил: — Да, это было так: государь лежал возле постели на спине, руки раскинувши, в халате, халат златотканый, а чулки простые. И Федоска-поп над ним и что-то шепчет. А остальные все у стенки жмутся. Я сразу к царю, склонился… И, слышу, Бельский зашипел: «Куда, пес?! Уберите его!» И эти сразу ко мне, за ворот хвать — и оттаскивать. А Бельский: «Что ты нюхаешь?!» А я молчу. Я же понимаю, чего ему хочется: чтобы я что-то ответил. А я молчу, как пень! Меня под локти и к двери, и в дверь, и еще в спину, и еще, и я уже мордой в пол!.. Ну, не совсем, не в пол. Степан мне руку подал, поддержал, Степан был рядом. А эти сзади: «Вон его! Вон! Вон!» И мы ушли. Только после этого дядя Трофим взял шкалик, посмотрел на иконы и выпил. Маркел молчал. Дядя Трофим утерся и сказал: — Вот так великий государь преставился. Как пес! Хуже лопаря валялся. Лопарь же у чужих, а он у себя дома. Тут дядя Трофим опять насторожился, долго слушал, потом улыбнулся и сказал: — Мышь. Слава Тебе, Господи, что мышь. А то… И махнул рукой. И показал еще налить. Когда они выпили, дядя Трофим начал закусывать. Маркел спросил: — А кто такой Степан? — Степан! — передразнил дядя Трофим. И повторил: — Степан! — И уже просто сердито продолжил: — Какой он тебе Степан? Это он мне Степан, а тебе Степан Варфоломеевич. Сотник он первой дворцовой сотни, вот кто. И не кривись, что сотник! Я же говорю: дворцовый он! Первой стрелецкой сотни сотник, белохребетников, как мы их называем за их кафтаны белые, понятно? Белохребетники — это ого! И у Степана еще посох, который только начальным головам полагается. Да только он повыше их всех будет! Его даже сам Фома Сазонов, начальный голова первого стрелецкого Стремянного полка, всегда с поклоном встречает и о здоровье спрашивает. Вот! Его и бояре опасаются, особенно кто помоложе. А ты: Степа-ан! Попридержи язык, Маркел, когда в другой раз с ним встретишься! Видал, как нас пропустили в палату, куда не всех бояр впускали? А нас с ним сразу! Степан только руку поднял! А я только овчинку показал! — Овчинку? — сразу же спросил Маркел. — Какую? — Обыкновенную! — сердито ответил дядя Трофим. — Будешь хорошо служить, и у тебя такая будет. Или мою тебе передадут… Эти последние слова дядя Трофим проговорил медленно, врастяжку и опять прислушался. А после поднял палец и сказал: — О! — со значением. Теперь и Маркел ясно слышал, что кто-то негромко стучит по доске. Но где стучит, непонятно. Так, где-то в глубине хором. — О! — еще сильнее улыбаясь, повторил дядя Трофим. — О, вспомнили! А после встал, поправил на себе шапку, сказал: — Я скоро приду. А ты сиди здесь и никому не открывай. А если все равно войдут, то ничего не отвечай, о чем бы у тебя ни спрашивали. Ну да я быстро. Не скучай! И он развернулся и ушел к себе, в ту дверь возле ковра. Маркел сидел за столом. Было совсем тихо. За окном уже стемнело. Эх, с грустью подумал Маркел, страсти какие: царь преставился, что теперь будет? Или будет так же, как и было? А что, подумал он уже спокойнее, жили же они у себя в Рославле сколько уже лет и про царя не вспоминали, пока в прошлом году не приехал к ним дядя Трофим и не начал допытываться, много ли у них порядка и не ходит ли кто через Астер на ту сторону к Литве и не носит ли туда чего, а после не тащит ли чего обратно тайком от казны? И стал грозить царским гневом! Вот только когда им царь припомнился. А так жили себе, слава Тебе, Господи… И тут Маркел перекрестился, уже глядя на иконы. Икон у дяди Трофима было много и лампадок было несколько, а правильней, четыре. Маркел встал и подошел к иконам, еще раз перекрестился и прочел (про себя) Отче наш. Это он прочел, глядя на Спаса. Потом, глядя на Богородицу с Чадом, прочел Богородицу. Потом стал смотреть на Николу… И ничего не читалось. Просто смотрел — и все. Так-же и святой Никола смотрел на него очень внимательно, Маркелу даже казалось, что морщины у Николы на лбу то строго сойдутся, то немного разойдутся. А то опять сойдутся. Это он, наверное, сердится на то, что я из дому убежал, подумал Маркел. Так я, может, еще и вернусь, подумал Маркел дальше. А если даже не вернусь, то буду им помогать, здесь же совсем другая жизнь, в Москве, у них же здесь у всех всего навалом. Это же вон каких пирогов нанесли, каких толстющих, жирных — и это в постный день, а что они в скоромный носят, так пока и не представить! А царь? А что царь! У царя два сына, кого-нибудь да выберут, так что без царя не останемся. И вдруг подумалось: а ведь царя убили! Дядя Трофим об этом почти прямо говорил! А сперва убили лопаря — это чтобы он им не мешал, не путался, когда они пойдут убивать царя! Да только как это пойдут, да как ты к царю подойдешь и незаметно нож достанешь, когда вокруг царя всегда бояре, слуги всякие, рынды, стрельцы? Да кто же тебе даст его убить? Вон же только что дядя Трофим рассказывал, что, когда он туда вбежал, сколько там было народу?! Туча! А царь между ними лежал мертвый. Так, может, он просто умер, просто Бог его прибрал, и все. А лопарь как про это узнал, от досады зарезался. А где он взял нож? Плюнул, дунул, нашептал, еще раз дунул — вот тебе и нож в руке. Он же колдун! И режься! И зарезался. Подумав так, Маркел посмотрел на Николу. Никола смотрел очень строго. Маркел еще раз перекрестился, поклонился большим обычаем, вернулся к столу, сел и стал дальше ждать дядю Трофима. А дядя Трофим все не шел и не шел. За окном стало совсем темно…8
Вдруг сбоку кто-то кашлянул. Маркел поднял голову и увидел, что это дядя Трофим. Он стоял возле ковра с пистолями и улыбался. После сказал: — Эх, ты! Я тут давно уже стою. А ты что, задремал? — Винюсь! — сказал Маркел. — Чего уже виниться? После виниться будет некогда, — сказал дядя Трофим, опять садясь к столу. — Сунут ножиком под ребра, вот и все дела. — Здесь, что ли? — недоверчиво спросил Маркел. — В Кремле?! — В Кремле особенно, — сказал дядя Трофим. — Или грибочков поднесут. Вот ты чего сейчас жуешь? — Пирог. — А он с грибами! А с какими? — Так ты же мне, дядя Трофим… — Что я? Я этот пирог не стряпал, — строго сказал дядя Трофим. И взял его у Маркела, сунул себе под нос, понюхал и сказал: — Ну, может быть, — и откусил немного, пожевал и проглотил. Потом заговорил с усмешкой: — Знаешь, как царю еду подносят? Так вот, сперва, еще на кухне, повар перед тем, как на блюдо положить, обязательно кусочек отведает. А мы рядом с ним стоим и смотрим, чтобы проглотил как следует. После один из нас это блюдо несет, а двое других идут рядом, охраняют. И вот поднесли к столу. Его там у нас берут и снова пробуют — сперва один едчик, после другой, — и передают боярину. Боярин, кравчий называется, опять попробует, а царь на него смотрит! И только потом уже сам царь эту еду берет и тоже сперва пробует, а только потом уже ест. И так с каждым блюдом. А их за один обед может быть до полусотни! И так же питье. Вина могут полкубка перепробовать, пока он до царя дойдет. Так что, если бы ему сегодня подали отраву, так не один бы он преставился. А так только один. Значит, отравы не было. Маркел вначале помолчал, а после с опаской спросил: — А разве говорили про отраву? — А как не говорить, — сказал дядя Трофим, — если государь преставился? Когда государь преставляется, об этом всегда говорят. Говорили и сегодня, и приговорили, что отравы не было. А было… И он опять замолчал. Но и Маркел теперь тоже молчал, не спрашивал. Дядя Трофим улыбнулся, сказал: — Но я же тогда этого еще не знал. Я же забежал туда и вижу: государь лежит! Мертвый! А Федоска его постригает. А эти все вдоль стенки жмутся. А одеяло на царя свисает, пол-лица ему уже закрыло, и никто его не подоткнет. — Это у него в опочивальне было? — спросил Маркел. — Почему в опочивальне? — Потому что одеяло. Где ему еще лежать? — Э! — сказал дядя Трофим довольным голосом. — А ты внимательный! — Потом опять строго сказал: — Нет, не опочивальне это было, а в комнате. — А что такое комната? — Ну, это, скажем так, государева светлица, — сказал дядя Трофим. — Он там ответы принимает. А опочивальня — это еще дальше, за крестовой. Крестовая — это его молельня, домашняя церковка, там поп Федос сидит, и больше никого туда не допускают. Даже бояр никого! Боярам можно только в комнату, они его там дожидаются. И там же, в красном углу, стоит царское место, престол, а вдоль других стен лавки. Но на лавках никто не сидит, не положено! Это только по великим праздникам или если дело очень хлопотное, государь может позволить сесть. А сам всегда сидит! В шапке. А они все стоят без шапок. Но это когда царь здоров. А тут он, наверное, уже недели с три как не мог усидеть, и обустроили ему лежанку на царском месте — с подушкой, с одеялами. И так он там сегодня и лежал, в этом гнезде, с утра. Бояр выслушивал. После стало ему худо, и отнесли его в мыльню. А его мыльня тоже там, за крестовой, через сени от опочивальни. Долго его там парили! Я спрашивал, Тимошка Хлопов парил. И напарил очень славно! А эти стояли, ждали. После его к ним вынесли. Он был румяный, веселый, все вот так вот руки утирал и усмехался. А после там же обедал. Это когда уже почти что всех прогнали. Может, только пятеро, ну, или четверо бояр остались. И вот он обедал, а они стояли. И он хорошо пообедал, с охотой и даже с охотой выпил чару. А после лег спать. Но не спалось ему! И он тогда говорит: «Нет, не лежится. Позовите Родьку». Это, значит, Родиона Биркина. Пришел этот Родион, они с ним сели, государь вот так вот вперед наклонился, стал расставлять шахматы… И вдруг упал! Глаза закатил и помер. Вот и все! Тут дядя Трофим сам взял бутыль, сам налил двоим и сам первый выпил. За ним выпил и Маркел, утерся и спросил: — Какие шахматы? — Обыкновенные, немецкие, — сказал дядя Трофим. — Я их сам видел. Государь вот так лежал, руки раскинувши, а шахматы вокруг него валялись. А Родька стоял в углу, вот так пасть свою раззявил и грыз свою руку, волчара! Я сразу кинулся к царю, встал на карачки, принюхался… А Бельский уже шипит: «Вон! Вон его!» И меня за шиворот и выволокли! — А что ты вынюхивал? — спросил Маркел тише обычного. — Отраву, что еще, — еще тише ответил дядя Трофим. — И… что? — Ничего! Да и не дали мне принюхаться. — А если бы дали? — Кто знает!.. Маркел помолчал, потом спросил уже немного громче: — И что теперь? — Как что?! — сказал дядя Трофим уже совсем обычным голосом. — Лопаря кто-то зарезал, вот что. А лопарь — наш, он в наши приказные книги записан, а не в дворцовые, как тут Степан брехал. Так что нам надо лопаря дальше расследовать. Со всей строгостью! Потому что у него был умысел на государя и умысел сбылся! И вот, ты спрашивал, вот это мне! С этими словами дядя Трофим выложил на стол кусок овчинки. Кусок был круглый, небольшой, вершковый. Дядя Трофим его перевернул… И Маркел увидел, что на его обратной стороне выжжен двуглавый царский орел. — Вот это мне, — еще раз сказал дядя Трофим. — Мне эта овчинка любую дверь откроет и любой язык развяжет. Маркел молчал. — А вот это, — продолжал дядя Трофим. И выложил на стол еще одну овчинку, немного поменьше. И быстро спросил: — Это чье? Маркел задумался. После медленно протянул руку вперед, также медленно перевернул овчинку — там был такой же герб — и потянул ее к себе. — Смотри! — строго сказал дядя Трофим. — Был у меня добрый помощник Васька. Три года у меня служил. Много мы с ним славных дел содеяли. А после не уберегся он, отведал грибочков, вот точно как ты сегодня — и не стало Васьки! Так что смотри у меня, не ешь без спросу чего ни попадя, не лезь под нож, слушайся меня во всем — и когда-нибудь останешься здесь жить вместо меня, и уже тебе будет Демьяниха пироги, а Герасим ушицу носить. — Дядя Трофим!.. — начал было Маркел. — Хватит болтать! Нам надо дело делать! Вставай! Маркел сунул овчинку за пазуху и встал следом за дядей Трофимом.9
Во дворе крепко морозило, потрескивал лед под ногами. Зато было светло, потому что небо было чистое, а луна большая, почти полная. Дядя Трофим и Маркел обошли князя Семена хоромы и подошли к воротам. Там им сразу же, без всяких слов открыли. Они перешли через дорогу и подошли к дворцовым, Куретным воротам. Там дядя Трофим постучался в калитку. — Кто? — спросили недовольным голосом. — По государеву делу, — ответил дядя Трофим. В калитке открылось окошко. Дядя Трофим сунул туда овчинку. Калитка открылась. За калиткой стояли стрельцы в белых кафтанах. Дядя Трофим назвал «Смоленск», стрельцы расступились, и дядя Трофим с Маркелом пошли дальше. Они опять шли по Заднему государеву двору, двор был, конечно, пуст, светила яркая луна, потрескивал на лужах лед, было морозно. Маркел спросил, куда они идут, дядя Трофим сказал, что к лопарю. Пройдя через Задний двор, они взошли на невысокое крылечко, дядя Трофим стукнул в дверь, показал овчинку, назвал «Смоленск», и их впустили уже во дворец. Там они еще немало шли в сплошных потемках, поворачивали то в одну, то в другую сторону, их еще три раза останавливали, и теперь уже не только дядя Трофим, но и Маркел показывал овчинку. Наконец они опять вышли во двор, но в уже в Передний, царский, и там свернули под уже знакомую Маркелу лестницу, показали овчинку, сказали «Смоленск» — и их пустили, уже опять во дворце, вниз по еще одной лестнице. Там, в самом низу, в сенях тоже стояли стрельцы в белых кафтанах. Эти уже ничего не спрашивали, дядя Трофим только кивнул их старшему и прошел дальше, в застенок. Маркел прошел за ним следом. В застенке прямо напротив двери возле дыбы стоял человек. Он был без шапки и голый по пояс, но Маркел его сразу узнал — это был один из тех троих, которых он вчера здесь видел и тогда был пищик, он сидел за столом и записывал. А теперь он стоял под дыбой и был в хомутах. Рядом с ним стоял Ефрем в красной рубахе. Ефрем был очень грозный и так и сверкал глазами. А за столом сидел уже другой, новый пищик и настороженно смотрел на дядю Трофима. Дядя Трофим строго сказал: — Гришу вижу. А те остальные двое где? — Ищут их, — ответил новый пищик. И постучал пером в чернильницу. — Как это ищут? — еще строже спросил дядя Трофим. — А куда они девались? — Так по домам они пошли. Всех распустили же, — ответил новый пищик. — А после стали их искать. Но нашли только вот этого… — И он кивнул на того, кто стоял возле дыбы, то есть на бывшего пищика. Дядя Трофим повернулся к нему и спросил: — Гриша, где Филат? А где Сысой? Ты куда их подевал, скотина!? Гриша, то есть бывший пищик, молчал. — Гриша! — повторил дядя Трофим. — Я у тебя спрашиваю. — Не знаю я! — дерзко ответил Гриша. Дядя Трофим подошел к дыбе, совсем близко к Грише, почти голова к голове, и еще раз сказал: — Гриша! Ну! — и согнутым указательным пальцем постучал себя по уху. Но и тогда Гриша смолчал. Дядя Трофим показал рукой вверх. Ефрем потянул за веревку, и Гриша поднялся, повис. Но руки у него еще держались. — Гриша, — сказал дядя Трофим. — Я шутить не люблю. Где они оба? — Откуда я знаю! — сказал Гриша. — Ты ушел, и мы тоже стали собираться. А что здесь было делать? Я книгу отдал, Филат ее замкнул, и я пошел. — А где Филат? — Я не знаю! — А кто лопаря зарезал?! Гриша промолчал. Дядя Трофим мотнул рукой. Ефрем встряхнул веревкой, Гриша дернулся, но руки опять удержал, не дал им вывернуться, хоть сам весь покрылся потом. — А ты крепкий, Гриша, — сказал дядя Трофим и сделал Ефрему знак. Ефрем ослабил веревку, Гриша опустился и встал ногами на пол. — Ох, дурень ты, Гриша, дурень, — участливо сказал дядя Трофим. — Не ты ведь лопаря зарезал, я же это чую, а отвечать будешь ты. А твои приятели буду у себя дома на печи полеживать да над тобой посмеиваться. — Га! — гневно воскликнул Гриша. — Полеживать! На печи! Не там вы ищете! В канаве они, вот где! — А ты откуда знаешь, что в канаве? — насмешливо спросил дядя Трофим. — А если в канаве, то в какой? Почему не говоришь, в какой?! Может, клещей хочешь попробовать? Или утюга? Гриша молчал. После облизал губы, сказал: — Ничего я тебе не скажу. Потому что не знаю. Лучше сразу руби голову. — Э! — сказал дядя Трофим. — Да как же это можно? Я, Гриша, не злодей, чтобы без суда рубить. Вот присудят, я и отрублю. Если Ефрем позволит, потому что это его служба. А пока не обессудь! — И он опять махнул рукой. Ефрем дернул веревку, и Гриша снова повис. Дядя Трофим обернулся к Маркелу и будто бы с участием спросил: — А ты чего стоишь? Иди, присядь. В ногах правды нет. — Я ничего, я постою, — сказал Маркел. — А! — сказал дядя Трофим. — Хочешь сам попробовать. Ну и Бог в помощь. Давай! — и даже поманил рукой. Маркел подошел к дыбе. Гриша смотрел в сторону. — Вот что, — сказал дядя Трофим. — У меня, сам знаешь, сколько сейчас всяких хлопот. Так я пойду пока, скоро вернусь, а ты поговори с ним. Может, он с тобой разговорится. Может, ты какое слово знаешь. — И дядя Трофим и в самом деле развернулся и пошел к двери, и вышел, плотно прикрыв за собой дверь. А Маркел стоял столбом и не знал, с чего начать. Еще бы, думал он, допрашивать в Москве! В государевом застенке! Ему от таких мыслей стало жарко, и он утер пот со лба. После осторожно посмотрел на Гришу. Гриша смотрел в сторону и даже как будто усмехался. Маркела взяла злость, и он громко сказал: — А ну посмотри мне в глаза! Гриша посмотрел. — Где твои приятели? — спросил Маркел. Гриша молчал. Пищик от стола сказал: — Мы их и дома искали, и по дороге. Они как сквозь землю провалились! — А далеко они живут? — Один на Балчуге, а второй здесь близко, в Китай-городе. — А этот? — И Маркел кивнул на Гришу. — А этот совсем здесь. В подсоседях у одной старухи. — Какая старуха?! — обиделся Гриша. — Да ей еще… — и замолчал. — Поздно тебе теперь о бабах думать, — насмешливо сказал пищик. И продолжал: — Там мы его и взяли, у той бабы. Они только сели за стол, а тут мы! — Ладно, — сказал Маркел. — Это не наше дело, кто у кого в подсоседях. — Повернулся к Грише и спросил: — А вот кто лопаря зарезал? Ты? И резко махнул рукой! Ефрем рванул веревку, Гриша взлетел под перекладину! Маркел махнул вниз — и Гриша полетел обратно, грохнулся об пол и застыл. Маркел быстро опустился на колени, взял Гришу руками за голову и посмотрел ему в глаза. Взгляд у Гриши был остановившийся. — Жив, жив, — сказал Ефрем. — Таких черт не берет. Гриша закашлялся, повел глазами. Маркел сказал: — Ты, Гриша, на меня не гневайся, я человек подневольный. Велят тебя поднять, и я еще раз подниму. Но зачем тебе себя мучить? Скажи, кто здесь был, пока дядя Трофим ходил обедать, и мы тебя отпустим. Ну! Говори! Гриша молчал и то закрывал глаза, то открывал. — Мочало! — приказал Маркел. Ефрем подал мочало. С мочала капала вода. Маркел сунул мочало Грише. Гриша схватил его зубами, стал обсасывать. Маркел терпеливо ждал. Насосавшись, Гриша выплюнул мочало, повернул голову к Маркелу и сказал: — Нашли дурня! Я вам сейчас расскажу! И вы мне сразу кишки выпустите. — Зачем выпускать? — удивился Маркел. — Как зачем?! — ответил Гриша. — Непростой он человек, вот что. Вы за него не только кишки, а и… И тут он замолчал, и стал смотреть на Ефрема. Маркел велел Ефрему: — Выйди вон. — Чего это я вдруг буду выходить? — обиделся Ефрем. — Здесь мое место. Я здесь двадцать лет служу. — А я сказал: выходи! — уже громко, в голос повторил Маркел. — Дойдет до тебя время, будешь говорить, а пока молчи! — А, язва, так ты мне грозить! — взревел Ефрем. И руки поднял, и продолжил: — Я выйди, а ты останься! Что ты задумал, пес?! — Выйди вон, я еще разсказал! — уже тоже проревел Маркел. — По государеву делу! — и вытащил овчинку. — Вон, я кому сказал! Вон, пока не позову! — и стал трясти овчинкой. Ефрем злобно рыкнул, но больше противиться не стал, а развернулся и пошел вон из застенка. Маркел посмотрел на пищика. Пищик смотрел перед собой и делал вид, будто чистит перо. Маркел посмотрел на Гришу и сказал: — Вот! Видел? Я тебя пока что пожалел. А будешь запираться, я его обратно позову. И он тебе Крым покажет! Гриша молчал. Маркел продолжил: — Если будешь отпираться, мы тебя еще раз поднимем. И будем держать до утра! И я еще велю кнута. И веника паленого! Так что лучше сразу говори. — А что, я скажу… — ответил Гриша, и он это сказал так тихо, чтобы за столом было неслышно. И так же тихо продолжил: — Пришел один человек, достал нож и зарезал. А нам велел молчать. И ушел. — Кто это был? — спросил Маркел тоже очень тихим голосом. — Один очень важный человек. У тебя через забор толчется. — Га! — сердито воскликнул Маркел. — Откуда ты про мой забор знаешь? Я рославльский! — Вот я про Рославль и говорю, — сказал Гриша. — Кто у тебя за забором? Маркел молчал. — Вот он и зарезал! — сказал Гриша. — Дурень! — в сердцах сказал Маркел. — И висеть тебе здесь, пока не помрешь, вот что я тебе скажу. А мог отвертеться! Если бы того назвал. — Ну и назвал бы, — сказал Гриша. — А что дальше? Кто бы мне поверил? И опять подняли бы на дыбу, только теперь уже для сверки. Так ведь? Маркел молчал. Гриша сказал: — Дай мне еще мочало. Что-то горит внутри. Ох, как горит! И открыл рот, и захрипел! Изо рта пошла пена! И его стало всего трясти! — Эй, ты! Эй, ты! — всполошился Маркел. — Ты чего это? Уймись! Вот мы тебе сейчас! — И крикнул пищику: — Сюда, болван! Подсоби! Пищик подбежал к нему, посмотрел на Гришу и кинулся дальше, к двери, раскрыл их и закричал: — Ефрем! Ефрем! Прибежал Ефрем, схватил ведро и окатил Гришу водой, а после встал перед ним на колени и начал оглаживать его руками и что-то приговаривать — то медленно, то быстро, то опять медленно, — а то просто крестить его, а после опять оглаживать. После сказал: — И вот еще травкой! И в самом деле тут Ефрем полез к себе под рубаху, достал оттуда мешочек, развязал его, насыпал из него себе на ладонь какой-то серой трухи (наверное, сушеной травы) и затолкал ее Грише в рот. А после заставил это проглотить. А после дал запить. И Гриша мало-помалу очухался. Открыл глаза и даже улыбнулся. — Вот так надо, — сказал Ефрем. — По-христиански. Понял? Маркел молчал. Вдруг сзади послышалось: — Учись, Маркел. Они все трое обернулись. В дверях стоял дядя Трофим. Маркел и Ефрем вскочили на ноги. Дядя Трофим спросил: — Что тут у вас нового? — Ничего, — сказал Маркел. — Ну и пока что ладно, — сказал дядя Трофим. — Пусть Гриша полежит, оклемается. А у нас дела. Нас князь Семен зовет. Пойдем! Маркел встал и медленно, как будто нехотя, пошел к двери. Пищик спросил: — А с лопарем что делать? — Схороните его, — ответил дядя Трофим. — А он крещеный разве? — удивился пищик. — И как его тогда хоронить, если он нехристь? И где? — Не хоронить, а схоронить! — строго поправил его дядя Трофим. — В ледник его! И обложить как следует. А похоронить всегда успеете. Да и чего его хоронить, если он некрещеный? И на государя умышлял! Но пусть пока полежит, может, еще пригодится. И он развернулся, Маркел вместе с ним, и они оба вышли из застенка.10
Дальше они, пройдя через сени, поднялись по лестнице наверх, открыли входную дверь, и Маркел уже шагнул было дальше, во двор… Но дядя Трофим взял его за рукав и негромко сказал: — Погоди! Маркел остановился. Дядя Трофим, теперь уже ничего не говоря, потянул Маркела за собой, и они зашли под небольшой навес. Укромное место, подумал Маркел, здесь их со стороны совсем не видно, а зато им виден весь двор. — Славный схрон, — сказал дядя Трофим негромким голосом. — Ну а теперь рассказывай, что там у вас было, пока я ходил. — Ничего у нас особенного не было, — нехотя ответил Маркел. — Только один Гриша нам остался, а тех двоих убили, это теперь уже ясно. Нет их нигде! — И это хорошо, — сказал дядя Трофим. — Если их убили, значит, они много знали. Значит, мы правильно идем, по следу. А что еще Гриша сказал? Назвал кого? — Ну, не совсем, — ответил Маркел. — Только сказал, что приходил к ним один человек, зарезал лопаря и ушел. И велел молчать! — И они молчат! — со значением сказал дядя Трофим. — Даже на дыбе! Значит, очень непростой был человек, если они его так слушаются. — Потом спросил: — И что, Гриша тоже молчал? И ни словечка не сказал? Не верю! — Ну, немного говорил, конечно, — ответил Маркел. — Но не напрямую, а так, загадками. Вот, говорил, будто тот человек, который убил лопаря, у меня в Рославле за забором толчется. — Так и сказал, что в Рославле? — переспросил дядя Трофим. — Слово в слово? — Ну, не совсем, — ответил Маркел. — Просто сказал: у меня за забором. — Сказал: «толчется»? — уточнил дядя Трофим. Маркел кивнул. Дядя Трофим подумал и сказал: — Ага! — потом совсем тихо прибавил: — Васька Шкандыбин это, вот кто! Маркел молчал. Дядя Трофим продолжил: — И это очень просто. Не мог Гриша тебе прямо говорить, не хотел, чтобы другие слушали, вот он и говорил загадками. Поэтому и получается, что если он сказал, что за твоим забором, то это не за тем, рославльским, а здесь, за нашим, за князя Семена, ясно? Ведь ты же там сейчас живешь, поэтому и за твоим! А теперь дальше: за князя Семена двором стоит двор Богдашки Бельского, подлой скотины… Но ладно! Не беря к сердцу, просто скажем: там стоит двор Богдана Бельского, государева оружничего. Понял? — Так это, что ли, он?! — недоверчиво спросил Маркел. — Нет, конечно! — ответил дядя Трофим. — Пойдет он тебе лопаря резать, а как же! Разве это его дело? Да и Гриша говорил же: толчется! А Бельский там не толчется, а жительствует. Толчется у него Васька Шкандыбин, старший сторож, сын боярский из Коломны. Вот этот истинно толчется! Я как на крыльцо ни выйду, всегда его вижу. Туда-сюда прохаживается, пальцы вот так за пояс вставит, брюхо вперед выпятит и сапогом вот так пяткой упрется и носком повертывает. Пес! — И нам нужно его брать? — спросил Маркел. — Покуда еще нет, — сказал дядя Трофим. — Да его и не возьмешь так просто. Сперва надо, чтобы на него кто-то сказал. А если кто и скажет, то, не тебе законы объяснять, такого говоруна надо сперва на дыбу, и он там должен это повторить. А это не всякий сможет. Вот наш Гриша и молчит, висит и ничего напрямую на Ваську не сказывает. А как три дня отвисится и ни на кого не скажет, то мы, опять же по закону, должны его снять. И мы снимем. Да и если он даже скажет, а после под пыткой подтвердит, что приходил к ним Васька и зарезал лопаря… А Васька, знаешь, что скажет в ответ? Что это наговор, что это лопарь Гришу околдовал, вот он и несет чего ни попадя. Или если даже мы докажем, что нож, которым лопаря зарезали, это нож Васькин, то он и тогда вывернется! Он же тогда скажет так: да, был грех, зарезал, лопарь его околдовал, и он не удержался. А теперь, скажет, винюсь. И что ему за это будет? Наложат на него епитимью, и будет он сорок дней поклоны бить. И то если он Бельскому во все эти дни не понадобится. А если понадобится, то он его в тот же день выкупит, вот и все! — Так что нам тогда теперь делать? — спросил Маркел. — А мы, — строго сказал дядя Трофим, — должны не спрашивать, что нам, бедным, делать, а ясно и понятно показать, что Шкандыбин лопаря убил не просто так от колдовства и ни от чего другого, а единственно по злобному умыслу, желая государя погубить, вот что! Шкандыбин же, я понимаю, думал как? Что пока жив колдун, то государю никакой беды не сделаешь, колдун его охраняет, и поэтому надо сперва колдуна убить, и тогда делай с государем, что хочешь! — Так, ты думаешь, царя убили? — чуть слышно спросил Маркел. — Да, — коротко сказал дядя Трофим. — И я тебе после растолкую, что здесь к чему. А пока мы будем делать вот что: сейчас пойдем и переговорим с Ададуровым. С тем, который лопаря сюда привез. Ададуров много чего знает! Вот мы у него и спросим, кто к нему на этой последней неделе захаживал и про колдуна как будто невзначай расспрашивал. И оторви мне голову, Маркел, если он нам не скажет про Ваську! Пойдем, пойдем! Не беда, что уже ночь, кто же такой ночью спит, если такая у нас всех беда — царь-государь преставился! И он указал на дворец. Маркел присмотрелся и увидел, что и в самом деле во многих окнах в щелях между ставнями был виден свет. — Пошли! — опять сказал дядя Трофим. — Ададуров здесь недалеко. Он же сегодня в карауле, на верхнем рундуке возле царицыной лестницы. Ну! И они вышли из-под навеса и пошли вдоль дворцовой стены.11
Вскоре они подступили под очень высокое, так называемое Постельное крыльцо и там повернули, спустились вниз по кирпичным ступеням и остановились перед дверью. Дядя Трофим постучал условным стуком, им открыли, он показал овчинку и сказал «Смоленск», Маркел тоже сказал, и их пропустили во дворец. Там они опять пошли по его нижнему нежилому этажу, по низким длинным переходам. В сенях, когда такие попадались, их каждый раз останавливали тамошние сторожа, дядя Трофим показывал овчинку, говорил, что они по государеву делу, и их пропускали дальше. Потом они с нижнего нежилого поднялись на первый жилой этаж, там повернули к терему, прошли через первый рундук (там дядя Трофим, кроме Смоленска, назвал еще Казань) и поднялись еще выше, уже на второй жилой этаж. И вот там, на верхнем рундуке, стояли уже не стрельцы, а так называемые ближние государевы жильцы. У этих жильцов у каждого было по маленькому серебряному топорику на длинной ручке, и они стояли очень плотно. Дядя Трофим назвал Казань, жильцы ему в ответ назвали Астрахань, но при этом ни на шаг не расступились. Дядя Трофим, как ни в чем не бывало, спросил: — А где Федя? — И, так как они промолчали, прибавил: — Федя Ададуров. — Какой он тебе Федя?! — сердито ответил один из жильцов. — Он тебе Федор Григорьевич! Да он государев ближний… — Но-но! — грозно перебил его дядя Трофим и поднял вверх овчинку. — Не треплите имя государево! Государь помре! Жильцы понемногу стали расступаться. Дядя Трофим пошел вперед. Маркел пошел за ним. Дальше, за жильцами, была дверь. Дядя Трофим стукнул в нее и сразу же вошел. Там, прямо напротив двери, на мягкой лавке сидел очень важный господин в богатых одеяниях, без шапки и пил из кубка. Вокруг господина стояли жильцы, их было не меньше четырех. Господин посмотрел на вошедших и начал было грозно хмуриться… Но тут же смутился и приветливо сказал: — Трофим! — И даже добавил: — Трофимушка! — После чего повернулся к жильцам и сердито велел: — Пошли все вон! И дверь прикройте! Когда жильцы вышли, этот господин (а это был, конечно, Ададуров) опять очень приветливо продолжил: — Трофим! Я тебя сразу узнал! — Отставил кубок и сказал: — Садись. Дядя Трофим сел на еще одну лавку, напротив хозяйской. Ададуров глянул на Маркела, но ему ничего не сказал. Маркел остался стоять. Ададуров опять повернулся к дяде Трофиму, и тот сказал почти насмешливо: — Рад, что ты меня не забыл, Федя. А я думал, забудешь. — Ну как же! Ну как же! — сказал Ададуров. Опять быстро глянул на Маркела и тихо спросил: — А это кто? — А это наш Маркел, — ровным голосом сказал дядя Трофим. — Он у Ефрема в натаске. Вот я и взял его к тебе. — Ты это брось! — сердито сказал Ададуров. — А то сейчас кликну своих! — Лопаря ты уже кликнул, Федя, — насмешливо сказал дядя Трофим. — И государь преставился. По твоему кличу! — Почему по моему? — тихо спросил Ададуров. — Я здесь при чем? Государь давно болел, еще с осени, еще когда послы от Лисаветы приезжали. — От Лисаветы! Каково хватил! — строго сказал дядя Трофим. — А лопарь другое говорит. — Лопарь говорит! — повторил Ададуров. — Да его еще в обед убили. — А ты откуда это знаешь? Кто тебе сказал про это? — И дядя Трофим, повернувшись, прибавил: — Маркел! Маркел выступил вперед. — Э! Э! — воскликнул Ададуров. — Вы чего это?! Полегче! Дядя Трофим махнул рукой, Маркел присел на лавку. Дядя Трофим опять повернулся к Ададурову и продолжал уже так: — Ничего лопарь мне не сказал. Если бы сказал, я к тебе не ходил бы. А так он говорил только одно: что государь умрет сегодня. И он так и умер. Тут дядя Трофим перекрестился. Маркел и Ададуров тоже. — Вот так, — сказал дядя Трофим. — Бог дал, Бог взял. И никому из нас не ведомо, какой нам срок даден. Гадания, ворожения, заговоры, переплюи всякие — все это суть волхвование, и колдовство, и смертный грех. Но! Все-таки!.. — И он, немного помолчав, спросил уже совсем негромким голосом: — А вот как ты думаешь, Федя, вот если лопарь знал, сколько государю жить осталось, то знал ли он и про себя, что его тоже сегодня зарежут? — Я думаю, что нет, — ответил Ададуров. — У колдунов, говорят, так всегда: они только про других знать могут, а про себя им Господь заслоняет. — Как это — Господь?! — опять громко сказал дядя Трофим. — Ты что это, Федя, Господа при таких бесовских действах поминаешь?! Ты знаешь, что за это может быть?! Ададуров помолчал, после сказал: — Какой ты злой, Трофим! Каким я тебя видел в первый раз, таким ты и сейчас остался. Знаешь, почему я тебя так крепко запомнил? Потому что злей тебя я никого в жизни не видел! — А ты добрый, Федя! — сказал, улыбаясь, дядя Трофим. — И за эту доброту наш добрый царь-государь тебя к себе приблизил. Он добрых, ох, как любил! Бывало, как куда приедет, так сразу… — Ладно, ладно, — перебил его Ададуров и даже махнул рукой. — Государя еще даже в гроб не положили, а ты уже знай молоть. Грех это, Трофим. Все мы божьи твари, и у каждого свой крест. И он перекрестился. А дядя Трофим не стал креститься и сказал: — Так, говоришь, что еще в гроб не положили? Он, что ли, еще у себя? Ададуров согласно кивнул. — И ты его там видел? Ададуров еще раз кивнул. — И как он? — Что «как»? — не понял Ададуров. — Ну-у… — А! — сердито сказал Ададуров. — Нет, ничего такого я не видел. А вот старые люди говорят, что, когда его мать померла, тогда ее всю разнесло и кожа струпьями покрылась. Потому что такой яд! — Яды бывают разные, — сказал дядя Трофим. — Я это знаю, — сказал Ададуров. — А лопарь яды варил? — Зачем ему яды?! — сказал с усмешкой Ададуров. — Если ему нужно было сжить кого со свету, он и без ядов сживал. Вот так сядет на снег, возьмет нож, нарисует кого надо, после ножом его ткнет — и снег сразу красный. Он мне это показывал. Маркел перекрестился. Дядя Трофим спросил: — А на кого гадали? — На злого человека одного, — уклончиво ответил Ададуров. — Так, может, он и на царя так погадал? — Зачем?! Царь ему много добра сулил. — Чего он тогда его не вылечил? Ададуров вздохнул и сказал: — Кто его знает! Чужая душа потемки, а колдовская тем более. — Так… — начал было дядя Трофим, но тут же сбился, а после все же сказал: — Так ты думаешь, царя убили? — А ты что думаешь? — спросил Ададуров. Дядя Трофим молчал. — Э! — насмешливо воскликнул Ададуров. — Если бы царь помер сам по себе, ты ко мне не приходил бы. А если ты пришел, то, значит, ищешь злодея. Только зачем мне его было убивать? Кто я был до царя? Никто! Голь перекатная! А теперь я ближний дворянин, царицын терем охраняю. И, может, дальше вверх пошел бы, если б царь не помер. А теперь что со мной будет, кто скажет?! Лопарь мог бы сказать, да его кто-то убил. — А кто убил? — тут же спросил дядя Трофим. — Злой человек, — уклончиво ответил Ададуров. — А ты на кого думаешь? — А мне думать не положено. Мне положено стоять на рундуке и никого на царицыну половину не пускать. — А лезут? — Лезут иногда. По дури! И не к царице, конечно. — Ну, и слава тебе, Господи, — сказал дядя Трофим и перекрестился. — Овдовела наша государыня. Теперь небось слезами умывается. — И вдруг сказал: — Когда лопаря убили, я под ним нож нашел. Нож можно опознать. — А можно и подбросить, — сказал Ададуров. — Можно, — кивнул дядя Трофим. И вдруг быстрым голосом спросил: — А Шкандыбин у тебя бывает? — Его нож? — спросил Ададуров. — Может, и его, — сказал дядя Трофим. — Нет, — сказал Ададуров. — Шкандыбин ко мне не ходил. И ничего про лопаря не выспрашивал. Если тебе это интересно. — А кто выспрашивал? Ададуров усмехнулся и сказал: — Да вроде бы никто. — Злой ты человек, Федюня! — сказал дядя Трофим. — Царь-государь столько для тебя добра сделал, из грязи тебя вытащил, отмыл, накормил, на ум поставил, а ты его убивца знаешь и молчишь. Нехорошо! Грех это! Ададуров покраснел, после даже пошел пятнами… И не удержался и сказал: — А вот и нет! Кто это? — и указал на Маркела. Дядя Трофим твердо ответил: — Это мой подьячий. Если меня убьют, он это дело вместо меня примет. Ададуров посмотрел на Маркела. Маркел перекрестился. — Ну! — громко сказал Ададуров. — Ну, Господи, спаси и сохрани! После полез за пазуху, достал оттуда платочек, поднес его к свету (к лучине) и тихо сказал: — Это государевы. Сегодня взял. Уже с ложа. — Что это? — спросил дядя Трофим. — Это его волос. А это ноготь, с мизинца, — чуть слышно сказал Ададуров. — Это когда он уже преставился. — О! — только и сказал дядя Трофим. После прибавил: — Дай! Ададуров дал. Дядя Трофим завязал платок и сунул его себе за пазуху. — Знаешь, что с этим делать? — спросил Ададуров. — Как не знаю!.. — сказал дядя Трофим. — Я это порой делаю. Прости, Господи! — и меленько перекрестился. А после, помолчав, прибавил: — Я же, когда туда вбежал, тоже хотел это срезать. И я уже к нему кинулся, встал на карачки и только руку протянул… Как Бельский уже шипит: «Уберите его!» И убрали. А ты после пришел и взял. Низкий тебе поклон за это! Тут дядя Трофим и вправду ему поклонился. — Да уже ладно тебе! — смущенно сказал Ададуров. — Я не христианин, что ли? — Ну, мало ли, — уже опять сердито продолжал дядя Трофим. — Поэтому я тебе сразу прямо вот что говорю: если надумаешь на нас сказать, я ведь тоже не буду молчать! И я укажу, кто ногти государю резал и кто ему бороду драл, когда его уже отпели! — Тьфу на тебя! — воскликнул Ададуров. — Злой ты какой!.. — Тут с вами будешь злым. А за это еще раз поклон. — И дядя Трофим похлопал себя по груди по тому месту, куда спрятал платок. Встал и сказал: — Ну, мы пошли. У нас служба. А скоро рассвет! И он, а за ним Маркел развернулись и пошли к двери. И вышли оттуда вон.12
Теперь им уже никто не заступал дороги, и дядя Трофим с Маркелом быстро спустились с верхнего рундука на нижний, а дальше через двойные сени вышли на Задний двор, опять рядом с Куретными воротами. Небо было еще темное, но луны уже не было видно. Дядя Трофим с Маркелом подошли к воротам. Там их даже без «Смоленска» сразу пропустили. Выйдя из ворот, они остановились. Дядя Трофим опять ощупал на груди то место, под которым был спрятан ададуровский платок, и посмотрел в сторону, на едва различимые в темноте Ризположенские ворота Кремля. До них было полсотни шагов, не больше. — Федя нам славно пособил, — сказал дядя Трофим. — Вот только запутал все. Что мне теперь Васька Шкандыбин? Васька только лопаря зарезал, велико ли это дело?! А вот кто… И он опять прижал руку к груди и улыбнулся. — Что ты будешь с этим делать? — спросил Маркел. — А ты не знаешь? — Ну-у… — протянул Маркел. — Вот ты и нукай! — поддразнил его дядя Трофим. — А я буду дело делать. — Не христианское оно, — сказал Маркел. — А то, что они делали, по-христиански? — За то им воздастся. — Га! — громко сказал дядя Трофим. — Может, и воздастся когда-нибудь. И в другом месте! А я хочу так, чтобы им воздалось здесь, и побыстрей! Чтобы я на это посмотреть успел. Да и я, — тут же прибавил он, — тебя в это не путаю. Христос с тобой! Я сам все что надо сделаю. А ты пока пойдешь ко мне и будешь там сидеть, так надо. Потому что вдруг со мной что случится или я даже просто задержусь, а князь Семен придет туда и спросит, как мои дела, и кто ему тогда ответит? Таракан запечный? А так ты чин по чину скажешь, что я пошел в одно место и скоро вернусь, место очень важное, но не у нас в Кремле, а за стеной. — Так ворота же еще закрыты, — сразу же сказал Маркел. — Никого еще не выпускают. — А я в ворота не пойду, — сказал дядя Трофим. — Зачем мне ворота? Да и ждать, когда они откроются, так это неизвестно когда будет. Ты хоть знаешь, когда их вчера вечером закрыли? Еще за два часа до темного! Когда захотели, тогда и закрыли! Так и сегодня откроют, когда захотят. А может, совсем не откроют… — Как это? — спросил Маркел. — А вот так! — сказал дядя Трофим. — Государь преставился, и на посаде, говорят, сразу крамола завелась. Хотят Кремль зажечь! Ну, или так нам говорят, что они там так задумали. Говорят, чтобы нас застращать. И вот уже все наши ну орать: закрывайте, закрывайте ворота! Вот их и закрыли. И стрельцов ко всем воротам поставили, и в башни их насовали и к пушкам. А кто все это велел? Богдашка Бельский! Простой царев оружничий. Вот какую власть себе забрал, и вся Дума молчит! А еще вчера они все говорили: фу, Богдашка! А теперь им всем Богдашка: фу! Так что… Но тут дядя Трофим спохватился, замолчал, посмотрел по сторонам, усмехнулся и сказал уже с усмешкой: — Ты меня, дурня, не слушай. Да ты ничего и не слышал. Спросят, где я, скажешь, у Марьи. А сам никуда не выходи. Лучше ляг да вздремни, оно будет полезней. А если нужно будет что-то срочное, то зови Фильку, он все, что ты ему прикажешь, сделает, я ему вперед плачу. А сам, еще раз говорю, никуда не суйся! Ну да чего это я заболтался? Пошли! Они перешли через дорогу, дядя Трофим постучал в калитку князя Семена ворот. Почти сразу открылось окошко. Дядя Трофим грозно спросил: — Чего уставился?! Сторож открыл им калитку. Дядя Трофим входить в нее не стал, а только спросил, не спрашивал ли кто его. Сторож ответил, что никто. Тогда дядя Трофим, повернувшись к Маркелу, сказал: — Иди! И делай все, что я тебе велел. Маркел вошел в ворота. Они за ним сразу закрылись.13
Во дворе у князя было еще совсем пусто. Снег громко хрустел под ногами. Маркел зашел за поварню и начал подниматься по ступенькам. Помост был чисто подметен. Работящая у дяди Трофима соседка, подумал Маркел. Да и сама она из себя очень гладкая, видная, тут же подумал он. Но почти сразу подумалось, что не ко времени про это вспоминается. Прости, Господи, все под тобою ходим, уже смиренно подумал Маркел, перекрестился, открыл дверь, переступил через порог… И на него накинулись! Били очень крепко, но через полушубок получалось мягко. Маркел упал на пол, свернулся калачиком, прикрылся локтями. А эти продолжали бить. Теперь они били уже ногами. Но били не насмерть, заметил Маркел, значит, сейчас уймутся. Так оно и случилось. Кто-то велел, что хватит, и бить перестали. Но Маркел лежал не шевелясь. — Вставай, скотина! — громко сказал тот же голос, который говорил, что хватит. Маркел поднялся на карачки, поискал в темноте шапку и надел ее. — Вставай! Маркел встал и осмотрелся. В горнице было темно, только теплились лампадки. Маркел никого не рассмотрел, он только слышал, что дышат с разных сторон. — Да что вы, православные, — примирительно сказал Маркел, — белены объелись? Чего, как псы, кидаетесь? — Попридержи язык! — ответил опять тот же голос. — Будут тебе еще и псы. Вот ты тогда поскалишься! Маркел неслышно усмехнулся. Глаза его уже привыкли к темноте, и он видел перед собой большое белое пятно, а по бокам еще пятна. Ага, подумал он, вот это кто: стрельцы из дворцовой сотни, белохребетники! И поэтому сказал: — А где ваш Степан Варфоломеевич? Чего он сам не пришел? — Некогда ему с тобой возиться, — ответил все тот же голос. А Маркел подумал: значит, угадал, значит, это и в самом деле белохребетники. Но дальше он подумать не успел, потому что этот старший из стрельцов уже спросил: — А где Трофим? — Какой Трофим? — переспросил Маркел. — Илья! — громко сказал старший стрелец. Илья (так надо понимать) ударил — и Маркел упал. На него сразу насели и начали бить остальные. Но по лицу почти не били, а больше по бокам. Значит, не хотят убить, опять подумал Маркел, значит, я им живой нужен и видный, чтобы было, что кому показывать. — Стой! — велел старший стрелец. Маркела перестали бить. Старший опять спросил: — Где Трофим? — По делам пошел, — ответил Маркел, отхаркиваясь кровью. — По каким делам? — А то он мне будет объяснять! Сказал: «Иди домой!» — и я пошел. — Илья! Илья ударил в бок. У Маркела брызнуло огнем в глазах, и он упал лицом в пол. Его начали трясти за волосы. Он понемногу очнулся. — Куда пошел Трофим? — спросил старший стрелец. — К одной бабе, — ответил Маркел, задыхаясь. — К какой? — Я ее не видел, — ответил Маркел. И вдруг закричал: — Побойтесь Христа, православные! Я здесь в первый раз! Я никого не знаю! Мало ли у вас здесь баб… — Илья! Илья еще раз ударил. Маркел упал и умер. Но полежал и очнулся. — Как эту бабу звать? — спросил старший стрелец. — Марья, — ответил Маркел. — А какая Марья, я не знаю. Только убери Илью! — Илья! Илья ударил несильно, но хитро, Маркел не умер, а его всего скривило, и ему стало нечем дышать. И еще глаза из орбит вылезли. И язык уперся в пол, а пол был грязный. Эх, почему-то подумал Маркел, надо было соседку позвать, она бы пол вымыла, поскоблила даже, давно его пора скоблить… И тут он опять умер. Когда же Маркел опять очнулся, то он уже лежал на спине, в горнице горел огонь, было светло, и над Маркелом сидели стрельцы. — Вот что, холоп, — сказал старший из них, — молись Богу за Филиппа. — А кто такой Филипп? — спросил Маркел. — Филипп — это я, — сказал старший стрелец. — Надо бы тебя совсем убить, до смерти, но я пожалел. Да и еще Ефрем за тебе просил, уже не знаю, за что. А за Трофима Ефрем не просил! Так ему и передай, когда вернется. И чтобы к лопарю больше не лез, скажи. Если убили лопаря, значит, так было надо. И если Гриша удавился, значит, он тоже так хотел. Запомнил? Маркел кивнул. Филипп усмехнулся и добавил: — Лопарь — колдун. На царя наколдовал, и царь преставился. И лопаря за это зарезали. И что, это все, что ему за это причитается? Да я бы его еще на мелкие клочья разорвал, и сжег бы, и пепел по ветру развеял, а душу его черную, поганую в дерьме утопил бы! А его только ножиком пырнули. Значит, пожалели, как тебя. Маркел молчал. Филипп улыбнулся и спросил: — Когда вы от Гриши вышли, то куда дальше пошли? — К девкам. — К каким девкам? Маркел улыбнулся и начал облизывать губы. — Илья! — громко велел Филипп. Илья кинулся к Маркелу. Маркел быстро-быстро зачастил: — Я не знаю, как это место называется! Это в царевом дворце, идти нижним этажом, после сойти в подвал, за рундуком, возле поварни, там не было стрельцов, там просто сторожа… — А девки как? — спросил Филипп. — Девки как девки, — ответил Маркел. — И он сейчас опять туда? Маркел кивнул. — А ты чего? — А он мне велел здесь сидеть и ждать, а то вдруг кто станет его спрашивать, тогда сказать, что он у Марьи. — Илья, — приказал Филипп врастяжку. Илья склонился над Маркелом и начал выворачивать ему руку. Маркел крепился, как мог. Илья аж вспотел. — Клим! — вдруг сказал он. Один из стрельцов ударил Маркела под ребро. Маркел охнул и расслабился — и Илья завернул ему руку! Маркел тихо завыл от боли. — К кому? — спросил Филипп. — К Марье, — ответил Маркел. — К кому? — К ней. К Марье. — К кому?! — К ней… А дальше уже не было дыхания, Маркел молчал. — Отпусти, — велел Филипп. Илья отпустил руку. Рука не двигалась. Илья уложил ее туда, где ей должно было лежать. Маркел тяжело дышал. — Я ухожу, — сказал Филипп, — и ты пока живи. Но если я узнаю, что ты мне сбрехал, то я опять к тебе приду. И к Трофиму тоже. Так и скажи Трофиму: пусть ждет Филиппа. А князю Семену ничего не говори, а то он начнет за вас заступаться и только беды себе наделает. Тут Филипп встал с колен, поправил шапку, посмотрел на лежащего на полу Маркела… И вдруг спросил: — Или ты, может, одумался? Может, чего вспомнил? Говори, пока не поздно. Маркел молчал. — Ну, как знаешь! — недобрым голосом предупредил Филипп. — Ты сам себе это выбрал. — И велел своим: — Пошли! Они все вышли из горницы, за ними ляпнула дверь. Потом их шаги простучали по лестнице, проскрипели по двору и стихли. Маркел перевернулся на бок и сел, прислонившись спиной к лавке. Правая рука была как неживая. Как же я теперь нож возьму, в сердцах подумал Маркел, а если и возьму, то разве в кого пырну? Да только если в спящего, а это великий грех. Подумав так, Маркел повернул голову к иконам и прочитал про себя Отче наш. Лампадка возле Спаса дрогнула. Тогда Маркел еще раз прочитал, но теперь уже вслух. Руке стало легче, он ее немного поднял и даже кое-как перекрестился. Вот так, подумал он и улыбнулся, Господь помог, еще раза три прочту, и рука совсем поправится, и можно будет и за… Тьфу, тут же подумал он, при чем здесь нож? И сразу еще: а где дядя Трофим? А кто Гришу удавил? А зачем дяде Трофиму царский волос с царским ногтем? Да если про это узнают и возьмут с поличным, то тут будет уже не дыба и не кол, а сожгут, к едрене матери, и пепел по ветру развеют, и душу… как это Филипп говорил, в чем утопят? Подумав так, Маркел недобро усмехнулся. И тут раздался стук во входную дверь. Стучали условным стуком, дядя Трофим так стучал, когда они шли в царский дворец… И это значит, он опять стучит! Значит, уже вернулся! Маркел радостно сказал: — Входи! Раскрылась дверь, и в горницу вошла дяди Трофимова соседка! Она была одета по-домашнему, без шубы. Вид у нее был очень строгий. А, вот оно что, сразу же подумал Маркел, тоже стал серьезным и сказал: — Что, опять громко орали? — Громко не громко, — сказала соседка, — а Нюську крепко напугали. Прямо дрожит вся. — Винюсь, — сказал Маркел. Соседка кивнула головой, еще немного помолчала, осмотрелась и сказала: — А где Трофим Порфирьевич? Маркел посмотрел на нее и вдруг почему-то подумал, что она имеет право про такое спрашивать. Может, у нее с дядей Трофимом… Мало ли! И Маркел сказал сердито: — Ушел дядя Трофим. По делу. — Какой он тебе дядя? — сказала соседка. — Какой, какой! — еще сердитей ответил Маркел. — Какой надо, вот какой! — Куда он пошел, знаешь? — спросила соседка. — Знаю, — ответил Маркел. — А этим сказал? — А ты что, не слышала?! Соседка усмехнулась и сказала: — Слышала. Но еще раз спросить не грех. Маркел молчал. Все у него болело, было гадко. Маркел приложил руку к щеке, прощупал зубы. После провел рукой под носом, там было много крови, но уже запекшейся. — Дурень! — сказала соседка. — Ты что, кочерги не видел? Я кочергу возле двери поставила. — Что кочерга? — спросил Маркел. — А Трофим тебе про кочергу не говорил? Маркел мотнул головой. Соседка сказала: — И он тоже дурень. Надо же было сказать, что если у Параски кочерга, то берегись. — А тебя Параской звать? — спросил Маркел. — Можно и так, — ответила соседка. — Но не всем. И усмехнулась. Маркелу сразу стало жарко! А она еще сильнее усмехнулась и продолжила: — Но не про это сейчас разговор, а я еще раз говорю: у меня с твоим дядей Трофимом был уговор, что, если к нему кто залез, я выставляю кочергу. И он ее тогда берет. А ты, дурень, прошел мимо! Маркела взяла злость, и он сказал: — Дурень, дурень! Кочерга! Раньше надо было про нее рассказывать, а не сейчас! — А ты не ори на меня! — тут же сказала Параска. — Орал бы на него! Это его промашка! — А он откуда знал? — тоже громко ответил Маркел. — Он на воротах спрашивал, ему сказали, что все тихо. И он сказал: иди, и я скоро тоже подойду. Развернулся и ушел. А я пришел сюда, и мне вот что было! Через твою кочергу. Параска при таких словах вся сразу очень сильно покраснела, уперла руки в боки, сверкнула глазами… Но так ничего и не сказав, развернулась и ушла. За ней дверь тоже очень громко ляпнула. Маркел крепко сжал губы и подумал: ух, какие в Москве люди злые! И так и остался сидеть, привалившись спиной к лавке. Потому что сил подняться у него все еще не было. Эх, с грустью подумал Маркел, лучше был он сюда не ездил, а сидел бы у себя в Рославле. Даже не столько сидел, сколько полеживал, потому что ну какие там дела? Одно безделье. И он, бывало, по неделе на службу не хаживал, а если вдруг его туда и призывали, то ради чего? То кто-то кому-то глаз подобьет, то у кого-то поросенка украдут, то еще какая-нибудь мелочь. А тут сразу царя отравили! А что?! Ведь именно так дядя Трофим думает, иначе зачем ему стали бы нужны царев волос с царевым же ногтем? А так он их сейчас взял и пошел, понятное дело, что к ворожее какой-нибудь и там у нее теперь спросит, отчего умер тот, чей это волос. Ворожея выложит волос на стол, на блюдечко, и начнет над ним, нашептывать, глаза закрывать, огонь воскуривать, а дядя Трофим жадно спрашивать… И тут вдруг стук в дверь! Она сразу с петель! Врываются стрельцы, хватают ворожею, и дядю Трофима, и волос и тащат их в Земский приказ! Или куда еще? И там на дыбу! Но дядя Трофим молчит! А ворожея, не стерпев, начинает орать: я ничего не знаю, это он меня заставил, это он принес мне этот чертов волос! Как это, спрашивают, чертов?! Ты какие ковы на царя возводишь?! Как, она кричит… Ну, и так далее. То есть далее Маркелу думать не хотелось, и он подумал, что и в самом деле лучше бы он оставался в Рославле и служил в губной избе. А еще у них есть деревушка, три двора и сколько-то четей земли. Может, немного, но на самое необходимое хватает. И уже невесту присмотрели, все говорят, что клад, а не девица. Да и сам Маркел так думает. Мать говорит, смотри, сынок, бери, пока дают, а не то будет то, что тебе злая шептуха нагадала: черная вдова с дитем в злом месте! Вспомнив про черную вдову, Маркел аж застонал от злости. А что! А ведь было такое! Два года тому назад на Святки черт его дернул погадать. И нагадали! Ох, мать тогда перепугалась! И еще из-за этой вдовы, когда Карп Никанорович повелел ему сейчас ехать в Москву, мать опять плакала и говорила: Маркелушка, смотри там, не пей, не гуляй, а не то нагуляешь вдову, сердце мое чует, нагуляешь! И что теперь скажешь? Маркел прислушался. За стеной было тихо. Маркел улыбнулся и вздохнул. А ведь она вдова, подумалось. Но вот какие у нее волосы, черные ли в самом деле, Маркел пока не знал, потому что волосы были надежно убраны в платок, но, по всему похоже, они у Параски действительно черные. А губы у нее… Эх-х, сладко подумал Маркел, а пусть даже и вдова, что здесь плохого? И опять прислушался. Но опять ничего не услышал. Тогда он, чтобы отвлечься, стал думать про Гришу, про Филиппа, про лопаря, про Шкандыбина, про дядю Трофима и про то, когда он наконец вернется… Но каждый раз все сходило на Параску! Далась ему эта Параска, в сердцах думал он, да вот как раз и не далась! И начал думать… И заснул. А что? Он же до этого всю ночь не спал. Зато теперь спал как убитый.14
А потом он вдруг проснулся — от того, что ударили в колокол. Маркел поднял голову, прислушался. Опять ударили, теперь еще громче. И почти сразу же ударили опять, и это было еще громче и уже басом. Потом еще раз. И еще! А после как бабахнуло во все колокола и как рассыпалось мелким трезвоном! Как закричало воронье! Маркел снял шапку и перекрестился. Он уже понял, что это такое, — это погребальный перебор, значит, царя несут в храм. Но еще не хоронить, а гроб поставят возле алтаря, и народ будет ходить к нему прощаться. Или никого туда не пустят, сердито подумал Маркел. У нас это могут! Закроют храм, и царь будет лежать там один, придут только ближние бояре, царица и сыновья. Сыновей у государя двое, старший уже совсем взрослый, а младшему чуть больше года. Младшего зовут Димитрий, а старшего Феодор. Старший, как о нем рассказывал дядя Трофим, когда приезжал в Рославль и крепко выпил… Ну, уже безо всякой охоты подумал Маркел, только один Бог знает, как оно есть на самом деле. Так что то, о чем тогда рассказывал дядя Трофим, теперь лучше даже в мыслях не повторять, а то мало ли что за это будет. У них же здесь, в Москве, особенно в Кремле, зарезать человека ничего не стоит. Вот лопаря зарезали. А Гриша сам удавился. По крайней мере так про него говорят. А после будут говорить уже вот что: и этот рославльский зарезался! Приходим, смотрим, а он лежит возле стола, и горло у него от уха до уха располосовано, и все вокруг в крови, и нож лежит рядом, значит, сам зарезался. Подумав так, Маркел мотнул головой, перекрестился. И тут же сел прямо, оперся о лавку и встал. А со двора было слышно, как звонят колокола: первый ударит, погудит и стихнет, за ним немного погодя второй — и голос у него уже потолще. А после еще толще. А после еще. А после опять все разом! И как громко! Царя из дворца в храм несут. Упокой, Господи, раба твоего Иоанна, подумал Маркел, и прости ему прегрешения его вольные и невольные. Хотя какие у царя могут быть невольные, когда он волен во всем?! Много чего всякого добрые люди про него рассказывали, ну да не тем сегодня он будет помянут. Земля ему пухом. Бахх! Затихло и еще раз бахх! А после опять ударили во все кремлевские колокола! А только эти унялись, как начали звонить колокола со всех сторон, по всей Москве. Маркел стоял и держал в левой руке шапку, а правой сложил двуперстие, повернулся к иконам, тихо сказал «Господи, помилуй!», перекрестился и отвесил поясной поклон. А когда выпрямился, было тихо. Потом опять послышались колокола: сперва самый малый, потом, следом за ним, второй, побольше, и так далее. Воронье кружилось над Кремлем, хлопало крыльями, кричало. Маркелу стало зябко, он запахнул полушубок. И вдруг услышал, как открылась соседняя дверь и кто-то вышел на помост. Тогда и Маркел, поправив шапку, тоже вышел, подошел к перилам, посмотрел вперед, на князя Семена службы (а из-за них, с той стороны звонили) и опять перекрестился. И краем глаза увидел, что сбоку от него возле своей двери стоит Параска и тоже смотрит на службы. Маркел негромко кашлянул и посмотрел на Параску. Параска тоже посмотрела на него и улыбнулась. Маркел спросил: — Ты чего? — Так, ничего, — ответила Параска, опять улыбнулась и спросила: — Чего у тебя глаз подбит? К девкам ходил, я слышала. Маркел почувствовал, как он краснеет. А колокола опять зазвенели все разом! Он подождал, когда они утихнут, и сказал: — Что девки! Девки — дуры. А вот вдовы — это да! Разумницы. — Ха! — громко сказала Параска, опять глядя прямо перед собой, то есть мимо Маркела. — Я про вдов ничего не скажу. Я замужняя. Маркел открыл рот и молчал. Параска продолжила: — Мой господин, Гурий Корнеевич, сотенный голова и сын боярский. — А… — начал было Маркел, но смутился и замолчал. Тогда Параска сказала сама: — Он пока в отъезде. В Ливонии. В крепости Венден. На Покров было ровно пять лет, как он там сидит. Но их скоро будут менять, он приедет! Какой мы тогда тут пир закатим! Они же с Трофимом приятели, просто не разлей вода. Бывало, как сойдутся вместе, как сядут и как начнут выпивать, так хоть святых из дома выноси! Один Никола Чудотворец их выдерживал — тот ваш, трофимовский. Так, бывало, с ним стоишь, их увещеваешь, а они… — Но тут Параска спохватилась и спросила: — А ты что такой невеселый? Горюешь по царю? Маркел молчал. Колокола продолжали звонить. Параска спросила: — Сам ты откуда будешь? — Из Рославля, — нехотя ответил Маркел. Но тут же бойко продолжил: — Мой отец тоже в стрельцах служил. И выслужил поместье! Там, у нас рядом. — Большое поместье? — спросила Параска. — А! Три двора! — честно ответил Маркел. — А у нас восемь, — сказала Параска. — Ну и что? Четыре ведь стоят пустые. А скоро и всем остальным будет так же. — Чего это так? — удивился Маркел. — Как чего? — сердито сказала Параска. — У нас, знаешь, кто соседи? Князья Гундоровы! А они Шуйским родня. И переманивают, переманивают от нас самых лучших работников. И им сразу прибыль, а нам урон какой! И кто меня защитит? Гурий Корнеевич я говорила, где, а там князья! И Шуйские! Маркел молчал. Параска, тоже помолчав, продолжила уже не так сердито: — Но ничего. Говорят, что теперь этому уже недолго быть. Государь хотел в этом году объявить заповедное лето и запретить людям бегать. А чтобы кто где сидел, там и сиди, не бегай по боярам! — Так царь теперь… того, — сказал Маркел. — Зато царев сын жив! — сразу же ответила Параска. — Его на царство возведут и разве он от батюшкиных слов отступится? Он же не дурень! — А вот как и говорили, будто царев сын… — начал было Маркел и осекся. — А! — негромко сказала Параска, усмехнулась и продолжила: — Так они так про Федора, про старшего. Но у царя есть еще младший, Дмитрий. Может, его и выберут, откуда знать? У нас в тереме все так и говорят: надо его, красавчика! А то, что он еще мал, так он, знаешь, как быстро растет? Ему трех кормилиц на день не хватает! Ну а про то, кому покуда царством править, так при нем уже есть люди, которые его всегда на ум поставят, покойный государь ему таких людей нашел. — Ну и каких это, кого? — быстро спросил Маркел. Но Параска ему не ответила, а только радостно вскрикнула и указала рукой в сторону. Маркел посмотрел туда и увидел дядю Трофима. Он шел через двор и усмехался. То есть вид у него был очень довольный. Значит, дело сделалось, и слава Богу, подумал Маркел. А дядя Трофим шел по двору. Время было бойкое, полуденное, всякой челяди там было полно. И стояли какие-то сани, с них что-то сгружали, какие-то мешки. Тут же скакали дети, бегали собаки, шла баба с коромыслом, несла воду. Дядя Трофим обминул коромысло, подошел к саням… И вдруг из-за саней, из-за коня к нему кто-то кинулся, ударил в бок и побежал. Дядя Трофим зашатался, схватился рукой за бок. Баба уронила коромысло, закричала: — Убили! Убили! А тот, кто ударил, уже отбежал далеко. Он бежал в угол двора, к поленницам. За ним бежали и кричали: — Хватай! Хватай его! Его пытались схватить, но он каждый раз ловкоувертывался и бежал дальше. За ним продолжали бежать. Крик во дворе поднялся очень сильный! Маркел вначале тоже побежал и пробежал уже немало… Но спохватился и остановился, вернулся к дяде Трофиму и наклонился над ним. Дядя Трофим лежал в грязном снегу, лицо у него было белое-белое, одну руку он откинул, а другой держался за бок. Из-под руки между пальцами шла кровь. Крови было очень много. Маркел полез ему под полушубок и нащупал рану. И вдруг подумал: платок, где ададуровский платок? Маркел стал искать за пазухой. — Шапка! — отчетливо сказал дядя Трофим. — А это не ищи. — И опять: — Шапка! Маркел! Шапка! Только теперь Маркел увидел, что дядя Трофим без шапки. Шапка валялась сбоку. Маркел взял ее и осторожно надел на дядю Трофима. Дядя Трофим скривился и сказал: — Не так! — И повторил уже со злом: — Шапка! Шапка… И начал закатывать глаза. Маркел зачерпнул рукой снег и приложил его к щеке дяди Трофима. Дядя Трофим опять сказал: — Шапка. И начал стучать зубами и вытягиваться. Маркел перекрестил его. Дядя Трофим поднял руку — ту, которая была в крови, — стал хвататься ею за Маркела и опять повторил: — Шапка! Ша… А потом захрипел и затих. Рука его упала, скрючилась и замерла. — Отмучился, — сказали сверху. Маркел поднял голову. Вокруг него плотно стояли люди, князя Семена челядь. Маркел снял шапку и перекрестился. Челядины тоже начали креститься. Потом один из них сказал: — А тот змей ушел. За поленницу и там через тын. А тын высоченный! Как он мог через такой перескочить? — Не один он был, вот что! — сказал второй челядин. — Пособили ему. Подсадили! — На две сажени не подсадишь. Там кто-то сверху сидел, — добавил третий. В толпе зашумели. Маркел молча смотрел на них, а после опять склонился над дядей Трофимом, теперь уже мертвым, и поправил ему голову, чтобы она лежала ровно, а после закрыл глаза. После начал складывать ему руки. Одна рука была липкая, вся в крови, и Маркел положил ее снизу, а сверху положил другую, чистую. Эх, дядя Трофим, подумалось, зачем тебе все это было нужно? Я бы еще одну бутыль достал, у меня их в санях запас, а Параску послали бы за горячим… И больше ни о чем не думалось. Маркел просто смотрел на дядю Трофима, и ему было грустно-грустно, ну просто дальше некуда. Да, и вот еще что: а колокола больше уже не звонили, было совсем тихо. Значит, царя уже внесли в храм и положили возле алтаря.15
Вдруг сверху грозно послышалось: — А это еще кто?! Маркел поднял голову и увидел, что толпа немного расступилась и теперь над ним (и над дядей Трофимом) стоит только один человек — высокий и толстый, сердитый, в черной куньей шапке. Кто это, сам князь Семен, что ли, испуганно подумал Маркел, но подниматься не стал, а так и продолжал смотреть на незнакомца снизу вверх. Незнакомец повторил: — А это кто? А?! Маркел и толпа молчали. Вдруг из толпы вылез Филька и сказал: — Это Маркел из Рославля, тамошний губной целовальник. Он третьего дня сюда приехал, дядя Трофим его принял. — Как это принял?! — грозно удивился важный незнакомец. — Это что, его двор?! — Мартын Афанасьевич! — воскликнул Филька. — Ты не гневайся! Трофим же чего? Трофим же по службе! Этот ему роспись привез, три свитка. — Три свитка? — переспросил важный человек, а правильнее, Мартын Афанасьевич. — Какие еще свитки? Где они?! — Ну-у, — протянул Маркел, очень радостный из-за того, что этот человек вовсе не князь, а всего лишь какой-то Мартын. — Что «ну»?! — грозно спросил Мартын. — Ты меня не запрягай! Маркел молчал. После сказал: — Винюсь, — и медленно склонил голову так низко, что между шапкой и воротником полушубка стала видна его голая шея. — А! — хищно воскликнул Мартын. — Вот оно что, собака! Вот вы как служите! Вам бы только харю захмелить! А после вас режут! Может, даже неспроста? В толпе зароптали. — Ладно, ладно, — продолжал Мартын, поднимая вверх руку. — Ладно! Может, я погорячился. Потому что любил я Трофима! А тут понаехали всякие, навезли с собой беды! — И уже строго, по-деловому продолжил: — Игнат! Сазон! Поднимайте его, понесем. Из толпы вышли двое и начали поднимать дядю Трофима. Мартын сказал: — В холодную его. — А повернувшись к Маркелу, добавил: — А ты никуда не уходи. За тобой еще придут. И он пошел к хоромам. За ним понесли дядю Трофима. Толпа стала понемногу расходиться. Маркел стоял на прежнем месте, не зная, как ему быть дальше. К нему подошел Филька и сказал, чтобы он шел к дяде Трофиму и там сидел и ждал. Маркел не стал спрашивать, почему это вдруг какой-то Филька им распоряжается, а покорно развернулся и также покорно пошел обратно. Параски ни во дворе, ни на лестнице, ни на помосте видно не было. Маркел зашел к себе (правильнее, к дяде Трофиму) и сел там за стол. В хоромах было тихо, только где-то вдалеке раздавались глухие голоса. Потом они стали громче. Потом кто-то прошел по потолку. Потом вернулся. Не сидится им, мрачно подумал Маркел, а то как же! Это же какая незадача у них приключилась — человека прямо во дворе зарезали. Средь бела дня! И не просто человека, а стряпчего. Разбойного приказа! И убийца убежал, кого теперь винить? Хотелось бы кого-нибудь чужого, например, приезжего, ну хоть из Рославля. Да вот беда — приезжий на крыльце тогда стоял, его все видели, в тридцати саженях от того места, где дядю Трофима убили. Кто убил? За что? Маркел повернулся к иконам, подумал: может, убили за то, что он ходил туда, куда ходить было не надо, а он все равно пошел. Или за что-то прежнее убили? И почему он все время говорил про шапку? И не про свою шапку — свою на него надели, а он: «Не так!» И опять: «Шапка! Шапка!» Может, на его убийце была особенная шапка? Да нет, вспомнив, подумал Маркел, самая обыкновенная на нем была шапка, и сам он с виду был обычный челядин. Тогда дядя Трофим, наверное, очень хотел передать Маркелу что-то очень важное про то, куда он ходил. Может, там был кто-то в особенной шапке? А что такое особенная шапка? Все шапки могут быть особенными: если холоп в боярской шапке, то это очень особенно, но если и боярину надеть холопскую, то и она станет особенной. А на холопе она опять станет обыкновенной. А тут как было? Маркел задумался, долго сидел не шевелясь… А после тряхнул головой и подумал: нет, так можно долго гадать и не до чего не догадаться. Так не годится! Маркел встал и подошел к иконам. Под ними на полочке лежали запасные свечи. Маркел взял одну, зажег, подумал и поставил перед святым Николой. Никола нахмурился. Маркел про себя загадал: Никола, Никола, наставь меня на ум, научи, что мне делать. Научишь выходить во двор, идти за поленницу и лезть там через тын, я полезу. А научишь здесь сидеть, руки сложивши, я буду сидеть. А научишь еще как-то, будет это как-то. Сзади заскрипела дверь. Маркел оглянулся. Это со двора вошел Мартын, а за ним два челядина. Один из них был с топором и недобро смотрел на Маркела. Маркел мысленно перекрестился. Мартын сказал: — Князь Семен еще не вернулся, они все в соборе, государя отпевают. Не до тебя ему пока. — И, обернувшись к челядинам, приказал: — Давайте! Челядины пошли на Маркела. Маркел стоял столбом. Они прошли мимо него, подошли к задней двери — к той, за которой ночевал дядя Трофим, — и начали забивать ее гвоздями. Забивали основательно, гвоздей не жалели. После вбили два пробоя — один в стену, второй в дверь. Тогда к ним подошел Мартын, просунул под пробои красную веревочку, связал ее концы, приложил к ним кусок воска, расплющил его и придавил к нему печатку. После отступил на шаг и, обращаясь к Маркелу, спросил: — Понял? Маркел кивнул, что понял. Тогда Мартын кивнул тому, который был без топора, и они вместе вышли вон. А челядин с топором и гвоздями остался. Он высыпал гвозди на стол, а сам сел на лавку и положил рядом топор. После сказал: — Егор я. Маркел назвал себя и тоже сел. — Что у вас тут было? — спросил Егор. — Да ничего особенного, — равнодушным голосом ответил Маркел. — Приехал я сюда. Меня прислали. Из Рославля, из тамошней избы. — Ага, — сказал Егор. После спросил: — Это твои сани на конюшне, кобыла чалая, а на санях левый полоз сзади сбитый? Маркел утвердительно кивнул. — Сходил бы да прибрал, — сказал Егор. — Растащат все! Одну бутыль вчера уже утащили. — И вдруг продолжил: — Лопаря, говорят, зарезали. А вы пошли узнать, за что его. Вот тогда и Трофима зарезали. Так? Маркел молчал. Ему вдруг показалось, что их здесь не двое, а есть еще кто-то третий и он очень внимательно слушает. И Маркел, усмехнувшись, сказал: — Да какой нам был лопарь?! Я же не одну бутыль привез. Ну, мы и сели со свиданьицем. А тут еще царь помер. Ну, мы за упокой души его. Егор сказал: — Это доброе дело. А я не поминал! — Чего так? — А я брата поминал. — А что с ним было? — А ничего. Пришли и забрали. Тогда многих брали! Князь Семен спрашивал, за что, а Вяземский ему: за просто так не берут! А после подкинули нам под ворота его голову, и все на этом. Я собрался идти спрашивать, за что, но князь Семен не велел. Сказал: себя погубишь и меня за собой потащишь, потом наши головы так же подбросят, кому от этого будет польза? Маркел молчал. Егор спросил: — У тебя выпить есть? Маркел взял шкалик и налил ему. Егор спросил: — А себе? — Так мне сейчас к князю идти, я хочу быть с ясной головой, — сказал Маркел. — Это верно, — одобрил Егор. И медленно выпил. Поставил шкалик на стол и продолжил: — Хотя это все равно. Что голова?! Рубят же не по голове, а по шее. А шея у всех одинаковая, что у трезвых, что у хмельных. И только он потянулся к закускам, как опять вошел Мартын, а с ним тот же самый челядин. — О! — гневно сказал Мартын, глядя на Егора. — Этот уже сел! Посидишь ты у меня на цепи! Егор вскочил. Мартын, уже не глядя на него, продолжил, обращаясь к Маркелу: — А ты вставай, пошли. Князь из собора вернулся и хочет на тебя посмотреть. Маркел встал и следом за Мартыном вышел вон.16
Они вышли во двор, обошли вокруг хором и подошли к главному крыльцу. На крыльце стояли сторожа с бердышами. Они мимо этих сторожей поднялись по лестнице, после прошли через сени, затем через еще одни, уже богато украшенные, и подошли к двери, возле которой стояли два сторожа уже не с простыми, а с серебряными бердышами. Мартын властно повел рукой, и сторожа расступились. Мартын открыл дверь и подтолкнул в нее Маркела, а после вошел сам. Это была богатая светлица. Там на стенах висели ковры, а на них различное оружие. Так же и пол был в коврах, и лавки вдоль стен в них же. И прямо напротив двери на ковре, положенном на лавку, сидел, как Маркел сразу понял, князь Семен Михайлович Лобанов-Ростовский в золоченой расстегнутой шубе и в круглой собольей шапочке. В правой руке князь держал маленький серебряный молоток, а в левой — красный бархатный мешочек. Князь был еще совсем не старый, глаза у него были большие, почти белые, навыкате и не моргали. Как у рыбы, подумал Маркел, быстро снимая шапку и сгибаясь в поясном поклоне. — Привел, — сказал из-за спины Мартын. — Ну так ступай теперь, — мягко ответил князь. Мартын, было слышно, вышел. Маркел выпрямился и сказал: — Холоп твой, князь, Маркелка из Рославля, губной целовальник. — Знаю, — медленно ответил князь. — Маркел Косой, полусотенного головы Петра Косого сын. Деревенька Глухой Ток, на три двора. Так? — Так, господин мой, — ответил Маркел. Князь хмыкнул и положил красный мешочек на стол, потюкал по нему молоточком, внутри что-то хрустнуло, достал из мешочка ядрышко ореха и стал его рассматривать. Потом вдруг быстро кинул его в рот и начал медленно разжевывать. Маркел осмотрелся и увидел, что рядом с князем на столике стоит медная миска с орехами. Князь посмотрел на Маркела, взял из миски еще один орех, сунул его в мешочек и пристукнул. Нащупал ядрышко и бросил его в рот. Начал жевать и замер. Потом вдруг спросил: — Давно сюда приехал? — Третьего дня. — Зачем? — Ну, это… — смутился Маркел. — С гостинцами? Маркел утвердительно кивнул, а сам со страхом подумал, передавал дядя Трофим хоть что-нибудь или так и не собрался?! Князь улыбнулся и сказал: — Хорошее у вас винцо. Порадовали. Маркел мысленно перекрестился. А князь расколол еще один орех и, жуя его, продолжил: — Ну, привез ты гостинцы и что дальше? Почему сразу обратно не поехал? — Винюсь, — тихо сказал Маркел. — Пьян был. — Все три дня, что ли? — насмешливо спросил князь. — Все, господин. Винюсь! — Ой, ли! — тихо засмеялся князь и вытащил еще один орех. — А может, еще чего делал? Люди говорят, что видели тебя в Ближнем застенке. — Может, и видели, — покорно согласился Маркел. — А ты там был? — Не помню. — А люди говорят, что был! — уже повышая голос, сказал князь. — И не только был, а еще Гришку Савелова, пищика, приводил к пытке. И Гришка тебе сознался. Трофим мне про это говорил. Сказал, что с тебя будет толк. — И вдруг спросил: — А кто это тебя так разукрасил? Маркел взялся за подбитый глаз и без всякой охоты ответил: — Да так, стрелец один. Дворцовой сотни. Назвался Филиппом. Спрашивал, куда дядя Трофим пошел. — А ему до этого какое дело?! — Вот и я ему сказал о том же. — А он? Маркел вместо ответа поднял руку и опять взялся за подбитый глаз. — А! — сказал князь. — Ну, да. А ты чего, не мог отбиться?! — Их было много, князь, — честно сказал Маркел. — И они были дворцовые. Мало ли, подумал я. Крику после будет! И за ножом не полез. — Тьфу! — сказал князь и взял еще один орех, в сердцах расколотил его и стал жевать. После взял еще один… И вдруг швырнул им в Маркела! Маркел поймал его на ладонь и сверху тут же прибил кулаком. Орех раскололся. Маркел подступил к князю и протянул ему ладонь. Князь взял ядрышко и, раскусив его, спросил с почтением: — Как ты это его так? — А надо на косточку класть. Вот сюда. Маркел показал, куда. Князь взял еще один орех, повертел его и так и сяк, даже уже примерил на ладонь… Но не решился и опять сунул орех в красный мешочек, прихлопнул его молотком, сказал задумчиво: — Хороший был сыщик Трофим. И вот теперь его нет. — И вдруг быстро спросил: — Кто его зарезал, знаешь? — Не совсем, — сказал Маркел. — Но думаю, что знаю, чей это человек. — Чей? Маркел помолчал, потом сказал: — Я видел, куда он побежал. За дрова и через тын к Бельскому. — Ну! — сказал князь, усмехаясь. — Это он мог и нарочно туда сигануть. Чтобы мы на Бельского подумали. Да и опять же! На кого подумать! Но только с тебя что взять? Ты откуда сам? Из Дорогобужа? — Из Рославля. — А, из Рославля… Тоже место знаменитое. — Князь усмехнулся. — Если из Рославля, тогда можно. — И, сделав строгий вид, строгим же голосом продолжил: — Бельский! Богдан Яковлевич! Царев оружничий! Да это же какая сила! Я с ним только что рядом стоял, когда царя отпевали. Государя всея Руси. Ну, да его еще долго будут отпевать, сказали, дня, может, три. А Богдан уже вон как ходит! Голову высоко держит! На всех сверху поглядывает. А что! Все стрельцы теперь его, все пушки — его, все ворота — его! Запер он нас здесь, как слепых котят в мешке, знаешь об этом?! — Знаю, — чуть слышно ответил Маркел. — Ну, вот! — сердито сказал князь. — Хоть ты что-то одно знаешь толком. Вот кто он такой, Богдан Яковлевич! И вдруг наш какой-то Трофим… Да разве станет Бельский об него мараться? — Так я разве говорю, что он! — поспешно вставил Маркел. — Я говорю, что тот злодей к нему на двор через тын… — Га! — громко перебил его князь. — Ну, не туда нога пошла, и заскочил. А если бы он дальше пробежал и там бы, дальше, через тын, сигал, так на Троицком подворье очутился бы. Тогда бы на кого мы думали? Во то-то же! — Но я чую… — Га! Чую! Да тут хоть зачуйся! — насмешливо воскликнул князь. — Чуять можно только водку или капусту квашеную. А остальное надо знать! Вот куда тот злодей побежал после того, как Трофима зарезал, ты знаешь? — Так я же сказал: к Бельскому. — А дальше? — с жаром спросил князь. — Куда он дальше побежал и где сейчас хоронится, вот что бы нам узнать! И за что вдруг Трофима убили? Откуда он возвращался? Куда он ходил? И зачем? Маркел молчал. Тогда князь сам сказал, и уже очень негромким голосом: — Трофим мне вчера говорил, что он хочет к Ададурову наведаться. И вы, я знаю, наведались. А дальше что? Почему ты здесь остался, а он куда-то ушел? Он сказал тебе, куда пойдет? — Сказал, да не очень, — ответил Маркел. — Ну вот и узнай теперь, что он тебе тогда не досказал, — строго велел князь. — И сам туда сходи. И все на месте высмотри. А то ведь бесчестье какое! — И вдруг, усмехнувшись, продолжил: — Это же еще как славно, прости, Господи, что государь вчера преставился, а то какой был бы срам, задумайся! У князя Лобанова-Ростовского, начального головы Разбойного приказа, прямо посреди его двора его человека убили, и он не знает, кто убил! Вот бы уже государь потешился, таскал бы меня за бороду и приговаривал: эх, Сенька, Сенька, какой же ты пес шелудивый, да как ты можешь по всему моему царству злодеев вывести, если ты даже на своем собственном дворе порядка навести не можешь, кнута тебе мало! А так царь этого не знает, нет царя. Ну да теперь и эти, чую, тоже мне проходу на дадут! — Тут князь замолчал, утер губы и уже опять неспешным и серьезным голосом продолжил: — Поэтому вот что, Маркел: домой к себе в Рославль ты ехать пока погоди, да и ворота закрыты, никуда ты не уедешь и про лопаря с Гришкой тоже пока что забудь, на это другие людишки найдутся. А ты пока, сделай милость, вот что мне вызнай: куда и зачем ходил Трофим и кто после убил его за это? До завтра до утра узнай! И мне расскажешь. И вот уже после этого сразу езжай домой, я тебя держать не буду и еще даже гостинцев дам в дорогу. А не узнаешь, пеняй на себя. И не вздумай убегать. Из-под земли найду! Понял меня? Маркел кивнул, что понял. — Вот и славно, — сказал князь. — А пока ступай. А то скоро утро и тебе надо будет ответ держать, а ты даже еще не выходил. Ступай! Бог тебе в помощь. И Бог же тебя сохрани на меня хоть в чем-нибудь кивать. Не видел ты меня! Приехал из Рославля, привез дяде Трофиму ведро водки и завтра едешь обратно. Запомнил? Маркел кивнул, что запомнил. Тогда князь еще прибавил: — Слово для пропуска «Ладога». Ответное слово «Копорье». Ступай! И даже махнул рукой и сразу опять потянулся к орехам. Маркел развернулся, надел шапку и вышел.17
Маркел сошел с господского крыльца, остановился и стал смотреть по сторонам. Было обеденное время, пахло подгорелой кашей. А вот потянуло поросятиной. А вот капустой. Передний княжий двор был почти пуст. Маркел прошел вдоль стены, завернул за угол и оказался у себя на заднем дворе. Налево были лестница и его дверь, направо конюшня. Ворота там были открыты, и нужно было бы зайти туда, проведать Милку и, как советовал Егор, забрать из саней то, что еще не растащили. Но Маркел в конюшню не пошел. Пусть тащат, подумал он, не везти же обратно, и поедет ли он еще обратно? Это «обратно» нужно заслужить. Да и, с другой стороны, сердито подумал Маркел, разве это по-христиански — не найти того, кто убил дядю Трофима. Тут Маркел опять остановился, осмотрелся и понял, что он стоит как раз на том самом месте, где еще совсем недавно лежал дядя Трофим. Правда, здесь теперь все было затоптано так, что никаких следов от дяди-Трофимовой крови уже не осталось. А унесли его, подумал Маркел, в князя Семена домовую часовенку, он видел ее возле входных ворот. Это надо вернуться обратно, ведь же нужно посмотреть дядю Трофима, постоять с ним рядом, зажечь свечку, прочитать молитву. Но это завтра, подумал Маркел, завтра это можно будет сделать не спеша. А сегодня у него есть дело, очень спешное, князь Семен шутить не будет! Маркел еще раз осмотрелся, вспомнил, куда побежал тот злодей, и тоже пошел туда же, наискосок через двор, к поленнице. Поленница, как оказалось, там была не одна, а их было несколько, все они стояли под навесами, и между ними были оставлены проходы. Маркел пошел по ним. Там кругом было натоптано и снег сбит в грязь, наверное, истопниками. Маркел прошел мимо одной поленницы, свернул за вторую, миновал третью, переступил через наполовину разобранную четвертую… И увидел Фильку! Филька стоял возле тына и смотрел в щель. Он, конечно, услышал Маркеловы шаги, но все равно не стал на него оборачиваться, а даже того больше: поднял руку и сделал ею знак стоять и не шуметь. Маркел сразу застыл на месте. Филька смотрел в щель. Потом наконец отступил и сделал Маркелу знак подойти к нему. Маркел подошел. Филька молча указал рукой на щель. Маркел сдвинул шапку и прильнул к щели. Щель была узкая, через нее было видно немного, лишь одна постройка, и то даже не вся, а только ее крыльцо и одно окошко рядом. На крыльце стояли двое: один — богато одетый, а второй — бедно, почти что в тряпье, и они о чем-то разговаривали. И еще вот что: богатый стоял лицом к Маркелу, а бедный спиной. Но Маркелу сразу почему-то показалось, что он этого оборванца уже где-то видел. Маркел быстро сморгнул и продолжал смотреть. А эти двое продолжали разговаривать, не разобрать о чем. Время от времени бедный немного поворачивался, но все равно этого было мало для того, чтобы его узнать. А узнать очень хотелось! Потому что Маркел уже начал догадываться, кто это такой. И он обернулся к Фильке. Филька утвердительно кивнул. Маркел опять стал смотреть в щель. — Эх, если бы была пищаль, — очень негромко сказал Филька, — я бы его снял, как пить дать! — Шуму было бы, — сказал Маркел. — Что шум! — сердито сказал Филька. — Зато Трофима тихо запороли. А я назло громко! — в самом деле громко сказал он. Двое на крыльце это, наверное, услышали и обернулись. Теперь Маркел наверняка узнал того, второго, это он убил дядю Трофима! Он ему нож в ребра сунул! А теперь стоит, пес, и носом вертит, почуял беду! Но Маркел тут же сдержался и сделал знак не шуметь. Филька больше не шумел, а только тяжело дышал. После шепотом сказал: — Мы с Трофимом вместе, знаешь, сколько? Лет уже тридцать, наверное. А этот пес… Эх, нет пищали! — Зачем пищаль, — так же шепотом сказал Маркел. — Нам его живым взять надо. Князя Семена порадуем. — А как возьмешь? — А подсадишь? — Подсажу, — подумав, сказал Филька. — Но их же двое. — Так брать же будем только одного! — сказал Маркел. — Зачем нам тот, второй? И кто это? — Шкандыбин, — сказал Филька. — О! — только и сказал Маркел и стал смотреть на второго, богатого. Ведь этот был тот самый Шкандыбин, о котором Гриша говорил, что он зарезал лопаря. Прямо змеиное гнездо какое-то, со злобной радостью подумал Маркел, кого ни зарежь, все на пользу! Но, пока он так думал, Шкандыбин развернулся и пошел. В щели его больше не стало видно. Остался виден только тот, второй, бедно одетый. Но и он почти что сразу же открыл дверь в ту клеть и вошел в нее. Теперь никого не стало видно, а были видны только то строение, его пустое крыльцо и закрытая дверь. — Что это за клеть? — спросил Маркел. — Там сбруя старая валяется, — ответил Филька. — Ну, и оглобли. Колеса. А раньше там жил кузнец. — А этот кто? — Я его не знаю, — сказал Филька. — Это у них новый человек. Может, наняли на одно дело, и теперь он ждет, когда ему заплатят. А после сразу уйдет. — Нет! — сказал Маркел и усмехнулся. — Уходить ему рано. Надо мне с ним еще поговорить. — И опять спросил: — Подсадишь? Филька утвердительно кивнул. Маркел полез на тын. Лезть было удобно, потому что можно было упираться в поленницу. Так что, подумал Маркел, тот злодей, вполне возможно, управился один, никто ему не помогал, как и сейчас Маркелу почти не нужна помощь Фильки. Поднявшись примерно на сажень, Маркел прильнул к тыну, к еще одной в нем щели и посмотрел на ту клеть. Дверь там по-прежнему была плотно закрыта. И вокруг никого видно не было. А сразу за той клетью, между ней и хоромами, стоял здоровенный амбар, а рядом брусяной сарай о двух верхах. Никто меня со двора не заметит, подумал Маркел, долез до верха, ухватился за него сперва одной рукой, после второй, обернулся к Фильке и сказал: — Я когда его обратно поволоку, ты будь уже здесь, на гребне. Я тебе его снизу подам, а ты сразу хватай и тащи! И только Маркел сказал «тащи», как кто-то схватил его за руки и резко рванул вверх! А после через тын! А после сразу об землю! И об землю было так, что аж звон пошел! Аж даже земля задрожала, как еще успел подумать Маркел… А после все закрыло красным светом или кровью и Маркел в эту кровь провалился.18
Но долго ему так валяться не дали, а очень скоро начали трясти изо всех сил и при этом приговаривать: — Поднимайся! Оживай, скотина! Маркел открыл глаза и увидел прямо над собой Шкандыбина. Шкандыбин был красный от злости и держал Маркела за грудки. Но как только увидел, что Маркел очнулся, то сразу отпустил его. Маркел повалился на спину, глубоко вздохнул и осмотрелся. Вокруг него валялись ведра, хомуты, колеса, куски оглобель, обрывки ременной упряжи. Это, понял Маркел, он теперь в той самой клети, которую он видел через щель. Маркел посмотрел на Шкандыбина, а после повернул голову и увидел сидящих рядом с ним двух человек, наверное, холопов. Маркел этих людей видел впервые. А где же тот злодей, подумал он и весь аж встрепенулся. — Лежи, лежи! — строго сказал Шкандыбин. — Напрыгался уже! — И еще строже спросил: — Чего ты к нам лез? Кто тебя звал сюда? — Никто не звал, — с трудом, с одышкой ответил Маркел. — Но уж очень нужно было. — Что за нужда? — спросил Шкандыбин. — Да вот хотел одного человека зарезать, — ответил Маркел уже почти своим обычным голосом и без одышки, потому что ему стало легче. — Зарезать! Эко он! — сказал Шкандыбин. — А кого? И за что? — Был тут один, — сказал Маркел. — Пегий такой, красноносый. Левая щека ободрана. Вот я его хотел! — За что? — спросил Шкандыбин. — За дядю Трофима! — За кого? — За Трофима Пыжова, стряпчего, вот за кого, — четко, по складам сказал Маркел. — А! — сказал Шкандыбин. — Вот кто! Как же, знаю… А что с ним случилось? — Как что? — громко сказал Маркел. — Зарезал его этот красноносый. Прямо у нас во дворе. И сразу к вам, через тын! Ну и я за ним следом. А вы меня об землю. Шкандыбин оборотился к холопам. Те сидели молча, по их лицам ничего нельзя было понять. Тогда Шкандыбин опять повернулся к Маркелу и сказал: — Вот ты через тын полез. На чужой двор. И еще на какой чужой! На наш! Да мой боярин, знаешь, кто? — Я не к боярину полез, — твердо сказал Маркел. — А я за тем красноносым. — Я здесь таких не видал! — так же твердо ответил Шкандыбин. — Может, таких здесь никогда и не было. А вот ты здесь есть. И мы тебя за это взяли, что ты по чужим дворам шастаешь. — Я не шастаю, — сказал Маркел. — А я по делу залез. И уже хотел было достать овчинку, но сдержался. — Ладно! — примирительно сказал Шкандыбин. — Мы что, разве звери? Или я Трофима не знавал? — И вдруг спросил: — А чего это его вдруг зарезали? Что он тому красноносому сделал? — Я не знаю, — ответил Маркел. — Я далеко был, на крыльце стоял. С соседкой разговаривал. — С соседкой! — повторил Шкандыбин. — Разговаривал! И подмигнул. Холопы стали переглядываться. А Маркел, как ни в чем не бывало, продолжил: — А дядя Трофим шел по двору. Вдруг этот выскочил из-за саней! И саданул его под бок! И побежал, и к вам через тын. — А ты сразу за ним?! — спросил Шкандыбин. — Нет, я сперва к дяде Трофиму, конечно, — ответил Маркел. — А он лежит, уже весь в крови. Смотрит на меня и шепчет: «Шапка! Шапка!» — Что «шапка»? — не понял Шкандыбин. А, сердито подумал Маркел, мимо проехали! И также сердито продолжил: — А ничего, это мне только показалось. Шапка с него слетела, вот я и подумал, что он про нее. Я эту шапку подобрал и на него надел. А он стал мотать головой и говорит, уже отчетливо: «Жарко!» Вот он чего хотел. Я тогда стал тереть его снегом прямо по щекам. Ему стало хорошо, он засмеялся… И помер. И это все. Шкандыбин помолчал, потом сказал: — Как все?! А чего ты к нам полез? — Так как было не лезть? — строго сказал Маркел. — Тут же сразу все сбежались, и князь тоже пришел. А он дядю Трофима, ох, как любил! И говорит: Маркелка (это я), кто моего Трофимушку зарезал? Я говорю: не знаю, какой-то красноносый. А князь: где он? А все молчат. Тогда он: а подать мне того красноносого! Кто подаст, тому пятьдесят рублей пожалую! И еще раз повторил: пятьдесят! Перекрестился и добавил: как Господь Бог свят! — Пятьдесят!.. — с почтением сказал Шкандыбин. — О, как! Холопы закачали головами и тоже повторили: — Пятьдесят! А Маркел уже опять заговорил: — Я встал и говорю: дозволь, боярин, я пойду! Он говорит: дозволяю! И я пошел. Я же видел, куда он бежал. И как шел по тем его следам, так после через тын… И вот сюда. И я его здесь видел. Через щель! Он сперва здесь на крыльце стоял, а потом сюда вошел. Тот красноносый. — Сюда? — насмешливо спросил Шкандыбин. — Тогда где он сейчас? — Я не знаю, — ответил Маркел. — Но я говорю: сюда зашел. Я его видел. И… Эх! Ладно! Если пособите мне его найти, вам двадцать пять отдам. — Двадцать пять чего? — спросил Шкандыбин. — Рублей, — сказал Маркел. — Половину того, что мне князь обещал. А это ого-го какие деньги! Это не каждый боярин за год столько от царя имеет. — Ну, это, может, ваш и не имеет, а нашему это тьфу, — гордо сказал Шкандыбин. И вдруг спросил: — А ты чей? Что-то я тебя раньше у них на дворе не видел. Ты откуда? — Рославльские мы, — сказал Маркел. — Маркел Косой, губной избы целовальник. По делам сюда приехавши. И тут вдруг такая беда: дядю Трофима зарезали! И за него вдруг пятьдесят рублей. Да и просто двадцать пять тоже на дороге не валяются. Я бы мимо таких не прошел. — И вдруг спросил: — Ну так что, в долю войдешь? Пособить желаешь? Шкандыбин нахмурился и зло ответил: — Не могу я твоему боярину служить. Мой, если про это узнает, голову мне оторвет. — И вдруг мрачно прибавил: — Слыхал я разные речи, гневался мой боярин на твоего, говорил: чего он лезет не в свои дела?! Ведь вы, Разбойный приказ, кто? Вам что, разве мало земли дадено? Вон, от самого твоего Рославля и через Волгу до Камня, до самой Сибири все ваше. И все разбои там — тоже ваши. Ловите, казните за милую душу. Но в Москву не лезьте! В Москве на это есть свой, Земский приказ. И все московские разбои — это его дело. Но только по Москве, а в Кремль земские не лезь! В Кремле есть Дворцовый приказ. И земские в Кремль не лезут. А вы, мой боярин говорит, совсем от рук отбились, везде лезете. Может, твоего Трофима за это и зарезали. Куда он сейчас ходил, в Китай-город? Что он там делал? Нюхал?! Вот и донюхался. Зарезали его земские, этот твой красноносый зарезал. Жалко, конечно, Трофима. Душевный был человек, отзывчивый. Но, может, и поделом, что зарезали. Потому что не по праву лез! — Вот-вот! — сказал Маркел. — Так мне и князь говорил: не водись с Трофимом. Трофим прет куда ни попадя, князь говорил, нет на него никакого сладу, чтобы не смели больше лезть, покуда беда не случилась. И вот случилось… — Это так твой князь сказал? — удивился Шкандыбин. — Так! Так! — А побожись! — Мне нельзя божиться, — ответил Маркел. — На мне епитимья. Я побожился, и была беда. Вот так соседу щеку разнесло! — И он показал, как. — Три зуба вырвали, но все равно не помогло. Гной вышел в кровь, кровь стала дурная, и он на третий день помер. Так что побожился бы, да не могу. Наш поп, отец Вассиан, запретил. И, говорил, теперь до самой Пасхи будешь каждое утро, как проснешься, читать «Верую» и класть триста поклонов. И кладу. — А… — начал было Шкандыбин и замолчал. А после вдруг велел: — В глаза смотри! Маркел стал смотреть ему в глаза. — И не моргай! Маркел не моргал. Шкандыбин вынул нож и показал его Маркелу, после сказал: — Не шевелись! А сам ткнул ножом Маркелу в горло, туда, где жилка бьется, и осторожно кольнул, проткнул кожу. По горлу побежала кровь, но ее было совсем немного. — Повтори! — сказал Шкандыбин. — Что повторить? — спросил Маркел. — Про епитимью повтори! — Говори громче, — ответил Маркел. — Я не слышу! — Зарежу! — громко воскликнул Шкандыбин и еще сильнее надавил ножом. Кровь побежала веселей. — Нельзя мне божиться, — повторил Маркел. — На мне епитимья, зачем меня в грех вводишь? Лучше сразу режь. — Тьфу, свинья какая! — в сердцах воскликнул Шкандыбин, а нож все же убрал. Маркел взялся рукой за горло. Шкандыбин велел: — Сядь! Маркел приподнялся и сел, но руки с горла не убрал. — Небось голодный? — примирительно спросил Шкандыбин. Маркел кивнул. — Влас, — строго сказал Шкандыбин. Один из холопов подал кусок хлеба. Шкандыбин взял его и протянул Маркелу. Маркел усмехнулся и сказал: — Мне и этого нельзя. На это тоже епитимья. — Эх! — в сердцах сказал Шкандыбин. — Ну, ладно. Тогда теперь так. Ты иди пока к себе и жди там. А я пойду к своему боярину и посмотрю, как он. Он же теперь ого! После того как царь преставился, у них же там теперь такое! Дома почти не бывает, а все во дворце да во дворце. И мы без него стали как будто вольные. Вот мы тебе и пособим. Найдем мы того красноносого, хоть из-под земли достанем. За такие деньги, га! Но дальше будет вот как. Как только мы его найдем, я его к тебе не поведу, и не надейся, а пойдет к тебе вот этот человек… — И он указал на Власа. — Придет к тебе, и ты еще раз повторишь, за сколько вы его берете. И побожишься! Ты потом это отмолишь. Но побожишься обязательно! И вот только тогда, после твоей божбы мы по рукам ударим и твой князь его получит. А раньше и не надейтесь. А теперь чего сидишь? Иди! И там, у Трофима, Власа жди безвыходно, понятно? Маркел ответил: — Понятно. А после встал на ноги, отряхнулся, поправил шапку и пошел. Дверь в клеть была приоткрыта, и он в нее сразу вышел.19
Маркел вышел из клети, осмотрелся и понял, что он не ошибся — это и в самом деле было то самое место, куда прятался тот красноносый. А впереди стоял тын, к нему в снегу была протоптана дорожка. Маркел пошел по ней и подошел к тыну. Там был пристроен небольшой помост. Это они на нем стояли и ждали, а я, дурень, прямо к ним полез, с досадой подумал Маркел и посмотрел наверх. Там, на гребне тына, уже сидел Филька и, согнувшись как можно ниже, тянул к Маркелу руку. Но Маркел ее как будто не заметил и попробовал лезть сам. Ведь те же сами лезли! Но тогда был день, тепло, все таяло, а теперь, к вечеру, приморозило, тын покрылся льдом и сапоги скользили. Маркел поднял руку. Филька схватился за нее и потащил Маркела. Какой цепкий пес, сердито подумал Маркел, откуда в нем, в щуплом, столько сил? И всегда вином разит! Тьфу, вонища какая! Подумав так, Маркел взлез на тын, перегнулся на ту, то есть уже на свою сторону, и мало-помалу спрыгнул. За ним спрыгнул Филька. Маркел посмотрел на Фильку и вытащил из рукава нож. Филька усмехнулся и сказал: — Чего ты это вдруг? — А ты чего?! — сказал Маркел. — Меня чуть не убили там! А все из-за тебя. — Из-за меня! — передразнил Филька. — Да если бы не я, они б тебя, точно, убили! А я все князю рассказал бы. И на дыбе повторил. Я им так и кричал, когда они тебя тащили. А ты мне теперь вон чем хочешь отплатить! Маркел постоял, помолчал, а после также молча убрал нож. Но и с места не сдвинулся. Филька сказал: — Что они тебе там велели? — Сидеть дома и никуда носа не высовывать! — сердито ответил Маркел. — Не то, сказали, как дядю Трофима, зарежут. — А ты? — А как я усижу?! Мне сейчас сидеть никак нельзя! Поэтому, я думаю, переодеться мне надо. Чтобы глаза им не мозолить. — Это можно, — сказал Филька. — У Демьянихи возьмем. Пошли! Они прошли через поленницы, вышли во двор и там, на задах же, при поварне, поднялись по лестнице и постучались в почти такую же дверь, как и у дяди Трофима. Открыла им толстая баба, увидела, что Филька не один, и сразу взъярилась. — Что?! — злобно вскрикнула она. — Одному уже скучно? Да здесь не постоялый двор! Пошли вон! — Молчи, дура! — строго сказал Филька. — Это Маркел Трофимов. — А! — протянула баба растерянным голосом и отступила от двери. — Входите. Филька и Маркел вошли, прошли через сенцы и вошли в светлицу. Там густо пахло вареным. Филька предложил Маркелу сесть. Маркел сел на лавку, а Филька, уже обернувшись к Демьянихе, важно сказал: — Дай-ка мне того, что я тебе вчера принес. — Как это «дай»?! — злобно сказал Демьяниха. — А ты что дашь? — Я завтра дам. Вот как Бог свят! — И Филька перекрестился. — И не стыдно?! — сказала Демьяниха. — Господь все видит! Он тебя покарает. — Не меня, а вот кого, — строго сказал Филька и указал на Маркела. Демьяниха стала смотреть на Маркела. И чем дольше она смотрела, тем ее лицо становилось добрее. Маркел усмехнулся. Она тоже. Маркел сказал: — Надо мне это скинуть, хозяйка… — И он распахнул полушубок. — И чем-нибудь другим укрыться. Я после отблагодарю. — И он опять усмехнулся. Демьяниха не сдержалась и хмыкнула. После сказала как бы нехотя: — Ладно. Этот черт вчера кое-чего принес. Может, на тебя налезет. Подожди. И она пошла за печь. Маркел посмотрел на Фильку. Филька был очень мрачный и нарочно смотрел в сторону. Из-за печи вышла Демьяниха и вынесла черный залатанный овчинный полушубок и такую же черную шапку. — Вот, — сказала она, — если налезет. Три алтына. Маркел вздохнул, но не стал торговаться. Скинул свой полушубок, положил его на лавку и сказал: — Это чтобы не пропало. Я в нем домой поеду. — Еще два алтына, — сказала Демьяниха. — Жаба! — гневно сказал Филька. — Жаба! Креста на тебе нет! — На мне есть, это ты свой пропил, — дерзко ответила Демьяниха и подмигнула Маркелу. Маркел покраснел. — Давай, давай! — сказал Филька. — Скоро темно станет! Маркел надел черный полушубок, нахлобучил шапку и повернулся к Демьянихе. Демьяниха сказала: — Сокол соколом! — Жаба! — сказал Филька. — Молчи, пес! — ответила Демьяниха. Маркел развернулся уходить. — А на посошок?! — воскликнул Филька. — Как господин прикажет, — сказала Демьяниха. Маркел посмотрел на Фильку, ему стало его жаль, и он сказал: — Только по одной, по маленькой. Филька аж весь зарделся! Демьяниха опять ушла за печь, а после вышла с двумя шкаликами и с хлебом, зажатым под мышкой. Филька и Маркел взяли по шкалику и выпили. После Филька достал у Демьянихи хлеб, переломил его и, отдав больший кусок Маркелу, сказал: — Ну, все, у нас дела. К ночи вернемся, если Бог даст. И они пошли к двери, жуя хлеб на ходу. Когда они сошли с крыльца, Филька схватил Маркела за рукав. Маркел остановился. Филька сказал очень сердито: — Это моя баба! Ты с ней не очень-то! — А я разве чего? — спросил Маркел, дожевывая хлеб. — Я ничего. Это она сама. — А ты дай ей в морду! — гневно сказал Филька. — Скажи, что я велел! — Ты кому это велел, мне, что ли? — строго спросил Маркел. — А что?! — задиристо спросил Филька. — А то! — сказал Маркел. — Если она твоя, так сам ее учи. И развернулся, и пошел. Филька поспешил за ним и на ходу продолжил: — Какая она ядовитая, если бы ты только знал. А какая вороватая! Придешь к ней, стучишь, стучишь, а дверь на запоре. Как будто там нет никого. А за дверью слышно: шу-шу-шу! Маркел остановился и строго посмотрел на Фильку. Потом сказал: — Государь преставился. Дядю Трофима убили. А тебе все эта баба на уме! Филька обиженно молчал. Маркел продолжил: — Я знаю, за что убили дядю Трофима. Ходил он вчера в одно место… — И быстро спросил: — Знаешь, куда? — Нет, — сказал Филька. — А что? — Так, ничего, — сказал Маркел. Помолчал, а потом осторожно спросил: — А знаешь, кто такой боярин Ададуров? — Не боярин, а думный дворянин, — сказал Филька. — Этого я очень даже знаю. Царь его в последний год крепко жаловал, к себе приблизил. Зато сейчас ему будет несладко. Так всегда бывает, если… — Не каркай! — перебил Маркел. Филька насупился. Маркел опять спросил: — Где мне его сейчас найти? — Во дворце, где же еще, — ответил Филька. — Но мне во дворец сегодня ходу нет. Слова не знаю. — Пойдешь со мной, — сказал Маркел. — Я знаю. Они развернулись и пошли. Маркел шел и думал: надо идти и самому искать, брехал пес Шкандыбин, ничем он ему не поможет, никого искать не станет! Да и как ему искать, если сам же подослал?! Вот он и мутит воду, сулит что ни попадя, а у самого только одно на уме: чтобы ты никуда не ходил, сидел на месте, под ногами у него не путался. Ну а даже сядь и посиди, а князь Семен завтра спросит, он же обещал спросить: ну, что, холоп, узнал чего? А, не узнал! А к Ефрему его! Вот тут и побежишь. Да, и опять же, как же так, дядю Трофима убили, и как же теперь это спустить кому-то?! Дядя Трофим, и тут Маркел перекрестился, ты, дядя Трофим, не гневайся, я этого дела не брошу, вот тебе крест на этом! Да и я кое-что уже узнал! Шкандыбин, дурень, проболтался, сказал, что ты ходил в Китай-город. Но, правда, Китай-город — это ого-го, это как десять Рославлей, нет, даже больше, потому что я в Рославле каждый угол, каждую подворотню знаю, а здесь я, как в диком лесу, буду искать-плутать, а у кого дорогу спрашивать? Никого я здесь не знаю! Ну, разве только Ададурова, ты же меня к нему водил. А вот теперь я к нему приду и скажу, что мне можно верить, что ты же сам ему вчера сказал, что я после того, когда тебя убьют, возьму это дело. И вот дядю Трофима убили, все получилось, как он обещал… Тьфу! Обещал! Подумается же! Маркел опять перекрестился и увидел, что они уже подошли к князя Семена воротам. Стоявшие при тех воротах сторожа открыли их сразу, без лишних вопросов. Даже еще предупредили: — Смотрите в оба. Стрельцы нынче крепко лютуют. Хватают всех подряд. — Нас не схватят, — сказал Филька. — Нам близко. Они вышли со двора, быстро перешли через дорогу и подошли к двойным Куретным проездным воротам царского дворца. А там уже даже с этой, то есть с наружной стороны первых ворот стояли стрельцы. Один из них грозно спросил: — Куда прете? Кто такие? — Государевы люди, — ответил Маркел. — Все мы государевы, — сказал стрелец. — Все-то все, — согласился Маркел, — но одни больше, а другие меньше. — И тут же прибавил: — Ладога! — Иткнул стрельцу овчинку. И еще сказал: — Этот со мной. — Копорье… Перед ними хоть и нехотя, но расступились. Маркел шагнул вперед и постучал в калитку. В калитке открылось окошко. Маркел сунул в него овчинку, еще раз сказал «Ладога», их пропустили, и они вошли в калитку. За ней было темным-темно. Но они дальше, ко вторым воротам не пошли, а свернули в сторону, к стене. Там Филька на ощупь нашел маленькую дверь, дернул ее, но она оказалась закрытой. Тогда Филька осторожно постучал в нее и таким же осторожным голосом позвал: — Михайлушко!20
Дверь медленно открылась. За ней было совсем темно. Но слышно было хорошо, как Михайлушко сказал входить. Они вошли в ту дверь, и она сразу закрылась. Маркел осмотрелся. Вокруг было темно, только в одном углу едва теплилась лампадка, а над ней была видна маленькая иконка Николы Чудотворца. Маркел перекрестился на иконку. А Филька уже о чем-то шептался с Михайлушком. Их было уже немного видно. Михайлушко, как и Филька, тоже был низкорослый и тощий, а еще он был седой, и это все, что рассмотрел Маркел. А Филька продолжал шептать. После Филька замолчал и зашептал Михайлушко. Но он шептал очень недолго. Филька, его выслушав, кратко кивнул и, повернувшись к Маркелу, сказал: — Непростые у них времена. Меня с тобой не пропустят. Если хочешь, поведет Михайлушко. Маркел посмотрел на Михайлушка. Того было почти не видно, такая там была темень. Маркел усмехнулся и подумал, что мало ли что у него на уме. Но, правда, тут же подумал, что если бы его хотели убить, то убили бы прямо сейчас: ткнули ножом в спину, и вся недолга. Маркел еще раз усмехнулся и сказал: — Тогда чего стоим? Веди! Михайлушко развернулся и пошел мимо лампадки. Маркел пошел за ним следом. Филька сказал: — Я буду тебя здесь ждать. Маркел не ответил. Он шел на слух и на ощупь. На слух — это на шаги Михайлушка, а на ощупь — это вдоль стены. Так они прошли шагов с полсотни, потом вошли в сени, где было немного света, и в нем был виден стрелец, который сидел на лавке с бердышом в руках. — Этот со мной, — сказал Михайлушко стрельцу. — А с ним овчинка. Маркел показал овчинку. Стрелец зевнул и кивнул. Они прошли дальше. Опять стало темно. После в еще одних сенях сидели (и, сидя, спали) еще четверо стрельцов, а пятый стоял возле них. Михайлушко опять замолвил слово, Маркел показал овчинку, и их пропустили. Дальше вдруг стало душно, как в бане, и жарко, и еще сбоку, за стеной, что-то хлюпало. И даже были как будто слышны чьи-то голоса. — Портомойная, — сказал Михайлушко, не поворачивая головы. После стало еще жарче, но зато запахло чем-то очень душистым и сладким. Это, наверное, уже гладильня, подумал Маркел. А после, еще в одних сенях, и там были уже жильцы, а не стрельцы, Михайлушко остановился и сказал им: — А этот к вашему, по спешному, — и указал на Маркела. Один из жильцов, посмотрев на Маркела, спросил: — Чего тебе от него нужно? Боярин спит давно. — Спит да меня во сне видит, — ответил Маркел. И показал овчинку. — Дай сюда! — сказал жилец. — Руки отсохнут! — ответил Маркел. К нему сразу кинулись. — Эй! — грозно крикнул кто-то. — Стойте! Жильцы остановились, после даже отошли назад. А их старший выступил вперед и начал рассматривать Маркела, а после спросил: — Где это я тебя видел? Маркел не ответил. — Ладно! — сказал их старший. — Там будешь отвечать. Пойдем! И, крепко взяв Маркела за рукав, повел его к лестнице. Так они поднялись на второй этаж, свернули в сторону, прошли еще мимо одних жильцов, а после наконец вошли в светлицу, посреди которой у стола возле свечи стоял Ададуров. Он был без шубы, держал руку на сабле и прикрывал рукой рот, чтобы не видели, как он зевает. Но как только он увидел Маркела, то сразу перестал зевать и даже тряхнул головой, как будто думал, что Маркел от этого исчезнет. Но Маркел не исчезал, а снял шапку и неспешно поклонился. — Ты кто такой? — строго спросил Ададуров. — Холоп твой, боярин, — ответил Маркел и еще раз поклонился. А распрямившись, прибавил: — От князя Семена я. — А! — сказал Ададуров, бледнея. — Вот как!.. И сделал знак, чтобы жилец ушел. Жилец вышел из светлицы и мягко прикрыл за собой дверь. — Ну! — строго сказал Ададуров. — От какого ты князя? — От Лобанова-Ростовского, — сказал Маркел. — И что он тебе велел? — Пока что ничего. — Тогда чего пришел? — Меня дядя Трофим прислал. — Дядя Трофим? — переспросил Ададуров. — Какой еще дядя Трофим? — Пыжов Трофим, — сказал Маркел. — Князя Семена человек. Он у тебя вчера был. И ты ему платок пожаловал. — Какой еще платок?! — негромко, но очень сердито спросил Ададуров. — Да что ты мелешь, пес?! — Я не мелю, — сказал Маркел. — Я только повторяю то, что мне дядя Трофим сказал. — А чего он, этот твой дядя, сам за себя не скажет?! — А он сказать уже не может. Ададуров помолчал, а после с опаской спросил: — Что с ним? Маркел вместо ответа медленно перекрестился. — А! — тихо воскликнул Ададуров и тоже перекрестился. И опять молчал. — Что «а»?! — сказал Маркел. — Хочешь знать, что с тем платочком? — Каким еще платочком, пес?! — очень сердито, но зато только чуть слышно спросил Ададуров и еще сделал знак, чтобы Маркел подошел к нему ближе. Маркел подошел и тоже очень негромко продолжил: — С тем самым платочком, боярин, который ты ему вчера пожаловал. Так вот пропал тот платочек! Я не знаю, где он. А если его вдруг кто найдет да развернет, ох, сколько разговоров после будет! Чей это платок, будут гадать. А если вдруг узнают? Он же вышивной был, я же видел! — И что? — тихо спросил Ададуров. — А вот что, — так же тихо ответил Маркел. — Пособи мне, боярин, найти тот платочек. Когда дядя Трофим домой вернулся, платочка при нем уже не было. Я сам смотрел! А он ничего уже не говорил. Он только успел сказать «Шапка!» и помер. — Чего он вдруг помер? — спросил Ададуров. — Не помер он, — сказал Маркел. — Зарезали его, вот что! — Как это вдруг зарезали? — А очень просто. У нас во дворе. Выскочил вдруг человек и ножом его вжик — и зарезал! И через тын к Бельскому. — А! — хищно сказал Ададуров. — К нему! Я так и думал… — Почему? — Так, почему-то вдруг почуялось, — без всякой охоты сказал Ададуров. Потом еще сказал: — Караулил тот его. — А раньше почему не караулили? — спросил Маркел. — Ну, мало ли, — ответил Ададуров. — Может, такой нужды не было. — И вдруг появилась! — воскликнул Маркел. — Только ты дал ему платок и только он сходил с ним на посад, так сразу появилась! Га! Я к нему кинулся, вот тут сразу залез, а там нет ничего. А он улыбается и говорит: «Шапка, Маркелушка, шапка!» И помер. — Какая еще шапка?! — спросил Ададуров. — Вот и я тоже хочу, узнать, какая, — ответил Маркел. — Но сперва я хочу узнать, куда пропал платок. — Ну! — тихо сказал Ададуров. — Я-то откуда могу это знать? — Но ты же знаешь, куда он ходил?! С тем платочком не ко всякому пойдешь, ведь так? — Ну, может быть… — ответил Ададуров. — И вот он пошел, — продолжил Маркел. — С твоим платком. Сам знаешь, для чего! А еще мне знающие люди говорили, что он пошел в Китай-город. А теперь скажи: кто в Китай-городе живет, кому бы он мог этот платок снести? А если даже бы и снес, то разве бы оставил там? Или, может, просто потерял и теперь этот платок валяется там где-нибудь под лавкой и вдруг его там кто найдет? Ададуров молчал. Тогда Маркел продолжил: — Если тот платок найдет недобрый человек, тогда быть беде. А вот если б я его нашел, то сразу бросил бы в печь. Пусть горит! А с нами крестная сила! Сказав это, Маркел перекрестился. Ададуров помолчал, подумал, а потом заговорил — опять чуть слышно: — Я думаю, что он, скорей всего, ходил к Домне Козлихе. И это уже не Китай-город, а еще дальше, за ним. На Кулишках, вот где это, за Николой Чудотворцем в Подкопаях, там все ее знают. Так и спрашивай: Домна Козлиха. А ей скажешь так: тебя Яремка плешивый прислал. Не Федька, а Яремка, понял? — Какой еще Яремка? — спросил Маркел. Ададуров ничего на это не ответил, а только приподнял шапку и немного склонил голову. На темени у него и в самом деле была небольшая плешь. Маркел молча кивнул. Ададуров надел шапку и прибавил: — Но если тебя возьмут и ты станешь юлить и, паче того, на меня наговаривать, то я скажу, что платочек у меня украли, а то, что в платочке, отщипнул Трофим, когда государь еще не прибран был. Он же хотел отщипнуть, ты сам это слышал. Слышал, а не донес! И тебя за укрывательство на дыбу! И Ефрем там тебе не спустит! А Шкандыбин, который сюда прибегал и про лопаря выспрашивал, Ефрему еще и доплатит, чтобы тот тебя крепче сек. И засекут тебя! Так что не стой, Маркел, я помню, как тебя зовут, не стой, а беги в Подкопаево, к Домне, пока еще не поздно. Ну! — И он даже махнул рукой. Маркел развернулся и пошел к двери. — Вернешься, придешь и расскажешь, — сказал Ададуров. Но Маркел на это даже головы не повернул, а как шел, так и вышел оттуда.21
А дальше было так: тот самый жилец отвел Маркела вниз, к рундуку на первом этаже, и ждавший там Михайлушко повел Маркела обратно. Вначале было просто темно, а после опять стало душно, и Маркел подумал, что это они проходят мимо портомойни, значит, уже почти пришли. Так оно вскоре и случилось — Михайлушко остановился и вполголоса окликнул: — Филя! Филька не отозвался. Михайлушко еще немного подождал, а после гневно воскликнул: — Ах, сучий сын! И резко шагнул в сторону, толкнул невидимую дверь. Дверь отворилась. За ней горел свет. Михайлушко шагнул туда. Маркел вырвал нож из рукава, быстро шагнул за ним… И увидел Фильку, который стоял возле открытого поставца и закрывал рот локтем. На поставце стояла чарка. — Сучий сын! — еще раз сказал Михайлушко. — Разве так можно?! — Это не я! — дерзко ответил Филька. — Я только что сюда зашел, а это уже здесь было. — Тьфу на тебя! — сказал Михайлушко. Филька, не глядя на него, спросил, обращаясь к Маркелу: — Чего он лается?! Ему что, чарки жалко? Да я, знаешь, сколько своих чарок в него влил? И ни одной не жалко! А он эту пожалел… — И, опять повернувшись к Михайлушку, насмешливо прибавил: — Помирать тебе уже пора, а ты все за свое дрожишь! — Я не дрожу… — начал было Михайлушко. Но тут Маркел поднял руку и Михайлушко замолчал. А Маркел, глядя на Фильку, начал говорить: — Нашел время, когда водку жрать. У нас, знаешь, сколько еще всяких дел сегодня? Нам еще надо на посад идти. Преспешно! — На посад! — повторил Филька. — Какой сейчас посад?! Скоро ночь, ворота все уже закрыты. Да они с утра не открывались! Так, Михайлушко? Михайлушко кивнул, что так. — Вот и все, — сказал Филька. — А ты говоришь: дела! И он опять потянулся за чаркой. — Не тронь! — строго велел Маркел и поднял руку с ножом. — Тьфу! — гневно воскликнул Филька, но чарки не взял. Маркел опустил нож и сказал: — Это не моя придумка. Это мне князь велел: пойти сегодня и узнать! А завтра прийти к нему и рассказать, где был дядя Трофим и что он там делал. — Ну и?.. — спросил Филька. — И я знаю, где он был! — не без гордости сказал Маркел. — Где? — спросил Филька. — Выйдем за ворота, там скажу. — За ворота… — криво усмехнувшись, сказал Филька. — Михайлушко, да объясни ему, что это не Рославль, а это Москва, дубина! И это царев двор! И это царя хоронят. Да здесь, знаешь, сколько сейчас везде стрельцов понатыкано? Ты их здесь на воротах видел? И так по Кремлю сейчас и на стенах стоят, и на башнях! И пушки везде повыкатывали. Мышь теперь нигде не прошмыгнет, а ты «пойдем!», «пойдем!». Тьфу, деревенщина! Маркел опять поднял нож и повернул его так, чтобы свет играл на лезвии. Филька презрительно сказал: — Михайлушко, охолони его. Михайлушко, повернувшись к Маркелу, сказал: — Филя дело говорит: сейчас весь Стремянный полк не спит, а их полковой голова, как ошпаренный, туда-сюда бегает, приказы раздает. Я сам видел, как они одного подьячего остановили и, ничего не говоря, его сразу мордой в грязь и сапогами его, сапогами! Мимо шли люди, стали заступаться, спрашивать, тогда и их всех в грязь. И их тоже сапогами. — Но дядя Трофим как-то вышел, — сказал Маркел. — Так это когда было? Считай, прошлой ночью, — сказал Филька. — С того часа много чего изменилось. Да вот хоть бы Лука Иванович пропал. — Какой Лука Иванович? — спросил Маркел. — Голова Стрелецкого приказа, — ответил Михайлушко. — Утек Лука Иванович. Вместе с ключами и печатью. Федька Сазонов бегал, рыкал, аки лев: где Лука?! А нет Луки. Маркел молчал. Михайлушко стал прибавлять: — Федька Сазонов, голова Стремянного полка. Их слобода здесь, близко, в Занеглименье. Как только государь преставился, Богдашка Бельский свистнул клич, и они живо явились. И позакрывали сразу все ворота! Вот так! Покуда Борька Годунов расчухался, покуда своих людей послал, было уже поздно. — Да и не дошли они, — с досадой сказал Филька. — Их на Фроловских перехватили. И повязали. — Не всех! — сказал Михайлушко. — А кое-кто, говорили, ушел. — Ну, может, и ушел, — не стал спорить Филька. — Да только теперь чего? Богдашка с Федькиным полком Кремль крепко держат и никого сюда не пустят. Я сам видел: уже все пушки на раскаты выкачены, и пушкари при них стоят, и фитили у них у всех зажженные. Только стреляй! А годуновские стрельцы еще в Замоскворечье, в слободе. — Они еще не годуновские, — сказал Михайлушко. — Будут годуновские, — ответил Филька. — Годуновская мошна бездонная. Всех купит! А это девять полков. А у Богдашки один. — Зато на стенах! — радостно сказал Михайлушко. — И с пушками! — У замоскворецких тоже пушки есть. И добрые дружки найдутся, и эти дружки им ворота откроют. — Не откроют! А если и откроют, то будет поздно. Богдашка к тому времени сосунка на трон посадит. — Не посадит! — почти крикнул Филька. — Не по закону это! — По закону! — заревел Михайлушко. — Богдашка говорил, что по закону, что государь сам говорил, что Федька-царевич умом слаб, нечего ему на царстве делать, а посадите лучше сосунка, а при нем, пока он сосунок, поставьте моего Богдашку. — Когда он такое говорил? Брехня это! — Нет, не брехня! Родька тоже это слышал… — Тише! — грозно приказал Маркел. — Тише, я кому сказал? Михайлушко и Филька замолчали. Маркел спросил: — Что-то я не понимаю, какой сосунок? И что царь говорил? — Не говорил он ничего такого, — сердито сказал Филька. — Это Богдашка так брешет. — Нет, не брешет! Говорил! — опять громко сказал Михайлушко. — Говорил, что государь Иван Васильевич вчера, перед тем как преставиться, сказал, что старший его сын Феодор слаб духом и телом и поэтому он, царь, не хочет оставлять ему царство, а лучше он оставит его своему младшему сыну, Димитрию, а в дядьки к Димитрию, пока он в силу войдет, поставить Богдана Бельского. Филька на это только хмыкнул. Маркел тоже усмехнулся. — Когда это он такое говорил? — начал Маркел, вспоминая, что ему про это сказал князь Семен. — Нет, Михайлушко, там все было не так. А вот как: государь собрал всех бояр в Тронной зале и велел… — Э! — сказал Михайлушко. — Про Тронную залу мы знаем. Но после он еще раз говорил. Когда всех уже из залы выгнали, вот когда он это говорил. Когда при нем были одни только Бельский с Годуновым. И еще был Родька Биркин. Царь с ним играл в шахматы и при этом говорил, что сын его Федор слаб… — Не говорил он такого! — вскрикнул Филька. — Не говорил! Врет Богдашка! А вот Борис Федорович правду говорил, что царь тогда сказал: племянник мой Борисушка, вручаю тебе своего сына старшего Феодора… — Врет! — вскрикнул Михайлушко. — Врет! — Нет, не врет! — гневно воскликнул Филька. — Это Богдашка так его просил: отринь сына Федора! А государь на эти его подлые слова крепко разгневался, схватил шахмату и покраснел весь, щеки посинели, глаза из глазниц полезли, язык высунулся… И повалился на пол, раз-другой дрыгнулся и помер. А может, и не раз. Может, он долго дрыгался. А эти… Да чего и говорить! Вот где уже страху натерпелись! Родька говорил: боялись шелохнуться! Так они и простояли, как столбы, пока поп Федоска, государев поп крестовый, не зашел, посмотрел на это все и говорит: так он же мертвый, идолы! Куда вы смотрели? И к нему. И ну читать отходную! Да только какая уже отходная, если он почти окоченел. Вот как государь преставился. Маркел подумал и спросил: — Откуда ты все это знаешь? — Родька рассказывал. — Тебе? — Нет, зачем мне. Параске. Она с ним родня. — Параска? Какая Параска? — Как какая? Да та самая. Твоя Параска! За стенкой! И Филька гыгыкнул. У Маркела загорелись щеки, и он сердито сказал: — Ты мне тут не гыкай! Тут государево дело. — Вестимо… Маркел задумался. Взяло его сомнение! А что, подумал он, может, и в самом деле никуда пока что не идти, а только к Параске… И еще сильнее покраснел, но зато твердо сказал: — Ладно, об этом после. А пока, как князь велел, надо идти на посад. Как хочешь, Филя, а чтоб вывел! — Так ты же говорил, что и так знаешь, куда он ходил. — Знать-то знаю, но нужно проверить. Потому что мало ли что вдруг! Филька молчал. Маркел повернулся к Михайлушку и приказал: — Налей ему! Но немного. Михайлушко вздохнул и начал наливать. Налил и отступил. Филька смотрел на чарку и не шевелился. Так он стоял немало времени. Потом вдруг резко подступил, взял чарку, посмотрел на образа, что-то быстро шепнул про себя и начал пить. Пил он медленно, сжав зубы. А когда допил, поставил чарку на место и решительно сказал: — Ну, ладно! Есть одна дорожка… Не хотелось мне по ней идти, но что поделаешь, князь просит. — И, повернувшись к Михайлушку, спросил: — У тебя крепкая веревка есть? — Для тебя всегда найдется, — ответил Михайлушко. — И даже удавку навяжу. — Удавку пока что не надо, а только руки завязать, — сказал Филька без всякой обиды. — И, обращаясь к Маркелу, прибавил: — Поведешь меня, будто злодея. Нам бы только до стены дойти. — Ты что, — спросил Михайлушко, — хочешь идти через Судный? — Нет, — ответил Филька. — Через Судный уже поздно. Мы через Дальний застенок пойдем. — Где это? — спросил Маркел. — Я покажу, — ответил Филька. — Ты только смотри внимательно. Я буду веревку дергать. Куда дерну, туда поворачивай. И нам идти не близко, а через весь Кремль, так что смотри, не ошибись. — И, опять повернувшись к Михайлушку, строго сказал: — Чего встал? Давай веревку! Михайлушко подал веревку. Маркел связал Фильке руки и, как его учили дома, в Рославле, еще перебросил ему через шею и даже потянул для верности. Филька немного ослабил веревку. Маркел промолчал. — Ну, — сказал Михайлушко, крестя их, — Христос вам в помощь. Филя, вернешься, с меня чарка. — Две! — сказал Филька. — Пусть две. Сказав так, Михайлушко прошел вперед, открыл им. Они, то есть Маркел и Филька, вышли, подошли к воротам. Стрельцы, увидев Фильку на веревке, молча удивились, но только их старший вслух спросил, в чем дело. — Да вот, водил его в Ближний, — ответил Маркел, — а теперь велели вести в Дальний. — Что такое? — Дело государево. Стрелец больше не спрашивал. Маркел назвал Ладогу, и им открыли.22
За воротами, то есть уже не во дворце, а просто на кремлевской улице, где, кстати, тоже стояли стрельцы, никто уже Маркела ни о чем не спрашивал (потому что, наверное, и так все слышали), и Маркел с Филькой сразу пошли дальше. То есть Филька дернул за веревку вправо, и Маркел туда и повернул. Когда они немного отошли, Филька вполголоса сказал: — Эх, сколько их здесь везде! А через Судный — это было бы совсем рядом. Там еще даже огни горят. Сам посмотри! Маркел как бы между прочим оглянулся и увидел, что сзади, и в самом деле, всего в какой-нибудь полусотне шагов, рядом с закрытыми Ризположенскими кремлевскими воротами стояла небольшая каменная пристройка и в ней горело два окна. — Судный приказ, — сказал Филька, не поворачивая головы. — А под ним Судный застенок. А от застенка пролаз на ту сторону. Но там сейчас не пройти. — И спросил: — А за Кремлем нам куда дальше? Маркел усмехнулся и ответил: — Когда выйдем, тогда и скажу. И вдруг, ничего не объясняя, поднял конец веревки и стеганул им Фильку. После второй раз стеганул. Это они подходили к еще одному стрелецкому караулу, и Маркел решил, что такая его строгость пойдет им на пользу. И так оно и вышло — стрельцы не стали их останавливать. С того и повелось — Маркел время от времени постегивал Фильку, а тот также то и дело подергивал веревку, и Маркел каждый раз поворачивал в нужную сторону. Час был вечерний, народу на улицах почти что никакого не было, встречались только стрелецкие караулы. Иногда от них кто-нибудь спрашивал, куда это Маркел идет, и он тогда отвечал, что он идет в Дальний застенок, ведет человека, и при этом доставал овчинку. Так они прошли вначале мимо двора Бельского, после Чудова монастыря, как сказал Филька, а после через широкую площадь, где тогда еще не было колокольни Ивана Великого, потому что это еще только через двадцать с лишним лет… И ладно! А перейдя через площадь, дальше они прошли между двумя обширными боярскими дворами и наконец вышли к Кремлевской стене и небольшой при ней башне с воротами. Филька сказал, что это Константиновская проездная башня, а за ней, с той стороны стены, сразу будет Пыточная башня, или, правильней, Дальний застенок, и им как раз туда и надо. Возле Константиновских ворот тоже стояли стрельцы, и здесь их было с два, а то и с три десятка. И на стене были видны стрельцы, и на башне. Там же была видна и пушка. — Спрашивай Данилу, — сказал Филька. Они прошли еще немного и остановились перед самыми стрельцами, которые стояли на мостках при башне и загораживали вход в нее. Маркел достал овчинку, поднял ее над своей головой (и над головами стрельцов тоже) и громко окликнул: — Данила! Мы к тебе! Стрельцы продолжали стоять. Маркел еще раз окликнул Данилу. Стрельцы вдруг стали расступаться, и из-за их спин вышел, надо было полагать, Данила — крепкий еще подьячий лет под пятьдесят без шубы, а только в одной суконной однорядке. Маркел дернул Фильку за веревку и сказал: — Принимай, Трофим прислал. — Какой Трофим?! — настороженно спросил Данила. — Пыжов Трофим! — сказал Маркел. — Ты… — начал было Данила, но, глянув на Фильку, сразу оживился и сказал: — Пыжов! Пыжов! Совсем запамятовал! Так это вы из Разбойного. Давай его сюда, скотину эту. Теперь уже Данила схватил Фильку за веревку и потащил его за собой в башню. Маркел пошел за ними, стрельцы перед ним расступились. Когда Маркел вошел в башню, он видел (но не слышал), как Данила что-то спросил у Фильки, Филька ему что-то ответил, и они пошли дальше прямо. Маркел пошел за ними. Данила держал Фильку крепко, согнув его в три погибели и при этом еще отвешивая ему то подзатыльник, то затрещину. Да и еще приговаривал всякое, не выбирая слов. Так они быстро прошли через башню. Возле наружных ворот Данила приказал Маркелу пособить, и теперь они уже вдвоем свели Фильку в калитку и повели по мосту через ров. Ров был широкий, саженей больше десяти, и лед там был мелко поколот, вода чернела гадкая-прегадкая. — Три раза с головой! — сказал Данила с гордостью. Маркел пока молчал. Он смотрел по сторонам. Прямо впереди на другом конце моста стояла невысокая, так называемая Пыточная башня, а дальше за ней, через площадь, именуемую Красной, правильней — Пожар, были видны торговые ряды — от края и до края. Вот где деньжищ, где товаров, с невольным почтением подумал Маркел и, чтобы лучше видеть, даже немного прищурился. Но было уже довольно темно, поэтому рассмотреть там что-нибудь подробно не представлялось никакой возможности. Да и времени не было тоже, потому что они уже подошли к Пыточной башне, а так как стрельцов при ней не было, то и сразу вошли внутрь. Внутри было темно и тепло. Оно и понятно, пыточная, подумал Маркел, здесь всегда много огней горит, не зря Данила ходит в одной однорядке, шуба ему здесь не нужна. Также и Даниловы подручные, которые вышли навстречу, тоже все были легко одеты, а кто и вовсе без шапки. — Чего повылезали, ироды?! — строго сказал Данила. — Кто вас сюда звал? Подручные немного отступили. Данила, больше не обращая на них внимания, подошел к лестнице и начал спускаться по ней. Филька, которого он больше не держал, подобрал веревку и пошел за ним. Маркел пошел за Филькой. Лестница была хоть и крутая, но короткая. Они спустились на один этаж и оказались в большой каменной хоромине. Хоромина была совсем пустая, там только вдоль стен стояли лавки, но никого и ничего на них не было. А в стене горели фитили. Фитили сильно коптили, и дух в хоромине был очень тяжкий. Но они в хоромине не задержались, а сразу прошли дальше, вошли в проем без двери, за которым была еще одна лестница, которая вела наверх. Наверху они попали в небольшую горенку. Там было все, что надо: стол, две скамьи, в углу лавка для спанья, в красном углу иконы. На столе в плошке горел огонь. Окно возле стола было закрыто. Данила подошел к окну и немного приоткрыл его. Сразу дохнуло свежим воздухом. И еще было видно, что во дворе стало уже совсем темно. Данила предложил садиться. Маркел и Филька сели. Данила, не садясь, спросил: — Так что с Трофимом? Зарезали его? Филька утвердительно кивнул. — А вы теперь чего? Хотите поквитаться? Филька опять кивнул. — С кем? Филька посмотрел на Маркела. Маркел сказал: — Поквитаться сразу не получится. Сперва надо сходить на посад. — Куда? Зачем? — спросил Данила. — Живет там одна баба, — уклончиво ответил Маркел. И прибавил: — Она много знает. — Знает, кто его убил? — И это тоже. — Как ее звать? Маркел подумал и сказал: — Я этого пока что сказать не могу. Данила усмехнулся и спросил: — А когда сможешь? — Когда выйду на посад. Данила помолчал, потом спросил: — А знаешь, что мне будет, если вдруг узнают, что я живого человека из Кремля выпустил?! — Твоя воля, — ответил Маркел. — Только я ведь тоже знаю, что со мной будет, если меня там вдруг возьмут. — Как это там возьмут? Кто будет знать, что ты там? Маркел в ответ только хмыкнул и начал осматривать стены, а потом в одном месте даже приложил к стене руку. — Никого там нет, — сказал Данила. — Может, и нет, — сказал Маркел. И, обернувшись к Фильке, прибавил: — Зачем ты меня вел сюда? — Ладно! — сказал Данила. — Бог с вами. Возьму грех на душу. И, перегнувшись через стол, открыл окно еще шире. Темнота там была непроглядная и, было слышно, капало. — Дождик пошел, — сказал Данила. — Хозяйке от меня поклон! Маркел спросил: — Какой хозяйке? — Га! — вместо ответа громко выдохнул Данила. — Дождик, говорю. Весна. Это к добру! И встал. Филька и Маркел встали за ним. Филька уже снял с себя веревку и на всякий случай запихал ее за пазуху. Данила повел их из горницы. Дальше они свернули в темный переход и там прошли немного, после сошли по лестнице и остановились. Рядом кто-то подскочил и начал тихо восклицать спросонья: — Кто здесь? Кто здесь? Убью! — Свои, — строго ответил Данила. — Открывай, свинья. — Не велено! — А вот пощекочу! И что-то блеснуло, скорей всего, нож. Тот невидимый испуганно заойкал и начал погромыхивать засовами. — Полегче! — пригрозил Данила. — Всех чертей разбудишь! Невидимый затих, после что-то со скрипом сдвинулось, после низко запела петля… И отворилась калитка, дохнуло мокрым ветром, и где-то вроде заблестели огоньки. — Выходите! — приказал Данила. — Быстро! Маркел и Филька шагнули вперед. Кто-то толкнул Маркела в спину. Маркел еще шагнул вперед, и калитка за ним закрылась. Опять стало тихо. Сыпал мелкий теплый дождь. Маркел стоял, дышал всей грудью и ждал, когда глаза привыкнут и станут больше видеть. Филька сказал: — Вот мы и вышли. Теперь можешь говорить. — Где это мы? — спросил Маркел. — На Пожаре, перед торгом, — сказал Филька. — А еще дальше, прямо — Китай-город. Маркел усмехнулся и сказал: — Вот нам как раз туда и надо! И пошел вперед, не разбирая дороги. Под ногами было слякотно. Филька, идущий сбоку, опять спросил: — Так куда же это мы идем, Маркел?! — Я же сказал: в Китай-город! — ответил Маркел. И вдруг прибавил: — А дальше в Подкопаево. К Домне Козлихе. — К Козлихе! К ведьме! Мать твою… — громко воскликнул Филька и остановился. Маркел тоже. И спросил: — А что такое? — Так, ничего, — ответил Филька. — А зачем тебе туда? — Дядя Трофим туда ходил перед тем, как его зарезали. — А, вот оно что, — уже совсем негромко сказал Филька. — Так, может, ты еще знаешь, зачем он туда ходил? Маркел подумал и ответил: — Я тебе этого сказать не могу. — Тогда и тебя скоро зарежут, — сказал Филька. — За то, что я не скажу? — Нет, а за то, что много знаешь, — сказал Филька. — А меня, может, еще помилуют, если ты будешь молчать! — Это он прибавил уже не так мрачно, а даже как будто с усмешкой. — Так что, пойдем? — спросил Маркел. — Ты знаешь, где она живет? Филька молчал. — Ладно! — сказал Маркел. — А где Подкопаево, знаешь? — Это знаю, — нехотя ответил Филька. — Ну так и веди меня туда! А дальше будет видно. Они опять пошли по площади. Филька вдруг сказал: — Сейчас, говорят, в Москве очень неспокойно. Разбаловался народ, никто за ним не смотрит, все царя хоронят. Караулов нигде нет. Как бы нам дойти живыми… — Иди, иди! — сказал Маркел. — Если что, вали все на меня. Скажи, где я служу, скажи, что у меня овчинка, и тебя, может, отпустят. — Нехорошо так говорить! — с обидой сказал Филька. — Как умею, — сердито ответил Маркел. И на этом они замолчали. Перешли через площадь, пошли вдоль рядов. Ряды были закрыты рогатками. Идти вдоль рядов пришлось долго. Но вот наконец Филька нашел незагороженный проход, и они свернули на него. После проход закончился, и они вышли в улицу. Филька сказал: — Это Варварка. Запоминай на всякий случай. Маркел осмотрелся. С обеих сторон стояли высоченные ограды — тыны. Филька свернул вправо, и они пошли вдоль правой стороны. Вдруг луна зашла за облака, и сразу стало темно-претемно. Они еще прошли немного, уже почти на ощупь…23
Вдруг рядом кто-то засвистел. — К стене! — крикнул Филька. Но это и так было понятно. Маркел отскочил к стене, встал к ней спиной и вынул нож. Филька стоял рядом, Маркел слышал, как он жарко дышит. А еще было слышно, как к ним подбегали. Но и наверху кто-то сопел! Маркел поднял нож. И очень вовремя: сверху, с тына, кто-то повалился, Маркел ткнул ножом. Этот, сверху, заревел от боли. Маркел отскочил в сторону. Этот упал в снег. Маркел отступил обратно, ступил на него ногой. И тут подскочили те, из темноты. Маркел быстро повел ножом туда-сюда и выступил вперед. Еще повел. Попал в кого-то. Кто-то заорал. И вдруг Маркела сбили, он упал, и его начали месить ногами. Маркел катался по снегу, как мог, закрывался локтями, хватался за кого-то, рвал на себя, опять катался. На него попадали и стали прижимать к земле, выкручивать руки, душить, выдавливать ему глаза. Маркел рвался, рвался — и вырвался! Вскочил и сразу отскочил к стене, выставил вперед руки и крикнул: — Давай! Кто первый?! Снесу голову! Тут как раз вышла луна и развиднелось. Эти, чужие, стояли от Маркела шагах в пяти-шести, их было несколько, еще один лежал в снегу, а еще один, рядом, сидел. А сбоку от Маркела, совсем рядом, стоял Филька. Он держал гирьку на веревке. Пригодилась, подумал Маркел о веревке и улыбнулся. От улыбки заболели губы. Они же были все разбиты, а слева еще и разорваны. И зубы тоже кровянили. — Вы кто такие? — спросил один из чужих. — Мы кремлевские, — ответил Филька. — А вы кто? — Мы здешние, варварские. — Может, Вавилу Костолома знаете? — Вавилу как не знать! — Поклон ему, — продолжил Филька. — И спросите, когда долг отдаст. Скажите: Филька спрашивал. Филька Шептало. — Шептало! — повторил тот самый из варварских. — А я Гридя. — Гридя Весло, слыхали, — сказал Филька. — Га! Правильно! — сказал Весло. И, обернувшись к своим, объяснил: — Это наши, братцы. — И велел сидящему в снегу: — Вставай, дубина! Сидящий только мотнул головой, но не встал. — Крепко вы его… — сказал Весло. — Но ладно. Сам виноват. Кто это на нож лезет? — И, повернувшись к Маркелу, спросил: — А ты кто? — А я Маркел Косой. — Отчего — Косой? — Оттого, что кошу широко! И Маркел резко повел ножом справа налево, а после обратно. — Коса! Коса! — сказал Весло. — Закосил моих двоих, скотина. — Винюсь, — сказал Маркел. — Шибко спешили. — Куда вам теперь спешить? — насмешливо спросил Весло. — Царь-государь преставился. Это же у вас там самая житуха начинается! Ведь же всегда, когда старый хозяин помер и его еще не закопали, а новый еще не пришел, бери, чего душе угодно. Га-га-га! — И вдруг спросил: — А это правда, что как только царь того, бояре сразу кинулись его казну грабить и между собой делить? — Да что ты такое мелешь! — вскричал Филька. — Как это бояре будут грабить? Они же бо-я-ре! — сказал он, как глухому, по складам. — Ну и что? — сказал Весло. — А чего они тогда закрылись? Когда грабят, всегда закрываются. Филька быстро глянул на Маркела. Маркел усмехнулся и сказал: — Закрываются, чтобы самих не ограбили. Так и у них теперь. Откуда-то пустили слух, а, может, и не слух, что посадские собрались в Кремль — прийти и пограбить. — Га! — злобно сказал Весло. — Нашли дураков. Кто же это к вам теперь полезет, когда вы вон сколько стрельцов на стены выставили и пушек выкатили. Я знаю, зачем этот слух. Чтобы мы пошли, а вы по нам сверху шарах! И, может, царь Иван совсем не помер, а вот такую потеху придумал: прикинусь мертвым, лягу в гроб, эти дурни придут меня грабить, а мои стрельцы по ним из пушек, из пушек! — Брехня! — сказал Филька сердито. — Когда это царь так шутил? — А когда Девлет-Гирей к нам приходил! Тогда царь тоже притворился, что хворает, Девлет загнал всю свою орду сюда, в Замоскворечье, подступил к самому Кремлю… И тут мы Москву и подожгли! И всю татарву пережарили! — А сколько еще своих туда же? — сказал Филька. — Ну, был грех, — не стал спорить Весло. — И ладно про это! А сами вы теперь куда идете, что награбили, куда теперь несете схоронить? — Да ничего мы не награбили, — сказал, усмехаясь, Маркел. — А все честным трудом нажито. И теперь мы несем этот труд одной ведьме. Шибко она просила. Не заминайте, говорила, мне это до свету нужно. — Что — это? — спросил Весло. — А вот такая хреновина… — Маркел достал овчинку и показал ее. Весло ступил к нему. Варварские шагнули за ним следом. Маркел держал овчинку орлом к свету. — Что это? — спросил один из варварских. — Дурень! — презрительно сказал Весло. — Это приказная бирка. Царский знак! — и потянулся к ней рукой. Маркел сразу убрал овчинку за спину. Весло спросил: — Где взял? — Снял с одного молодца, — сказал, усмехаясь, Маркел. — Косанул, а после снял. — Да за это, знаешь, что бывает? — со страхом, но и с уважением спросил Весло. — За молодца таковского?! — Знаю, — ответил Маркел. — Но кому там сейчас до этого? Сам понимаешь: государь преставился. Ну, и мы… Как это? Вот добыли такую вещицу. И теперь к ведьме идем, она нам за это много чего посулила. — А ей она зачем? — Хочет какое-то зелье сварить. — А, ну да, — сказал Весло. — Знаменитая вещь! От всех болезней. И от головы. Совсем от головы. Га-га! Варварские заусмехались. — А сколько ведьма за нее дает? — спросил Весло. — Нам с Филей хватит, — ответил Маркел. — Это хорошо, — сказал Весло. — А нас в долю возьмешь? — За что это? — Да как за что? А чтобы с вами ничего в дороге не случилось. А то вам сперва туда ее нести, а после идти обратно. А в дороге всякое бывает! — А… — начал было Маркел. Но Филька перебил его, сказал: — Это верно! Нам же еще через Варварские идти, а у вас там рука. — Рука! Рука! — сказал Весло. — И ключик! Варварские ворота — наши. Заплатил — и милости прошу туда, обратно. Сколько она вам посулила? — Три рубля, — сказал Маркел. — Га! Скажи еще, что три алтына! — сердито воскликнул Весло. — Да я что, ничего не понимаю? Это чтобы государева человека зарезать, и это всего за три рубля! А я так думаю, это такое дело, что не меньше десяти потянет. Маркел молчал. — Десять рублей, — сказал Весло. — Это можно. Потому что это же ого, это на какую силу замахиваешься! Поэтому десять, и то просто потому, чтобы скорее сбагрить. И делим так, по справедливому: пять вам и пять нам. Филька быстро глянул на Маркела. Маркел согласно кивнул. Филька весело сказал: — Годится! По рукам! И протянул свою руку. Но Весло на нее даже не глянул, а посмотрел на Маркела. Маркел протянул свою. Весло пожал ее. Филька разбил. — Ладно сладилось, — сказал Весло. — Тогда, значит, так. Я даю вам Митю, Митя доведет вас до Варварских ворот и проводит через них, и вы дальше сами пойдете, по своим делам. А мы вас там, в воротах, подождем. Вернетесь, посчитаемся. А не вернетесь — встанете на нож. Так? — Так, — сказал Маркел. Весло подал руку. Маркел ее пожал. Филька разбил их руки. — Крепче божбы! — сказал Весло. — Вестимо! — сказал Филька. Вышел Митя, худой мужичонка с разбитой губой. Весло спросил: — Слышал, что я говорил? Митя утвердительно кивнул. — Идите! И они, то есть Маркел, Филька и Митя, пошли дальше по Варварке. Луны опять почти не стало видно, опять пошел дождь, благо еще, что мелкий.24
Вначале они шли молча. И на посаде было тихо, даже собаки не лаяли. Только дождь негромко шелестел да ноги в грязи хлюпали. — Хорошо у вас, — сказал Маркел. — Ни сторожей, ни псов. — Ни объезжих караулов! — сразу же прибавил Митя, насмешливо хмыкнул и еще сказал: — Вот как оно живется без царя. Вольно! — Ну, меня царь не очень-то неволил, — ответил Маркел. — Не до меня ему было. — Да и до меня тоже не очень, — согласился Митя. — Но три года на цепи я просидел. — И тут же спросил: — А правда ли, что бояре в Кремле царевичу Федору крест на царство целовать не стали? — Я такого не слыхал, — сказал Маркел. — Да и какое мне до этого дело? А тебе какое? — Мне большое, — сказал Митя. — Царевич Федор нравом робкий, при нем нам будет слабина. А младший, Дмитрий, говорят, звероватый. С зубами родился, кормилицам титьки обкусывает! — Откуда ты такое взял? — сердито спросил Филька. — Люди говорят, — ответил Митя. — И еще говорят, что замутились бояре и поцеловали крест Дмитрию, поэтому и заперлись в Кремле. Ну да ничего! Правда наружу выйдет! Наши стрельцы сойдутся… — Какие еще ваши?! — сердито перебил его Филька. — С Большой Слободы, с Замоскворечья, — с достоинством ответил Митя. — Девять полков! И наведут в Кремле порядок! А вы чего идете в Белый город? К какой ведьме? — К какой надо, — ответил Маркел. — Это хорошо, если к какой надо, — охотно согласился Митя. — Надо снять с бояр колдовство. Пусть они по правде судят, пусть называют Федора, а не этого змееныша! — И уже вполголоса спросил: — Так вы за этим идете? Маркел промолчал. — Значит, за этим… — сказал Митя. — Тогда Бог вам в помощь. А если нет, черт вам судья! Маркел опять ничего не ответил. И Филька тоже. Так же и Митя больше ни о чем уже не заговаривал. Опять они шли молча. Луна то выходила из-за туч, то опять в них скрывалась. И дождь то шел, то утихал. Так они шли и шли и дошли до Варварских ворот Китай-города. Ворота, конечно же, были закрыты, и даже караульных при них видно не было. Митя велел подождать, Маркел с Филькой остановились, а Митя зашел в караульную, о чем-то там поговорил, а после вышел и позвал рукой. Маркел и Филька подошли к воротам. Вышедший из караульной сторож открыл им калитку и спросил, когда они будут обратно. Филька сказал, что через час, ну, может, через два, не больше. Сторож посмотрел на Митю. Митя кивнул. Сторож отступил с дороги, Маркел и Филька вошли в калитку, и она за ними затворилась. За калиткой, за той стороной стены, начинался Белый город. Филька показал рукой, куда идти, и они пошли туда. Когда они отошли от ворот, Маркел вполголоса спросил, много ли им еще идти. Филька сказал, что не очень, и велел смотреть по сторонам, потому что здесь места тоже не очень спокойные. Они пошли дальше. Шли молча. Дождя уже не было, луна в тучах больше не скрывалась, идти стало легче. Так они прошли по одной улице, после свернули на другую, обошли горку и, пройдя еще немного, подошли к небольшой церкви, над входом в которую висел образ святого Николы. Маркел перекрестился, Филька тоже и сказал, что это и есть Никола Подкопаевский и здесь уже можно спрашивать про Домну. Сказав это, Филька подошел к правому церковному приделу и постучал там в дверь. Подождал и опять постучал. Наконец в церкви послышались шаги, затем открылась дверь и на пороге показался старик в накинутом на плечи полушубке. — Чего надо? — спросил старик. — Заплутали мы, — ответил Филька. — Наставь на путь, отец. Старик молчал. — Мы Домну Козлиху ищем, — прибавил Маркел. Старик открыл рот, начал было: — Тьфу… Но Маркел уже сунул ему в руку деньгу, за ней вторую. Старик закрыл рот и сжал деньги в кулаке, а Маркел тем временем продолжил: — Не обессудь, братец, мы же не лихие люди, а по государеву делу! — и показал овчинку. — А!.. — только и сказал старик. Маркел спросил: — Так где ее искать? — А чего она такого натворила? — вполголоса спросил старик. — Про это нам болтать не велено, — строго ответил Маркел. И так же строго спросил: — Тебе денег дали? А чего молчишь? — Не обессудь, боярин! — испуганно сказал старик. — Спросонья я. Единственно спросонья! А так я эту Домну, ох, как знаю! Ведьма она проклятущая, вот кто! — Ты дело говори, старик, — еще строже сказал Маркел. — Кто она такая, мы и сами знаем. А вот где ее найти?! — А найти прямо! — зачастил старик. — Вон прямо вон туда, до тех хором, чтона углу, — показал он рукой, — и там дальше вторые ворота. В них внизу поднять доску и заходи. К ней так всегда все заходят. — Куда к ней? — А там через двор направо, где собаки, собак не бойтесь, они смирные, и под крыльцо, там дверь, постучать вот так три раза, а после еще раз. — Он показал, как стучать, и тут же прибавил: — А если не отзовется, открывайте сами. Они там часто пьяные и тогда не слышат ничего. — Как — пьяные? — А так! Они, почитай что, каждый день пьяные. А как напьются, так пляшут. Я уже сколько раз в Земский приказ ходил, говорил, дайте на них управу, а они только смеются. — Почему смеются? — А потому что они разве дурни — с Домной связываться? Ты ей слово, она тебе два — и скрутило тебя, нога отнялась, глаз начал косить, икота одолела. Поэтому Бог с ней, смеются, что тебе, Иван (а меня зовут Иван), пусть пляшут, какая кому от этого беда? Старик замолчал. Маркел тоже молчал. Старик сказал: — Бог тебе в помощь, боярин. Будет страшно, читай Отче наш и крестись, крестись! Они этого очень не любят. А еще лучше — подожди до света и после иди, они на свету не такие страшные. — Мне надо спешно, — ответил Маркел. — Государево дело. — А! — протянул старик. — Государево. — И вдруг спросил: — А что, правда, что бояре поцеловали крест змеенышу, а Федора и знать не захотели? — Кто тебе такое наболтал, старик? — строго сказал Маркел. — Вот и я тоже вчера здесь говорил, что это брехня! — сказал старик и радостно заулыбался. И опять прибавил: — Если не будут открывать, сами входите. Я сам в прошлом году… И, спохватившись, замолчал. Маркел сделал вид, будто ничего не понял, поблагодарил старика за совет, развернулся и пошел туда, куда тот указывал. Филька пошел следом за Маркелом. Дальше они дошли до нужных им ворот, вытащили там внизу доску, то есть подворотню, и осторожно залезли во двор. Там их обступили собаки. Собак было много, но они были не злые, а даже больше — ластились. И все были черной масти! Маркел невольно подумал, что никакие это не собаки, а те ведьмины гости, которые ей пришлись не по душе. Подумав так, Маркел поежился и перекрестился. Дальше в окружении собак они прошли под крыльцо, и Маркел постучал в дверь так, как его учил старик. Никто не отозвался. Маркел постучал еще раз. И еще. Никто по-прежнему не отзывался. — Ладно! — сказал Филька. — Иди так, а я тебя здесь подожду. — Пойдем вместе, — предложил Маркел. — Зачем? — сказал Филька. — Они не любят, когда ходят по двое. Да и не моя это служба. — Ну, конечно! — с усмешкой ответил Маркел. — Твоя служба — ходить к Демьянихе. Ладно, с нами святой крест! И, осенившись, толкнул дверь и вошел внутрь, в темноту.25
Но темно там было не везде, потому что на столе горела плошка и стол был хорошо освещен. На нем было полно всяких закусок, выпивки, объедков, чарок, ложек. А над ними, навалившись брюхом на столешницу, сидела баба лицом вниз. То есть лица ее Маркел не видел. Зато видел руки: в одной у нее была миска, в которой лежали засушенные корешки, похожие на безголовых человечков, а во второй она держала нож. Нож был короткий, широкий, и все его лезвие было в крови. А лица бабы видно не было! И страшно воняло винищем! Маркел поморщился и осмотрелся. Жилье, он подумал, как жилье, ничего особенного, не скажешь, что здесь живет ведьма, здесь даже божница есть. Правда, ни одна лампадка не горит. Маркел перекрестился, глядя на божницу, и стал осматриваться дальше. Лавки вдоль стен были пустые, на них валялись только тряпки. В углу стоял сундук, на нем сундучок. А дальний угол был закрыт рогожной занавеской. Надо было подойти туда и посмотреть, что там, но тогда нужно было проходить мимо этой бабы. Она была как будто мертвая, но мало ли! Надо сперва глянуть на нее как следует. Подумав так, Маркел сошел в это жилище, подошел к столу, протянул руку, взял бабу за платок и поднял ей голову. Баба зашаталась, как соломенная кукла. Маркел поднял голову еще… И ему открылось бабино лицо. Оно было очень красное, глаза неживые, закатившиеся, нос толстый, губы тоже толстые, полуоткрытые. А изо рта еще страшней несло горьким винищем. Перепила и сгорела, подумал Маркел, мертвая она, мертвей не бывает. Ничего она ему уже не скажет, зря он сюда тащился. И это еще хорошо, если она умерла с перепою, тогда он уйдет отсюда, а если ее убили, то и его сейчас убьют. Только Маркел так подумал, как сбоку что-то зашуршало. Маркел отскочил от бабы, выхватил из рукава нож… И только тогда увидел, что на соседней лавке из тряпья высунулась голова. Голова тоже была бабья, без платка, простоволосая. И эта голова спросила: — Ты кто такой, скотина?! Голос был очень пьяный, Маркела это сразу успокоило, и он ответил: — Я Маркел. А ты кто? — А я Алена, — весело сказала голова. — Алена я! Боярыня! А ты чего пришел? Бояриться? Или по делу? Маркел подумал и сказал: — По делу. — Эх! — сказала голова. — Ну, ладно… И заворочалась, и стала подниматься. Только тогда Маркел сообразил, что это карлица. У нее были коротенькие ручки, такие же ножки, такая же шубка. А лицо набеленное, бабье, и щеки, свеклой накрашенные. Маркел молча смотрел на карлицу. А та повернулась к мертвой бабе и сказала: — Домна! Ты чего? Боярин к нам пришел, налей боярину. — Напилась она, — сказал Маркел. — Лыка не вяжет. — А зачем нам лыко? — игриво воскликнула карлица. — Садись ко мне, боярин, побояримся! — Не могу я, — ответил Маркел. — Я на службе. — Тогда катись на свою службу! — сердито сказала карлица. — Катись, кому я говорю! — И опять позвала: — Домна! Домна! Голова болит! Маркел склонился к столу, взял чарку, налил в него вина и подал карлице. Карлица одной рукой схватила чарку, а второй Маркела и потянула его на себя. Маркел сел к ней на лавку. — Жарко в шубе-то, — сказала карлица, прикладываясь к чарке. — Знобит меня, — сказал Маркел. — Хворый я. К Домне пришел. — Это она запросто, — сказала карлица. И, не отпуская Маркела, стала пить. А как допила, то отбросила чарку, хитро усмехнулась и зажмурилась. После навалилась боком на него и стала притворно храпеть. — Алена, — сказал ей Маркел. И повторил: — Алена! Но карлица уже храпела непритворно. Незадача какая, подумал Маркел, отсунул карлицу, положил ее на лавку и опять подступил к Домне. Опять поднял ей голову. Домна была мертвая на самом деле. А в миске у нее лежали корешки, похожие на человечков, только безголовые. Это на кого она наколдовала столько, подумал Маркел. И вдруг опять услышал: — Домна! Это карлица уже опять сидела, увернувшись в тряпье, и опять звала: — Домна! Ты чего? Боярин к нам пришел. Надо налить боярину. — Я сам себе налью, — сказал Маркел. — А тебе больше не дам. — Как это не дашь? — сказала карлица. — Чем я тебя обидела, боярин? — Брата моего убила, вот как! — ответил Маркел. — Напустила на него злодеев, и они убили. Как мне теперь с тобой бояриться, как вино пить, если это все из-за тебя? — А если он того? — спросила карлица. — Что — того? — спросил Маркел. — А если не убили его, тогда что? — Ну… — не нашелся, что сказать, Маркел. — Налил бы? И боярился? — спросила карлица. — Так не бывает, — ответил Маркел. — Если кого убили, то убили насовсем. Обратно разве оживают? — Оживают, — ответила карлица и усмехнулась. — Бывает и такое. Домна все умеет! А я ей пособлю, словечко за тебя замолвлю. За милого дружка. Как тебя звать? — Маркелом. — Сядь рядом! — Ноги не идут. — А ты ползком! Ползком! Маркел налил еще в одну чарку и подал карлице. И вырвал руку. Карлица взяла чарку, нахмурилась, сказала: — И себе налей. Маркел не шелохнулся. Карлица сказала, глядя в сторону: — Я знаю, про кого ты говоришь. Он вчера ночью приходил. Трофимом его звали. — И вдруг воскликнула: — Налей, я кому говорю! Маркел налил себе. — Пей! Маркел выпил. — Еще налей! Маркел налил и, не ожидая, пока карлица прикажет, выпил. — Вот это по-нашему! — сказала, улыбаясь, карлица. — А теперь садись сюда, — и положила рядом руку. Маркел сел, где ему было указано. Карлица схватилась за него и повторила: — Трофимом его звали. И он был не такой, как ты. А еще брат! Врешь ты, что вы братья. Приятели вы, вот кто. Ну да и за приятеля ведь тоже нужно заступаться. А он был веселый! Пришел, принес выпить, мы его славно встретили, Домна встречала, а после он говорит: вот ноготок, вот волос, что с этим человеком приключилось? Домна взяла волос и ноготь, положила это на тарелку и сожгла. Дым пошел очень вонючий! А она: смотри, смотри! И он смотрел. Она говорит: что видишь? Он говорит: все вижу! Она: а какая шапка? А он: шапка деревянная! И карлица замолчала. Маркел спросил: — А дальше что? — А дальше я не знаю, — ответила карлица. — Дальше они не гадали. Она ему вдруг говорит: иди домой, Трофимушка, там тебя злые люди дожидаются, беги! И он встал и пошел. — И спросила: — А дальше что было? — Зарезали его, — сказал Маркел. — Прямо у нас во дворе. Я на крыльце стоял, видел. — И мы тоже видели! — сказала карлица. — Резал его пегий такой, красноносый. Левая щека ободрана. Похож? — Похож, — растерянно сказал Маркел. — А ты откуда это знаешь? — Домна нам его показывала. Твой брат платок принес, она его взяла и подожгла, дым пошел, она на него дунула, и мы увидели. — Кого? — Красноносого, кого еще? Маркел молчал. — Ты мне не веришь? — разозлилась карлица. — А вот сейчас сам увидишь! — И опять позвала: — Домна! Домна! — И разъярилась: — Ах, скотина! Тебя сколько звать?! И вдруг соскочила с лавки, подпрыгнула к Домне, дернула ее… И Домна повалилась! Теперь она лежала на полу, рот ее был противно разинут. — Домна! — крикнула карлица. — Домнушка!.. И повалилась на нее, начала ее трясти и причитать, а после схватилась за нож, увидела, что он весь в крови, и завизжала, вскочила и кинулась к Маркелу с криком: — Скотина! Ты убил ее! А сейчас я тебя убью! И в самом деле замахнулась Домниным ножом! И ткнула им в Маркела! Маркел увернулся, оттолкнул карлицу и кинулся прочь, в дверь. А она бежала за ним следом и кричала: — Убили! Убили! Держите его!..26
Как они бежали по двору, как лезли в подворотню, Маркел не помнил. И, также ничего не помня, они еще бежали до первого поворота, только тогда уже остановились, и Филька спросил: — Что там такое было? — Ничего хорошего, — запыханно ответил Маркел. — Ведьму зарезали. Насмерть! — Кто зарезал? — Я откуда знаю? Не было там никого… — А кто тогда орал? — Уродка какая-то. Лежала на лавке пьяная, спала, а после вдруг как вскочит и давай орать: «Ты ее убил! Ты ее убил!» — и за руки хватает! — А ты? — А я — дай Бог ноги! И он дал. — И что теперь? — Пойду, расскажу князю Семену. — Ладно, — подумав, сказал Филька. — Пошли. И они быстрым, конечно, шагом пошли дальше. Криков карлицы Маркел уже больше не слышал, но ему все равно было не по себе. Гадко ему было, противно, лицо все горело. Впереди показалась церковь Святого Николы, в одном из боковых окошек поблескивал слабый огонек. Маркел перекрестился и подумал, что только бы сторож к ним не выходил, не хватало еще сторожа! И сторож не вышел, Никола удержал его. Дойдя до церкви, Филька не стал сворачивать налево, как ожидал того Маркел, а пошел прямо. — Ты куда это? — тихо спросил Маркел. — А что, — сердито отозвался Филька, — хочешь идти обратно на Варварку? Да они там нас сразу зарежут. Потому что где их доля? — И уже язвительно спросил: — Что ты от ведьмы так скоро выскакивал? Большую цену бабы заломили? Маркел промолчал, и они пошли прямо. Филька, еще немного помолчав, сказал, что теперь дорога будет длинная, потому что надо будет обходить весь Китай-город и заходить еще дальше, в Занеглименье, и только уже после возвращаться в Кремль так, как вчера возвращался дядя Трофим. — Но только живыми, конечно! — тут же прибавил Филька, наверное, вспомнив, чем закончился поход дяди Трофима. И больше он уже ничего не прибавил. Они шли молча. Кругом было темно и тихо. Ни собак не было слышно, ни сторожей, то есть никто в колотушки не брякал, ни даже — вдруг сообразил Маркел — церковные колокола часов не отбивали! Ну да, наверное, какие могут быть теперь колокола, какой счет часов, когда государь преставился? А так они, думал Маркел, уже давно бы пробили, и даже, может, не раз. Дорога же теперь какая! Тьфу! Или снегом все засыпано и настом крепко схвачено, или раскатано так, что не пройти из-за грязи. И вдоль заборов тоже не пройти, потому что там почти сразу же кто-нибудь сверху покрикивал: «А ну отойди! А то сейчас живо мозги вышибу!» Вот и приходилось идти по грязи, ноги были мокрые, мерзли, а сапоги противно хлюпали. Зато можно было сколько хочешь думать, ни на что не отвлекаясь. Только о чем тут теперь думать, сердито рассуждал Маркел, сколько он ноги бил, а что узнал? Да почти ничего. Ну, разве только то, что тот, кто загубил царя, или кто тогда стоял рядом с царем, или даже сам царь тогда был в деревянной шапке. Но не бывает деревянных шапок, не носят их люди! Но, тут же подумал Маркел, зато какая славная примета — деревянная шапка! Такую только увидишь — и сразу хватай. Если, конечно, карлица над ним не посмеялась. Нет, слишком она была пьяная, чтобы такое выдумывать, пьяный обычно правду говорит. Как это? А, да: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Да и если вспомнить, подумал Маркел, то ведь и дядя Трофим перед смертью тоже только про шапку говорил, и не про свою, это точно. Свою он велел снять и опять стал говорить про шапку. Неспроста это, ох, неспроста! Вот только почему вдруг шапка деревянная? Эх, очень жаль, что ведьму зарезали, а то бы она объяснила, что к чему. Ну да что теперь про нее вспоминать, теперь нужно только на себя надеяться и думать, думать очень крепко! Примерно вот с такими мыслями Маркел шел рядом с Филькой и даже не очень смотрел по сторонам. Да и рассматривать там было особенно нечего, пока вдруг не показалась сбоку каменная башня, и она была кремлевская, Маркел ее сразу узнал. А Филька еще прибавил, что эта башня называется Собачья и, значит, они уже почти пришли. И в самом деле, они вскоре прошли по мосткам через Неглинку, и Филька еще радостней сказал, что теперь совсем близко, и еще очень хорошо, что опять пошел дождь. — Что в этом хорошего? — спросил Маркел. — Потому что нам сейчас идти через стрельцов, у них здесь слобода, — ответил Филька. — А дождь и темень нам в помощь. И, перекрестившись, свернул от Неглинки в улицу. Потому что дальше на Неглинке караул, объяснил Филька. А на улице, да еще в такой дождь и в темень, никого, конечно, не было. Так они прошли по слободе, ничего и никого не встретили, а только дождь еще больше усилился. После они опять свернули к Кремлю и, уже мокрые, как куры, вышли к Кутафьей башне — к той самой, сразу же вспомнил Маркел, возле которой всего два дня тому назад (а будто бы сто лет уже прошло!) его остановил стрелец и не пустил въезжать. Знак ему тогда был, вот что! А он, дурень, не понял и поехал объезжать — и въехал! — в сердцах подумал Маркел, глядя на Кутафью башню и дальше за ней на каменный мост. Башня была, конечно же, закрытая, время же какое было, полуночное, и ни проезду, ни проходу на мост не было. Но Филька все равно пошел вперед, а Маркел за Филькой. Так они подошли к самой башне, завернули вдоль нее направо, и там под навесом Филька постучал в небольшую железную дверь. В двери открылось окошко, и из него спросили, чего надо. Филька ответил что-то неразборчивое. — Га! — сказали из окошка. — Ладно. А это кто с тобой? — Дяди Трофима племянник, — ответил Филька. — А, этот дурень… — сказали в окошке. — Проходите, если сможете. Сегодня они очень серьезные. — Мы тоже не шуты, — ответил Филька. И велел Маркелу идти следом, а сам уже полез на мост и дальше полез вдоль него, цепляясь сбоку за перила. Маркел полез за ним. Внизу под ними чернела Неглинка. А впереди на стене между зубьями виднелись (или, может, только мерещились) головы стрельцов. Стрельцы были (мерещились) с пищалями. «Стрельнет — и мозгов не соберешь, — думал Маркел, — Неглинка смоет». Но Бог миловал, никто в них не стрелял, они перебрались вдоль моста и вышли на ту сторону Неглинки, рядом с закрытыми воротами Ризположенской башни. Теперь дождь шел вместе со снегом. Маркел думал, что они будут стучаться в ворота. Но они прошли мимо них, отошли еще шагов на десять, и там Филька начал рыть снег прямо под самой стеной. Маркел стал ему помогать. Они рыли недолго и дорылись до черной дыры, уходящей под стену. — Что это? — спросил Маркел. — Прыгай туда, — ответил Филька. Маркел не прыгал. Тогда Филька подтолкнул его. Маркел начал падать. Можно было хвататься за стену, но он не стал этого делать и вначале немного скатился, а после упал вниз, сажени на две, на три. Там было совсем темно. Маркел лежал в сугробе. Сугроб был плотный, перемешанный с соломой. Но зато сверху не было дождя! Маркел довольно потянулся. — Отползай! — приказал сверху Филька. Маркел отполз. Рядом свалился Филька. Потом он встал, взял Маркела за руку и потащил за собой. Так они прошли шагов с десяток и подошли к какой-то стене. Там Филька отпустил Маркела и стал с чем-то возиться, шуршать. Потом велел дать кушак. — А то, — сказал, — веревки не хватает. Маркел дал свой кушак. Филька еще немного пошуршал, потом отошел, размахнулся, послышался шелест — Маркел понял, что это шелестит гирька, раскрученная на веревке. А потом вверху послышался удар. Потом гирька упала обратно на снег. После Филька еще раз пять бросал гирьку, пока она вверху не зацепилась. Филька подергал за веревку и сказал, что можно лезть. Маркел полез, упирался сапогами в стену и залез. Там оказалась узкая площадка, а за ней дверь — закрытая, конечно. За Маркелом на площадку залез Филька, отвязал гирьку, отдал Маркелу кушак и сказал: — Ну, вот, мы в Судебном застенке. С другой стороны. И осторожно стукнул в дверь. Потом еще раз. Потом усмехнулся и сказал: — Может всякое случиться. Тогда полезем обратно. И, если Бог даст, вылезем. Но Бог дал иначе — за дверью кто-то завозился и спросил: — Кого это в такую пору носит? — Своих, дядя Игнат, — ответил Филька. — В грибы ходили, не гневись. С той сторон залязгали засовы, после открылась дверь, и они вошли в какую-то тесную, но теплую каморку. Тамошний хозяин с любопытством смотрел на Маркела и Фильку. Но Филька строго сказал: — Очень спешим, дядя Игнат. По государеву делу, — и, взяв Маркела за руку, скорым шагом вывел его из каморки. Дальше они прошли через сени, поднялись по одной лестнице, после спустились по другой, там Филька сам открыл какую-то дверь… И они вышли из подклета Судного приказа, а это при Ризположенских воротах, в Кремле. Была еще ночь, дождь кончился, и опять показалась луна, но она висела уже совсем низко. Маркел видел справа от себя царский дворец, а слева двор князя Семена. На душе было легко и радостно.27
Но вдруг подумалось: какая же тут легкость?! Легко было, когда он сидел дома, в Рославле. Эх, говорила мать, не езди, дурень, в Москву, не бывает от нее добра, кто из наших в Москву ездил, все там головы сложили. А он в ответ только посмеивался, думал: что она, старуха, в этом понимает и что ему в Рославле делать, в глуши этой! Да он, если ему только простору дать… Но дальше Маркел подумать не успел, потому что Филька вдруг сказал: — Чего стоим? Еще приметит кто-нибудь. Или стрельцы перехватят. А и верно, подумал Маркел, и они пошли дальше. Когда они подошли к воротам князя Семена, там были уже другие караульные, поэтому Маркел сперва сказал караульное слово, и только потом уже ему открыли. Они вошли во двор. Там было, конечно, пусто. И то, подумал Маркел, скоро, наверное, полночь, все добрые люди давно спят, да и луна зашла, ничего почти не видно, так что хорошо еще, что двор знакомый. На крыльце стояли сторожа, они спросили, кто идет, Маркел ответил: «Ладога», «Копорье», сказал один из сторожей, а второй ударил в колотушку. Маркел и Филька прошли дальше и оказались у себя на заднем княжьем дворе. — Ну, вот и пришли, — сказал Филька, притворно зевнул и спросил: — По домам или как? Или я тебе еще нужен? Маркел посмотрел на него, усмехнулся и спросил: — Что, сразу к Демьянихе? — Это мое дело, — строго сказал Филька. — Поздно уже, — сказал Маркел. — Может, уже закрылись там. И не откроют. Филька громко задышал, после сказал очень сердито: — Ты не смотри, что я такой нерослый. Ножиком пырнуть силы много не надо. И не нанимался я к тебе! Из-за Трофима я с тобой возился… — Ладно, — сказал Маркел, — пошутил я. Пособил ты мне сегодня знатно. За мной теперь должок. — Га! — криво усмехнулся Филька. — Если вдруг опять чего, зови. Знаешь, где меня искать? Маркел согласно кивнул. Филька широко заулыбался, развернулся и пошел, как Маркел и полагал, к Демьянихе. А Маркел поворотил к себе. Луна опять вышла из-за туч, во дворе сразу стало светлей. Маркел подошел к своей лестнице. Она была чисто подметена, лед со ступенек сколот. Красота, думал Маркел, поднимаясь по ступенькам. Эх, думал он, поднявшись на помост и мимо первой двери подходя ко второй, Параскиной, был бы выпивший, сейчас бы стукнул ей. Подумав так, Маркел совсем остановился… И вдруг увидел кочергу, стоявшую возле Параскиной двери. Кочерга была короткая, для тесных мест очень удобная. А Маркелова (бывшая дяди Трофимова) дверь была вроде надежно прикрыта, ничего по ней сказать было нельзя. Эх, государыня Парасочка, жарко подумал Маркел, дай тебе Бог того, чего тебе больше всего надобно, а мне дай легкости! И, осторожно наклонившись, он взял кочергу, перехватил ее как следует, неслышно подступил к самой своей двери… А после, резко распахнув ее, кинулся в сени! И сразу попал в кого-то кочергой! Попавшийся дико взревел. Маркел ему еще добавил! И еще! Но бил не на убой, а больше для острастки. Он же не знал, кто перед ним, вдруг почитаемые люди, и поэтому ударил только еще один раз и кинулся дальше, в горницу — и там стал бить! Но там его уже ждали и поэтому уже шныряли кто куда и выбегали вдоль стены. Но двум-трем Маркел еще попал как следует! А после кому-то еще очень сильно угодил, вроде как в рожу, и тот повалился. Но его свои же тут же подхватили и потащили к выходу, прикрикивая на бегу: «Влас! Влас! Убьет же!» И убежали, захлопали двери, и снова стало тихо, как это и должно быть ночью. Маркел стоял посреди горницы и отдувался. После прошел вперед, на ощупь нашел стол и положил на него кочергу. После и сам сел к столу, снял шапку, положил ее рядом с кочергой и задумался. А свет разводить не стал. Зачем? Ему и так хорошо, а если кто чужой надумает к нему зайти, так пусть со своим светом приходит. А то вот пришли люди без света — и получилась незадача. Кто это, кстати, был? Кричали: «Влас!» О, тут же подумал Маркел, у Шкандыбина есть Влас, так, может, это тот самый? Может, это Шкандыбин устроил? Да только, тут же подумал Маркел, этих Власов по Москве, может, тысяча, а то и больше, вот какой городище Москва. Так что Власов здесь везде полно. Влас может быть и у Степана-сотника, и у Ефрема-палача подручный, а что, в палачи Власов разве не берут? Берут! И к Ададурову берут! А этот тоже очень бы хотел, чтобы Маркела убили, и тогда никто бы не узнал, кто царю ногти стриг и драл бороду. Также и карлица хотела бы его убить, и Гридя Весло, и Митя, и только считай дальше, не ленись. Вот как в Москву переться, в царскую смерть соваться. Так и за самим смерть явится! Только Маркел так подумал, как вдруг послышались шаги — за дверью, на помосте. Шаги были легкие. А что, уныло подумал Маркел, откуда в ней весу? Одни кости да коса да саван. И почти сразу же в дверь постучали. Дядя Трофим так стучал! Значит, точно, с того света! Маркел перекрестился и сказал: — Не заперто. Открылась входная дверь. Потом дверь в сени. А после Маркел сперва увидел только яркий свет, а уже потом Параску. Это она вошла, в руке у нее была горящая плошка, а сама она была одета просто, по-домашнему, но с убранными волосами. Маркел вскочил, взялся за шапку. А она, улыбнувшись, сказала: — Да ладно. Сиди уж. — Нам сидеть нельзя, — ответил Маркел. — Мы обычно сами других садим. Такая у нас служба. — Знаю, знаю, — сказала Параска. — Наслышана. Трофим Порфирьевич, земля ему пухом, рассказывал. И замолчала, и поджала губы. В плошке потрескивал огонь. В хоромах было тихо. Маркел спросил: — Что, очень небось громко шумели? — Ну, не очень, — сказала Параска. — И если надо, почему не пошуметь? — Да, служба у нас хлопотная, — сказал, не зная, что сказать, Маркел. — А за кочергу низкий поклон. Пособила она мне. Благодарю! И возвращаю. Он протянул Параске кочергу. Параска усмехнулась и сказала: — Да я не за этим. — А за чем? — Ну, — покраснела Параска. — За солью! Трофим у нас как взял три дня тому назад солонку и так и не вернул, пока был жив. А Нюська без соли не ест. — Дети на соль очень охочие, — сказал Маркел. — Я, когда малый был, так прямо ложками ее! А где здесь солонка, я не знаю. Я же здесь… И замолчал, стал смотреть на Параску. Она еще гуще покраснела и сказала: — Вот беда какая! Да я в другой раз разве бы пошла в такую темень? И мое ли это дело — солонки искать? Да загуляла наша Гапка, уже который день не кажется. — Гапка? — спросил Маркел. — Гапка, Гапка! — повторила Параска. — Наша девка приходящая. Она у меня по хозяйству служит и за порядком смотрит. А тут запила! И, бабы говорят, совсем пьяная, как грязь, валяется. Кричит: за государя страдаю, больно мне жалко государя. Вот свинья! А на самом деле, теперь уже можно говорить, как она его, бывало, чихвостила! У нее же он сколько родни загубил! А тут она пьет и говорит: жалею. Брешет. — Так, может, она с радости? — спросил Маркел. — Вот это может, — сказала Параска. — Да только мне все равно, что с горя, что с радости, а хозяйство, скоро неделя, стоит. Сама хожу, помои выливаю, стыд какой! А когда хозяин дома был, он бы ей космы живо выдрал! — Параска вздохнула и добавила: — Замужним много легче. А безмужним одно горе. — Так ты же говорила, что твой муж скоро вернется, — осторожным голосом сказал Маркел. — Говорила! — с вызовом ответила Параска. — А что мне еще говорить? Так и мне Лука Иванович уже сколько раз говорил, что ездили наши люди в этот город Венден, в Ливонию, и договорились с тамошним воеводой фон Крюком, и этот их фон Крюк божился, что как только получит добро от своего государя, так сразу начнет менять наших на своих. — А этих его своих у нас достаточно? — спросил Маркел. — Как будто да, — ответила Параска и опять вздохнула. — Своих, этих фон Крюковых, у нас двенадцать, а вот сколько наших у него, никто не знает. — Но твой же есть! — Говорят, что есть, — нехотя ответила Параска. — Это одни так говорят. А другие говорят, что нет его там! Что он давно убитый и в чужой земле схороненный, без отпевания даже. И мне за него идет каждый год восемь рублей от государя. Ну, и еще взяли в службу. — Да ты садись, — сказал Маркел. Параска села к столу, с краю. Маркел тоже сел и положил руки на стол. Но руки мелко тряслись, и он их спрятал. И нарочито бодрым голосом сказал: — Может, налить по шкалику? Пока соль найдется. — Я по ночам не пью, — строго ответила Параска. — А Гапка, вот кто пьет! Вот бы сюда Гапку… — А сколько ей? — Да сколько нам вместе обоим. — Ну… — только и сказал Маркел, опять не зная, о чем говорить. Тогда заговорила Параска: — Трофима очень жалко, Трофим был душевный человек. И одолжит всегда, и обратно не торопит. И на службе все его любили. Князь Семен как его сегодня мертвым увидел, так чуть не прослезился. А после велел сделать все честь по чести, по-боярски. Как его хорошо обрядили! В князя Семена шубу! И шапку положили новую, гроб красной парчой обили. А какой славный лежит! И улыбается. Ну как живой! — Где лежит? — спросил Маркел. — У нас здесь, в домовой часовенке, — ответила Параска. — Ты завтра утром обязательно сходи. Ты ему глянулся. Он никого к себе не допускал, а ты сподобился. — И вдруг спросила: — А за что его зарезали? — За службу, — кратко ответил Маркел. — Это понятно, что за службу. А за какую? Маркел промолчал. Параска покосилась на дверь, а после навалилась на стол грудью и, приблизившись к Маркелу, чуть слышно спросила: — За царскую, да? — У нас вся служба царская, — тихо ответил Маркел. — Это я знаю! — сердито сказала Параска. — А я про то, что за царя? За то, что его извели? — Кто сказал, что царя извели? — строго спросил Маркел. — Все говорят, — ответила Параска. — Только каждый говорит по-своему. А Трофим хотел узнать, как оно было на самом деле. За это его и зарезали. Так? Маркел подумал, помолчал, а после все так же молча кивнул. — Ага, — тихо сказала Параска. — Я так и думала. А теперь хотят убить тебя. Потому что ты с ним был заодно. — Э!.. — только и сказал Маркел. — А вот и «э»! — повторила Параска. — И убьют они тебя! Молодой ты и ничего здесь не знаешь. А мне жалко тебя. Не хочу, чтобы тебя убили. За этим и пришла. А не за солью. — Ну, это… — только и сказал Маркел и почувствовал, как стал краснеть. — Ты только у меня смотри! — строго продолжила Параска. — Лишнего не напридумывай! Я женщина серьезная, замужняя, у меня муж, Гурий Корнеевич, сидит в крепости Венден в тюрьме, мы с ним навеки венчаны, и только смерть нас разлучит. А тебя мне просто жалко. Понял?! Маркел кивнул, что понял. Но пока молчал. Смотрел на Параску и думал, говорить ей или нет. Может, все-таки не говорить? Ведь нагадали же ему, что будет у него беда великая через черную московскую вдову! И кто она такая, что он о ней знает, что слышал? И вдруг его как огнем обожгло: а ведь слышал! Да вот только что? И Маркел стал вспоминать. И еще думать: скорее, скорее! Долго же молчать нельзя, а то она сейчас обидится, встанет, развернется и уйдет. И после хоть локти кусай! И тут он вспомнил: Родька Биркин! Он с царем в шахматы играл и видел, как тот помер. А после, Филька говорил, Родька Параске, а они родня, про это рассказывал! Вот бы сейчас Параску расспросить, вдруг там был кто-нибудь в деревянной шапке? А что? Бояре в куньих шапках, воеводы в железных, а кто-нибудь один вдруг в деревянной! Да вот хоть царский шут! Но об этом не сразу, не сразу, торопливо подумал Маркел и осторожно, даже с придыханием спросил: — А это правда, что Родька Биркин тебе родней приходится? — Родька? — удивилась Параска. — Этот рязанский? Из жильцов? Нет, не родня. А ты откуда взял, что вдруг родня? — Да говорили люди, — уклончиво ответил Маркел. — А что они еще говорили? — спросила Параска. — Да вот, — сказал Маркел, — говорили, будто он тебе, вы же родня, рассказывал, как царь преставился. — Нет, — ответила Параска. — Это не так было. Он не мне, а моему дяде Тимофею рассказывал. Хлопов его фамилия, это мой родной дядя по матушке, и он при государе служит. Старшим постельником. Постели перестилает, в баню водит. И вот ему Родька рассказывал про то, что сам видел. — И что же он видел? — А ничего такого. Родька, он же очень ловкий, он что в шахматы, что в тавлеи, что в зернь, в бабки, во что ни возьми. Такой уродился! И государь его за это привечал, любил с ним игрывать. Так было и тогда, к Родьке пришли и говорят: тебя государь кличет. И он пошел. — И взял с собой шахматы? — Зачем? У государя есть свои. Станет он об Родькины мараться… И вот Родька пришел, а государь лежит, подушками обложенный, вокруг бояре стоят, и уже короб с шахматами тут как тут. Государь и Родька берут шахматы и начинают расставлять. А государь был очень гневен. Так только глазами и посверкивал. — Из-за чего? — А пес его знает. Да он почти всегда такой. Особенно как захворает. А тут крепко хворал, с самой зимы, с Водосвятия. И вот они гребут из короба и расставляют, расставляют… Вдруг государь как вскинется! Как захрипит! И упал с подушек прямо на пол. Все от него отскочили, стоят. Родька думает: свят, свят, сейчас как подскочит и как заорет!.. Но он уже не вскакивал. Потому что преставился. Вот что Родька рассказал. И это все. — Га! — громко сказал Маркел. — Вот как оно было… Понятно. — И спросил: — И много там было кого? — Да не очень. Ближние бояре, Родька и, может, кто из прислуги. — А шут там был? — спросил Маркел. — Царский. — Нет, — удивленно сказал Параска. — Шута у государя давно уже нет. Так и говорил: не до шутов мне. А что? — Так, ничего. И Родька это рассказал… Твоему этому дяде, постельнику. А зачем он вдруг рассказывал? — Так они с дядей давние приятели. А тут еще я пришла на службу, а боярыня мне говорит… — Какая боярыня? — Моя боярыня, Аксинья Телятевская, государыни царицы ближняя боярыня. А я у боярыни в постельницах. Потому что мой дядя, государев постельник, когда мой муж Гурий Корнеевич с войны не вернулся, пристроил и меня служить постельницей. Ему там было можно попросить, он попросил, поклонился, и меня взяли. А теперь, вчера я прихожу на службу, а мне моя боярыня и говорит: Прасковья, сходила бы ты на государеву половину да узнала бы там, что к чему, а то мы ничего не знаем, это же срам какой, царя извели, а царице ничего не говорят, а царица, между прочим, мать законного наследника, царевича Димитрия, а Феодор кто? Какой из Феодора царь?.. — Тпрр! — резко сказал Маркел. — Погоди. После про Феодора. А пока ты, как я понял, пошла к дяде, и он рассказал тебе, что ему прежде рассказывал Родька. Ты, получается, пришла… — Пришла! А дядя сидит грустный-грустный. Я спрашиваю: дядя, ты чего? А он: да как чего? Кто я теперь? Вчера я был царев постельник, а теперь где царь и где его постель? — А и где она? — спросил Маркел. — Свернули и снесли куда-то, — сказала Параска. — Из дворцового приказа приходили. Будут смотреть, нет ли там какой порчи. — На дядю, что ли, подумали? — Да нет, так всегда делают, если кто вдруг помрет. — Ага, ага, — сказал Маркел. — Понятно… А шута у царя не было? — Вот опять про шута! — рассердилась Параска. — Тут царь преставился, никто не знает, что с кем завтра будет, а ты все шут да шут! Зачем тебе шут?! — Шут мне, — сказал Маркел, — не нужен. А мне деревянная шапка нужна. Вот я и подумал: может, шут был в деревянной шапке, больше некому. Кто еще деревянные носит? Параска помолчала и сказала: — Я не знаю. Никогда я деревянных шапок не видала. — Вот и я об этом говорю, — сердито продолжал Маркел. — А дядя Трофим, когда кончался, все про шапку да про шапку поминал. А ведьма сказала, что эта шапка была деревянная, вот как! — Какая ведьма? — спросила Параска. — Есть одна такая в Белом городе, — нехотя сказал Маркел. — Дядя Трофим к ней ходил просить, чтобы она ему сказала, кто государя извел. И она сказала: ищи деревянную шапку. Он пошел искать, и тут его зарезали. — А ты? — Тогда и я пошел к той ведьме. Прихожу, а она уже мертвая! И нож рядом валяется, и этот нож в крови. А рядом сидит карлица, пьяная-пьяная, как твоя Гапка, и говорит: давай… И замолчал. Параска спросила: — Чего давай? — Ну как чего! — строго сказал Маркел. — Того и давай, конечно. — А ты? — А я убегать. А она за мной с ножом! Я прибежал сюда, а здесь уже эти. И если бы не твоя кочерга, была бы мне и шапка деревянная, и деревянная шуба! И лежал бы я рядом с дядей Трофимом в часовенке. — Страсти какие… — чуть слышно сказала Параска. Маркел помолчал и сказал: — Если это дело сладится, меня князь на службу возьмет. Деньжищ у меня будет во сколько! — и показал руками. А опустив руки, вдруг прибавил: — И я тебе бусы куплю. Здоровенные, жемчужные! Параска покраснела и сказала: — Ты не очень! Я замужняя! Гурий Корнеевич как приедет… И вдруг замолчала. Глаза у нее заблестели. Сейчас заплачет, подумал Маркел, эх, только этого сейчас… Но дальше думать не стал. Параска тряхнула головой и, как ни в чем не бывало, продолжила: — Ладно, чего сидим! Мне уже на службу надо. Если хочешь, я тебя с собой возьму, ты с Родькой сам поговоришь. Вдруг он чего вспомнит. Вставай!28
Маркел встал. Параска посмотрела на него и вдруг сказала: — Нет, что это я? Мне же еще одеться надо. Постой здесь, я сейчас. И она вышла. А Маркел стоял посреди горницы и ждал. Поначалу ждать было легко, потому что Маркел думал о том, как они с Параской пойдут во дворец, быстро переделают там все дела, и, как только повернут обратно, Маркел сразу скажет, что он очень голодный, и спросит, нет ли у Параски чего перекусить. Она ответит — есть и покраснеет. А если ответит, что нет, тогда он скажет, что он привез с собой кое-что из дома, но это еще надо приготовить, так вот не могла ли бы она… Ну, и так далее. Да вот только время шло, а Параска все никак не возвращалась. Маркел мало-помалу начал волноваться. А что! Откуда он знает, что у нее на уме, думал он, может, не только соль. И вот сейчас войдет сюда Степан, белохребетник, сотник первой сотни, и строго спросит: кто это здесь моих стрельцов кочергой по морде выходил?! И, как всегда, еще вот что: говорила же родная матушка и гадалка же предупреждала — не верь черной вдове, окрутит она тебя, околдует! Эх, только и подумал Маркел и отступил на шаг, сел на лавку, полез в рукав за ножом… Но тут наконец открылась дверь и вошла Параска. Она была в новой шубе с красным верхом, в высокой собольей шапке и в зеленых остроносых сапогах. А лицо у нее было белое-пребелое, щеки ярко-свекольные, даже глаза стали как будто в два раза больше. Маркел вскочил с лавки и стоял столбом. И говорить не мог, так горло сперло. Параска усмехнулась и сказала: — Ну, что, заждался? Пошли. Маркел пошел. Параска шла первой, конечно, а Маркел за ней. И шли они тоже конечно, молча. Ночь была темная-темнющая, луны видно не было, а светили только звезды. Параска голову держала прямо, даже немного откидывая ее назад, а шажки у нее были легкие, она будто плыла, а не шла. Эх, только и думал Маркел, а больше ни о чем не думалось. Так они вышли с заднего двора, прошли мимо боярского крыльца и подошли к воротам. — Вятка, — сказала там Параска. — Вычегда, — ответили ей сторожа, открывая ворота. Параска и Маркел вышли с князя Семена двора и, перейдя через дорогу, подошли к Куретным воротам государева дворца. Там Параска опять назвала Вятку, и в калитке открылось окошко. Параска подняла ладонь и показал на ней что-то. Калитка открылась, и они в нее вошли, все это по-прежнему молча. Дальше они, как и с дядей Трофимом, опять свернули налево и пошли по нижнему нежилому этажу вначале мимо портомойной, затем гладильной, после через сени со стрельцами и, пройдя еще немного, вышли к тому же рундуку, где стояли караулом уже не стрельцы, а так называемые государевы жильцы. Эти жильцы их пропустили, они поднялись на второй этаж, ко второму рундуку… Но там, тоже как и в прошлый раз, ход был закрыт. То есть опять жильцы стояли очень плотно и с места не сдвигались. Параска подняла руку и раскрыла ее. Теперь, при свете плошки, Маркел ясно рассмотрел, что там у нее на ладони была жемчужная пуговица в серебряной оправе. Жилец одобрительно кивнул, но все равно с места не сдвинулся, а посмотрел на Маркела. Маркел сказал: — Вятка! — И показал овчинку. — Отойди, — сказал жилец. — Яша! — сказал Параска. — Ты что? — Ты проходи, — сказал ей этот Яша, так звали того жильца. — А чужих пускать не велено! — Да какай я вам чужой? — сказал Маркел. — А чей ты? — спросил жилец. Маркел хотел было сказать про Ададурова, но передумал и смолчал. — Яша… — снова начала Параска. Но Яша ее сразу перебил: — Ничего, Парасочка, не знаю. Но так нам велено. И оглянулся на своих, то есть других жильцов. Эх, снова вспомнил Маркел, дядю Трофима бы на вас! Но вслух опять ничего не сказал. Сказала Параска: — Ладно, тогда ты здесь пока постой, а скоро вернусь. Только покажусь боярыне и сразу сюда, обратно. — Нет! — опять сказал Яша. — И это тоже не велено. Чего он будет здесь торчать? Откуда кто знает, что у него на уме? Вот саданет ножом или еще чего… Иди отсюда! Не стой! Маркел сжал зубы и подумал, что ведь и вправду садануть не грех. Но Параска уже быстро-быстро продолжала: — Яша! Ты тогда вели свести его к истопникам. Это и близко тут, и мы все равно дальше к дяде пойдем. А дяди там, в истопничьей, случайно, нет? — Случайно, я не знаю, — сказал Яша, но уже не так сердито. А после почти по-человечески добавил: — Ладно. Сеня! Отведи его к дедам. Скажи, что я велел. Один из его жильцов вышел к Маркелу, сказал идти за ним — и повел куда-то в совсем другую сторону, чем та, куда Маркел шел с Параской. А Параска прошла за рундук и сразу как пропала темноте.29
Сеня вел недалеко — они прошли всего два поворота и остановились возле одной из дверей. За ней слышались приглушенные голоса. Сеня постучал в дверь костяшкой пальца. Голоса сразу затихли. Сеня опять постучал и сказал, что это с рундука. За дверью пошептались и открыли. Сеня и за ним Маркел вошли. Истопничья палата оказалась небольшая, темная, вдоль стен там стояли шкафы, а сами истопники сидели за столом. Стол был подозрительно пуст. Истопников было четверо, все это были люди пожилые, бывалые, они внимательно смотрели на вошедших и молчали. — Чего затаились? — спросил Сеня. — А мы и не таимся, — насмешливо ответил один из истопников. — Садись к нам и все тайны узнаешь. — Некогда мне с вами языком чесать! — строго сказал Сеня. — Служба у меня, понятно? Вот, Яша велел, посторожите этого… — И он кивнул на Маркела. — Как это вдруг — сторожить? — сердито переспросил Маркел. — Я еще тебя посторожу! — О, о, какие мы! — передразнил его Сеня. — И пошутить нельзя. — И уже истопникам прибавил: — Угостите его чем-нибудь, а то порешит всех. И с этими словами Сеня вышел. Истопники молчали. Маркел, не спрашивая их, сел к столу, правда, с краю и начал: — Маркелом меня звать. Дело у меня по службе: надо одного человека найти и порасспросить его маленько. — А что это за человек? — спросил другой истопник, сосед первого. — Да Родька Биркин, если про такого слышали, — ответил Маркел. Истопники заулыбались, а еще один, уже третий из них, сказал: — Да кто же его сегодня не слышал?! Да он тут так орал, что ого-го! — Чего он орал? — спросил Маркел. — Пьян был, вот и орал, — ответил третий истопник. — Очень крепко выпил, прямо почти до смерти, ну и ходил по хоромам, орал, что это он виноват и дайте ему веревку, он повесится. — Зачем повесится? — спросил Маркел. — Это лучше у него спросить. — А где он сейчас? — опять спросил Маркел. — Спит, — ответил первый, главный истопник. — И не добудится его никто, пока он сам не проснется. Бывало, государь его зовет играть, а ему говорят: Родька спит. И государь махнет рукой и скажет: ну и ладно, не будите его, пусть проспится. Вот как! Сам государь не веливал, а тут мы полезем. Маркел промолчал. И тут вдруг заговорил четвертый истопник: — Государь Родьку любил. И, ох, бывало, говаривал: не верю я тебе, Родион, не может живой человек быть таким хитрым и памятливым, это у тебя все от нечистого, надо бы тебя проверить, испытать по-настоящему! Но не испытывал. Потому что любил крепко. Может, даже крепче Аграфены. — Кого, кого? — переспросил Маркел. — Аграфены. Это его нянька, — сказал другой истопник. — Ведьма она старая. Ей уже, наверное, сто лет, а вот пережила его. — Это такая сухонькая, маленькая, которая громко кричала, когда государь преставился? — спросил Маркел. — Она! Она! — воскликнул главный истопник. — Ух, она тогда выла… А ночью выла еще громче. Никто у нас даже глаз не сомкнул. Во как она его любила! — А он ее, может, еще крепче, — опять сказал третий истопник. — Ну так он же ей жизнью обязан. — Как это жизнью? — спросил Маркел. — Очень просто! — охотно ответил третий истопник. — Он тогда был еще сосунком. А бояре уже думали, как бы это его отравить. И вот придумали! Поймали эту Аграфену и намазали ей титьку ядом. Тогда она, только они ушли, берет нож и эту титьку шах-шарах! Исполосовала всю. Кровища потекла, кровища! И весь яд с титьки смыло. А тут государь орать! Есть хочет, дай есть! А царю не поперечишь же. Ну, и она ему эту титьку и сунула. А он как давай ее смоктать! Так и привык пить кровь. И так и пил всю жизнь. Из нас изо всех. И третий истопник замолчал. Другие тоже молчали. Маркел думал. И вдруг этот третий истопник прибавил: — А мы знаем, кто ты. Я тебя вместе с Трофимом Пыжовым видел, когда вы из Ближнего застенка выходили. Трофим был в фартуке, а руки у него все красные. — Ты что это? — сказал Маркел. — Зачем ему фартук? Он же не мясник! — Ну, это не нам судить, кто кем на этом свете служит, — сказал третий истопник. — И не смотри на меня так. На меня сам царь смотрел и ничего не высмотрел. Сказав это, третий истопник осмотрелся. Его товарищи согласно закивали. — Как это — царь смотрел? — спросил Маркел. Третий истопник насупленно молчал. — Савва! Савва! — сказали ему. — Расскажи. Савва (третий истопник) на это только усмехнулся. — Ну, расскажи, ты чего? Теперь-то уже можно. Но Савва еще немного помолчал и только после начал: — Да, была одна история. Ей третий год уже пошел. Перед Филипповками это было. И не здесь, а в Александровой слободе. Поздно уже было, везде свет зажгли. И затопили крепко! И вот царь, великий государь, стоит в одном халате, а там это можно… И вот царь стоит, а царевич стоит рядом, и царь ему строго говорит: что ты это, Ваня, опять мне перечишь, а я тебе разве не ясно сказывал? А царевич: нет, не ясно! И еще вот так гыгыкнул. А царь ему тогда: ах, вот ты как! И посохом его по голове ка-ак саданет в сердцах! И прямо в жилку, в висок! Царевич сразу упал. Царь к нему: Ваня, Ванечка! Это же был его старший, Иван. И он уже не отзывается, лежит. Царь на него пал сверху и рыдать! Тут я дрова и выронил. Посыпались они, затарахтели. Сухие же! Царь сразу вскинулся, на меня поворотился, смотрит… И я вдруг чую, что я сейчас загорюсь! И загорелся бы… Но тут он заморгал глазами, заморгал, и мне стало легче. А у него слезы покатились. Вот такие! Как бобы. И я закричал, побежал звать подмогу. А что кричал? Царевич, я кричал, убился, зацепился за порог и об приступочку виском. И сразу насмерть. Тоже после был сыск, и твой Трофим был при сыске, — это Савва-истопник сказал, уже глядя только на Маркела. И еще прибавил: — Твой Трофим, да, который в фартуке, и я ему тоже сказал, что да, что об приступочку. Маркел спросил: — А к кресту тебя подводили? — Конечно, подводили, — сказал Савва. — И я тот крест целовал. Но повторил: об приступочку. — Но как ты это мог? — громко сказал Маркел. — После крестоцелования! — Как, как!.. — передразнил истопник. — А вот так. И если язык повернулся, значит, так Бог ему велел. А иначе бы не допустил. Так и сейчас у нас было. — Когда — сейчас? — Вчера. Или уже позавчера? Когда Родька с шахматами приходил. И царь вдруг брык и повалился. Вот Родька и запил. А как тут не запьешь? Я бы и сам… Тут Савва вдруг замолчал и стал прислушиваться. Но Маркел громко сказал: — Так, говоришь, вдруг повалился? А почему вдруг? — А я откуда знаю? — сказал Савва. — Это не моя забота. Моя забота дровишки подбрасывать, а твоя ходить и нюхать. — И вдруг опять замолчал, еще внимательней прислушался. И уверенно сказал: — Шаги! Маркел ничего не слышал. Потом вдруг открылась дверь и на пороге показалась Параска. — Пойдем, — сказала она. — Дядя ждет. Маркел поднялся и пошел к двери.30
Маркел вышел из истопничьей, и дверь за ним сразу закрыли. Стало темным-темно. Параска сбоку сказала: — Сюда! Маркел шагнул на ее голос, поднял руку и наткнулся на Параску. — Эй! — строго сказала она. — Ты чего? Но тут же взяла его за руку и повела за собой. Рука у нее была горячая. Параска шла и говорила: — Тут совсем недалеко. Сейчас свернем и наверх, а там вниз и налево. Он же прямо здесь живет. Мой дядя. Младший матушкин брат. Они по бабушке рязанские. И Родька тоже рязанский, вот дядя с ним и сошелся. — Родька, говорили, сейчас спит, — сказал Маркел. — Потому что… — Знаю, — сказала Параска. — Ну и что? Мы пока дядю проведаем, Родька как раз проспится. А нет, дядя его растолкает. Дяде можно, они же с ним приятели. И, говоря все это, они сперва взошли по лестнице, после прошли прямо и опять спустились, а там свернули под другую лестницу. — Здесь, — тихо сказала Параска и условным стуком постучала в дверь. — Ты? — спросили изнутри. — Я, — ответила Параска. С той стороны брякнул замок, и медленно открылась дверь. Параску и Маркела озарило светом. Маркел прищурился. Напротив него стоял Параскин дядя Тимофей, так надо было понимать, но рассмотреть его пока было нельзя, потому что он был весь в свету. И он из этого света настороженно сказал: — Здоровы будем… — Здоровы, — бодрым голосом ответила Параска. — А это Маркел. Он у Трофима ночует. И там же, с ним вместе служит. — Так же зарезали Трофима, — еще настороженней сказал Параскин дядя. — Ну, и зарезали, — ответила Параска. — Такая у них служба — не зевай! — О!.. — только и сказал Параскин дядя, отступил на шаг и без всякой охоты прибавил: — Входите. Теперь дядю стало можно рассмотреть. Он был совсем еще не старый, ему было лет сорок, весь из себя ухоженный, гладкий и по-богатому одетый. Одно слово, царский постельничий, подумал Маркел и начал осматриваться дальше. И насторожился, потому что в горнице все было перевернуто, на столе лежало много всякого добра, также и все сундуки были открыты, а возле двери стояли сапоги — пар не меньше десяти, и все очень добротные. — Чего ты это так? — спросила у дяди Параска. — Случилось что? — А то не случилось? — строго сказал дядя. — Государь преставился! — Это мы знаем, — сказала Параска. — А у тебя что? — Пока, слава Богу, ничего, — ответил дядя. — Ну, только Степан приходил со своими. Порылись кое-где, понюхались, забрали две бутыли и ушли. И пес с ними, с бутылями! — И, спохватившись, прибавил: — Да вы садитесь. Параска села на лавку, а Маркел к столу. Дядя глянул на Маркела и спросил: — По делу или как? — По делу, по делу, — сказала Параска. — Но не про тебя. — Да, про меня теперь дел нет, — невесело усмехнувшись, сказал дядя. — Нас теперь всех прогонят и наберут сюда новых. А меня первее всех прогонят. — Это почему? — спросил Маркел. — Ну а как же! — сказал дядя. — Скажут: тяжелая у тебя, Тимошка, рука. Государя насмерть запарил. — Так он же после пара еще жил, — сказал Маркел. — Жил, конечно, — согласился дядя. — А все равно ведь скажут. Люди же у нас такие. Лишь бы укусить. Как псы! — А что, — спросил Маркел, — ты его и в самом деле тогда парил? — А как же! — гордо сказал дядя. — Я! А кто еще? Туда кого попало только допусти, его уже давно бы насмерть запарили. Псы, опять же, говорю. А свое дело надо любить и знать, когда парку поддать, а когда вьюшку приоткрыть. — А царь пар любил? — Ох, не то слово! А любил, чтобы не продохнуть. Он, бывало, сидит на полке и только знай кричит: «Наддай еще!» А у тебя уже глаза наружу лезут. А он «наддай» да «наддай»! И наддаешь, а после сам не знаешь, как ты жив остался. А он хоть бы хны. Он только, если совсем жар, даже совсем почти смерть, тогда скажет: «Подай шапку». — Деревянную? — Зачем деревянную? Суконную, — сердито сказал дядя. — И рукавицы. Они тоже суконные. Персидского сукна. Га! Скажешь такое! — Дядя хмыкнул. — Царь в деревянной шапке! Может, еще и в деревянной шубе? Так он сейчас в каменной лежит, сам видел. Она ему давно была заказана, и он ходил, смотрел, как ее режут, ну, и указывал, конечно, если было надо. А деревянная шуба и шапка бывают только у шахматного царя — цесаря. Сказав это, дядя победно усмехнулся. Параска приоткрыла рот. А Маркела будто огнем обожгло! Так вот откуда это все, подумал он, царь в деревянной шапке — это шахмата! Маркел встал и расстегнул ворот, чтобы было легче дышать, повернулся в угол, на иконы, увидел там святого Николу… И вдруг ему стало все ясно и понятно, как на блюдечке: царь как только взял в руки ту шахмату, а это был шахматный царь, деревянный, так ему сразу стало худо, и он помер. От той шахматы! А где она теперь? Надо ее срочно найти и узнать, на нее что, порчу напустили, или ее ядом вымазали, как Аграфене титьку, или… Ну, и так далее. Маркел стоял посреди горницы и смотрел по сторонам, как зачумленный. Пока Параска не спросила: — Ты чего? Маркел сразу опомнился, мотнул головой и ответил: — Да я ничего. Я просто думаю, что чего мы тут сидим, время теряем. Мы же хотели идти к Родьке. — А Родька что? — спросил Параскин дядя. — А Родька пьяный спит, — сказал Маркел. — А нам его хотелось расспросить бы. Может, Родька чего знает, мало ли. — Э! — насмешливо махнул рукой Параскин дядя. — Какой с него спрос? — А что, — быстро сказала Параска, — хочешь, чтобы спрос был с тебя? А тут верный человек… — И она кивнула на Маркела. — И вот пошли бы к Родьке, вдруг он чего вспомнит. Про еще кого-нибудь. И тогда твоя беда еще дальше уйдет. А то, вижу, уже собираешься. А вдруг оставят? — Эх-х! — только и сказал Параскин дядя. — Ну, ладно! Только ты здесь не толкись. Тебя здесь не хватало! Ты иди к своей боярыне. А я здесь пока соберусь, и мы сходим к Родьке. А ты иди, иди! Служба у тебя сейчас или не служба? Параска ответила, что служба, еще раз посмотрела на Маркела, весело улыбнулась и вышла.31
Дядя немного помолчал, прислушался, но ничего особенного не услышал и, повернувшись к Маркелу, спросил: — Так, говоришь, у Трофима живешь? У Прасковьи за стенкой? Маркел кивнул. — Давно? — Третий день. — Ох ты! Во как вовремя приехал… — с усмешкой сказал дядя. — И служишь там же, где и он служил? Маркел опять кивнул. — А за что его зарезали? — Нас часто режут, — просто ответил Маркел. — Служба у нас такая. — Ну а все-таки? — Нам о таких вещах говорить не велят. У нас с этим строго. — Ладно, — сказал дядя. — Пусть так. Ну а сам-то ты откуда будешь? — Рославльский я. — Дрянной городишко, — сказал дядя, выпятив губу. — Знавал я одного рославльского. Ух и скользкий же был человечишко! Маркел усмехнулся и сказал: — Люди везде разные бывают. Вот как вы с Родькой. Оба рязанские, а вот… — Ты между нами клин не вбивай! — строго сказал дядя. — А сам ты кто? Чего к Прасковье прилепился?! — Я не лепился. — Я вижу! — грозно сказал дядя. И даже привстал. Но вовремя одумался и сел. Помолчал и сердито сказал: — Горе у нее. А бабы, когда у них горе, мягкие. Легко их обвести. Но ты у меня смотри! Я такого очень не люблю. Меня, может, отсюда и выпрут, но я тебя все равно везде найду! Сестра, как помирала, мне наказывала: «Тимоха, смотри за Прасковьей, она тебе как дочь. Нет у нее больше никого». И это когда Гурий еще здесь был. Ну да этот Гурий — тьфу! Может, это даже ее счастье, что он пропал. — Прасковья говорила, он в тюрьме сидит, — сказал Маркел. — В Ливонии. — Ага! В Ливонии! — передразнил его дядя. — Слушай ее больше. Да и что баба еще скажет? Страшно ей без мужа, вот что. И тут вдруг ты! Дядя замолчал и стал рассматривать Маркела. Тот не сдержался и сказал: — Мы люди известные. Нас в Рославле все знают. Мой родитель, Петр Косой, дослужился до полусотенного головы и выслужил поместье. А меня оттуда сюда взяли, и князь Семен говорит, что если я буду справно служить, то он возьмет меня вместо покойного Трофима стряпчим. А после, может, дойду и до стольника. — Если, конечно, тебя тоже не зарежут, — ядовито сказал дядя. — Га! — А вот смеешься ты зря, — медленно проговорил Маркел. — А то я сейчас не удержусь и запорю тебя! И быстро вынул нож из рукава. Дядя также быстро отшатнулся и сказал: — Какие вы в Разбойном приказе все разбойники! Вот уж воистину, с кем поведешься, от того и наберешься. Маркел в ответ только хмыкнул и, не спеша, убрал нож. Дядя пожевал губами и спросил: — Зачем тебе Родька? Маркел подумал и сказал: — Лекарь говорит, что не мог государь так быстро преставиться. Помогли ему преставиться, вот что! — Какой лекарь? — Какой надо! А что? — А то, что никаких лекарей государь к себе давно уже не допускал, — строго сказал дядя. — И никаких зелий, снадобий ни от кого не брал. Может, конечно, оттого и помер, что не брал. — Как он помирал, ты видел? — Нет. — А Родька видел! Вот я и хочу его порасспрашивать. — Да рассказывал он мне! — сердито сказал дядя. — Слышал я все это! Ну и что? Да Родька сам же говорил, что он даже понять ничего не успел. Позвали его, он пришел, государь сидит, подушками обложенный, и говорит: «Давай!» Бельский подал Родьке короб, Родька стал выгребать из него шахматы… — Бельский подал? — быстро уточнил Маркел. — Бельский, — уверенно ответил дядя. — И Родька стал выгребать из него. А государь вдруг захрипел и повалился. — Так только Родька выгребал из короба? А государь? Дядя подумал и честно признался: — А пес его знает. Не помню. Да и разве это важно? — Важно, дядя, очень важно! — строго сказал Маркел. — Вставай, пойдем. Сведи меня к Родьке. И я ему зла не желаю. Да я на него и не думаю. — А на кого? — Еще не знаю. А надо узнать! Не узнаю, мне князь Семен голову свернет. И твою вместе с моей. — А мою за что? — спросил дядя. — За то, что мне не помогал, — сказал Маркел. — Я так и скажу ему: пришел я к этому Тимохе, а он как начал вилять! Так что, скажу, может, и не зря на него думают, что он государя нарочно запарил. — Э! — гневно вскричал Параскин дядя. — Ну, вы там, в Разбойном, все злодеи! Все, как один! Пошли! Креста на тебе нет… Сказав это, Параскин дядя резко встал, надел шапку, взял со стола плошку и пошел к двери. Маркел пошел следом за ним.32
Родька жил на нижнем этаже где-то в совсем дальнем углу. Пока Маркел с Параскиным дядей дошли до него, они, наверное, раз десять свернули туда и сюда и раз пять то поднимались, то спускались по лестницам. Параскин дядя держал плошку высоко, но свету от нее все равно было немного. Зато было много теней, которые скакали как попало, и Маркел боялся оступиться. А Параскин дядя шел легко, уверенно. Ну, еще бы, сердито думал Маркел, он здесь уже, наверное, лет двадцать ходит, ему тут каждая половица знакома. И Параскин дядя и в самом деле не только быстро шел вперед, но при этом еще и рассказывал примерно вот что: — Видишь, куда его заперли? А раньше он жил наверху, рядом с Мастерской палатой. Но потом стал выпивать. А царь пьяных очень не любил. Что это, говорил, такое, куда ни сунься, везде эта пьяная рожа. И Родьку переселили. Но он за ум так и не взялся. Так что, бывало, его собирают к царю и только розовой водой побрызжут, дадут цукату пожевать, космы расчешут и ведут. Давно бы другого взяли, да где еще такого умельца найти?! Он же и в шахматы, он и в тавлеи, он даже в чет-нечет на пальцах всегда первый. Сколько раз мы его, бывало, испытывали, а он всегда был при выигрыше. Отец Феодосий говорит, что Родька — чертов сын, и как его увидит, обязательно крестится. А вот и он! Это Параскин дядя сказал, когда они подошли к двери, которая была закрыта на метлу. — Что такое? — спросил Маркел. — Он что, уже ушел куда-нибудь? — Наоборот, пришел, — сказал Параскин дядя. — Это его здешние снаружи заперли, соседи, чтобы он ночью не шастал, не мешал отдыхать. С этими словами Параскин дядя вытащил метлу из пробоев, отставил в сторону и открыл дверь. Когда они вошли внутрь, то стало слышно, что там кто-то тяжело сопит. Параскин дядя посветил, и Маркел увидел Родьку. Это был еще не старый человек, худой, с редкой кустистой бородой. Родька лежал на лавке и спал не разувшись. — Родя! — сказал Параскин дядя и наклонился к нему. — Это я, Тимоха. Родька продолжал сопеть. Он был лобастый, белобрысый. — Родя! — еще раз сказал Параскин дядя. — Царь зовет! Родька перестал сопеть и замер. Параскин дядя повторил: — Родька! Царь зовет! Вставай! Родька открыл один глаз и стал им осматриваться. После опять закрыл. Параскин дядя сел рядом с Родькой на лавку, положил ему руку на плечо и заговорил уже вот как: — Родя, за тобой пришли. Говорят, ты царя уморил. Будут тебя казнить. Вставай! Родька открыл оба глаза и посмотрел на Маркела. Параскин дядя продолжал: — Видишь его? Это Маркел. Он сейчас будет тебе руки выкручивать и иголки под ногти загонять. — Не иголки, а щепки, — поправил Маркел. — О! — сказал Параскин дядя. — Слышишь? Родька помолчал, потом с усилием, но и очень сердито спросил: — Ты кто такой?! Маркел вместо ответа показал овчинку. Родька на это только усмехнулся. Маркел убрал овчинку и сказал: — Меня князь Семен прислал. Князь Лобанов-Ростовский, из Разбойного приказа. А я там стряпчий. И князь Семен мне сказал: сходи, стряпчий, к Родиону и скажи ему, пусть сразу во всем признается, тогда ему будет послабление. Так и сказал: послабление. Родька в ответ только хмыкнул и посмотрел на Параскиного дядю. Тот встал, сходил за занавеску, повозился там, позвякал, а после вышел со шкаликом. Родька перестал дышать. Параскин дядя сел с ним рядом, одной рукой помог ему подняться, а второй подал шкалик. Родька его быстро выпил, отбросил на лавку, на тряпки, утерся и уже только после этого посмотрел на Маркела и спросил: — Ну так чего тебе надо? Голос у Родьки был хриплый, глаза у него бегали, а какие уши были у него, ого, с удивлением подумал Маркел, он таких больших ушей сроду не видывал! — Ну, — опять спросил Родька, — чего?! Маркел сказал: — Люди стали разное брехать. Одни даже брешут, что это ты царя сгубил. Но князь им не верит. Иди, он сказал мне, и расспроси у Родьки сам. И как он скажет, так и запишем. — А! — сказал Родька. — Вот как… И опять стал смотреть на Маркела. Маркел заговорил: — Люди говорят, к тебе пришли и повели к царю. Ты пришел, а царь уже сидит, и уже доска готова, и даже Бельский уже шахматы достал, расставил, и царь уже ждет. Так было? — Нет, — с трудом ответил Родька и облизал губы. После вдохнул побольше воздуха и так же с трудом стал продолжать: — Я пришел, а государь сидит. Смотрит на меня, усмехается. Говорит: чего ты такой красный? Тоже в бане был? Я молчу. А он тогда: давай. И Родька замолчал. Маркел спросил: — А дальше что? — А дальше Бельский дает короб. — Бельский дает? — переспросил Маркел. Но Родька, как будто не слыша его, продолжал уже бойчее: — И я лезу в короб, беру двух пешцев, белого и черного, быстро беру, чтобы государь не рассмотрел, зажимаю в кулаках, прячу за спину, после опять сую вперед. Он тогда хлоп меня по левой руке! Я разжимаю, а там белый пешец. Значит, государю играть белыми. И мы с ним тогда оба сразу лезем в короб и начинаем доставать — он белых, а я черных. И тут он вдруг как охнет, вдруг захрипит — и упал! И шахмата с ним на пол тоже. — Какая шахмата? — быстро спросил Маркел. Родька вместо ответа посмотрел на Параскиного дядю. Тот поднял с лавки шкалик и ушел за занавеску. Пока он ходил, Родька молча смотрел в сторону. Дядя вернулся, Родька выпил и сказал: — Белый цесарь была эта шахмата. — И что? — спросил Маркел. — И ничего! — сердито сказал Родька. — Цесарь упал, и государь сразу за ним. Ух, я тогда напугался! Отскочил к стене, стою, трясусь и думаю, сейчас государь поднимется и грозно скажет: «Это все ты, Родька, виноват, фу, как от тебя разит, я аж чуть не задохнулся насмерть!» И я стою, трясусь. А он не поднимается. Тут Бельский вдруг кричит: «Попа зовите! Где Федоска?!» Вбегает Федоска, государев духовник, и сразу к государю, руку ему вот так поднял и говорит: «Чего же вы, псы?!» Ну, и еще прибавил всяко. — А шахмата? — спросил Маркел. — Какая шахмата? — Белый цесарь. Она что? — Так она упала вместе с государем! — сердито сказал Родька. — Я же говорил! — И там так до сих пор валяется? — Нет, не валяется, — ответил Родька. — Я после приходил, смотрел. И даже рукой пощупал. Нет там ничего! — Так, может, Спирька подобрал? — спросил Параскин дядя. — Может, и Спирька, — сказал Родька. — А может, и кто другой. Да только я здесь при чем? Иди к Спирьке и у него спрашивай. Он там сторож, а не я. — Та-ак! — сказал Параскин дядя. — Понятно… И посмотрел на Маркела. Маркел смотрел на Родьку. Родька опять лег на лавку и закрыл глаза. — Родя! — сказал Параскин дядя. — Родя! — И стал трясти его за плечо. — Как тебе, Родя, не совестно! Чьи это шахматы, твои или его?! Но Родька уже опять лежал, как мертвый. Параскин дядя оставил его в покое, посидел, подумал и сказал: — Ну, что, может, и вправду сходить к Спирьке? Маркел согласно кивнул.33
Параскин дядя взял со стола свою плошку, они вышли, Маркел опять закрыл дверь на метлу, и они пошли к Спирьке. Параскин дядя сразу стал о нем рассказывать, и из его слов получалась, что Спирька, или Спиридон Фомич, комнатный государев сторож, был человек богатый. Государь же часто его жаловал, вот и была у Спирьки деревенька под Смоленском, и там жили его домашние. А сам Спирька безвыездно жил здесь, в царском дворце, в тесной каморке, кормился впроголодь, одевался как попало, и из-за этого все его звали Старый Жила. — Да ты сам это сейчас увидишь, — продолжал Параскин дядя. — Бывают же такие люди! А вот государь его любил. Такой, говорил, не продаст, поскупится. И Параскин дядя, отсмеявшись, сразу же начал рассказывать о том, как Спирька ходил в ряды покупать себе новые сапоги. Но дорассказать не успел, потому что они уже пришли. Даже дверь у Спирьки, подумал Маркел, была низенькая, узкая. Параскин дядя постучал в нее условным стуком, после стукнул еще раз и сказал вполголоса: — Спиря, это я, Тимоха. Не гневи меня. Только тогда Спирька открыл, и то не сразу. С виду Спирька был ничем не примечательный, и одет он был в самый обычный халат. Серый он весь, вот что, подумал Маркел, мимо такого пройдешь и не заметишь. — Дело какое? — спросил Спирька, стоя прямо на пороге. Маркел молча пошел на него. Спирька так же молча отступил. Маркел и Параскин дядя вошли к Спирьке. Горница там была почти пустая. Один сундук, две лавки, один стол, одна божница, и та небольшая. Куда он все прячет, подумал Маркел. Спирька стоял посреди горницы и держал руки при груди. — Дело какое? — опять спросил он. — Да, дело, — ответил Маркел, достал овчинку, показал ее и строгим голосом прибавил: — Пропажа объявилась. И на тебя все показывают. — Как это на меня? И кто? — с явной опаской спросил Спирька. — Кто, кто? Все! — еще строже продолжил Маркел. И вдруг почти мягко спросил: — Когда государь помирал, ты где был? — Здесь, — ответил Спирька. — А после сразу туда побежал. — Ну, прибежал, и что? — Помогал обряжать. — А еще?! — Прибирал. — Что прибирал? — Ну, — сказал Спирька, морща лоб. — Кубки прибирал. Блюдо. Шахматы. — И все чин по чину, счет по счету?! — А как же. У нас с этим строго. До смерти! — Ага! — радостно сказал Маркел и еще радостней спросил: — А шахматы куда прибрал? — В сундук. Как и всегда, в красный сундук, в игроцкий, тот, что в углу, и ключ при мне. Никому его я не давал. Да никто его у меня и не спрашивал. — Покажи! Спирька распахнул халат и там снял с пояса связку ключей (а еще несколько других связок осталось) и показал Маркелу. Маркел взял связку и спросил: — Который? Спирька выбрал один из ключей. Маркел строго сказал: — Веди. Показывай нам тот сундук. Оттуда одна шахмата пропала, вот что. А голова у нее была золотая, говорят. И ты эту голову украл, пока там была неразбериха, царя прибирали. — Да что ты! — громко сказал Спирька. — Да чтобы я когда чего? — А чего ты так шумишь? — строго спросил Маркел. — Если там все на месте, то проверим и сразу отпустим, вот и все. Веди! Спирька тяжело вздохнул и посмотрел на Параскиного дядю. Тот только развел руками. — Ладно, — сказал Спирька. — Пойдем. Если нас туда пропустят. — Это уже тебе об этом печалиться, — сказал Маркел. — Потому что, если не пропустят, я тебя к себе сведу. В приказ. — Помолчал и прибавил: — На дыбу! Спирька опять посмотрел на Параскиного дядю. Но тот теперь даже не стал руками разводить, а только прищурил глаза. Спирька запахнул халат и сказал: — Ладно, пошли. Да здесь не так и далеко. Идти там и в самом деле оказалось близко, но, правда, не просто. То есть там нужно было пройти всего шагов с полсотни, но и еще через два рундука, при которых стояли ближние государевы жильцы, которые, как они говорили, знать ничего не знают и никого не станут пропускать, потому что им это не велено — пропускать кого-либо в такую пору. Тогда Спирька выступал вперед и говорил, что как им не совестно, они же все его уже по сколько лет знают, он же царев сторож Спиридон Фомич, и показывал им что-то очень небольшое, что он зажимал в кулаке, и при этом грозно добавлял, что его сам Годунов послал, а дожидается сам Бельский и, если он припозднится, тогда сюда явится сам Бельский а следом за ним Годунов! И жильцы, пусть и не сразу, пропускали Спирьку, а за ним и Маркела с Параскиным дядей, когда Маркел показывал овчинку, а дядя какой-то узелок. Так, может, через полчаса они все трое все-таки дошли до так называемого малого государева чулана, как называл его Спирька. Там, возле чуланной двери, Параскин дядя светил плошкой, а Спирька отпирал засовы. После они зашли в чулан. Там было много сундуков. Что в них хранилось, Маркел так никогда и не узнал. А вот в красный сундук он заглядывал сам. Но ничего особенного не высмотрел, потому что там лежали самые обычные (с виду, конечно) коробы. Спирька достал один из них и протянул Маркелу. — Нет, — сказал Маркел, — сам открывай. Параскин дядя посветил. Спирька открыл короб. В нем лежали шахматы — одни светлого дерева, другие темного. Шахматы как шахматы, только дерево, наверное, драгоценное, подумал про себя Маркел, а вслух спросил: — Где белый цесарь? Спирька порылся в коробе, после еще порылся. После даже чертыхнулся и опять стал рыться. — Дай сюда! — строго сказал Маркел. Спирька отдал ему короб. Маркел шагнул вперед и высыпал короб на стол. Спирька подскочил к столу и стал перебирать фигурки, раскладывать их по кучкам, по цветам… А после замер и посмотрел на Маркела. Тогда уже Маркел порылся в шахматах, нашел черного цесаря и стал его рассматривать. Цесарь был такой: в длинной широкой шубе, с личиной и в шапке. Шапка была, конечно, деревянная. Маркел вернул цесаря на место и молча посмотрел на Спирьку. Тот сказал: — Ну, белый, может, куда закатился. Да кому он нужен? Деревяшка. Ты же видишь, нет тут нигде никакого золота. — Где белый цесарь? — очень строгим голосом спросил Маркел. Спирька молчал, опустив голову. Маркел сказал: — Родька говорит, что царь его в руке держал. А когда помер и упал, цесарь у него из руки вывалился и под лежанку закатился. Ты под лежанкой искал? — Ну, может, и искал… — Может! — грозно перебил его Маркел. — А сейчас тебя, может, на дыбу? Спирька стал белым-белым и сказал: — Шахмата какая-то… Тьфу на нее! Было у нас уже такое: пешник упал на пол, государь на него наступил, раздавил, и Бельский послал к Жонкину. Жонкин нам нового пешника сделал — и вся недолга! И теперь можно опять послать. Служка скоро сбегает, никто и не заметит. Маркел посмотрел на Спирьку. Спирька покраснел, но все же выдавил: — Я заплачу. Не поскуплюсь! — Га! — громко сказал Маркел. После спросил: — А Жонкин — это кто такой? — Это с аглицкого подворья, — сказал Спирька. — Точильщик. Он нам эти шахматы точил. Да мы всегда у него точим. Бельский всегда у него заказывает. Ага, подумал Маркел, Бельский! Опять Бельский… Наколдовали на белого цесаря, царь за него взялся и сразу помер. А вот промахнулся бы царь, не угадал бы цвет, и что бы тогда было? Родька взялся бы за цесаря и вдруг при всех помер, так, что ли? И злодейство сразу бы раскрылось? Нет, тут что-то напутано! И Маркел осторожно сказал: — А может, зря мы на тебя, Спиря, подумали? Чего мы этому Родьке, этому пропойце, так много веры даем? Может, это Родька играл белыми, а государь черными? И Родька под шумок, когда царь помирал, белого цесаря и поволок? Спирька быстро-быстро заморгал, но все равно пересилил себя и сказал: — Нет, этого не может быть. Государь всегда играл белыми. Станет тебе государь играть черными! — А как он белый цвет каждый раз угадывал? — спросил Маркел. — Родька же говорил, что он шахматы за спину прятал, в кулаках зажимал. — Га! — засмеялся Спирька. — Нашли кого слушать! Родька всегда руки так держал, чтобы государю было видно, что в них. Иначе не сносить бы Родьке головы. И он всегда играл черными, а государь всегда белыми. Ага, ага, быстро подумал Маркел, вот теперь все сходится, белый цесарь всегда государев! А Спирька уже сказал дальше: — Не смотрел я под лежанку. Не до того мне тогда было. Да и не моя это забота. На это есть истопники, это они у нас подметают. — Истопники? — удивился Маркел. — Они, они! — уверенно ответил Спирька. — Да вот у Тимохи спроси. Маркел посмотрел на Параскиного дядю, и тот хоть и нехотя, но утвердительно кивнул. Тогда Маркел еще спросил: — А кто там из ваших в среду был? — Это надо спрашивать, — сказал Параскин дядя. — Сразу не вспомнишь. — Ладно, — сказал Маркел. — Пусть так. Но тогда это уже завтра. Надо же и честь знать. Ночь какая! Устал я, как собака. Закрывай! Спирька начал поспешно засовывать шахматы в короб. Потом убрал короб в сундук. Когда они все трое вышли, Спирька закрыл чулан и посмотрел на Маркела. Взгляд у Спирьки был собачий, то есть очень преданный. — Так! — строго сказал Маркел. — Завтра я к тебе опять приду и мы еще поговорим. А покуда чтобы рта не раскрывал! Ни о чем! И никому! Понятно? Спирька радостно кивнул. — А теперь выводи нас отсюда. Спирька опять молча кивнул и повел их обратно. Смотреть на него было одно удовольствие, такой он тогда был послушный. А когда он их оттуда вывел и остановился, покорно склонил голову… То Маркел не удержался и негромко, в шутку порскнул! И Спирька и в самом деле, почти что как пес, тут же отступил во тьму и сразу в ней пропал. Параскин дядя постоял и помолчал еще немного, потом поправил огонь в плошке и сказал: — Я знаю, кто там в среду был. — Кто? — спросил Маркел. Но Параскин дядя не успел ответить, потому что вдруг раздался голос: — О, вот и он! На ловца и зверь бежит. Маркел обернулся и увидел Савву — того самого истопника, который рассказывал про царевича Ивана.34
Савва смотрел на них и улыбался. Параскин дядя сердито спросил: — Тебе чего не спится? — Служба у меня такая, — сказал Савва. — Людей днем и ночью греть надо. И за порядком присматривать. — За порядком и без тебя есть, кому присмотреть, — еще сердитее сказал Параскин дядя. — Это верно, — согласился Савва. — И они смотрят. Время же уже какое позднее и мало ли кто что может задумать? В государевом дворце! Вот Степан и ходит взад-вперед, караулы проверяет. Зачем вам с ним встречаться? А я могу так вывести, что никто про это не узнает. — Тут Савва усмехнулся и, повернувшись к Маркелу, прибавил: — Да и есть мне, что тебе сказать. С глазу на глаз. Маркел посмотрел на Параскиного дядю. Тот помолчал, подумал и сказал: — Ну, ладно. С Богом. Маркел шагнул к Савве. Савва повернул от света. Маркел повернул за ним. Так они прошли совсем немного, только до первого поворота. Там Савва остановился, открыл небольшую дверь и жестом показал Маркелу, чтобы тот входил. Маркел вошел. Это был тесный чуланчик, посредине которого стояла горящая лучина в поставце, рядом лежала на полу горка сухих полешек, там же стоял прислоненный к стене топор, а возле него топорик поменьше, а дальше колун, железные щипцы, три кочерги, все разные, дальше еще дрова, дальше несколько связок лучины на полке, под потолком веник травы… Ну, и так далее. — Все мое, — сказал Савва. — Садись. Маркел сел на лавку. — Это моя служба, — сказал Савва, осматриваясь по сторонам. — Тридцать пять лет служу. Еще первую царицу помню. Вот где была царица, да… Не то что нынешняя. Та царя вот так держала! Пикнуть при ней боялся. Лишний кубок выпить. Но зато, бывало, как только отъедем куда, он мне сразу: Савва, Саввушка!.. — Тут Савва замолчал, перестал улыбаться и уже серьезным голосом продолжил: — Я тебя там долго дожидался. Может, с час. — Дело какое имеешь? — самым простым голосом спросил Маркел. — Имею, — так же просто ответил Савва. — И что за дело? — Деревянное. Маркел насторожился, но ничего не спросил. Тогда Савва сам сказал: — Нашел я одну вещицу. В среду. Под царской лежанкой. — Шахмату? — спросил Маркел. Савва кивнул. — Где она? Савва молчал. После наконец начал рассказывать: — Я уже печь тогда разжег, дрова сложил, взял метлу и стал мести. А народу там до этого было полно. Натоптали! А тогда всех уже выгнали. Только поп остался, Феодосий этот, и Бельский. Феодосий над царем сидел, Писание читал, а Бельский ходил взад-вперед. Царь на столе лежал. И лежанка его там же рядом стояла, ее еще не убрали. Я стал подметать вокруг нее. Вдруг слышу — что-то зацепило. Я тогда метлой дальше залез, раз-другой повернул и вымел. — Шахмату? — опять спросил Маркел. Савва опять кивнул. — А дальше? — Я ее поднял, стал смотреть. Большая шахмата. Там же они разные: есть маленькие, есть побольше, а есть совсем большие. Вот эта большая была. — Белая? — Нет, больше желтая. И только я ее взял, как слышу, Бельский сразу: «Ты куда?!» Я остолбенел, стою. Он подошел ко мне, глянул мне в руки, на эту шахмату, губу вот так выпятил и говорит: «Фу, гадость какая! Выбрось ее! В печку! Ну!» И как я Бельского ослушаюсь? Я подступил к печи, заслонку приоткрыл и выбросил. И обратно заслонку закрыл. Тут Савва опять замолчал. Маркел немного подождал, потом спросил: — И шахмата сгорела, да? Савва еще помолчал и продолжил: — Я стою, смотрю на печку. А Бельский опять говорит: «Гадость какая! Белый цесарь! Как бы какого колдовства на нем не было. Ну да теперь все начисто сгорит». И постоял еще немного, после опять стал ходить взад-вперед. А после за ним пришли, и он с ними вышел. А я подошел к печи, заслонку открыл, кочережкой подсунул и достал. Вот это. И Савва показал фигурку — обгорелую шахмату, белого цесаря, уже не только без шапки, но и почти без головы. — Бери, — сказал Савва. — Может, тебе пригодится. Маркел взял шахмату и стал ее рассматривать. Ничего в ней особого не было. Савва опять заговорил: — Я, когда узнал, что это цесарь, очень напугался. Думал, а вот хватятся, начнут искать и узнают: Савва сжег царского цесаря! Значит, на царя наколдовал, порчу на него напустил, и царь от этого помер. — Так он же тогда уже и так был мертвый, — с удивлением сказал Маркел. — Ну, мало ли… — сердито сказал Савва. — Стали бы там разбираться! А сказали бы: раз сжег, так виноват, спустить с него, с пса, шкуру, посадить его на кол и сверху варом обварить! Ну, и что там у вас еще? А так отдал, и все! — И все? — переспросил Маркел. — Ну, не совсем, — ответил Савва. — Я же уже один раз промолчал, когда была эта беда с царевичем. А теперь еще с царем и я опять молчи? Маркел смотрел на Савву. Савва улыбался. Маркел спросил: — А про Степана ты что говорил? Так просто? — Нет, не просто, — сказал Савва. — Они и вправду сейчас ходят, хватают всех подряд. Но ты об этой не думай, я тебя выведу. Это же наша служба — ходить по всему дворцу и днем и ночью. Да я, если будет надо, через дымоход тебя вытащу. — Тогда чего сидим? — сказал Маркел. — Пошли. — И встал. И, убирая белого цесаря в пояс, прибавил: — Вещица забавная. Может, и вправду сгодится. Савва на это только усмехнулся, но вслух ничего не ответил, открыл дверь и первым вышел из чулана. За ним вышел Маркел.35
Да, и еще вот что: перед тем, как выйти, Савва обломил лучину, и теперь они были со светом, идти стало легче. Но Савва почти сразу же сказал, что надо идти низом, через склепы, так оно будет надежнее. Они так и сделали — спустились вниз и пошли по этим самым склепам, то есть по каменным подвалам, где было очень тесно и дышать почти что нечем. Да и лучина там почти не светила. Зато и в самом деле, сколько они шли, никого не встретили. Только иногда Маркел видел крыс. Крысы были здоровенные. — На царских-то хлебах! — сказал про них Савва. А больше ничего не говорил. Там они шли еще немало. Потом Савва вдруг остановился, повернулся к Маркелу и сказал: — Только, если вдруг начнут тебя допытывать, где ты ее взял, говори, что сам в золе нашел. Маркел пообещал сказать. Савва пошел дальше. А Маркел подумал: ну и скажет он, а кто в это поверит? Ведь сразу спросят: как ты попал в царские покои, кто тебя туда впустил, Савва, что ли? А пройдя еще немного, Маркел подумал уже вот о чем: ну и что, что Бельский приказал сжечь шахмату?! Да он на расспросе так и скажет: я подумал, вдруг на нее порча напущена, вот и велел ее сжечь. А если бы шахмата не обгорела и у нее в короне и в самом деле нашлось зелье, Бельский опять бы сказал: я так сразу и подумал, что она ядовитая, слава Богу, что ее сожгли, и он опять будет прав. Вот только если бы… И тут Маркел крепко задумался… Вот если бы кто сказал: да, там было зелье, и его туда велел вложить Бельский, вот это было бы да! Но только кто такое скажет? Только тот, кто эту шахмату точил и знает, в чем ее секрет. То есть вот к кому надо идти — к тому точильщику Жонкину! Только он может сказать наверняка, было в шапке зелье или не было. И вот если он скажет, что было и что оно там было потому, что так велел Бельский… Да только зачем это Жонкину? Он сумасшедший, что ли, брать на себя такое? Или, может… Но дальше Маркел подумать не успел, потому что Савва вдруг сказал: — Пришли, — и показал на лесенку, которая вела наверх. После, помолчав, прибавил: — Там, сразу налево, ворота. Караульное слово — Зарайск. Ответ — Алексин. Иди. Маркел стал подниматься по лестнице. Вначале света было очень мало, а после он совсем пропал. Это ушел Савва и унес лучину. Маркел уже на ощупь поднялся до самого верха, потом так же на ощупь нашел дверь, открыл ее, вышел и осмотрелся. Еще только-только начало светать, Маркел стоял на Заднем государевом дворе неподалеку от Куретных ворот, под навесом, и со стороны его видно не было. Зато ему было хорошо видно, что у ворот стоят стрельцы в белых шубных кафтанах, то есть белохребетники, и их около десятка. Маркел вышел из-под навеса, подошел к стрельцам, сказал «Зарайск» и шагнул дальше, к калитке. Но его вдруг схватили за руки и не пустили дальше. — Эй, вы чего? — удивился Маркел. — Ведь же Зарайск! — Ну и Зарайск, — ответил один из стрельцов, — а выпускать не велено! — Как это не велено? Я же на службе! — Все мы на службе, — сказал уже другой, старший стрелец, десятник, подходя к Маркелу. — Но если не велено, значит, не велено. — Так что мне теперь делать? — Ждать. Покуда наше начальство не явится. — Это Степан, что ли, ваше начальство? — насмешливо спросил Маркел. — Кому Степан, а кому и господин сотник! — строго сказал десятник. — И еще посмотрим, что ты запоешь, когда с ним встретишься. Вчера тоже был один такой ершистый, а обломали быстро! Стрельцы вразнобой загыкали. Спорить с ними было бесполезно. Маркел отошел в сторонку и приготовился ждать. Небо было еще темное, еще можно было не спешить. Вот только опять этот Степан, без всякой радости подумалось Маркелу, и он невольно ощупал шахмату в поясе. Если ее найдут, ему мало не будет. Ну да что поделаешь! Маркел переступил с ноги на ногу, осмотрелся и увидел, что он, оказывается, не один такой. Рядим с ним, прислонившись к стене, сидел еще один перехваченный — судя по одеждам, это был подьячий. От подьячего крепко разило винищем. Почуяв, что на него смотрят, подьячий поднял голову и, обращаясь к Маркелу, сердито сказал: — Мне скоро на службу, а я еще дома не был. Маркел промолчал. Тогда подьячий вновь заговорил: — Государь помер, а у них никакого смирения. Честных людей хватают. — Кто тебя хватал?! — сказали от стрельцов. — Сам же сюда прибился. — Я не прибился, а меня прибили! — уже громче продолжал подьячий. — Ироды! Государя толченым стеклом обкормили, а теперь над его верными слугами глумитесь? Ну да будет и над вами суд! Я вчера был в Заречье. Там вся ваша слобода за нас, все девять полков. А мы им здесьворота откроем! Вот вы тогда… Но договорить ему не дали — к нему кинулись и повалили его лицом в грязь. Подьячий ловко вырывался, его били, а он опять вырывался. Маркел отвернулся, чтобы не смотреть на это. — Ироды! — выкрикивал подьячий. — Креста на вас нет!.. Мало вас покойный государь казнил! А потом он стал просто хрипеть, это ему сдавили глотку, потом еще похрипел и затих. Когда Маркел обернулся обратно, подьячий уже лежал на спине, а во рту у него торчал кляп. Маркел вздохнул и подумал, что если при нем найдут шахмату, то ему будет намного больше. И, пока не явился Степан, ее еще можно незаметно выбросить. Но как тогда дядя Трофим, зачем его убивали? И вообще все зачем? Сидел бы в Рославле и беды не знал! И Маркел стоял, не шевелясь, и ждал, когда придет Степан. Время шло, небо светлело и светлело, а Степан все не шел. Маркел стоял и думал о разном, а иногда косился на подьячего. Подьячий лежал смирно, хоть он и не был связан. Ну так при таких только попробуй не будь смирным, понимающе думал Маркел. А еще ему вдруг стало думаться вот о чем: а что если Савва ему нарочно эту шахмату подсунул, никакая она не царская, а это ему сказали — Савва, сделай милость, придет Маркел, и ты ему… Ну, и так далее. Но думать о таком было противно, и Маркел не думал. А время шло! Небо стало уже почти совсем светлое, уже дворня стала выходить из служб, уже там-сям стали постукивать, потопывать… И наконец раскрылась одна из ближайших дверей, и во двор вышел Степан — в белом шубном кафтане, с посохом, в высокой собольей шапке, увидел Маркела и удивленно поднял брови. После, подойдя, сказал: — А тебе чего дома не спится? Или что? Маркел покраснел. Нехорошо это, подумал он, что Прасковья про меня подумает? Или Степан не про Параску? И уже хотел было спросить, про что это Степан, как к Степану уже подошли и стали что-то быстро-быстро шептать на ухо и кивать в сторону лежащего подьячего. — Ага, ага, — сказал Степан. — Конечно. — И переспросил: — Что? Ему указали на Маркела. Степан усмехнулся и сказал: — А пусть идет! Конечно! — И, уже обращаясь к Маркелу, прибавил: — От меня поклон! Маркела тут же схватили и подтолкнули к воротам. А Степан повернулся к подьячему. Что там было дальше, Маркел не увидел, потому что перед ним открылась калитка в воротах, стрелец сказал «Алексин» и толкнул его в плечо. Маркел вышел за ворота. Где-то вдалеке пропел петух. Совсем утро, подумал Маркел, отходя от Куретных ворот, а как спать хочется, а жрать! Ну да нужно будет потерпеть, тем более сегодня постный день, пятница. Да только что пятница! А вот почему Степан его вдруг отпустил? А поклон кому передавал? А шахмата, она на самом деле царская или его просто хотят запутать? Можно Савве верить или нет? И где Параска? И, думая об этом всем сразу, Маркел перешел через дорогу и подошел к воротам князя Семена.36
Там, не успел он еще даже постучать, сразу открылась калитка, и сторожа сказали проходить. Неладно это, подумал Маркел, переступая через подворотню, что у них тут такое, пожар, что ли, и быстро посмотрел вперед. А там, впереди, на княжеском крыльце было черно от народу, в середине виднелся сам князь, а внизу перед крыльцом стояли сани, простая одноконка, и кто-то возле них — очень знакомый! Маркел прибавил шагу. Впереди все пока что молчали. Потом, было слышно, князь гневно и очень громко воскликнул: — Я вам еще ноздри вырву, сволочи! Кому он это обещал, было неясно. Маркел с шага перешел на рысь. Теперь он четко различал, кто стоит возле саней: Васька Шкандыбин, а рядом с ним его подручный, Влас. А еще в санях кто-то лежал, наполовину прикрытый рогожей. Возле саней толпилась дворня. И на крыльце ее было немало. Там же, на крыльце, в простой домашней шубе нараспашку стоял князь Семен. Лицо его было красно от гнева, глаза так и сверкали огнем. — О! — громко сказал князь, выставляя вперед руку. — А вот и наш верный пес прибежал! Все обернулись. Маркел смутился и остановился. Да и куда было бежать, когда он и так был уже рядом с санями. В санях лежал мертвый человек. — Этот? — спросил князь, указывая на мертвеца. Маркел молчал. Тогда князь уже понятнее спросил: — Этот, что ли, Трофима зарезал? Маркел еще раз, уже внимательнее посмотрел на мертвеца и теперь сразу признал: да, точно, этот. А что тогда здесь делает Шкандыбин? Он, что ли, его сюда привез? Значит, Шкандыбин его и убил! Сперва послал его убить дядю Трофима, а после самого убил. А теперь привез продать! Эх, тут же подумал Маркел, надо же было так брякнуть! Черт дернул! И как теперь быть? Маркел смотрел на мертвеца и молчал. Тогда князь опять спросил — уже совсем сердитым голосом: — Ну, что? Маркел ответил: — Похоже, что этот. — Похоже! — гневно рыкнул князь. И так же гневно позвал: — Филька! Филька выступил вперед и, даже не глядя на сани, сказал: — Этот, конечно. Маркел посмотрел на Шкандыбина. Шкандыбин усмехался. Его Влас тоже довольно щерился. А князевы дворовые один за другим подходили к саням, рассматривали мертвеца и говорили, что этот. Так сказали, может, пятеро, а то и шестеро, Маркел их не считал, а потом заговорил Шкандыбин: — Ну, если вы его признали, тогда пятьдесят рублей мои. — Маркел, — сердито спросил князь, — какие пятьдесят рублей? Что он мелет? Ну вот, подумал Маркел, началось! Или кривая вывезет? И, как ни в чем не бывало, ответил: — А как же, князь! Да ты же сам мне говорил, что, если я найду того, кто этого злодея сыщет, тому ты пятьдесят рублей пожалуешь. Князь! Вчера у тебя в горнице! Когда ты еще орехи щелкал. — Ты орехи мне не впутывай! — сердито сказал князь, но по его лицу было понятно, что он уже начал догадываться, что к чему. И так оно и было, потому что князь тут же продолжил: — Я пятьдесят рублей как обещал? Тому, кто злодея добудет, а не тому, кто его такого привезет — уже неживого. Что мне теперь с ним делать? Что он мне теперь ответит, как я с него допрос сниму? И он посмотрел на Шкандыбина. Шкандыбин растерялся и молчал. — Поэтому какие пятьдесят рублей? — сказал дальше князь. — Двадцать пять, вот красная цена. — И, повернувшись к дворскому, велел: — Мартын! Дай им двадцать пять. — Помилуй, княже! — ответил Мартын. — Где при мне прямо сейчас такие деньги? Это пускай они уже приходят завтра. — Нет! — тут же сказал Шкандыбин. — Зачем завтра? Я же привез сегодня. — Ладно! — сказал князь сердито. — На, держи! — И, распахнув шубу, сорвал с кафтана здоровенную, в золотой оправе зеленую (изумрудную) пуговицу и сунул ее Шкандыбину. Шкандыбин схватил пуговицу, повернул ее и так и сяк и, выпятив губу, сказал: — Да в ней и десяти рублей не будет… — Га! — гневно вскричал князь. — Да если ты кому скажешь, что это моя пуговица, так тебе и все тридцать дадут! Шкандыбин еще постоял, покривился, а после сунул пуговицу в пояс и, повернувшись к Власу, велел выгружать. — Э, нет, нет! — быстро сказал князь. — Мне здесь этого добра не надо. Это с собой забирайте. За те двадцать пять рублей, которые я вам недодал. Забирайте, я кому сказал! Пока вас взашей не выгнали! И пока вас не стали спрашивать, где вы его подобрали и кто его жизни лишил. А я это еще спрошу! Шкандыбин гневно пожевал губами, но смолчал и только махнул Власу рукой. Влас взял лошадь за гуж, развернул сани, и они медленно пошли со двора. Когда они дошли уже почти до самых ворот, князь тихо, но очень сердито сказал, обращаясь к Маркелу: — А теперь пойдем ко мне, и я с тобой поговорю, скотина. Меня без двадцати пяти рублей оставил!37
Князь, а за ним Маркел вошли вначале в сени, а дальше мимо сторожей с серебряными бердышами в ту же самую горницу, в которой Маркел уже был и которая, как он вскоре узнал, называлась Ответная. Там князь сел на ту же, покрытую тем же ковром лавку, снял выходную шапку и вместо нее надел домашнюю, легкую. — Упарился с тобой! — сказал он при этом. — Такие деньги псу под хвост! Маркел молчал. Князь посмотрел на стол, наверное, искал орехи, но стол был пуст, и князь, пожевав губами, опять заговорил, обращаясь к Маркелу: — Разгневал ты меня сегодня. Нехорошо было так делать. Надо же предупреждать! А то я сплю, вдруг меня будят и говорят: злодея привезли, убитого, пятьдесят рублей за него просят. Знаешь, что я тогда подумал? Маркел стал смотреть в пол. — Вот, правильно! Теперь молчи! — сердито сказал князь. — Раньше надо было говорить! — Но, так как Маркел опять не отозвался, князь уже простым, без всякой злости голосом спросил: — Где ты со Шкандыбиным стакнулся? — Да вот, — ответил, тяжело вздохнув, Маркел, — от тебя, князь, вчера вышел, дай, думаю, схожу под Бельских, гляну к ним через забор, может, чего и высмотрю. Глянул, а там этот убивец. Со Шкандыбиным. Стоят и лясы точат. — И ты сразу за нож? — сказал князь. — И через тын! — Маркел согласно кивнул. — А там они тебе по голове. И в клеть. И пытать. И ты понес чего ни попадя. Так? — Так, — сказал Маркел. — И ничего умнее не придумал, как пообещать от меня денег. Маркел тяжко вздохнул и сказал: — Да кто же мог подумать, что они своего же зарежут? — А чего было не резать? — сказал князь. — Зарезал — концы в воду. А к нам привез, так еще и продал, на двадцать пять рублей разбогател. А как мне теперь ходить? — И князь указал на то место, где у него раньше была пуговица. — Это еще можно вернуть, — сказал Маркел. — Как? — недовольно спросил князь. — А пойти к ним и сказать, что мы заводим на них дело. Что они человека зарезали и похвалялись этим, возили в санях и вымогали за него. — А я почему им деньги дал? — спросил князь. — Ну… — только и сказал Маркел. — Потому что я с ними в стачке? — продолжал уже опять сердито князь. — А если я скажу, что это Шкандыбин убил, знаешь, что они мне на это ответят? Что никто его не убивал, а они его под забором нашли и сразу его узнали, потому что ты им еще раньше про него рассказывал и сулил большие деньги. Вот они на них и покусились и повезли его к тебе, а ты стал отпираться, зубы скалить. Значит, скажут, это ты его убил! И дальше скажут: надо заводить на тебя дело. И что я им в ответ скажу? А ничего! Потому что… А! — только и сказал князь и махнул рукой. После снял шапочку, повертел ею перед собой, после опять надел. Маркел молчал. — Вот так-то, сокол мой, — сердито сказал князь. — Москва, это тебе не Рославль, тут люди зубастые. Так что и ты зубы расти, пока не поздно. А какие зубы уже выросли, те береги, смотри, чтобы не выбили. Маркел тяжко и уже в который раз вздохнул. Князь усмехнулся, сказал: — Ладно, чего это я… Я в твои годы тоже был простым, как пень, только потом пошел в рост. Но про это в другой раз. А теперь вот что. День и ночь тебя здесь не было. Что ты за это время сделал? Узнал, куда Трофим ходил? — Узнал. — Ого! — обрадовался князь. — Ну, и куда? — К ведьме одной. В Белый город. — И ты был там? Или ты про это только слышал? — Был. — И что видел? — Что зарезали ту ведьму. Лежала она вся в крови, и возле нее нож валялся. — И больше никого там не было? — Была одна карлица. Пьяная. — И что та карлица? — Убить меня хотела. — Но, вижу, не убила. А что еще? Говорила она что-нибудь? — Говорила. Что дядя Трофим к ним приходил, и эта ведьма ему нагадала, что тот человек, который вдруг помер и про которого мы знать хотим, помер от деревянной шапки. — Как это деревянной? — Шахматной. — Шахматной? — еще сильнее удивился князь. — Кто тебе это сказал? — Родька Биркин. — Родька-игруля, знаю… Царев шут! И что, он, что ли, и убил? — Нет. А он только сказал, что, как только царь взялся за шахмату, за белого цесаря, так сразу и помер. И что этот цесарь, может, заколдованный, и от него и смерть. — А кто его заколдовал? — Пока не знаю. — А где сам цесарь? — А он, когда царь упал, под лавку закатился. — А из-под лавки? — Его Савва вымел. — Савва, что ли, Хренов? — Может, и Хренов, я не знаю. Но вымел он. А Бельский, как только это увидел, сразу стал орать: «Сожги его, сожги, может, на нем порча!» И Савва бросил цесаря в огонь, в печь в царской комнате. И закрыл заслонку. — Да-а-а! — сказал князь, глядя вверх по сторонам. — Грехи наши тяж… И замолчал и посмотрел на Маркела. После усмехнулся и прибавил: — Но, чую, что это еще не все. А что было дальше? — А как только Бельский вышел, Савва тогда сразу в печь и достал оттуда цесаря. Вот он! И Маркел подал князю цесаря. Князь взял его, долго рассматривал, вертел и так и сяк, а после спросил: — А где же его шапка? — Отгорела, — ответил Маркел. — Но есть мастер Жонкин. Это он цесаря точил. Токарь с английского подворья. Надо к нему сходить и выведать, может, даже очень строго, не вделывал ли он ему в шапку какого секрета. — Это да! — сказал, подумав, князь. — Это ты верно придумал… А Бельский как забегал, пес! Ага, ага! — И князь хищно заулыбался. Потом, все продолжая улыбаться, прибавил: — Ну, так и сходил бы к тому Жонкину. — Кто же меня туда впустит? Подворье же! — И это тоже верно, — сказал князь. — Но ладно! Это тебе Ададуров подскажет. Он там много раз бывал, он там всех знает. — Станет мне Ададуров подсказывать… — Станет, если я ему велю. — А, ну тогда другое дело. — Вот так, — сказал князь, улыбаясь. Потом вдруг спросил: — А ты хоть ел сегодня? А ночью хоть спал? Маркел молчал. — Тогда сходи пока домой, перекуси, приляг, — сказал князь мягким, добрым голосом, — а мы Ададурова к тебе пришлем. — Тут он вернул шахмату Маркелу и прибавил: — Ступай! Бог в помощь. Маркел поклонился и вышел. И уже в сенях подумал: а могли бы и здесь покормить, вон какой дух стоит, да от вас разве дождешься?38
Сойдя с крыльца, Маркел повернул налево, обогнул хоромы и вышел на задний князя Семена двор. Там он еще раз повернул, подошел к поварне и велел позвать Герасима. Вышел Герасим, княжий повар, и Маркел сказал, чтобы к нему, то есть к дяде Трофиму, принесли чего-нибудь поесть. — Сегодня постный день, — сказал Герасим. — Неси постного, — сказал Маркел. Спохватился и прибавил: — И сластей. — Сластей — это к Демьянихе, — сказал Герасим. — Вот у нее и возьмешь, — сказал Маркел. — Некогда мне к ней ходить! Меня боярин ждет. — Ладно, — сказал Герасим, усмехаясь. — А каких сластей? — Каких, каких! — рассердился Маркел. — Ну, калачей слащеных. Ну, кваса медового. И еще сильнее покраснел, подумав, что ему только к Демьянихе и не хватало. Особенно сейчас, ага! А Герасим, еще пуще усмехаясь, сказал, что все будет исполнено, пускай Маркел не сомневается. Маркел развернулся и пошел к себе. Там он поднялся на помост и, проходя мимо Параскиной двери, остановился и прислушался, но ничего не услышал. Тогда он прошел дальше. У него, то есть, конечно, у дяди Трофима было пусто и не топлено. Маркел походил туда-сюда, сел возле печи и сердито подумал: вот же привяжется, царя убили, чего только вокруг не случилось, а ему все Параска да Параска. Правильно мать говорила: не езди, сынок, в Москву, окрутят тебя там… И это тоже ни на миг покоя не дает! Маркел встал, взял кресало, высек огонь, зажег плошку. Стало светлей и веселей. Раскрылась дверь, и баба принесла еды. Сразу за ней вошла вторая баба и принесла сластей — слащеных калачей, как и велел Маркел, и медового квасу. Маркел подождал, пока они это разложат и расставят, а после еще подождал, пока они уйдут, и только уже тогда подошел к столу, выбрал самый румяный калач, спрятал его за спину, вышел на помост и свободной рукой постучался к Параске. Почти сразу же открылась дверь и вышла Нюська. — А мамка где? — спросил Маркел. — Зачем она тебе? — ответила Нюська. — Так просто, — сказал Маркел. И поспешно прибавил: — А это тебе! И подал ей калач. — Мне от чужих ничего брать не велено, — строго сказала Нюська. — Какой я чужой? — сказал Маркел. — Я свой! На одном крыльце живем. Нюська нехотя взяла калач. Сказала: — Ладно. Скажу, что ты мне грозил. Сказав это, Нюська надкусила калач. — Ну, как? — спросил Маркел. — Так себе, — ответила Нюська. Ела она без особой охоты. Потом еще прибавила: — Меня утром царица угощала. Вот то были калачи так калачи. — А ты что, царицу видела? — спросил Маркел. — А что здесь такого? — ответила Нюська. — Я ее почитай каждый день вижу. Мамка же там служит при боярыне, при этой змее Телятевской, а Телятевская у государыни в ближних. Там, считай что, и живет. — А у меня квас есть, — сказал Маркел. — Медовый. Пойдем, квасу налью. Или ты меня боишься? — Может, и боюсь, — сказала Нюська. — А квасу выпью. Они вошли к Маркелу. Нюська сама села, где ей нравилось. Маркел налил ей квасу и подал миску с калачами. А после сел сам, пододвинул к себе пустых щей, взял хлеба и начал есть. Сперва они оба ели молча, а после Маркел спросил: — Так мамка еще в тереме? — Ага, — ответила Нюська. — У царицы. И придет нескоро. — Помолчала и прибавила: — Много у них там суеты сегодня. День же какой! Царя хотели хоронить, да не заладилось. Еще не решили, кого после него царем кричать: нашего или того, не нашего. — Не нашего — это Феодора? — спросил Маркел. — Феодора, — кивнула Нюська. — А наш — это Димитрий. Совсем еще младенчик. А какой он веселый! Ласковый. Ты бы только его видел. Ангелочек! А их Феодор — фу! Волосатый, вот тут бородавка, глазки красные. Ох, как царица убивалась! Только Богдан Яковлевич ее и успокоил. — Какой еще Богдан Яковлевич? — Как какой? Бельский, конечно. Государев оружничий, боярин. Пришел к царице и сказал: «Не плачь, голубушка, мы этих стервецов проучим, они еще будут у нас в ногах ползать! А Федьку пострижем и в монастырь. Дай только время!» — А чего он так за вашего Димитрия держится? — спросил Маркел. — Так он же его крестный. Перед Богом за него в ответе. Да и царевич же какой! У него уже два зубика вот тут. Волосики — как пух. А этот Феодор… И Нюська скривилась. Маркел, зачерпывая щей, спросил: — И твоя мамка тоже за Димитрия? — А как же! Она же у царицы служит. — А если бы служила у царевны, у Федоровой жены, тогда бы она как? — Ну, тогда бы, — сказала задумчиво Нюська, — не знаю. Нюська насупилась и замолчала. Маркел еще похлебал щей, после спросил: — Ну и дальше что? Так мамка и будет там сидеть? — Может, и будет, — ответила Нюська. — Ох, они ее там извели! Царица же выла всю ночь, говорила, что ее задушат. Или отравят, как царя. — А что, — спросил Маркел, — она говорит, что царя отравили? — Да это все так говорят, — сказала Нюська. — И царица тоже. Он же, она говорит, какой здоровый был! Это же еще на Рождество она ему только сказала слово поперек, так он ее вместе с лавкой схватил, поднял над головой, а после как кинет в угол! Чуть жива осталась. Вот сколько в государе было силы. А потом вдруг начал отекать, сердитый стал, сонливый. Запретил ей на глаза ему казаться. И наших лекарей к себе не допускал. Посылал на аглицкое подворье. Но они так напугались, что своего лекаря не дали. А то, говорили, казнит, как Бромлеуса. — Бромлеус — это кто? — спросил Маркел. — А был тут раньше такой лекарь, тоже из аглицких немцев. Казнили его. Теперь у них новый лекарь, Иван Эйлов прозывается, но нянька его очень не любит, говорит, что это не лекарь, а царская смерть. — Нянька Аграфена, да? — Аграфена, Аграфена! Царская кормилица, ей сто пять лет. Но она и по сей час всем теремом заправляет. Ее и царица боится. Царице сколько? Только-только двадцать стукнуло. Седьмая жена. А эта — первая нянька. Сразу всем понятно, кто главней. И вот как нянька сказала, так теперь все за ней и повторяют: государя злые люди извели. И еще нянька кричит, что давно они его хотели извести, ее поймали, титьку ей ядом намазали, и с той поры нет в этой титьке молока, а то отпоила бы она Ванюшу — и спасла! Тут вдруг Нюська замолчала, нахмурилась, а после очень негромким голосом спросила: — А тот человек, которого сегодня в санях привозили, он что, и в самом деле зарезал дядю Трофима? — Он, — твердо сказал Маркел. И тут же в сердцах прибавил: — Эх! — Отложил ложку и уже спокойней продолжил: — Надо дядю Трофима проведать. А то скоро его… И замолчал. А Нюська сказала: — Унесли его уже. Нет его в часовне. Его еще вчера, так князь Семен велел, похоронили на Даниловом кладбище. Это за двором князя Мстиславского. — Проводи меня туда, — сказал Маркел. — Туда сейчас так просто не пройти. Теперь же везде стрельцы стоят. — А ты меня непросто проведи. Нюська помолчала и сказала: — Ладно.39
Нюська собиралась быстро — заскочила к себе, накинула на плечи шубейку, повязала голову платком — и сразу выскочила обратно на помост, где ее ждал Маркел. И они пошли. Во дворе никто их ни о чем не спрашивал. На воротах им сразу открыли, тоже ничего не говоря. Выйдя за ворота, Нюська осмотрелась и сказала, что, наверное, что-то случилось, потому что нигде никого не видно. И в самом деле, подумал Маркел, утром везде было полно стрельцов, а тут они вдруг все пропали. И ладно! Они пошли по улице, сперва мимо двора Бельского, а после, как сказала Нюська, мимо двора Годунова. Годуновский двор был побогаче, как сразу отметил Маркел, да и тын там был повыше, и охраны в воротах побольше. Правда, прямо напротив годуновской охраны на площади, рядом с тем местом, где сейчас стоит колокольня Ивана Великого, стояли стрельцы. Их было не меньше полусотни, они держались вольно, кучками, а их начальный голова стоял немного в стороне. Начальный голова был с посохом, и он этим посохом постукивал себя по голенищу сапога. Увидев Маркела, начальный голова строго насупился, но тут же забыл про Маркела и стал смотреть в сторону — уже безо всякой угрозы, а наоборот, с почтением. Почти сразу и с того же боку послышался топот. Маркел посмотрел туда. Оттуда ехал верховой. Конь под ним был просто загляденье, да и сам верховой был, сразу понятно, не из простых — в серебряном шлеме, в красной, как огонь, епанче с богатой меховой опушкой, а в руке он держал саблю. Маркел посторонился. Верховой проехал мимо. Проезжая, он поворотился к Нюське и кивнул ей. И даже как будто улыбнулся. Но тут же опять стал грозным, подъехал к стрельцам и стал на них кричать, обзывать их дубьем и требовать, чтобы они быстрей построились. — Кто это? — спросил вполголоса Маркел. — Фома Сазонов, — ответила Нюська. — Начальный голова Стремянного полка. Это они сейчас одни в Кремле стоят, а остальных стрельцов всех выперли. Они пошли дальше, через площадь. Маркел, уже не оборачиваясь, спросил: — А он что, тебя знает? — Он с моим батюшкой вместе служил, — ответила Нюська. — Когда они были молодыми. Но я этого не помню ничего. Да меня тогда еще на свете не было. — А что это они тут делают? — Годунова сторожат. Годунов же хочет посадить Феодора на царство. Вот они его и сторожат, чтобы вдруг не посадил. — А где все остальные стрельцы? — В Стрелецкой слободе, в Заречье. И как им теперь сюда прийти? Наши же мост разобрали! Богдан Яковлевич сразу, еще в первый день, это велел. Чтобы, говорил, не шастали. А Годунову, говорил, мы еще бороду выдерем. Маркел оглянулся. Стрельцы, теперь уже строем, стояли посреди площади и прилаживали пищали для стрельбы. — Вчера целый день так пугали, — сказала Нюська. Они сошли с площади, пошли между дворами. — Уже совсем недалеко, — сказала Нюська. — Сейчас Мстиславского пройдем, и там сразу будет кладбище, а за ним Данилов монастырь. Поэтому и кладбище Данилово. Они прошли еще немного, завернули за угол, и Маркел увидел небольшое кладбище. Бояр здесь не хоронят, сразу подумал он. Да и стряпчих, похоже, нечасто. Они вошли в калитку. Снег на кладбище был чистый, не топтаный. Маркел увидел только одну тропку и пошел по ней. Так он дошел до того места, где снег был перемешан с землей, а посреди на холмике стоял свежий столбик под двускатной крышей — голубец. Маркел снял шапку, подошел поближе. Под крышей стояла иконка святого апостола Трофима, а под ней погасшая лампадка. Нюська стала разжигать лампадку. Маркел смотрел на голубец. На душе было пусто, а больше ничего Маркел не чувствовал. Тогда он стал читать молитву. Нюська разожгла лампадку, поставила ее на место и сказала с сожалением: — Опять задует! — Немного помолчала и продолжила: — А мой батюшка в Ливонии. Его, говорят, там убили. Мамка врет, что он живой. И дядька Сазонов врет. И Лука Иванович. — Да что ты говоришь такое? — строго перебил ее Маркел. — Грех это! Нюська молчала. Тогда Маркел спросил: — А вот дядя Трофим, он откуда был родом? Нюська помолчала и ответила: — Не знаю. И никто не знает. Он никогда не говорил. И родня к нему не приезжала. Мамка его жалела. И князь Семен тоже. Видишь, какой голубец? Чистый дуб! А яму какую глубокую выкопали! Князь говорил: еще копайте, заплачу вдвойне. И двух попов нанял служить. Хоронили по-боярски, ничего не скажешь! — И вдруг спросила: — А за что его зарезали? — За шахмату, — сказал Маркел. — Как за шахмату? — А вот так, — просто сказал Маркел. — Нож взяли и пырнули. И готово. — Золотая была шахмата? — спросила Нюська. Маркел осмотрелся. Никого вокруг видно не было. Тогда он достал шахмату и подал Нюське. Нюська начала ее рассматривать. — Только никому не говори про это, — чуть слышно сказал Маркел. — А то и меня зарежут, и тебя, и твою мамку. Дай! Он отобрал у нее шахмату, сунул в пояс, опять осмотрелся… И похолодел! Возле кладбищенской ограды кто-то стоял и уже брался рукой за калитку! Маркел толкнул Нюську в плечо и очень злобно прошептал: — Тикай отсюда, дура! Живо… Я после приду. Тикай! Я кому велел! Нюська пригнулась и шмыгнула в сторону, а дальше через холмики к кустам, а там за кусты… Маркел перекрестил ее и оглянулся. Тот незнакомый человек уже вошел в калитку. Маркел поправил нож в рукаве. Тот человек шел не спеша, лица его видно не было, потому что у него был поднят воротник, а шапка надвинута низко. Прости, Господи, подумал Маркел и тряхнул рукавом, велика милость Твоя…40
Тот человек повернулся к Маркелу, и Маркел сразу узнал Ададурова. На душе стало легко, Маркел опустил руку. Ададуров подошел, остановился, снял шапку и перекрестился, глядя на могилу. Маркел тоже стал креститься. Ададуров надел шапку и, продолжая смотреть на могилу, сказал: — Мне от князя Семена передали, что тебе надо пособить. Маркел молчал. Ададуров, уже глядя на Маркела, продолжил: — Говорят, что у тебя все сладилось. А ты у ведьмы был? — Был, — кратко ответил Маркел. — И как там мой платочек? — Сгорел. — Вот как! — Ададуров еще раз перекрестился и добавил: — Это славно. А почему он сгорел? — Ведьма на нем гадала, — ответил Маркел. — Бросила в огонь, он сгорел. — И что она в огне увидела? — Ну-у, — протянул Маркел. — Откуда я знаю. Я же тогда там не был. Ведьма, когда я к ней пришел, уже сидела убитая. И нож возле нее валялся. — Как она сидела? — вдруг спросил Ададуров. — Очень просто, на лавке, — ответил Маркел. — А перед ней на столе стояла миска. А в ней корешки. — Как человечки? — Да. — Слава тебе, Господи, что не успела! — скороговоркой сказал Ададуров и так же быстро стал креститься. — А что иначе было бы? — спросил Маркел. — И что не успела? — А не успела всех нас уморить, вот что! — сердито сказал Ададуров. — Утопила бы те корешки, и мы все перемерли бы. А кто ее зарезал, ведьму эту? — Откуда я знаю? — ответил Маркел. — Мертвая она сидела, я же говорил. — И что, там никого больше не было? — Ну, была еще одна чувырла. Карлица, — поморщившись, сказал Маркел. — Но крепко пьяная. Очень! — Да она почти всегда такая, — сказал Ададуров. — Знаю я ее. И что она? — Ну, это… — без всякой охоты ответил Маркел. — И это она тоже, да! — с ухмылкой сказал Ададуров. — А ты ей что? — Да ну тебя! Ададуров тихо засмеялся, потом сказал: — Ладно. А теперь больше не виляй, а отвечай, как было. Я же вам все как на духу поведал. Так вот, ты пришел, и там сидит ведьма Домна, вся в крови, и в миске корешки плавают, как будто утопленники всплыли, а на полу нож валяется. А на лавке лежит карлица, Аленой ее звать, я знаю. И вот она встает, эта Алена, ты у нее спрашиваешь, и она что отвечает? Маркел подумал и сказал: — И говорит, утром приходил твой товарищ, и Домна с ним колдовала: сожгла тот платочек с ногтями, и они в огне увидели, что убили того человека, чьи были эти ногти, и что надо искать деревянную шапку. Маркел замолчал и осмотрелся. Никого нигде видно не было. — Ну? — нетерпеливо сказал Ададуров. — Вот и «ну»! — сказал Маркел. — Она говорит: «Давай выпьем», — полезла к ведьме за вином, увидела, что ту зарезали, и как стала орать, что это я зарезал, и как стала хвататься за нож, что я чуть убежал. И больше ничего уже не спрашивал. — А зря! — строго сказал Ададуров. Немного помолчал, после сказал: — Ну, ладно. А дальше что? Зачем тебе теперь английское подворье? — Нужен мне там один человек. Тамошний точильщик, зовут его Жонкин. Он государю шахматы точил. Ададуров смотрел на Маркела и ждал. Маркел продолжал: — Много шахмат выточил, целый короб. А одна из шахмат была белый цесарь. И вот как только государь за этого цесаря взялся, так сразу помер. А Бельский стал кричать: «Бросай цесаря в печь, бросай, а то вдруг на нем какая порча!» И люди бросили. А другие люди после осторожно подошли и кочергой оттуда цесаря достали. Крепко обгорелого. Вот он! И Маркел подал его Ададурову. Тот стал его рассматривать. Маркел сказал: — Теперь здесь ничего не видно. А раньше тут сверху была голова, а на голове деревянная шапка, про которую ведьма сказала, что надо ее искать. — Как же теперь ее найдешь? — спросил Ададуров. — Ну, мало ли, — ответил Маркел. — Может, тот точильщик что расскажет. Может, там был какой секрет. Ададуров опять стал рассматривать шахмату. После сказал задумчиво: — А что! Здесь голова, здесь шапка. А здесь, на шапке, остренькая пипочка, и ее можно ядом смазать. Очень запросто. — И белый цесарь! — прибавил Маркел. — Его никто, кроме покойного государя, не то что в руки брать, а трогать не смел. Потому что он всегда играл белыми, а другие всегда черными. Значит, только он мог уколоться. — Гораздо! — сказал Ададуров. — Гораздо! А кто цесаря точить заказывал? — Богдан Яковлевич будто. Но, может, это и не шахмата совсем царя убила. — Может, может… — сказал Ададуров. — Конечно! И так им и говори, если чуть что. Говори, что за тем и пошел, чтобы козни развеять. Потому что поверить не мог, чтобы Богдан Яковлевич вдруг… Ну да что тебя учить? Сам знаешь! А теперь вот что. Пойдешь отсюда обратно, как и сюда шел, по той же дороге, и как будешь проходить мимо двора Мстиславского, то слева, сразу за деревьями, будут стоять палаты двухэтажные — это приказы. Так вот возле главного приказного крыльца возле колодца будет стоять человек моих примерно лет и в волчьей шубе с синим верхом, верх — сукно стамедное, и у того человека мешок. Так вот подойдешь к нему и скажешь, что велели пособить. А зовут его Никифором, он из Посольского приказа, дьяк, и он тебя отведет, куда надо. Иди, он давно ждет. Мы же пока тебя нашли! А я здесь еще постою, я же Трофима давно знаю. Ну! Маркел еще раз глянул на могилу, перекрестился, развернулся и пошел.41
А дальше было так, как и обещал Ададуров: Маркел пошел обратно, и когда проходил мимо двора князя боярина Мстиславского, то увидел слева, за деревьями, длиннющие каменные палаты о двух этажах, и там возле крыльца, при колодце, и в самом деле стоял человек в волчьей шубе, крытой синим аглицким сукном — стамедью. Где служим, оттуда и тащим, подумал, подходя, Маркел. А подойдя, взялся за шапку и, как и было обговорено, сказал, что может пособить. — Ну так и пособляй, — сказал тот человек, тот дьяк. Маркел взялся за мешок, который стоял рядом с дьяком. Дьяк строго сказал: — Полегче! Не то разобьешь. — А что там? — спросил Маркел, закладывая мешок на спину. — Питье, что же еще, — ответил этот дьяк, Никифор, как вспомнил Маркел. Они пошли от крыльца. Никифор шел немного впереди и боком, указывая дорогу. Маркел как бы невзначай повел плечом, в мешке сразу что-то звякнуло. — Медведь какой! — сказал Никифор. — Перебьешь же. — А что за питье? — спросил Маркел. — Посольское, — сказал Никифор. После велел: — Направо! Это они уже шли по площади. Маркел не удержался и сказал: — Мне Федор говорил, что ты у них толмач. А ты мешки с водкой носишь. — Это не я ношу, а ты, — сказал Никифор, усмехаясь. — И не с водкой, а с вином. С мальвазией. Посол только мальвазию пьет. Вот и велели еще принести. А ты мне сейчас все бутыли перебьешь. Не лязгай! Маркел стал нести ровнее. Никифор спросил: — Зачем тебе к ним на подворье? Что за нужда такая? — Надо одного человека сыскать срочно, — сказал Маркел как будто очень нехотя. — Должок вернуть. Тут же, смотрю, такие времена настали, что не сегодня завтра — фыр-р-р-р, и я его только и видел. — Да, — помолчав, отозвался Никифор. — Непростые времена сейчас… Это чтобы я бутылки нашивал! И чтобы посол их ждал! — А раньше было посытней? — спросил Маркел. — Было по-всякому, — уклончиво ответил Никифор, помолчал, а после не выдержал и начал говорить: — Сперва у них было всего навалом. Это когда только приехали. Но после сходили они к государю, государь их принял, они ему не показались, и он говорит: «Андрюшка, режь им рацион!» И Андрюшка, а это наш старший, наш думный дьяк Андрей Щелкалов, подрезал. Эти стали голодать. Неделю голодали, две… Государь их опять призывает — и их просто не узнать: на все согласные! Подписали все, что было надо. И государь обратно говорит: «Андрюшка, чтобы они теперь от пуза у меня, ты понял!» И наш главный им вначале все вернул, а после еще и удвоил. Ну, тут они опять стонать: «Смилуйся, великий государь, нам столько не съесть!» А он: «Нет, съедите!» И запретил урезать рацион и также недоедать. Так они и обжирались по тот самый день, когда государь преставился. И тут нам Щелкалов сразу говорит: «Урезать и не выдавать! Совсем!» А тут еще и Бельский: «И в цепи их всех!» А Годунов: «И в казематы!» Так и сделали: отобрали у них все и посадили их в их же подвал, где у них раньше были да и сейчас есть склады. Но мы же христиане! И того-сего им подаем час от часу. Вот мне велели отнести мальвазии. А там, глядишь, кого-нибудь еще пошлют. Да ему много не надо, этому послу, он же вот таковского росточка, худющий, одни усы да уши. А сколько в нем гонору! Ходит важно, как журавль. Его Журавлем и зовут. А тебе там кто нужен? — Жонкин его прозвание, — сказал Маркел. — Жонкин? — удивился Никифор. — Нет там никакого Жонкина. — Подумал и спросил: — А может, Жонкинсон? — Может, и Жонкинсон, — сказал Маркел. — Это же не мой должник, а дядин. Дядя велел сыскать и говорил, что Жонкин. — Да! — только и сказал Никифор, недоверчиво поглядывая на Маркела. После прибавил: — Ладно, только ради Федора. — Потом, еще немного помолчав, сказал: — Так там не один Жонкинсон, а их целых три. Тебе который нужен? — Жонкинсон-точильщик. — А, точильщик! Есть такой, — сказал Никифор. — Этот да, этот может. Возьмет и не отдаст. Пьянчуга! Да они там все такие. Вот сколько ты несешь? А это им на один раз. Даже не им, а одному ему. Гентельману сэру Ереми Баусу, как он себя называет. А люди кличут Журавлем. Но какой ловкий чертяка! Царь же сперва хотел его казнить, а он вывернулся, заболтал, и государь его помиловал. — А за что казнить? — спросил Маркел. Никифор остановился, внимательно посмотрел на Маркела и сказал: — Ты откуда к нам свалился? Ты вообще кто такой?! — Я рославльский, — ответил Маркел. — К дяде приехал, на побывку. А дядя возьми да и помер. А от него остались должники, и один из них — вот этот Жонкин, или Жонкинсон. Он должен дяде два рубля и пять алтын. — Два рубля! — сердито повторил Никифор. — Только людям головы дурить! Рославльский! Они пошли дальше. Шли, как отметил Маркел, к Фроловским воротам. — Жениться царь хотел, вот что! — вдруг начал говорить Никифор, глядя перед собой, на дорогу. — В прошлом году решил. Так и сказал: надоели вы мне все, вот здесь, поперек горла сидите, и ты, Марья, тоже надоела, хоть и молодая ты, а тьфу! Вот, говорил царь, возьму себе жену за морем, в английской земле, тамошнюю королевну, она родит мне королевича, и я посажу его после себя на царство, а Федьку с Митькой долой, оборванцев. И послал сватов. И мы поехали. — Как это — мы? — переспросил Маркел. — А так, — ответил Никифор. — Я тоже поехал. Не старшим сватом, конечно, а толмачом. Сватом был Федор Андреевич Писемский, ближний думный государев дворянин, если слыхал про такого. Да что ты слыхал? И что видел? Ты не только за морем, а ты хоть просто море видел? А я в нем чуть не утонул! Маркел помолчал, потом спросил: — И вы так вот плыли, плыли и прямо в английскую землю приплыли? Никифор утвердительно кивнул. — И как там? Никифор помолчал, после сказал: — Нам велено молчать про это. К кресту подводили. Басурмане там живут, вот и не велено смущать народ. — А! — только и сказал Маркел и усмехнулся. — Не веришь, что ли? — обиделся Никифор. — Так у своего Федора спроси, и он скажет: Никифор там был! И побожится, если надо. — И долго ты там был? — спросил Маркел. — Немало! — сердито ответил Никифор. Но почти сразу усмехнулся и проложил: — Был! Мед, пиво пил. Мед мы с собой привезли, а пиво там свое. Эль называется. Крепкое пиво! А поселили нас в отдельных палатах прямо напротив королевского дворца. — И ты королеву видел? — А как же. Наши как только с ней сойдутся, так сразу меня зовут. Они бают, я толкую. Сперва от наших на ихнюю сторону, а после с ихней на нашу. — И как их королева? Видная? На кого похожа? — Про это тоже велено молчать, — строго сказал Никифор. — Ну, а королевна тогда как? — спросил Маркел. — Невеста царская. Никифор помолчал, после ответил: — Рыжая она. Щербатая. Но в теле. Только не это главное. А то, что королева говорила, будто эта рыжая — ее родня ближайшая, а когда мы пошли доискивать в других местах, то совсем другое оказалось! Тогда мы возвращаемся сюда и говорим: так, мол, и так, великий государь, эта их Марья Хастикс — никакая не королевнина племянница, а неизвестного родства, может, вообще кабатчица какая. Ох, тут государь страшно разгневался и говорит: «Андрюшка, режь им рацион!» А мог и их самих порезать, между прочим. — Мог, — сказал Маркел, подумав. Тут они как раз вышли из улицы и подошли к площади перед Фроловскими воротами. Никифор сразу повернул к калитке и там только сказал: «Открывайте!» — как им сразу стали открывать. Царский толмач, подумал про себя Маркел, еще бы… Они прошли через калитку и вышли на подъемный мост. Вода под мостом была чернющая, льда нигде видно не было, его еще с ночи покололи. — Далеко ли нам туда идти? — спросил Маркел. — Недалеко, — сказал Никифор. — Это здесь, в Зарядье, на Варварке. На Варварке, подумал Маркел и сразу вспомнил Гридю с его шайкой. Только их еще сегодня не хватало! Подумав так, Маркел невольно осмотрелся. А Никифор продолжал рассказывать: — Этот Баус — очень вороватый человек. Да англичане, они все такие. Ну вот зачем им было эту рыжую подсовывать? Есть же у них там девицы настоящей королевской крови, и из себя пригожие, я сам видел, вот их бы и сватали. И женился бы тогда царь-государь на ихней такой королевне, нарожала бы она ему сынов один другого краше… Вот чего наши бояре боялись! Потому что царь же дальше что задумывал? Я же это толковал, сам с царского листа считывал! Сперва посадить королевича, а после призвать их бояр, у них бояре «лорды» называются, а еще после… И тут государь вот прямо в одночасье занемог и преставился. С чего это вдруг? Кому он помешал? Или всем сразу, если все молчат? Тут Никифор и сам замолчал и посмотрел на Маркела. А Маркел смотрел по сторонам. Никифор усмехнулся и сказал: — Странный ты какой-то. Не за того ты себя выдаешь. Я как только сегодня вернусь, так сразу пойду к Федору и напрямую спрошу, кого это он мне подсунул. Маркел открыл рот, чтобы ответить… И вдруг увидел Гридю! Они тогда как раз проходили мимо рядов. И там, возле стены, стоял Гридя и помахивал правой рукой. Маркел сразу понял, что у Гриди кистень в рукаве. Рядом с Гридей стоял Митя. Да и остальные были рядом. Маркел усмехнулся, кивнул Гриде, подкинул на плече мешок (мешок громко цокнул) и прибавил шагу. Никифор, едва поспевая за ним, зло сказал: — Допрыгаешься ты у меня! Ох, допрыгаешься… Живо сдам в Земский приказ! — Га! Сдашь, если успеешь! — сердито ответил Маркел. — Дурень! Глянь через плечо, вон того, в белой овчиной шапке видишь, звероватого? Так это Гридя Весло, он больше крови пролил, чем ты чернил извел. Сейчас они нас на куски порежут! Где твое подворье, далеко еще? — Здесь, совсем рядом! — быстро сказал Никифор, так же быстро озираясь. — Третьи ворота вон туда. Как только поровняемся, бежим! Они прибавили шагу. Гридя со своими тоже. Народу на улице было достаточно, не то что ночью, но все равно было гадко. Маркел шел, помахивал мешком, мешок позвякивал. Никифор не выдержал и вырвал у него мешок. Маркел на это только усмехнулся. Теперь Никифор нес мешок, а Маркел шел сбоку налегке. Идти оставалось совсем мало. А те шли сзади, совсем рядом, в каких-то десяти шагах. Захотели бы, сразу догнали. Но они нисколько не спешили, они же, наверное, думали, что уж теперь-то, на свету, Маркел никуда от них не денется и сейчас они с ним посчитаются сразу за все! Как вдруг Маркел вместе с Никифором резко свернули в сторону и кинулись к воротам английского подворья. Эти ворота, на их счастье, были нараспашку, и в них стояла стража — стрельцы. Никифор к ним и кинулся, а за ним Маркел. А Гридя и его приятели остались на Варварке. Маркел, стоя уже во дворе, за стрельцами, помахал Гриде рукой — махал неприлично, — после чего повернулся к Никифору, сунул ему под нос овчинку и строго сказал: — Это видел? Теперь знаешь, кто я? — Никифор молчал. Маркел гордо прибавил: — Вот так-то вот!42
И тут же почуял, что на него кто-тосмотрит — очень внимательно. Маркел начал осматриваться по сторонам. Вокруг, в разных местах, стояли стрельцы — и сразу возле въездных ворот, и дальше возле служб в трех или четырех местах, и возле колодца, и возле конюшни, и возле открытого амбара, через открытые ворота которого была видна гора мешков, возле которых тоже стояли стрельцы, и на крыльце тоже стрельцы. А сразу за ними, на самом верху, стоял боярин. Ну, или почти боярин, подумал про него Маркел, потому что только у боярина может быть такая высоченная черная шапка и такой посох, весь в каменьях, и такой острый, как два ножа, взгляд. Вот его-то Маркел и учуял, и теперь он, глядя на боярина, спрятал овчинку. Никифор глянул на Маркела, после повернулся в ту же сторону… Тот человек на крыльце усмехнулся и поманил их пальцем. — Щелкалов! — только и сказал Никифор и сразу пошел к крыльцу. Маркел пошел за ним. Щелкалов смотрел на них сверху вниз и продолжал усмехаться. Маркел и Никифор подошли к крыльцу и остановились. Щелкалов мельком глянул на Никифора, а после стал рассматривать Маркела. Маркел снял шапку. Щелкалов опять посмотрел на Никифора и строго спросил у него: — Ты кого это сюда привел? Никифор открыл рот и молчал. Маркел не удержался и сказал: — Никто меня не приводил. Я сам пришел. Дело у меня. И непростое, — и сделал вид, что лезет за овчинкой. — Вот даже как! — насмешливо сказал Щелкалов. — Ладно. Тогда заходи. Маркел стал подниматься по ступенькам. Его тут же догнали четверо стрельцов и пошли рядом с ним — двое слева, двое справа. Так он вместе с ними поднялся на второй этаж, там его повернули направо, а дальше через сени ввели в большую горницу. Пол там был каменный, выложенный в светлые и темные клеточки — точно как в шахматах. А сама горница была просторная, окна в ней были большие, прозрачные, а прямо напротив Маркела стоял здоровенный и толстенный стол, а при нем узкая скамья со спинкой, так называемое кресло. А уже над креслом на стене висела парсуна — чертеж. Маркел присмотрелся к чертежу и подумал, что это, наверное, чертеж всего Московского царства, а то даже и Сибири, и Татарии. Про Сибирь Маркел недавно слышал. Но дальше думать было некогда, потому что в горницу уже вошел Щелкалов, сел в кресло, снял шапку, положил ее перед собой и, приглаживая свою гладко остриженную голову, спросил: — Знаешь, кто я такой? — Знаю, боярин Щелкалов, — ответил Маркел. — Га! — сказал Щелкалов, не в силах признаться в том, что он не совсем боярин, а только заседает в боярской думе. — Да, я Андрей Щелкалов, держу Посольский приказ. И Разрядный. Пока я руки не приложу, оттуда ни одна бумажка силы не имеет. Вот кто я такой! А ты кто? — Маркел Косой, губной целовальник из Рославля. По государеву делу. — А какого государя? — сразу же спросил Щелкалов. — Прежний-то преставился, а нового еще не крикнули. — Прежнего, — сказал Маркел. — Но так же и нового. — О! — сказал Щелкалов. — Кудряво говоришь. А по-простому как? — А по-простому, боярин, — продолжил Маркел, — нужен мне точильщик Жонкинсон, он здесь, на английском подворье, жительствует. — А какое он имеет до тебя касательство? — спросил Щелкалов с улыбкой. — Самое обыкновенное, боярин, — так же с улыбкой ответил Маркел. — Когда лопаря убили, мы с дядей Трофимом выпивали, как вдруг прибежал Степан и говорит: кто Уйму зарезал, не вы ли? — Тпррр! — сказал Щелкалов. Маркел замолчал. — А теперь, — велел Щелкалов, — начинай с начала и изъясняй ясно, кратко. Маркел подумал и начал: — Я, боярин, третьего дня тому приехал из Рославля в Разбойный приказ по делу, привез грамоты. А тут как раз все это началось. Но никто за это браться не хотел. Тогда велели браться нам: Трофиму Пыжову и мне, мы оба князя Семена Лобанова люди. — Так, — строго сказал Щелкалов. — Кто вы такие, это ясно. А что за дело? — Дело о смерти государевой, — сказал Маркел вполголоса. — Гм! — также вполголоса сказал Щелкалов. Потом спросил: — А что, такое дело уже разве есть? — Прямо такого нет, — сказал Маркел. — Но есть другие дела, и вот если их сшить вместе, то и получится то самое дело, о котором я тебе и говорю, — о государевой смерти. А так его как будто нет. — Га! — громко сказал Щелкалов, и глаза у него засверкали. — Ловко затеяно. И ты одно из этих дел ведешь. И как оно называется? — Про лопаря Уйме Пойме. О том, кто и как его зарезал и за что. — Ну и за что? — За то, что хотел государя спасти. — Как это спасти? На государя разве кто что замышлял? — Если преставился, то, значит, замышляли. — Все мы когда-нибудь преставимся, — сказал, улыбаясь, Щелкалов. — Так разве это каждый раз будет чей-то злой замысел, а не перст небес? — Ну, не каждый, конечно, — ответил Маркел. — Да и я разве говорю, что мы нашли злодея? Нет, мы никого не нашли. И отнесли лопаря в ледник, и он там теперь будет лежать до тех пор, пока не скажут, что с ним делать дальше. И все. Маркел и в самом деле замолчал. Молчал и Щелкалов. Потом вдруг сказал: — Ладно. Не нашли, так не нашли. Но мысли ты какие-то имеешь же! — Откуда у меня, боярин, мысли? Да еще свои, — сказал, разводя руки, Маркел. — Я человек маленький… — Ладно, — опять сказал Щелкалов. — Тогда так: зачем ты сюда пришел? — Сдуру. — И так тоже бывает, да! — сказал Щелкалов. — Знаю. Вот тут у меня еще один сидит, такой же. Тоже говорит, что сдуру к нам приехал. Ерема Баус, английский посол. Я говорю ему: Ерема, не с тем ты так шутишь! Будешь молчать, будешь здесь сидеть да хоть до Страшного суда. И он молчит и сидит. И также и ты будешь сидеть. Но ты, я же вижу, спешишь. Тебе нужно скоро обтяпать! А скоро не будет. Или будет? Маркел помолчал немного, а после вздохнул и сказал: — Будет, боярин, куда же тут деться. — После еще немного помолчал и начал говорить уже такое: — Как я тут уже рассказывал, дело наше никуда не вышло. И положили мы лопаря в ледник. И тут там же, в государевом дворце, подвернулись мне одни людишки, и они вдруг говорят: Маркелка, ты везде бываешь, так сходи ты на английское подворье, спроси там мастера Жонкинсона и попроси его сделать для нас еще одну вещицу. Маркел опять замолчал. Щелкалов, подождав, спросил: — Что за вещица? Маркел засмущался и сказал: — Сущая безделица, боярин. И когда я ее назову, ты будешь смеяться, а им это может жизни стоить. — Что за вещица?! — чуть не прокричал Щелкалов. — Шахмата это, боярин, — скороговоркой ответил Маркел. — Вот такая кукла деревянная. Белый цесарь называется. Царь же, когда помирал, как упал, так шахматы и раскатились кто куда, и их все нашли, а одна потерялась, это белый цесарь, и сейчас, когда начнут казну передавать от прежней дворни к новой, станут проверять по описи, и вдруг глядь: а цесарь где? А почему его нет? Нет ли какого в этом умысла? И человека на дыбу! А так он говорит: вот тебе, Маркелка, семь рублей, а больше у меня нет, и ты сходи на английское подворье к мастеру Жонкинсону, он эти шахматы точил, скажи, чтоб выточил еще одну, и семь рублей сразу твои, и еще буду век за тебя свечки ставить! И я на эти семь рублей повелся. Щелкалов помолчал, после сказал: — Складно глаголишь. А теперь что? — Дозволь мне, боярин, найти здесь этого Жонкинсона и попросить его за три рубля выточить нам еще одного цесаря. — Позволяю! — ответил Щелкалов. — И даже больше того: я велю его прямо сейчас к нам привести, и мы с тобой вместе с него допрос снимем. Тебе же скрывать нечего, не так ли? Маркел подумал и сказал: — Конечно. — Вот и славно, — продолжал Щелкалов, после хлопнул ладонью по столу и громко окликнул: — Мишка! Вошел стрелец. Щелкалов объяснил ему, в чем дело и кого позвать. Стрелец кивнул и вышел. Щелкалов, опять усмехаясь, сказал: — Чую, ты чего-то недоговариваешь, но пока не понимаю, чего именно. — Чего тут понимать, — сказал Маркел. — Дело очень простое: колдуна зарезали. Кто захочет за такое браться? Вот нас с дядей Трофимом на это и сунули. Сказали: это дело не земское, и не дворцовое, лопарь же вон откуда, так что вы, разбойные, его и забирайте, тем более что вы его сюда и привезли. И мы пошли разбираться. А самих тоже робость берет! Уйме же был очень сильный колдун, он нарисует на снегу человечка, ножом ткнет — и тот готов. И снег красный-красный. — Да-а, — нараспев сказал Щелкалов. — Вот это ножик так ножик, на него, я думаю, охотников немало бы нашлось. А где сейчас тот ножик? — Пропал куда-то. Или кто украл, — сказал Маркел. — Уж мы искали там, искали! Но государя не ножиком ткнули. Щелкалов помолчал, даже посмотрел на дверь и только после сказал: — Так ты думаешь, его убили? — Думаю, — сказал Маркел опять только вполголоса. И также вполголоса продолжил: — А лопарь на государя ничего дурного не замышлял, а даже наоборот: он предупреждал его, говорил, что ему скорая смерть назначена, и даже называл, когда — в Кириллов день. А государь вместо того, чтобы стеречься, на лопаря разгневался. А злые люди это сразу подхватили и будто бы по государеву хотению лопаря зарезали! — Кто зарезал? — сразу же спросил Щелкалов. Маркел не ответил. — А! — хищно воскликнул Щелкалов. — Значит, знаешь… — Знаю, да доказать не могу, — сказал Маркел спокойным голосом. — Надо сперва Жонкинсона допросить? — Лопарь и Жонкинсон — из разных дел. — А если их сшить вместе? — Где же такие нитки взять? Щелкалов помолчал, даже прищурился, после сказал: — А ты хитер, целовальник. Я бы, может, даже взял тебя к себе. Но слишком ты скользкий… — И вдруг спросил: — На кого служишь? — Меня прислал князь Семен… — начал было говорить Маркел, но Щелкалов перебил его: — Я знаю, у кого ты служишь. А вот скажи, на кого? А, подумал Маркел, вот оно что, ты заробел, боярин! Ну, я тогда… И тут в дверь постучали. Щелкалов позволил входить. Вошел тот самый стрелец Мишка, а с ним невысокий человек, одетый в иноземное. — Жонкинсон? — строго спросил Щелкалов. Иноземец утвердительно кивнул. Щелкалов махнул рукой, и Мишка вышел. — Ну, что, Жонкинсон, — веселым голосом спросил Щелкалов, — нравится тебе у нас, в Московии? Жонкинсон вздохнул и тихо ответил: — Нравится. Говорил он почти без акцента. — И сейчас тоже нравится? — продолжал допытывать Щелкалов. — Сейчас не очень, — сказал Жонкинсон. — А ведь ты сам в этом виноват, гентельман Жонкинсон! — уже строго сказал Щелкалов. — Зачем у вас такая королева? Так и норовит нас, бедных, обобрать. Гнилые товары нам подсовывает, требует за них втридорога, и еще чтобы без пошлин… У нашего царя сердце мягкое, и он ей то в одном уступит, то в другом. А ей все мало! И государево сердце не выдержало, преставился великий государь, а вы что? Я к вам тогда приезжаю, а вы водку жрете. Нашу водку! И нашим мясом закусываете! В среду, в постный день! И еще ваш Баус говорит: «Чего, Андрюшка, очи выставил?» Я ему уже Андрюшка, вот как! А кандалов понюхать не хотел? А в подвале посидеть? И тут Щелкалов даже встал. Жонкинсон быстро сморгнул. Но Щелкалов уже сел обратно и совсем другим, домашним голосом продолжил: — Но тебе, Жонкинсон, свезло. Заинтересовались тобой мои люди. Говори, Маркелка. Маркел облизал губы и начал: — Знаю я, ты мастер очень сильный. Государю шахматы точил. Было такое? — Было, — сказал Жонкинсон. — Очень хорошие шахматы, — сказал Маркел. — Государь их жаловал. Но вот беда! Куда-то затерялась одна шахмата, надо ей замену выточить, и спешно. — Спешно не получится, — ответил Жонкинсон. — Потому что точило сломали. — Кто это посмел сломать? — грозно спросил Щелкалов. — Один ваш человек, — ответил Жонкинсон. — Это когда нас вязали. Этот человек ударил по точилу сапогом, и точило развалилось. — Гм! — громко сказал Щелкалов. — Ты, наверное, дерзил ему. Но ладно! Найдем мы его. И накажем. А точило еще можно починить? — Можно, — ответил Жонкинсон. — Но для этого нужно… — Все будет! — перебил его Щелкалов и, повернувшись к Маркелу, спросил: — Что еще? — А еще, — сказал Маркел, — это не просто шахмата, а белый цесарь. Он там самый главный, и на него все смотрят. Поэтому его нужно сделать точно таким же, чтобы никто не заметил, что это подмена. Чтобы цесарь был, как все! — Как все, его делать нельзя, — вдруг сказал Жонкинсон. — Почему это еще?! — спросил Маркел. — Потому что мне так было велено. Я его уже однажды таким сделал, и мне приказали его переделать. И я переделал. — Кто приказал? — спросил Щелкалов. — Я его не знаю, — сказал Жонкинсон. — Был человек от государя. Пришел, пересмотрел шахматы и сказал, что он ими всеми доволен, а вот белый цесарь не годится. У них в Кремле, он сказал, белыми всегда играет только государь, и поэтому белого цесаря надо переделать так, чтобы он был выше всех других фигур. Хорошо, сказал я, переделаю. Э, нет, сказал тот человек, зачем столько работы, белый цесарь всем хорош, ты только приделай ему что-нибудь на шапку, какое-нибудь украшение. Тогда я просверлил ему в шапке дырку и вставил туда золотое перо, вот такое коротенькое. И тот человек забрал те шахматы. Я и сейчас все также сделаю. Но, чтобы не ошибиться, ведь это было еще осенью, я мог же что-нибудь забыть, мне для примера нужен второй цесарь, черный. А сама работа займет не больше часа. Ну, и ремонт точила еще час. — Что ты на это скажешь? — спросил Щелкалов у Маркела. — Он дело говорит, — сказал Маркел. — Но мне тогда нужно сходить за черным цесарем. — Это обязательно, — сказал Щелкалов. И позвал: — Мишка! Пришел все тот же стрелец. Щелкалов велел ему увести Жонкинсона. Когда Мишка и Жонкинсон вышли, Щелкалов негромко сказал: — Ох, и нечистое же это дело… И еще вот что: чую я, что ты, Маркел, знаешь, кто это к Жонкинсону приходил. Ведь знаешь же? — Откуда мне такое знать, — сказал Маркел. — Да я про эти шахматы вчера в первый раз услышал. Щелкалов усмехнулся и сказал: — Если будешь и дальше кривить, то будешь вместе с гентельманом Баусом сидеть здесь до Страшного суда! — Так долго не получится, — сказал Маркел и тоже усмехнулся. — Те, которые меня сюда послали, обеспокоятся, что меня так долго нет, и придут глянуть, что же такое тут творится. Щелкалова всего перекосило, и он очень сердито сказал: — Смеешь грозить мне, пес? — Ни в коем разе, боярин, — ответил Маркел. — Просто хочу за твое добро своим добром ответить. Ты мне позволил с Жонкинсоном переговорить, а я тебе хочу за это дать совет: отпусти меня Христа ради, век буду тебе благодарен. И те добрые люди, которые меня сюда послали, тоже будут тебе благодарны. — Знаю я этих добрых людей!.. — сердито воскликнул Щелкалов. — За рубль задавятся, за пять рублей Москву сожгут, а за сто — весь белый свет. Отравили государя, ироды! Может, даже этим цесарем… И государь это чуял. А я, дурень, еще думал, голову ломал, чего это он вдруг за духовную взялся? И как ее всю искромсал! Я же когда ее тогда увидел, это когда он нас в среду к себе призвал, так не поверил даже: вся почеркана! А государь мне тихим голосом: «Ты это пока не читай. Пока что читай только старое». Ну, я так тогда и читал только старое. — А что там было новое? — спросил Маркел. — А тебе какое дело? — строго спросил Щелкалов. — Я этого даже боярам не сказывал, а тут тебе скажи! Придет время, всем скажу. Всем прочитаю! Я же знаю, где его духовная схоронена, в каком надо алтаре и за какой надо иконой. Да и кто это чужой в алтарь полезет? Это же какое святотатство! Это пять царей зарезать надо, чтобы… Тьфу! До чего договорился… Иди ты, Маркел, вон! Вместе с твоей шахматой, которую ты где-то спрятал или другие спрятали, а ты знаешь, где она лежит, может, даже у тебя за пазухой. Ну, перекрестись, если не так! Маркел замялся. Щелкалов с улыбкой сказал: — Вот то-то же. Но ладно, Бог с тобой, иди. И скажи тому, кто тебя сюда посылал, что я тебя по свой воле выпустил и шахмату при тебе оставил. А мог и шахмату отнять, и тебя здесь вместе с Баусом сгноить. Иди! Маркел повернулся и вышел. А там сошел по лестнице и вышел на крыльцо.43
С крыльца сразу было видно, что случилось что-то очень важное. Никого во дворе видно не было! Всех стрельцов как ветром сдуло, и все ворота, все двери стояли закрытые. Маркел подошел к въездным воротам. Из привратной будки выглянул стрелец и строгим голосом спросил: — Куда лезешь? Не видишь, что заперто? — Мне обратно надо, в Кремль, — сказал Маркел. — Сам Щелкалов велел. Дело государево! — и показал овчинку. Тогда из будки выглянул еще один стрелец, быстро осмотрел Маркела, после вышел к нему и сказал: — Шалят по городу. Нельзя на улицу ходить. — А кто шалит? — спросил Маркел. — Зарецкие, — сказал второй стрелец. — На Живом мосту недосмотрели, пропустили их на эту сторону. Два полка: Земцова и Поповича. Не все они прошли, конечно. А все равно не шути! — Но мне очень срочно нужно! — продолжал Маркел. — Я из Разбойного приказа, мне наш боярин князь Семен голову снесет, если я припоздаю. — А если ты сейчас выйдешь, так, может, совсем никуда не дойдешь. Зарецкие шли злые. Кричали: всех на бердыши поднимем! — Бердыши так бердыши, — сказал Маркел, — а у меня служба. Стрельцы, переглянувшись, стали открывать калитку. Маркел сразу проскользнул в нее и осмотрелся. На улице и в самом деле было пусто. Маркел вышел на середину мостовой, еще раз осмотрелся и опять никого не увидел. Тогда он прислушался. С одной, дальней стороны как будто били в походный набат. Но это могло и почудиться. Маркел поправил шапку, повернулся и пошел в сторону Кремля. Вокруг по-прежнему никого видно не было, все ворота стояли запертые. Даже собак слышно не было! Зашевелились замоскворецкие стрельцы, подумал Маркел, а их там девять полков, и все они за Годунова, а за Бельского только один Стремянный, вот Щелкалов и почуял слабину — и отпустил! А так бы держал в железах, как и Бауса. А что ему! Он и с боярами не шибко церемонится, а тут какой-то иноземец. Зато девять полков замоскворецких — это сила! Но их пока что не видно. Размышляя таким образом, Маркел прошел по Варварке и вышел к рядам, на площадь. Ряды стояли пустые, закрытые, проходы между ними были загорожены рогатками. Маркел прошел мимо рядов и возле Покровского собора (а там тоже было пусто) повернул вдоль рва… И вдруг обернулся. И не зря — внизу, возле реки, рядом с Живым мостом, возле Спасских Водяных ворот стояли стрельцы в зеленых и синих шубных кафтанах. Стрельцов было немного, сотни две, но все они были с пищалями, а некоторые из них уже держали наготове бердыши. Но это что! А дальше, на той стороне реки, на Балчуге, были видны еще одни стрельцы, с полсотни, которые катили к мосту пушки. Пушек было три, и катились они быстро. — Эй! Эй! — стали кричать Маркелу те стрельцы, которые стояли при Водяных воротах. — Стой! Ты куда?! Маркел прибавил шагу. Снизу, от ворот, бабахнула пищаль. Маркел мельком оглянулся, увидел в одном месте густой дым — и сразу с шага перешел на рысь. — Эй! — крикнули еще. Маркел еще прибавил. Когда еще раз бабахнули, он был уже возле подъемного моста, ведущего к Фроловской башне. Пробегая по мосту, Маркел повторял, чтоб не забыть: Зарайск, Алексин, Алексин, Зарайск. Но когда он постучал в калитку, у него ничего не спросили, а просто калитка открылась, Маркела схватили за плечи и втащили в арку. Калитка сразу закрылась, а Маркела повели из башни. Когда они вышли на свет, Маркела опять обступили стрельцы, но теперь все были в красных кафтанах, то есть Стремянного полка, кремлевские. — Ну! — сказал старший из этих стрельцов. — Рассказывай! Ты кто такой? — Маркел Косой из Разбойного, — назвал себя Маркел и показал овчинку. — Бегу с Варварки. С аглицкого подворья. — Как там наши? Держатся? — спросил стрелец. — Подай Бог как держатся! — гордо ответил Маркел. И даже прибавил: — Затворились они там. Эти сунулись, а наши не пустили! — А что еще видел? Есть из них кто на Варварке? — На Варварке нет, не видел. А внизу возле моста стоят. И пушки тащат. — Это мы сами знаем, — сердито сказал стрелец. — Иди отсюда, не мешай! Стрельцы расступились. Маркел прошел через их строй и пошел дальше, но уже не прямо, как раньше, а наискосок вдоль Чудова монастыря к двору князя Семена.44
Когда Маркел пришел туда, то сразу свернул к главному крыльцу. Там стояли сторожа с серебряными бердышами, а рядом с ними князев управляющий Мартын. Маркел еще издали поклонился ему, но Мартын даже бровью в ответ не повел, как будто не узнал Маркела. Маркел подошел к крыльцу и уже было ступил на нижнюю ступень, как один из сторожей грозно сказал: — Куда лезешь, пес? Чего тебе здесь надо? — Да я по делу, — начал было объяснять Маркел, — я князев человек. — И он посмотрел на Мартына, думая, что тот его поддержит. Но Мартын нарочно смотрел в сторону. Маркел замолчал. Сторож сказал: — Князь давно уехал. Приедет, тогда разберемся. А пока вали отсюда. Маркел поправил шапку, развернулся и пошел дальше. Может, так оно даже и лучше, думал он, сперва все обдумать, а только потом уже князю рассказывать. Размышляя таким образом, Маркел прошел сперва мимо хором, а после за угол. Там, уже на заднем дворе, Маркел поднялся к себе на помост и сразу увидел кочергу, стоявшую возле двери. Кочерга стояла неудобно — ручкой книзу, загребалом кверху, — но Маркел ее перехватил, взял, как положено… А после резко раскрыл дверь и через сенцы в два шага вскочил в горницу… И так и застыл с поднятой кочергой, так как в горнице было светло, потому что горела лучина, а при столе сидел Ефрем Могучий, любимый царев палач. — Здорово, — со смущением сказал Маркел, медленно опуская кочергу. — Здорово и тебе, — ответил Ефрем очень серьезным голосом. Ефрем был без шапки (шапка лежала на столе) и в расстегнутой шубе, из-под которой виднелась его знаменитая красная рубаха, подарок царя. Маркел приставил кочергу к стене и, подходя к столу, сказал: — Не обессудь, но не ожидал я сегодня гостей. Нет в доме ничего. — Хоть головой покати, — не удержавшись, прибавил Ефрем и усмехнулся. — Но по шкалику нальем, — сказал Маркел. — И хлеба сыщем. — Благодарствую, — сказал Ефрем, — но я пить не хочу. — Как гость велит, так и будет, — подхватил Маркел, снял шапку, сел к столу и посмотрел на Ефрема. Ефрем помолчал и сказал: — Дело у меня к тебе. Про лопаря. — Так его давно зарезали, — сказал Маркел. — Какое может быть дело? — Простое, — продолжал Ефрем. — Похоронить же его надо. Вот и Филипп сегодня говорит: «Сходили бы вы, голуби, в ледник да прибрали бы его. Хоть он и нехристь, а все равно человек». И мы с Мишей пошли. Миша — это наш новый пищик, вместо покойного Григория. Да ты Мишу видел! Когда ты приходил, он уже был у нас. — Был, да, — сказал Маркел, кивая. — Вот мы с ним и пошли, — сказал Ефрем. И осмотрелся. После вполголоса спросил: — А там что, за печатями? — и указал на опечатанную дверь. — Никого там нет, — сказал Маркел. — Там раньше дядя Трофим почивал, а как его зарезали, так пришли и опечатали. Там теперь пусто. — Ладно, — сказал Ефрем. — Бог с ней, с дверью. — И, еще немного помолчав, продолжал очень негромким голосом: — И вот мы с Мишей пошли в ледник. А это от нас рядом, сбоку, за крыльцом. Приходим, он лежит. Не шевелится! Я держу свет, а Миша наклоняется, стал его переворачивать… И вдруг как охнет! И как отскочит! Я ему: «Ты что это?» А он: «Сам посмотри! В руке…» Ну, я, грешным делом, и подумал, что опять у него нож. А наклонился, смотрю — нет, не нож, а шерсть какая-то. Я ему пальцы разжал, опять смотрю, а это хвост. Вот такой, небольшой. А ближе присмотрелся — это беличий. Я Мише говорю: «Ты чего, пес, орал? Беличьих хвостов не видел?» А он… Тут Ефрем опять замолчал, осмотрелся и только после продолжал, но уже совсем негромким голосом: — Он говорит: «Раньше хвоста не было». Я: «Ну и не было, а теперь есть, делов-то!» А он: «Дела большие. Это он нарочно так сделал. Он, как помирал, грозил, что тому злодею покоя не даст». Я говорю: «Кому это?» А Миша: «Бельскому». — При чем здесь Бельский? — недоверчиво спросил Маркел. — А вот при том… — сказал Ефрем. — Потому что это он его убил! — Лопаря? Боярин? — с еще большим недоверием спросил Маркел. — Ну, не сам, конечно, нет, — сказал Ефрем. — Я же тоже удивился. Тогда Миша сказал, что это, когда нас там не было, пришел человек от Бельского и зарезал лопаря! А им велел молчать, не то им худо будет. А лопарь, помирая, сказал, что он все равно так сделает, что всем будет известно, кто его убил. Вот почему у него вдруг беличий хвост оказался. Это значит: надо ловить Бельского! Белка — Бельский, понимаешь?! — Ну-у… — только и сказал Маркел. — Вот тебе и «ну»! — передразнил его Ефрем. — Я сперва тоже думал, что лопарь дурной. А он мне еще раньше, когда еще был жив, говаривал, что он государю зла не желает, а, напротив, желает его упредить, что его на Кириллов день убить хотят. И хочет близкий человек, и он очень хитрый! Но лопарь его еще хитрей и все равно так сделает, что правда наружу выйдет. И ведь вышла! И я про это знал давно, да не поверил в это. Не поверил лопарю — и государь преставился. А был бы я поумней, так государь бы жив остался. А так я государя погубил… Сказав это, Ефрем замолчал. Потом, немного погодя, опять заговорил: — Вот убили государя, и никому до этого нет дела. Ну, может, только тебе одному. Я же вижу, как ты ходишь, нюхаешь. Я же не слепой! Вот я и подумал: дай-ка я схожу к Маркелу, расскажу, может, ему это пригодится. И вот пришел. — А что лопарь? — спросил Маркел. — А ничего, — ответил Ефрем. — Лежит там себе дальше. — Вот и пускай лежит, — сказал Маркел. — И это даже хорошо, сохраннее. Всем так и говори, что князь велел его не трогать. Не трогать никому, понятно? — Еще как! — сказал Ефрем повеселевшим голосом. — Я вижу, ты уже что-то затеял. Это славно! А то как мне было горько… Я же так государя любил! Никто мне в жизни ничего не даривал, а государь рубаху подарил. Вот эту! Мне в ней всегда тепло! Один государь меня приметил… Одному ему я нужен был… Он мне был как отец родной! А я, дурень, его проморгал… Эх, я свинья, свинья подлая! И тут Ефрем ударил обоими кулаками по столешнице, да с такой силой, что чуть не проломил ее. Но тут же опомнился, встал, надел шапку и сказал: — Не обессудь, но у меня дела. Еще три виски надо людям сделать, а день уже кончается. До скорого. Бог даст, ждать будем недолго, — и, мельком кивнув, развернулся и вышел.45
А Маркел остался сидеть за столом. Очень хотелось есть. Посреди стола стояла миска, перевернутая кверху дном. Маркел приподнял миску, достал из-под нее ломоть хлеба и начал его обкусывать. Хлеб был очень твердый, поэтому обкусывалось только понемногу. Ну да и некуда спешить, думал Маркел, и от голодного нет толку, он только о еде и думает. А вот почему Ефрем вдруг приходил? Не подослал ли кто его? Нет, про рубаху он правду сказал. Никто, кроме царя, Ефрема не жаловал, вот Ефрем за него и хлопочет. А про лопаря легко проверить — сходи в ледник и сам посмотри. Ну да Маркел не сомневался, он знал, что колдуны и не такое могут. А тут же, в лопаре, какая была сила: сел, на снегу нарисовал, ткнул ножиком — и кровь пошла. А государя пожалел, хотел предупредить, да государь не понял. Пришел Бельский, сунул ему шахмату, на шахмате был яд, государь укололся и помер. Вот только, тут же подумал Маркел, об золотое перышко не очень-то уколешься, а Жонкинсон ведь такое поставил. Значит, им нужно было выдрать перышко и вставить вместо него что-нибудь другое, например, змеиный зуб, кошачий коготь или еще что-нибудь, смазать это ядом и подать. То есть теперь остается узнать только вот что: кто и когда это сделал — заменил на цесаре перо на эту гадость. А где был цесарь? В том чулане, в красном сундуке, а ключ от сундука у Спирьки на кольце на поясе. Значит, ходили они к Спирьке, брали ключ, а он про это промолчал, скотина… А вот сейчас к нему прийти и пугануть как следует! Сказать, что раскрылось его воровство, было золото на цесаре, на шапке перо золотое, а чего он, пес, вилял, что не было? Вот как возьмем тебя сейчас на дыбу! К Ефрему! И он тогда сразу все вспомнит, и не такие вспоминали, да! Подумав так, Маркел резко встал, надел шапку… Но тут же спохватился, снял ее, повернулся к святому Николе и широко, истово перекрестился. Никола шевельнул бровями. Маркел надел шапку, поправил нож в рукаве и вышел, уже на ходу застегивая шубу. Дело было к вечеру, начинало смеркаться. Морозило. Лужи под ногами весело потрескивали. Маркел догрыз хлеб, проглотил его, утерся. Проходя мимо княжьего крыльца, подумал: зайду после, когда буду больше знать. В воротах сказал караульное слово, его пропустили, он вышел на улицу. И уже даже стал ее переходить… как краем глазом заметил сбоку белое пятно, нет, даже несколько пятен, повернулся, посмотрел на них — и увидел, что это белохребетники: Степан, их сотник, тот самый, и с ним четверо его стрельцов, все в белых шубных кафтанах. — А! — радостно сказал Степан. — А вот ты! А я уже ноги сбил, тебя ища. И он пошел к Маркелу. Стрельцы пошли за ним. Маркел стоял на месте. Степан подошел к Маркелу, осмотрел его и очень недобрым голосом спросил: — Куда это ты навострился? — Да вот вышел ноги размять, — сказал Маркел. — А то лежал весь день, аж залежался. — Ага! — сказал Степан. — Лежал, а как же! Мы у тебя три раза были. Не было тебя там, я знаю. А ты знаешь, для чего мы тебя ищем? У Бельских человека убили. Рядом с вами, под тыном. Худой такой, шапка черная овчинная, волосы длинные, пегие, левая щека ободрана. Видел такого? Маркел не ответил. — Ну как не видел! — со смехом продолжил Степан. — Его к вам утром привозили. Он в санях лежал. Шкандыбин привозил. Шкандыбина-то небось знаешь. Ваш князь от него откупался! Дал пятьдесят рублей, только бы эти молчали. Да только не ваша здесь власть! — продолжил он уже почти в крик и схватил Маркела за плечо. — Это наше, дворцовое дело! Кто вам позволил в государевом дворце людей, как свиней, резать? Айда к Бельскому! — Да ты чего, Степан?! — тоже очень громко воскликнул Маркел. — Ты очумел, что ли? Никто его у нас не убивал! Его к нам привезли уже убитого. — А чего тогда князь Семен откупался? — Он не откупался, он гневался! — сказал Маркел. — Что за живодерню здесь устроили, он говорил, кого это к нему привезли, и велел везти обратно, и дал за труды на водку. — Что дал? — спросил Степан. — Да что попало под руку, — сказал Маркел. — Пуговицу дал как будто. — Золотая пуговица? — Ну, может быть, — не стал спорить Маркел. — Так на то он и князь. Не ходить же ему в оловянных. Да и щедр он, все это знают. — Вот про это все ты и расскажешь там, — строго сказал Степан. — Пошли! Бельский уже там, Шкандыбин. — А мой князь? — И за ним послали тоже, и он там тоже будет, — сказал Степан. — Айда! И потащил Маркела за рукав. Ему стали помогать его стрельцы. Маркел не противился, и они повели его вдоль улицы к воротам двора Бельского. Что-то здесь не так, думал Маркел, суета это какая-то, козни. И, не утерпев, сказал: — Вы, братцы, полегче, не пихайтесь. А то скоро и наши придут, с Замоскворечья, и они вам уши оборвут. Их там девять полков, а вас здесь сколько? — А, так ты за Годунова! — радостно сказал Степан со смехом. — Вот так Бельскому и говори: за Годунова я. Его это очень потешит… — И тут же прибавил: — Шире шагай, свинья, не спи! — и еще даже ткнул Маркела в ухо кулаком. Ладно, ладно, подумал Маркел, я тебе это еще припомню, а вслух ничего не сказал. И так они, по большей части молча, дошли до ворот двора Бельского.46
Ворота им открыли сразу, ничего не спрашивая. Они вошли во двор. Двор у Бельского был шире князя Семена двора, может, раза в два. Так же и хоромы были выше и пригожее, крыльцо богаче, стражи на крыльце побольше, и даже бердыши у стражи казались краше и острее. Но к крыльцу Степан не повернул, а пошел вдоль тына на зады, за службы. Это очень не к добру, сразу подумалось Маркелу, если на зады, то запросто зарежут и бросят и ни к какому Бельскому не поведут. Ну да и тогда, подумал он дальше со злом, одного, а то и двух-трех достану! Но доставать не пришлось, потому что Степан наконец повернул и они все же пошли к хоромам, наверное, к черному ходу, а там поднялись по ступеням и вошли внутрь. Внутри было совсем темно. Маркел по привычке попробовал дернуться, но его крепко держали под локти, и он покорился. Его провели сперва прямо, после повернули так и так, после еще раз и еще, Маркел окончательно запутался, а они его еще немного провели, а после ввели куда-то, где тоже было темно, только на столе стояла плошка, а окон совсем не было. — Стой здесь, — строго сказал Степан, остановившийся рядом. Маркел стоял. Было тихо. Вдруг прямо впереди из темноты вышел очень важный человек в очень богатой шубе нараспашку, в такой же богатой шапке и с широченной бородой-лопатой. А какие у него были глаза! Они так и жгли огнем! И этот грозный человек очень грозным голосом спросил: — Ты кто? — Я это… холоп… — растерянно сказал Маркел. — Я твой холоп, боярин, — продолжил он уже уверенней, потому что понял, что этот боярин и есть тот самый Богдан Яковлевич Бельский, царский оружничий и просто очень важный человек, которого не приведи Господь разгневать. Но только Маркел так подумал, как Бельский вдруг усмехнулся, глаза его стали добрей, и он почти обычным голосом сказал: — Холоп Маркелка. Из Рославля. Так? — Так, господин, — сказал Маркел и поклонился. — Чего ты хочешь? — спросил Бельский. — Как я чего? — спросил Маркел. Бельский удивленно поднял брови и сказал: — Так ты что, просто так сюда пришел? Меня от дел отрывать? Мне что, больше заняться нечем, как только на тебя смотреть? Маркел молчал. — Степка, — сказал Бельский, оборачиваясь к Степану, — ты кого это ко мне привел? — Так он же сам просился, государь боярин, — ответил Степан. — Он же говорил, что он не виноват. Не убивал он того челядина и не знает он его. — Это которого Семен купить хотел? — спросил Бельский. — Которого нам под тын подкинули? — Его, его! — согласно закивал Степан. — Ага! — сказал Бельский. — Теперь понимаю. Егор, лавку! Из темноты ему поднесли лавку, он сел на нее, закинул ногу на ногу и, усмехнувшись, спросил: — Так что это у вас сегодня утром было? Кто челядина убил, знаешь? — Знаю, — сказал Маркел. — Шкандыбин. Такой дерзости Бельский не ждал! Поэтому он вначале помолчал и только потом уже спросил: — Вася Шкандыбин, что ли? Мой дворский? — Твой, господин, — кивнул Маркел. — О! — только и сказал Бельский. — Вот как… — Еще помолчал, а после, наполовину обернувшись себе за спину, велел: — Подать сюда Шкандыбина! В темноте послышались шаги, после скрипнула дверь, и опять стало тихо. Бельский неподвижно сидел на лавке и внимательно смотрел на Маркела. А Маркел также внимательно смотрел на Бельского и не моргал. Бельский тоже не моргал. Потом сморгнул, хмыкнул, проморгался и сказал: — А ты косой! — У нас в роду все Косые, — ответил Маркел. — И деревня наша на Косых записана. — Сколько дворов? — спросил Бельский. — Четыре, — прибавил один двор Маркел. — Мало, — сказал Бельский. — Хочешь еще пять? — Хочу. Бельский кивнул, но вслух ничего не продолжил. Зато вдруг сказал: — Мои люди за тобой присматривают. Будешь озоровать, не жалуйся… Заскрипела, открываясь, дверь. Вошли двое. Один из них остановился при пороге, а второй прошел вперед, к свету, и Маркел увидел, что это Шкандыбин. Шкандыбин глянул на Маркела и кивнул ему. Маркел кивнул в ответ. Бельский усмехнулся и сказал: — Рассказывай. — А что рассказывать? — сказал Маркел. — Был у меня добрый товарищ, звали его дядя Трофим. И вдруг к нам во двор забежал один недобрый человек и сунул дяде Трофиму ножом прямо в сердце. Мы за ним погнались, а он убежал. А после я смотрю к вам через тын и вижу: вот этот твой человек… — Тут Маркел указал на Шкандыбина. — И тот злодей стоят рядом у вас во дворе и говорят о чем-то. Пока я через тын перелезал, тот злодей успел сбежать. Тогда я вот этому твоему человеку, Шкандыбину, сказал: помоги мне найти того злодея. И он помог: сегодня утром приехал к нам во двор и привез в своих санях того злодея, но уже убитого. Вот как было дело, и я на этом могу крест поцеловать. И, я думаю, Шкандыбин тоже может, потому что я ни слова не скривил. Сказав это, Маркел усмехнулся, а после спросил: — Можешь, Василий? Шкандыбин молчал. — Ну! — строго сказал Бельский. — Можешь? Я не слышу! И Шкандыбин негромко ответил: — Могу. Вот это да, удивленно подумал Маркел, вот чего никак не ожидалось! А Бельский стал грозный-грозный, гневный-гневный и сказал: — Так что же это ты, Васька, себе позволяешь? Позоришь меня! Пятнаешь мое имя! — И, повернувшись к Маркелу, прибавил: — А ну, дай ему в морду! Э, подумал Маркел, в морду, кулаком, велика ли от этого польза, а вот скажи: «Ткни ножом!» — и я ткну, чтобы неповадно было. — Дай в морду! — опять сказал Бельский. — Дай, говорю, дай! Рано еще, подумал Маркел, рано! Как вдруг Бельский сказал уже вот что: — Ну, если не бьешь, то, значит, не за что. Но все равно позор какой! Какое на меня пятно вонючее… Поэтому будет вот так: Васька, иди с глаз долой! Чтобы я тебя больше не видел! Гаврила! Взять его! И отослать, сегодня же, я даже не знаю, куда, но куда подальше! О! На Мезень! В Лампожню! Сегодня туда человек отправляется, и вот и Ваську с ним! Живо! Чего стоите, псы? Все вон! Только ты, — сказал он, указав на Маркела, — останься. А вы все вон! А Ваську в Лампожню! И они стали, было слышно, выходить. Потом, стало слышно, все вышли. О как ловко, подумал Маркел, Ваську на Мезень упрятал, как теперь с него, вдруг что, расспросы снять? Эх, хоть бы в морду надо было ему сунуть! И только Маркел так подумал, как Бельский сердито, и вместе с тем задумчиво, сказал: — Вот какие псы мне служат. Тьфу! Маркел усмехнулся. Тогда Бельский сразу же добавил: — Да и ты ничем не лучше… И если б ты один такой был, а то ведь во дворец хоть не входи. Я же вижу, как все на меня косятся. И я слышу, а если не слышу, так чую, что у меня за спиной шепчут. Бельский государя уморил! Бельский ему яду в кашу всыпал, государь бы жил да жил, кабы не Бельский! Вот о чем они гундосят. Государя им вдруг жалко стало. А когда он был жив, только о том и мечтали, когда же ему смерть. А тут пожалели! Мыши кота хоронят. Рады! Но понимают же, что это не по-христиански, вот и начинается: ах, горе-то какое, на кого ты нас покинул, кто тебя со свету сжил, отец наш родной… Бельский сжил, конечно, кто еще! Так говорят? Чего молчишь? — Может, где и так, — сказал Маркел. — Я на людях не часто бываю. — Значит, так, если не споришь, — сказал Бельский. — А теперь ответь: зачем мне было его убивать? — Ну, я не знаю, — ответил Маркел. — Как это не знаешь? — удивился Бельский. — А как тогда судишь? Какой ты тогда целовальник, какой сыщик, если не знаешь, где искать? Так, может, ты не там совсем ищешь? Сыщик первое что должен знать? Кому это было надо, вот что! Крадет только тот, кому чего-то хочется. Вот разве я стану красть калач? Нет, конечно. У меня же этих калачей полный чулан при поварне. И коней у меня три табуна, и все кони — как огонь, поэтому не стану я на чужих коней зариться. А другой, который победней, глядишь, иногда и позарится… И также когда убьют кого, тоже надо первым делом посмотреть, кому тот человек больше мешал, больше зла творил или кому наследство отписал и наследникам уже невмоготу. Вот среди кого надо искать злодея! Так же и здесь, с государем. Зачем мне было желать его смерти? Я в цари после него не собираюсь, а собирается Годунов, собираются Романовы, собираются Шуйские, Мстиславские… Смекаешь? Маркел молча смотрел на Бельского. Бельский усмехнулся и сказал: — Вижу, смекаешь… Тогда дальше. Ну, это они могут еще долго собираться, их сборы пока что не в счет. Потому что у покойного государя есть дети, Феодор и Димитрий, и теперь один из них станет царем. А кого из них бояре скорей выкрикнут? Конечно, Феодора, он старший и уже в зрелых годах. И есть у него жена Ирина, а у нее есть брат, зовут его Борис. Знаешь, какой Борис? И вот этот Борис думал, что когда царь Иван помрет и вместо него царем станет Феодор, на голову слабый, то всем царством надо будет заправлять его жене Ирине, но Ирине это скучно, и она тогда скажет Борису: братец, пособи! Скажет она так? — Ну, может, и скажет… — ответил Маркел. — Вот видишь! — тихим голосом воскликнул Бельский. — Вот как все славно сходится: чем скорее государь Иван помрет, тем скорее Борис станет государем. Так не Борису ли желать… И тут Бельский замолчал. Маркел тоже молчал. — Знаю, знаю, — сказал Бельский, — говорят, что я хочу посадить царем вперед Феодора Димитрия. И ты в это веришь? Веришь, что я совсем из ума выжил? Потому что ну какой из него сейчас царь? Куда ему еще? Его еще от титьки не отняли. А вот прошло еще хотя бы лет пяток, Димитрий бы подрос, ума набрался, и государь Иван, глядишь, однажды взял бы да сказал, что зачем нам Феодор, когда есть Димитрий? Феодор на голову слаб, а Димитрий — вон какой орленок, какой и я когда-то был! Ну весь в меня, пострел! И переписал бы духовную с Федора да на Димитрия. И Годунов это чуял! И надумал упредить. И упредил-таки! Ведь упредил? — Ну, может быть, — сказал Маркел. — А как он это сделал? — Вот и тоже гадаю: как? — с жаром сказал Бельский. Потом спросил: — А ты как думаешь? — Ума не приложу, — ответил Маркел. — Да и кто я такой? Червь! — Червь! Червь… — повторил Бельский. — Я это вижу! И мои люди доносят: Маркелка по государевым палатам туда-сюда, как червь, туда-сюда, в любую щель пролезет, чего-то вынюхивает, не про государя ли? — Христос с тобой! — с жаром сказал Маркел. — Кто я такой, чтобы мне такое поручили? Я малая сошка. Вот мне и сказали: иди и узнай, кто лопаря зарезал. Вот я и хожу. — Теперь можешь не ходить. Теперь ты знаешь, кто. — Как это знаю? — Как это не знаешь? — покривился Бельский. — Да все тот же злодей, что и твоего приятеля зарезал. Это годуновский человек, я знаю. Это Годунов его нанял. А если он еще и с моим Васькой снюхался, то, я так думаю, они и против меня что-нибудь злое затеяли. Вот я и отправил Васькуна Мезень, куда подальше. Надо бы его, конечно, вам отдать, да не хочу я раньше времени с Годуновым цапаться. Крепенек он пока что! Подождать надо немного. А там и повалим! Да и Димитрий как раз подрастет. А ты пока вот что: ты узнал, кто лопаря зарезал, и теперь уймись. И пусть твой князь тоже уймется. Вот так прямо сейчас иди к нему и говори: так, мол, и так, Бельский тебе, князь, советует, нет, просто просит уняться. Иди! А то ходишь, ползаешь, снуешь туда-сюда то по царским палатам, то по иноземным подворьям. Кто тебя туда звал-посылал? Зачем? Чего там нюхаешь? Пронюхали там все уже давно, вся вонь развеялась, нюхать больше нечего, англичане уже больше никому не нужны, так и передай Щелкалову, если его вдруг встретишь. Помер царь, и померла их надежда. Ни мне, ни Годунову они не нужны. Но, — тут Бельский спохватился, — это уже не твоего ума дело. Твоего — это сходить к князю Семену и сказать, чтобы он унялся, пока еще есть время. И так же и ты уймись, Маркелка, не суйся не в свои дела, Христом Богом прошу! А то и туда ты, и сюда! Вот даже последнее: о чем вы с Ефремом шушукались? Зачем он к тебе приходил? — Денег просил. На новую рубаху, — ответил Маркел. — Ох, Маркелка! — строго воскликнул Бельский. — Смотри ты у меня! Зубы скаль, да не очень раскаливай. А то вырвут тебе зубы вместе с головой! — Так говорил же он! — сказал Маркел. — Говорил, что люди стали недобро на него поглядывать, на рубаху косить. И спрашивать: отчего это она у тебя такая красная, не от невинных ли кровей? Ну, и он хочет купить себе новую. Новый царь — и новая рубаха. — А! — сказал Бельский подобревшим голосом. — Вот оно что… Тогда об этом он пускай не беспокоится. Будет ему и рубаха, и деньжат подвалим. И трудов! От нового царя. Царь-то у нас будет новый, тут, как ни верти, старый-то преставился. И дай Бог нам доброго царя, разумного! Не Феодора конечно, и мы тогда заживем. И своих верных слуг не забудем! Так что так и передай Ефрему: пусть не беспокоится. Так же и ты, Маркел. Вот только зарецких стрельцов урезоним. Помогай нам Бог! Тут Бельский перекрестился. Маркел стоял столбом. — Иди! — гневно воскликнул Бельский. — Что уставился? Маркел развернулся, надел шапку и пошел к двери, которой он почти не видел в темноте.47
За дверью его ждал Степан со своими стрельцами. Они крепко взяли Маркела под руки и повели обратно. Шли молча. Только уже на заднем крыльце (а они опять на него вышли) Степан сказал, обращаясь к стрельцам: — За ворота его! И обратно сюда. Стрельцы повели Маркела дальше — сперва по задам, за службами, а после через двор к воротам. Сторожа, завидев их, сразу открыли калитку. Маркела подвели к ней, пнули в спину. Маркел вышел на улицу, и калитка за ним сразу же закрылась. Маркел осмотрелся, повернулся в нужную сторону и, не спеша, пошел к воротам князя Степана. Надо же, думал Маркел, сперва передать князю слова Бельского о том, что князю пора уняться. Ох как князь от этих слов разгневается! Но на Бельского он ничего не скажет, на всякий случай промолчит, а станет честить Маркела, говорить, что, мол, какой ты дурень, такое дело развалил, да был бы жив дядя Трофим, ничего такого бы не было, а, наоборот, было то, что все злодеи давно были бы пойманы, а все добрые люди живы и здоровы, не то что сейчас, когда только и смотри по сторонам и примечай, кого где еще зарезали. Так что, прибавит в гневе князь Семен, вали-ка ты туда, откуда прибыл, в свой Рославль, там твое место. И придется запрягать Милку и ехать обратно в эту глушь, тишь, грязь, дикость и к той своей нареченной, про которую мать говорит, что она… Тьфу! И еще раз тьфу! Маркел остановился и подумал, что почему это он должен прямо сейчас идти к князю Семену. Да и дома ли он сейчас? В такое время. Нет, конечно! А он сейчас, конечно, во дворце. Вот и Маркел тоже пойдет туда же. Ну, и пока он будет там искать князя Семена, он сперва сыщет Спирьку, и тот расскажет что-нибудь про шахмату — да вот хотя бы про то, кто приходил за ней, а после возвращал обратно. И вот тогда уже будет не так страшно встречаться с князем Семеном, потому что будет, что ему открыть. Да, так и надо! И Маркел широким, быстрым шагом повернул к дворцу, к уже хорошо ему знакомым Куретным воротам. Так же и тамошним сторожам Маркел уже довольно примелькался, поэтому они его впустили, даже не дожидаясь караульного слова. Дальше Маркел, как обычно, пошел по нижнему нежилому этажу, потом поднялся по лестнице, развернулся на рундуке, и там его вдруг окликнули. Маркел оглянулся и увидел, что это один из государевых жильцов машет ему рукой. Маркел подошел к жильцу. Жилец сказал негромким голосом: — Тебя зовут. — Боярин Федор? — таким же негромким голосом спросил Маркел. Жилец кивнул. И они пошли по переходу. Это его ведут к Ададурову, думал Маркел, и вот же не спится ему! Небось сидит на лавке, хмурится… Или лежит на полу, руки связаны, а во рту кляп торчит! И сейчас там же рядом Маркела положат. Ну что ж, значит, такова его судьба, без всякой обиды подумал Маркел и все же протянул руку к ножу у пояса. Но, слава Богу, до ножа судьба тогда не довела — когда Маркел вошел в ту горницу, Ададуров, как всегда, сидел на лавке. Сидел очень мрачно! Но как только увидел Маркела, то сразу весело спросил: — Где ты был? Мы три раза за тобой посылали, а ты как сквозь землю провалился. — Я был у Бельского, — сказал Маркел. — Ого!.. — тихо воскликнул Ададуров. — Чего он хотел? — Ну-у… — протянул Маркел. — Он спрашивал, чего это я всюду лезу, все вынюхиваю. Пора, он сказал, мне уняться. А то как бы мне голову не проломили. — А! — хищно усмехнулся Ададуров. — Чует кот, чье мясо съел. Ну да мы скоро ему хвост обрубим! — И уже спокойнее спросил: — А что ты ему ответил? — Обещал уняться — ответил Маркел. — Да я и раньше, сказал я ему, никуда особенно не совался, я только искал того, кто лопаря зарезал. — А что он на это? — Ничего. Сказал, что лопарь, может, сам зарезался. — А ты? — А я: ну, может быть. — Это верно! — сказал Ададуров. — Только бы он отвязался. Я бы и сам так ответил. Ну а как ты на подворье сходил? Жонкина видел? Что он тебе сказал? — Сказал, что помнит эти шахматы, точил он их. А цесаря он даже перетачивал. — Ого! Зачем? — А это ему Бельский наказал, что белый цесарь должен быть выше черного, потому что белый — это всегда царский. Ну, и Жонкинсон ему корону переделал — просверлил в ней дырку и вставил туда золотое перышко. — А! — громко воскликнул Ададуров. И уже тише прибавил: — Это чтобы после это перышко можно было смазать ядом. Или совсем его вытащить и вместо него вставать ядовитую иголку. Ты вот сходи к Спирьке или к Родьке и спроси… — Я сейчас к Спирьке и шел, — сказал Маркел, — да твой человек меня перехватил. — Вот и славно, — сказал Ададуров. — Сейчас к нему опять пойдешь. А что еще Бельский говорил? — Да говорил, что он знает, какие слухи про него идут, что будто это он государя на тот свет отправил, отравил его. — А что, разве не он?! — задиристо воскликнул Ададуров. — А вот говорит, что не он, — сказал Маркел. — Что, говорит, зачем это ему? Он при покойном государе как сыр в масле катался и дальше катался бы, а как царевич Димитрий подрос бы, так и вообще… — Катался! А как же! — перебил Маркела Ададуров. — А ты знаешь, что ему покойный государь за три дня до смерти говорил? А вот что: «Какой же ты, Богдашка, мне верный слуга, если сколько я тебя просил, чтоб ты выписал мне самых наилучших лекарей со всего света, а ты кого набрал? Извести меня задумал? Так я тебя еще скорее изведу!» Да не успел. А Богдашка успел! — А он говорил, что это Годунов успел, — сказал Маркел. — Годунов, а как же! — насмешливо подхватил Ададуров. — Да если б Годунов это задумывал, так он не спал бы в шапку и все его стрельцы стояли наготове бы. Как стрельцы Бельского стояли! И не успел государь помереть, как Бельский повелел — и его стрельцы, Стремянный полк, сразу все кремлевские ворота перекрыли. Потому что они только этого и ждали! И ты еще узнаешь, попомни меня, что и сыграть в шахматы — это тоже Бельский посоветовал, и царь только взялся за цесаря, так сразу и преставился… А Бельский сразу к окну, махнул платочком — и его стрельцы сразу к воротам! Вот как это было и вот чей это смертный грех — Богдашкин, он за него еще ответит, выдерут из него бороду по волоску, попомни мое слово! И только тут Ададуров умолк. Маркел тоже ничего не говорил. Так они немного помолчали, а после Ададуров и уже опять спокойным голосом спросил: — Что еще нового? С кем виделся? Маркел подумал и сказал: — С Ефремом-палачом. — Ого! — удивился Ададуров. — А ему что было нужно? — Да вот рассказывал, что их сегодня утром послали в ледник, чтобы забрать оттуда лопаря и похоронить как-нибудь. А они перепугались и сбежали. — Чего перепугались? — Да у лопаря в руке, в кулаке, был беличий хвост. — Ну и что? — А это он показывал, что его Бельский убил. Бельский — белка, вот как. — А и верно! — сказал Ададуров. — А я сразу не сообразил… Молодец Ефрем! Борис Федорович будет очень рад. И он Ефрема не забудет! — Тут Ададуров улыбнулся и продолжил: — Ай да Уйме, ай да голова! И после смерти всех разумней. Да, колдуны, они не умирают, их души так среди живых и бродят. — Он осмотрелся и добавил: — Уйме, я тебя не обижал. Я все честь по чести… Вдруг огонь в плошке запрыгал и чуть не погас. — Свят, свят! — истово всшептал Ададуров и начал креститься. Огонь опять стал гореть ровно. — Вот видишь? — сказал Ададуров. — А пустые люди говорят: привиделось. А что они видели? Маркел молчал. Ададуров, тоже помолчав, продолжил: — Бельский лопаря очень боялся. Говорил мне: «Зачем ты, Федька, колдунов к нам возишь, мы же люди православные». Да только какой он православный, если, как только узнал, что царь в своей новой духовной велел записать, что Федору все царство, а Димитрия в Углич сослать, так сразу за шахмату цап! А из-за чего царь вдруг так передумал? Да из-за самого же Бельского, из-за его упрямства. Ведь же какой он гусь, этот Богдашка! Не глянулось ему английское посольство, и стал он государю наговаривать: «Гони их, государь, не пара они нам, басурмане они, истинного креста не знают!» А кому это понравится, когда тебя поучают? Особенно если ты царь? Вот царь осерчал и велел: «Андрюшка, вычеркивай Митьку, пусть его крестный ногти погрызет, га-га!» И Андрюшка вычеркнул. — Андрюшка — это кто? — спросил Маркел. — Это Щелкалов, что ли? — А ты что, его знаешь? — сердито спросил Ададуров. — Маленько да, — ответил Маркел. — Где это ты с ним сошелся? — Да на английском подворье, а где же еще, — сказал Маркел. — А то кто бы меня допустил до Жонкинсона? Жонкинсон, как и все они там, сидит в подвале. Щелкалов их туда загнал. — Тоже какой пес служивый! — гневно воскликнул Ададуров. — Позор какой! Басурманами других клянем, а сами еще хуже басурман. Надо их немедля выпустить! Надо Андрюшке вырвать бороду. Адрюшка — Богдашкин прихвостень! — Ну, не совсем, — сказал Маркел. — Он же меня выпустил. Хоть я и рассказал ему про шахмату. — Ты? Ему?! — недоверчиво переспросил Ададуров. — А что мне оставалось делать? — ответил Маркел. — Он же сказал: «Будешь молчать, не допущу тебя до немчина!» Ну, я и рассказал. — А он? — А он улыбнулся, утер бороду и говорит: «Передай тем, кто тебя сюда послал, что я тебя по своей доброй воле выпустил, а надо было тебя в кипятке сварить». Ададуров помолчал, после сказал: — Это славно! Это значит: и Щелкалов теперь наш. Ох, Богдашка, ох, ты доиграешься… Немного же тебе осталось! — Потом спросил: — А что Щелкалов еще говорил? — Да он больше молчал. — Он это может, — сказал Ададуров. — Ох, хитрый пес! Сам государь говаривал: «Ох, Андрюшка, отрублю я тебе голову! Ох, отрублю когда-нибудь! Да только где после другую такую сыскать?» И так и не отрубил. И только ему духовную доверил. А тот ее куда-то снес. Теперь никто толком не знает, кому государь царство отписал: то ли Митьке, то ли Федьке. — И что теперь? — спросил Маркел. — А то! — строго сказал Ададуров. — Чей теперь будет верх, того будет духовная. Ясно? Вот какая силища — этот Андрюшка Щелкалов. Это голова так голова! А Бельский кто? Государю сапоги подавал, портянки наворачивал. Это любой сумеет. Да и какой он Бельский, какой князь? Истинно Бельские — это действительно старинный род, Бельские — они Гедиминовичи. А это их тезка, да и не Бельский он, а Вельский из-под Вологды. Когда последний настоящий Бельский, боярин князь Иван Дмитриевич, помер, их род на нем пресекся, тому уже пятнадцать лет почти, тогда этот пес Богдашка сразу вскинулся и ну государя упрашивать, чтоб тот позволил ему писаться Бельским. И государь по доброте сердечной согласился. Вот и пошла путаница: Бельский — князь, Бельский — старинных кровей. Когда его родной дед коровам хвосты крутил и лаптем щи хлебал, вот какой он Гедиминович, и это всем известно. Бельский! Тьфу! Тут Ададуров замолчал, посмотрел на Маркела и с удивлением спросил: — А ты чего так посмурнел? Тебе что, Бельского жалко? Или ты мне не веришь? — Да верю я, — сказал Маркел. — Но мне другого жалко. Ведь если он не Бельский, а Вельский, тогда при чем тут беличий хвост? И тогда лопарево пророчество неверное. — Как это неверное? — удивился Ададуров. — Очень даже верное! Вельский — это он по старине, а по всем нынешним грамотам он Бельский. Поэтому беличий хвост про него. Борису Федоровичу расскажу, он очень обрадуется. И про Щелкалова тоже. Хорошие известия ты нынче принес, Маркел, голова у тебя на месте и руки тоже. Борис Федорович таких ловких и головастых, как ты, примечает и под себя гребет. Так что, как только наше дело начнет мало-помалу брать верх, он тебя не забудет, не бойся. Борис Федорович не из таких! А пока что, не теряя времени, иди-ка ты к Спирьке да уточни все у него, а после нам доложишь. Сразу! Срочно! — А где вас в случае чего искать? — спросил Маркел. — Мы тебя сами найдем, когда будет надо, — сказал Ададуров. — Был бы ты только жив. Иди! Маркел развернулся и пошел, на ходу думая: хорошенькое пожеланьице! Был бы я только жив! Хотя, с другой стороны… Помогай, святой Никола, и перекрестился.48
Время было еще не совсем позднее, кое-кого в переходах еще можно было встретить, поэтому Маркел, когда это ему было надо, спрашивал у них дорогу — и довольно быстро добрался до Спирькиной двери. Маркел постучал в нее тем же условным стуком, каким, как он помнил, стучал Параскин дядя, но Спирька не откликнулся. Тогда Маркел постучал еще раз, уже громче. Спирька опять не откликнулся. — Спиридон Фомич, — строго сказал Маркел. — Дверь пожалей. Но тот и тогда промолчал. Тогда Маркел налег на дверь и начал ее выдавливать. Дверь захрустела. Спирька не выдержал и подал голос: — Погоди! Сейчас… Дай свет зажечь! Маркел отвалился от двери. За дверью через щель забрезжил свет. Затем, было слышно, к двери прошлепал Спирька и открыл. Он был в колпаке и в длинной, похожей на бабью рубахе. — А, это ты… — сказал Спирька. — Заходи. Маркел зашел. Спирька запер за ним дверь. Маркел сел к столу, а Спирька к себе на лавку, для вида широко зевнул, после чего спросил тоже с зевотой: — Как служба? — Твоими молитвами. — Ага, ага, — сказал Спирька, чтобы хоть что-нибудь сказать. Маркел молчал. Тогда Спирька, хоть и не хотел того, спросил: — Ну, как, нашлась она? — Нет, не нашлась, — ответил Маркел. — А то бы зачем я пришел?! — Ну, и не нашлась, — сказал Спирька, — так я теперь что? Где я ее найду? Ее же не здесь теряли. И не я. — Это еще надо проверить, — вдруг сказал Маркел. Спирька с опаской глянул на него, спросил: — Ты что, опять хочешь сказать, что я эту шахмату взял? Или я ее здесь потерял? Так ищи! Маркел усмехнулся, помолчал, после сказал: — Ты, Спиридон, шути, да не зашучивайся. А то будешь шутить на дыбе. — За что это? — А вот хоть бы за то, что люди говорят, что это ты, подлый пес, государя сгубил. — Как это?! — Очень просто. Государь сел играть в шахматы, ему подали короб, он в него сунулся, искал, искал, где белый цесарь, а его там нет. Он за сердце схватился и помер. Теперь ясно? Не досмотрел ты цесаря, потерялся он у тебя, или украли его, или ты его кому-то отдал, я уже не знаю, для чего, но не было там, в царской комнате, белого цесаря, и оттого царь крепко разгневался, и его хватил удар. И теперь тебя надо на дыбу! Тут Маркел даже привстал за столом. А Спирька побелел как снег, и сдавленно сказал: — Маркел Иванович! Не виноват я… Вот как Господь Бог свят! — И он перекрестился. — Я не Иванович, — сказал Маркел, — а я Петрович. — Маркел Петрович, — сказал Спирька совсем не своим голосом. — Брешут люди! Завидуют мне, вот и брешут. Никому я цесаря не отдавал, и не крали его у меня. Может, какие пешники где затерялись, может, какие ладьи завалились, я спорить не буду, грешен, а вот белый цесарь был на месте, я это точно знаю, и вот еще один на этом крест! — И Спирька опять перекрестился — истово. Маркел помолчал, подумал, а потом спросил: — А почему ты именно про цесаря такой уверенный? — Потому что с ним было много возни, — сказал Спирька. — Его один раз понесли переделывать, после второй, вот я его и запомнил. — Какой он был из себя? — спросил Маркел. — Обыкновенный, — сказал Спирька. — Такой же, как и черный. А потом ему приделали перо. А после пипочку. — Какую еще пипочку? — Шут ее знает. На шапку. Пипочка как пипочка, блестящая. Из камушка какого-то. — Острая? — Не пробовал, — ответил Спирька. — Ее сразу в короб положили. — А дальше? — Дальше ничего. И лежала она там почти всю зиму, никто ее не брал ни разу. — Чего так? — А не хотелось государю играть в шахматы. Он же осенью, когда в последний раз играл, крепко разгневался! Родька тогда выиграл, вот государь и взвился. Вскочил, сбросил шахматы на пол и ну их топтать! И все перетоптал. Бельский пришел, говорит: «Надо точить новые». И пошли к точильщику, на английское подворье, я же вчера говорил, к Жонкину. И Жонкин выточил. Принесли сюда, Бельский глянул, говорит: «Чего это цесарь с пером, он, что ли, баба? Васька, отнеси, пусть переделает». И Васька понес. — Какой Васька? — сразу же спросил Маркел. — Васька Шкандыбин, что ли? — Может, и Шкандыбин, — нехотя ответил Спирька. — Я не знаю. При нем всегда ходит. Мордатый такой. И вот Бельский ему велел, этот Шкандыбин взял цесаря, увязал в платок, ушел и, может, уже через час, приносит обратно. Уже с пипочкой. Я говорю: «Какой ты скорый!» А он: «Не твое дело». И я цесаря отнес в чулан, положил в короб, а короб в сундук, сундук на ключ, ключ на кольцо, кольцо на пояс — и ни одна живая душа у меня про него до самого Кириллова дня не спрашивала. А в Кириллов день приходят, говорят: «Дай шахматы! Государь велел!» — И ты им дал? — Нет, зачем? Взял и понес. Принес под комнату, вышел Бельский, забрал их у меня и ушел обратно. Потом слышу крик. Я сразу побежал. Прибегаю, а это уже все, крики, гомон, государь лежит, рядом доска валяется, а вокруг шахматы. Я кинулся их подбирать, а мне: «Куда ты, пес? Пособи государя поднять!» И дальше было уже не до шахмат. А после собрал я их, ссыпал в короб, винюсь, не считал и унес. А после уже ты пришел и говоришь: «Давай считать!» Вот и вся моя история. И Спирька замолчал. Маркел подумал: а ведь он правду говорит и в самом деле больше ничего не знает. А цесаря, подумал Маркел сразу же, они во второй раз к Жонкинсону не понесли, а переделали здесь, сами, поэтому так быстро обернулись. Ладно! И Маркел спросил: — Ну а другие что у вас об этом говорят? О царской смерти. Спирька вздохнул и ответил: — Стараются помалкивать. — Это хорошо, — сказал Маркел. — А все-таки? Вот что Родька говорит? — Родька пьет без просыпу, — ответил Спирька. — Да и что Родька? Его позвали, он пришел. Ему налили, он опохмелился. Руки сразу трястись перестали. И тут подали шахматы. Но он только стал за них браться… А государь уже того! И еще Бельский Родьке сразу в морду, в морду! — За что? — Чтобы не скалился. — Когда он скалился? — Да он такой всегда. Он, может, таким родился — сразу скалился. И государь же тогда, осенью, когда Родьке проиграл, чего вскочил? Оттого, что Родька скалился. Государь аж почернел! И потоптал все шахматы и после всю зиму не играл. Он и по сей день бы не играл и был бы жив и здоров. Но тут вдруг приходит к нему один боярин и говорит… — Какой боярин? — После скажу. А ты пока слушай. И вот приходит к нему один боярин и говорит: «Надежа-государь, а знаешь что?» Государь: «Что?» Боярин: «Родька ходит по хоромам с важной рожей, скалится, что он у государя выиграл, что он государя головастей». Царь: «Так и говорит?» Боярин: «Нет, не говорит, а только вид напускает». Государь помолчал, помолчал, а после грозно говорит: «А ну принесите шахматы! И Родьку приведите!» А что дальше было, ты знаешь. — Да, — задумчиво сказал Маркел. После спросил: — А почему ты вчера ничего такого не рассказывал? — Думал, что это не важно. Да и Родьку боялся подставить. — А так себя подставил, — строго сказал Маркел. И вдруг спросил: — А боярин — это Бельский? — Бельский, Бельский! — поспешно закивал Спирька, но тут же спохватился, замолчал и даже прикрыл рукой рот. — Поздно, — сказал Маркел насмешливо. Встал и прибавил: — Пойду. — Куда? — испуганно спросил Спирька. — Не к боярину, не бойся. К Родьке пойду. Может, он себя оговорит, и тогда тебе будет спасение. Ну, или хотя бы поблажка. — Да я при чем? — опять начал Спирька. — Я… — Ты, — перебил его Маркел, — отравленную шахмату всю зиму у себя в чулане прятал! А после принес государю. Сам же говорил, что сам принес и из рук в руки — Бельскому. — Так Бельский же… — Ты с Бельским себя не ровняй. Бельский откупится. А ты чем будешь откупаться? Своей смоленской деревенькой? Спирька опустил голову, плечи его поникли. Маркел сказал: — Ладно. Может, еще что придумаем. А пока скажи, где искать Родьку. Спирька встрепенулся, поднял голову и стал показывать: — Сюда прямо пойдешь, после налево, возле рундука опять налево, к лестнице, и там дверь, на метлу закрытая. Это его дверь. Да здесь совсем близко! — Пойду, — сказал Маркел. — А ты не закрывайся. Может, я еще приду. И вышел.49
Маркел шел по переходу и совсем не торопился. А что, думал он, дело почти сделано, и Родька тут не при чем. Надо будет только поподробней спросить у него, как царь брался за цесаря, какое у него было лицо, и глаза тоже, и рот, и как его хватало, как он падал, и это все. Государя же убил не Родька — Бельский. А помогал ему Шкандыбин. Это он взял цесаря у Спирьки, вырвал перо, вставил вместо него отравленную пипочку, царь об нее укололся и помер. Но Шкандыбина теперь не допросить, Шкандыбина Бельский отправил Бог знает куда, чтобы его только не нашли. И тогда остается сам Бельский. Вот бы кого на дыбу! И с пристрастием спросить: Богдашка, что ты вместо перышка подсунул, каким ядом смазывал и где ты его брал? Молчишь? А вот кнута тебе! И дальше отвечай: зачем цесаря велел спалить? Что, хотел, чтобы следов не осталось? А они остались! Вот цесарь, смотри! А вот то место, где ты свои яды хранишь… А кстати, подумал Маркел, и в самом деле, где оно, то место? Вот куда надо идти! Вот что надо искать! Подумав так, Маркел остановился, осмотрелся и увидел, что он стоит как раз напротив рундука, а по другую его сторону стоят жильцы с серебряными бердышами. Опять его на Ададурова несет, подумал про себя Маркел. И вдруг его окликнули: — Маркел! Он обернулся и увидел стоящую возле стены Параску. Лицо у нее было грустное-прегрустное, а веки красные. Сердце у Маркела екнуло, беда, подумал он и подступил к Параске. Она сразу взяла его под локоть и отвела от света в угол. — Что случилось? — шепотом спросил Маркел. — Ой, Маркелка, — так же шепотом ответила Параска и уткнулась лицом ему в грудь. Маркел осторожно ее обнял. Параска оттолкнула его руку. Маркел больше не решался ее обнимать, и так они стояли, прижавшись один к другому, и не шевелились. От рундука были слышны приглушенные голоса. Там как будто бы про них забыли и говорили уже о своем, но Маркел чуял, что они прислушиваются. Параска это тоже, наверное, чуяла, поэтому она взяла Маркела за рукав и потянула дальше в темноту. Там, почти уже в полной темноте, Параска села на лавку, Маркел сел рядом. Параска сидела смирно, смотрела прямо перед собой и быстро-быстро дышала. Маркел терпеливо ждал. Наконец Параска шепотом спросила: — Савву помнишь? — Истопника того? — спросил Маркел. — Да, помню. А что? — Так он повесился! Сказав это, Параска всхлипнула. Ого, мрачно подумал Маркел, повесили его, конечно, а не он сам повесился. За то, что знал про шахмату. Или за то, что мне ее отдал, подумал дальше Маркел, но тут же передумал: нет, если б знали про меня, так бы меня повесили, а не его. А так Савва промолчал, не выдал, и повесили его. Подумав так, Маркел перекрестился. Параска, всхлипнув, продолжала: — Утром такой веселый был. Дядя говорил: винца хлебнули. А после пришел к нему, а он уже в петле. — А в горнице все перерыто, — прибавил Маркел. — И правда! — сказала Параска. И чуть слышно спросила: — Ты откуда знаешь? — И уже совсем шепотом: — Ты там, что ли, был? — Если б был, — сказал Маркел, — так бы уже висел с ним рядом. Параска молчала. После вдруг схватила его руку, сжала в своей и сказала: — Страшно мне, Маркелка, ох, как страшно! — Тебе-то что? — спросил Маркел. — Как это мне что?! — шепотом воскликнула Параска. — Я Степана встретила. Ну, того сотника, белохребетного. И стала его спрашивать. А он как-то странно усмехнулся и отвечает: «А чего ты у меня спрашиваешь, ты лучше у Маркела спроси, Маркел знает!» — Про Савву, что ли? — Про какого Савву? — сердито зашептала Параска. — Про Савву я по дороге узнала. Когда дядю Тимофея встретила. А у Степана я про свою Нюську спрашивала. — А что про Нюську? — Как что? Пропала она, вот что! — Как пропала? — Очень просто! Как сквозь землю провалилась. Еще с вечера… И Параска тихо зарыдала. Маркел не знал, что делать. Он стал оглаживать ее по голове, по шапке, а после прямо по щекам. Щеки у нее были все в слезах. — Парасочка, Парасочка, — шептал Маркел и утирал ее. А она тихо рыдала. Плечи ее сотрясались. Маркелу стало страшно, он подумал, что это он всему виной, потому что это он таскал Нюську на кладбище, их там вместе видели, и теперь ее за это задушили — в отместку! За то, что Савва молчал! За то, что Шкандыбина сослали! За то, что ведьму Домну зарезали! За все! Нет, все же главное — за то, что он, Маркел, живой. И он спросил: — А что Степан еще сказал? Почему он на меня показывал, не говорил? Параска продолжала плакать, но уже не так, как раньше. Скоро ее отпустит, подумал Маркел. И Параска и в самом деле затихла, утерла лицо и сказала: — Я ему еще раз говорю: я про Нюську спрашиваю, про свою дочку, при чем здесь чужой Маркел? А Степан вот так вот ухмыльнулся, зубы выставил и говорит: «Не такой он и чужой. Ты у него сама спроси. И спроси, где искать, и он тебе скажет». — Тут Параска помолчала, после прижалась к Маркелу и тихо спросила: — Что мне теперь делать? Как мне мою доченьку сыскать? К кому еще бежать? — Больше ни к кому бежать не надо, — ответил Маркел. — Я думаю… Я знаю, где она. И я сейчас туда пойду. — Куда это? — спросила Параска. — Это не здесь, — сказал Маркел. — Это мне из дворца надо выйти. — Как из дворца? — удивилась Параска. — А Степан сказал, что он сегодня здесь будет всю ночь, у них на Красном крыльце караул. И караульные слова назвал: Рыльск и Звенигород. — Да? — сказал Маркел сердитым голосом. — Сейчас я к Степану побегу! Ага! А к Нюське тогда кто? И он поднялся с лавки, Параска поднялась за ним. Она его не отпускала. Маркел улыбнулся и сказал: — Не бойся. Ничего с твоей Нюськой не будет. Сейчас пойду и приведу ее. Вот прямо здесь нас жди. Или иди к своей боярыне, а я Нюську туда отошлю, когда найду ее. Не сомневайся! И тут он отвел ее руки, перекрестил ее, после хотел опять прижать к себе, но удержался, развернулся и пошел. К Бельскому, куда еще, думал он сердито, прибавляя шагу.50
Когда Маркел выходил из Куретных ворот, он услышал, что где-то вдалеке кричит петух. Вот и еще один день начинается, а дело все никак не сделается, еще сердитей подумал Маркел. Зато людей все больше губится! Тут тебе и Савву повесили, тут тебе… Но тут Маркел спохватился и подумал, что нельзя даже в мыслях допускать, что с Нюськой что-нибудь случилось. Да и что это он будто с цепи сорвался? Надо было вначале Параску расспросить как следует, что с Нюськой, как она пропала и куда, а уже только после что-то делать. Так и сейчас вместо того, чтобы ломиться к Бельскому, вначале надо бы сходить к себе и посмотреть, может, Нюська уже дома. Но, правда, а что если пока он будет туда-сюда бегать… Нет, опять подумал Маркел, об этом и думать нельзя, а надо идти к Бельскому, потому что лучше один лишний раз туда сходить, чем после локти кусать. Да и кому еще такую гадость делать, как не им! Кому? И Маркел шел дальше, прошел мимо тына князя Семенова двора, пошел мимо тына двора Бельского, подошел к воротам и стукнул в калитку. В калитке (не сразу, конечно) открылось окошко, и заспанный голос спросил, чего надо. — Мне к Бельскому, — сказал Маркел. — К Богдану Яковлевичу. Спешно! — Ты что, братец, очумел? — строго спросил тот же голос. — Глухая ночь на дворе. Боярин почивает. — Знаю, что почивает, — ответил Маркел. — Но мне очень надо! — Ты кто такой? — злобно спросили из-за калитки. — Может, ты покойный государь? Что ты на нас орешь, скотина? А то сейчас откроем и потешимся! Га-га! — После вам не до потехи будет! — пригрозил Маркел. — Идите, разбудите боярина и скажите ему, что Маркел Косой пришел. Сам, лично! — Ох, ты! Ох, ты! — сказали из-за калитки. — Смотри, дошутишься… Сейчас человек сбегает, вернется, и мы, если что, с тебя шкуру спустим! Окошко со стуком закрылось. Маркел стоял возле ворот. Было темно, все небо затянуло тучами. Шел редкий мокрый снег. Под ногами была лужа, сапоги в ней хлюпали. Маркел пробовал о чем-нибудь подумать, но не думалось. Так прошло немало времени. Потом за воротами послышались шаги, потом там шептались, потом опять открылось окошко, и прежний голос, но уже не такой злой, велел показать овчинку. Маркел показал. Калитка открылась, он вошел. За воротами стояли трое сторожей. — Кто ты такой, бес тебя знает, братец, — сказал один из них, — но тебя велено впустить. Иди за мной. Маркел пошел за тем сторожем. Тот его опять повел сперва к службам и задам, а только после к черному крыльцу. А там в хоромы и водил по переходам. Потом ввел в какую-то каморку, где крепко воняло капустой, и велел садиться. Маркел сел в угол на голую лавку. Сбоку стоял такой же голый стол, на стене горел светец, в углу напротив теплилась лампадка. Маркел снял шапку и перекрестился. Сторож сказал: — Сейчас время позднее, боярин спит. Но он про тебя помнит. Когда ложился спать, наказывал, что, если ты придешь, тебя впустить и держать здесь, пока он не проснется. Ну, и накормить, конечно, это да. — Сказав это, сторож обернулся и позвал: — Авдей! Через не так и много времени вошел Авдей — еще не очень старый толстый человек, одетый по-холопски. Это, подумал Маркел, здешний кухарь. — Принимай гостя, Авдей, — сказал сторож. — Боярин велел присмотреть за ним, пока сам спит. А я пошел, мне некогда. И он вышел. Авдей зевнул, почесался, посмотрел на Маркела и спросил: — Небось голодный? Маркел пожал плечами. — Значит, голодный, — сказал Авдей, усмехаясь, и вышел, но в другую дверь. Послышались какие-то стуки, лязг, тяжелые шаги, потом Авдей ругал какую-то Ульяну, потом он наконец вернулся, а идущая рядом с ним баба (наверное, та самая Ульяна) принесла миску горячего свекольника и большой кусок хлеба. А Авдей нес бутылку и шкалики. Маркел поморщился. Баба поставила еду на стол и вышла. А Авдей поставил выпивку, сел к столу и спросил: — Ложка имеется? — Имеется, — ответил Маркел. — Но я свекольника не буду. Куда на ночь напираться?! Сказав это, он, не удержавшись, взял хлеб и начал его есть, но не спеша. — А по шкалику? — спросил Авдей. — А шкалик, — ответил Маркел, — на голодное брюхо нельзя. Это грех. Авдей смотрел на Маркела, смотрел… А после усмехнулся и сказал: — Я знаю. Ты робеешь. Ну да и многие у нас робеют. — Нет, — сказал Маркел. — Я не робею. А я, если по правде говорить, есть ночью не могу. Мне культя не дает. — И, откинув полог шубы, взялся рукой за правый бок. — Вот здесь тогда крепко болит, — прибавил он. — Прямо как черти рвут. — Э! — сказал Авдей. — Понятно. Это у тебя ливер разгулялся. Надо лечить ливер. Ох, и свезло тебе… Как тебя звать? — Маркел. — Ох, и свезло тебе, Маркел! Знаем мы эту хворь. От нее надо ставить клистир. Хочешь, сейчас поставим? Пока боярин спит. Да у меня все есть! Проскурник есть, корень девясильный есть, романов цвет, трава божьей руки, заварим, и давай. Все равно до утра… Ну, так что? — Нет, погоди, — сказал Маркел. — Я не за тем сюда пришел. — А ты откуда знаешь, за чем? — насмешливо спросил Авдей. — Может, боярин тебя выслушает, а после позовет меня и скажет: «Авдейка, а ну сделай ему клистир полуведерный!» И куда я денусь? Сделаю. У нас тут и не таким, как ты, делали, а и боярам даже. Не скажу, каким, — и тут Авдей усмехнулся. — Да мне что! — сказал Маркел. — Мне бояре не указ. У меня своих забот хватает. — И тоже усмехнулся. Ну, и подумал про нож в рукаве. — Каких еще забот? — спросил Авдей. И даже глаза прищурил. — У меня две заботы, — ответил Маркел. — Первая забота: не хочу я обратно домой возвращаться. Я же из Рославля-города. Да и какой это город, как я теперь вижу, после Москвы-то. А вторая забота… Даже не забота, а так, суета: у моей соседки дочка куда-то запропастилась. Дочка Нюська. Вот таковского росточка. Славная такая девчушка. И родительница у нее тоже добрая хозяйка, никакого укора я к ней не имею, а вот пришла, плачет: Маркел Петрович, пособи… — А она замужняя? — спросил Авдей. — Да кто их, этих баб, разберет! — в сердцах ответил Маркел. — Вроде как замужняя. И вроде как вдова. Нет, даже просто вдова. Дядя ее сказывал… — и тут Маркел замолчал, потому что почувствовал, что краснеет. — Да-а… — нараспев сказал Авдей. — Жена есть соблазн души. А чужая жена два соблазна. А служба? Чего про службу ничего не говоришь? — А что я пока скажу? — сказал Маркел. — Я здесь еще недели не служу. — Так ты и вдову эту тоже не больше знаешь. А как за нее горой стоишь! Вот так бы ты за службу стаивал. Маркел усмехнулся и развел руками. Авдей тихо засмеялся и сказал: — А ливер все равно нужно лечить. Не хочешь клистиром, можно отвары пить. Вот утром к боярину придешь и сразу падай ему в ноги, говори: «Спаси, боярин!» А он на это мастер! Он же уже сколько, уже пятый год пошел, как Аптекарским приказом ведает. Все снадобья через него, все записи через него! И все он, если надо, сам взвесит и сам разделит, до зернышка, до скорлупки. И у нас этого здесь, наверху, даже больше, чем в аптеке государевой. Ты был там? Это сбоку от царицыного терема, возле Богородицыной церкви на Сенях. Там еще рядом переход на Задний государев двор. Знаешь такой? — Рядом с Ближним застенком, там, что ли? — Рядом! Рядом! — повторил Авдей. — Почти что дверь в дверь. Только в застенок — это лестница вниз, а в аптеку — вверх. Ваш Ефрем часто туда бегает, если кому вдруг худо станет. А там вся стена в склянках. Но у боярина здесь больше! Вот сюда Шкандыбин и ходил, тут же подумал Маркел, так что в аптеке делать нечего, здесь у них все яды, и надо сюда стрельцов вести! Подумав так, Маркел аж часто задышал и почувствовал, как зубы у него оскалились. — Ты чего это? — спросил Авдей. — Да вот что-то опять культя схватила, — ответил Маркел. — Клистир тебе надо! Клистир! — строго сказал Авдей. — С этим можно подождать, — сказал Маркел. — А вот где девчушка? Нюськой ее зовут. Соседку жаль! — Это завтра спросишь у боярина, — сказал Авдей. — Еще есть будешь? Маркел не ответил. Тогда Авдей собрал все со стола (благо, что Маркел успел хлеб прихватить) и вышел. Маркел сидел за столом, смотрел на горящий светец и ждал, когда Авдей вернется. Но Авдей не возвращался. Очень хотелось есть, а хлеб был уже весь съеден. Эх, надо было брать свекольник, время от времени думал Маркел. Но почти сразу додумывал: две-три ложки съешь, а после вдруг как скрутит! И пена на губах, конечно. Знаем мы таких, наслышаны. А хлеб, что хлеб, хлеб — божья пища, хлеб не отравишь, скорей рука отсохнет. И вдруг, как на грех, вспомнилось: а Авдей-то одну руку прятал! Может, у него с ней что-нибудь неладное, а он его хлеб едал… Маркел взялся за брюхо. Брюхо было смирное. Маркел перекрестился, и ему стало спокойнее. И так он, спокойный, просидел еще довольно долго, его крепко клонило в сон, но он не поддавался и спасался тем, что думал про Бельского, что он теперь знает, откуда тот яды берет и, надо будет, пойдет и на дыбу и там все, как было, скажет, ничего утаивать не станет, все Ефремовы хитрости стерпит и на все свои слова крест поцелует. И будет тогда Богдашке плаха… Будет! Плаха! Это слово радовало слух, потому что а как же! Потому что где дядя Трофим? Где Савва? Где Гриша? Где, даже черт ее дери, ведьма Домна, тоже ведь крещеная душа? А… И вот дальше сразу думалось: а Нюська как? Он сюда за чем пришел, за Нюськой? Или за Бельским? Да что ему Бельский! И, прости, Господи, а даже и царь-государь? Без государя царство не останется, кого-нибудь да выкрикнут, никогда нигде еще такого не было, чтобы народ жил без царя. А вот без Нюськи было. И без Параски тоже. Так как же тут быть? И Маркел сидел, смотрел в чернющее окно и думал. И так и не заснул, пока за окном не начало светать.51
И почти сразу же за дверью послышались шаги, после открылась дверь, в ней показалась голова и строгим голосом сказала, что чего расселся, когда уже пора идти. Маркел встал и пошел к двери. Там стоял человек, одетый челядином. Он, ничего уже не говоря, первым пошел по переходу. Маркел пошел за ним. Время было утреннее, в переходах посветлело, но людей было еще немного. Челядин провел Маркела вправо, влево, после вверх и вниз по лестницам, а потом остановился возле одной из дверей и осторожно постучал в нее. Дверь открылась, из нее выглянула еще одна голова, но уже в высокой шапке, посмотрела на Маркела и велела заходить. Маркел зашел. Это была небольшая горница, обставленная на иноземный лад, почти как на английском подворье, и там прямо впереди за столом сидел Бельский в златотканой парчовой шубе и игрался с птицей. Птица была маленькая, желтая, она сидела в позолоченной клетке на жердочке и недовольно чирикала, а Бельский, наслюнив губы, ее передразнивал. Птица злилась, прыгала по жердочке и уже не пела, а только сердито щелкала клювом. Бельский отвернулся от нее, посмотрел на Маркела и сказал веселым голосом: — О, как свищет! А ты так умеешь? Маркел умел свистать, и очень даже складно, но тут он покачал головой — нет, не умею. — О! — еще раз сказал Бельский, а после, уже отвернувшись от клетки, сказал вполне серьезным голосом: — Ну, что я тебе скажу, Маркелка? Недоволен я тобой. Не слушаешься ты меня. Я же тебе что велел? Чтобы ты пошел к князю Семену и сказал ему уняться. А ты что вместо этого сделал? Ты куда пошел? — К тебе, боярин, — ответил Маркел. Бельский на это только укоризненно покачал головой и продолжил: — Ну ты и дерзок!.. А знаешь, что с дерзкими бывает? Про Савву слышал? — Слышал. — И кто виноват? — спросил Бельский. И сам же ответил: — Он сам виноват. Ему же что было сказано? «Брось в огонь, а то вдруг от него порча!» А он не поверил. И где он теперь? Вот! Потому что порча! Нельзя было доставать! — Что доставать? — спросил Маркел. — Вот еще один мудрец! — сердито сказал Бельский. — Он ничего не знает! А я что, не вижу или мне не доносят, что ты целыми днями по царским хоромам нюхаешься? Я же говорил тебе: «Уймись!» Да только куда там! И вот мне уже новый донос: Маркелка к Савве бегал, они сидели, запершись, шушукались. Меня сразу как огнем обожгло! Я к Савве! А у него Господь разум отнял, он и мне сразу с порога: «Не спалил я твою шахмату, а вытащил из огня и отдал кому надо. И будет теперь тебе, боярин, за все расплата». Это он мне грозит, пес! Тогда и я ему: «Кому отдал?» А он: «Не скажу!» И как мы его ни трясли, а он молчит, как пень. Тогда я говорю: «Василий!..» Ну, и не стало Саввы. Жалко мне его, он был славный истопник, у него огонь всегда ярился. А тут вдруг деревяшку пожалел! И, что всего обиднее, переискали мы там все, а не нашли ничего. Тут Бельский замолчал и стал смотреть на Маркела. Маркел спросил: — А что искали? — Вот верно! — сказал Бельский. — Что? Да деревяшку вот такую, двухвершковую, не больше. Сколько с нее жара? Тьфу! А спрятал! Или в самом деле, как он говорил, хоть я этому не верю, отдал кому-то? Да вот хоть тебе. Ты же ходил к нему, я знаю. Так и отдай теперь! Маркел усмехнулся и сказал: — Про что ты говоришь, боярин? Я не понимаю. Бельский посмотрел на дверь, там никого уже не было, и сказал: — А чего тут понимать? Я тебе просто скажу: отдашь мне шахмату, я отдам тебе Нюську. А не отдашь, я Нюську не отдам. Что с ней приключится, будет на тебе висеть, твой будет грех, потому что это ты ее не пожалеешь. Маркел изменился в лице и сказал: — Государь боярин! Я ничего не понимаю. Ничего не знаю! Савва мне ничего не рассказывал и ничего не давал! — Эх, — сказал Бельский, усмехаясь, — сейчас бы заставить тебя побожиться, чтобы ты смертный грех на себя взял. Но я добрый, Маркел, я не Годунов, я этого делать не стану. А я просто скажу: не отдашь, твоя беда. И Нюськина. А я еще после велю Параске передать, что ты из-за поганой шахматы ее дочь на страшные, позорные муки отдал. Передать такое? Или скажешь, где шахмату спрятал? Только смотри у меня, не бери еще один грех на душу, не лги! Потому что мои люди сперва сходят и проверят. Найдут шахмату — и я тебя отпущу вместе с Нюськой сразу, вот крест! — Бельский широко перекрестился. — А не найдут, не быть тебе живым. Ну что, скажешь, где шахмата? Маркел смотрел на птичку и молчал. Птичка чистила клюв. Потом чирикнула. И Маркел расстегнул шубу, залез под рубаху, нащупал там шахмату, сжал ее в кулаке, подступил к столу и протянул кулак, все еще его сжимая, к Бельскому. Бельский подставил под него ладонь, сказал: — А ты отчаянный, Маркел. Я же мог тебя сперва и обыскать. Маркел усмехнулся и ответил: — Стал бы такой важный боярин об меня мараться. Быть не может! Бельский улыбнулся в бороду. Маркел разжал кулак, цесарь упал на ладонь к Бельскому. Бельский только глянул на него и сразу сокрушенным голосом сказал: — Так он обгорел же как! Головы совсем не видно. — А что голова? — спросил Маркел. Бельский ворочал на ладони цесаря, молчал. После опять заговорил: — Если бы я знал, что он так обгорел, я бы о нем и не думал. Да и чего думать? Никто государя не травил. Он сам помер, без яду. Просто вот тут, где была голова, на короне стояла вот такая иголочка. Называется громовая стрела. Ну или чертов зуб. И такому зубу яд не нужен. Его только надобно наговорить, и тогда от него кровь леденеет. Так и тогда царь: как он только об этот зуб укололся, у него там, сперва только в пальце, кровь сразу стала, как лед, а после, как только эта ледяная кровь до сердца добежала, сердце сразу лопнуло. И все! Никакой доктор Илов ничего не сыщет. Скажет: удар с ним случился. Так что зря я тебе Нюську обещал. Обманул ты меня, Маркел! Обманул, ведь так же? Маркел молча смотрел на Бельского и думал: взять грех на душу или не взять, взять или не взять, взять, не взять? Да и взял бы! А как Нюська? Что будет тогда Нюське? А Параске? И Маркел стоял столбом, не шевелился, а нож у него в рукаве как будто свинцом наливался и так и тянул руку вниз. А Бельский, этого не замечая, усмехнулся и опять заговорил: — Ловкий ты, Маркел, тут ничего не скажешь… Подсунул обгорелую деревяшку и еще взамен просишь девчонку. Совсем стыд потерял! Зачем тебе, такому бугаю, девчонка? А зачем Параска? Она же замужняя женщина! Как тебе не совестно, Маркел? Что ты себе позволяешь, в какой грех и себя и их вводишь? На тебе же крест, Маркел! Маркел сжал зубы и начал читать Отче наш. Читать про себя, но очень громко. Потом прочел еще раз. А потом еще. А Бельский говорил и говорил! А Маркел его не слушал! Пока Бельский вдруг очень громко не сказал: — Но если дал слово, то надо его держать! Маркел очнулся, посмотрел на Бельского. А тот встал от стола, подошел к печи и бросил в нее цесаря. И кочергой подгреб уголья. — А Нюська? — сразу же спросил Маркел. — О! — сказал Бельский. — Верно… — Повернулся и позвал: — Ивашка! — Вошел челядин. — Приведи девчонку, — велел ему Бельский. Челядин поклонился и вышел. Бельский вернулся к столу, сел и начал подсвистывать птичке. Птичка запела, но очень противно. Бельский замахнулся на нее, она умолкла. Бельский повернулся к Маркелу и опять заговорил: — Не бойся за Нюську. И за себя тоже. Вы мне живые нужны. И вы мне еще послужите! Ведь же как только Годунов узнает, что ты мне шахмату отдал, так он сразу повелит тебя убить. И ты сам ко мне прибежишь. И я тебя приму. Я своих верных слуг никогда не бросаю. Вот даже взять лопаря. Помер — И стал никому не нужен. Валялся в леднике! А я велел, чтобы было все по их лопарскому обычаю, и его отнесли на пустырь и сожгли. В небо ушел, у них это так называется. Дикость, конечно, но у них такая вера. Прости, Господи! — И он широко перекрестился. Вот как ловко, подумал Маркел, сжег последнюю зацепку, без ничего меня оставил! А Бельский уже продолжал: — Я тебе много чего могу посулить. Ну да чего там! Ты лучше вот что: приходи ко мне завтра сразу поутру, я тебя к себе в настоящую службу возьму вместо Шкандыбина. А он получал немало. Я же своих слуг не обижаю. Не то что твой жаба Семен! Я… Но дальше он досказать не успел, потому что тут открылась боковая дверь и челядин ввел Нюську. Она была одета по-домашнему, легко, но на плечах у нее для тепла, была накинута чужая шуба, очень ей великоватая. Зато ей в ней тепло подумал Маркел. Нюська смотрела в пол, молчала. Маркел подошел к Нюське и взял ее за руку. Рука у нее была холодная-холодная. Маркел тихо спросил: — Тебя где держали? — В погребе, — так же чуть слышно ответила Нюська. Маркел, больше ничего не говоря, повел Нюську к двери. Челядин им открыл, они вышли.52
За дверью их ждал первый челядин. Он повел их обратно. Когда они вышли на крыльцо, Маркел сказал, что дальше они сами. Челядин остановился. Маркел и Нюська сошли вниз, во двор, и пошли по задам, а после мимо служб. Маркел молчал, продолжая держать Нюську за руку. Нюська вдруг сказала: — Я знала, что ты придешь. Маркел повернулся к ней, усмехнулся и спросил: — Откуда знала? — Чуяла, — ответила она. После прибавила: — Ты ловкий. А на Маркела не смотрела! Потом, также не глядя на него, прибавила: — Я думала, ты придешь ночью. — Почему? — спросил Маркел. — Ночью было очень страшно, — ответила Нюська. И только теперь повернулась к Маркелу. Глаза у нее были грустные-грустные. — Ночью я не мог, — сказал Маркел. — Зато утром пришел сразу. — Потом спросил: — А почему ты про меня думала? — А про кого еще? — сказала Нюська. — Никого у нас больше нет. — Помолчала и добавила: — Был бы мой батюшка жив, разве бы я про тебя вспомнила? Да никогда! И она опять отвернулась. А после даже руку вырвала. Они шли рядом. Шли к воротам. Маркел молчал. А что было говорить? Нюську было очень жаль, а сам он что, думал Маркел, сам он хоть… И запнулся. Потому что вспомнил: шахмату он отдал, лопаря сожгли, Савву повесили, дядю Трофима зарезали, ведьму тоже. Кто еще? А, пищик Гриша! Ну, и государь, конечно, этого первей всех. Вот сколько свечек! И никакого проку. Правильно Бельский сказал: как только Годунов узнает, кому он отдал шахмату, так сразу скажет: на дыбу его! И кнута! Подумав так, Маркел аж заскрипел зубами и остановился. — Ты чего это?! — сказала Нюська. — Что с тобой? — Порча на меня нашла, — ответил Маркел в шутку. — Так ты еще и порченый? — сказала Нюська. — Фу, какой! — Винюсь, — сказал Маркел. Они опять пошли молча. Подошли к воротам. Там у Маркела ничего не спрашивали, а загодя открыли, и они прошли на улицу. По улице они шли вместе, но Маркел стал понемногу отставать, потому что куда теперь спешить, думал он, поздно спешить, и отставал, и отставал от Нюськи. Она то и дело останавливалась и поджидала его. Так они прошли мимо тына двора Бельского и теперь уже шли мимо князя Семена тына, а дальше был уже виден государев дворец и даже угол Куретных ворот. Нюська, уже в который раз остановившись, дождалась Маркела и спросила: — Это тебе моя мамка сказала, что меня украли? — Да, — сказал Маркел. — А как меня украли, она знает? — Нет. — Чего ты такой вареный? — весело спросила Нюська. — Ведь все так славно обошлось! Айда к мамке, мамка будет очень рада. Она сейчас у боярыни, им об это время всегда калачи приносят и всякие другие сласти. Я тебя к ним проведу, я знаю один тайный ход. — Нет, — сказал, улыбаясь, Маркел. — Мне нужно к князю Семену. — А после? — А после я к вам приду. — Смотри, слово держи! — сказала Нюська. — А я побегу, мамка, наверное, вся извелась. Приходи скорей, а то все калачи съедим. С этими словами она развернулась и побежала к Куретным воротам. Ей там сразу же открыли, и она пропала. А Маркел прошел мимо этих ворот, на них даже не глядя. Потом так же прошел и мимо князя Семеновых ворот и остановился на крестце, на перекрестке, то есть. Куда теперь идти, думал Маркел. Куда ни поверни, везде беда. Одно спасение: вернуться, тихо вывести Милку, запрячь, пасть в сани — и по бокам, и по бокам ее вожжами, и так до самого Рославля. И тогда, пока князя Семена люди до туда доедут, можно будет много водки выпить. Только Маркел так подумал, как вдруг сбоку послышался топот. Маркел оглянулся и увидел, что это Степан едет на коне, а за ним идут стрельцы, наверное, вся его сотня — все в белых шубных кафтанах, рожи у всех красные, злые. А у Степана злее всех. А как он заметил Маркела, так его совсем перекосило! — Поберегись! — сердито крикнул он. — Пади! — и замахнулся камчой. Маркел даже не шелохнулся. Тогда Степан еще сильнее замахнулся и хлестнул изо всей силы! И сбил с Маркела шапку! Шапка полетела в грязь. Степан шагом поехал дальше. За ним, меся грязь, протопали стрельцы, злобно глядя на Маркела. Маркел поднял шапку и стал оттирать ее от грязи. Стрельцы повернули влево. К Никольским воротам, подумал Маркел. Служба у них! И продолжал чистить шапку. Когда вычистил, надел ее, подумал: это недобрая примета — сперва сбили шапку, а потом возьмут ниже, по шее, и тоже собьют. А как же он думал? Но тут же подумал: а они как думали? Что он будет прятаться, как мышь? Нет, он не мышь! Маркел развернулся и пошел обратно, к Куретным воротам. Только он к ним подошел, как в них открылась калитка и из нее вышел Ададуров. Он был чернее тучи. А как увидел Маркела, так еще сильнее почернел и очень недобрым голосом сказал: — А, это ты! А я тебя везде ищу. Пойдем, тебя боярин ждет. И они вошли в калитку. Какой боярин, подумал Маркел, неужели уже Годунов? Ведь если это так, то, значит, сразу на кол! Ну да Господь милостив, подумал дальше Маркел и перекрестился.53
Они шли по переходу и молчали. Ададуров шел первым и не оборачивался. Ведет, как скота на живодерню, подумал Маркел. Только один раз, уже на рундуке, Ададуров мельком глянул на Маркела и, поморщившись, махнул рукой — мол, побыстрей шевелись. Маркел шевелился, как мог. А Ададуров шел быстро, шаги у него были большие. Зато возле своей двери он вдруг резко остановился и снял шапку. Маркел, глядя на него, снял свою. Ададуров открыл дверь, и они вошли. В горнице было не очень светло, но Маркел сразу увидел Годунова. Что это и есть Годунов, Маркел нисколько не сомневался, а после это скоро подтвердилось, когда, обращаясь к нему, Ададуров величал его боярином Борисом Федоровичем. А пока что, с самого начала, было так: Маркел увидел сидящего за столом человека. Ничего особенного в нем не было: и шапки, и шубы Маркел видывал и побогаче, и очи погрозней, и нос поорлиней. А вот зато таких рук Маркел в жизни не видел! Пальчики на них были тоненькие, белые, холеные и все в перстнях. Перстни так и сверкали! Маркел смотрел на них и не мог оторваться. Годунов это заметил и пошевелил пальцами. Перстни еще сильнее заискрились. — Вот, — сказал Ададуров, — привел. И подтолкнул Маркела в спину. Маркел отвесил Годунову низкий, так называемый земной поклон, а после еще один. Годунов был совсем не старый — было ему лет тридцать — тридцать пять, не больше, и бороденка у него была жидкая, а усы и вовсе будто кто-то выщипал. Годунов негромко откашлялся, поднес кулачок к губам, меленько утерся и посмотрел на Ададурова. Ададуров оборотился к Маркелу и велел рассказывать. Но Маркел молчал, не зная, с чего начинать. Да и боялся брякнуть лишнее. Тогда первым начал Ададуров: — Я посылал тебя к Спирьке. Ты к Спирьке ходил? Что он говорил? — Ну, говорил, — сказал Маркел с опаской. — Говорил, что, когда принесли им новые шахматы от Жонкина, Бельский их осмотрел и сказал, что все они славно сработаны. А вот белого цесаря, сказал, надо еще подправить. Тогда его люди взяли цесаря и опять понесли к Жонкину. А после, и уже подправленного, принесли обратно. Но принесли очень быстро! Вот я и думаю, что во второй раз они уже не к Жонкину его носили, а куда-то здесь поближе. — К себе они его носили! Га! — хищно сказал Ададуров. И тотчас же еще спросил: — А дальше что? Что они в нем переделали? — Голову, — сказал Маркел. — У него там, в голове, в короне, Жонкин было вставил золотое перышко, очень забавное, а эти это перышко выдрали и вставили вместо него вот такую маленькую штучку. — Маркел даже показал, какую, и прибавил: — Штучка эта называется громовая стрелка. Или чертов зуб. — А! — только и воскликнул Ададуров и посмотрел на Годунова. Годунов улыбнулся. — Ладно! — сказал Ададуров. — А дальше? — А дальше, — продолжал Маркел, — я пошел к Бельскому, и он сказал, что да, все так оно и было: они заменили золотое перышко на железный чертов зуб, государь об него укололся, кровь у него сразу застыла, эта стынь пошла по жилам, вошла ему в сердце, сердце лопнуло, и государь преставился. И это легко проверить! — тут же прибавил Маркел. — Вы только пойдите и гляньте, есть ли у государя на правой руке, на пальце, дырочка, укололся ли он или нет… — Тут Маркел замолчал, потому что увидел, что Годунов грозно нахмурился… но все равно не удержался и договорил уже скороговоркой: — Кто меня к царю допустит? А вас запросто! И вам только один разик глянуть. На царский палец! И он посмотрел на Ададурова. Ададуров усмехнулся и сказал: — Глянем, глянем, а как же… Но ты не за царя ответ держи, а за себя. Так, говоришь, тебе про чертов зуб сказал сам Бельский. Сказал, а после отпустил тебя. Вот так: оговорил себя, во всем признался, взял на себя грехов не меряно, а после говорит: а ты, брат Маркел, иди себе с Богом, я не держу тебя. Так или нет? — Ну, не совсем, — сказал Маркел и тяжело вздохнул. — Сперва он велел, чтобы я отдал ему шахмату. И я ее отдал. — Что? — тихо спросил Ададуров. И уже громче прибавил: — Того цесаря ему? — А потом в полный голос вскричал: — Да ты понимаешь, что ты сделал, змей? Ты все сгубил! Да я тебя прямо сейчас велю казнить! Да я… — Федя!.. — громко сказал Годунов. Ададуров замолчал. А Годунов, повернувшись к Маркелу, продолжал уже негромким и спокойным голосом: — Вот ты, говоришь, был у Спирьки, а после, как узнал про эту громовую стрелку, так сразу пошел к Бельскому. Никуда не заходя, к нему. Так, что ли? — Нет, не совсем, — сказал Маркел. — Во-от! — нараспев протянул Годунов. — И я сразу вижу, что здесь ты кривишь. А как было на самом деле? — На самом деле, — ответил Маркел, — я сперва встретил Параску. — Кого? — не понял Годунов. — А! — сердито сказал Ададуров. — Одна баба. Дальше! — И эта баба, — продолжал Маркел тоже сердито, — мне сказала, что Бельский украл ее дочку и грозит ее замучить, если я не отдам ему шахмату. Ну, я тогда и пошел к Бельскому. И отдал ему шахмату. А он отпустил ту Параскину дочку, и я с ней оттуда ушел. — И это все? — спросил Ададуров. — Все, — сказал Маркел. — Да, и еще! Бельский мне еще рассказывал, как они царя убили. Это было так: сперва Бельский велел… — Про Бельского мы уже слышали! — громко сказал Ададуров. — Ты про себя говори. — А что про меня говорить? — удивился Маркел. — А то! — еще громче сказал Ададуров. — Ты ему шахмату отдал? Маркел утвердительно кивнул. — Вот, славно как! — злобно продолжил Ададуров. — Савву они повесили. Дядю Трофима зарезали. И того, кто его резал, зарезали тоже. И ведьму. И пищика. И лопаря. Всех подряд на тот свет! Никаких концов не осталось, никого не пощадили. Только одного тебя! А почему? Да потому, что ты ему продался! Я… — Тпру! — строго сказал Годунов. Ададуров замолчал. Годунов повернулся к Маркелу, посмотрел на него, поморгал глазами, подвигал бровями, а после сказал так: — А что! А, может, ты и вправду никому не продавался. Бельский тебя просто пожалел. Отдал девчонку, а ты ему за это отдал шахмату. И ты пошел от него. Могло такое быть? Могло! Очень даже запросто. И я тебе в этом верю: так было! Ну а вдруг другие не поверят? И станут везде говорить, что Годунов злодеев покрывает. Зачем мне такие речи? Поэтому, прежде чем другим про это рассказывать, нам надо тебя испытать, крепок ли ты в своих словах. — И, обернувшись, окликнул: — Ефрем! Скрипнула задняя дверь, и из-за печи вышел Ефрем. Был он, как всегда, в своей подарочной красной рубахе, но вот вид у него самого был очень хмурый. А посмотрел на Маркела и хмыкнул. Маркел в ответ улыбнулся. У него не было зла на Ефрема. Ефрем не виноват, думал Маркел, у него судьба такая. Вечером свечку поставит, отмолит. — Давай! — строго велел Ададуров. Ефрем схватил Маркела за руку. Маркел опять улыбнулся. Ему вдруг почему-то показалось, что ему хочется помучиться. Ефрем заломил ему руку и наклонил его всего вперед. Маркел повалился на колени. Ефрем заломил сильней. Маркела бросило в пот. Ефрем повернул и поддернул. Маркел громко скрипнул зубами. — В глаза смотри! — строго сказал Годунов. Маркел поднял голову и стал смотреть ему в глаза. Годунов спросил: — Сколько тебе Бельский посулил? Маркел молчал. Не хотелось ему говорить, вот и все. Годунов кивнул. Ефрем дернул Маркела за руку — и показалось, будто оторвал ее. Маркел не выдержал и охнул. Ефрем рванул еще. Маркел упал носом в пол. — Давно ли ты ему служишь? — спросил Годунов. Маркел молчал и только шмыгал носом. В носу было полно кровищи, дышать было нечем. — Ох, змей какой… — сердито сказал Ададуров. — Как подползал! Я, говорил, из Рославля, я никого здесь не знаю, я темный. А сам государя отравил, скотина! — Как это? — удивился Годунов. — Его же здесь не было. — Не было, а вот приехал, — сказал Ададуров. — А назавтра государь сразу того! И Трофима Пыжова, своего приятеля, тоже он зарезал. И ведьму Козлиху. Ох, представляю, сколько Бельский ему отвалил! Кончать его надо, боярин, пока стрельцы сюда не набежали. Годунов молчал. Ефрем отпустил одну руку, и Маркел утерся. Дышать стало легче. Жалко Нюську, подумал Маркел, не дадут девчонке покоя, хоть бы успела калачей поесть, пока эти за ней придут. А если так, то надо будет тянуть время, пусть хотя бы калачей наестся, дитя она еще совсем… Вдруг за окном раздался выстрел. Из пищали, подумал Маркел, а после еще и еще, а после залпом, правда, вразнобой. И почти сразу бабахнула пушка. — О! — тихо сказал Годунов. — Где это? Маркел шмыгнул носом и ответил: — От Никольских. Тут опять послышалась стрельба. После, уже было слышно, закричали. — Ефрем! — строго сказал Годунов. — Иди, глянь. Ефрем отпустил Маркела и пошел к окну. Маркел приподнялся и сел на полу. Ефрем смотрел в окно и молчал. — Что там? — спросил Годунов. Ефрем не ответил — смотрел. — Ты почему решил, что это от Никольских?! — спросил Ададуров. — Так я видел, как они туда прошли, — сказал Маркел. — Степан со своей первой сотней. — Степан! — радостно воскликнул Ададуров. — Степан Никольские открыл! Дурень, почему молчал? Степан же теперь наш! Со вчерашнего дня! Вон, государь, — и Ададуров указал на Годунова, — государь боярин посулил ему: откроешь нам Никольские, озолочу! — Озолочу! Озолочу! — торопливо повторил за ним Годунов, а сам уже пошел к окну. — Ефрем, что видно? — Ничего пока, боярин! Крышами закрыто все. А внизу народ бежит. — Здесь на помост есть дверь, на гульбище! — воскликнул Ададуров. — Маркел, чего расселся? Дверь на зиму забитая. Открой! Маркел встал и шагнул к двери. Ададуров кинулся за ним. Вместе они начали рвать дверь. За окном опять стреляли. — Наши пришли, зарецкие! — радостно приговаривал Ададуров, дергая за ручку двери. — Девять полков — не шутка! Дверь с противным скрипом растворилась, за ней был помост, весь занесенный грязным снегом и по краям покрытый наледью. Ададуров, Маркел, Годунов и следом за ними Ефрем выбежали на помост. Оттуда было видно все как на ладони — вон открытые Никольские ворота, а из них валом валили стрельцы в желтых шубных кафтанах и с дымящимися пищалями в руках. — Аристарховы идут! — радостно воскликнул Годунов. — А вон Лука Иванович! — прибавил Ададуров. — На аргамаке, слева. — Вижу! — весело воскликнул Годунов. — А вон и Степан! — и, перегнувшись через перила, указал вниз. Там и в самом деле шли стрельцы в белых кафтанах, а впереди них ехал Степан. Степан размахивал посохом и что-то выкрикивал, но, что именно, нельзя было понять, потому что шум в Кремле был просто невообразимый. Везде было полно стрельцов в разноцветных кафтанах, и все они валили дальше, к Архангельскому собору и главному, так называемому Золотому крыльцу. — Ох, ты, Господи! — воскликнул Годунов. — Хватит глазеть, Федор! Нас там ждут! И он, развернувшись, широким шагом пошел с помоста через горницу и дальше сразу в дверь. За ним так же спешно пошел Ададуров. Но, правда, перед тем, как выйти, он посмотрел на Маркела, радостно заулыбался и сказал: — В рубашке ты родился, вот что! Но мы с тобой еще поговорим… И вышел. Маркел стоял, не зная, что и думать. Ефрем улыбнулся и сказал: — А он прав. Замучил бы я тебя насмерть. Я по Годунову это сразу понял. Если он вот так руки складывает, то это мне знак, что надо строго. Ну да теперь не до тебя, конечно, — прибавил он уже без всякого довольства. — Дело же какое собирается! Государя будут хоронить. И другого выбирать. Видишь, сколько их пришло? И все они будут кричать за Федора. А за Димитрия кому кричать? Маркел глянул вниз. И в самом деле, подумал он, красных кафтанов первого полка нигде не видно. Вдруг где-то далеко опять послышалась стрельба. — А это уже от Бельского, — сказал Ефрем. — Обложили его там, как медведя в берлоге. А он отбивается. Ну да недолго ему это. Снимут с него шкуру! А пока не снимут, про тебя не вспомнят. Поэтому иди-ка ты сейчас домой, выпей шкалик, прочти Отче наш и ложись передохни. И Бог тебе в помощь! Маркел ничего на это не ответил, а медленно вернулся в горницу, медленно подобрал с пола шапку, так же медленно ее надел и вышел — тоже медленно.54
В переходах было шумно: бегали какие-то люди, хлопали двери. Из-за дверей слышались громкие голоса — где радостные, где недовольные. На внутреннем государевом дворе было еще шумней. Там, кроме дворни, толклись немало стрельцов в самого разного цвета кафтанах. Были среди них и красные. Это, наверное, из тех, которые переметнулись к Годунову. Маркел шел дальше, к Куретным воротам. Они стояли, распахнутые настежь, стражи возле них никакой видно не было. Маркел вышел на улицу и увидел, что и князя Семена ворота тоже стоят открытые и в них входят стрельцы в черных шубных кафтанах. Еще один зарецкий полк, подумал Маркел, глядя на них. И вошел следом за ними. На князя Семена переднем дворе и без того уже было немало стрельцов. Они стояли несколькими кучами и ждали приказа. Полезут через тын, на Бельского, предположил Маркел и тут же отметил, что на княжеском крыльце стоят княжьи сторожа и их вдвое больше обычного. Старшим над ними был Мартын, княжий дворский. Мартын держал в руке саблю и очень подозрительно поглядывал на стрельцов. На Маркела он смотреть не стал. Маркел пошел дальше. На заднем княжьем дворе было тихо, только в его дальнем углу, возле поленниц, стояла куча стрельцов в синих кафтанах, и у всех в руках были пищали. Маркел пошел мимо поварни. Там почти сразу же открылась дверь, на помост вышла Демьяниха в красной короткой шубке и, широко улыбаясь, сказала: — Бог в помощь! Маркел ответил ей так же. Тогда она продолжила: — Небось голодный? Хоть бы зашел когда. Я бы тебя пирогом угостила. Ты какие любишь? Сладкие? Горячие? — и еще шире улыбнулась. Маркел, не зная, что ответить, покраснел, пожал плечами и пошел дальше. Демьяниха вслед ему крикнула: — Тьфу! Да чтобы ты подох, скотина! Маркел, не обернувшись, пошел дальше. А стрельцы пошли к поленницам. Сейчас они на тын полезут, подумал Маркел, не зря же они взяли с собой лестницу. Но тут от тына, из-за дров, послышалась стрельба. Стрельцы вначале растерялись, а после кинулись вперед и скрылись за дровами. Стрельба утихла. Маркел поднялся к себе на помост, подошел к Параскиной двери и прислушался. За дверью было тихо. Маркел постучал. Никто не отозвался. Тогда Маркел прошел дальше, зашел к себе и осмотрелся. В горнице было сумрачно. И дух стоял тяжелый, нежилой. Маркел снял шапку, подошел к божнице, поправил лампадки. Прочел Отче наш. Вспомнил Ефрема и подумал, что осталось еще выпить шкалик и можно ложиться. Но пить не хотелось. Тогда Маркел собрал остатки дров, сложил их в печь и поджег. После зажег лучину. Стало немного веселей. Маркел сел с краю стола и начал осматриваться так, как будто он там в первый раз. А что, подумал Маркел, а ведь он тут почти не бывает, все в каких-то делах, и стал смотреть на дяди-Трофимов ковер возле дальней, запечатанной двери. На ковре висели сабли, пищаль и два пистоля. Маркел подошел к ковру, начал рассматривать пистоли, но руками их не трогал. Редкая вещь — пистоль, дорогая, с уважением думал Маркел, где дядя Трофим их взял? А что за дверью? Маркел стал рассматривать печати на двери. На них, как и на его овчинке, был орел. Маркел вздохнул, вернулся к лавке, снял шубу и скрутил ее, положил в изголовье и лег. В печи потрескивал огонь, где-то вдалеке, в стороне Бельского, стреляли, но не очень яро. Маркел вдруг подумал: а зачем Бельский царя отравил? Боялся, что тот его прогонит, заведет себе новых любимых слуг? Но убить царя — это еще как-то понятно, хозяев частенько не любят и затевают против них лихое. Но вот зачем было лопаря убивать? И как это лопарь, такой ловкий, вдруг им поддался? Или он нарочно дал себя убить? А что! Не хотел он обратно домой возвращаться, в глушь эту, вот и подумал: а что, а пусть убивают, все равно меня нельзя убить, а можно только зарезать! И его зарезали. А так он жив. И ему хорошо! Теперь он будет здесь, в царевом дворце, жить вечно. Вот житуха! Вот где запирует! Подумав так, Маркел невольно усмехнулся… И тут же помрачнел, когда подумал: что, а чем он лучше лопаря? Тоже обратно уезжать не хочет в свой Рославль и здесь изо всех сил за все цепляется. Ему морду бьют, а он все равно цепляется. Его на дыбу поднять обещают, а он все равно домой не едет! И даже сейчас, ведь же по уму как надо было делать? А вот как: пока вся эта суета и толкотня, быстро собирайся, садись в сани и ехай домой, благо все ворота нараспашку! Так нет! Он же лежит, как блин, под ним уже огонь разводят, сейчас его поджарят и сожрут, а он все равно лежит, скотина, и не шевелится! Вдруг где-то сбоку заскрипело! Что это? Лопарь? Маркел подхватился, сел на лавке и прислушался. Но ничего слышно не было. За дверью никто не стоял, не ходил. За стенкой тоже было тихо. Маркел лег на лавку, подкатился к самой стенке и подумал, что если приложиться к ней ухом, то как только Параска вернется, он ее сразу услышит, и начал слушать. Слушал, слушал — и заснул. А что! Когда он в последний раз спал? И сколько? Вот и сморило с устатку, известное дело…55
Проснулся Маркел поздно, когда уже начало смеркаться. Кто-то скребся во входную дверь. Маркел подождал немного, а после сел, спустил ноги с лавки и строго спросил: — Ну, чего? — Маркел Петрович, это я! — послышался голос Фильки. — Впустишь меня? — Впущу, — ответил Маркел не очень довольным голосом. Вошел Филька. Маркел ему кивнул. Филька сел, куда было указано. — Чего пришел? — строго спросил Маркел. — Да так, — без всякой радости ответил Филька. — Опять моя взъярилась! Не открывает. Ругается матерно. Что с ней? Маркел пожал плечами и зевнул. — Спишь! — сказал Филька. — Может, ты сейчас во всей Москве один только и спишь. Знаешь, сколько к нам сейчас народу набилось? В Архангельский собор. Не продохнуть! — Чего это они? — спросил Маркел. — Ну, как чего? — даже удивился Филька. — С царем прощаются, чего еще. Сказали, завтра будут хоронить, вот люди и спешат. А может, даже и сегодня. Может, прямо этой ночью похоронят. А что! Царь грозный был! Днем он еще мало ли чего… А ночью, сонного, плитой накроют, и шабаш! — Что ты такое несешь?! — гневно воскликнул Маркел. — Это не я, — сказал Филька. — Это сейчас все так говорят. Ты вот сходи в собор, потолкайся меж людьми, так и не такое услышишь. А лежит, как живой! Все морщины распрямились, глаза огнем горят. — Как это — глаза горят? — не поверил Маркел. — Глаза же закрыты всегда. — У других всегда, а здесь нет. Не закрываются! А монетками накроют, монетки сползают, не держатся. Так и оставили глаза открытые. — Ты сам-то это видел? — Да как я увижу! Там, знаешь, какая толпища? Не пробиться. Ну, тебя, может, пропустили бы. — С чего это? — настороженно спросил Маркел. И не ошибся. Филька усмехнулся и сказал: — Государь бы еще долго жил, говорят, да извели его злые люди. Была тут у нас одна ведьма, заварила корешков, передала через верных людей, государю вместе с медом поднесли, он выпил… Ну, и известно, что дальше. А знаешь, как ведьму звали?! — Чего ты опять несешь?! — сердито воскликнул Маркел. — Какие корешки! Какая ведьма! — Ну, может, и никакая, — не стал спорить Филька. — Да и разве это нашего ума дело? У нас есть свои дела. Вот моя мне дверь не открывает, это мое дело. А где Параска, знаешь? — Где?! — сразу же спросил Маркел. — Да не кричи ты так, — насмешливо ответил Филька. — Ничего с твоей Параской не случилось. Жива она. А вот со службы ее выперли. И даже не ее саму, а выперли ее боярыню, эту каргу Телятевскую. А Телятевскую выперли вместе с царицей. А царицу вместе с Бельским. Слышишь, уже больше не стреляют? Маркел прислушался. И вправду, было тихо. Филька продолжал: — Недолго же Богдашка верховодил. Показали ему козью морду! Ну, постреляли его люди из пищалей, ну, поорали через тын. А дальше что? Сколько стрельцов у Годунова? А сколько у Бельского? Вот и оробел Богдашка, шапку снял, простоволосый вышел. А Годунов как сидел на коне, так его камчой сверху по морде съездил и сказал: «Брысь в Углич! И сосунка с собой забирай, не нужен он нам здесь, у нас есть законный государь Феодор Иоаннович!» И Бельский поклонился и пошел. — Что, сразу в Углич, что ли? — насмешливо спросил Маркел. — Пешком? — Нет, пока что пошел только собираться, — сказал Филька. — И ни словечка не сказал. А что у царицы сейчас в тереме творится! Какой ор! Им же теперь всем в Углич, в эту глушь. Из Москвы! Ты представляешь? И твоя Параска там, и Нюська. И их дядя Тимофей. Он их утешает. Так что недолго здесь Параске оставаться, уедет она в Углич. И ты от тоски станешь к моей похаживать… Маркел посмотрел на Фильку очень строго, но вслух ничего не сказал. Филька немного помолчал, а после все же не выдержал, брякнул: — Знаю, знаю, почему она мне не открыла! И ты тоже знаешь. — Надоел ты мне, — сказал Маркел. — Шел бы ты отсюда, вот что. — Нальешь, уйду. Маркел громко вздохнул, но все-таки сказал: — Вон там, за кувшином, поищи. Филька поискал, нашел початую, взял шкалик и налил доверху. Но только начал поднимать, как за окном послышался конский топот. Филька быстренько перекрестился шкаликом и выпил. Слышно было, как кто-то сошел с коня, поднялся на помост, подошел и открыл одну дверь, вторую — и вошел в горницу. И это был Ададуров! Вид у него был непонятный. Филька вскочил. Ададуров глянул на него, поморщился и, ничего не говоря, только указал рукой — и Филька боком-боком вышел. Маркел встал. Ададуров показал, что можно сесть. Маркел сел. Ададуров снял шапку, перекрестился на иконы и тоже сел к столу. — Ну, что, были у царя? — спросил Маркел. — Руку смотрели? — Не до царя нам пока, — строго сказал Ададуров. — Сидение у нас сейчас. Всей думой! Я оттуда только ненадолго выскочил. Маркел недоверчиво хмыкнул. Ададуров разозлился и сказал: — Хмыкай, хмыкай! А чего сам к царю не сходишь, не посмотришь? — Так что я! — сказал Маркел. — Куда мне… — А куда нам? — сердито спросил Ададуров. — Он же там не за печкой лежит, а на амвоне. А сколько народу там кругом! А свету! И я пойду туда и буду ему руки при всех разнимать. А в руках свеча! В перстах зажатая. И я стану персты отгибать… А что народ вокруг скажет? — Так что, — сказал Маркел, — так и не посмотрим, что ли? И не узнаем? — А чего узнавать? — удивился Ададуров. — И так все узнали. Давно! Сперва ты про шахмату, а после Ефремка про беличий хвост. Чего еще надо? — А след от шахматы? — сказал Маркел. — На пальце. Или на ладони. — Ну, след! Тоже сказал… — скривился Ададуров. — А если даже след и есть, так мало ли он от чего? Может, государь изволил баловаться ножичком и ненароком порезался. А может, где занозу зацепил. Или об веник покололся. В бане. А что! Он тогда утром в баню хаживал, и там вдруг веник. А? Маркел ничего на это не ответил, а только еще сильней нахмурился. — Да что ты смурной такой! — громко сказал Ададуров. — Да ты же сам еще сегодня говорил, что все доподлинно вызнал, до всего дошел. Вот люди тебе и поверили. А государь боярин Борис Федорович, этот даже больше, этот просто говорит: надо Маркелку слушать, Маркелка не соврет, как Маркелка скажет, так оно и было. Иди, говорит он, Федя, это мне, иди к Маркелке и вели, чтобы он рассказал про все, как оно было, а мы здесь, в Думе, боярам его речи повторим. Вот какая тебе честь, ты слышишь? — опять очень громко сказал Ададуров. — Как ты скажешь, так мы Думой и присудим! А мы там уже все собрались, и почти все думают, как мы: отравил Богдашка государя! Не зря лопарь беличий хвост показывал. А тут еще Андрюшка, Андрюшка Щелкалов, приехал, говорит, что принесет духовную, будем ее зачитывать. А там ясно сказано: место отчее и шапка царская, и царский посох Феодору, старшему, а младшему, Димитрию, Углич. А Богдашке это не понравилось! И он замыслил зло. А после его и содеял! А после сам себя и выдал! Ведь что после было? Ты ему шахмату отдал, а он что? — Бросил ее в печь, — сказал Маркел. — Вот! — сказал Ададуров. — Змеюка какая! Думал, шахмату сожжет, и следов никаких не останется. А вот и нет! А хвост остался! Беличий! Хвосты всегда остаются… И мы про них расскажем. Всем! Пусть все знают! Рассказывай! — Что рассказывать? — спросил Маркел. — С самого начала начинай, — опять сердито сказал Ададуров. — И ясно и просто говори. Мне же это после в Думе повторять, а там… Ну! Начинай. Вот ты приехал в Москву, зашел к дяде Трофиму. Дальше! — Дядя Трофим стал накрывать на стол. — Это пропускаем. Дальше! — Наутро прибегают, говорят, что лопаря зарезали. Мы сразу пошли в Ближний застенок. Там он лежал. Дядя Трофим его перевернул… И дальше Маркел еще долго рассказывал. Ничего не утаивал, как на духу: и про пищика Гришу, и про ведьму Домну, и про Савву, про Шкандыбина, про Бельского, про всех! Только на всякий случай не стал рассказывать про Параскиного дядю Тимофея. Потому что мало ли, и не чужой ведь человек. А так все рассказал. И даже еще в конце прибавил, что ему очень досадно то, что он отдал шахмату Бельскому и тот ее сжег и теперь нет никаких улик. — Э, не горюй!.. — сказал на это Ададуров. — Главная улика вон где — лежит в Архангельском соборе, свечку держит. А про шахмату забудь. Тьфу на нее! Боярин про нее смеялся, говорил, что дурень Бельский думает, шахмату сжег — и ничего не осталось. Да у нас стрельцы остались, девять полков, а что у него? Один безголовый цесарь, да и того он сдуру сжег. И чья теперь возьмет? — Боярина, конечно, чья еще. — Правильные речи говоришь! — похвалил Маркела Ададуров. — И рассказал ты все складно, понятно. Но в последний раз ты это рассказывал. Понял? — Как это в последний? — опасливо спросил Маркел. — А вот так! — очень строго сказал Ададуров. — Было дело и закрылось. Зачем понапрасну народ будоражить? Это же сразу, как только узнают, пойдут кривотолки: на государя руку подняли, перехитрили государя, оплошал государь… А так чинно, ясно: государь преставился! Пришел положенный срок, и Бог его к себе прибрал. Без всякой шахматы! Вот как оно должно быть. И так и будет. Да и что теперь по государю слезы лить? Его теперь не оживишь, не воротишь. Помер — и помер. А Бельского накажем, это обязательно! И тебя, не бойся, не забудем. Будешь молчать, не забудем по-доброму, станешь трепать языком, за язык и подвесим. Теперь все понял? Вот и славно. Чарочку налей да выпей. А мне пора в Думу, меня там бояре ждут. Ададуров встал, надел шапку, хмыкнул на прощание и вышел. А Маркел сидел столбом, не шевелясь, и смотрел ему вслед, на закрытую дверь. Потом повернул голову и стал смотреть на божницу. Потом медленно перекрестился. Потом вдруг подумал: Бельского поперли, прости, Господи, и так ему и надо, псу. Сколько народу погубил! Да вот если б только одного его поперли, а так с ним и царицу Марью, и царевича, и Телятевскую, и, может, и Параску с ними. В Углич, в глухомань какую! Эх, дальше подумал Маркел, вот как всегда в жизни бывает: и горе и радость рука об руку ходят. А чем его дело кончилось? Пшиком! Сколько раз голову в петлю совал, под нож подставлял, сколько людей вокруг убито, покалечено, оболгано, разорено, а теперь вдруг получается, что ничего этого не было, вот как! Ни шахматы, ни яду не было, ни ведьмы Домны. И дядю Трофима на твоих глазах не резали. Нюську не крали. И даже про царский палец с дыркой — про это тоже ты, Маркел, спьяну придумал. Да и кому тот палец нужен? Га! На него даже не глянут, а поскорей схоронят, накроют плитой и скажут: ты чего, Маркел, это тебе привиделось, ничего такого не было, не тревожь народ, государь сам по себе преставился, Божьим судом, а злодея накажем, ты не сомневайся, Маркел! Да и не твое это уже дело, а ты теперь, главное, молчи, пока язык не вырвали, а мы тебя за это после отблагодарим. Га! Знаем мы это «после»! Кто же не знает, чего ваши обещания стоят, во что ваши золотые горы оборачиваются? Поэтому ничего мне от вас не надо, а только хоть бы не убили. Я же много чего знаю, вдруг сболтну? Ненароком, по пьянке. Поэтому они сейчас посудят, порядят и приговорят у себя в Думе: а давайте этого рославльского под лед! Подумав так, Маркел не удержался и встал за столом. В горле сперло, стало тяжело дышать. А что, дальше подумал Маркел, ворон ворону глаз не выклюет, сговорятся они, ударят по рукам и подошлют человека. О, тут же подумал Маркел, а вот и шаги скрипят! Под окном кто-то прошел… И не один! Маркел отступил к печи и тряхнул рукавом, проверил, как там нож. Нож был на месте, Маркелу стало спокойнее. А шаги поднялись по помосту, подошли к входной двери, открыли ее и прошли через сени, открыли внутреннюю дверь… И в горницу вошел Мартын, князя Семена дворский, а за ним два сторожа с бердышами наголо, конечно. Мартын на вид был очень злой. И таким же злобным голосом спросил: — Чего глазья выпучил? Никогда меня не видел? Маркел ничего не ответил, а только подумал: как только ближе сунется, сразу пырну! А Мартын уже опять заговорил, и теперь уже такое: — Меня князь Семен прислал. Он сейчас в Думе. Так они там вот что приговорили: пока подберут приличного человека, вместо Трофима будешь ты. — И, не удержавшись, сердито прибавил: — Не знаю, чем они там в Думе думают! И, злобно тряхнув головой, Мартын пошел к дальней, запечатанной двери. Сторожа, взяв со стола огонь, пошли за ним. Маркел пошел за сторожами. А дальше было так: один сторож светил, второй рвал клещами гвозди, а Мартын снимал печати. После он специальным железным крючком сунул в кованую скважину, там провернул — и дверь отворилась. Они, все четверо, в нее вошли. Там была маленькая горенка, обставленная очень просто: лавка, сундук, божница, возле лавки столик, сбоку и вниз от божницы окошко. И это все. Да! А дальше была еще одна дверь. Мартын подошел к той двери и приоткрыл ее. Маркел тихо охнул! За дверью были богатые сени, а еще дальше, на другой их стороне, виднелась еще одна дверь, по обеим сторонам которой стояли рынды с бердышами. Бердыши были серебряные, золоченые. То есть там, понял Маркел, был прямой ход к князю Семену, вот как! И пока Маркел об этом думал, Мартын осторожно прикрыл дверь и очень негромким голосом сказал: — Это если очень скоро надо. А понапрасну не хаживай. А если вдруг с той стороны закрыто, постучи, — и показал, как стучать. После они все четверо вернулись в Маркелову горницу. Хотя, тут же подумал Маркел, теперь и та горница его, и эта. Не обманул Ададуров! Или это без него решили? Конечно, без него, это сам князь решил! Эх, дальше подумал Маркел… Но еще дальше он подумать не успел. — Ладно, — сказал Мартын, — обживайся. А у меня дела. — И вдруг спросил: — А знаешь, от чего государь помер? — И сам же ответил: — Удар с ним случился. Это его лекаря, Ивана Нилова, сегодня из-под стражи выпустили, привели в собор, он государя посмотрел и приговорил, что это был удар. А Нилов — сильный лекарь! Если бы Богдашка его под стражу не запер, он бы государя выходил. И был бы жив государь! И Трофим был бы жив. И не ходил бы ты в стряпчих, Маркелка. А так везет дурням! Какое время пришло гадкое! И развернулся и пошел из горницы. Сторожа пошли за ним. Когда Мартын со сторожами вышел, Маркел по-прежнему стоял посреди горницы, не зная, что и делать и что и думать. Он стряпчий! Он живет в Москве! Его сам боярин Годунов приметил! Он к князю Семену вхож! Он… А где Параска? Куда она пропала? А Нюська где? Чего они так долго не возвращаются? Может, с ними что случилось? Может, их уже забрали в Углич? А что, у нас такое запросто! А если так, тогда зачем все это? Да как же так? Да… Ну, и так далее. Маркел стал ходить взад-вперед по горнице. Ничего ему же не было любо! Так он ходил, ходил, останавливался возле божницы, крестился и опять ходил, опять останавливался, опять ходил и думал, что гадалка ведь была права: околдовала его черная вдова, присушила и лишила ума-разума!56
Вдруг за стеной что-то брякнуло. Маркел остановился и прислушался. Еще раз брякнуло! А потом раздался голос Нюськи. Потом Параски. Они о чем-то тихо, вполголоса спорили. Маркелу стало жарко, он поправил ворот. Схватился за шапку и надел ее. Нюська продолжала говорить. Маркел вытащил нож из рукава и засунул за голенище. Повернулся на иконы и перекрестился. Святой Никола с той большой иконы ему как будто подмигнул. Маркел улыбнулся и пошел к двери. Выйдя на помост, Маркел осмотрелся. Начинало смеркаться, во дворе почти что никого не было. Сейчас быстро темнеет, март месяц, подумал Маркел, и это его почему-то обрадовало. Маркел подступил к Параскиной двери и постучался. Рука у него сильно дрожала, стук получился не ахти какой. Но Параска сразу же откликнулась: — Открыто! И голос у нее был веселый, как показалось Маркелу. Он вытер ноги об порог и вошел в сени. В сенях был сладкий дух. Может, она какие травы сушит, подумал Маркел, а рассмотреть ничего не сумел, потому что там было темно. Маркел на ощупь отыскал вторую дверь, толкнул ее и вошел. Параска стояла возле печи и держала руки у груди. Одета она была очень хорошо, даже богато, как будто ждала гостей, и щеки у нее горели. А глаза сверкали! Нюську Маркел вначале совсем не заметил (а онасидела за столом), Маркел видел только Параску. А говорить совсем не мог! — Дело какое? — спросила Параска. — Э! — только и сказал Маркел, разводя руками. — А мы тебя, Маркел Петрович, ждали! — сказала Параска. — Мы теперь по гробовую доску твои должники. Если бы не ты, не знаю, что бы я делала. Пропала бы моя дочушка. Храни тебя Господь, Маркел Петрович, долгие тебе лет, богатства и еще всего, чего ты желаешь! — И она поклонилась Маркелу. Тут из-за стола выскочила Нюська, встала рядом с матерью и тоже поклонилась. — Да что вы, в самом деле? — со смущением сказал Маркел. — Да как я мог иначе! Не по-христиански это было бы. — Вот в том-то и беда, Маркел Петрович, — сказала Параска, — что вокруг как будто все христиане, а только, случись беда, так и поклониться некому. — И тут же спросила: — Голодный? И не отнекивайся даже! Мы тут всего уже тебе принесли — с царицыного стола! Нарочно в платок увернули, чтобы не остыло, пока донесем. Садись, Маркел, садись, небось не чужие люди — живем через стенку. Маркел отступил к столу и сел. Параска и Нюська засуетились, стали накрывать на стол. Маркел, пока было время, осматривался. У Параски было чисто, уютно, по-городскому и даже немного по-иноземному: шкаф со стеклянными дверцами, мирская парсуна на стене возле божницы — там был нарисован город, а по краям скакали иноземные бояре, плыла рыба-кит и лежала девка с неприкрытым срамом. Маркел покраснел и отвернулся. Но тут ему как раз подали пироги — один с грибами, второй с рыбой, а третий с дичиной. — А пить будешь чего, Маркел Петрович? — спросила Параска. — То же, что и ты, — сказал Маркел. — Так что я? — ответила Параска. — Я женщина скромная. Я, может, только винца пригублю. — И вдруг засмеялась и сказала: — Оно у меня особое, немецкое, называется мальвазия. Слыхал про такое? — Пивать такое не пивал, — сказал Маркел, — но нашивал. — Как это нашивал? — А так: аглицкому гентельману Баусу, королевину послу, бояре мешок мальвазии пожаловали, ну, я и отнес. — У нас, конечно, целого мешка не будет, — сказала Параска, присаживаясь рядом, через угол от Маркела, — но по чарочке нальем. Нюся, принеси бутылочку. Нюська принесла, поставила на стол и села рядом с мамкой. — Наливай, — сказала Маркелу Параска. — Так как же мне… — начал было Маркел. — Да ладно ты, Маркел Петрович! — весело сказала Параска, и глаза у нее еще ярче засверкали. — Чего уж там! От судьбы не уйдешь… Наливай! Маркел налил по самый верх и даже немного с горкой и еще, через верх, на покрывало, на так называемую камку. Вино было красное, как кровь! Маркел сглотнул слюну и громко (громче, чем хотел) сказал: — Ну, с Богом! И быстро, одним махом выпил. Вино было очень сладкое, и сразу захотелось огурца. А Параска пила медленно и поверх чарки поглядывала на Маркела. Взгляд у нее был такой, что просто сшибал с ног! Маркел аж зажмурился. А когда открыл глаза, Параска уже выпила и теперь только облизала губы. Губы у нее стали блестящие… И тут Нюська вдруг заговорила: — Ты же, дядя Маркел, еще не знаешь, как меня украли. Я же тебе не рассказывала. Это я мамке рассказывала, и там всем во дворце, а ты ничего еще не слышал. — Ну и что? — недовольно сказала Параска. — Расскажешь еще. — И, опять повернувшись к Маркелу, продолжила: — Напугали девчонку нелюди… Она там, во дворе, возле колодца, играла, и как они откуда подскочили, просто непонятно. И сразу в охапку ее, в полушубок увернули и бежать. И дальше через тын. Посреди двора все это было! И время было не такое позднее. Но хоть бы одна свинья заступилась! Или хоть бы мне сказала. Я же тут бегала, кричала, я же сколько тут слез пролила, и хоть бы кто словечко замолвил. А ты говоришь… И вдруг повернулась к Нюське и сказала: — А ты чего уши развесила? Посмотри, что за окном! Ночь черная! Иди, приляг. Прошлую же ночь и глаз, наверное, не закрывала. — Не закрывала, — согласилась Нюська. — Вот и иди закрой. А если что, я тебя позову. Нюська смотрела на Параску и не шевелилась. — Чего смотришь? — сказала Параска. — Я тебе ясно сказала? Вот как сладкий пирог резать буду, так сразу позову. А сейчас иди, иди! Нюська с очень недовольным видом поднялась, вышла из-за стола и медленно ушла за печь. Стало тихо. Параска сказала: — Жалко мне ее. Ох жалко! Сиротиночка моя. Маркел тоже молчал, не зная, о чем говорить. Потом, немного осмелев, налил еще по чарке. — Ох, грех какой! — тихо сказала Параска, но чарку взяла, чокнулась и выпила — уже быстрее первого. И покраснела! — Что ты такая невеселая? — спросил Маркел. — Так у нас сегодня бабка померла, — сказала Параска. — Какая бабка? — На службе. Нянька царская. Ей было сто лет! И все жила, жила… Думали, она никогда не помрет. А как государь преставился, загоревала она. Не ела, не пила. Говорила: «Извели Ванюшу злые люди». А сегодня утром померла. — А! — сказал Маркел. — Видел я эту няньку. — И, помолчав, продолжил: — А я думал, что у тебя на службе, может, какая беда. — Нет, на службе, слава Богу, тихо, — сказала Параска. — Не едем мы в Углич. Телятевская, моя боярыня, похлопотала. Я же, говорит, царицына боярыня, никуда я не поеду. И к своему Яшке. А ее Яшка, младший сын, он при покойном государе с большим саадаком стоял, это же какая сила! И Яшка сразу к Годунову. И Годунов сказал: ладно. Теперь мы при новой государыне, Ирине. Супруге государя Федора. А знаешь, кто эта Ирина? Годунова родная сестра! Вот почему он теперь всем заправляет. Что Ирине скажет, то она Федору в уши и вложит, и он то и говорит. Вот кто у нас теперь истинный царь! И все это знают. — А Бельский что? — спросил Маркел. — А что ему? — ответила Параска, усмехаясь. — Скользкий змей! Его голыми руками не возьмешь. А уже казалось, Годунов его сейчас раздавит, уже на хвост наступил. Но тут бояре смотрят, что Годунов уже слишком много силы взял, и стали понемногу подаваться к Бельскому. И полки стали шататься! Ну, и Годунов не стал своего счастья испытывать и помирился с Бельским. Больше для виду, конечно. Теперь Бельский едет воеводой в Нижний. А Нагие — не такие ловкие, и их вместе с царевичем отправят в Углич. Жалко государыню Марию, а еще жальче царевича. Ну да у каждого своя судьба. И это их царское дело. А наше с Нюсей дело маленькое: никуда не едем, остаемся здесь. Так что если желаешь, то можешь столоваться у меня. Я много не возьму. — Ну, я, — сказал Маркел. И не договорил, смутился. — Чего ты все время краснеешь? — спросила Параска. — Может, тебе еще налить? Так я налью! Она уже сама взяла бутылочку и налила и себе, и Маркелу. Они чинно чокнулись и выпили. Теперь они оба пили медленно и поверх чарок смотрели один на другого. У Маркела закружилась голова. Он отставил чарку и сказал: — Помнишь, я тебе говорил, что куплю тебе бусы? Так что мне теперь бусы! Я теперь, знаешь, кто? Да я теперь такой, что я тебе не только бусы, а еще шубу куплю. Какую пожелаешь! А вот здесь… — И Маркел повернулся к стене. — Ковер повесим! Персиянский, я такие видел. Лавки парчой обобьем. А… И тут он замолчал, потому что Параска как-то очень странно на него смотрела. — Что с тобой? — спросил Маркел. — Так, ничего, — ответила Параска. — Тут сегодня ко мне на службу один человек приходил. Из Ливонии, из тамошнего города Вендена. Понимаешь, почему он приходил? — Ну? — только и спросил Маркел. — От супруга моего известие принес, — строгим голосом ответила Параска. — Жив мой супруг Гурий Корнеич. И скоро обратно вернется. — И тут же спросила: — Чего ты такой грустный? Чего больше не краснеешь? — Так, ничего, — сказал Маркел, а у самого аж в висках застучало. — Чего тут радоваться? Вон, твой дядя Тимофей говаривал, что Гурий — еще та птица! — Ну, какая птица — мой супруг, это не тебе с дядей решать, — грозно сказала Параска. — Может, для вас он что другое, а для меня — орел! И я буду его ждать. Не нужны мне чужие ковры! И чужие бусы, и чужие шубы. Чего ты здесь ночью расселся? Я женщина порядочная, замужняя, а он мне наливает, спаивает! Да кто тебе это позволил? — Цыть! — громко сказал Маркел и хлопнул ладонью по столешнице. Параска замолчала и поджала губы. Маркел встал, надел шапку и прибавил: — Премного благодарен за угощение, любезная Прасковья… Как тебя? — Матвеевна, — чуть слышно ответила Параска. — Значит, Матвеевна, — сердито повторил за ней Маркел. — Низкий тебе поклон за хлеб-соль. Если чуть что, обидит кто-нибудь или еще какое дело, то милости прошу, приходи, не откажем! — и развернулся и пошел к двери. Параска молчала. Маркел вышел и притворил за собой дверь — без стука.57
Маркел лежал у себя в ближней горнице и смотрел в потолок. Потолка видно не было, была же ночь кромешная. Эх, в сердцах думал Маркел, черт же его дернул туда сунуться! А после эти речи заводить. Но и Параска тоже хороша! Ведь врет она, никто к ней не приходил, ни про какого Гурия Корнеича никаких известий нет. Иначе она сразу бы про это рассказала. А если не она, так уж Нюська — эта обязательно! Она же его так ждет!.. А если Нюська молчала, то никто не приходил, а это все из-за исконной бабьей вредности, чтобы сказать поперек, чтобы сразу не поддаться, чтобы… Тьфу! Маркел перевернулся на бок и стал думать про свою службу. Вот тут, думал он, все очень славно сложилось, он теперь стряпчий, будет много денег получать, найдет себе богатую вдову, а то и девицу на выданье, здешнюю московскую, конечно, и заживет, как сыр в масле. Мать из Рославля выпишет, девка (ну, тогда уже не девка) нарожает ей внуков. Маркел продаст кобылку, купит жеребца ногайского, вороного, злого, зубастого, медвежью шубу, турецкую саблю… Вдруг где-то брякнул колокол. После, немного погодя, еще раз брякнул. Да что это они, с удивлением подумал Маркел, и в самом деле хотят царя ночью хоронить? Или там сейчас служба идет, отпевают государя со всей пышностью, вот колокол и брякает. Эх, дальше подумал Маркел, так он царя и не увидел и толком не знает, за что его отравили, а после почему за это никого не наказали. Да и Маркелово ли это дело? Правильно Параска говорит: ее дело — это ее Нюська, а царские дети пускай сами между собой разбираются, кому царский посох, а кому горшки побитые. Нам-то, дальше подумал Маркел, какое до этого дело? Ну, был у нас один царь, стал другой и был бы третий, ну и что? До царя далеко, а до Бога высоко. А тут, в Москве, и царь как будто близко, а все равно как на небе живет, поэтому здесь так же, как везде: и кто царем был, и кто царь будет, нам, простым людям, все равно. Мы дерь… Нет, мы пыль на ветру, вот так лучше будет сказать. Подумав так, Маркел тяжко вздохнул. Но почти сразу спохватился и подумал: нет, все-таки не все равно, где жить, возле царя лучше, не хочу в Рославль! Эта мысль ему понравилась, Маркел опять лег на спину и потянулся. Эх, опять подумал он, одно нехорошо… Но дальше подумать не успел, потому что вдруг услышал: у них по помосту кто-то идет крадучись! А вот возле самой двери затаился. Кто это? Лопарь, что ли, пришел душу вынимать и спрашивать, почему царя не уберег? А что! Небо чистое, луна, а к ночи подморозило, лопари такое любят! Маркел приподнялся на локте, полез под изголовье за ножом… И вдруг услышал стук в дверь… Стук был не простой — условный! Нет, это не лопарь, сразу подумал Маркел, так мог стучать только дядя Трофим, но дядя Трофим сейчас, спаси и сохрани… Или Параска! Ну, конечно, кто еще? Маркел вскочил с лавки, подбежал к двери… Ну и что дальше рассказывать? И так понятно. Дядя Тимофей после, когда встречал Маркела, только зубами скрипел, а так ничего поперек не сказывал. А как сказать? Маркел стал большим человеком, служит в Разбойном приказе стряпчим, тридцать шесть рублей в год огребает, это на всем готовом — харчи и одежка, — и с боярами вась-вась, Нюське на каждый праздник пряников медовых, свистулек, лент всяких, бисеру, ну а Параске преподнес на Пасху золотой перстенек с красным камнем, говорит, рубин. Фиг его знает, может, и рубин, с Маркела станется. Горазд деньги расфукивать! Слишком легко они ему даются! Ну и пусть дальше даются так же, в сердцах говаривает дядя Тимофей, они же после все равно Параске достаются, а Параска это заслужила. А царь? Что царь? Лежит в Архангельском соборе, рядом со своим старшим сыном Иваном Ивановичем, саркофаг в саркофаг. Когда средний сын, Федор Иванович, великий государь, в собор приходит, то обязательно за батюшку с братцем помолится. А самый младший братец, Дмитрий, сидит в Угличе. Люди оттуда приезжают, говорят: красив, как ангелочек! Чего про Федора не скажешь. Ну да царь не для красоты нам дается, а для душевного спокойствия, и тут Федор будет первей Дмитрия. Но про царей Маркел не любит говорить. А про цесаря тем более. Однажды Параска спросила, чего это Маркел молчит и никогда ей не рассказывает, куда подевался тот белый цесарь, которого он так долго искал… И Маркел сразу почернел, стал с виду очень грозный и спросил: — Я тебе как больше люб, с головой или без? Параска испугалась и ответила: — С головой, конечно. — Вот поэтому лучше про это молчи! — строго сказал Маркел. И больше они никаких разговоров ни про царя, ни про цесаря не заводили. Ни вообще про шахматы. И даже про Родьку тоже нет. Да и что было про Родьку заводить, если его в Москве уже не было. Его же записали толмачом и увезли вместе с посольством в Крым, к крымскому хану Гирею. А Крым — это ого! Ададуров однажды рассказывал, что Родька там не столько посольские речи толкует (да и как ему их толковать?), сколько играет с ханом в шахматы и, когда надо выигрывает, а когда надо (и чаще) проигрывает, а его за это крымчаки поят вином. И поят так щедро, что он ехать обратно и не думает. Вот что Ададуров рассказывал, а сам при этом ухмылялся. А чего ему не ухмыляться! Ему же той же весной, только Феодора на царство возвели, четыре деревеньки приписали, все четыре под Москвой и все богатые, а в Думе он, хоть и остался, как и был, обычным думным дворянином, но сидит по правую от Годунова руку и, когда ему кивнут, грозно на бояр покрикивает, а те ему в ответ молчат. Маркел однажды не сдержался и дома за ужином сказал вполголоса: — За три волоска и один ноготь все это… — Что, что? — переспросила Параска. — Молчи, вот что! — строго ответил ей Маркел. — Не наше это дело. Царское! — а после еще на Нюську строго глянул. И они молчат. Живут не венчано, но дружно и ждут известий из города Вендена. Известий пока нет никаких. И они дальше живут себе и ни про царя, ни про шахматы не поминают. Живут зажиточно. Как вдруг… Но это уже другая истории, и мы ее расскажем в следующий раз.Сергей Булыга Грозное дело
© Булыга С.А., 2015 © ООО «Издательство «Вече», 2015 © ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2015
1
В одна тысяча пятьсот восемьдесят первом году от Рождества Христова, в ноябре пятнадцатого… нет, уже шестнадцатого дня, было ещё совсем темно, но Трофим вдруг проснулся и на всякий случай сразу сунул руку под подушку, к ножу. Нож был на месте. Слава Тебе, Господи, с облегчением подумал Трофим, а то приснится же всякое. Отпустив нож, повернулся на спину, прислушался. В хоромах было тихо. И во дворе никто не баловал. Тишина была полнейшая. Вот только Гапка нет-нет да похрапывала. Трофим протянул руку и толкнул ее в бок. Она заворчала и притихла. Время было ещё очень раннее, вполне можно было подремать, но Трофиму чуялось неладное. Он ещё немного полежал и подождал, а потом неслышно приподнялся, сел на лавке и опять прислушался. Вначале было совсем тихо, а потом Трофим услышал, как наверху, на втором этаже, у князя в сенях, заскрипели половицы. Потом ещё и ещё! Что там такое, подумал Трофим, кому не спится? Он опять потянулся к ножу, взял его наизготовку и осторожно спустил ноги с лавки. В сенях у князя опять заходили, уже почти не таясь. Ага, подумал Трофим, вот даже как, и, положив нож рядом, начал одеваться. Темнотища была, как в берлоге, свет шёл только от лампадки. Трофим чертыхнулся. Гапка сразу заворочалась. – Лежи, – строго сказал Трофим. Гапка послушно замерла. В княжьих сенях уже почти совсем не таясь пошли вниз по лестнице. Трофим обулся, надел шапку, повернулся к образу Николы, к лампадке, и перекрестился. Эх, ещё успел подумать Трофим, какой был сон недобрый, ну да не такие бывали, а всё равно отбивался. И, успокоившись, подошёл к задней двери, встал сбоку, прижал руку с ножом к поясу и затаился. А те подошли и остановились с той стороны. Трофим свободной рукой неслышно откинул задвижку и резко рванул дверь на себя. Оттуда полыхнуло светом. Это те пришли с огнём. Те – это Мартын, княжий дворский, он без ничего стоял, а с ним Степан и Илья, вот эти и были с огнём. – Вам чего? – строго спросил Трофим. – А ты чего? – злобно сказал Мартын. – Так и стоял здесь всю ночь? – Так и стоял. Вас дожидался. – Нож убери хотя бы! Трофим убрал нож. Мартын уже не так злобно продолжил: – Князь тебя спрашивал. Пойдём. Они пошли. Трофим шёл и думал, что раньше он бы весь извёлся, гадал бы, что к чему, а теперь ему что? Теперь всё едино. Заматерел. Они поднялись по лестнице, подошли к княжьим сеням, сторожа расступились, Трофим сам открыл дверь и вошёл. Это была ответная палата. Много здесь кто ответ держали! Ох, место бойкое! Бывало, как возьмёшь кого… Но дальше Трофим думать не стал, а остановился и снял шапку. Напротив него, на мягкой лавке, покрытой коврами, сидел сам князь Михайло Борисович Лобанов-Ростовский. И хоть там свету тоже почти не было, Трофим сразу понял, что князь смотрит очень строго. А князь умел строго смотреть! И ещё как! Бывало, как глянет, так не только Трофима, но и родовитого боярина каких хочешь кровей сразу за бороду – и тащат к князю в Разбойный приказ, третий подъезд налево, а дальше прямо, потом направо, на второй этаж – и там князь усмехнётся, обернётся и велит: Трофимка… Да, крут был старый князь Михайло, умел силу показать! Но сейчас он был будто сам не свой. Поднять людей в такую рань и самому не спать – всё это неспроста и у князя не в обычае. Тут только если что от Самого, из Слободы пришло, думал, глядя на князя, Трофим. А потом подумал: ну и ладно. Князь как будто бы это услышал – сразу же заулыбался и сказал: – Чего так побелел? Грех за собой прочуял? – Нет пока что, – ответил Трофим. – А чего я тебя вдруг посреди ночи выдернул? – Значит, беда какая-то случилась. И без меня никак. – Ох, дерзок ты, Трофим! – строго сказал князь. – На виску бы тебя. Да повыспрашивать. – Воля твоя, боярин, – так же строго ответил Трофим. – Это я так, – сказал князь, усмехаясь. – А ты сразу зубы скалишь. Сколько в тебе зла, Трофим! Вот потому и живёшь бобылём. Никто за тебя идти не хочет. Один только срам разводишь. Тьфу на тебя! Тут он и вправду сплюнул. Трофим молчал. Князь Михайло был прав, Трофим это знал и помалкивал. Грех – это Гапка, думал Трофим, в блуде они живут, невенчанно. Ну да и кто без греха! И что он, чернец, что ли? Но тут князь сказал: – Беда у нас, Трофимушка, ох и беда! Трофим молчал. Князь повторил: – Беда! Но так и не сказал, какая, а сразу прибавил: – Надо тебе срочно ехать, Трофим. Прямо сейчас. Ты даже к себе обратно не ходи, чтобы разговоров не было. Я тебе здесь шубу дам, двадцать рублей ефимками. И конь при крыльце стоит, и провожатый… – Государь, что ли? – не выдержав, спросил Трофим. – Что государь? – не понял князь. А когда понял, почернел, встал с лавки… Но Трофим уже заговорил поспешно: – Батюшка боярин! Куда ехать? Князь опять сел, сердито сказал: – Провожатый скажет. Провожатого звать Клим. Он дорогу знает. А это вот тебе. И князь достал из-за пазухи и протянул Трофиму небольшой кусок овчины, вершковый кругляшок, не больше. Трофим перевернул овчинку и на её лысой стороне увидел царского орла. Орёл был очень необычный – не чёрный, жжёный, как всегда, а красный. Трофим сжал губы. – Вот-вот! – сердито сказал князь. – Уразумел? Трофим только вытер пот со лба, а вслух ничего не ответил. – Вот так и дальше молчи, – сказал князь. – А только пикнешь, перетрут верёвками, на клочья разорвут и скормят псам. Понятно? Трофим кивнул, что понятно. – Иди! Трофим пошёл. Как во сне.2
В сенях стоял Мартын со своими, они держали свет, а у Мартына в руках была шуба. Шуба была богатая. Трофим не спеша оделся. Мартын подал кошель, Трофим взял его, встряхнул. Кошель был тугой, даже не брякнул. – Эх! – только и сказал Мартын сердито. Мартын был недобрый человек, завистливый, все это знали. Трофим повернул к лестнице, Мартын пошёл за ним. А люди зашли вперёд и светили, чтоб было виднее идти. Когда Трофим вышел на крыльцо, они уже спустились вниз, и там, при их свете, он сразу увидел двух коней, а возле них стоял кто-то в чёрной шубе, нарочно отвернувшись в сторону. А вокруг было ещё совсем темно, небо было всё в тучах, без звёзд. Дул ветер. Было холодно. Трофим перекрестился и пошёл с крыльца. Когда он спустился во двор и подошёл к коням, то только прищёлкнул языком – такие они были справные. И тут повернулся тот, чьи это были кони. Человек он был как человек, ничего в нём недоброго не было, а вот не хотелось на него смотреть, и всё тут. Трофим нахмурился, сказал: – Меня Трофимом звать. Тот человек молчал. – А тебя Климом, – продолжал Трофим. Клим в ответ только усмехнулся, похлопал одного коня по холке, вскочил на него в один мах, поёрзал в седле, хмыкнул и сказал: – Айда! Трофим сел на второго коня. Они поехали. Один из Мартыновых людей, Илья, забежал им вперёд и начал махать огнём. Воро́тники это увидели и стали открывать ворота. Клим с Трофимом в них проехали. Илья, поджидая их, остановился. Клим подъехал к нему, забрал свет и, высоко подняв его, свернул налево – и они, Клим и Трофим, поехали по Житничной улице. К Никольским воротам, подумал Трофим. И угадал, они подъехали к Никольским. Там, как только их увидели, тоже не стали спрашивать, ни кто они такие, ни куда их несёт, а сразу побежали открывать. Но Клим всё равно был недоволен, назвал их сучьими детьми и сказал, что очень спешит. Они открыли ворота, подняли решётку, опустили мост – и Клим с Трофимом выехали из Кремля и поехали дальше. Клим ехал впереди, Трофим за ним. Миновали Воскресенский мост – там перед ними тоже только разбегались, а дальше, Трофим так и думал, повернули к Сретенке. Было ещё совсем темно, только на рогатках горели костры. Рогатные, завидев Клима, поспешно вставали, раздвигали рогатки – и Клим с Трофимом ехали дальше. Было очень холодно, поднялся ветер, пошёл редкий снег, твердый, как крупа. Дурная примета, подумал Трофим, как бы их самих, как крупу, не сварили. И тут же додумал: а ведь и верно, их некормленых послали, как собак. Или, может, Клима покормили, а только его нет? И теперь, на голодное брюхо, пёс его знает, куда гонят. Хотя, тут же подумал Трофим, как куда?! По Сретенке куда ещё можно попасть?! Да ещё ночью! Да с красным орлом! Пресвятая Богородица, Святой Никола, не выдайте! И Трофим уже в который раз за эту ночь перекрестился. Тут они выехали на площадь перед городскими Сретенскими воротами. Трофим посмотрел на небо и увидел, что оно с одного края уже начало светлеть. У ворот стояли сторожа. Старший из них спросил: – Ну как? – Как, как! – сердито отозвался Клим. – Да как всегда. Открывайте! Пошли открывать. Пока открывали, Трофим потрепал коня по гриве, провёл рукой по загривку. Конь был холёный, сытый. Сорок рублей, не меньше, подумал Трофим, такого гнать – грех. А ведь придётся. И пришлось! Как только открылись ворота, Клим бросил огонь на землю, свирепо гикнул, пнул коня – и поскакал вперёд. Трофим поскакал следом. Протопотали по мосту и поскакали дальше. По государевой ямской дороге. На Ростов. Светало. Эх, думал Трофим, чего и спрашивать, ясное дело, куда они скачут, вот только зачем? Давненько он с красным орлом не езживал! Больше десяти годов, это когда ещё Малюта был живой. Вот когда были времена! А что сейчас? Да одно баловство. А тогда таракан за печкой лапкой шваркнет – и ты уже вскочил и слушаешь, идут за тобой или нет. А теперь что, теперь с Гапкой вожжался, пришёл Мартын, а ты ему: «Пошёл вон!»… Да вот только Мартын никуда не пошёл, спохватился сердито Трофим, а это он сам вскочил и поскакал невесть куда. А Мартын дома на печи лежит и в потолок поплёвывает. Примерно с такими мыслями скакал Трофим по ростовской дороге за Климом. Быстро скакал, чуть поспевал. А уже рассвело, небо было серое, ветер дул гадкий, сыпал снег, кони скакали справно, широко, на дороге было пусто. А на душе погано. Давно пора, думал Трофим, спросить у Клима, куда они едут, но вот как-то не получалось, Клим всё время скакал первым. А когда Трофим наддавал и подскакивал, Клим сразу тоже наддавал и опять ускакивал вперёд. Это он нарочно, пёс, сердито думал Трофим, это чтоб не разговаривать, они там все такие. А где это «там», Трофим даже в мыслях не думал. И скакал себе за Климом. Стало уже совсем светло. Конь под Трофимом взмок и начал надсадно похрапывать, день был холодный, ветреный. Эх, тяжело думал Трофим, так и коня недолго загубить, сорок рублей, свят-свят! И, не сдержавшись, крикнул: – Клим! Может, придержим? Мой стал что-то подсекать, как бы беды не вышло. Клим обернулся, посмотрел и, ничего не сказав, отвернулся. И только ещё наддал. Эх, тяжко подумал Трофим, вот она, царская служба, и тоже наддал. Так они ещё с полверсты проскакали, когда Клим вдруг обернулся и сказал: – Мало уже осталось. Не робей. Доскачем. Как это мало, подумал Трофим, куда это они тогда скачут? Ничего же здесь такого нет, куда бы так спешить. Но переспрашивать не стал. Да если бы и стал, Клим не ответил бы. А на дороге уже стали появляться встречные, а также и попутные. Клим тогда ещё издалека кричал: – Поберегись! Ожгу! И ожигал, если мешкались. У него для этого был кнут за голенищем. И скакали дальше. Но не так размашисто. И вот стали кони спотыкаться и громко захрапывать. Беда, думал Трофим, а если не доскачем? До яма, до Учи ещё вон сколько, а раньше коней нигде не сменишь. Но не угадал. Когда они стали подскакивать к Тарасовке, Клим обернулся и со смехом крикнул: – Доскакали! Так оно и было. Только они прискакали в ту Тарасовку, как Клим начал кричать: – Давай! Давай! И сразу невесть откуда, из-за церкви, выбежали двое молодцов с конями. Клим, доскакав до них, спрыгнул на землю. Трофим спрыгнул за ним. Молодцы подали им свежих коней. Трофим сразу полез было в седло, но Клим удержал его. Трофим остановился. Ему подали шкалик с пирожком. Пирожок был ещё тёплый, с мясом. Трофим выпил и начал закусывать. Клим тоже закусывал, молчал. А закусил – и сразу сел на свежего коня. Трофим сел на другого. Этот конь, подумалось Трофиму, тоже не меньше сорока рублей потянет. – Теперь до Учи, – сказал Клим, и они сразу поскакали, и почти сразу в галоп. У царя много коней, думал Трофим, и если царю надо спешно, то надо спешить. Не приведи Господь царя разгневать! Так они скакали десять вёрст, до Учи, загнали и этих коней. Да и самих себя тоже, подумал Трофим, слезая с седла на землю. – Не садись! – строго прикрикнул Клим. – Потом не встанешь! А и верно, подумал Трофим, и остался стоять. Ему подали шкалик, он выпил. И съел пирожок. Пирожок был рыбный и сбоку с икрой. Трофим посмотрел на молодцов. Молодцы дали ему ещё. Он съел и это. – Поехали! – сердито сказал Клим. – А то казну обожрёшь. Про казну он сказал ради шутки, но Трофиму это всё равно не понравилось. Он молча влез на коня и поскакал за Климом. Было холодно, ветер разогнал тучи, показалось красное солнце. Эх, тоскливо подумал Трофим, не по добру они скачут. Что там ещё за беда приключилась, кого государь казнил? А что казнил, сомневаться не приходилось – вон какое солнце красное, значит, казнил. А вот кого? Кто там сейчас у него в Слободе? А что они скачут в Слободу, Трофим уже не сомневался. Потому что куда ещё так скакать?! В Ростов мышей ловить? В Ярославль за гнилой рыбой?! Нет, только к государю в Слободу, а это ещё тридцать вёрст до Радонежа, а после в сторону и ещё столько, нет, даже ещё больше, до Слободы. Во аж куда! За один день! А обычно туда ехали два дня. На своих конях. Своих так не погонишь! За первый день они доезжали до Радонежа, там проезжали ещё немного дальше, заезжали в Троицу и уже там ночевали. А утром в церковь, исповедался и причастился – и только тогда в Слободу, после причастия. Потому что мало ли! Вдруг государь разгневается! А тут, Трофим чуял, заезжать в Троицу они не будут, а без покаяния сразу поедут в Слободу и там предстанут пред грозные очи. Вот куда они сегодня скачут! Но зачем? Какая там крамола открылась? Да и что крамола? Для крамолы у государя есть нарочно на это натасканные люди, а что Трофим? Трофимово место – Разбойный приказ, вот он разбойников и ловит, а какой разбой в царских палатах?! Вот о чём думал Трофим, и так в этих думах доскакал сначала до Талицы, выпил шкалик, съел пирог и поскакал дальше, а после так же выпил и перекусил в Тишково. И только уже в Радонеже как слез с коня, так не удержался, ноги подогнулись, и он сел на землю. А попробовал подняться, не смог, и посмотрел на Клима. Клим сказал: – Ладно, сиди пока. Половину уже отмахали, засветло должны доехать. – А ехать-то куда? – спросил Трофим. Клим как будто не расслышал и продолжил: – Славный сегодня день, нежаркий. По холодку справно скакать. А дальше будет ещё легче. Дорога пойдёт гладкая, ровная, будто твой стол. И Клим усмехнулся. Трофим понимающе кивнул. Он теперь знал наверняка, что они едут в Александрову Слободу, потому что во всём царстве была только одна такая славная дорога, чтобы снизу были брёвна, сверху глина битая и обожжённая – и так на пять саженей в ширину и на сорок вёрст в длину. До самой Слободы ни одного ухаба! По ней можно с закрытыми глазами ехать, не споткнёшься. Если, конечно, вас на ту дорогу пустят.3
Но Клима с Трофимом, конечно, пустили. Они показали овчинки, Клим что-то вполголоса сказал, старший на рогатке согласно кивнул, рогатку отодвинули, они проехали и, мало-помалу, поскакали всё быстрей и быстрей. День уже начал клониться с полудня. Дорога была ровная, свободная, а если кто вдруг и встречался на пути, то сам же, первый, не дожидаясь Климова окрика, берёгся, то есть отступал в обочину, и Клим с Трофимом скакали дальше. Так они скоро доскакали до Дерюзина, там им подали сладких пирогов с красным вином, вино тоже был сладкое, Трофим с удовольствием выпил, пересел на сменного коня, они поскакали дальше… И Трофим вдруг подумал, что это была кровь. Нет, тут же подумал, что за дурь, вино это, хмельное, сладкое… А всё равно было противно, он утёрся. Отдышался и наддал, чтобы не сильно отставать от Клима, и ещё подумал о том, что зря они не заехали в Троицу и не причастились, потому что теперь, если вдруг что, как помирать – без покаяния, что ли? А почему это вдруг помирать, сердито думал Трофим, вон сколько людей живёт в той Слободе, и им хоть бы хны, привыкли. Правда, раньше и в Москве было так. Но как только государь переселился в Слободу, так все сразу и отвыкли. Без него даже дышаться стало легче. А как он теперь приезжает в Москву, так все, как тараканы, по щелям. Все кто куда! Даже князь Михайло, до чего тёртый калач, и тот сразу скажется больным и сидит у себя во дворе, за ним придут по царскому велению, а он им говорит, что старый он уже, что ноги отнимаются, и его тогда под руки и с крыльца, и в сани, и в царю. А он из саней оглянётся и меленько крестится. Так это князь Михайло, матёрый душегуб опричный, а про других и говорить не хочется, может, даже прудят под себя… Вот это государь! И к нему ехать! И Трофим уже в несчётный раз за день перекрестился. А Клим скакал себе, нахлёстывал коня и даже не оборачивался. Лишь за Стоговским ямом, когда дорога пошла лесом, Клим стал придерживать коня и то и дело посматривать по сторонам. Но, как говорится, Господь миловал, Клим никого не высмотрел, и, мало-помалу, густым лесом, а солнце уже начало цепляться за деревья, они выехали к Каринскому полю, а там и к известной Каринской заставе. То была застава так застава! Ворота там были толстенные, тесовые, с подъёмным мостом на цепях. Мост был опущен. При нём стояли стрельцы с бердышами и пищалями. А на мосту – псари с собаками на сворах. Собаки лаяли до хрипоты и рвались кинуться. Трофим на всякий случай придержал коня. Клим, заметив это, усмехнулся. Но, правда, тоже придержал. Так они, шагом, и подъехали к заставе. Старший стрелец вышел на дорогу, поднял руку. Клим и Трофим остановились. Псари спустили собак. Собаки молча кинулись к коням. Кони стояли смирно. Привычные, подумал Трофим, невольно поджимая ноги, от собак повыше. Псари закричали, зафукали. Собаки, не очень охотно, но всё же развернулись и потрусили обратно. – Чего вам здесь надо? – строго спросил старший из стрельцов. Клим медленно сошёл с коня. Трофим сошёл следом. Клим достал свою овчинку и показал её в своей руке. Так же сделал и Трофим. – Ты кто такой? – спросил у него старший. Трофим посмотрел на Клима. Клим за него ответил: – Он со мной. Старший полез за пазуху, достал небольшую грамотку, глянул в неё, а после на Трофима. После подошёл к нему, немного приподнял у него шапку, согласно кивнул и отступил на шаг. А Трофима как будто огнём обожгло! Ох, только и подумал он, неужели всё сначала? Да ведь то дело было кончено – совсем!.. Но старший стрелец уже сказал: – Ладно, ладно! Некогда ворон считать. А ну! Им сразу подали вина и по куску пирога. Пирог был как пирог, с грибами, а вот вино опять было как кровь – и красное, и тёплое, но почему-то с перцем. Зачем это, думал Трофим, может, для того, чтоб дух отбить, чтобы не узнали, что это такое? – Чего не пьёшь?! – строго спросил у него старший. – Государево вино не в радость?! Трофим разом допил вино и начал поспешно доедать пирог, чтобы перебить кровищу. А Клим вино пил с удовольствием. А допив и отдав кубок, утёрся и вполголоса спросил, как идёт дело. – Никак не идёт, – нехотя ответил старший. – Наверное, вас ждёт, – и недобро усмехнулся. У Трофима заныло под сердцем. Но тут им подвели свежих коней. Кони были сытые, горячие. Трофим сразу вспомнил досужие слухи о том, что коней в Слободе кормят мясом. Или не досужие? Всё может быть. Клим сказал садиться, и Трофим полез в седло. Конь стоял смирно, не брыкал. Псари, освобождая путь, развели собак к обочинам. Клим и Трофим поехали. Дорога была ровная, кони несли мягко, но всё равно сидеть было уже невмочь. Отбил до смерти, думал Трофим, но помалкивал. Клим тоже ничего не говорил и правил уже не так быстро, а даже просто медленно. До Слободы, думал Трофим, осталось всего три версты. Вокруг, на обе стороны, раскинулись луга. Трава на лугах стояла серая, пожухлая. Солнце ушло в тучи. Начало темнеть. Подул ветер, пошёл мелкий, колючий снег. Трофим начал мёрзнуть, его стало колотить. Или это, может, не от холода? И он повернулся к Климу. Вид у Клима был не очень-то весёлый. Трофим не удержался и спросил: – Что это за дело там такое? – Дело как дело, – нехотя ответил Клим. Трофим смотрел на Клима и молчал. Клим посмотрел вперёд, на Слободу, уже была видна городская стена, а дальше за ней колокольни, и сказал: – Недолго уже ждать осталось. Они тебе там сами всё расскажут. Трофим тоже посмотрел на Слободу. Смеркалось. Ветер дул ещё сильней, опять начал сыпать мелкий снег. До Слободы было уже с версту, не больше. Очень недоброе у них там что-то приключилось, с тоской подумал Трофим, и не где-нибудь, а в государевых палатах, иначе чего бы Клим молчал, убили там кого-то, или отравили, или сглазили, или… Да мало ли! И непростого кого-то! А теперь всё это на Трофима! Трофим, разведи нашу беду, а не разведёшь – на кол посадим. И ведь посадят, ироды. Подумав так, Трофим не удержался и сказал: – Святой Никола! – и перекрестился. – Эх! – насмешливо воскликнул Клим. – Нашёл заступника! Да тут… И замолчал. Так до самой Слободы и не обменялись ни единым словом.4
Город Александрова Слобода в ту осень был ещё многолюдный, богатый. Ведь это же сколько народу надо было там держать, чтобы его хватило на обслугу тамошнего Большого государева дворца! А царь Иван Васильевич умел пожить! Умел и его бывший опричный, а теперь просто ближний государев двор. И два полка стрельцов умели, и три сотни псарей, сотня сокольников, три сотни конюхов, четыре сотни сторожей, полсотни рынд, не говоря уже о хлебниках, постельниках, скатерниках, истопниках, ясельничих, воскобойниках, комнатных бабах, портомоях, кухарях, кровопусках, сурначах, сытниках, ключниках, дровниках, шутах, казначеях, карлицах и прочей челяди. Вот почему посад вокруг тамошнего Александровского кремля был ничуть не меньше московского. Так же и городские, так называемые Московские ворота, издалека смотрелись очень грозно, хоть они и были деревянные. Когда Клим и Трофим к ним подъехали, ворота ещё не были закрыты на ночь и мост не поднят. На мосту стояли сытые воро́тники в дорогих красных шубных кафтанах. Это были стрельцы так называемого Государева полка. Подъехав к ним, Клим и Трофим спешились, главный стрелец строго потребовал овчинки, или «память», как он их назвал, и внимательно их рассмотрел, а Трофимову даже попробовал ногтем. И только после этого, отступив в сторону, строгим голосом велел беречь коней. Это означало, что дальше верхом ехать нельзя. Клим и Трофим, не садясь на коней, повели их в поводу. Шли они по главной в Слободе Стрелецкой улице, на которой жили и вели своё хозяйство стрельцы Государева полка. Эта улица была широкая, мощёная, дворы на ней стояли все как на подбор богатые, ограды высоченные. Сытно им живётся при царе, думал Трофим. Вот только, думал, никого нигде не видно почему-то. И Александровский кремль, когда они к нему приблизились, тоже стоял как вымерший. Он в ту осень был ещё такой: стены деревянные, для верности обложенные кирпичом, а вот единственные в кремль ворота были целиком из кирпича. Сверху на них, на раскате, стояли две пушки. Ворота были закрыты, мост поднят, во рву чернела вода. В небе было очень сумрачно. Клим и Трофим остановились, Клим снял шапку, Трофим тоже. Клим махнул шапкой снизу вверх, а после как-то хитро в бок. Мост заскрипел и начал опускаться. Затем раскрылись и ворота. Клим и Трофим, ведя коней в поводу, перешли через мост. На той стороне, за мостом, их уже поджидали воро́тники. Они были в белых кафтанах. Белохребетники, как их все называли, стрельцы первой сотни Государева полка. Старший воро́тник грозно спросил, кто это лезет, кому здесь что надо? – Мы московские, – ответил Клим. – Дядя позвал приехать. – А! – уже не так грозно сказал старший воротник. – Долго же вас носило, ироды. Дядя уже, может, почивает. Ну да ладно! И повернувшись к своим, поманил их рукой. Белохребетники тут же обступили Трофима и Клима и стали их обыскивать. Трофим сам отдал им ножи – один с пояса, второй из-за голенища. – Игнат! – окликнул старший воротник. Один из стрельцов, это, наверное, и был Игнат, выступил вперёд, махнул рукой и пошёл по дорожке к дворцу. Клим и Трофим пошли за ним. Трофим смотрел по сторонам и думал, что за последние пять лет тут ничего не изменилось. Впереди стоял царский дворец, здоровый, как гора, и чёрный-пречёрный, потому что ни одно окно в нём не светилось, все они были закрыты ставнями. И крыша была чёрная. Ну да она и днём такая же, потому что крыта чёрной черепицей. Черепица дорогущая, немецкая, лаком натёртая. А когда-то, говорили старики, крыша была просто золочёная, и днем и ночью сверкала – днём от солнца, ночью от луны. И сколько здесь народу всегда было! А теперь, как на погосте, тихо. Только Трофим так подумал, как тут же одиноко брякнул колокол. Игнат, шедший впереди, перекрестился. Колокол ещё раз брякнул. Трофим поморщился. Чернота какая, Господи, подумал он, да здесь всегда черно, здесь и летом трава никогда не растёт. А колокол ещё раз брякнул, и Трофим почти уверенно подумал, что это царь преставился, вот его и отпевают. И опять подумал: Господи, в таком недобром месте мёртвого царя увижу! Трофим был уверен, что его сейчас ведут прямо к царю, вот и Золотое крыльцо, уже почти рядом, и на нём рынды в золотых шубных кафтанах. Никогда Трофима туда не водили, а всегда вели направо, мимо Красного царицына крыльца, и дальше, а там за угол, пройти ещё немного – и будет дворское Железное крыльцо, там сразу на второй этаж… Но Игнат свернул налево, и они пошли в совсем другую сторону, куда Трофим никогда не ходил. Он только слышал от других, что там, за углом, есть ещё одно, так называемое Медное крыльцо, ведущее в царевичевы палаты. А колокол ещё раз брякнул. Э, так вот оно что, с неохотой подумал Трофим, это царевича убили. Да как же так?! И кто это его? За что? Колокол ещё раз брякнул. Игнат велел смотреть под ноги. Тропка и в самом деле была вся разбита, сапоги так и скользили. Сколько же здесь народу за сегодня побывало, сердито подумал Трофим, и что теперь найдёшь? Всё затоптали, олухи! Пока он так думал, они повернули за угол и увидели то крыльцо. Оно и в самом деле было всё обито медью и было высокое, выше царицына, и даже выше дворского, но, конечно, ниже Золотого царского. На Медном крыльце стояли рынды в посеребрённых шубных кафтанах. Над крыльцом горел светец, но свету от него было немного. Игнат подошёл к крыльцу и остановился. Клим и Трофим остановились рядом с ним. Рынды на них и не посмотрели. Колокол ещё раз брякнул. Трофим вздохнул и подумал, что у царя два сына, и если убили младшего, то царь не будет сильно горевать. А вот если, не приведи Господь, убили старшего… Наверху рынды раздались в стороны, и на крыльце показался – Трофим его разу узнал – Бориска Годунов, из молодых бояр, конюший царевича Фёдора, младшего. А, вот как, подумал Трофим и даже невольно хмыкнул, вот по кому колокол – по Фёдору! Но тут же спохватился: грех какой думать на Фёдора! Но зато думать на Ивана – это ещё грешней, ибо сколько тогда будет крови, нынче и не представить! Да царь Иван за любимого сына… Но дальше Трофим подумать не успел, потому что боярин Борис Годунов, сопляк этот, ещё в прошлом году какой тихоня был, а тут вдруг вон как важно выступает и смотрит зверем!.. Клим и Трофим сняли шапки и поклонились великим обычаем, потом распрямились, по-прежнему не надевая шапок. Боярин поднял руку игрозно отщёлкнул пальцем. Клим сразу отступил к Игнату. Теперь уже один Трофим стоял перед крыльцом. Боярин его поманил – тем же пальцем. Трофим пошёл вверх по ступенькам. Рынды стояли неподвижно, истуканами. Трофим подошёл к боярину и поклонился ещё раз. – Кто таков? – спросил боярин. Трофим назвал себя. – Тот самый? Меченый? – опять спросил боярин. Трофим повернул голову. Боярин глянул ему на ухо, усмехнулся и сказал: – Тот самый! – развернулся и велел: – Иди за мной. И пошёл обратно, во дворец. Трофим пошёл за ним. В сенях их ждали двое стрельцов с бердышами. Они сразу оттёрли Трофима от боярина и повели его за ним почти как злодея. Трофим хотел перекреститься, но подумал, что лучше пока не надо лишний раз махать руками. И так он и шёл, не крестясь, и думал, что это недобрый знак, да и что может в Слободе быть доброго?!5
Из сеней они прошли до рундука и там поднялись вверх, потом свернули два раза туда и три раза сюда, опять поднимались и спускались, развернулись и пошли обратно. Трофим гнул пальцы, считал повороты, но вскоре сбился со счёта и подумал, что всё равно один он отсюда не выйдет. А какая духотища здесь! А теснотища! В Москве намного просторнее. Зачем здесь так тесно строили? Самим же мучиться!.. Только он так подумал, Годунов остановился. Один из его стрельцов выступил вперёд и постучал в стену. На этот стук прямо в стене открылась небольшая потайная дверь. Стрелец отступил назад, пропуская вперёд Годунова. За Годуновым в дверь вошёл Трофим, а уже за ним стрельцы. Палата, в которой они оказались, была совсем без окон. И ничего там не было, даже скамей вдоль стен. Была только одна скамья, очень широкая, на ней на одном краю стоял светец и светил в сторону, а на втором сидел, нога на ногу, некто очень важный, так как обут он был в дорогущие персидские сапоги, одет в просторную, с парчовым верхом, шубу, а в руке он держал посох. А вот голова его была в тени, так что узнать сидящего было нельзя. Трофим всё равно поклонился. Тот человек отложил посох – и из палаты вышли, судя по шагам, стрельцы. Трофим ещё раз поклонился. – Что, – насмешливо спросил тот человек, – почуял?! Трофим вздрогнул. Он же сразу вспомнил этот голос, хоть уже давно его не слышал. – Почуял, нет? – опять спросил тот человек. – Почуял, боярин, – ответил Трофим. – Врёшь! – зло сказал тот человек. – Я не боярин! А сам знаешь, кто! И весь подался вперёд, лицо его вышло из тени. И Трофим с тоской подумал, что он не ошибся – это и в самом деле был Зюзин Василий Григорьевич, первый дворовый воевода, зверь зверем, которого, как говорят, сам Малюта Скуратов побаивался. И не зря! Малюта давно землю парит, а Зюзина и чёрт не взял. И все бояре перед ним шапки ломают – вот как! Трофим тяжко вздохнул… А Зюзин усмехнулся и сказал: – Вот, теперь вижу, что вспомнил. И я тебя, Трофимка, тоже вспомнил. Давненько мы с тобой не виделись. Ну да теперь свидимся. Тут он недобро гыгыкнул и посмотрел на Годунова. Годунов услужливо подгыкнул. Робеет, собака, подумал Трофим. Ну так есть, перед кем робеть. Что Годунов! Зюзин и не таких на плаху кладывал и на кол саживал. Зюзин… Но Трофим додумать не успел, потому что Зюзин опять начал: – Чего ты, Трофимушка, трясёшься? За тобой нет ничего. Пока что! Потому я и велел тебя позвать. И царь-государь сказал: зови его. Слышишь, Трофимушка? Царь! Про тебя, пса, помнит! Чуешь? – Чую, – ответил Трофим. – Дурень! – сердито сказал Зюзин. Он спрыгнул с лавки, пошёл по палате. Зюзин был небольшого росточка, но головастый, плечистый, а руки у него были длиннющие и очень крепкие. Огня не боялись! Трофим сам однажды видел, как Зюзин из огня ключи вытаскивал – голой рукой! И ничего ему с того. Обтёр об шубу – и готово. Давно это было… – Да! – сказал Зюзин. – Давно! А всё никак про это не забудешь? Трофим опомнился. Зюзин стоял перед ним, усмехался. Трофим оробел, подумал: неужели он всё слышит? А Зюзин сказал: – Да! Мало нас из тех, кто там тогда был, до сей поры в живых осталось. После махнул рукой, прошёл мимо Годунова как мимо столба, подпрыгнул, сел на лавку, посмотрел куда-то вверх и почти что нараспев сказал: – Какие люди были! Иерои, прости, Господи. Да один Григорий Лукьянович чего стоил! А сшибла пуля. Пстрик! – он щёлкнул пальцем, – и готов! – Пуля была заговорённая, – сказал Трофим. – Ага! – сердито подхватил Зюзин. – Ну и что?! Ты думаешь, в меня заговорёнными не стреливали? Отправленных грибочков, думаешь, не подносили? Вот, Борис не даст соврать. И он повернулся к Годунову. Годунов сразу стал белый, как стена, и молчал. – Не дашь? – напомнил Зюзин. – Что молчишь? – Не дам, – ответил Годунов. – Вот и славно, – сказал Зюзин. – Ну да это что! Кто мы такие? Дерьмо мы собачье, Трофим. А вот тут беда какая… – помолчал, добавил: – Великая беда, Трофим! – И тут же спросил: – Не говорили тебе? – Нет. – А я скажу. Царевич помирает, вот как! А знаешь, почему? Трофим ничего не ответил. Смотрел Зюзину прямо в глаза и молчал. И даже думать боялся, а просто стоял – и всё. И ещё зубы стиснул, да так, что желваки заныли. Зюзин сердито хмыкнул, повернулся к Годунову и велел: – Борис! Годунов откашлялся и начал говорить без всякой охоты: – Тут, знаешь, такое приключилось. Государь царевич Иоанн Иоаннович при смерти. Убить его хотели злые люди. Чуть жив царевич, вот как. Дай Бог царевичу выжить… – и начал креститься. – Борис! – строго напомнил Зюзин. Годунов поморгал и продолжил: – Это два дня тому назад стряслось. У нас здесь, на царской половине, в покойной палате. Они туда почти что каждый день хаживают. Им там столик ставят, яства всякие. И вот так же и тогда они туда зашли, царь и царевич, и закрылись. А на дверях рынды, никого к ним не пускают. Потом истопник туда зашёл, Савва, он давно здесь служит, ему можно, его пропустили. Но только он туда зашёл и дверь за собою закрыл, как вдруг, отче наш не прочитать, так скоро, он оттуда вдруг выскочил и как закричит: «Царевича убили! Царевича убили!» И в дверь выбежал! И побежал! Рынды – один за ним, второй туда, в покойную… И видит: царевич Иоанн лежит, убитый, на ковре, голова в кровище. И царь с ним рядом, держит его и приговаривает: «Иванушка, Иванушка». И это всё. Годунов замолчал. Зюзин глянул на Трофима и спросил: – Что скажешь? Трофим не отвечал. Внутри всё оборвалось. – Не молчи! – строго напомнил Зюзин. Трофим вздохнул и сказал: – Смотреть надо. А так сразу что! – А что смотреть? – сердито спросил Зюзин. – Савва и так всё рассказал! И побожился! Он своими глазами всё видел. Он, говорит, вошёл тихонько, дабы не мешать, а царь и царевич возле столика стоят. Стоят смирно. Так же и Савва вошёл, дровишки на пол положил, и только стал печурку открывать… Как вдруг видит: кто-то из дальнего, тёмного угла, как выскочит! К царевичу! Бух ему в голову! И отскочил! И опять в темноту! Царевич упал и лежит. И кровища из него, кровища! Царь к нему! А Савва как перепугался! Ну ещё бы! И как заорёт: «Царевича убили! Царевича убили!» И в дверь! И по дворцу бежит, орёт! Чуть его перехватили. А вот если бы он, дурень, не бежал, а за тем злодеем кинулся, так и взяли бы его, тогда же, и тебя из Москвы не тащили бы. А так пропал тот злодей. Как сквозь землю провалился! Никто из покойной, говорят, не выбегал. Вот где загадка! Трофим помолчал и сказал: – Это через эту дверь не выбегал. А через другую? – Другой двери там нет. – А что окно? – Окно на зиму закладено. – А через печь, через трубу никто не вылезал? – Смотрели. Не было там никого. Сажа ровненько лежит, нетронутая. А если бы кто вылезал, след бы остался. Да и не влезть туда. Очень тесно там, на кирпич, может, больше сложено. Как влезть в такое? Трофим подумал и спросил: – А если какой карла? – Карле тоже не пролезть. Совали мы карлу. Трофим опять задумался. Потом сказал: – А если сбрехал ваш истопник и никого там не было? – И что тогда? – настороженно спросил Зюзин. Трофим задумался. Но ни о чём на этот раз не думалось. А вот зато всего заколотило! Зюзин опять заговорил: – Оттуда только одна дверь – в сени. А там всегда рынды. Нет, говорят, никто из чужих не заходил, не выходил. Были только царь с царевичем. После зашёл Савва с дровами. Дрова все были на месте, кучкой… Савва выскочил и заорал. Его едва уняли. – Так, – задумчиво сказал Трофим. – А что царевич говорит? Зюзин посмотрел на Годунова. Годунов сказал: – Государь-царевич ничего не отвечает. У государя-царевича жар. – А… – начал было Трофим, но испугался и умолк. – Вот то-то и оно! – сказал Зюзин. – Конечно! Трофим молчал. Зюзин, тоже помолчав, продолжил: – Ты только не умничай. Умников у нас и без тебя хватает. Да у тебя же голова, я знаю, и она не соломой набита. Я же помню, как ты тогда нам пособил, того матёрого зверя зарезал. Вот и сейчас пособил бы. Да и чего тут пособлять, когда дело и так решённое? Я ещё раз говорю: он, как бес, вдруг ниоткуда выскочил, подскочил к царевичу, цах-цах его в висок – и отскочил, и сгинул. А царевич, как сноп, на пол. – Чем он его так? – спросил Трофим. – Бес его знает, – неохотно сказал Зюзин. – Кистенём, из рукава, я думаю. Полголовы разбил! Царевич третий день лежит, шелохнуться не может. Лекарь робеет, говорит, как бы ему хуже не стало, как бы кровь не загорелась. Трофим вздохнул. Зюзин очень сердито сказал: – Чего развдыхался?! Дело решённое, дурень! Никуда тот бес от нас не выскочит. Он где-то здесь, во дворце, хоронится. Мы же сразу перекрыли тогда всё! Нужно только хорошенько поискать. Ну, так ищи! Найдёшь, будет тебе награда, а не найдёшь, сядешь на кол. – Да как это?! – затравленно сказал Трофим. – За что?! – За то, что царевича извёл. – Как это я извёл? – спросил, аж захрипел Трофим. – Я же тогда был в Москве! – Не был, а таился! – со злостью сказал Зюзин. – Скажешь, и ещё как скажешь, что убил! На дыбе всё скажешь. Поэтому не доводи ты меня до греха, а лучше ищи как следует. Чем скорей сыщешь, тем больше будет награда. А пока не заминай меня! У меня и без тебя забот хватает! – Тут он повернулся и позвал: – Борис! Годунов шагнул вперёд. Зюзин сказал ему: – Забирай от меня этого! – и он указал на Трофима. – Веди! Там ждать не любят! А у меня и без вас дел навалом. И тут же, будто в подтверждение его словам, раздался стук в стену с другой стороны. – О! – сказал Зюзин. – Слышите? Ко мне пришли уже. А вы идите! Годунов повернулся к Трофиму, кивнул, и они пошли от Зюзина.6
Трофим, как только они вышли, сразу же перекрестился. Годунов на это только хмыкнул и велел идти за ним. Трофим спросил, куда они теперь? Но Годунов и не подумал отвечать, а развернулся и пошёл. Трофим пошёл за ним. А перед ними шёл стрелец со светом. Второй стрелец, тоже со светом, шёл следом за Трофимом. И опять они то поднимались вверх по лестницам, то опускались вниз и поворачивали то в одну, то в другую сторону. Трофим уже ничего не считал, пальцев не загибал, на тесноту и духоту не злился, а просто шёл себе, как старый конь на живодёрню, да время от времени невесело вздыхал. Никто им на пути не встречался, только сторожа на рундуках да сторожа возле иных дверей. А при одних дверях стояли даже рынды. Годунов, проходя мимо них, громко хмыкнул. Рынды вздрогнули. И ещё вот что: нигде никто, то есть никакие сторожа, ничего у них не спрашивали, ни, тем более, не останавливали их. Но и шапки не очень-то ломали, а так, больше с ленцой, и Годунов им не пенял за это. Так они шли довольно долго, а потом вдруг вошли в небольшие, но зато очень богатые сени, и там при дверях стояли сразу восемь рынд – все в золочёных кафтанах и с золочёными же бердышами. Царица Небесная, мелькнуло у Трофима в голове, не выдай! Он поднял руку и утёр лоб. Лоб был в поту и горел, сердце колотилось, ноги стали подгибаться… – Но-но-но! – тихо, но строго сказал Годунов. – Ещё чего?! Трофим встряхнулся, осмотрелся. Рынды при дверях стояли неподвижно. Годунов снял шапку. Какой-то человек, тоже без шапки, но в богатой шубе, отделился от стены, поклонился Годунову и сказал: – Боярин! Скажи про меня. Я здесь со вчерашнего утра, боярин. А мне ехать надо! – Всем надо, – сказал Годунов и повернулся к двери. – Боярин! – повторил тот, в шубе. – Мне в Псков! К королю! – Король не в Пскове, наши в Пскове! Чего мелешь?! – сердито сказал Годунов, стараясь говорить негромко. – Глуп я, боярин! Дурь сморозил! – не унимался тот, в шубе. – Меня государь призвал! У меня вот, боярин! – и он показал свёрнутую в рульку грамоту. – В Псков надо отвезти! Немедля! Годунов хотел взять грамоту. Тот, в шубе, не дался, отступил. – Ты чего это? – яро, но шёпотом воскликнул Годунов. – Не смею! – сказал тот испуганно. – Ой, Сёмка! – сказал Годунов. – Не балуй! – и снова потянулся к грамоте. Сёмка (Семён Ададуров, царёв посланник в Псков) убрал грамоту за спину и виноватым голосом сказал: – Государь велел, чтоб никому! – Ну, тогда жди, покуда государь… – начал было Годунов, но не закончил, обернулся к Трофиму, сделал ему знак не отставать и первым пошёл к двери. Трофим пошёл за Годуновым. Рынды перед ними расступились. Там, куда они вошли, было почти совсем темно, горела только одна свеча, но и ту поставили за занавеску. И за той же занавеской виднелась чья-то тень. Годунов негромко кашлянул в кулак. Тень задвигалась. Потом из-за занавески вышел молодой боярин, держа в руках шапку. Вид у боярина был перепуганный. Трофим присмотрелся и узнал – это был Богдашка Бельский, царёв оружничий. – Ну что? – тихо спросил Годунов. Бельский пожал плечами. – Кто там ещё? – Софрон. Годунов кивнул. Бельский глянул на Трофима, сразу стал очень сердитым, и так же сердито спросил: – Кто это? – Из Москвы, – ответил Годунов. – Тот самый. – А! – недовольно сказал Бельский. – Да только теперь надо ли?! – Испытать надо, – сказал Годунов. – Ну, испытай, – сказал Бельский. – А я посмотрю! И он даже хмыкнул. Трофима опять пробил пот, руки задрожали. Годунов взял Трофима за руку. У Годунова рука не дрожала. Она была холодная и потная. Годунов повёл Трофима за собой. Они зашли за занавеску. Там, на мягкой короткой скамье с подлокотниками, сидел царь Иван Васильевич – без шапки, босой и в домашнем татарском халате. Халат был дорогой, парчовый. Царь был как будто неживой – не шевелился. И глаза у него не моргали. Глаза смотрели в одно место, куда-то поверх Трофимова плеча. Потом глаза немного повернулись и стали смотреть прямо на Трофима. Трофим начал задыхаться, ему стало нечем дышать. Царь пошевелил губами. – Назовись! – тихо сказал Годунов, стоявший рядом. – Государь царь батюшка, – дрожащим голосом сказал Трофим. – Вели казнить! Не гневайся! Царь медленно моргнул. У Трофима ноги стали подгибаться, он опустился на колени. – Назовись! – повторил Годунов ещё тише. – Раб твой, – сказал Трофим, – Трофимка я, Пыжов, стряпчий. Князя Михаила человек. Князя Лобанова-Ростовского. Царь недовольно поморщился. – Глуп он! – поспешно сказал Годунов. – Он, государь, как только тебя увидел, сразу ума лишился. Так ведь, Софрон? – Так, так! – сразу послышалось в ответ. Трофим повернулся на голос и увидел, что возле царской лавки сидит на полу древний старик в белой длинной рубахе. Старик был совсем седой, длиннобородый, костлявый. Старик этот, Софрон, смотрел на Трофима строго, испытующе. Трофиму стало боязно. Вдруг Годунов опять заговорил: – Беда у нас великая, царь-государь. Но мы эту беду развеем. Сыщем мы злодея, государь, не сомневайся. Трофимка сыщет. Как и того тогда сыскал, так сейчас сыщет и этого. Сыщешь? Трофим кивнул – сыщу! – Сегодня же? Трофим кивнул – сегодня же! – Побожись! Трофим перекрестился. – А не сыщешь – на кол! Трофим широко кивнул, что на кол. – Встань! Трофим встал. – Вот, государь, – продолжил Годунов, – Трофимка взялся и Трофимка сыщет, не кручинься. И государь-царевич тебе шлёт поклон. Бью, говорит, челом за батюшку, не хворай. Батюшка царь-государь, я, говорит, твой сын любимый, Ивашка-царевич, пёс твой… Царь вдруг резко поморщился. Годунов сразу замолчал. Царь открыл рот и что-то прошипел. – Что? – тихо спросил Годунов. – Вон! – громко сказал Софрон. – Пошли вон, псы смердячие! Вот что государь велел! И Годунов с Трофимом сразу вышли.7
В сенях они остановились. Сзади них стояли рынды, а впереди, возле входной двери, Богдашка Бельский, вор, царёв оружничий. Годунов, не глядя на него, вполголоса спросил: – Ну что? Что, что, хотелось ответить Трофиму, на кол меня подсаживаешь, вот что! Или я, думаешь, не понимаю, что у вас тут сотворилось?! Но Трофим ничего не сказал, а только отвернулся в сторону. Годунов строго напомнил: – Царь-государь тебя благословил, скотина, а ты рожу воротишь. Надо начинать! – Что начинать? – спросил Трофим. – Уже глухая ночь, боярин. – Может, и ночь, а государь не спит, – ещё строже сказал Годунов. – А как тогда нам спать? Да и у Ефрема уже всё готово. И это близко, прямо здесь, под нами. Начинай розыск! Любого, кого надо, выдернем. Мигом! – Нет, – твёрдо сказал Трофим. – Я так не ищу. Я должен сам всё посмотреть, после подумать, а уже только после к Ефрему. – А, – сказал Годунов, – так ты что, сперва хочешь сходить в ту палату, в которой вся это беда стряслась? – Хочу, – ответил Трофим, обернулся и увидел – Бельский усмехается. Трофим нахмурился. Бельский подошёл к ним и сказал, глядя на Годунова: – Я говорил тебе. А ты: знаю, знаю! Годунов молчал. Потом, повернувшись к Трофиму, сказал: – Ладно, сведём мы тебя в ту палату. Прямо сейчас. – Это дело доброе, – сказал Трофим, – но сперва надо сходить к царевичу и снять с него расспрос. – Что?! – сразу даже не поверил Годунов. – Ты хоть понимаешь, пёс, о чём ты просишь?! Да государь-царевич чуть живой остался, чуть не помер. А от тебя сразу помрёт. И тогда мы на колесо тебя! Ты это понимаешь, пёс? – Понимаю, – ответил Трофим. – Но у нас в Приказе так заведено – сперва расспрос. И я только так могу. А колесо, так колесо. На всё Божья воля. А сам подумал: мне с вами и так оно будет. Годунов посмотрел на Трофима, на Бельского… Бельский усмехнулся и сказал: – Я говорил тебе! Годунов ещё подумал и сказал: – Ладно. Будет тебе царевич, пёс. И будет колесо, попомни моё слово. А пока пойдём. И они пошли. Теперь с ними шёл только один стрелец со светом, а второго Годунов сразу послал вперёд, наверное, предупредить о том, что они скоро придут. Они и в самом деле шли к царевичу, к медному царевичеву крыльцу. Трофим узнавал повороты, сторожей на них и думал, что за неделю-другую он здесь совсем бы освоился и ходил бы с закрытыми глазами, как ходит ночью по кремлю в Москве. Но только кто ему даст столько времени, думал Трофим. Этим же что нужно? Скорей казнить злодея, вот и всё. А кто злодей? Да тот, кто первым в этом сознается. А сознается, чего душой кривить, любой, когда его вздёрнут на виску да влепят кнута, а после горящим веником его, а после на спицы – и кто это такое стерпит? Да никто! И станет говорить всё, что велят. Но, опять же, если взяли одного, а не кого-нибудь другого, то, может, так и надо, Господь не зря такое допустил, а если это так… Но дальше Трофим подумать не успел, потому что они опять пришли к тем самым рындам, на которых Годунов похмыкивал, когда они шли к царю. А теперь, когда они вернулись, возле них стоял стрелец со светом. Годунов, остановившись, глянул на стрельца. Стрелец утвердительно кивнул. Годунов взял Трофима за руку и повёл к двери. Рука у Трофима уже не дрожала. Рука Годунова была липкая. Рынды расступились и открыли дверь. Годунов вошёл, ведя за собой Трофима. За дверью оказались маленькие сенцы. В них, в углу, возле напольного креста, на коленях стояли два монаха и молились. В следующих дверях тоже стояли рынды. Из-за них, из раскрытой двери, тянуло дурманным духом. Годунов остановил Трофима и дальше, в ту дверь пошёл уже один. Трофим стоял и робел озираться. В сенцах было сумрачно. Трофим начал молиться – прочёл Отче наш. Потом Богородицу. А после опять Отче наш, потому что ничего другого не мог вспомнить. Когда прочёл, начал сначала. Так он читал и читал Отче наш, и прочёл раз десять или даже больше, пока не вернулся Годунов, наклонился к самому уху и очень тихо сказал: – Если вдруг что, сразу убью. Пойдёшь? Пойду – кивнул Трофим. Годунов пошёл обратно. Трофим за ним. За дверью оказалась маленькая горенка, даже почти чулан без окон, там было темно и душно, от дурманящего запаха душистых трав голова шла кругом. Посреди горенки стоял высокий тощий человек, одетый на иноземный лад, и заслонял собой свет. Дальше, на свету, была видна лежанка, очень простая на вид, и на ней, плотно укрытый, лежал кто-то, но лица его Трофим не видел. – Вот, привёл, – сказал Годунов иноземцу, кладя Трофиму руку на плечо. – Я его предупреждал, но он упёрся. Иноземец ничего на это не ответил, а только сверкнул глазами. Колдун, сразу подумал Трофим. Иноземец ещё раз сверкнул, а но всё же отступил немного в сторону. Трофим увидел царевича. Царевич лежал на спине. Лицо у него было очень худое, бледное, но чистое. Глаза закрыты. Царевич лежал как мёртвый. – Что тебе ещё? – сердито спросил колдун-иноземец. Трофим принюхался, сказал вполголоса: – Анис. Шалфей. Солодка. Проскурник. А это жжёное что? – Это не жжёное, – сказал колдун, – это водка прогорелая. На змеином сале. – Какая змея? – Эфиопский аспид. – Ладно, – сказал Трофим. – Аспид так аспид. И, мимо колдуна, быстро шагнул к царевичу. И только теперь, сверху, он увидел, что со второй стороны, с левой, вся щека у царевича была рассечена и замазана чем-то блестящим. Так же и висок был весь рассечён и в крови, уже запёкшейся. – Стой! – тихо сказал колдун. Но Трофим его не слушал, а наклонился над царевичем и шёпотом велел: – Огня! Колдун даже не шелохнулся. Годунов дал Трофиму огня – щепку лучины. Трофим осветил рану. Рана была гадкая, нечистая. – Углями надо было прижигать! – строго прошептал Трофим. – Куда смотрел, колдун?! – Любезный! – сердито зашептал колдун. – Я бы попросил тебя не умничать, ибо нет ничего проще, чем… И тут он резко замолчал. А Трофим аж отшатнулся! Царевич открыл глаза и начал медленно водить ими по сторонам. Взгляд у него был настороженный… И успокоился только тогда, когда увидел Годунова. Тот заулыбался, сказал: – Батюшка-царевич, это я, раб твой Бориска. Мы тебя вылечим, батюшка. Ещё будешь соколом летать, басурманам головы рубить, красных девок портить… Царевич поморщился, облизал губы. – Водицы? – спросил Годунов. Царевич молчал. Колдун выступил вперёд и положил царевичу на лоб тряпицу. – Что это? – строго спросил Трофим. – Двойная водка, от жара, – ответил колдун. Трофим одобрительно кивнул. Царевич начал смотреть на Трофима. Смотрел долго, потом улыбнулся. Трофим раньше никогда царевича так близко не видел. И Трофим спросил: – Кто тебя так? Царевич не ответил, но и глаз не отводил. – Ты его видел? – продолжал Трофим. Нет, показал глазами царевич. – Сзади бил? Царевич моргнул – сзади. Врёшь, сердито подумал Трофим, били спереди, правой рукой! А вслух только сказал: – Ой ли?! Глаза у царевича задёргались, потом остановились, стали злыми. – Довольно! – воскликнул колдун. – Уходите! – Сейчас, сейчас! – сказал Трофим, опять наклоняясь над царевичем, провёл рукой над раной, два раза туда-сюда, убрал руку, распрямился и сказал: – Железом били. – Шарлатан! – сказал колдун. Трофим ухмыльнулся. Царевич уже успокоился и снова смотрел только на него. Колдун сказал: – Про железо – это ложь. Этого нельзя определить. – Можно! – возразил Трофим. – Деревяшкой так не рассечёшь. Голову проломишь – да, а рассечь – нет, не рассечёшь. А тут били с правой, наотмашь! – Чернокнижник! – воскликнул колдун. Трофим в ответ только пожал плечами. Царевич открыл рот и попытался говорить. Колдун кинулся к царевичу и начал утирать ему губы мочалом. Мочало было мокрое, губы у царевича блестели. – Пошли вон! – строго сказал колдун. – Своих голов не жаль, так пощадили бы мою. Годунов взял Трофима за рукав и поволок вон от царевича. Трофим особо не упирался, ему и так все было ясно.8
В сенях Годунов остановился и отпустил Трофима. Трофим поднял руку, утёр лоб, но лоб и так был сухой, и признался: – Жарища там. Думал, подохну. Годунов хмыкнул и сказал: – И по холодку подохнуть. Трофим посмотрел на Годунова. Годунов, как ни в чём не бывало, спросил: – Ну как, вызнал чего? – Нет, ничего пока что, – ответил Трофим. – А что про железо тогда говорил? И про правую руку? – А что правая рука? И что железо? – с неудовольствием сказал Трофим. – Все бьют с правой руки, и все железом. Вот кабы с левой бил, тогда была бы зацепка, искали бы левшу. А так… И Трофим замолчал. Да и о чём тут говорить? Правой рукой железным посохом царевичу в висок кто бил? Известно, кто. И известно, что это за посох. Но как об этом сказать? И как теперь идти кого искать, если и так всё уже найдено? А не пойдёшь искать, скажешь, что никого не нашёл, тебя сразу на кол. Но на кол, это ещё что! А вот если догадаются, что ты уже всё знаешь… И тут Годунов как раз спросил: – Ну что, пойдём посмотрим ту палату, где эта беда стряслась? Или тебе уже и так всё ясно? – Нет! Откуда?! – поспешно ответил Трофим. – Надо идти, конечно! Надо на месте посмотреть. И они пошли в сторону царской палаты. Трофим внимательно смотрел по сторонам и уже почти всегда угадывал, куда им поворачивать. Теперь, думал Трофим, если вдруг что, он и один уже не потеряется. Прошли они не так и много и, не доходя ещё двух поворотов до царя, стали подниматься по широкой лестнице, потом почти сразу повернули и остановились возле небольшой двери. При ней стояли двое рынд. – Это здесь, – сказал Трофиму Годунов. – Тут они всегда стоят. Но тогда были другие и было ещё не темно. Трофим осмотрелся. Слева, в конце перехода, был виден рундук, при нём сторожа и свет на рундуке. А вот с правой стороны было совсем темно и ничего не видно. Трофим спросил, что там. – Там поворот, – ответил Годунов. – А за ним тоже рундук и сторожа. – А где истопничья? – Там же. За рундуком почти сразу. Трофим кивнул. Годунов велел войти. Они вошли в покойную, она так называлась. Палата была просторная, большая. На полу – ковры, на стенах – парсуны. В красном углу – высокая мягкая лавка, к ней ступеньки, рядом ещё одна мягкая лавка, но эта уже без ступенек. Вдоль стен тоже лавки, но жёсткие. А в самом дальнем от двери углу, напротив печи, небольшой низкий столик, покрытый широким немецким рушником, а возле него две лавочки – одна стояла ровно, а вторая лежала поваленная. – Вон там, – сказал Годунов и показал на столик, – у них было накрыто. Но не тронуто. – А лавочка так и лежала? – Да. А вот тут лежал царевич. И Годунов показал на ковёр на полу. Стрелец посветил туда. Трофим увидел большое тёмное пятно. – А государь вот тут лежал, – продолжил Годунов. – Он царевича вот так поддерживал. – И что говорил? – Ничего. Только головой вот так мотал. У него будто язык отнялся. Да он и сейчас ещё почти не говорит, ты сам же видел. А тогда… – И тут Годунов заговорил быстрее: – Я тогда здесь первым оказался! Я шёл мимо, вдруг слышу: кричат! Это Савва, истопник, кричал. Ну, я и побежал на крик. Прибегаю, а они лежат. В кровище! Годунов громко вздохнул и замолчал. Трофим взял у стрельца огонь и начал им светить, рассматривать ковёр. Долго он его рассматривал! Туда-сюда похаживал, про себя считал шаги… Потом остановился, отдал огонь, задумался. После спросил, не поднимая головы: – А истопник чего? – А истопник, – ответил Годунов, – сперва был сам не свой. Но после успокоили его, и он сказал, что некто вон из того дальнего угла вдруг выскочил и бац – царевича по голове! И убежал. – Куда? – Вот в том-то и беда! – сердито воскликнул Годунов. – Я, это Савва говорит, как это увидел, так и обмер. Царевич упал – и весь в кровище! Царь к нему. А он, это Савва, так он говорит, сразу в дверь и кричать: «Царевича убили! Царевича убили!» И побежал, и побежал, покуда его не схватили. – А который убивал, он где? – Савва говорит: не знаю, оробел. – Здесь сколько дверей? – спросил Трофим. – Одна. – И Савва в неё выскочил?! – В неё. – И рынды его видели?! – А как же. – А того, другого? – Нет. Никто, говорят, не выбегал. Один только Савва. – Так, может, и не выбегал никто? – сказал Трофим. – Как это? – строго спросил Годунов. – А вот так, – сказал Трофим. – Не выбегал никто. Потому что кому выбегать? Никого там, может, не было. Может, это Савве только померещилось? – А кто… это… тогда? – ещё строже сказал Годунов. – Их, если злодея не считать, только трое было: царевич, царь и Савва. – И вдруг быстро спросил: – Это Савва, что ли, на царевича тогда накинулся? А на злодея только говорит? Так было, да? Отвечай! Трофим задумался. И тут же будто кто-то у него внутри сказал назойливо: «Скажи: Савва! Скажи: истопник! Савва на виске подтвердит, все подтверждают!» Трофим поморщился и даже отмахнулся. Если бы это был Савва, царевич разве промолчал бы? Нет, конечно. Сразу бы сказал. Да зачем это Савве? А… Нет, подумал, оробев, Трофим, об этом и думать не смей. И он опять взял огонь, стал рассматривать кровь на ковре, потом наклонился ещё ниже, потрогал пальцами ковёр, там ворс был слипшийся, жёсткий, поднял ладонь, обнюхал пальцы и сказал: – Железом пахнет. – Каким железом? – спросил Годунов. Каким, каким, хотел было сказать Трофим, обыкновенным, железным, да царским посохом, вот чем!.. Но удержался, прикусил губу. А Годунов опять спросил: – Что? Может, кочергой? – Ну, может быть, – растерянно сказал Трофим. – Иван, – приказал Годунов. – А ну глянь там! Один из стрельцов подошёл к печи, осмотрелся и сказал: – Нет её здесь нигде. – Как это нет?! – удивился Трофим. И тоже подошёл к печи. За ним подошёл Годунов. Кочерги и в самом деле видно не было. Там были дрова, охапка, они валялись на полу. Это Савва их здесь выронил, когда увидел злодея, подумал Трофим. А вот совок с угольями. Вот помельцо. Но кочерга где? Как без кочерги топить?! Трофим шагнул вдоль печи… И увидел! Кочерга стояла сразу за углом. Она была узорчатая, кованая, сразу видно, царская. Трофим наклонился к ней… Но стрелец опередил его, взял кочергу и подал Годунову. Трофим посмотрел на Годунова. Годунов отдал ему кочергу. Трофим начал её осматривать… И тихо охнул. Ещё бы! Кочерга была в запёкшейся крови, и там ещё был клок волос налипших. Трофим глазам своим не верил. Потом подумал: вот тебе и посох! На кого помыслил! А тут кочерга! И это только Савва, больше некому. Только если её не подсунули. Трофим посмотрел на Годунова. И увидел, что тот и сам смотрит во все глаза на кочергу. Потом Годунов, облизнувшись, сказал: – Как это Савва вдруг?! Он что это? Трофим молчал. Потом сказал: – Ну, может, это и не Савва. А тот, который выскочил. – Так ты же говорил: куда ему выскочить! Дверь же одна! Выскочил бы – видели! – Это смотря кто выскакивал. И как! – важным голосом сказал Трофим. – А Савва вон где стоял! – И он указал на дрова. – Он вон оттуда вошёл, увидел царя с царевичем и, чтобы им не заминать, сюда наклонился… А тут этот вдруг как выскочит! И Савва дрова от страха выронил. Так было?! А?! Годунов посмотрел на стрельцов. Стрельцы растерянно молчали. Годунов повернулся к Трофиму, сказал: – Ты колдун! Савва так и говорил нам. Слово в слово. Трофим усмехнулся. – Ну, колдун не колдун, а свою службу знаю. – Так что теперь? – спросил Годунов. – А теперь так, – сказал Трофим. – Будем искать того, который выскочил. Но тут… – И он строго нахмурился. – Если же никто в дверь не выскакивал, в трубу не вылезал, в окно… И Трофим посмотрел на окно. Окно было изнутри закрыто ставнями. – А как оно было тогда? – спросил Трофим. – Тоже со ставнями? Годунов подумал и сказал: – Не помню. – Вот! – подхватил Трофим. – Ещё и окно! И тут тоже нужен розыск. Особый! А что я сейчас ночью разыщу, в такую темнотищу?! Годунов на это только головой мотнул, очень сердито, и спросил: – Что ж теперь делать? – Ждать утра, – сказал Трофим. – И сразу сюда, и в розыск. Савву сюда. И рынд, которые тогда стояли здесь, сюда. И сторожей с обоих рундуков тоже сюда. Да что и говорить, боярин. Утро вечера мудренее. Добрые дела при свете делаются. А пока что мне сейчас чего перекусить бы да прикорнуть хоть где. А утром, на свежую голову, я… – Ладно! – сердито сказал Годунов. – Это можно. – Обернулся и окликнул: – Климка! Раскрылась дверь и вошёл Клим, давешний Трофимов провожатый. – Климка, – продолжил Годунов, – отведи его. И положи. А утром опять его сюда, чуть свет! И посмотрел на Трофима. Тот поклонился Годунову и пошёл к двери. – А кочерга?! – вдруг сказал Годунов. Трофим остановился. К нему подошёл стрелец, Трофим отдал ему кочергу. Клим открыл дверь и отступил на шаг. Трофим вышел первым, Клим за ним.9
Клим шёл впереди, молчал и ничего не объяснял. Да Трофим ни о чём и не спрашивал. Не до Клима ему тогда было. Трофим думал о своём: о том, что вот же как бывает, вся беда от баб, потому что если бы не Гапка, не ночевал бы он дома. Да он и не думал ночевать! Приходил же Котька Вислый, говорил, айда, Трофим, со мной. Чего не пошёл? Пошёл бы, они сунулись, а Гапка бы сказала: его нет, где его черти носят, я не знаю, – и отстали бы они, взяли бы кого-нибудь другого, а Трофим бы с Вислым посейчас гулял бы у Демьянихи, а они здесь пусть бы хоть… А вот и нет, тут же подумалось, не унялись бы они, а пошли бы искать дальше, и всю Москву бы на рога поставили, пока его не нашли, потому что только он им нужен, потому что опять, как тогда, когда царская кровь… Ну и так далее. Вот примерно о чём тогда думал Трофим. Клим остановился и сказал, что они уже пришли. Открыл дверь и посветил. Трофим вошёл. Это была очень тесная коморка. Даже стола там не было. Вместо него стояла лавка, а на ней кувшин. – Квасу налить? – спросил Клим. Трофим мотнул головой, что не надо. – Может, поешь чего? – Я не голодный, – ответил Трофим. Клим пожал плечами, поставил свет на лавку, которая была вместо стола, а сам сел на ещё одну лавку, у стены. Трофим сел на другую, у другой стены. На ней уже было постелено – снизу сенник, сверху сшитые овчины, а в головах тюфяк. Трофим снял шубу, сунул шапку под тюфяк. Клим спросил, гасить ли свет. – Как хочешь, – ответил Трофим. А после уже сам спросил: – А ты чего не ложишься? – Мне, – сказал Клим, – не велено. Мне надо за тобой смотреть. – Куда я денусь? – Кабы это знать! Трофим усмехнулся, не спеша снял сапоги, не спеша лёг, укрылся и сказал: – Чудно у вас. – Да уж! – отозвался Клим. – Куда чуднее. Человеку говоришь: «Поешь!», а он: «Нет, не хочу!» Боится, что отравят. И замолчал. Трофим закрыл глаза и громко хмыкнул. Клим сразу сказал: – Смейся, смейся! Завтра будет не до смеху. Трофим промолчал. И даже глаз не открыл. Но Клим всё равно спросил: – Сколько тебе на розыск дали? Один день? Трофим не ответил. Клим недобро хмыкнул и продолжил: – Да я и так знаю: один. Зюзин говорил. И вот завтра вечером Зюзин опять придёт и спросит: «Как дела?!» А ты что ответишь? Опять будешь молчать? И что тебе за это будет? Дыба. А после за уши вот так возьмут, вот так крутанут – и голова долой. Трофим невольно поморщился, потому что он видел, как это делается. И в самом деле есть такие мастера, которые могут за один раз оторвать голову. Трофим открыл глаза и посмотрел на Клима. Клим усмехнулся и сказал: – Вот так-то! Да ты не робей. До завтрашнего вечера ещё вон сколько! А что надо? Всего ничего! Назвать человека. Вот есть Савва, государев истопник… – Зачем ему это?! – сердито спросил Трофим. – Как зачем? А если попросил кто и отвалил задатку? А здесь задатки – это не у вас в Москве. Сколько тебе твой князь Михайло на дорогу дал? Трофим молчал. Клим усмехнулся и сказал: – Двадцать рублей, не больше. А у нас, да на такое дело, сразу сотню отвалили бы. А за царевича и того больше можно было попросить. И дали бы! – Кто? – не стерпел Трофим. – Ну, я не знаю, – сказал Клим. – Я не давал. Нет у меня ста рублей. А за других я не ответчик. Тут Клим подался вперёд, дунул на огонь и загасил его. Подождал немного и продолжил, теперь уже чуть слышным голосом: – Ежели старший царевич помрёт, кто у царя станет наследником? Младший, Федюня. А на ком младший женат? На Борисовой сестре. Смекаешь? Трофим молчал. А чего тут, думал он, смекать, это и так ясно, и по закону: за Иваном наследует Фёдор. Ну а Фёдор, как все говорят, да это и так видно, слаб умом, а жена его, Ирина, цепкая, она Фёдора будет вот так держать, а Борис, её брат… Да, Годунов Борис, вчерашний выскочка, как говорили. Да только это не совсем так: кроме Бориса, молодого, ещё два старых Годунова сидят в Думе, дядья его, и кто против них тогда посмеет пикнуть?! Да и чего тут пикать? Может, Борис ни в чём не виноват, а просто свезло ему: царь ткнул в царевича – и прямо посохом в висок, посох железный, острый… И Трофим зажмурился. Клим, было слышно, усмехнулся. Трофим подумал и сказал: – А почему вдруг Фёдор самый младший? Царь же опять женился, взял себе молодую жену, чего бы ей тоже не родить?! И будет ещё один царевич… – Га! – громко сказал Клим. И тут же опять чуть слышно зашептал: – Так это же ещё нужно родить! А от кого рожать? От этого? – И тут Клим опять усмехнулся. – Хотя тут помощники всегда найдутся. А молодая царица, как все говорят, на это очень охочая. Вот я и думаю… Клим вдруг опять замолчал. Трофим прислушался. Было совсем тихо. Но Клим прошептал: – Слышишь? И опять затих. Трофим ничего не слышал, даже Климова дыханья. Клим усмехнулся и продолжил: – Показалось. Так вот. Может, это он устроил, а может, и не он. Чтобы про это знать наверняка, надо сперва дознаться, понесла царица или не понесла. Если понесла, это, руби мне голову, Борис не виноват. Ему же тогда это будет ни к чему, если уже есть ещё один царевич. Но если ещё не понесла… Тут надо крепко думать! Поэтому вот что тебе надо первей всего узнать: понесла царица или нет. А про это можно спросить вот где… И Клим опять замолчал. Трофим подумал: Господи Иисусе, этот Клим меня до плахи доведёт! А Клим, откашлявшись, уже опять заговорил чуть различимым шёпотом: – Но, может, это и не Годунов. Это могло и само по себе приключиться. Царь же сейчас какой? Как порох! Чуть что, сразу «Убью!» кричит. А то и кидается убить. И хорошо, если пустой рукой. А то, бывает, и посохом. Так он и царевича мог посохом… А что! И теперь и сам не рад, а дело сделано. Клим замолчал. Трофим лежал, не шевелился, старался неслышно дышать и думал: закричать, не закричать? У себя в Москве он закричал бы, а тут мало ли, как бы после хуже не было. И он молчал пока. Клим вдруг спросил: – Чего притих? После скажешь, что не слышал, спал? А я скажу: нет, не спал. И я ещё скажу, что ты про это завёл. Трофим по-прежнему молчал. Клим громко вздохнул и продолжил: – А может, царь с умыслом бил, и так тоже может быть. Спорил с ним царевич! Раньше никогда не спорил, а тут вдруг начал возражать. А почему бы нет?! Царь же войну королям проиграл, Ливония тю-тю, вот бояре и стали на царевича поглядывать: растёт наша надёжа. Ну, царь и не сдержался, разъярился и убил! А эти… Ха-ха-ха! Клим стал смеяться негромко, но очень обидно. И Трофим не выдержал! Вскочил и через лавку – на другую лавку! Навалился на Клима и начал душить! Клим извивался, сопел, но Трофим его не выпускал! Да ещё и приговаривал: – Я тебе, скотина, покажу, как над государем потешаться! Я и без Ефрема обойдусь! Я тебе язык и без клещей достану, пёс смердячий! Клим стал понемногу сдавать. Он уже не так вертелся и почти не отбивался, а только что-то мычал, ногой подрыгивал… Трофим разжал руки, убрал с Климовой груди колено, слез с лавки, провёл рукой в темноте и ничего не нащупал. – Эх! – только и сказал Трофим. – Чего? – хрипло спросил Клим. – Лавку обернул! И квас, – сказал Трофим. – А пить охота! – На окне ещё стоит, – ответил Клим. Усмехнулся и добавил: – Неотравленный. Трофим повернулся, поискал на подоконнике, нашёл кувшин и начал пить. – А ты бешеный! – сердито сказал Клим. Трофим пил квас, молчал. Клим продолжил: – Дурень! Я тебя испытывал. Мне Годунов велел. А ты меня чуть не убил. Трофим отставил квас, вернулся к своей лавке, лёг, накрылся шубой и затих. Клим помолчал, потом спросил: – А это правда, будто бы сам царь тебе чашу мальвазии пожаловал? Трофим не сразу, нехотя ответил: – Не чашу, а чарку. И не мальвазии, а хлебного вина. Двойного. – А! – разочарованно ответил Клим. Трофим разозлился и сказал: – Не пожаловал, а сам поднёс! Пожаловал – это когда он через слуг передаёт. А тут сам, из своих рук, мне вот так чарку подал и сказал: «Держи, Трофимка!» И я взял и выпил, с царя глаз не спускаючи, вот! – Давно это было? – спросил Клим. – Давно, – без всякой охоты ответил Трофим и поморщился. Не любил он об этом вспоминать, ох, не любил! И не убивал он тогда никого, а отбивался. Не отбился бы – его бы убили. Тогда он сейчас сидел бы где-нибудь на облаке да сверху вниз поглядывал, а тот, которого он не убил… Нет, тут же подумал Трофим, ничего здесь, внизу, не поменялось бы. Да и чего гадать? Гадание, суть ведовство, есть грех, за гадание положен кнут. Да и давно пора спать. Какой день был хлопотный! Да и когда его в Москве подняли – может, ещё даже до полуночи. Вспомнив Гапку, Трофим усмехнулся, но тут же опять стал строгим и подумал, что пора спать, во сне часто снится, где и кого нужно разыскивать. Поэтому когда он спит, он служит. И Трофим заснул.10
Но ничего толкового ему в ту ночь не приснилось. И всё же Трофим, когда проснулся, то, ещё не открывая глаз, прислушался. Было тихо. Тогда он открыл глаза. Окно уже было открыто, но за нимбыло ещё совсем темно. Свет шёл только от лампадки. И в этом слабом свете Трофим рассмотрел, что Клим уже сидит на своей лавке одетый и в шапке. – Ты куда это? – спросил Трофим. – К боярину, – ответил Клим. – Он же у нас ранний. А ты здесь как выйдешь, так сразу налево, а дальше, учуешь – там у нас поварня. Скажешь, ты от Клима Битого. Тебя накормят. И там жди меня. Сказав это, Клим сразу встал и вышел. Трофим ещё немного полежал, повытягивал кости, повспоминал, о чём был сон, а сон был пустой, ненужный. Трофим встал с лавки. На полу валялись черепки от вчерашнего кувшина. Трофим вспомнил, как он душил Клима, и подумал, что это тому будет наука – не распускай язык. А то знаем мы таких: не успеешь рта раскрыть, а он уже донёс! Трофим вздохнул и начал собираться. Собравшись, надел шапку, вышел, повернул налево и, на горелый дух, пошёл на поварню. Пахло горелым луком, начинался постный день, пятница. В поварне оказалось пусто. Но Трофим не стал проходить дальше, а сел с ближнего края стола. Вышла повариха – толстенная баба, спросила, он не Климов ли? Трофим ответил, что Климов. Баба ушла, вышел поварёнок, принёс горелого лука и хлеба, а потом кашу на воде и ещё кашу. Затем пришёл Клим. Вначале он ничего не говорил, а тоже поел, и только после кваса, широко утёршись, Клим сказал, что при покойной палате всё уже готово – рынды приведены, и Савва тоже, а Годунова пока что не будет, ибо ему было приказано быть у царя. – А что царь? – спросил Трофим. – Так, – уклончиво ответил Клим. – Хворает. – А царевич? – Тоже. – Тут Клим помолчал, потом добавил: – Всю ночь жаром горел. Трофим перекрестился. Клим тоже. Они встали и пошли в покойную. Теперь Трофиму шлось легко, да и дошли они быстро. Пока шли, рассвело, в переходах развиднелось. Возле двери в покойную стояли рынды – двое с бердышами, двое без. А ещё дальше, ближе к повороту, стоял какой-то дворовой человек с руками за спину, а при нём двое стрельцов. Рынды без бердышей – это те, которые тогда стояли на двери, а дворовой – это, наверное, тот самый Савва, истопник, подумал Трофим. Так оно и оказалось. Но до Саввы дело пока не дошло. Клим выступил вперёд и, обращаясь к Трофиму, одного из рынд без бердышей назвал Никитой Громовым, а второго Петром Самосеем. Трофим достал из-за пазухи целовальный крест, утёр его платочком и выставил перед собой. Пётр и Никита приложились к кресту и пообещали говорить как на духу. Трофим спросил, как было дело. – Никак не было, – ответил Пётр. – Мы стояли, ничего не видели. Никто не проходил, никто не пробегал. Да и как тут пробежать? Куда? – Всё сказал? – спросил Трофим. Пётр ответил, что всё. Трофим сунул ему крест. Пётр его поцеловал и отступил на шаг. Трофим посмотрел на Никиту. Никита выступил вперёд, сказал почти что то же самое, что Пётр, поцеловал Трофимов крест и отступил к Петру. – Ладно, – сказал Трофим. – Стоять здесь и никуда не отходить. А сам повернулся к двери. Рынды с бердышами расступились. Клим открыл дверь. За ней было светло. Трофим вошёл в палату и продумал: конечно, светло, когда здесь такое окнище! Оно было стекольчатое, стрельчатое, почти всё прозрачное и только по краям с узором: снизу травка, а с боков – птицы с длинными хвостами. Трофим засмотрелся на окно. Травка была зелёная, как настоящая, а птицы как огнём горели. Трофим подошёл к окну. В рамах нигде не было ни щёлочки, всё плотно закрыто войлоком и забито гвоздиками с золотыми шляпками. Трофим посмотрел через стекло. Внизу был виден двор, вид был почти как настоящий, только кое-где немного расплывался, будто смотришь через воду. Но вода была чистейшая! Насмотревшись в окно, Трофим взялся за раму и потянул её на себя. Рама не поддавалась. Трофим потянул сильнее… – Э-э-э! – прикрикнул Клим. – Ты чего это?! Пятьсот рублей это окно, смекаешь?! Трофим отпустил раму, обернулся и строго сказал: – Царевич подороже будет. Клим не нашёлся что ответить. Трофим отступил от окна и посмотрел на ставни. Они, прислонённые к стене, стояли по бокам окна. А вчера стояли на окне! – Кто их снимал?! – спросил Трофим. – Спирька Жила, – сказал Клим. – Зачем?! Клим молчал. – Спирьку сюда! – велел Трофим. Клим сказал, чтобы привели Спирьку. Пошли за Спирькой. Трофим отступил от окна и стал осматривать палату. Лавки там были как лавки, ковры как ковры, печь как печь… Вот только какая же она здоровенная, подумал Трофим, и тут же вспомнил, что царь очень не любит зябнуть, ему жара подай! Говорят, как пойдёт в мыльню, как сядет на полок да как велит плеснуть на камни, что уже дышать нечем, а он говорит: «А ну подайте мне Мстиславского, пусть он расскажет, как моё войско в Ливонии бьётся!» И волокут Мстиславского, и тот, ещё жару не нюхавший, уже и так обомлел… Ладно! Трофим подошёл к печи. Она вся была в немецких изразцах, на них были всякие действа. Но Трофим их не рассматривал, а только мельком глянул за угол – и там увидел кочергу, ту самую. Кочерга была по-прежнему в крови, и клок волос был на месте. А могли и спрятать кочергу. Да вот не спрятали! А почему? Трофим ещё немного постоял, подумал, а после отошёл к дальней стене и сел на лавку так, чтоб быть прямо напротив печи, и велел звать Савву. Его привели. Это и в самом деле был тот дворовой. Ему было лет под пятьдесят. Он был истопник как истопник, простоватый, перепуганный. – Савва! – велел Трофим. – Иди сюда! Савва подошёл. Ноги у него заплетались. Трофим, не вставая, подал ему крест. Савва поцеловал его и чуть слышно промямлил про то, что будет говорить как на духу. – Громче! – велел Трофим. Савва сказал это громче. Трофим утёр крест, убрал его, сказал: – Стань, где стоял. Савва отошёл на своё прежнее место и, глядя на Трофима, побелел ещё сильнее. Трофим усмехнулся и подумал, что дело уже почти сделано, сейчас Савва ему всё расскажет. Но тут вдруг открылась дверь и вошёл Зюзин, а за ним его люди, с десяток. – О! – радостно воскликнул Зюзин. – А вот и вы все тут! Трофим сразу поднялся с лавки и снял шапку. – Сиди, сиди! – сказал Зюзин. Но Трофим, конечно, не садился. Зюзин вышел на середину палаты, остановился возле Саввы, крутанулся на каблуках и всё так же весело спросил: – Что, пёс, молчишь? Рассказывай, как ты царевича убил. – Я не убивал, – чуть слышно сказал Савва. – Что-о-о? – нараспев спросил Зюзин. – Не убивал я, – сказал Савва уже громче. – А вот мой московский человек, – и Зюзин кивнул на Трофима, – говорит, что убивал. – Не убивал! – ещё громче сказал Савва. – Государь боярин! И он упал на колени. – Встань, пёс, – строго велел Зюзин. Савва встал. – Рассказывай, – уже не так сердито сказал Зюзин. – А то московский человек не верит. Ну! И Савва, глядя то на Зюзина, то на Трофима, начал рассказывать: – Я, это, сидел у нас в истопницкой. Здесь, за углом. Вчетвером сидели. И вот приходит наш старший, Карп Ильич, и говорит: чего ты, скотина, сидишь, не чуешь, что мороз ударил, а ну беги в покойную, пока не поздно! – Что поздно? – спросил Зюзин. – Поздно – это когда государь разгневается, если будет не натоплено. И я сразу встал, взял дров побольше и пошёл. Зюзин опять спросил: – Каких дров взял? – Вот этих. – Савва показал на печь. Там, возле неё, и в самом деле по-прежнему лежали кучей дрова. – И вот я вхожу… – Стучал? – строго спросил Зюзин. – Нет, Боже упаси! Нельзя стучаться. Царь-государь этого очень не любит. Ты, говорит, Савка, разве человек? Ты тень! Вот я как тень и хожу. Так же и тогда, как тень, вошёл. – А рынды что? – А они расступились. И я вошёл. Смотрю, царь с царевичем стоят при столике и между собой беседуют. – О чём? – Я никогда этого не слушаю. Это не моего ума дело. Я, когда сюда вхожу, становлюсь как тень. Даже как полено – ничего не вижу и не слышу и не понимаю. – А царевича убил! – насмешливо добавил Зюзин. Савва поморщился, но перечить Зюзину не стал, и продолжал: – И вот я вошёл, подошёл туда, где сейчас дрова лежат, и наклонился. И вдруг слышу… – Что слышу? – вскрикнул Зюзин. – Вижу! Вижу! – ещё громче вскрикнул Савва. – Вижу, как кто-то из того угла, где сейчас сидит московский человек… Все обернулись на Трофима. Ах ты, сука, подумал Трофим. А Савва продолжил: – Он оттуда вдруг как кинется! И на царевича! И по голове ему! Царевич на пол! Из него кровища! Царь на царевича и как заголосит! – Что? Царь заголосил? – недоверчиво переспросил Зюзин. – Нет! – сказал Савва. – Я оговорился. Царь упал немо. И немо лежит. А тот злодей вот прямо сюда, в печь, в изразцы кинулся – и нет его! – Как это в изразцы? – спросил Зюзин. – Ну, я не знаю, – сказал Савва. – Я говорю, как видел. Вижу – он был, и вот уж – его нет. А царевич лежит весь в крови. А царь лежит возле него как неживой. И я тогда в дверь и бежать! И кричать: «Царевича убили! Царевича убили!» И это всё. – Гм, – сказал Зюзин. – Вот как! – И, повернувшись к Трофиму, добавил: – Что скажешь? – Не верю я ему, – сказал Трофим. – Почему? – спросил Зюзин. – Потому что чего он побежал? Вот тут царевич лежит. Вот тут царь. И никого тут больше не было – и дверь закрыта, и окно закрыто, и в печь никто не влезал… А этот побежал вдруг. Почему? Потому что тут подумать больше не на кого, потому что тут были только царь, царевич и вот он. Поэтому кто мог убить, кроме него? Вот он и побежал поэтому. Так было? Нет? Савва очень сильно покраснел, стал почти чёрным… И сказал: – Так и я тогда подумал: никто мне в этого злодея не поверит, все скажут, это я убил. Вот я и побежал. Чтобы от греха подальше. – А забежал на дыбу! – сказал Зюзин. И резко спросил: – Чем бил? – Я? Кого?! – Царевича. – Не бил я его! – крикнул Савва. – А тот бил! Злодей! – Чем бил? – Не помню я! Зюзин усмехнулся, оглянулся на Трофима и сказал: – А вот мы сейчас вспомним. Ведь вспомним же? Трофим кивнул, подошёл к печи, сунул руку за угол и вытащил оттуда кочергу – в крови, с волосами. И строго спросил: – Этим? – Что это? – тихо спросил Савва. – Кочерга, – сказал Трофим, – твоя. – Нет, – тихо сказал Савва, – не было здесь такой. Не моя это кочерга! Христом Богом клянусь! – И он истово перекрестился. – Подменили! – А где тогда твоя? – спросил Трофим. – А здесь! Здесь! – уже во весь голос вскричал Савва. И обернулся к печи. Дрова там при печи валялись, совок для угольев, помельцо. Но кочерги там нигде не было. Савва кинулся к печи, но его перехватили, удержали. Савва истошно закричал: – Здесь где-то она! Здесь! Зюзин молча хищно усмехался. Нужно было стоять и молчать, и дело бы закончилось, Трофим вернулся бы в Москву. И какой подлюка этот Савва!.. Но Трофим не удержался, подошёл к печи и стал осматриваться. Потом повернулся к дровам и развалил их кучу сапогом. На полу что-то сверкнуло. Один из стрельцов кинулся туда и достал из-под дров кочергу. Даже кочерёжку – маленькую, неприглядную. – Она! Родимая! Моя! – радостно выкрикнул Савва, и из глаз его брызнули слёзы. – Я дрова на неё уронил! Я… – Молчи! – грозно велел Зюзин. Савва замолчал. Стрелец подошёл к Зюзину и отдал ему эту кочерёжку. Зюзин повертел её и так и сяк, насмешливо спросил: – Чего она такая куцая? – Раньше была не куцая, – ответил Савва. – Да царь однажды спросил, чего это я такой дрын себе завёл, убить его задумал, да? Ну и дали мне такую вот. – Кто дал? – Кузьма Сом, из ваших же. – Ну, Кузьма, – уже не так сердито сказал Зюзин, опуская кочергу. – Спросим у Кузьмы, а как же! А эту ты не видел? – И он кивнул на кочергу, которую держал Трофим. – Эту кочергу! Не видел? – Нет, – сказал Савва. – Как я её там увидел бы? Мне только до сюда ход, до дров. Я дальше никогда не хаживал. Моё дело: натопил – и вон! Зюзин посмотрел на Клима. Клим утвердительно кивнул. Зюзин спросил: – А там чей ход? – и показал на печной угол. – А там Спиридон Фомич, – уже почти спокойным голосом ответил Савва. – Или просто Спирька. Здешний сторож. Он в ту ночь тут сторожил. – Опять Спирька! – сказал Зюзин. – Ладно! И обернувшись, спросил, здесь уже Спирька или ещё нет. Те, кто стояли при двери, ответили, что уже здесь. – Ладно, – сказал Зюзин. – Тогда этого пока что уберите, а приведите того. Савву взяли под руки и увели. А вместо него ввели другого – дворового человека Спирьку.11
Или, правильнее, Спиридона Жилу, государева комнатного сторожа. Он был низенький, толстый и с виду очень напуганный. Когда его ввели, он упирался. – А! – грозно сказал Зюзин. – Вот он, злодей! Спирька от этих слов совсем обмяк и упал бы, но ему не дали. Тогда он начал вертеть головой, смотреть то на Трофима, то на Зюзина. Трофим подступил к Спирьке, подал ему крест. Спирька крест поцеловал, но молча. Трофим велел побожиться. Но Спирька только кивнул, что божится. – Спирька! – строго сказал Зюзин. – Смотри, ремней нарежу! Спина у тебя широкая, режь – не хочу. – Государь боярин, государь боярин! – зачастил Спирька. – Век буду Бога молить! – Век у тебя будет короткий, – сказал Зюзин. И сразу спросил: – Ты тогда здесь был? Когда царевича убили?! Ты да Савва! – Брешет Савва! – тихо сказал Спирька. – Я не убивал! Я пьян лежал. Винюсь, государь боярин, пьян был, как свинья. Лежал под лавкой. Клим Петрович! – оборотился он к Климу. – Ведь был я пьян! У Якова! – Был, – нехотя ответил Клим. – Был! Был! У Якова! – поспешно подхватил Спирька. – Кто же знал, что такое сотворится! Кабы знали, так не пили бы… А так слаб стал я, Клим Петрович, всего две чары выпил и закружилась голова, я и прилёг. А тут вдруг крик, гам! Заскочили, кричат: Спирька, беги, посмотри, что в твоей палате сотворили! Я и подскочил, забыл про хмель, прибегаю, глянул… А они лежат. – А окно было закрытое? – спросил Трофим. – Закрытое, – ответил Спирька. – Это я его только сегодня открыл. Сказали, придёт человек из Москвы, так чтобы ему было виднее, я открыл. А так было закрытое. В тот день ветер какой поднялся, и прямо в окно. Вот я, чтоб от греха подальше, и закрыл его. И темнотища тут такая стала! Я засветил огней. И только вышел, государь идёт с царевичем. И они сюда. А я ушёл. После прибегают, кричат: глянь, Спирька, беги, глянь! И Спирька замолчал. – Глянул? – строго спросил Зюзин. Спирька кивнул, что глянул. – И что? – Крепко царевича побили. – Кто? Спирька пожал плечами. – Ну а хоть чем? Спирька опять не ответил. – Может, этим? – спросил Зюзин и посмотрел на Трофима. Трофим поднял кочергу. Спирька смотрел на неё и молчал. – Что это за кочерга? – спросил Зюзин. – Кочерга как кочерга, – с досадой сказал Спирька. – Она здесь за углом стояла, – и он кивнул в сторону печи. – Давно стояла? – спросил Зюзин. – С лета. – Чья она? – А я откуда знаю? Стоит и стоит. – Да как это «стоит»?! – взъярился Зюзин. – Невесть чья кочерга! В царских палатах! Пёс! А если она заколдованная?! А если она с порчей?! – Да какая порча в кочерге! – воскликнул испуганный Спирька. – А вот такая! – крикнул Зюзин. И приказал: – Трофим! Трофим сунул кочергу едва ли не в нос Спирьке и очень строго спросил: – Чья это кровь? Чьи волосы?! Царевичевы?! А?! Спирька побелел, как снег, и начал закатывать глаза. – Воды! – крикнул Трофим, убирая кочергу. Но было уже поздно, Спирька совсем обомлел. Его чуть успели подхватить. – Хлипкий какой, – сердито сказал Зюзин. – Но нас этим не проймёшь. – И велел: – Уберите его! Лёду ему в нос! И чтоб был под рукой! Стрельцы поволокли Спирьку обратно в дверь. – Вот псы, – сердито сказал Зюзин, закладывая руки за спину. – Как царевича убить, так все иерои, а как ответ держать… И вдруг откуда-то издалека раздался глухой удар. После ещё один. После ещё. Зюзин поднял правый перст, прислушался. Ударило ещё раз. – С Митрополичьей звонницы, – негромко сказал Клим. – Сам знаю! – зло ответил Зюзин. И добавил: – Дела у меня. А ты здесь за старшего. И ты! – сказал он Трофиму, развернулся и пошёл к двери. И вышел. За ним вышли все, кто с ним пришёл, а это с десяток человек, не меньше. Клим махнул рукой – и вышли и все остальные. Теперь в палате оставались только Клим с Трофимом. Клим взял у Трофима кочергу и осмотрел её, потрогал на ней волосы, отдал обратно и сказал: – Я думал, дело решённое. А тут поди ж ты. Трофим ничего на это не ответил. Тогда Клим сказал: – Вот оно, какое дело вылезло. Теперь ему конца края не видно. Тут как бы нас самих не взяли в розыск. За укрывательство. А что?! Царевича убили, а мы возимся. Почему сразу найти не можем? Нюх у нас отшибло, да? А вот вам, скажут, нюх! Ты клещи нюхал? На что Трофим вместо ответа сам спросил: – Кто там у нас ещё остался? – Шестак Хромов, – сказал Клим. – Сторож с рундука. Он видел, как Савва выскакивал. А после унимал его. Трофим кивнул. Клим пошёл к двери и кликнул Хромова. Пришёл тот Хромов. Это был здоровенный детина, высокий, румяный. Трофим сунул ему крест. Хромов побожился говорить как на духу. Трофим велел рассказывать. Хромов ещё раз перекрестился и начал, с охотой: – Я тогда там, при рундуке, стоял, с самого краю. И как раз смотрел в эту сторону. Тихо тогда было. А кому шуметь? У нас в этом углу всегда тихо. И вдруг слышу крик! Кричит кто-то, прямо Боже мой! Как режут! А после дверь вдруг: бабах! И из двери этот Савва! – А рынды что? – спросил Трофим. – А очумели они! Отскочили! И он мимо них и на нас! Бежит, орёт: «Царевича убили! Царевича, братцы». Я к нему! А он мне шарах по сусалам – и дальше! Я за ним! Бегу, а у меня кровищи! Он же мне нос расквасил! Ох, думаю, догоню и убью! Но там же, дальше, темнота. И я зацепился и упал перед Большим рундуком. И там тоже все наши повскакали! И ну его хватать! А он ото всех вырывается, они его схватить не могут, теснотища! И тут я вскочил! И на него! И в харю ему! Он с копыт! Я на него! И душить! А он пеной изо рта плюётся, визжит, а я его ещё сильней… И задушил бы. Но меня с него стащили. И вот я стою, меня держат, а он лежит под рундуком и шепчет: «Царевича убили, братцы, царевича!» Пошли, посмотрели – и точно убили. И он замолчал. Клим тоже молчал. Трофим спросил: – А чего у него пена изо рта? – Ну, мало ли, – задумчиво ответил Хромов. – Может, от страху, может, обкормили чем. Всякое в жизни бывает. – А с ним раньше бывало, чтобы он вдруг буйствовал? – Нет, никогда. Не слышали. – Ну а в тот день он как до этого? – Да вроде как всегда. – А когда он туда вошёл? И долго ли там был? – Да тоже вроде как всегда. Трофим задумался. Зато Клим вдруг заговорил – спросил у Хромова: – Ты это, если ещё спросят, повторишь? – А то! – уверенно ответил Хромов. – Тогда пока выйди, – сказал Клим. – И там жди. И всем другим скажи, чтоб ждали. Хромов вышел. Клим повернулся к Трофиму и сказал: – Не по душе мне этот Хромов. Брешет! И не просто брешет, а подучил его кто-то. Он про пену раньше не рассказывал. Приплёл для страху, я так думаю. Ну, страху и у нас найдётся. А что?! А не свести ли его вниз?! Трофим молчал. Клим повторил: – Здесь он ничего уже не скажет. Нет в нём здесь страху. И у других тоже нет. Здесь же им вон как светло! А на свету правды не сыщешь. Поэтому, я думаю, хватит их тут трепать. Пусть лучше они все идут вниз, к Ефрему, и он их там пока что принимает, охолонёт маленько. Поставит на ум! И вот тогда и мы к ним спустимся – и им будет радость. Ну что? Трофим подумал и сказал: – Давай. Клим опять прошёл к двери, открыл её и вышел в сени. Было слышно, как он там вначале повелел вести всех вниз, к Ефрему, а про себя и Трофима сказал, что они тоже скоро туда спустятся, но у них здесь пока есть дело. Потом, когда все стали спускаться вниз, Клим кликнул ещё кого-то и велел, чтобы тот расстарался и не мешкал. Этот кто-то обещал управиться. После чего Клим вернулся в покойную, закрыл за собой дверь и сказал, что сейчас им принесут, и они немного перекусят. И тут же, поморщившись, прибавил: – Да убери ты её! Смотреть тошно. Это он сказал про кочергу, которую Трофим по-прежнему держал в руках. И в самом деле, подумал Трофим, осмотрелся и положил кочергу на царёв закусочный столик, так как туда было ближе всего. Клим почти сразу же сказал: – И они тогда как раз вот так стояли: там, где ты, царь, а там, где я, царевич. И тогда же был гонец из Пскова, в тот же день, за час до этого. – И что он говорил, этот гонец? – спросил Трофим. – Что, что! – сердито сказал Клим. – Да тут и говорить не надо ничего. Профукали всё, что могли. Ливонию сперва профукали. Теперь вот как бы Псков не фукнуть. Ох, государь тогда как на гонца разгневался! Да он и так теперь всегда как порох. Чуть что не так… – и замолчал, повернулся к двери. Дверь открылась, вошли служки, внесли яства и питьё. Клим поманил их рукой. Они по очереди подходили к столику, составляли на него, что принесли, и сразу же, развернувшись, выходили. Яства были просто загляденье. Клим усмехнулся и сказал: – Здесь по-другому потчуют, с другой поварни. И поят тоже! Трофим вспомнил про пятницу, про постное, тяжко вздохнул. Служки вышли, дверь за ними затворилась. Клим потёр руки, сказал: – Я буду стольником! – Взял со стола длинноносый кувшин, налил из него по серебряным чарам, облизнулся и прибавил: – С богом! Они, как стояли, так стоя и выпили. Так же, стоя, начали закусывать. Винцо было бабье, сладкое, Трофим взял после него на закуску кисленького яблочка. Клим продолжал: – Вот так же и они тогда стояли, царь с царевичем. Говорят, говорили про Псков. А кто это слышал? Один только Савва мог слышать. Но он говорит, что их тогда не слушал, и никогда не слушает. И так оно и есть, я думаю. Савва понимает, что ему будет, если он вдруг чего где пикнет. А так молчит – и живёхонек. – Так, думаешь, он нам сегодня правду говорил? – спросил Трофим. Клим вместо ответа показал рукой на чары. Трофим согласно кивнул. Клим налил из другого кувшина. Они выпили. В груди как огнём полыхнуло! Трофим опять взял яблоко и начал быстро есть, чтобы загасить огонь. Клим утёр губы и сказал задумчиво: – Я думаю… – и тут же продолжал: – А что я думаю? А что не думаю? И кому до этого есть дело? Растереть им на это, вот что! Взял кусок мяса, надкусил, опять задумался. Потом сказал: – Надо, думаю, нам с Саввой не спешить пока. Оставим его напоследок. Сперва всех других попытаем, а потом уже его возьмём. И сразу на виску! И растянуть как следует! И он заговорит, как пить дать! А пить не давать. Сказав это, Клим засмеялся, в глазах засверкали огоньки. После опять стал серьёзным, сказал: – Ну а вдруг он наговорит такого, чего лучше никогда не слышать, тогда нам как? Трофим посмотрел на кувшин. – А ничего! – продолжал Клим, не замечая этого. – Не бывает нераскрытых дел. Все дела как-нибудь да раскрываются. Кто-нибудь да берёт на себя. Ну а если никто не возьмёт, значит, мы с тобой плохо служили, Трофим, и сами на себя возьмём. Вот так-то! Трофим Пыжов да Клим Битый царевича-наследника зарезали! – И он кратко, негромко засмеялся: – Га-га-га! Трофима передёрнуло, и он сказал: – Что ты такое говоришь?! – и покосился на дверь. – А! – отмахнулся Клим. – Там ничего не слышно. Дверь же войлоком обита. Трофим подумал и сказал: – Тогда и рынды ничего не слышали, когда всё это утворилось. – Да, не слышали, – ответил Клим. – Но надо будет, и придут, и скажут: слышали, а как же! А иначе что?! Зачем их тогда Зюзин набирал, скотов таких, если они даже этого не могут – скривить под крестом? Так-то вот. Всё тут решено давно, до нашего ещё приезда – Савва будет отвечать. Он и там был, он и припадочный, и пена изо рта текла. Он и убил! Или ты думаешь, что если никого не найдёшь, то и никто за это не ответит? Так, что ли? Трофим злобно хмыкнул. – А! – насмешливо воскликнул Клим. – Ты думаешь, я скот такой? Был бы скотом, давно сказал, что у тебя шило в левом голенище. Ты шило на воротах не отдал! Ножи отдал, а шило нет! И с шилом к царю захаживал. А после, с шилом же, к царевичу. Заколоть ты их хотел, вот что, да оробел, Бог не позволил. Но всё равно тебя сразу в хомут! А мне пятьдесят рублей за службу. А пятьдесят – это о-го-го! Это не те двадцать, которые ты у себя за пазухой запрятал. А… И тут Клим сбился, потому что Трофим поднял кочергу, но тут же опомнился, засмеялся и продолжил: – Вот-вот! А тут ещё и кочерга. Скажу: грозил меня убить. За это мне ещё десять рублей накинут. Трофим опустил кочергу, усмехнулся и сказал, уже почти без злости: – Ладно, ладно. Хотел бы я тебя убить, давно убил бы. И ты у меня не хворал бы, а сразу бы ноги протянул. – И спросил: – А как ты про шило узнал? – А сегодня ночью, – сказал Клим, – когда ты спал. Крепко ты спишь, Трофим, в Слободе так спать нельзя. – Ну, может, твоя правда, – нехотя сказал Трофим, повертел кочергу и спросил: – А что теперь с ней? Клим поднял сиденье лавки, там внизу оказался сундук. Клим взял из сундука кусок рогожки, протянул Трофиму. Трофим завернул в рогожку кочергу. – Перекусили, – сказал Клим, – пора и за дело браться. И они пошли вон из покойной.12
В сенях их уже ждал стрелец со светом. Клим коротко велел: – К Ефрему! Стрелец их повёл. И опять они поворачивали то направо, то налево, и так же много раз спускались по лестницам вниз. Но ни разу вверх не поднимались, а только вниз да вниз. И вскоре оказались в так называемом Малом Застенке. Это было обычное, ничем не примечательное подземелье: тёмное, сырое, вонючее, посреди него стояли дыба и хомут, а дальше за ними, у стены, Трофим увидел, уже без рубах, государева истопника Савву, государева сторожа Спирьку, рундучного сторожа Шестака, двух покоёвых рынд – Никиту и Петра, – и ещё какого-то человека, наверное, из дворовых. Там же, при них, стоял и сам царёв палач, Ефрем Могучий, и в самом деле очень здоровый, саженного роста и толстый, в красной атласной рубахе и в чёрном кожаном фартуке. За Ефремом, за столом, при свете, сидел готовый записывать пищик. – Помогай Бог! – сказал Ефрему Клим. Ефрем в ответ кивнул. – А это наш московский человек, – продолжил Клим, кивая на Трофима. – С давна знакомые, – со значением ответил Ефрем. – Так ли, Трофим Порфирьевич? Трофим кивнул, что так. И почти сразу же спросил: – А это кто? – и указал на дворового. Ефрем посмотрел на пищика. Пищик важным голосом назвал: – Максим-метельщик. Он там метёт. И в тот день тоже мёл. Трофим кивнул. Обернулся на Ефрема и спросил: – С кого начнём? – Как всегда, – ответил Ефрем, усмехаясь. – С того, кто пожиже. И, заложив руки за спину, глядя себе под ноги, прошёл вдоль злодеев. После развернулся и пошёл обратно – теперь уже глядя им в глаза… Вдруг схватил метельщика Максима за руку! Крепко схватил, как клещами! Метельщик охнул и обвис. Ефрем разжал руку. Метельщик упал на пол. – Сенька! – строго окликнул Ефрем. Сбоку, из Ефремовой каморки, выскочил его подручный Сенька – худой, тщедушный человечишко – и сразу кинулся к метельщику, начал его трясти, бить по щекам, дуть ему в рот. А тот лежал как мёртвый. – Убери его, чтоб не мешал, – велел Ефрем. Сенька оттащил метельщика к стене, там выкопал из-под соломы кувшин, макнул в него тряпку и начал тереть метельщику губы. Метельщик сморщился. А Ефрем опять прошёл мимо стоящих, потом ещё… И вдруг схватил за руку рынду – Петра Самосея. Рында побелел и замер. – Есть что сказать? – спросил Ефрем. – Есть или нет?! Рында подумал и ответил: – Есть. – На кого? – На Ададурова Семёна, стольника, царёва посланника в Псков. Ефрем обернулся на Клима с Трофимом. Вот оно что, подумалось Трофиму, Псков! Но не успел он и рта раскрыть, как Клим поспешно воскликнул: – Э, нет-нет! Это уже не наше дело. Это посольские пусть разбираются. Трофим повернулся к Климу. Клим уже спокойным голосом продолжил: – Ададуров – это не про нас. С Ададурова пусть Зюзин спрашивает. – Обернулся на стрельца с огнём и приказал: – Беги, пёс, ищи воеводу и скажи: большая измена открылась. В посольском приказе. Беги! Стрелец развернулся и вышел. А Клим осмотрел построенных людей, после мельком глянул на Трофима и, повернувшись к Ефрему, сказал: – Повременим пока. Придёт воевода, продолжим. Ефрем послушно кивнул, повернулся к людям, велел идти за ним – и увёл их за угол, в остужную. А Сенька уволок туда метельщика. Как только они все ушли, Клим сразу подошёл к столу и спросил у пищика, не записал ли тот чего лишнего. Пищик ответил, что нет. Клим всё равно взял со стопы верхний, уже наполовину исписанный лист и, осмотрев его, вернул. Трофим спросил, что теперь делать. – Ждать, а чего ещё, – ответил Клим. Трофим осмотрелся, отступил, сел на лавочку и положил кочергу на колени. Клим продолжал стоять. Молчали. Какая вонища здесь, думал Трофим, как они от неё не передохнут. Вот уже кому не позавидуешь – Ефрему. Он здесь почти безвылазно торчит. Другое дело в Москве, от царя подальше! Вон у них Сидор неделями сидит без дела. Приведёшь к нему кого-нибудь – он спит. Князь Михайло, бывает, смеётся, говорит: а вот пошлю вас… Заскрипела дверь. Трофим насторожился. Из остужной вернулся Ефрем, остановился возле дыбы и в сердцах сказал: – Какой народ хлипкий пошёл! Просто тьфу! И, повернувшись к свету, начал рассматривать рукав своей рубахи. Рубаха у него была знаменитая – красная, как огонь, атласная, и на свету переливалась. Ефремова рубаха, это знали все, была непростая – её сам царь ему пожаловал, Ефрем ею очень гордился. Клим усмехнулся и спросил: – А что, люди правду говорят, что это царёва рубаха? – Какая царёва! – сердито ответил Ефрем. – Я её, что ли, с царя снимал? Как это так?! – А говорят же. – Говорят! – ещё сердитей продолжил Ефрем. – А я не слышал. На воле можно всякое сказать. А вот пусть на дыбе повторят! – Ох, ты и строг, Ефремка, – сказал Клим. – Тебе б только людей мучить. – Служба такая, – ответил Ефрем. – Будет другая служба, буду по-другому. – А всё же рубаха чья? Нежели с самого Малюты? – Нет, – со вздохом ответил Ефрем. – Малюту я не пытывал. А вот Афоньку Вяземского, вот этого да! И это его рубаха. – Вот прямо эта – с него? – Ну, не совсем эта, а почти. – Ефрем заулыбался, даже облизнулся. – Афонька был тогда в силе, ого! Первый опричник был Афонька. Вот кто зверь зверем был. Что я? Я же по службе зверь, а он зверь по нутру. Такая у него душа была. Он православного народу накрошил не дай Бог сколько! И думал крошить дальше. Но наш надёжа-государь царь и великий князь Иван Васильевич ему такого не позволил. И вот сижу однажды, думу думаю, а ко мне ведут Афоньку! В кровище весь, волосья клочьями, борода оборвана, половина зубов выбита, глаза заплыли. А рубаха на нём… Я как глянул… Оторваться не могу. Огнём горит! Эх, думаю, как бы мне эту красоту не замарать. И пособил Афоньке, усадил на лавку, ручки ему поднял, рубаху снимаю смирно, чтобы в крови не уделать. Государь заметил это, усмехнулся, говорит: «Что, Ефремка, глянулась рубаха?» Я отвечаю: «Есть грех, государь». Он: «Забирай!» Я и забрал. Вот чья была рубаха – с Вяземского. И как я её любил! Никогда не снимал – ни днём, ни ночью, ни в жар, ни в стужу. И что? Год миновал, а какой тогда был год длиннющий, тяжеленный, сколько было службы… И заносилась рубаха. На Рождество стою здесь у себя, служу, и тут же царь рядом сидит. И вдруг говорит: «Ты что это, Ефремка, заносил рубаху так, что смотреть противно. И вонища!» Я говорю: «Винюсь, царь-государь, свинья я». «Нет, – он говорит, – ты не свинья, а верный пёс». И обернулся, и велит Мстиславскому: «Ванька, а ну, чтоб завтра моему Ефремке был отрез парчи на новую рубаху!» И, ну, не парчи, парчи красной тогда не нашли, а атласу отпустили. Так с той поры и повелось: как Рождество, так мне рубаху. Так, думаю, и в этом году скоро будет. Уже ноябрь на исходе. Сказав это, Ефрем опять повернул локоть рубахи к свету и стал смотреть, нет ли на нём каких пятен. Клим вздохнул и начал говорить: – А мне царь-государь однажды… Но тут в сенях послышались шаги. Клим сразу замолчал. Раскрылась дверь, вошёл стрелец, уже другой, и сказал: – Я с Верху. Воевода сейчас крепко занят. Велел продолжать без него. Но смирно, с опаской, высоких статей не касаясь. – Это можете не беспокоиться, – сразу ответил Клим. – Иди и скажи… – Нет, – тут же ответил стрелец. – Мне велено остаться здесь. И повернулся к Трофиму. Трофим оставил кочергу на лавке, выступил вперёд и велел привести рынду Петра Самосея. Сенька сходил за угол, привёл. Трофим сунул рынде целовальный крест, рында его поцеловал, назвал себя и сказал, что будет говорить как на духу. Трофим посмотрел на Сеньку. Сенька быстро ушёл за угол. Было слышно, как за ним закрылась дверь в остужную. – В хомут? – услужливо спросил Ефрем. – Рано ещё, – сказал Трофим, глянул рынде в самые глаза и строгим голосом велел: – Рассказывай пока что вольно. – А что рассказывать? – испуганно ответил рында. – Мы стояли при дверях. Пришёл царь-государь с царевичем. Стоим. Приходит Ададуров, называет слово. Мы его впускаем. А как было не впустить? Он и вошёл к царю. Он и раньше туда часто вхаживал. Стоим… – А слышно было что-нибудь? – спросил Трофим. – Нет. Ничего. Там дверь на войлоке. Трофим подумал, согласно кивнул. Рында, осмелев, продолжил: – Стоим. Служим. Ададуров вышел. И ушёл. – Как он ушёл? – спросил Трофим. – Какой был из себя? Крови на нём не было? Глаза не бегали? Сам не запыхавшийся был? Рында подумал и сказал: – Он злой был, Ададуров. Красный. Даже вот так: закрыл дверь, сплюнул, шапку надел и ушёл. Трофим посмотрел на Клима. Клим усмехнулся и сказал: – Это ему войска в Псков не дали. – Что? – строго спросил Трофим. – А ты откуда это знаешь? – Ай! – ответил Клим. – Не придирайся. Да и не наше это дело, а посольское. Это уже пусть Зюзин с Ададурова спрашивает, почему тот от царя выходил и плевался. Какая свинья! – Ладно, – не стал спорить Трофим. – Пусть так. – И снова обратился к рынде: – И вот Ададуров плюнул и ушёл… – И ещё растёр! – прибавил рында. – И уже только после ушёл. – А дальше было что? – спросил Трофим. – Не возвращался Ададуров? – Нет. А после Савва-истопник как выскочит да как начнёт орать! – Так он что, там давно сидел? Он туда ещё до Ададурова вошёл, так, что ли? Рында подумал и ответил: – Вряд ли. – Тогда он когда туда вошёл? – Не знаю, – честно сказал рында. Покосился на Ефрема и опять сказал, уже с надрывом: – Не знаю! Он же туда-сюда всё время ходит. А если зябкий день, так царь его так и гоняет топить и топить! – А в тот день гонял? – В тот не помню. – Пётр! – строго сказал Трофим. – Подумай! Вспоминай, пока не поздно. На дыбе будет трудней вспоминать. Рында молчал, стрелял глазами. – Ну! – грозно велел Трофим. Ефрем схватил рынду и начал крутить ему руки. Рында не выдержал и не своим, визгливым голосом воскликнул: – Откуда я знаю?! Может, он в другую дверь вошёл, а в нашу вышел! – В какую другую?! – С другой стороны! – Где с другой? Что за дверь? – Э! Э! Э! – зачастил Клим. – Петька! Одумайся! Чего молотишь?! На кол сядешь! – И уже сунулся к рынде… Но Трофим схватил его и оттащил, сам повернулся к рынде, взял его за подбородок и выкрикнул: – Молчать всем, суки! Все затихли. Трофим медленно, едва не по складам спросил: – Какая ещё дверь, Петруша? Где? – Ну, я не знаю, – дрожащим голосом ответил рында. – Мало ли. Не может того быть, чтобы в такой важной хоромине была только одна дверь… Не знаю… И он замолчал. И даже прикусил губу для большей верности. Трофим кивнул Ефрему. Ефрем крепко встряхнул рынду. Но рында даже не пикнул. – Говори! – строго велел Трофим. – Где вторая дверь? На дыбу хочешь? Рында понуро молчал. Клим из-за Трофимовой спины сказал: – Чего ты к нему пристал? Какая ещё вторая дверь? Может, человек оговорился. – И уже со смехом продолжал: – Петрушка! Что молчишь? Навалил в порты? Рында опять не ответил. Глаза у него были стеклянные. – Вот так же… – начал было Клим… Но Трофим его не слушал. Он ткнул рынде под нос целовальный крест и приказал: – Целуй! И говори: есть там вторая дверь? Есть или нет? Рында уже открыл рот… Но тут опять открылась дверь, вбежал ещё один стрелец и закричал: – Измена! Бунт! На государя посягнули! Боярин велел всё бросать – и к нему! И, развернувшись, побежал обратно. И второй зюзинский стрелец за ним! И Клим! Тогда и Трофим, прихватив кочергу, кинулся за ними следом. Ефрем, конечно же, остался в пыточной. И Сенька с ним. И пищик. И рында. И все остальные подследственные людишки.13
Сначала они бежали, с топотом, наверх, потом мимо стрельцов с серебряными бердышами, и, наконец, забежали в просторную хоромину, посреди которой стоял на лавке, чтоб было повыше, Зюзин и что-то приказывал. Вокруг него толпились его люди. Зюзин сразу же заметил Клима и Трофима и воскликнул: – О! И вы здесь! Слыхали?! Карла сбрендил! Ходит по дворцу и говорит, будто он видел, как царь царевича со злости посохом убил! – И, опять обращаясь к своим, стал приказывать: – Карлу сыскать и взять! Немедля! Сто рублей тому, кто первый его сыщет! Взять! Толпа отхлынула от Зюзина и стала разбегаться. Клим тоже было развернулся… Но Трофим за ним не побежал, а, обращаясь к Зюзину, воскликнул: – Государь боярин! Там вторая дверь! Рында показал! В покойной! – Не до покойных! Карлу ищите! Сто рублей даю! Скорей! И Зюзин пихнул Трофима в грудь. А Клим тут же схватил Трофима за руку и опять потащил за собой. Тот, сбитый с толку, поддался. Они побежали. Сперва бежали в толпе. Но толпа быстро шугала, кто куда, по переходам и скоро вся разбежалась. Когда Клим с Трофимом остались вдвоём, Клим, бежавший впереди, остановился. Трофим сразу схватился за него и сердито спросил: – Вы что все, белены объелись? Куда мы бежим?! – А мы и не бежим, – ответил Клим. – Мы думаем, где искать карлу. – Какой карла?! – воскликнул Трофим. – У меня свой розыск! – Розыск чего? – с насмешкой спросил Клим. И сам же ответил: – Того, кто как и почему царевича убил. А карла это дело мутит. Вот и надо карлу взять, чтоб не мутил. И тряхнул, отцепляясь, рукой. Но Трофим не отпускал его, а продолжал: – Там есть ещё одна дверь! Вторая! Вот что нам сейчас надо искать! – Вторая! – повторил с насмешкой Клим. – Рында это со страху брякнул. А поставь его в хомут, он и про третью скажет. А вот слыхал, что карла говорил? Он на царя всклепал, скотина! Так кто нам важнее: рында или царь?! Дверь или карла? Поэтому, покуда не поймаем карлу, никто про твою дверь слушать не станет. И он опять тряхнул рукой. Трофим отпустил его. Клим усмехнулся и сказал: – Ишь, какие речи гнусные! Царь на царевича, на свою кровиночку, руку поднял. И подлый народ в это верит. Но мы эту веру вырвем. За сто рублей ефимками. И сразу станем искать твою дверь. А пока айда за карлой. Я знаю, где он, пёс, таится! И вот тут Клим развернулся. Трофим вслед за ним. Они вместе сошли с лестницы и пошли по переходу. Там было очень темно, они шли на ощупь, держась за стены. Клим молчал. Волки поганые, думал Трофим. Рында про вторую дверь признался. Вот что нужно было бы сейчас разыскивать – вторую дверь, а они за карлой рыщут. Только Трофим так подумал, как Клим, идущий впереди, сказал: – Врёт карла. Не было его в покойной. А люди верят! Потому что складно врёт. Потому что, – тут Клим помолчал, оглянулся на Трофима и негромким голосом продолжил: – В прошлом году царь вот так шута убил. Слыхал? Трофим промолчал. Но Клим всё равно продолжил: – Вредный был шут. Злобный. Пьяница! Осип Гвоздев его звали. Стал над царём потешаться. Царь говорит: «Оська, молчи, не доводи до греха!» А Оське что? Нажрался водки, как свинья, и опять: «Государь, государь!..» Ну, тот и не сдержался. И посохом по голове его! И прямо в жилку, вот здесь, у виска. Наповал, как говорится. А тут теперь вдруг царевич! Тоже вроде посохом. Оттого народишко и засмущался. И вот Зюзин и послал нас всех этот срам унимать. – Так мы куда сейчас? – спросил Трофим. – Как куда! На бабью половину. На царицыну. Трофим остановился и сказал: – Не пойду я туда. Ну их! – А сто рублей? – спросил Клим. – Голова дороже. Да и почему надо на бабью? Карла ведь не баба же. – Ну, карла! – сказал Клим. – У него там место. Я это место знаю. Или ты что, заробел? А не заробел, так айда! И они опять пошли по переходу. Шли в полной темноте. Никто им не встречался. Все двери на их пути были закрыты, нигде никаких ни сторожей, ни рундуков видно не было. И это беда, что не видно, с опаской думал Трофим, а вот сейчас как выскочат из-за угла да спросят: ты чего сюда припёрся, пёс, чего тебе от царских баб нужно? И сразу на кол! А то ещё сперва… Тьфу! Даже думать не хотелось. Но всё равно ведь думалось: зачем одному столько? Семь жён, двадцать боярынь, говорят, триста боярышень… Ну, это брехня, конечно, где их столько взять, не боярышни это, а девки продажные с Балчуга, за полденьги они на всё готовые, а тут вдруг сам ца… Опять тьфу! Вот прилипнет же! Трофим перекрестился и постарался больше о таком не думать. Клим вдруг остановился и едва слышно сказал «пришли!» и стукнул в деревяшку. За деревяшкой была пустота. Никто на стук не отозвался. Клим стукнул ещё раз и тихо окликнул Карпушу. За деревяшкой засветили огонь, это было видно через щель. Потом деревяшку отодвинули. Открылся лаз, и в нём было светло. Клим первым туда полез. Следом за ним полез Трофим. Там, где они оказались, было тесно, со всех сторон стояли доски, сверху горел свет. А прямо перед ними стоял тот Карпуша – здоровый детина, лицом злобный, в чёрной шапке. – Ну! – строго сказал Карпуша. – Шесть алтын! – тут же ответил Клим. Карпуша подумал и сказал: – Чёрт с вами. Шесть. И отступил в сторону. Клим с Трофимом пошли дальше. Сперва Клим молчал и только за поворотом вдруг сказал: – С тебя три алтына. Карпуше. – Так ты же ему ничего не давал! – удивился Трофим. – Он мне ещё больше должен, – сказал Клим. – Мы с ним сочтёмся. А с тебя мне три алтына. Трофим ничего не ответил. Клим насмешливо спросил: – Чего вздыхаешь? Жалко стало трёх алтын? Так это у Карпуши три, по-божески. А если бы пошли через Овсея, так там по полтине берут. А у Терентия Михайлыча и порублю! А в святки и по пять могут загнуть! – По пять рублей? – спросил Трофим, ушам своим не веря. – За что?! – Дай пять рублей и отведу, – со смешком ответил Клим. – И не пожалеешь. Всю жизнь после будешь вспоминать. – А если это… застукают. Тогда что? – Ну, тогда да, – согласно кивнул Клим. – Царь-государь у нас грозный! И тебя вместе с боярыней… – Боярыней? – переспросил Трофим. – А ты как думал! – сказал Клим. – Ну да не трясись ты так! На три алтына идём, никто нас там ловить не станет. Сам ещё оттуда побежишь. Трофим молчал. Они прошли ещё, после поднялись по лестнице. Наверху, возле той лестницы, стоял рундук, но при нём никого не было, горела только плошка. – Вот из-за таких мы Нарву потеряли! – сердито сказал Клим, проходя мимо пустого рундука. Потом вдруг сказал: – Тихо! И его шагов не стало слышно. Трофим тоже пошёл крадучись. Прошли мимо одной двери, после прошли ещё немного… И вдруг Клим резко толкнул дверь и быстро вошёл туда! Трофим, так же быстро, за ним!.. Но всё равно ничего не успел разобрать. Там вначале был какой-то свет, но его очень быстро прикрыли. Стало совсем темно. И ещё там стояла вонища. И тишина – никто не дышал, не шевелился. – А ну откройте окно, дуры! Ничего не видно! – сказал Клим. Вначале было тихо, потом бабий голос спросил дерзко: – А ты кого увидеть хочешь, Крысу-Василису?! – Открой окно, Ксюха! Я кому сказал! – гневно прикрикнул Клим. – Открой, пока мозги не вышиб. Открылось окно. Немного просветлело. – Клим! Клим! – послышалось со всех сторон. – Мы чуть не обделались, а это Клим! Опять засветился огонь. Трофим увидел, что со всех сторон на него смотрят простоволосые бабы и девки. Но какие! Трофим, не выдержав, сказал: – Уродки! И тут они все враз захохотали, загигикали, стали махать руками и подскакивать! А там со всех сторон были устроены лежанки, над лежанками полати, над полатями ещё полати – и везде на них сидели, правильней, вертелись, скакали, визжали, махали руками, дрыгали ногами уродки! Каких только уродок там не было: одноглазые, криворотые, кособокие, бородатые, лысые, носатые, губастые, горбатые, шелудивые, безрукие – теперь они все, как куры на насесте, визжали, кудахтали, ныли, выли кто во что горазд! Теснотища там была неимоверная, и духотища, и вонища, и такой галдёж, что аж закладывало уши. Только одна уродка не кричала, не плясала и даже не поднимала рук, а внимательно смотрела то на Трофима, то на Клима. Она тоже была уродка хоть куда – пучеглазая и кривоносая, широкогубая, с копной всклокоченных синих волос. Она сидела внизу, на лежанке, в красной душегрее, жёлтых сапогах и почему-то в рукавицах. Смотрела она внимательно и не мигая. Трофим подумал: змея. А Клим тут же крикнул: – А ну, ведьмы, тихо! Но, конечно же, никто на эти его слова не обратил внимания. Даже, скорей, наоборот, – уродки стали кричать ещё громче. Тогда Клим шагнул вперёд, склонился к той молчаливой уродке и стал ей на ухо что-то шептать. Все уродки почти сразу замолчали. Клим отступил назад и осмотрелся. Уродки по-прежнему молчали. Потом одна из них не удержалась и спросила: – Ксюха, что он говорил? Ксюха, а так звали ту уродку, сердито поморщившись, ответила: – Хрен его знает. Не расслышала. По лежанкам, по полатям зашептались, захихикали. Из угла послышалось: – К кому это они пришли? Может, сразу к нам ко всем? – Ко всем! Ко всем! – радостно ответили со всех сторон. – Девки, не давай им выйти! Держи двери! – Дуры! – злобно крикнул Клим. – Сейчас к вам стрельцы придут! Вот они вас натешут! Поотрывают вам всем головы, скотины! Из-за карлы! Из-за вашего Васятки! И вот они все сразу присмирели. Ага, подумал Трофим, получается, Клим верно говорил, карла где-то здесь, у них! А Клим тем временем добавил: – Вы мне, дуры, в уши не кричите. Я такого не люблю. И я к вам не забавиться пришёл, а я по делу. Меня Зюзин прислал. – Все молчали. Клим продолжил: – Мне он сказал: сходи, Клим, к уродкам, отнеси им пятьдесят рублей, и пусть они нам отдадут карлу Васятку, а не отдадут, я их всех на колья посажу, пусть с кольями поженихаются! – и засмеялся. Уродки молчали. Ксюха с укором сказала: – Ты чего это сегодня такой злой?! – Я ничего, – ответил Клим. – Как мне воевода велел, так я и передал. И он оглянулся на Трофима. Трофим подумал и кивнул. Ксюха спросила: – Какой карла? Отродясь здесь карлы не было. Зачем нам карла? – Ой, Ксюха! – сказал Клим. – Зюзин тебя собакам скормит. – Я постная, – сказала Ксюха. – Ваши собаки постных не едят. – Ой, ой! – Не ойкай. И зачем нам карла? Какой с карлы прок? Карла девку не испортит. Вот кабы ты к нам приженился, да ещё с приятелем, мы бы тут завтра все брюхатые ходили. Так, девки? – Так! Так! – сразу послышалось вокруг. И опять они стали визжать, кривляться, махать руками и приплясывать. – Девки! – громко завизжала Ксюха. – А ну давайте испытаем их! Девки, валите Климку на меня! И она упала на спину, задрала ноги! Уродки вскочили! Клим шарахнулся назад! Трофим оказался впереди! Уродки на него надвинулись!.. – А ну! – крикнул Трофим и поднял кочергу. – Поубиваю всех! И они замерли! И отступили. Ксюха, уже сидя на лежанке и, не сводя глаз с кочерги, хриплым голосом спросила: – Что это у тебя? Откуда? – Царь дал, – сказал Трофим, – чтобы вас по горбам поучить. – Царь! – повторила Ксюха. – Ладно. А карлы всё равно здесь нет. Нет его здесь, я сказала! Пошли вон отсюда! А то как плюну – сам пойдёшь чирьями! И окривеешь! И ослепнешь! Ну! И она вскочила. От неё крепко разило перегаром. Её пучеглазые глаза стали ещё страшнее!.. А Трофим сказал: – Сядь, дура, не смеши людей. Щёки Ксюхи пошли пятнами. Она громко засопела. Трофим как ни в чём не бывало стал осматривать хоромину. В хоромине было темно. – Огня! – строго велел Трофим. Ему дали плошку. Он поднял её как можно выше, чтобы осветить углы. Но вокруг было полно уродок, их рожи были везде, или же их тряпки, развешанные вдоль столбов и на верёвках, тряпьё не давало смотреть. Уродки хоть и молчали, но тоже мешали, пялились. – А ну! – опять грозно сказал Трофим и поднял кочергу, шагнул вперёд, уродки расступились, Трофим взошёл на лежанку, мотнул плошкой и велел: – Убрать здесь всё! Иначе подпалю. Уродки стали сдёргивать тряпьё. Стало виднее. Трофим пошёл по лежанке, переступил на другую – лежанки там стояли сплошняком, одна к другой, десятка с два вдоль всей стены от окна до двери. Трофим шёл по лежанкам как по полу, светил плошкой и тыкал кочергой куда ни попадя, проверяя, не зарыт ли кто в тряпьё. Но никого пока не находил. – Климка! – закричала Ксюха. – Куда он в сапогах попёрся, боров?! – Ему можно, – сказал Клим. – Он из Москвы. Его сам царь позвал. Карлу вашего ловить, скотину. – Нет здесь никакого карлы! – Есть! И только Клим так сказал, Трофим ещё раз ткнул в тряпьё… И оттуда как кто-то завизжит! А после как подскочит! Махонький, вертлявый, в красном татарском халате, в жёлтой шапке – и как кинется бежать! Трофим – за ним! По лежанкам! Уродки снова принялись орать! Окно закрыли! Погасили свет! Трофим метался наугад, кричал: – Поубиваю, суки! Где карла?! И оступился, выронил плошку, плошка упала и разбилась, огонь разбежался по тряпкам, уродки кинулись его затаптывать. Трофим тоже затаптывал. Клим что-то орал, но с другой стороны, возле двери. Это он, понял Трофим, держит дверь, чтобы карла не выскочил, головастый Клим, подумалось Трофиму. Огонь уже затоптали, только было ещё много дыму и совсем темно. Уродки нарочно молчали. И тут сбоку брызнул свет! Это кто-то распахнул окно, потом туда же подсадили карлу, толкнули – и он провалился в окно – и выпал на ту сторону, исчез. Уродки стали хохотать, все сразу. Трофим кинулся к окну. Окно захлопнулось, опять стало темно. Уродки ещё пуще стали хохотать, хватать Трофима за ноги, за всё, что приходилось. Они хотели повалить его. Где-то сбоку орал Клим, что он поубивает всех. Трофим начал бить кочергой. Просто даже месить, а не бить. Уродки стали с визгом разбегаться. Трофим вскочил и снова побежал к окну, нащупал его в темноте, распахнул, подтянулся… А пролезть не смог! Окно было очень узкое. Трофим от злости заорал, стал бить по окну кочергой. Но тут к нему подскочил Клим, схватил за руку и крикнул: – Давай в обход! Через дверь! И на крышу! Трофим немного унялся. Клим развернул его и потащил к двери. Уродки орали просто несусветно, хватали их, хотели их порвать, сбить с ног… Да не смогли! Клим с Трофимом протолкались, выскочили в дверь, и там Клим заорал: – Налево! Там чердак! Айда! И они побежали налево.14
Через двойные сени они выбежали на галерею – гульбище – и посмотрели вниз, во двор. Внизу карлы не было, там вообще было пусто. Тогда они глянули вверх – и увидели, что карла ловко, как паук, лезет по стене наверх, на следующий этаж. А там окна были широченные, светличные, карла сейчас в такое вскочит – и ищи-свищи! Клим в досаде закричал: – Ага! Ну ладно! – и выбежал обратно в дверь, протопал в сенях и затих. Это он, понял Трофим, побежал вкруговую, перехватить карлу в светличных окнах. А Трофим остался. Примерился, встал на перила и глянул наверх. Карла – а чего ему, он лёгкий – лез по стене всё выше и выше, и уже почти добрался до светличных окон. Сейчас оттуда высунется Клим и его сцапает. И сто рублей – Климу. А вот хрен! Трофим размахнулся и ударил кочергой об стену, вбил её между брёвнами и подтянулся. Упёрся сапогом, опять ударил – и ещё поднялся. Стало веселей, Трофим хмыкнул. Карла, будто бы это расслышав, остановился, глянул вниз, увидел кочергу и, соступив немного, ударил по ней сапогом. Кочерга не поддавалась. Трофим засмеялся, вырвал кочергу и замахнулся. Карла проворно отскочил и так же проворно, по-паучьи, полез дальше вверх. Трофим, плюясь, полез за ним. Карла уже лез мимо светличных окон. Сейчас оттуда Клим полезет… Но Клима пока видно не было. Трофим долез до светлицы, обогнул окно, шапка на нём едва держалась, он поправил шапку. Снизу вдруг послышалось: – Давай! Давай! Трофим глянул вниз. Там стояли дворовые девки царицыного чина и кричали. Кому это они – мне или ему, – думал Трофим, упираясь сапогом в наличник. А карла лез быстро и ловко. Дальше будут чердачные окна, в них карла не просунется, думал Трофим, вот там и возьму его, только бы самому не сорваться. Снизу, из окна светлицы высунулся Клим, крикнул Трофиму: – Я сейчас! – и вновь пропал. Это он побежал на чердак, догадался Трофим. Но чем он там может помочь? Не пролезет он в чердачное окно, там даже карла не пролезет. Карла уже добрался до чердачных окон и сразу полез дальше, к крыше. Перегнулся и залез туда, пропал из виду. Трофим злобно сплюнул. Снизу закричали: – Не робей, Москва! Он возле трубы сидит! Давай! Трофим мельком глянул вниз. Там уже сошлась целая толпа поглазеть. Трофим, усмехнувшись, полез дальше. Снизу зычно крикнули: – Пыжов! Не подведи! Трофим опять посмотрел вниз. Перед толпой стоял Зюзин и смотрел, придерживая шапку, на Трофима. – Пыжов! – снова крикнул Зюзин. – Я тебя как учил?! А ну! Трофим, уже больше не оглядываясь, долез до крыши, зацепился за неё, повис, как червяк, поболтался, подтянулся и залез. Вот только с него свалилась шапка. Снизу сразу закричали: – Шапка! Шапка! Трофим лёг на крышу и громко дышал. В глазах потемнело. Карлы на крыше видно не было. – Он за трубой! – кричали снизу. – Левей! Давай! А как давать? Черепица была лакированная, скользкая, ухватиться не за что, черепицу везли из немецкой земли, по три рубля за штуку. Трофим, стоя на коленях, сделал шаг вперёд и поскользнулся. Карла выглянул из-за трубы и засмеялся. Трофим замахнулся кочергой. Зюзин снизу закричал: – Руби! Заплатим! Трофим ударил в черепицу, вогнал в неё кочергу, подтянулся. Карла перестал смеяться, отскочил. Трофим ударил ещё – и ещё подтянулся. Карла отвернулся и полез наверх. Карла скользил. Сто рублей скользят, думал Трофим, усмехаясь, убьётся – ста рублей не будет. И ещё раз рубанул, подтянулся – и ещё. Потом ещё. Ещё… Карла залез на самый верх, на конёк, сел на него и утёрся. Трофим ещё раз рубанул и подтянулся. Карла поднялся и встал на коньке. Трофим дотянулся рукой до конька. Карла сплюнул, пошёл по коньку к голове. Голова у конька была позолоченная, зубы оскаленные, уши прижаты, грива торчала во все стороны. Карла дошёл до головы, глянул перед собой вниз, во двор – и отшатнулся. Оробел карла, подумал Трофим. Высоковато, что и говорить, – и тоже встал на конька. И, расставив руки, пошёл к карле. Карла стоял к нему лицом и ждал. Трофим подошёл ещё и, мимо карлы, глянул вниз, во двор. Толпы там уже не было – вся толпа стояла в стороне, а внизу, почти возле стены дворца, стояли только стрельцы и держали на растяжку здоровенную холстину, саженей три на три, не меньше. В неё будут ловить карлу. Ну а если карла прыгнет мимо, тогда что? Зачем была вся эта маета? Трофим мягко сказал: – Васятка! Ты на меня не гневайся. Мне царь-государь велел, – и незаметно подступил на шаг. – Как мне было царя ослушаться? Никак! Вот я… А сам подумал: только бы не мимо! – и быстро ступил вперёд, ещё шире расставил руки, мотнул кочергой, оскалился! Карла шарахнулся назад – и оступился, сорвался вниз, и полетел, закувыркался, прямо на холстину. Трофим, подступив к коньковой голове, видел, как карлу схватили, скрутили и оттащили в сторону. Потом Зюзин глянул вверх, пожевал губами и резко махнул рукой. Трофим перекрестился – и прыгнул. И тоже попал в холстину. Его удержали, на него надели шапку, его стали хлопать по спине, подбадривать. Трофим был очень рад. Ещё бы: и кочерга была при нём, и руки-ноги не поломаны. Трофим соскочил с холстины, встал на землю, осмотрелся. Вокруг стояли стрельцы, все в белых шубных кафтанах – белохребетники, царская сотня. В одном месте они расступились, вперёд вышел Зюзин, строго глянул на Трофима и спросил: – Откуда ты такой? – С крыши, – ответил Трофим, уже чуя неладное. И не ошибся – Зюзин продолжал: – С какой крыши? Трофим показал на ту, с которой спрыгнул. – Так это же царицын терем! – грозно воскликнул Зюзин. – Как ты, пёс, туда попал? Как смел?! – Я… Это… – только и сказал Трофим. – Догоняли! Не заметили! Зюзин ещё раз посмотрел наверх, прибавил: – А как черепицу изгваздал! Сколько казне убытку! Трофим понял, что пропали его сто рублей, и вздохнул. Зюзин вдруг смягчился и сказал: – Ладно. Пока что не до этого, – отвернулся и позвал: – Овсей! Вперёд других вышел стрелец с карлой в руках, в охапке. Карла кусал губы и пыхтел. Зюзин вырвал у Овсея карлу, перехватил его одной рукой за шиворот и, так и держа перед собой, пошёл вперёд. Стрельцы раздались на две стороны. Зюзин велел Трофиму догонять. Трофим догнал, они пошли через стрельцов. За стрельцами стояла толпа дворовых. Зюзин остановился, поднял карлу над собой, потряс им как пустым мешком и начал выкрикивать: – Православные! Вот он, поганый пёс смердячий! Слыхали, что он брехивал? А вот он сейчас у нас одумается! Я его к царю снесу, и пусть он там расскажет, как оно на самом деле было! Зюзин пошёл через толпу к крыльцу. Трофим пошёл за ним, а за Трофимом – стрельцы. Толпа стояла и немо молчала. Карла вертелся в зюзинской руке, корчил рожи и пытался вырваться, да всё напрасно.15
Но опять пошли в покойную. Ставни там были уже составлены, окно открыто. Но всё равно свету в палате не хватало. Пора поздняя, ноябрь, думал Трофим, а снегу ещё толком нет. Зато было натоплено, как в бане. Зюзин поставил карлу на пол, но продолжал держать за шиворот, и с одобрением сказал: – Ого! Дров не жалели! – и спросил: – Кто здесь сегодня истопник? Один из стрельцов ответил, что Андрюшка. Зюзин засмеялся и прибавил: – Славно топит! Теперь будет всё время здесь топить. Вместо того Саввы. Савва не жилец! Да как и этот пёс. Сказав такое, Зюзин разжал пальцы. Карла свалился на пол, но тут же вскочил и гневно посмотрел на Зюзина. Зюзин его поддразнил: – Зыркай, зыркай! А всё равно ты уже не жилец. Такое всклёпывать на государя, аспид! Карла сердито ощерился. Но Зюзин уже не смотрел на него, а подошёл к закусочному столику. Столик был до самого пола накрыт дорогой парчовой скатертью. Карла вполне может под ней спрятаться, подумал Трофим. Зюзин опять заговорил: – Смотрите, православные, запоминайте. На царёв суд взираете! – И тут же окликнул: – Гришка! Вышел Гришка, скорописец, пощёлкал пером об ноготь. Зюзин кивнул ему записывать, оборотился к карле и велел назваться. Карла в сердцах ответил: – Василий сын Петров Карась. Голос у него был бабий. Гришка записывал, перо скрипело. Зюзин глянул на Трофима. Трофим сунул карле крест. Карла чмокнул крест и отвернулся. – Басурманин, – сказал Зюзин. – Сразу видно. Но ладно. Рассказывай! Карла, облизнувшись, начал говорить: – А что я ещё скажу? Я же уже рассказывал: эти стояли как столбы, вниз не смотрели, я мимо них прошёл, дверь приоткрыл, мне много не надо, я не жирный… – Стой! Стой! Стой! – перебил его Зюзин. И повернулся к стрельцам. Один из них выступил вперёд. – Иди вниз, – приказал ему Зюзин, – и приведи рынд этих, нелюдей. Пусть послушают, какая от них польза, как они службу несут, скоты! Стрелец вышел. Зюзин велел карле продолжать, и тот продолжил: – Вот я тогда сюда пришёл, никого здесь ещё не было. А я был с пирогом, с медовым. Я на поварне его взял. Укромно. И унёс. А тут сел под скатерть и сижу. Вдруг слышу – дверь открылась. После слышу государев голос, и он что-то выговаривает, очень грозно, но негромко. А второй голос только покашливает. Но я его сразу узнал, это царевич был. И вот подошли они прямо ко мне, к столу, встали. Вот здесь – царь, вот здесь – царевич. И, слышу, царь уже погромче говорит, что, может, надо бы велеть, чтобы принесли им сюда перекусу, а то он проголодался. А царевич ему в ответ злобно: не надо! И царь уже тоже со злом сказал: как это не надо, не учи меня! И посохом об пол бабах! А дальше ещё злее: что ты за привычку взял везде лезть вперёд?! Ничего ты ещё не понимаешь, не одолеть нам сейчас ляхов, надо с ними мириться, я к ним и послов уже послал… А царевич, тоже очень зло, в ответ: не стану я с ними мириться. Не хочешь, я тогда один на Псков пойду, ляхов побью, и псковитяне мне тогда… А царь ему: ах, так! А вот тебе! Бац ему посохом! Бац… – Врёшь! – крикнул Зюзин. – Брешешь, пёс! Наш царь зверь, что ли, чтобы на царевича кидаться? Да ещё с посохом?! – Так… – начал было карла. Но Зюзин уже продолжал, очень громко: – Опять брешешь! Царь не зверь! Да и не сказал бы он такого! Царь и не думал с ляхами мириться! Мы же тогда утром Сёмку Ададурова гонцом в Псков собирали, и что царь ему наказывал? Сёмка, скажи моим рабам, что я, царь-государь, их не забыл, а собираю войско, и с тем войском к ним приду! А вот царевич, тот, наоборот, шипел: нельзя ляхов дразнить, надо с ними замиряться, надо им Ливонию отдать, и Полоцк, и Нарву, и… Тут Зюзин вдруг замолчал и осмотрел всех, кто там был, а после снова повернулся к карле и, хитро прищурившись, сказал: – Так, говоришь, ты под столиком сидел? Под скатёркой? И слушал? Ну так опять туда залезь. А мы на это посмотрим. Карла повернулся к столику, приподнял угол скатерти, полез… И застрял. Чертыхнулся, ещё раз полез… И отступил, злобно выкрикнув: – Туда нельзя! Там доски! И в самом деле, теперь, когда скатерть была задрана, открылось, что под столиком набиты две широкие доски – крест-накрест. – Их там раньше не было! – добавил карла. – Я сколько раз туда лазил! – Как это не было? – сердито спросил Зюзин. – А это что?! – Это их кто-то прибил! Тогда их не было! Доски и в самом деле были новенькие, жёлтые. Но Зюзин всё равно сказал: – Брехня это. И все твои слова – брехня. Никто здесь ничего не прибивал. – Нет, не брехня! – крикнул карла. – Вот хоть у Спирьки спроси! Спирька здесь лет двадцать служит, он здесь каждую занозу знает! Зюзин обернулся, велел: – Клим! А ну давай сюда этого Спирьку! И живо! Трофим тоже обернулся и увидел: Клим стоит в двери. Вот Клим и нашёлся, подумал Трофим. Но Клим тут же поклонился Зюзину и вышел – за Спирькой. – Вот так, – продолжил Зюзин, снова обращаясь к карле, – сейчас мы тебя проверим, деревянная твоя башка. Брехать надо с умом. Сказал бы, что сидел под лавкой, и всё шито-крыто было бы. А так вот какая незадача – доски! Да не сидел ты здесь тогда и ничего не слышал! А я вот государя слушивал, когда он Сёмке Ададурову говаривал… И Зюзин опять начал молоть про то, как царь напутствовал Ададурова и говорил, чтоб тот сказал пскопским… Ну и так далее. Карла смотрел куда-то в сторону, за печь. Что-то нечисто здесь, думал Трофим, здесь кто-то – Зюзин или карла – брешет. Или даже оба. А вот рында не брехал, когда сказал, что здесь, в покойной, есть ещё вторая дверь. Вот это бы узнать наверняка, вот бы найти её, вот это важно! А доски что! Их, может, всего только час тому назад прибили. Клим прибил. Столик вчера был… А вот какой он был вчера? И была ли на нём эта скатерть? Или был рушник? Только Трофим так подумал, как открылась дверь и вошёл Клим, ведя перед собой Спирьку, государева комнатного сторожа. Вид у Спирьки был довольно бодрый, даже почти весёлый, он, наверное, был очень рад, что его вывели из пыточной. Ну да только ещё неизвестно, будет ли ему от этого какая польза, подумал Трофим, затыкая кочергу за пояс. Зюзин тут же окликнул: – Трофим! Трофим выступил вперёд и поднял целовальный крест. Спирька чмокнул крест, назвался Спиридоном, но тут же исправился: «Спирька». Зюзин на это усмехнулся и спросил, давно ли он здесь служит. Спирька уверенно ответил, что на Покров было семнадцать лет. – Всё ли ты здесь знаешь? – строго спросил Зюзин. – Всё. – И этот столик знаешь? – Знаю. – А эти под ним доски? – Доски тоже знаю. – Когда они здесь появились? – На прошлой неделе. При этих словах карла взвизгнул, но Зюзин велел молчать – и карла замолчал. Зюзин опять стал спрашивать: – Зачем здесь эти доски? – Столик расшатался, – сказал Спирька. – Царь велел досок подбить. Подбили. – Ещё до той беды? – До той, конечно. – Кто подбивал? – Иван Пень, светличный плотник. – Позвать Ивана! – велел Зюзин. Пошли за Иваном. Зюзин сказал Спирьке: – Вот это служба! Тебе за это моя милость: велю Ефрему, чтобы он тебе кнуты уполовинил. – После повернулся к карле и сказал: – Вот как надо служить, дубина. Понял? Карла молчал, опустив голову. – Вот! – продолжил Зюзин, с гордостью осматриваясь по сторонам. – Правда всегда наверх выйдет. А неправде срубим голову! Ты меня слышишь, пёс? Карла проворчал, что слышит. – Э! – сказал Зюзин, усмехаясь. – Кабы сразу рубить голову, это бы тебе была большая милость. А так я сперва велю перетереть тебя верёвками. Видал, как перетирают? А как варят в кипятке? Так и тебя, может, сварить? Да накормить свиней? Карла молчал. Тогда Зюзин сам ответил: – Свиньи не станут тебя жрать, побрезгуют. – И вдруг очень строго спросил: – Зачем брехал? Зачем на себя такой грех взял – царя порочил?! Карла шмыгнул носом и ответил: – Обидно мне стало, боярин. Пскопской я. Пожалел я Псков. Дай, думаю, скажу, вдруг царь послушает… – Болван! – строго сказал Зюзин. – Я же толковал уже: царь-государь стоит за Псков. Я, говорит, как только войско соберу, так и пойду на Псков и там королю Степану его мышиные усы повыдираю, чтобы моих пскопских не обижал! И Зюзин засмеялся. Спирька тоже засмеялся, но негромко. – А ты молчал бы, пёс! – грозно прикрикнул Зюзин. – Почему это у тебя здесь по палате невесть кто шастает, ворованные пироги под стол таскает и там их без спросу жрёт! А? Почему?! Лицо у Спирьки сразу пошло пятнами. – Ладно, – сказал Зюзин. – Придёт ещё и твой черёд. – И, повернувшись к карле, продолжал: – Ну а ты, если сюда давно повадился и часто здесь бывал, теперь скажи: не замечал ли тут чего нечистого? Карла подумал и ответил: – Замечал. – О! – сказал Зюзин. Осмотрелся и спросил: – И какой он из себя, этот нечистый? – Не рассмотрел, – сказал карла. – Он же всегда в углу сидит, за печкой, а там темно, – и указал, где именно. Трофим, как и все остальные, невольно посмотрел туда, куда указывал карла, но там опять было темно. Зюзин сердито хмыкнул и спросил: – Зачем он там сидел? – Как зачем? – воскликнул карла. – Чтобы царя убить! – Как это убить? – А очень просто! Вот так! И тут карла вдруг выхватил из рукава небольшой ножик и ткнул им себя в грудь, прямо в сердце! И упал. Зюзин с Трофимом кинулись к нему. Карла хрипел, у него изо рта шла кровавая пена. – Карла! – кричал Зюзин. – Зачем ты себя убил? Зачем опять набрехал?! Отвечай! Но карла только хрипел, плевался кровью и закатывал глаза. И вдруг затих. Зюзин поднялся, отряхнул руку об руку и зло сказал: – Вот гад! Нарочно сам себя убил. Чтобы я был виноватый. Открылась дверь, вошли стрелец и дворовой. Стрелец сказал: – Иван Пень, светличный плотник. Который доски прибивал. Дворовой поклонился. Трофим поднял крест для целования. – Уже не надо, – сказал Зюзин. – Злодей и так во всём сознался. И повинился. Пошли вон! Стрелец и дворовой поспешно вышли. Зюзин оглянулся, отступил и сел на лавку. Осмотрелся и мотнул рукой – очень размашисто. Все быстро потянулись в дверь. В покойной, кроме Зюзина, остались только Клим с Трофимом. И мёртвый карла лежал возле столика. Ковёр вокруг карлы был тёмный, в крови. Зюзин посмотрел на карлу и сказал: – А что! А если и вправду кто под столиком сидел? А после выскочил… – Рост у него малый, – сказал Клим. – Не дотянулся бы. – Сам знаю! – злобно воскликнул Зюзин. – А всё равно ведь кто-то был! Вот и Савва сказывал про тень за печью! А теперь и Спирька. – И вдруг, повернувшись к Трофиму, велел: – Чего стоишь? Ищи! Трофим промолчал, подумал: нужно вторую дверь искать, и я поискал бы, да ты разве дашь?! Зюзин, уже ещё злобней, продолжил: – Или сам Савва и убил. А что?! Позолотили ручку, и он убил. Или всё же карла? Или тот, из-за печи? – Может, и тот, – сказал Трофим. – Но тут надо ещё посмотреть. – Смотри, смотри! – сказал Зюзин. И вдруг со злостью прибавил: – Ладно! Так и порешим: смотри, пока светло! Пока солнце не зашло, смотри. А вечером вернусь, спрошу. К вечеру никого не найдёшь, сам за всё ответишь, так и знай! Выну тебе глаза, скотина! – и развернулся, и пошёл к двери. Но не успел он до неё дойти, как она вдруг распахнулась, и стрелец ввёл рынду Петра Самосея – того самого, который проболтался про вторую дверь. «Царица Небесная, – радостно подумал Трофим, – сейчас я у него всё вызнаю!» Да только куда там! Зюзин развёл руки, зачастил: – Эй! Уже не надо! Злодей уже во всём сознался. А этого веди обратно. И кнута им там всем для острастки! И всех выпустить! Так, с разведёнными руками, Зюзин и вышел в дверь и вытолкал перед собою рынду вместе со стрельцом. И дверь за ним закрылась. Трофим посмотрел на Клима. Клим спросил: – А что теперь? Трофим смотрел на карлу и молчал. Потом посмотрел на Клима и ответил: – Я бы водки выпил. – Это можно, – сказал Клим. – И это здесь недалеко. Я покажу. Трофим шагнул к карле и наклонился над ним. Голова у карлы была здоровенная, а глаза чёрные, навыкате. Глаза были безразличные, как у всех покойников, ничего в них нельзя было высмотреть. А какие глаза будут у него, когда Зюзин велит их достать? Трофим поморщился. – Айда, что ли, – сказал Клим, – не то водка простынет. Трофим закрыл карле глаза и вслед за Климом вышел из покойной. А карла так и остался лежать возле столика.16
Они вышли и пошли по переходу. По дороге им то и дело встречались рундуки, при рундуках стояли царёвы сенные сторожа с серебряными бердышами. Клим показывал овчинку, что-то тихо говорил, и сторожа расступались. Потом Клим и Трофим свернули в небольшие сени, за ними в ещё одни – и оказались в горенке, судя по запахам, рядом с поварней. Горенка была пуста. Они сели к столу. Открылась дальняя дверь, из неё вышел служитель, внимательно посмотрел на Трофима, недовольно мотнул головой и, уже обращаясь к Климу, спросил, подобру ли он пришёл. Клим ответил, что пока что подобру, и тут же сам спросил: – А что у тебя сегодня? – Всё, что хочешь, – ответил служитель. Опять глянул на Трофима и добавил: – Государь же не ест ничего. Не носили к нему даже. Всё здесь так и стоит, остывает. Сам не вкушал и боярам не дал. – И наш боярин тоже там, при государе? – спросил Клим. – Кто это ваш? – настороженно спросил служитель. – Теперь уже скоро всех наш! – со значением ответил Клим. Служитель на такую дерзость только сверкнул глазами, а вслух ничего не сказал, велел немного подождать, и вышел. Это они про Годунова так, подумал Трофим, ведь если царевич Иоанн преставится, то наследником станет Феодор, а Годунов ему шурин, вот он и станет всем «наш». Вошли служки, стали накрывать на стол. Стол был, конечно, пятничный, постный, но в то же время царский. Каких там только разносолов ни было! Трофим не сдержался и, указав на одну из диковин, спросил, что это такое. Клим со значением ответил, что это яблоко индейское, лимон, очень кислющее. И тут же прибавил: – Зато какая у них водка мягкая! После взял большой синий стеклянный кувшин, налил из него по шкаликам, сказал здравие царю с царевичем, и они выпили. Водка и вправду была сладкая, как мёд. Трофим придвинул к себе миску щей, щи оказались осетровые, и начал есть – не спеша, хоть и был крепко голоден. Клим взял калач, надкусил и задумался. Потом так же задумчиво сказал: – Карла горазд глотку рвать. На Псков пойти, ага! Так же и царевич говорил. Да-да! – уже сердито продолжал Клим. – Не слушай Зюзина, он тебе сейчас расскажет! А на самом деле было вот как: это царевичева выдумка, это он хотел идти на Псков. Ему что? Дело молодое, горячее. И он пошёл бы. Да государь не дал. Я, сказал, пока жив, сам буду решать! И послал к литве, к их королю Баторию, наших послов, мириться. А зачем так? Да затем, что это только у царевича в голове больше ничего не помещается кроме как Псков да Псков. А царь-государь Иван Васильевич весь белый свет сразу видит – от Аглицкой земли и до Опоньской, и от Полночного моря до Туретчины. Вот как царь должен смотреть! Свет на Пскове клином не сошёлся. Вон там же, рядом, наша Нарва как? А уже никак. Прохезали мы нашу Нарву. Теперь там шведы. Пока мы с литвой тягались, тут уже шведы набежали. Ям схапали, после Копорье, теперь Нарву. Так они скоро и под Новгород придут! Вот о чём сейчас надо думать: как шведов в Новгород не допустить, вот что важней всего. И царь так и подумал, и решил: надо послать к литве послов, сказать: так, мол, и так, твоё величество Степан Баторий, хрен с ней, с Ливонией, бери её, владей, а нам оставь Псков. А Баторий отвечает: мало! Тогда мы ему: а бери к Ливонии ещё Нарву в придачу, хочешь? – Как это Нарву? – с удивлением спросил Трофим. – Ты же говорил, Нарва уже не наша – шведская. – Воооот! В корень зришь! – сказал Клим. – А мы всё равно отдаём. Как свою. И вот когда Степан пойдёт на Нарву, он своё войско из-под Пскова выведет. И будет со шведами биться. Под Нарвой! Смекаешь? Передышка нам какая получается?! И пока литва будет со шведами биться, мы ещё войска туда подведём… Ну, понимаешь! Вот так и царь царевичу втолковывал. А тот ни в какую: сам пойду! Прямо сейчас! А царь… И Клим вдруг замолчал, откашлялся. И даже глаза отвёл. Трофим, немного помолчав, спросил: – И царь Иван тогда что? – Что, что? – будто не понял Клим. – Ну, это… – Посохом? Как карла набрехал? Так пойди и скажи Зюзину! Трофим, помолчав, сказал: – Зюзин сегодня сам ко мне придёт. И поморгал, как будто проверял, глаза ещё на месте или уже нет. Клим на это хмыкнул и сказал: – Ну, до ночи ещё вон сколько! А что делов? Сошёл к Ефрему, взял Савву… – Нет, – сказал Трофим, – не по-христиански это как-то. – Тогда что! Тогда помучайся! – насмешливо ответил Клим. – Трофимка-мученик! Трофим тяжело дышал, молчал. Клим тоже помолчал, потом сказал в сердцах: – Чего сопишь? Не сопеть надо, а искать! Вон у царя была беда какая! Тут тебе и ляхи, и литва, и шведы. Тут и от кесаря приехали. Антон Посевин, посол. От самого Папы, слыхал про такого? А царь-государь с ним сиживал и говорил. И уже выговорил то… – Но тут Клим спохватился, мотнул головой и сказал: – Много чего Папин посол царю наобещал. Посмотрим, что будет на деле. И вот когда Степан уйдёт под Нарву, мы тоже сможем идти на Ям и на Копорье. На шведов! И вот за это надобно до дна! С этими словами он опять налил. Взял свой шкалик, поднял и, через него глядя, продолжил: – А царевич заладил: Псков, Псков! Вот и оставь царство на такого. Трофим подумал и спросил: – А Фёдор разве будет лучше? – Фёдор! – с усмешкой сказал Клим. – А что Фёдор? Фёдор же будет не один. С боярами! – А… – начал было Трофим… Но Клим перебил его, сказал: – Да и не наше это дело. Наше дело – разыскать злодея. Знаешь, где его разыскивать? Трофим в ответ только хмыкнул. Клим насупил брови, промолчал. Выпил, взял калач, ещё раз надкусил его и стал пристально смотреть на Трофима. Потом недобрым голосом сказал: – А Зюзин не шутит. Зюзин как скажет, так и будет. Сказал: «глаза выну» – и вынет. Вот увидишь! – Если вынет, уже не увижу, – ответил Трофим, улыбаясь. Клим, не глядя на Трофима, пододвинул к себе миску и начал хлебать уху. Так же и Трофим – сперва доел щи, после карасей в пшене, после сморчков, после пирогов с горохом, раков, щуку чёрную верчёную, всё это запивая водкой. Да и Клим без дела не сидел, а только шваркал ложкой да покрякивал. А как только доел, сразу встал, сказал, что служба есть служба – и они опять пошли в покойную.17
Трофим шёл за Климом, смотрел ему в спину и думал, что перво-наперво надо разобраться вот с чем: есть вторая дверь в покойной или нет. Если она есть, тогда и в самом деле туда мог пробраться чужой и затаиться где-нибудь. Ну а если её нет, то никакого чужого там не было, и это царь царевича прибил, как карла и рассказывал. Карла сидел тогда под столиком, карла не врал, а доски уже после присобачили, чтобы ему веры не было. Вот так! Есть вторая дверь – надо искать злодея, нет – никого искать не надо, и так всё понятно. И что тогда дальше?! Куда идти и кому говорить? И на кого?! И язык не отнимется?! Поэтому Трофим шёл сам не свой, ничего вокруг не видя, и в душе молил: Боже Правый, сделай так, чтобы там была вторая дверь, сделай, Боже, даже если её раньше там и не было, а сделай! Вот что у Трофима в голове тогда кипело. Клим, шедший впереди, молчал и не оглядывался. Когда они подошли к покойной, там при двери стояли уже другие, незнакомые Трофиму рынды. Один из них хотел было спросить, куда это они лезут, и уже даже открыл рот, но глянул на Клима, напугался и застыл. Клим толкнул дверь, и они вошли. В покойной всё было по-прежнему – окно стояло незаставленное, возле столика лежал, лицом вверх, мёртвый карла. И было совсем нетоплено. Они подошли к столику. Трофим ещё раз посмотрел на карлу, перекрестился и сказал: – Не по-людски это. Прибрали бы. – Куда его теперь? – сердито сказал Клим. – Сам на себя руку поднял. Никто такого отпевать не станет. – Так что, он теперь всё время будет здесь лежать?! – спросил Трофим. Клим мотнул головой, промолчал, вернулся к двери, раскрыл её, кликнул подмогу. Вошли двое сторожей. Клим им велел забрать карлу. Они подняли его и понесли. Клим шёл за ними, говоря, куда надо нести – вниз, к Ефрему. Они вместе подошли к двери, и там Клим стал им что-то объяснять… Только тогда Трофим решился – и, даже не перекрестившись, шагнул к печи, а там за печь, туда, где нашли кочергу, и сразу подступил к самой стене, завешенной коврами, и начал простукивать её – быстрей, пока Клим не вернулся. Ещё быстрей. Ещё!.. И попал в пустоту! Нашёл, подумал он, вторая дверь! Злодей туда сбежал! Истопник правду сказал, не царь царевича прибил – злодей, надо искать злодея, лихорадочно думал Трофим, слава Тебе, Боже! Трофим ещё раз стукнул – и опять в пустое! Радость-то какая, Господи! Един Ты свят!.. Как вдруг из-за спины послышалось: – Что ищешь? Трофим обернулся. За ним стоял Клим. Клим усмехнулся, повторил: – Ищешь, спрашиваю, что? Трофим тоже усмехнулся и ответил: – Вторую дверь искал, вот что. И нашёл. – И тут же спросил: – Ты про неё раньше знал? Клим утвердительно кивнул. – А почему мне ничего не говорил? – Про неё никому знать не велено. – Да это как… – начал было Трофим. Но Клим поднял руку, Трофим замолчал, и Клим спросил: – Ты в Кремле, в государевых палатах, был? – Ну был. – И там как? Из царёвой опочивальни только одна дверь? – Одна. В крестовую. – Одна? – переспросил Клим насмешливо. Трофим молчал. Чего было сказать? Что из опочивальни есть вторая дверь, в чулан, а из чулана, минуя крестовую, в ближнюю комнату. И это что! А есть и ещё одна, третья дверь, из опочивальни – через сенцы и на лестницу, а оттуда вниз, в мыльню, а из мыльни сразу три двери – одна во двор, вторая под лесенку, а третья… Но дальше Трофим думать не стал, чтобы даже в мыслях не проговориться. А Клим сказал: – Вот видишь, и там не одна. А ты хочешь, чтобы государь сюда вошёл и как в мышеловку влез? Вот для того и сделана вторая дверь, чтобы такого не стряслось. – Зато через неё тогда кто-то вошёл! – сказал Трофим. – А после выскочил! – Если бы выскочил, мы знали бы, – ответил Клим. – Так с той стороны что, тоже сторожа стоят? – Какие сторожа! Дверь потайная. Если сторожей поставить, всё про неё сразу узнают. – А нет сторожей, в неё кто хочешь влезет! – Не влезет. В ней секрет. Секрет не знаешь – не откроешь. Сказав это, Клим оттеснил Трофима, подступил к стене, сунул руку под ковёр, там что-то щёлкнуло, другое что-то скрипнуло… Дверь приоткрылась. За ней была темнота. – Что там? – тихо спросил Трофим. – Чулан, – так же тихо ответил Клим. – А дальше ещё одна дверь. В закуток. Под лестницей. От закутка до рундука восемь шагов. При рундуке стоят шесть сторожей. Пять сторожат рундук, а шестой смотрит – всегда, глаз не сводя – только под лестницу, на потайную дверь. Это его служба. В тот день, в тот час, служил Марьян Игнашин. Марьяна после ставили к кресту, и Марьян показал, что никого там не было, никто в дверь не входил, никто из неё не выходил. И крест поцеловал на том. – Ну мало ли, – сказал Трофим. – Что мало?! – вызверился Клим. – Да у него сам Зюзин спрашивал! Кто это ему скривит?! Да и Марьян не из таких, чтобы кривить. Я за Марьяна… – Тут Клим замолчал, нахмурился, а после нехотя прибавил: – Вот почему тебе про эту дверь не говорили. Не открывали эту дверь тогда! Вот Зюзин и сказал: зачем, чтоб всякий пёс про неё знал?! – Я, что ли, пёс? – спросил Трофим. – Ну, – сказал Клим, – и я пёс тоже. А что ты думал? У Зюзина все псы. Трофим, помолчав, сказал: – А надо всё-таки сходить туда. Открой мне. – Ох! – сказал Клим. – Я-то открою. Мне что? А вот тебе… – Открой, я говорю! Клим пожал плечами, открыл дверь. Они вошли в чулан. Там было совсем темно. Клим шагнул дальше. Трофим шагнул за ним – на ощупь. Клим чем-то брякнул, что-то опять скрипнуло. Приоткрылась ещё одна дверь…18
Они вышли через эту, уже третью, дверь и оказались в тёмном закутке под лестницей. С одной стороны шёл свет. Трофим повернулся туда и увидел рундук. При рундуке сидели сторожа… И вдруг один из них, крайний, вскочил и повернулся прямо в сторону Трофима. Это, наверное, и был тот сторож потайной двери, и он услышал, как она открылась… Но в темноте он ничего не видел. Клим вполголоса сказал: – Я сам им всё скажу. А ты помалкивай. И первым вышел из-под лестницы. За ним вышел Трофим. Теперь уже все сторожа вскочили. Клим поднял красную овчинку так, чтобы она всем была видна, и сказал: – Мы по государеву делу. Сидеть! Я кому велел?! – прибавил он уже очень сердитым голосом. Они сели на свои места. Молчали и даже не шевелились. Только один из них, наверное, десятник, не утерпев, сказал с укором: – Климка, ты чего это?! – Климка в чулане водку жрёт, – строго ответил Клим. – Фрол Щербатый! Встань! Десятник, а это и был Фрол, нехотя поднялся. – Когда заступили? – спросил Клим. – С самого утра. – Все у тебя на месте?! – Все. – А где тогда Марьян Игнашин? – Так сегодня не его черёд, – ответил Фрол уже не так уверенно. Клим это сразу почуял! И грозно сказал: – Я спрашиваю, где он, а не чей черёд. Где, отвечай! Фрол молчал. – Запил, что ли? – спросил Клим уже без злости. – Нет, не запил! – сказал Фрол очень сердито. И ещё сердитее прибавил: – И не надо меня в это впутывать! Я и тогда здесь не стоял, я и сегодня на подмене. Я за Марьяна не ответчик. Про него к Никифору иди! – А что случилось? – спросил Клим. – А я откуда знаю?! – сказал Фрол. – Иди к Никифору и спрашивай. – Ну хоть не всё скажи! – Не велено болтать! – ответил, как отрезал, Фрол. – Иди к Никифору, я говорю. Он у себя сейчас. Здесь близко. Клим больше ничего не спрашивал, а только махнул Трофиму, и они, мимо того рундука, пошли по переходу. Вот так дела, думал Трофим. Тот, кто тогда за той дверью присматривал, теперь пропал. Неспроста это! И спросил: – Никифор, это кто? – Сторожничий Верхнего житья, – ответил Клим. – На царёвом верху за порядком смотрит. Зверь! Когда они, минуя сторожей, зашли к Никифору, зверем он не показался. Это был невысокий, заспанный человек, лицо помятое, бабье, бородёнка редкая. Лежал, прямо в сапогах, на лавке и подрёмывал. Увидев вошедших, сердито зевнул, сел на лавке, поискал шапку, надел, проморгался и спросил: – Чего вам? – Доброго здоровьичка, – вместо ответа сказал Клим. – Где его взять, здоровьичко? – ответил Никифор, зевая. – С того дня не разувался. Дома не был. Сплю в сапогах! Чего вам? – Розыск ведём, – сказал Клим. – Вот, из Москвы подмога. – И он кивнул на Трофима. Никифор стал рассматривать Трофима. После усмехнулся и сказал: – Подмога! А чем ты можешь подмогнуть?! – Я, – вдруг сказал Трофим, – могу много чего. Я тогда в Новгороде был, когда государь там гневался. – Э! – сказал Никифор. – Многие тогда там были. И я был. А тебя что-то не видел. – Значит, дело у меня было такое, чтобы на меня никто не зыркал. – Там только одно такое было! – Вот я его и делывал. Никифор посмотрел на Клима. Клим утвердительно кивнул. Никифор опять стал смотреть на Трофима. Клим прибавил: – Его сам царь велел сюда позвать. И я в Москву за ним ездил. – Ну, если так… – сказал Никифор и задумался. Трофим откашлялся и начал говорить: – Нам нужен сторож Марьян Петров сын Игнашин. Он на известном рундуке сидел и сам знаешь за чем приглядывал. Где он сейчас? – Зачем вам вдруг Марьян? – спросил Никифор. – Значит, нужен, если спрашиваю! – уже сердито ответил Трофим. – И это я пришёл спрашивать. А ты будешь мне отвечать, если не хочешь отвечать Ефрему. Никифор помрачнел. Снял шапку, помял её в руках, опять надел. И начал говорить в сердцах: – Чего вы к этому Марьяну привязались? Марьян как Марьян. И тогда, когда всё это утворилось, у вас, на вашей стороне, у нас тут было тихо, как в погребе. После оттуда прибегают вдруг – и сразу к Марьяну: что видел, что слышал?! А что он мог им на это сказать? Так и сказал, что ничего, и крест поцеловал на этом. И отвязались, и ушли. И всё. – Что всё? – строго спросил Трофим. – А дальше было что? – Время вышло, пришла смена, их с рундука сменили, и они ушли. И с ними и Марьян. Все по домам. – А дальше? – Дальше ничего. Пропал Марьян. Вчера должен был заступать, а не явился. И мы что? Пошли к нему, а хозяйка говорит: не знаю. – Что за хозяйка? – Да жена его. Не знаю, говорит, не приходил, я думала, он там, у вас, сказала. – Как это так? – спросил Трофим. – А он такой был. Домой не всегда возвращался. Бывает, как застрянет здесь, так по неделям вожжается. – Где застрянет? Никифор молчал. – Где?! – ещё раз спросил Трофим. – Куда он тогда ушёл? Никифор тяжко вздохнул и ответил: – Как куда? На ту половину, я думаю. Трофим посмотрел на Клима. Клим сказал: – На ту половину, на царицыну. Тут рядом, в среднем житье. – Что там за место такое? – спросил Трофим. Никифор помялся и ответил: – Возле Мастерской палаты. Там, где белошвейные мастерицы. А это ещё дальше. – Где? Как то место называется? Никифор не ответил. Трофим посмотрел на Клима. Клим помолчал и спросил: – Это у Мотьки, что ли? Никифор, поморщившись, ответил: – У неё. Клим покачал головой и сказал: – И не робел! Никифор усмехнулся и ответил: – От этого ещё слаще! – Ну и дальше что? – спросил Трофим. – Послали человека к Мотьке. А она сказала: нет, он к ней не приходил. Трофим спросил: – Крест ей давали целовать? – Ей? – переспросил Никифор. – Крест? – и тихо засмеялся. Трофим посмотрел на Клима. Клим спросил: – А сами вы его искали хоть? – А как же! – ответил Никифор. – Мы по дороге от нас к Мотьке все углы обнюхали, ощупали. И ничего нигде! Клим подумал и сказал: – Ладно, тогда сами сходим. И к Мотьке тоже. Но я те места плохо знаю. Дай нам кого-нибудь, чтоб указал, как к ней пройти. – Сами найдёте, не бояре, – сердито ответил Никифор. – Да и чего там искать? Сперва до Мастерской палаты, это просто, после налево вниз по лесенке, к тем мастерицам, к их жилью, и там спросить, чтобы позвали Мотьку. Мои тоже дальше не совались, а через мастериц её позвали, и она к ним вышла. Пьяная! Под глазами черно! Нет, говорит, Марьяна не видала. И не знавала, говорит, никакого Марьяна никогда вовек! Какой ещё Марьян? И в крик! И голосить! Чуть унялась. И Никифор широко перекрестился. Клим хмыкнул и сказал: – Не видела! Плохо спрашивали, вот что. – Иди и спроси лучше, умник! – И спрошу! Трофим, айда! И они, не попрощавшись, вышли от Никифора. Отошли немного от двери, и Трофим, не сдержавшись, спросил: – А Мотька, это кто такая? – Царева зазноба, вот кто! – нехотя ответил Клим. – Не приведи Господь! И замолчал. Трофим тоже ни о чём не говорил. Шёл, вспоминал про Мотьку. Правда, ничего он толком про неё не знал, а так, иногда только слышал урывками, как кто-нибудь поминал про одну бабу, которая как будто бы царя околдовала. Трофим всегда думал, что это брехня и не обращал на те слова никакого внимания, а вот поди ж ты!.. И тут Клим опять заговорил: – Вот ещё и этот Марьян, нам тоже очень подходящий. Ты смекай! Можно сказать, что это он из той двери выскакивал. И что! И он не отопрётся! Он же пропал. Где, спросят, пропал? А так вот прямо и сказать: к Мотьке пошёл и пропал. А они про Мотьку, ох, не любят! Даже Зюзин. А Мотьку, хоть она и ведьма, можно упросить, мастерицы с ней дружны, а ты мастерицам глянулся. – Когда это?! – с удивлением спросил Трофим. – А когда карлу ловил! А они тебя всем скопом лапали. – Так то разве были мастерицы? То уродки! – Уродки и есть мастерицы, – сказал Клим. – Или ты думал, что их тут держат для забав? Для забав у нас других найдут: румяных и толстых. А для белошвейных дел, для златошвейных только уродки и годятся. У уродок к красоте больше чутья, чем у кого, и в мастерицы только уродок и берут. Я был у них однажды в Мастерской палате. Красотища! Иной рушник в триста рублей цены, всей мастерской его работают. Три года! А после – бац! – придут и заберут, и поднесут татарину, татарин свезёт в Крым, там ханша его…19
И тут вдруг раздалось: – Эй! Клим и Трофим остановились. Из бокового перехода вышли сторожа, их было пятеро, не меньше, у одного был горящий светец. Он им посветил сначала на Клима, после на Трофима, почти в самые глаза, спросил: – Пыжов? Трофим? Трофим утвердительно кивнул. – С нами пойдёшь. К боярину. – Я… – начал было Трофим, но Клим дёрнул его за рукав, и Трофим замолчал. Сторож поднял светец над головами и велел идти. Трофим повернул туда, откуда вышли сторожа, а Клим остался на месте. Трофим со сторожами шёл по переходу. Шли, поворачивали, снова шли. Сошли по лестнице на нижнее житьё, после опять взошли на верхнее. Трофим спросил, к какому боярину они идут. Ему не ответили. Но почти сразу повернули в небольшие сени, там дальше была дверь, при ней стояли рынды. Один рында открыл дверь, второй содрал с Трофима шапку. Трофим шапку выхватил и быстро убрал за спину, переступил через порог… И поклонился – в пояс. Перед ним, на мягкой лавке, в просторном халате, в золочёной малой шапочке сидел боярин Борис Годунов. – Явился! – сказал Годунов, да так, что было непонятно, хорошо ли это. Трофим на всякий случай поклонился ещё раз. – Ладно, ладно! – сказал Годунов. – Твоё дело не поклоны бить, а злодеев сыскивать. Сыскал? – Ищем, – ответил Трофим. – Искать можно до весны, – сказал Годунов. – Тебе какая честь была! Сам царь-государь за тобой послал, а ты что? Трофим молчал. Годунов продолжил: – Твоё счастье, что царю пока не до тебя. А кабы стал спрашивать, что бы я ответил? Да ничего. Ну, сказал бы: нашли кочергу. Государь спросил бы: что за кочерга? А я ответил бы: не знаю, государь, стояла за печью. В кровище вся и волосы на ней налипшие. Длинные. Так? Трофим согласно кивнул, а сам подумал, что какие теперь волосы, пообрывались все давно, когда он с ней по крыше лез, крушил черепицу. Годунов опять заговорил: – Я про эту кочергу сегодня весь день думал. Откуда она там взялась? Ума не приложу. Кто её туда занёс? Зачем? Неспроста всё это. Говоря это, Годунов ещё и усмехался. А, подумал Трофим, вот ты как, из меня ещё болвана строишь, и сказал: – Так там же есть ещё одна, вторая дверь, за печью, вот кочергу через неё и принесли. – А! – ничуть не удивляясь, сказал Годунов. – Так ты про ту дверь уже знаешь? – Знаю. Годунов утёр ладошкой губы, облизал их и опять утёр. Сказал: – И я на эту дверь тоже грешил. Тоже думал, что нечисто там. А Зюзин говорил… И вдруг замолчал. Усмехнулся и сказал: – Да что Зюзин! Мы и своим умом управимся. Ведь так? Трофим молчал, думал, что это Годунову хорошо так говорить. Он сейчас, может, в силу входит, особенно если старший царевич… Ну да. И дальше Трофим даже думать не стал. А Годунов спросил: – Чего вы вдруг Марьяна начали искать? – Какого Марьяна? – Ты у меня смотри! – строго сказал Годунов. – Думаешь, я ничего не знаю? Знаю! Марьян за той дверью присматривал, а после крест поцеловал на том, что ничего не видел. И вдруг пропал! С чего бы это? Трофим не ответил. – А кочерга возле печи стояла! – продолжил Годунов. – На кочерге кровь и бабьи волосы. Что за волосы и что за баба? Или не баба, а сам знаешь кто! И почему Марьян пропал, теперь смекаешь?! Трофиму стало жарко, он аж головой мотнул. – Вот-вот! – продолжил Годунов. – А ты как думал? – И вдруг велел: – Дай кочергу! Трофим достал кочергу из-за пояса. Годунов взял кочергу и только глянул на неё, как тут же воскликнул: – Э! – и сразу же спросил: – А где кровь? Где волосы? – Так это… – начал объяснять Трофим. – Я с ней на крышу лазил… – Зачем?! – Карлу было велено поймать… – Поймал? – взъярился Годунов. – А что дальше?! Да и зачем нам карла?! Карла – известное брехло, какой с него толк? А кочергу ты с умыслом испортил! – уже спокойней сказал он. – Чья была кровь на ней? Ну?! Отвечай! Трофим молчал. А что тут было говорить! А Годунов, усмехаясь, продолжил: – Я в тебе сразу измену почуял. И говорил Зюзину. Ну да о Зюзине мы ещё вспомним. А пока что отвечай, кто тебя к нам подослал? Что тебе Матрёна говорила? Сколько тебе Нагие посулили, а? – Государь боя… – начал было Трофим. – Цыть! – приказал Годунов. Ещё раз осмотрел кочергу, положил рядом с собой, сказал: – Да и чего теперь болтать? Теперь уже поздно. Виноват ты или нет, а мне уже пора ответ держать. Вот я и отвечу: был грех, стакнулся Трофим со злодеями, подкупили они его, и он кочергу затёр, чтобы следов на ней не было. Трофим молчал. Во рту всё пересохло! Но он сглотнул раз, другой, немного полегчало, и он сказал: – Бес меня попутал, государь боярин, с этой кочергой. Да и она здесь, может, ни при чём. – Как это? – удивился Годунов. – С чего ты взял? Кочерга, а на ней кровь. Чья кровь? Царевича! Ибо злодей царевича той кочергой… Так? – Может, так. А может, и не так, – сказал Трофим. – Потому что если бы злодей бил кочергой, он бы её после просто отбросил и сбежал в ту дверь. И кочерга на полу бы валялась. А так она стояла к стенке прислонённая. – Так, может, её после кто-нибудь поднял и прислонил, – сказал Годунов. – Да и кровь на кочерге была откуда? И чья кровь? Зачем ты кровь затирал? Злодея покрывал? Так? Нет? – Кураж меня взял, – сказал Трофим. – Хотел карлу достать. Ну, и увлёкся. Винюсь. Годунов на это только хмыкнул. Трофим продолжил: – Государь боярин! Мне воевода сроку дал до ночи. А ночью, сказал, глаза вынет, если никого не приведу. Пособи мне, государь боярин! Я, чую, на злодея вышел. Совсем мало мне осталось – и возьму его. Мне только нужно ещё посмотреть кое-где. Да кое-кого попытать. И тогда наверняка скажу. Тебе первому скажу, боярин! – Ну мне-то это что, – ответил, усмехаясь, Годунов… И вдруг стал смотреть на Трофима. Смотрел долго, пристально. Трофим глаз не отводил и не моргал. Годунов, не сдержавшись, мотнул головой и сказал: – Ну, не знаю, что и говорить. – Ещё подумал и спросил: – Так, говоришь, до ночи тебе срок? До ночи можно подождать, это уже недолго. – А до утра? – спросил Трофим. – До утра воевода не даст. А где думаешь искать? Кого допытывать? – Перво-наперво Семёна Ададурова хочу взять в розыск, – ответил Трофим. – Вели взять Ададурова, боярин. Он, чую, дело скажет. Он там был! – Ладно, – подумав, сказал Годунов, – будь по-твоему. Повернувшись к двери, два раза хлопнул в ладоши. Открылась дверь, показался стрелец. Годунов велел, чтобы привели Ададурова, и живо. Дверь закрылась. Годунов сидел на мягкой лавке и смотрел то на Трофима, то в окно. За окном темнело. Окно у Годунова было большое, прозрачное, почти как в покойной палате. Трофим стоял столбом, не зная, куда глаза девать, и думал, что Годунов прав, потому что как это Трофим такое вытворил – испортил кочергу! Ведь если её знающему человеку показать, он бы сказал, и чья там кровь, чьи волосы, а по волосам сказал бы, чьи они – с живого или с мёртвого, и для чего та кочерга… Да что и говорить! Теперь-то уже поздно. Теперь пропала кочерга, а с ней и сам Трофим. Хотя, может, кочерга здесь ни при чём, потому что, в самом деле, если бы злодей бил кочергой, он её после что, на место ставил? Нет, конечно! Но отвечать будет Трофим. Так что теперь хотя бы Ададуров не подвёл! И вот открылась дверь, стрельцы ввели Ададурова и сразу же вышли. Ададуров не спеша снял шапку и поклонился Годунову – сдержанно. Годунов кивнул ему в ответ. Ададуров глянул на Трофима. Годунов сказал: – Вот, человека нам прислали. Из Москвы. Трофим Пыжов. Подьячий. – Стряпчий, – несмело поправил Трофим. – Стряпчий, – согласился Годунов. – Из Разбойного приказа. Князя Михайлы человек. Поручили ему разыскать, кто, сам знаешь, кого чуть не убил до смерти. А он взялся разыскивать и оробел, запутался. Или запутали? Трофим, отведя глаза, молчал. – Запутали, запутали! – повторил с усмешкой Годунов. – Долго ли его запутать? Но ты уж пособи ему, Семён. Ададуров опять посмотрел на Трофима. Смотрел очень важно, надменно. Трофим достал из-за пазухи целовальный крест и шагнул к Ададурову. Тот посмотрел на крест, потом на Трофима и строго спросил: – Ты кому это суёшь?! – Стольнику Семёну Ададурову, – как можно спокойней ответил Трофим. – Зачем? – Чтобы он ответствовал, как на духу, без утайки. – И это верно, – сказал Ададуров, повернулся к Годунову и спросил: – Чего он хочет? – Чего? – спросил Годунов, обращаясь к Трофиму. – Я одного хочу – сделать розыск, – ответил Трофим. – А для этого я должен знать, что тогда было в покойной палате, когда стольник Семён… – Да! – перебил Трофима Годунов. – Рассказывай, Семён, как оно было. Даже с самого начала рассказывай, чтобы ясней представилось. – Да чего там неясного, – ответил Ададуров громко, но уже не так сердито. – С самого утра у государя в комнатах сидели. Да и ты там тоже был, боярин, и всё слышал. Вот там царь и велел мне ехать в Псков. Так было? Годунов кивнул, что так. – Ехать велел, а грамоту пока не дал, – продолжил Ададуров. – Сказал, даст после, а пока иди. И я пошёл. Пришёл к себе и велел собираться. И вот только меня собрали, уже стало темнеть, меня вдруг опять зовут. Говорят: царь с царевичем пошли в покойную, и велели меня туда кликнуть. Я пошёл. И вот захожу, и вижу: царь сидит за столиком. А царевич ходит по светлице. И сам красный-красный. – Молчат? – спросил Трофим. – Молчат, – подтвердил Ададуров. – Я захожу, снял шапку, поклонился. Царь говорит: мы тут с царевичем поговорили и решили, что… И вдруг Ададуров замолчал. Трофим не удержался и спросил: – Решили что? – А вот этого я сказать не могу, – ответил Ададуров. – Я государю слово дал. И крест поцеловал молчать. А государев крест – это не твой, это повыше будет. И он усмехнулся. Трофим посмотрел на Годунова. Годунов только пожал плечами – мол, что тут поделаешь. – Ладно, – сказал Трофим. – А дальше что? – А дальше, – всё так же с усмешкой сказал Ададуров, – государь спросил, запомнил ли я то, что он сказал, и я ответил, что запомнил. Он спросил, крепко ли, и я ответил, что крепко. Он тогда сказал: «Ступай!», и я от них вышел. Вот и всё. – Нет, не всё, – сказал Трофим. – А что ещё? – А то, что вышел, обернулся и плюнул. – Как плюнул?! – вскричал Ададуров. – Так, очень просто. На пол. И сапогом растёр. – Не растирал я! – ещё громче крикнул Ададуров. – Но плевал же? – спросил Годунов. Ададуров ничего не отвечал. Тогда Трофим сказал: – Плевал. Рында Пётр Самосей крест поцеловал и показал: плевал. – Ну?! – ещё строже спросил Годунов. – Был грех, – чуть слышным голосом ответил Ададуров. Глаза у него бегали, губы дрожали, щёки пошли пятнами. – Эх, Сёма, Сёма, – сказал Годунов. – На государевы слова плевать – я даже не знаю, как это называется. – Боярин! – вскричал Ададуров. – Да не на государя я! Да поперхнулся! Да… – Молчи, – строго сказал Годунов. – После сам всё государю объяснишь. Про то, как поперхнулся расскажешь. От государевых слов поперхнулся. Ну-ну! И повернулся, и хлопнул в ладоши. В двери показался стрелец. – Этого, – и Годунов кивнул на Ададурова, – к Ефрему. – Боя-рин! – заныл Ададуров, хватая Годунова за руки. Годунов от него отстранился. Стрелец схватил Ададурова и потащил к двери. Ададуров почти не противился. Когда дверь за ними затворилась, Годунов сказал: – На государя плюнул! Что же государь сказал такого, что он расплевался? Трофим молчал, будто не слышал ничего. Годунов опять заговорил: – А у тебя нюх, Трофим. Почуял! Теперь я понимаю, почему царь тебя призвал. Ещё бы! Трофим опять промолчал. Стоял, не шевелясь, и смотрел в пол перед собой. Годунов вдруг сказал: – О! Смотри! Трофим поднял голову. Годунов указывал на окно. За окном шёл снег. Годунов сказал: – Добрая примета. Все следы будут видны. – И вдруг спросил: – А ты чего стоишь? А то ведь скоро ночь. Зюзин придёт, будет тебе глаза выкалывать, если никого не сыщешь. – Я, это… – начал было Трофим. – Знаю, знаю! – перебил его Годунов. – Вы на царицыну половину собирались, к Мотьке. – Ну… – только и сказал Трофим. Годунов, усмехнувшись, продолжил: – А что! Марьян же пропал. И люди везде говорят, что он пошёл к Мотьке и там как куда провалился. Вот только сама Мотька говорит, что он к ней не приходил, она его не видела. И куда он мог пропасть, она не знает. Так что, я думаю, может, его уже на свете нет. А нет из-за того, что он что-то видел, может, как кто туда входил, в покойную, через ту дверь. А может, и не видел ничего, и зарезали его совсем не потому… Ну да ты сам про это всё услышишь. От Мотьки. Потому что ты сейчас туда пойдёшь! – Да как мне туда пройти? – сказал Трофим. – Кто же меня туда пустит?! – А как ты раньше проходил? Через Карпушу? – спросил Годунов, усмехаясь. – За три алтына. – Но тут же засмеялся и продолжил: – Ладно! А теперь пойдёшь задаром. Отсюда всё время прямо, выйдешь на медный рундук, там тебя пропустят, я велел, чтоб пропустили, и дальше опять пойдёшь прямо, выйдешь к мастерицам, и у них спросишь про Мотьку. Придёшь к Мотьке… – И вполголоса спросил: – Знаешь, кто она такая? Трофим утвердительно кивнул. – Вот и славно, – сказал Годунов. – И у неё всё узнай. Всю подноготную! Как хочешь узнавай, но чтоб узнал! И сразу ко мне обратно. Чтобы до полуночи вернулся! И чтоб никто про это не пронюхал! И я тогда замолвлю за тебя у Зюзина. А попробуешь сбежать… Да не попробуешь, я чую. А теперь ступай. И чтобы в полночь был обратно. С вестями! А вестей не будет – перетру верёвками. Сам! Вот этими руками! – И он потряс кулаками. – А пока ступай. Трофим поклонился и вышел. В сенях надел шапку и подумал, что может и вправду бежать бы, потому что хуже всё равно не будет – некуда.20
Но не стоять же на месте! Трофим вышел из сеней и пошёл прямо, как ему было велено. В голове гудело. Ещё бы! Глаза вынут или перетрут верёвками. Какая разница, думал Трофим. Эх, если б знал, не открывал бы или велел Гапке открыть и сказать, что он запил, третий день домой не кажется, они и ушли бы… Да что и говорить, думал Трофим, идя дальше по переходу, хуже было только десять, нет, уже больше лет тому назад, когда его послали в Новгород. Вот тогда была беда так беда, а тут что, тут даже полбеды не наберётся. Подумав так, Трофим заулыбался, ему стало легко дышать. Тут он как раз дошёл до тупика, свернул – и увидел свет, а на свету рундук, обитый медью. При рундуке сидели четверо стрельцов-белохребетников. Крайний из них, с бердышом, сразу вскочил и заслонил Трофиму путь. Трофим остановился. Но от рундука тут же сказали: – Не замай! Стрелец убрал бердыш. Трофим обернулся на сидящих. Один из них сказал: – Пыжов! Покажи ухо! Трофим сдвинул шапку, показал. Стрелец велел пройти. Он прошёл через рундук и пошёл дальше. Ухо ему обкорнали в ту зиму, когда он, по доносу, ездил в Новгород. Донос был про подпиленные гири, вот какое было дело. Сколько времени с того прошло! Тогда боярина Михайлы над ними ещё не было, Приказом заправлял думный дьяк Дружина Вислый, душевный, между прочим, человек. Таких теперь не сыщешь… И тут Трофим сбился с мысли. Переход разделился на два рукава, а боярин велел идти прямо. Трофим подумал, что вправо – прямее, и свернул направо. Теперь он ни о чём уже не думал, а шёл и сторожко прислушивался. Но ничего слышно не было. Это плохо, когда совсем тихо, подумал Трофим. Это значит, что кто-то затаился. А что такое убить человека? Ткнул шилом сзади под лопатку – и готов. И даже если промахнёшься, то всё равно с лопатки соскользнёт и куда надо вопьётся. У Трофима тоже было шило, но пока он станет за ним нагибаться, доставать из-за голенища, ему можно не только в спину ткнуть, но и по горлу полоснуть, а после сунуть тот нож в руку, сжать пальцы – и после в розыске сказать, что это он сам себя зарезал. Так часто делают, а потом не сознаются, а зачем? Надо только оттерпеться, надо знать закон, что больше трёх висок не бывает, три раза подняли на дыбе, три раза прошлись кнутом, три раза промолчал – и не виновен! Вот какое это дело дыба – красота! Сколько злодеев так ушло через неё, и ничего не поделать, поэтому, думал Трофим, надо всегда… И остановился, замер. Слева кто-то чуть слышно дышал. – Эй! – тихо окликнул Трофим. – А ты кто? – с опаской спросил этот кто-то. Голос был бабий, тонкий, молодой. Трофим наклонился к голенищу, полез за шилом и сказал: – Меня Трофимом звать. Я из Москвы. Ищу Ксюху белошвейку, она меня знает. – Зачем она тебе? – спросил тот голос. – И зачем шило берёшь?! Тьфу ты, пропасть, подумал Трофим, как она в такой темнотище ещё что-то видит?! И сунул шило обратно, сказал: – Оробел я, вот и взял. – Ладно, – сказал тот голос. – Давай руку. Трофим дал. Чья-то рука – тоненькая, хилая – взялась за него, потащила к себе. Трофим не противился и подступил. Та рука потащила ещё. Трофим пошёл за ней. Шёл и думал, что так и Марьяна, может, повели, а после зарезали и сбросили в подклет. Вот где его надо искать – в подклете. Трофим остановился и спросил: – Ты куда меня ведёшь? – Куда ты и велел. И привела уже. И в самом деле, та, которая его вела, толкнула дверь – и дверь открылась. Трофим опять увидел ту самую горницу, в которой они с Климом ловили карлу, а уродки им мешали. Но теперь там было тихо и никого не видно, хоть свету было достаточно. Везде было прибрано, нигде ничего не валялось. Та баба, или та девка, которая открыла дверь, посмотрела на Трофима и сказала: – Заходи. Девка была как девка, не уродка, разве что горбатая. Трофим обошел её и зашёл в горницу. Дверь за ним тут же закрылась. Трофим остановился, осмотрелся. В дальнем углу, у стены, сидела Ксюха. Она была всё в той же красной душегрее, и волосы на ней опять были всклокочены, только они теперь были не синие, а жёлтые. – Помогай Бог, – сказал Трофим. Ксюха, ничего не отвечая, отвернулась. Трофим подошёл к ней, сел напротив. Ксюха стала смотреть на Трофима. Смотрела очень настороженно. Трофим спросил: – Оробела? – А чего робеть, – сказала Ксюха. – Я не убивала никого. Чужого не брала. Зла не желала. И шмыгнула носом. Нос был великоват, чего уж там. Но это не его забота, тут же подумал Трофим и сказал: – Я к тебе опять по делу. Ксюха растянула губы. Это она так улыбается, подумал Трофим. А как глаза загорелись! Ведьма! Трофим сделал вид, что он тоже улыбается, и продолжал: – Прибрал чёрт карлу. Сам зарезался. Ну да не нам его судить. Никто не знает, что нам самим будет. – И вдруг спросил: – Ты в Мастерской давно? – Да уже лет с десять, – ответила Ксюха. – Небось всех тут знаешь. – Ну, может, и не всех, – ответила Ксюха, – но тех, кто на виду, тех знаю. – Марьян Игнашин на виду, – сказал Трофим. Ксюха даже глазом не моргнула, но и ничего не ответила. Трофим усмехнулся, продолжил: – Значит, на виду Марьян. И ты его знаешь. – Он к нам не захаживал, – сказала Ксюха. – А если не к вам, тогда куда? – Я за ним со свечкой не ходила. – А почему? – быстро спросил Трофим и так же быстро схватил Ксюху за руку. Ксюха попыталась вырваться – не получилось. Трофим крепко держал её, под пальцем чуялось, как бьётся жилка – быстро-быстро. – Ну? – строго спросил Трофим. – Куда он хаживал? – Отпусти, – тихо сказала Ксюха. Трофим отпустил. Ксюха убрала руку, отдышалась. Трофим спросил: – Куда Марьян ходил? – Дальше, до угла, после налево. – Кто там? – Весёлые девки. Трофим прислушался, сказал: – Что-то у них тихо. – А откуда будет шум?! – сердито ответила Ксюха. – Беда у нас! Царевич при смерти, царь-государь великий князь печалится, какое уже тут веселье. Вот девки сидят и молчат. Все трезвые. А раньше, бывало, как напьются, как пойдут плясать… – Зависть брала? – спросил Трофим насмешливо. Ксюха посмотрела на него, сказала: – Эх! – и опустила голову. Помолчала и, не поднимая головы, продолжила: – Боярин приходил к ним и стращал, чтоб не шумели. Суки, так и говорил, не то… Ну да тебе это знать незачем. – Что незачем? И почему? – Потому что это бабье. А после, сказал боярин, опять будет всё по-прежнему. А пока велел терпеть. И они терпят. – И Марьян к ним пошёл и там пропал? – спросил Трофим. – Не знаю! – А почему ты моим словам не удивляешься? Что, ещё раньше знала, что Марьян пропал? – А то нет! – сказала Ксюха, раздвигая губы. – Про это все говорят. – А что Мотька говорит? – Какая Мотька? – Ксюха! – укоризненно сказал Трофим. – Не смеши людей. Про Мотьку кто не знает?! – Я! Трофим смотрел на Ксюху. Ее всю затрясло, глаза засверкали, рот, и без того кривой, ещё сильней перекосился. – Ксюха! – быстро прошептал Трофим. – Ты что?! И снова схватил её за руку, и за вторую, и сжал. Ксюха успокоилась. Смотрела на Трофима и молчала. В глазах у неё были слёзы. – Вот и славно, – продолжал Трофим. – Не надо этого. Ты же мастерица, говорят, такая, каких нигде нет, даже в Цесарской земле. Ксюха сквозь слёзы улыбнулась. Трофим продолжал: – Покажи мне свои рукоделия. Ксюха перестала улыбаться и сказала: – Отпусти. Трофим отпустил её руки. Ксюха тут же убрала их и сказала: – Не криви. Не нужны они тебе. Тебе нужна Мотька. – Мотька? – насмешливо переспросил Трофим. – Да у меня этих Мотек в Москве… – Но спохватился и сказал: – Мне надо дело делать. Вот! – и достал овчинку, показал, после положил на место и продолжил: – По государеву делу пришёл. И я знаю: тебе всё известно. Дам двадцать рублей за это! – Двадцать? – переспросила Ксюха. – Двадцать! И больше дал бы, но нет ничего. Ксюха помолчала, горько усмехнулась и сказала: – Эх, дурень, дурень. Я бы тебе даром всё сказала: и про Мотьку, и про Марьяна, и про кочергу… А теперь ничего не скажу, хоть убей! – За что?! – За твои двадцать рублей! Свинья! – Ксюха! – сказал Трофим. Ксюха посмотрела на него, похлопала глазами и сказала: – Ладно! Обещала не сказать – и не скажу. А к Мотьке… Ладно, проведу, и дальше уже сам выпытывай. Пошли! Она встала с лежанки. Трофим встал за ней, и они пошли из горницы.21
Дальше они пошли по переходу. Темнотища была несусветная, Трофим ничего не видел. Ксюха шла впереди, держала Трофима за руку и то и дело дёргала её, чтобы Трофим шёл быстрей. Рука у Ксюхи была хоть и костлявая, но жаркая. Сначала они шли прямо, после повернули, поднялись по лестнице на верхнее житьё, к светлицам, как догадался Трофим. По светличному житью они тоже прошли немного, два раза повернули и остановились. Там Ксюха осторожно постучала в дверь. Дверь, хоть и не сразу, но открыли – наполовину, даже меньше, и из-за неё высунулась сенная девка – крепкая, высокая, глянула на Ксюху, после на Трофима и спросила про него, кто это. – Сам скажет, – ответила Ксюха. – Надёжный. К твоей. Девка ещё раз посмотрела на Трофима и посторонилась. Трофим вошёл. Девка сразу же закрыла за ним дверь, привалилась к ней спиной и опять стала разглядывать Трофима. Потом спросила, как его зовут. Трофим назвал себя и тоже стал осматриваться. Это были маленькие сени с лежанкой в углу. На полу лежал ковёр, и стены все были в коврах. В углу светила золочёная лампадка. Сенная девка криво усмехнулась и спросила, кто его прислал. Трофим просто ответил: – Царь. – Как это «царь»? – недоверчиво переспросила девка. – Чем докажешь? – Своей головой, – сказал Трофим. И спросил: – Где твоя хозяйка? Девка велела подождать, отогнула один из ковров на стене и пропала за ним. Трофим стоял, не шевелясь, и чутко слушал… Но так ничего и не услышал. Тогда он прочёл Отче наш. Прочел ещё и ещё раз. Из-за ковра вернулась девка и поманила Трофима рукой. Трофим прошёл мимо неё, зашёл за ковёр… И оказался в светлице, все три окна которой были закрыты ставнями, светили только лампадки. А посреди светлицы, на широкой мягкой лавке, с такой же мягкой спинкой, сидела… госпожа не госпожа, девка не девка… одним словом, сидела тамошняя хозяйка в дорогущей летней шубе и мягких сапожках, в парчовом платке, черноглазая и чернобровая, с румянцем на всю щёку и губами тоненькими-тоненькими – и улыбалась. Вот какая была эта Мотька! Сидела и гладила кошку. Кошка была чёрная, как уголь, а пальцы у Мотьки белые и все в перстнях. Перстни то и дело поблёскивали. Трофим снял шапку и поклонился. – Ты кто таков? – спросила Мотька мягким голосом. – Трофим Пыжов, стряпчий, – ответил Трофим. – Царёв стряпчий? – Нет, Разбойного приказа. – А! – скучающе сказала Мотька. – А мне сказали, что царёв. – Я и есть царёв, – ответил Трофим. – Царь меня из Москвы кликнул, я приехал. И он мне сказал: Трофимка… Мотька сердито хмыкнула и перебила: – Царь молчит! Скоро уже неделю. – Не молчит, – сказал Трофим, – а говорит негромко. Софрон по его устам прочёл и передал мне его слова, а царь головой кинул, что всё верно. – А верно что? – спросила Мотька. – Неужто он тебя ко мне послал? – и переложила кошку с руки на руку. – Нет, конечно, – ответил Трофим. – Не только к тебе. Он сказал: везде ищи. – Что ищи? – Этого я пока что сказать не могу, – негромко, но твёрдо ответил Трофим. Мотька ощерилась, злобно сказала: – Приходили тут вчера одни, выпытывали. А я им велела выметаться. Вымелись. А ты… подойди ближе. Трофим подошёл. Мотька вдруг швырнула в него кошку. Трофим её поймал. Кошка зубами впилась ему в палец, очень больно. Трофим хотел её стряхнуть, но Мотька тут же велела: – Не трожь! Трофим стоял как пень, терпел. Кошка грызла ему палец, текла кровь. Мотька злорадно усмехалась. Потом махнула рукой – убирай. Трофим осторожно разжал кошке зубы и так же осторожно сбросил её на пол. Кошка мягко вскочила на лапы и сразу метнулась под лавку. Мотька подобрала под себя ноги и молча ткнула рукой, указывая, где Трофиму сесть возле неё на лавку. Трофим подошёл и сел. От Мотьки пахло ладаном и ещё чем-то очень благостным. Мотька молчала. И Трофим молчал. Глаза у Мотьки были очень злые, настороженные. И так же зло она спросила: – С чего это царь вдруг тебя приметил? – А он и не вдруг, – сказал Трофим, – он давно меня знает. – Он всех знает, – прибавила Мотька, – и всех насквозь видит. А кого не видит, тому сразу голову долой! – И тут же велела: – Рассказывай! – О чём? – спросил Трофим. – О том, как он тебя приметил. В первый раз. – Мне нельзя об этом говорить. – А ты ему после скажи, что забыл, что нельзя. – Он не поверит, – ответил Трофим. – Скажет, этого забыть нельзя. – Почему нельзя? – Да потому! Когда царь брал с меня слово, он ножик достал… И тут Трофим снял с себя шапку и показал своё сверху обкорнанное ухо. – Царь? – спросила Мотька. – Ножиком? Трофим кивнул. – Я у него спрошу! – сказала Мотька. Трофим пожал плечами – спрашивай. – Спрошу-спрошу! – очень сердито повторила Мотька. – Ну а у меня ты что хотел спросить? Ведь не просто так сюда пришёл. Ну так чего? – Много чего, – сказал Трофим, – да я не тороплюсь. – И это верно! – подхватила Мотька. – Нам спешить некуда. Так, может, пока чарку поднести? – И, обернувшись, окликнула: – Любка! – Не надо Любки! – сразу перебил Трофим. – И чарки не надо. – Боишься, отравлю? – спросила Мотька. – Да я, будет надо, и так околдую! И стала смотреть на него очень пристально. Трофим усмехнулся. Мотька злобно приказала: – Ты в глаза смотри! Трофим смотрел, не моргая. Долго они так друг на друга смотрели. Трофима пробил пот, но он не стал утираться, потому что, его так учили, нельзя. Мотька первая тряхнула головой, сказала: – Чёрт крещёный! Говори, зачем пришёл?! – злобно спросила Мотька. – Не то кликну сторожей! Трофим вместо ответа показал овчинку. Мотька аж перекосилась вся, воскликнула: – Подотрись этим орлом, скотина! – За таковские слова можно и на кол сесть! – насмешливо сказал Трофим. – А мне теперь всё равно! – А Марьяну?! Мотька сразу осеклась и замолчала, отвела глаза, подумала, а уже только потом опасливо спросила: – Что Марьяну? – Какому Марьяну? – как будто с удивлением спросил Трофим. Мотька посмотрела на него, сказала: – Чёрт и есть! – Но не удержалась и добавила: – Моему Марьяну, а какому же ещё. Золотому моему Марьянке, вот кому. А не тому псу смердячему! – Кому, кому? – переспросил Трофим. – Не твоё дело! Сказав это, Мотька замолчала. И вдруг стала быстро, тяжело дышать, хватать ртом, как рыба, глазами сверкать! А после шубу на себе расстёгивать. Руки у неё сильно дрожали, но всё равно расстегнула. Дальше рванула на себе рубаху, разорвала вместе с ожерельем. Самоцветы посыпались на пол. – Ты чего это?! – испуганно спросил Трофим. – Дышать нечем! Помираю! – захрипела Мотька. Трофим обернулся, открыл рот… – Не зови её! – злобно велела Мотька. – Помру так помру! И опять захрипела, схватилась за горло. Трофим сидел ни жив ни мёртв, боялся шелохнуться. Мотька понемногу унялась и отдышалась, запахнула на себе одежды, утёрла глаза и спросила: – Что с Марьяном? Трофим подумал и строго ответил: – А это уже тебе решать. Как решишь, так с ним и будет. – Так он живой ещё? – Был бы мёртвый, не искали бы. Мотька затаилась, даже не дышала. Глаза у неё остановились. Трофим спросил: – Был он в тот день у тебя? – Был, – кивнула Мотька. – Зачем? – Как это зачем? – насмешливо сказала Мотька. – Как будто не знаешь. За тем и был, за чем вы все к нам ходите. Так и он. Любились мы, вот что, затем и приходил, чтобы любиться, и больше ничего. – Перекрестись! – На мне креста нет. – Всё равно перекрестись! Мотька подумала, потом перекрестилась. Спросила: – Так лучше? – Конечно, – ответил Трофим. И спросил: – Ты знаешь, кем Марьян служил? – Знаю. – Про ту дверь тоже знаешь? – Слышала. – А сама там бывала? – Зачем мне там бывать?! – насмешливо сказала Мотька. – Нам с ним и здесь места хватало. Вот посмотри! Здесь места хватит же! – И она развела руки, как бы обнимая ими лавку. Трофиму стало жарко. Он мотнул головой и продолжил: – А в тот день он ничего тебе про ту дверь не рассказывал? – Ничего, – сказала Мотька. – Будто говорить нам было больше не о чем. – А что он говорил про ту беду? – Да ничего почти, – сказала Мотька, вспоминая. – Ну, говорил, что прибегали к ним. Что старший с младшим там сцепились. И что старший младшего едва не до смерти побил. – Так и сказал про старшего? – Так, – коротко кивнула Мотька. – А откуда он про это знал? – Так у них все про это говорили, – просто ответила Мотька. – А кому там ещё было бить? Они же там только вдвоём сидели. – Так там же ещё одна дверь! Могли в неё войти! – Марьян бы видел, как вошли. – Мог видеть, да мог не сказать. Мотька подумал и согласилась: – Мог. – Он и не сказал! – радостно продолжил за неё Трофим. – Вот только зачем ему такое было – не сказать? – задумчиво проговорила Мотька. – А если бы он сам туда входил или входил кто другой, так старшего бы прибил, что ему младший… – А что старший? – Ну, про старшего известно, что ничего доброго от него не жди. А от младшего ещё ну мало ли… – опять задумчиво сказала Мотька. – И так бы любой подумал. Да вот хоть тебя возьми. Ты на кого бы… – Но-но! – поспешно перебил Трофим. – Чего «но-но»?! – злобно спросила Мотька. – Я не кобыла, ты меня не запрягал! И чего ты припёрся ко мне?! Не здесь ты ищешь! Да ты и сам знаешь, не хуже моего, что не здесь надо искать, а всё выслуживаешься, пёс! А ещё крест носишь! А я вот без креста, а таких мерзостей не затеваю, пёс! – А ну тихо! – прикрикнул Трофим. – Я тебе сейчас притихну! – негромким, но очень злобным голосом сказала Мотька. – Ишь, заявился! Нюхает! Да нечего тебе здесь нюхать! Ничего там Марьяну не нужно было, он отслужил на рундуке – и сразу пошёл ко мне. И так же и мне не надо ничего. Мы только про одно всегда с ним говорили! – Про что? – А тебе какое дело? Твоё дело – розыск. Вот ты и разыскивай. А я тебе отвечаю: был у меня в тот день Марьян, и мы любились, и ни до кого нам дела не было. А после он ушёл, и я ему на память дала перстенёк. Вот отсюда. Смотри! – Мотька показала свою руку. – Видишь, на всех пальцах перстни и только на этом нет? Это я с него тот перстенёк сняла и отдала Марьяну. И это был непростой перстенёк, на нём волшебный камешек. Если его вот так повернуть и так на него глянуть, он горит. Как бы где ни было темно, а он всё равно горит. Вот такое волшебство. Я надела ему на руку, тоже на этот палец, и он ушёл. И я ушла бы! – продолжала она громким голосом. – Совсем ушла бы! Опостылело здесь всё! Не надо мне ничего этого! Только бы вернулся мой Марьян, и мы бы тогда… И она замолчала. Трофим, подождав, спросил: – Что «тогда»? – Марьян меня звал с собой, – опять заговорила Мотька. – Я одно место знаю, говорил, на Каме. Место такое, Камой называется, очень далеко, за Волгой. Место глухое, дикое, одни медведи да мы. Сказав это, Мотька улыбнулась. – Зачем вам медведи? – недоверчиво спросил Трофим. – И не нужны. Мы дальше! – улыбаясь, продолжала Мотька. – С Камы и за Камень. В дикую землю Сибирь. А оттуда ещё дальше, в великое царство Катай. Ой, там царь грозен, ой, крут! – Зачем вам тогда этот Катай, – сказал Трофим, – когда и здесь то же самое: и царство великое, и царь тоже грозный. – А там нас, в Катае, никто не будет знать, – ответила Мотька. – Там же народу будто в муравейнике, значит, никогда и не узнают. Будем жить… Мотька замолчала, снова опустила голову. Трофим тоже молчал, ждал. Мотька опять заговорила – медленно, задумчиво: – А, может, не поедем мы за Камень. Может, до Камы добежим, и хватит. Нам же только чтобы никого не видеть и чтобы нас не видели. Одни мы с Марьяном только, и ни души вокруг. Давно мы этим сердце тешим… – Так и бежали бы, – сказал Трофим. – Чего сидели? – Да! – сердито воскликнула Мотька. – Ага! А ты чего сидишь, а ты чего не побежал? – А для чего мне бежать? – Как для чего?! – сказала Мотька. – Ты что, не знаешь, чем для тебя всё это кончится? Что ты наразыскиваешь, знаешь?! И что тебе за такой розыск будет? Хорошо, если просто удавят, а то могут и… Да чего там! Сам знаешь! Сам небось прорву людей загубил. А вот теперь и твой черёд настал. Так что бежать тебе надо, покуда не поздно. Да далеко не убежишь! Отсюда ещё никто ни разу не сбежал. Вот ты попробуй, вот хоть сойди где с крыльца, хоть в окно где высунься – и уже сразу стоят внизу и ждут. Так, нет? Трофим вспомнил, как он прыгал с крыши, и нахмурился. – В прошлом году, – опять заговорила Мотька, – Марьян хотел сбежать. И меня с собой уговорил. Уже всё вроде как сладилось: уже сговорились… Ну, с кем надо, с тем и сговорились, сменную одёжку заготовили, харчей на дорожку… И тут вдруг ко мне приходит один человек и говорит: «Ты чего, сука, задумала, гляди, как бы Матёрый не прознал!» – Матёрый, это кто? – спросил Трофим. – Матёрый и Матёрый, – недовольно повторила Мотька. – А что мне Матёрый?! Я и Матёрому сказала: «Только его, пёс, тронь, я тебе глаза выцарапаю!» А тут, думаю, и ладно, всё равно сбежим. И посмеялась. Тот ушёл. А вечером пришёл Марьян и говорит: «Гаврила со стены упал – и насмерть». – Какой Гаврила? – А который на Троицкой башне… Но тут Мотька запнулась, опомнившись. – На Троицкой что? – спросил Трофим. Мотька, прислушавшись, велела: – А перекрестись! Трофим, подумав, перекрестился. Мотька ещё раз прислушалась, а после, подавшись к Трофиму, очень тихо продолжила: – Сухой колодец. За конюшенным двором, в Троицкой башне. Гаврила был при нём и при его решётке. Ключ от решётки у Гаврилы. Много чего мы тому Гавриле поднесли, и он бы отпер нам решётку. А теперь Гаврилы нет! – А кто вместо него? Мотька посмотрела на Трофима, помолчала, а потом едва слышно ответила: – Не верю я тебе. Чую, ты мне зло затеял. И не крестись! Что вам крест?! Тем, кому крест люб, в вашу службу не идут. А вот дай сперва жилку послушать! Вот эту! – и указала Трофиму на горло. Трофим окаменел. Мотька усмехнулась, протянула руку и провела Трофиму по горлу. Рука у неё была горячая, холёная, а ногти острые. Глаза огнём горели. И Трофим не удержался, открыл горло. В ушах у него заухало. Мотька расстегнула ему ворот, наклонилась ещё ниже, прикоснулась губами, губы были влажные, горячие… И впилась зубами в горло и начала грызть! Трофим не мог ни пикнуть, ни руки поднять, ни отшатнуться! Вот как она его околдовала! Он сидел, как пень, а она его грызла и грызла! Вот и смерть моя пришла, подумал Трофим, вот и всё…22
И вдруг раздался шум. Кто-то ломился в дверь, да ещё и покрикивал: «А ну откройте!» и опять стучал. Нет, даже не один стучал, а их там было несколько. Мотька разжала зубы и повернулась на шум. Трофим тут же опомнился и распрямился, оттолкнул Мотьку и вскочил. Мотька злобно зашипела по-змеиному: – Тише ты! Тише! Трофим невольно замер. Из-за двери, из-за ковров послышалось: – Мотька, открой, скотина! Хуже будет! Голос был очень знакомый, но Трофим его пока не узнавал. – Мотька! – продолжал тот голос. – Велю выбить дверь! Открывай! И Трофим вспомнил: это Фрол Щербатый, Марьянов десятник с того рундука. Вот как орёт! А говорили, будто перед нею все робеют. Трофим посмотрел на Мотьку. Мотька злобно сощурилась, сказала: – Это ты, пёс, их привёл! Трофим взялся руками за шею, шея была в крови, и мотнул головой, что не он. Мотька смотрела на него, молчала. За дверью тоже стало тихо. Мотька облизнула губы, губы были все в Трофимовой крови. Трофим тихо сказал: – Ведьма. Мотька усмехнулась, поманила пальцем. Трофим даже не шелохнулся. Мотька ещё раз усмехнулась, перекрестилась и ещё раз поманила. Трофим не удержался, подошёл. Мотька чуть слышно прошептала: – Эти скоты могут теперь хоть до утра стоять. Если не ты их привёл, значит, они сами за тобой пришли. Ты был у них? – Был. – Вот и привёл, – сердито прошептала Мотька. – И чего я тебя сразу не загрызла? Любка б тебя после на куски порезала и по частям снесла, в отхожем месте утопила. И ни следочка от тебя бы не осталось! – Как не осталось? – прошептал Трофим. – Весь пол был бы в кровище. А как бы кровищей воняло! Кровавый дух три дня после держится, если хорошо принюхаться. Я, когда на дело приезжаю, первым делом всегда… И больше ничего не успел сказать – Фрол со своими опять начал бить в дверь. Дверь начала трещать. Из-за ковра выскочила Любка, Мотькина сенная девка, и воскликнула: – Матрёна Ильинична, они там… – Тихо, дура! – злобно прошептала Мотька. – Иди накинь ещё завесов. Любка убежала за ковёр. Фрол опять начал звать Мотьку, требовал открыть. Дверь трещала всё сильней, было понятно, что она долго не выдержит. Мотька уже не таясь сказала: – Чую, они за тобой пришли. Найдут тебя здесь – убьют. – Зачем?! – сказал Трофим. – Они же сами меня посылали! – Они?! – не поверила Мотька. – Ну не совсем они, – сказал Трофим, смущаясь, – а их… – А, вот оно что! – сказала Мотька. – Ну, тогда они придут – и тебе сразу по горлу. Что-то ты очень важное вынюхал, если они убить тебя решили. А я не дам убить! Я баба вредная! – И грозно позвала: – Иди сюда! Трофим растерялся. Мотька схватила его за руку и подтащила к лавке, а там пригнула к полу и сама пригнулась, задрала ковёр, свисавший с лавки, и велела: – Лезь! Трофим не шелохнулся. – Лезь, дурень, я кому сказала! – продолжала Мотька. – Марьян в прошлый раз лез и только тем и спасся! Ну! Тебе что, ещё раз перекреститься?! Трофим полез под лавку. – Доска там широкая, – сказала Мотька. – Сдвинь эту доску. Под ней лаз. Трофим нащупал ту доску. Подцепил – доска и в самом деле сдвинулась. – Давай, давай! – жарко шептала Мотька. – Если бы твоей смерти хотела, открыла б этим скотам дверь, а вот не открыла же! Трофим склонился над лазом. Сзади, от двери, слышались удары, крики. Дверь страшно трещала. – Ну же, давай! – едва ли не кричала Мотька. – Да что ты как неживой! Ты тут первый, что ли?! Лезь скорей, чего упёрся?! И она его подтолкнула! Трофим, забыв перекреститься, даже не подумав «Спаси, Господи!», полез в тот лаз. Мотька ему вслед сказала: – Стерегись! Там высоко! Можно убиться! Трофим полез дальше. Доска над ним задвинулась на место, и стало совсем темно. Трофим нащупал одно бревно, рядом второе – и полез по ним. Снизу тянуло холодом. И ещё чем-то воняло, мышами, наверное. Шума от Мотьки слышно уже почти не было, в дверь ей никто уже не молотил. Трофим лез дальше. Долез до помоста. Помост был широкий, из толстых досок, крепкий. Трофим полежал на досках, отдышался. Вспомнил с досадой, сколько было шума, ощупал погрызанное горло и подумал: чего теперь Климу рассказывать? А Зюзину? Да Зюзин и так всё знает, небось, сам и послал за ним, а теперь будет делать вид, что в первый раз про это слышит. Трофим вздохнул, приподнялся и пополз дальше по помосту. За помостом начиналась лесенка. Снизу снова потянуло холодом, даже морозом. Это не над ледником ли он ползёт, гадал Трофим. Если так, то где-то близко поварня, а на поварне день и ночь не спят, и вот вылезет он к ним, что говорить? Трофим принюхался, поварни не учуял, а только мышей да сырость. И холод. Трофим прополз ещё. Вдруг лесенка закончилась. Да как это так? – удивился Трофим. Не может такого быть! Стал ощупывать жерди – и нащупал, что они обе обломаны. Значит, и в самом деле дальше хода нет, надо искать другой. Трофим развернулся… И жерди опять, теперь уже прямо под ним, обломились – и Трофим полетел вниз! Руки выставил, вжал голову… И хряснулся так сильно, что потерял сознание. Сколько он так, без сознания, лежал, Трофим не имел понятия. Очнулся, было очень больно, голова трещала. Трофим лежал на боку, подвернув под себя одну руку, поджав ноги. Лежал как будто на камнях, очень холодных. Трофим высвободил руку и ощупал их. Это были не камни, а лёд, разбитый на куски. Значит, это ледник, подумал Трофим. Он осмотрелся. Вокруг ничего не было видно. Как же теперь отсюда выбраться? – подумал Трофим. Приподнялся, пополз наугад, переполз через кучу битого льда… И вдруг нащупал чью-то голову. Затылок! Волосы на затылке были слипшиеся. Это так кровь на них застыла, подумал Трофим. Это покойник, он здесь давно лежит. А может, и недолго, кто знает! Трофим начал ощупывать покойника. Тот был в шубном кафтане, без шапки. Шапка, должно быть, отлетела в сторону, а сам он лежал ничком, лицо у него было разбито, всё в кровавой корке и с раскрытыми глазами. Трофим закрыл покойнику глаза и подумал, что, видимо, под ним лестница сломалась, и это было недавно, если он всё ещё здесь лежит и его никто не ищет. Или не знают, где искать! Ищут, крепко ищут, да не здесь. Потому что это… Трофим затаился. «Господи, – подумал он, – спаси и сохрани, я же и сам чуть не убился. Ты поддержал меня, век буду Тебе благодарен, вернусь в Москву, сразу пойду, поставлю свечку трёхфунтовую…» А это Марьян, больше некому. Или не Марьян? Кто разберёт! Такая темнотища. Ни огонька нигде… И вдруг вспомнился тот перстенёк, про который рассказывала Мотька. Трофим приподнялся над покойником, на ощупь нашёл его правую руку, на ней безымянный палец… А на нём и в самом перстенёк! Пальцы были крепко сжаты, перстенёк было не снять. Да и зачем его снимать, когда можно и так проверить. Трофим поднял Марьянову руку, повернул её так, как показывала Мотька, и в камешке и в самом деле засветился огонёк. Трофим ещё повернул руку, огонёк засветился сильней. Трофим увидел Марьяна, лицо его было в крови. Трофим отпустил руку. Рука упала, свет погас. Было темно и тихо. Трофим усмехнулся и подумал, что вот как всё славно сложилось: Марьян убился и теперь на него можно валить всё, что хочешь – и что он видел, как кто-то входил в ту дверь, а тем, которые тогда на рундуке сидели, Мотька глаза отводила, она же колдунья, всё может, вон как она вцепилась, как собака, и чуть насмерть не загрызла. И Зюзин скажет: вот сука, всё верно! И Савва скажет: да, конечно, это он, Марьян, тогда из-за печи кидался – и крест поцелует. И Спирька поцелует, и рынды. И все, кого ни приведут, будут целовать и говорить, что хочешь. Так в Новгороде было, когда он поехал туда разыскивать подпиленные гири, а дело повернулось так, что какие гири, прости, Господи! Вспомнив про Новгород, Трофим нахмурился и перекрестился. И спохватился: время-то идёт, а Годунов велел вернуться до полуночи и всё про Мотьку рассказать. Вот только что ему теперь рассказывать? Про то, что Мотька с Марьяном любились и никакого им дела не было ни до царя, ни до царевича, а это только у царя есть дело к Мотьке, и потому он велел Зюзину… Вспомнив про Зюзина, Трофим ещё сильнее помрачнел. Зюзин же говорил, чтобы Трофим скорей расследовал, смотрел по сторонам как следует, а иначе глаза ему вынет. И ведь вынет! Трофим Зюзина ещё по Новгороду знал, там Зюзин глаз тогда повынимал огого! Что ему ещё Трофимовы глаза – пустяк. Подумав так, Трофим невольно проморгался. И тут же подумал, что Мотька права: бежать отсюда надо, только это и спасёт, а всё остальное – смерть. Ну да как бежать? Сухой колодец, это где? Это, Мотька говорила, Троицкая башня, рядом с Монетным двором. Туда его никто близко не пустит! Но и не лежать же здесь, пока не околеешь, подумал Трофим, поднимаясь. От своего креста не убежишь и не спрячешься. И так же от Зюзина: обещал вынуть глаза – вынет. Если Бог позволит. Трофим перекрестился и подумал: надо выходить отсюда. И молчать о том, кого здесь видел. Сказать всегда успеется. Трофим поднял руки, выставил их перед собой и, осторожно ступая, пошёл по леднику. Ледяные камни были очень скользкие, но, слава Господу, их оказалось немного. Вскоре Трофим вышел на обычный пол, вначале каменный, а после деревянный. Теперь Трофим шёл вдоль стены. Шёл осторожно, на ощупь. Шёл долго. Шёл, думал, что какие же подвалы здесь громадные, даже в Москве, в Кремле, и то подвалы меньше, а тут идёшь и идёшь, стена и стена… И вдруг в стене нащупал уступ. Трофим ступил вперёд, ещё ощупал… И нащупал дверь. Дверь была узенькая, низкая. Трофим тронул её. Она немного подалась, с той стороны брякнула задвижка. Трофим ещё потрогал дверь, достал из-за голенища шило (то, про которое дознался Клим) и просунул его, дотянулся до задвижки и начал её понемногу сдвигать. Долго возился, но сдвинул. Спрятал шило, открыл дверь, она не скрипнула. Он вышел, закрыл дверь, задвинул на место задвижку. Вокруг было темно и тихо. Трофим постоял, послушал, ничего не услышал и осторожно, держась за стену, пошёл. Пошёл наобум, конечно. Думалось: куда-нибудь да выйду. И так он шёл довольно долго, но прошёл немного, потому что шёл небыстро… И вдруг его схватили за плечо! И за второе тоже! Он не вырывался. У него из-за спины спросили: – Кто такой? И приставили нож к горлу. Трофим злобно облизнулся и ответил: – Трофим Пыжов я, царёв человек. – Все мы царёвы, – сказали сзади. – А я особенно, – сказал Трофим. – Меня царь из Москвы позвал. По делу. – Про какому? – У царя спросите. Нож взад-вперёд поелозил по горлу. По свежей ране, по Мотькиной. Опять потекла кровь. Трофим усмехнулся и сказал: – Ох, соколы, как бы беды вам не было. – А ты чего по ночам шастаешь! – сказали. – Чего тебе где было надо? И опять ножом слегка подрезали. Трофим зло сказал: – Мне на медный рундук надо! Спешно! Боярин велел! – Какой боярин? Трофим промолчал. – Ладно, – сказали, – здесь недалеко. Иди! – и пнули в спину. Он пошёл. Опять на ощупь. Но когда повернул не туда, его тут же схватили и подправили. Трофим пошёл дальше. Судя по шагам, за ним шли трое. Все сапоги были с подковками. Молчали. Шли в кромешной темноте. Потом впереди забрезжил свет. Дошли до угла, повернули на свет и увидели медный рундук. При медном рундуке опять сидели четверо. Один из них, завидев Трофима, усмехнулся. Это был, Трофим его узнал, тот стрелец, который называл его по имени и требовал показать ухо. А теперь он ничего не требовал, только спросил: – Ну, как сходил? – Сходил с толком, – ответил Трофим. – Вот разве что эти за мной увязались. – И, обернувшись, указал на тех, что стояли за ним. Они, как Трофим теперь увидел, все были одеты в чёрное. Стрелец от рундука сказал: – Это, Пыжов, не увязались, а это они к тебе приставлены. Чтобы с тобой чего не вышло. Тебе куда сейчас? – Мне надо по делу, – ответил Трофим. – Меня боярин дожидается. – Какой ещё боярин? – удивился тот стрелец. – Ночь глухая, Пыжов. Все добрые люди давно спят. А ты к боярину! Окстись. – Да мне боярин велел! Непременно! Не то он… – начал было Трофим. – Что? Велит голову срубить? – насмешливо спросил стрелец. И насмешливо продолжил: – Коли обещал, то срубит. Но уже утром. А сейчас ещё ночь, никто ночью голов не рубит, на то будет светлый день, чтобы не промахнуться. – И, уже обращаясь не к Трофиму, а к его невольным провожатым, приказал: – Отведите его на Козлятник, а там за малой лестницей вторая дверь. И чтоб больше не шастал! Чтоб я его больше не видел! Один из этих в чёрном крепко схватил Трофима за руку, и они пошли дальше. Опять стало темно. Опять только звякали подковки. Трофим шёл и думал, что стрелец был прав: никто ему сейчас голову рубить не будет, спешить некуда, так что у него ещё будет много времени ко всему приготовиться. Не то, что в Новгороде – он и сообразить ничего не успел, как чик – и дух вон. Без покаяния. А тут до самого утра… – Стоять! – строго велели сзади. Трофим остановился. Один из провожатых толкнул дверь, дверь открылась – и Трофим увидел Клима, который сидел на своей лавке, а рядом горела лучина. Трофим зашёл в дверь. Её за ним сразу закрыли. После было слышно, как они ушли – и подковки перестали цокать. Трофим облегчённо вздохнул.23
Клим сразу же спросил: – Откуда ты такой расхристанный? В кровище! – Где я был, там меня уже нет, – сердито ответил Трофим, шагнул к Климу… И вдруг почуял засаду, наклонился, полез в голенище за шилом, и уже даже вытащил его… Как знакомый голос ласково спросил: – Трофимка, ты кого это убить задумал? Меня, что ли? Загорелся огонёк. Трофим увидел Зюзина. Тот сидел на Трофимовой лавке и недобро улыбался. Трофим сунул шило обратно, снял шапку и медленно опустился перед Зюзиным на колени. Зюзин отрывисто велел: – Климка! Пошёл вон! Клим тут же встал, боком обошёл Трофима, проскользнул в дверь и вышел. Дверь закрылась. Стало тихо. Зюзин вполголоса сказал: – Климка, не стой под дверью, сволочь! За дверью что-то шваркнуло и опять стало тихо. Но Зюзин всё равно велел: – Наклонись-ка. Трофим подался к нему ещё ближе. Зюзин шёпотом спросил: – К Мотьке ходил? – Ходил. – Зачем? Борис велел? – Какой Борис? – Трофимка! – строго сказал Зюзин. – Ты мне это брось. Мне Борис сам повинился, что тебя туда послал. Так что ты уже не подводи Бориса. Иерой! Трофим молчал. Зюзин опять спросил: – Ну и что ты у Мотьки выведал? Марьян где? Трофима как огнём ожгло. Что говорить? Зюзин опять хитрит или в самом деле ничего не знает? Ошибёшься – голова долой! – Ну?! – строго напомнил Зюзин. Трофим сказал уклончиво: – Мотька про Марьяна ничего не знает. И это правда. – А кто тогда знает? – Н-ну… – протянул Трофим. – Чего мычишь?! – строго одёрнул Зюзин. – Ещё не на дыбе. Отвечай, как надо. Трофим подумал и сказал: – Пропал Марьян. Зюзин усмехнулся, помолчал и снова усмехнулся. Значит, поверил, подумал Трофим, слава Тебе, Господи, а то какой был бы грех – покойника оговорить! Трофим в душе перекрестился. А Зюзин сказал: – Вот и славно, что пропал. Пропал – и пропал. Искать не будем! Потому что ежели пропал, значит, была за ним вина, значит, это он царевича убил, а кто ещё?! Убил – и пропал. Или Нагие его спрятали. Пусть прячут! Или Захарьины куда-нибудь в скит увезли. И пусть везут. А всё равно он виноват! Вот так будешь дело вести, понятно? А не то я из тебя ремней нарежу. Ещё бы! Дело такое верное, ясное, а ты кочевряжишься. Или и тебя Нагие подкупили, а? Или Захарьины? Или твои Ростовские? А что! Я твоего князя Михайлу насквозь вижу! Ты молодой ещё, а я помню, как его дядья, Семён да Никита, в Литву подались, тайно, и как их только под Торопцом перехватили. А теперь опять за старое! Так, нет? Как тебе князь Михайло на дорожку наставлял? Кто шило в голенище всовывал?! Кого убить велели? Что молчишь?! Или скажи, что рад разыскивать! Ну?! Скажи: рад! Трофим помолчал, облизал губы и сказал чуть слышно: – Рад. – Вот это уже совсем другое дело, – усмехнулся Зюзин. – Вот так дело и веди: это Марьян убил. И чтобы завтра вывел! Какая надо будет подмога – дам любую. Какую надо? Трофим не ответил. – Ну, – сказал Зюзин, – надумаешь, скажешь. А про Бориса забудь. А то распустил хвост твой Борис! Как петух! А царевичу сегодня полегчало. Слышишь, Трофим, полегчало! Лекарь Илов дал ему питья, питьё жар уняло, и царевич уже озирается, слушает, и если ему скажешь, улыбается. Будет жить царевич, вот так-то! А с Борисом ещё надо будет разобраться, чего это он такой весёлый ходил, когда мы все слезами умывались. А не стакнулся ли Борис с Марьяном? И не взять ли нам Бориса в розыск, а? Трофим молчал. Зюзин задумался. Потом так же задумчиво продолжил: – Но всё это завтра. А пока что надо подождать да посмотреть, как царевич ночь переночует. И ты бы тоже пока что молчал. Не приведи, Господь, уста разверзнешь – удавлю. Тут Зюзин встал и развёл руки. Руки у него были длиннющие и крепкие. Трофим сам видел, как он из огня… Но об этом уже говорилось. Трофим стоял на коленях и не шевелился. Зюзин поправил шапку и сказал: – Живи. Пока что. А там видно будет. Развернулся и ушёл. И дверь за собой не закрыл. Дверь так и стояла открытая. За ней было темно и тихо. Трофим стоял на коленях, держал в правой руке шапку. Вдруг левая сама собой залезла в голенище, а в голове подумалось: если б вскочил да пырнул его, что дальше было бы? Да, может, ничего худого. Годунов сказал бы: «Вот беда какая, воевода сам себя зарезал, ведь сам же?» И надо было бы только ответить: «Сам», и дело закрылось бы. Потому что недругов у Зюзина – огого и ещё столько же. За тридцать лет службы нажил! Ну ещё бы! Да вот только не пырнул бы Зюзина Трофим, потому что не успел бы. Зюзин не из тех, кого пырнуть успеешь. Уж какие прежде были люди, иерои, если говорить по-зюзински, но ничего они ему не сделали, а сами все уже в земле – и Скуратов, и Грязной, и Вяземский, и кто там ещё? А он жив, здоров и может вообще бессмертный. А что! В пекло таких не берут, ибо замутит пекло. Тьфу, прости, Господи! Трофим перекрестился, встал с колен и пересел на свою лавку. Посмотрел на дверь. Она по-прежнему стояла открытая. За дверью, в переходе, было тихо. Клим не возвращался. Не к добру это, подумал Трофим, куда Зюзин Клима увёл? Чего они ещё затеяли? Трофим ясно чуял, что затеяли, у него чутьё всегда было как у собаки. Вдруг загудело в дымоходе. Днём шёл снег, вспомнил Трофим, и теперь, наверное, опять идет. И его за ночь, может, столько наметёт, что завтра утром выйдешь на крыльцо, а там вокруг всё белое. Как и тогда, когда открылось это дело, чёрт бы его, прости, Господи, подрал! Дело было новгородское, мудрёное, ну да новгородцы такие всегда – непростые. И так было и тогда – привезли оттуда гирю. Гиря вроде бы как гиря, в один фунт, с клеймом, и никаких подпилов на ней нет. А как на вес проверишь, в ней шестнадцати золотников недостаёт. Как это было сделано, никто не мог взять в толк. Как колдовство какое – лёгкое железо! А Демьян взял эту гирю, повертел, примерился… ногтем подцепил – и клеймо слетело, и под ним дыра открылась. Вот в чём была хитрость! Гиря внутри оказалась пустая, с дуплом, и это дупло затыкалось клеймом. Клеймо было как пробка! Вот как оно было задумано! И дьяк Дружина… Да! Тогда князя Михайлы ещё не было, да и самого Разбойного приказа тоже, а была только ещё Разбойная изба и ведал ею государев думный дьяк Шапкин Григорий Фёдорович. Да только что ему изба! Он там бывал нечасто. Так что всю службу за него тянул уже не государев, а простой приказный дьяк Дружина Вислый. Тогда Дружина посмотрел, как Демьян ловко клеймо из гири вытащил, и говорит: вот ты, Демьян, давай туда поезжай и поищи, вдруг там таких гирь ещё найдётся, а особенно нашёлся бы там тот, кто эти гири делает. И поехал Демьян в Новгород. Приехал он туда, встал на Торговой стороне, на наместничьем дворе, в приказной избе, сразу за дверью на лавке. Целыми днями ходил по Торгу и присматривался, кого надо, стращал, кого надо, хлебным винцом угощал и, говорили, уже начал усмехаться, руки потирать, наверное, почуял что-то, а то и вовсе взял след. А однажды день закончился, солнце зашло, а он так и не вернулся к себе за дверь на лавку. Его только наутро в канаве нашли. Лежал ничком. В спине нож торчал. А перевернули, глянули – у него глаза выколоты. Это у лихих людей есть такой знак, что, мол, не смотри туда, куда не надо. Когда Демьянихе про это рассказали, она выла три дня и три ночи. Потом запила. Так и по сей день пьёт, но уже в меру, и под заборами, как прежде, не валяется. А так всем хороша баба Демьяниха. Трофим, бывало… Да только не про это разговор! Трофим нахмурился. Да и не видел он тогда Демьяниху. Дружина, как только гонца дослушал, сразу же призвал Трофима и велел: езжай, Трофимка, только стерегись, мне после тебя посылать некого. И поехал Трофим в Новгород. Правильней, пошёл. С хлебным обозом. Нанялся вожатым, назвался бывшим холопом князя Телятевского, дали ему четыре воза, и он их довёл. Долго, конечно, ехалось, тащились больше двух недель, зато никто и подумать не мог, кто такой Трофим на самом деле, а так – вожатый и вожатый, пьяница. И в Новгород приехавши, только получив расчёт, сразу пошёл в кабак – это который с этой стороны, возле моста, и там… Трофим откашлялся и усмехнулся, вспоминая. Там он сел за третий с краю стол, на третье с краю место, даже пришлось кое-кого согнать, дать в рожу, взял чарку и пил. Подошёл к нему один, судя по говору, из местных, назвался Еремеем и выложил на стол перед собою бирку. Трофим выложил свою. Бирки сошлись одна в одну, зарубки на них тоже. Выпили. Трофим почему-то сразу опьянел, в глазах всё расплылось, он упал и больше ничего не помнил. Очнулся в какой-то конуре. Живой, не связанный. Без кляпа. Можно было закричать, но он молчал, опять стал дышать ровно, глубоко, как спящий, а сам тихонько полез к голенищу, проверить, на месте ли нож… Но тут загорелся свет, показался Еремей, который сказал… Тут послышались шаги. Это возвращался Клим, Трофим его сразу узнал по походке и повернулся к двери.24
Клим переступил через порог, закрыл за собой дверь, посмотрел на Трофима и хмыкнул. – Ты чего это?! – сказал Трофим. – Так, – ответил Клим. Ещё раз хмыкнул и добавил: – Иш, как тебя Мотька изгрызла! Страх! Трофим невольно потянулся к шее и сказал: – Нет, это меня так на рундуке стрельцы ножом порезали. – Когда режут ножом, тогда края ровные, а здесь изгрызено, – продолжил Клим, подошёл к окну, снял с подоконника кувшин и переставил его на среднюю лавку, которая у них была вместо стола. – Я квасу не хочу, – сказал Трофим. – А это и не квас. Сказав так, Клим сел на свою лавку, достал из-под тюфяка здоровенный ломоть хлеба, ещё пошарил и нашёл два шкалика, всё это выставил на стол и вопросительно посмотрел на Трофима. Трофим согласно кивнул. Клим налил по шкаликам, взял свой, ещё раз глянул на Трофима и сказал: – У Мотьки зубы ядовитые. Так что смотри! – Как это может быть, что ядовитые?! – насмешливо спросил Трофим. – Она сама от яду отравилась бы. – А она к ядам привычная, – ответил Клим. – Когда в прошлом году государь собрался на Нагой жениться, сказала: я отравлюсь! Ну и принесли ей зелья всякого, как велела, и она это ложками жрала да стаканами хлестала! Позеленела вся, пошла пятнами, выла, как волчица, по полу каталась, ногами сучила… А доктор Илов пришёл, велел её связать, связали, он дал ей воды заговорённой, заливали в рот через воронку, залили два ведра, промыли, а после её ещё в баню – и она стала хоть куда, её вместо Нагой ставь под венец! Вот какая это гадюка, никакие отравы её не берут. А тебя она крепко погрызла. Говорят, двоих уже совсем загрызла, насмерть. И может Марьяна тоже. А то куда бы он пропал? И Клим стал смотреть на Трофима. Трофим, глаз не отводя, молчал. Тогда Клим вдруг спросил: – Что она тебе про Марьяна сказала? Где он? Трофим подумал и ответил: – Сказала, что был он тогда у неё. После ушёл. И больше не кажется. – Как это так? – Ну, так. Сказала, он давно хотел сбежать отсюда, из Слободы совсем, надоело ему всё, на волю ему захотелось, и вот теперь, наверное, сбежал. – А чего ему вдруг надоело? – сердито сказал Клим. – Да и как он мог сбежать отсюда?! Ты знаешь, что отсюда мышь не выскочит?! А тут вдруг Марьян-детина прошмыгнул! А не говорила ли она тебе, как ему это удалось? – Кто же про такое скажет? Да и брехня это, наверное. – Нет, не брехня! – ещё сердитей сказал Клим. И вдруг спросил: – Про сухой колодец она тебе ничего не говорила? И про тайный лаз оттуда? Трофим насторожился, не ответил. – Вот-вот! – радостно воскликнул Клим. – Говорила! И воевода про это сказал, что ты ловкий, до всего дойдёшь, всё вызнаешь, дай только тебе время. Слышишь? Он так и сказал: «Дать Трофиму ещё день на розыск! И от Годунова его надо оторвать. Погубит Годунов его. А мы ему, напротив, пособим!» Слышишь? Зюзин пособить тебе собрался! За такое и выпить не грех! – и он поднял шкалик. Трофим поднял свой. Клим сказал: – Дай Бог царевичу здоровья. Они чокнулись и выпили. Водка была ядрёная, Клим отломил Трофиму хлеба, и тот стал закусывать. А Клим уже опять налил. – И ещё за то, чтобы Марьян скорей нашёлся. Пей! Трофим поднял шкалик и остановился. Спросил: – А при чём тут Марьян? – При том, что это он царевича убил, – ответил Клим. – Убил и потому сбежал. Или тебе ещё никто не говорил про это? Савва Хренов, царёв истопник, внизу, у Ефрема, крест поцеловал и подтвердил: да, это Марьян там был тогда. И это он бил кочергой. – И вдруг спросил: – Где кочерга?! – А-а-а-а… – только и сказал Трофим. – Что? – строго спросил Клим. – Цела кочерга? Или Марьян её унёс?! – Нет, Марьян не уносил, – сказал Трофим, а сам подумал, что как быть, если Клим вдруг спросит показать… Но Клим не просил, а только кивнул на поднятые шкалики. Трофим не сразу, но выпил. Клим тоже выпил – быстро, в один мах, и продолжал: – Завтра день будет непростой. Эх, если б ты только знал, почему ты жив остался. Не до тебя им теперь, вот что! Шереметева плод скинула, слыхал?! – Какая Шереметева? – Та самая! Старшего царевича жена! Иванова! На шестом месяце уже ходила. Мальчиком. И был бы у царя Ивана внук! А так что? Помирает царь. Царевич помирает. Царёва сноха плод скинула… А дурню Федьке хоть бы что! И Годунову так же! Клим опять взялся за кувшин. Опять налил. Они молча выпили. Трофим с оглядкою сказал: – Ты объясни толково. – А что тут толковать! – сердито сказал Клим. – Жена царевича Ивана, Алёна, дочь Ивана Шереметева Меньшого, сегодня скинула младенца, вот что. Да это сразу было ясно, что добра не будет. Ей как только сказали, что царевич при смерти, так она и с ног долой. Чуть подхватили. Пролежала эти дни и скинула. А так был бы мальчик, царский внук. Вот что скотина эта сделала! Это её родня так подучила – скинь! И она скинула. Назло! И Клим бухнул кулаком об стол. Кувшин закачался. Трофим поймал его, не дал упасть. Клим уже не так злобно продолжил: – Одно к одному! Царевич опять помирает. А днём ведь начал было поправляться, уже румянец на щеках поигрывал, уже улыбался… И вдруг как почуял! Опять загорелся. Ох, говорят, он ждал, когда Алёна разродится. Она у него третья жена уже! А государю всё не так! И первую сноху грыз-грыз, а после в монастырь упёк, потом вторую. И когда царевич к Шереметевым стал свататься, перепугались те! А куда денешься? Царевич как сказал, так по его и было. Отдали. А теперь что? А теперь ничего! Ни сына у царя, ни внука, ни снохи, а один Федька! – А как сам царь? – тихо спросил Трофим. – А! – Клим махнул рукой. – Я больше пить не хочу. Свет гасить? Трофим молча снял шапку, убрал под тюфяк, и так же молча начал разуваться. Клим задул огонь. Трофим, уже в темноте, лёг, накрылся и закрыл глаза. Но не спалось, конечно. Про царевичевых жён Трофим слыхал и раньше. И первая жена, как говорят, была порожняя, потом вторая, и царь их обеих в монастырь прогнал. А как иначе, говорили люди, царица для чего нужна? Чтобы рожать царевичей. А не умеешь рожать, уходи в монастырь. Так всегда было заведено! Вот даже отец царя Ивана, Василий, жил-поживал с царицей, ждал-пожидал наследника, двадцать пять лет ждал, не дождался, сослал царицу в монастырь, женился на второй – и сразу царевич родился, нынешний царь и государь великий князь Иван Васильевич. А кабы не было его, что у нас было бы? Смута. Да так, правда, и сейчас, если вдруг царь умрёт и царевич, останется Федька, а Федька бездетен, хоть сколько лет женат на Годуновихе. Род пресечётся, и что тогда будет? Опять смута! Но, правда, если б царёва сноха не скинула, а родила, и Годуновиха бы тоже родила, и царёва последняя жена Марья Нагая, говорят, уже непраздной ходит, и она тоже скоро родит, тогда что? Кто кому тогда из этих новых трёх царевичей посох и шапку другому уступит? Никто! И опять кровищи будет! Как и тогда, когда… Трофим спохватился и осёкся. Больше ни о чём уже не думалось. Но так он пролежал недолго – Клим вдруг заговорил: – А говорят, что у царя был старший брат. Тайный, конечно. Но убили его злые люди. А так бы какая красота была сейчас: царь умер и царевич умер, а у нас есть ещё один царь в запасе! Как его звали, не помнишь? Трофим, помолчав, ответил: – Откуда мне такое помнить? – Ну, мало ли, – сказал Клим. – Ты вон в каком месте служишь. Все злодеи через вас проходят. – Так он что, был злодей? – спросил Трофим. – Говорят, что был, – ответил Клим. – А как ему было иначе? Чем кормиться? Ему же ничего не дали из отцовского наследства – ни княжьего удела, ни города, ни деревеньки хоть какой бы завалящей, ни даже мошны с деньгами. Перебивайся, как хочешь! Вот он и пристал к ватаге. И так и ватажил, пока его злые люди не выследили и зарезали. Чего молчишь? Разве не так? – Я про это ничего не знаю, – ответил Трофим. – Не знаю, где ты такого наслушался. Язык тебе за это надо было бы укоротить. – Ой, не смеши! – сказал Клим. – А то ты в первый раз про это слышишь. Да про это только все кругом и говорят: был у царя Ивана старший брат Георгий, и не от этой литовской колдуньи рождённый, а от нашей благоверной государыни Соломонии, в иночестве Софии. Ну вот, тоскливо подумал Трофим, опять Клим не даст покоя, что с ним делать? Но тут Клим вдруг сказал: – Ладно, ладно, не робей, больше говорить не буду. После сам будешь просить, но я уже ни слова не прибавлю. И он и в самом деле замолчал. Только было слышно, как он повернулся на бок. Потом ещё немного поворочался, и стало тихо. Трофим по-прежнему лежал на спине, смотрел вверх, в сплошную темноту, и пробовал закрыть глаза, а они каждый раз сами собой открывались. Думать про старшего царского брата Трофиму совсем не хотелось, лучше думать о другом – о том, что Зюзин дал ещё один день на розыск. И даже назвал, кого надо разыскивать – Марьяна. А что его разыскивать?! Иди в подклет и забирай. И что на него ни скажешь, он ни от чего не отречётся. А говорить надо одно – это он царевича убил той кочергой, Савва-истопник про это уже показал под крестом. И те на рундуке при той двери, Фрол Щербатый со своими, и Никифор, сторожничий Верхнего житья – тоже все покажут, что им будет велено. Вот только где кочерга? Вот завтра и Зюзин спросит: где? И велит: покажи! Что сказать? Скажешь одно, а войдёт Годунов и скажет – нет, не так! Или, может, Годунов ещё и сам не знает, что он завтра скажет. Потому что если царевич вдруг выживет, то Годунову надо будет говорить одно, а если помрёт, другое, потому что тогда царским наследником станет другой царевич, Фёдор, и Годунов, его шурин, войдёт в настоящую силу. А Зюзин своей силы лишится и, может, даже головы. Так что же завтра говорить? Вот она, подумал Трофим, служба чёртова, близко к дыбе – можешь сам на дыбу заскочить. И сколько уже заскочило! Ох, суета сует! Трофим мысленно перекрестился и начал читать Отче наш. Потом ещё раз прочитал. Потом ещё. И так читал и читал, покуда не заснул.25
Спал Трофим крепко, но плохо – снилось, что его душили, а он не мог отбиться и проснуться. Дышать было совсем нечем, в груди он ощущал тяжесть, в ушах гудело, губы пересохли, в глазах плясали искры. Эх, думалось, сейчас помру… Но всё же не помер, проснулся. Темнота в каморке была кромешная, воздух тяжёлый, спёртый. Вот от чего был такой сон – от духоты, подумал Трофим. Осторожно встал, на ощупь подошёл к окну и стал открывать его. – Стой! Ты куда это?! – громко воскликнул сзади Клим. – Зарежу! И было слышно, как он соскочил с лавки на пол. Трофим обернулся и сказал: – Ты чего это?! – А ты?! – злобно ответил Клим. – Чего затеял? Куда прёшь?! – Да никуда. Хотел окно открыть. Дышать же нечем. – Днём надышишься! А ночью спи! Трофим скрипнул зубами, вернулся, сел на лавку. Ложиться уже не хотелось, сон напрочь вышибло. Клим чертыхнулся и открыл окно. Да какое там окно – оконце! Но всё равно сразу пахнуло морозцем. На дворе, на воле, было ещё совсем темно. Трофим тяжело вздохнул. Клим опять прикрыл окно, но небольшую щель всё же оставил, вернулся, засветил огонь и лёг на свою лавку. Помолчал, после спросил насмешливо: – Так легче? Трофим не ответил. Клим вдруг опять заговорил: – Какие вы, московские, все злые. Всё вам везде не так. А вот пожили бы вы здесь, тогда узнали бы… Но тут дверь со скрипом приоткрылась, в каморку заглянула чья-то голова и строгим голосом спросила: – Который из вас Трофим Пыжов? – Ну я, – нехотя ответил Трофим. Голова полезла в дверь, это оказался дворовой в дорогом златотканом кафтане. Дворовой вошёл в каморку, остановился напротив Трофима и, заведя руку за спину, стал внимательно его разглядывать. – Ухо показать? – злобно спросил Трофим. – Нет, не надо, – сказал дворовой. – Держи! Из-за спины, из той заведенной руки, подал Трофиму монету. И какую! Золотую! Здоровенную! Трофим отродясь таких не видел. А как она сверкала! Какая была тяжеленная! Трофим держал её на ладони и боялся сжать кулак. Сожмёшь – и сразу пропадёт, так думалось. Клим подскочил со своей лавки, глянул на монету и спросил: – От бабки? – От неё, – ответил дворовой. Трофим посмотрел на них. Они, дворовой и Клим, оба молчали. – Это как понимать? – спросил Трофим. – Он знает, – сказал дворовой, кивнув на Клима. Клим утвердительно моргнул. – А… – начал было спрашивать Трофим… Но дворовой уже развернулся и вышел. Дверь за ним закрылась. Трофим смотрел на монету. Она была и вправду золотая, тяжёлая, в поперечнике почти вершок. На одной её стороне были какие-то узоры, а на другой – латинский крест. – Что это? – спросил Трофим. – Португал, – ответил Клим, – индейская монета. – Это тебя карга в гости зовёт. – Какая ещё карга? – спросил Трофим чуть слышным голосом, потому что вдруг почуял, что громко о таком лучше не спрашивать. И не ошибся – Клим ответил: – Не карга, а нянька царская. Аграфена-ведьма. Слыхал про такую? – Она что, ещё жива? – опасливо спросил Трофим. – Она ещё тебя переживёт! – сердито ответил Клим. – В прошлом году было сто лет, и проживёт ещё сто запросто. Правда, раньше здоровущая была, под притолоку, а теперь смотреть не на что. Маленькая, сухонькая, вёрткая, не помнит ничего, не видит, а какая злобная! Вот так вот на тебя перстом укажет – и ты сразу с ног долой. Трофим вздохнул и опять посмотрел на монету. Клим насмешливо сказал: – Это тебе не овчинка с орлом. А этим можно голову пробить, если с умом ударить. Дай посмотреть! Трофим не дал, будто не слышал, и протянутой руки не видел. Клима взяла злость, и он сказал: – Это она тебя к себе зовёт. Нужен ты ей для чего-то. Для чего, хотел спросить Трофим, но промолчал, не решился. Тогда Клим сам сказал: – А зачем она тебя зовёт, никто не знает. Да и она сама тоже. Она же уже, может, лет двадцать, как совсем из ума выжила. Так и сейчас: мало ли какая блажь ей в голову втемяшилась. Ванюшка-то её вот-вот помрёт, а тут, говорят, прислали из Москвы какого-то, его спасать. Вот она и думает: а что, если не спасать, а наоборот, извести? А что! Из Москвы, она так думает, добра не жди, Москва всегда была полна злодеями, вот и опять они что-то затеяли, прислали молодца, а у того шило припрятано, не приведи Господь пырнет Ванюшу, что тогда? А так она тебя к себе зовёт – и на зубок попробует. У неё ещё два зуба есть, один сверху, один снизу, вот… Клим вдруг замолчал, прислушался… Усмехнулся и продолжил уже громче, почти не таясь: – Она его выкормила. Потом он, за её подол держась, научился ходить. И так он всегда был при ней, покуда беда не случилась. Когда великая княгиня померла, так ох что началось! Ох, сколько больших людей порезали, передушили! И Аграфенина отца, и Аграфенина братца… Какого братца, знаешь? – Знаю. – Вот! Братца особо мучили. А после цепью удавили. А за Аграфену Ванюша просил. Ох, говорят, просил, ох, выл, цеплялся за подол… И её пощадили. Но увезли неизвестно куда и там, говорят, постригли в монастырь. Неизвестно в какой. В такой неизвестный, что после уже царь-государь Иван Васильевич вырос и в силу вошёл, велел её искать по всему царству… А не могли сыскать! И только через двадцать лет Малюта её выискал. В Каргополе. Зюзин ездил туда, вызволял. Игуменью на воротах повесили. А всех тамошних стариц-сестёр… Ну, понимаешь, грех какой! А эту привезли сюда. Так и живёт. И ты, как только развиднеется, с этим золотым баранком к ней пойдёшь. – Да я не знаю, где её искать, – сказал Трофим. – Люди добрые помогут, – сказал Клим. – Только баранок покажи – и отведут. И она там тебя встретит. И сразу за стол, и потчевать! К ней идучи, есть ничего нельзя, она же сама стряпает и угощает всех, а отказался – велит задушить. Недоел – опять душить. А доел – и помер, потому что отравила. Да! А ты как думал?! Она ведьма злобная! Не приглянулся ей – отравит. После скажет: подавился, оттого и помер. У неё частенько давятся, так что никто не удивится, если и ты того… Трофим усмехнулся и сказал: – Брехня всё это. – Зачем брехня? – обиделся Клим. Трофим протянул ему монету. – Нет, – отмахнулся Клим, – это тебе принесено, ты и пойдёшь. – Ещё темно, – сказал Трофим, – не видно ничего. – Ей это не помеха, – сказал Клим. – Она же слепая. Да только получше зрячих видит. Насквозь! Спросит про Марьяна, ты начнёшь кривить, она это сразу почует и велит своим девкам, а их у неё несчётно: «Мучайте его, красавицы!» Ну и замучают. А не будешь кривить, скажешь правду, она пригорюнится и скажет: «Ах, беда какая!» И опять замучают. В прошлом году так семерых замучили, и в этом ты будешь седьмым. А… – Ладно! – перебил его Трофим. – Хватит пугать. Пуганые мы. – Пуганые? – переспросил Клим. – Ну, если так, тогда не испугаешься, когда она у тебя спросит, куда ты кочергу девал. – Какую? – Как какую? Да ту самую, которую мы за печкой в покойной палате нашли, на которой была кровь и волосы и которую ты куда-то снёс! Куда?! – Куда надо, туда снёс. – Вот так и ей ответишь! – радостно воскликнул Клим. – И она скажет: «Ах ты аспид!» И ка-ак плюнет! Ядом! И если в лоб попадёт, так у тебя там кожа слезет до кости. А если в глаз, глаз выжжет начисто, будет вместо глаза ямка. Будешь туда свечку вставлять, чтобы светлее было. И Клим засмеялся. Трофим посмотрел в окно. Там, в щели, уже немного развиднелось. Трофим встал с лавки и сказал: – Пора уже. Пойду. – Иди, иди! Даст Бог, может, ещё свидимся, – язвительно ответил Клим. Эх, гневно подумал Трофим, сейчас бы тебя шилом! Да не срок. Поправил шапку и вышел. В проходе была темнотища. Трофим пошёл вдоль стеночки, на ощупь. Так он прошёл до поворота, повернул и пошёл по переходу в сторону поварни, чтобы дальше повернуть в сторону медного рундука… Как вдруг его схватили за рукав. Трофим обернулся. Там щёлкнули кресалом, выбили огонь. Стало светлей. Трофим увидел двух стрельцов. Один из них спросил: – Пыжов? – Пыжов, – сказал Трофим. – Тогда это тебе, – сказал второй стрелец и подал ему что-то тяжёлое, завёрнутое в рогожку. – Не разворачивай, – сказал первый стрелец. – А велят развернуть, развернёшь. Сам знаешь, кто велит! И тут же дунул на огонь. Опять стало темно. – Иди, – сказал первый стрелец уже из темноты. Трофим пошёл. Шёл и гадал, что это он несёт – тяжёлое, железное. Неужели кочергу – ту самую? И эти стрельцы – неужели это были люди Годунова? Дай-то Бог, чтоб так оно и оказалось. И Трофим шёл дальше, в правой руке держал рогожку с тяжестью, а в левой – португал, тоже совсем не лёгкий. Так он шёл и шёл, и ничего с ним больше уже не случалось.26
Пока он не дошёл до медного рундука. Там, как всегда, сидело четверо стрельцов, но на этот раз все были новые, незнакомые. Трофим остановился перед ними и показал португал. – О! – только и сказал один из них, похоже, старший, и тут же спросил: – Дорогу туда знаешь? Трофим ответил, что не знает. Тогда этот старший стрелец велел одному из своих пособить. Тот поднялся и пошёл. Трофим – за ним. Теперь, уже на царицыной половине, идти было намного легче, ибо в стенах – то справа, то слева, стали попадаться небольшие окна. Смотреть через них было нельзя, так высоко они были прорублены, но свет через них попадал. И вот с этим светом, не спеша, стрелец с Трофимом прошли прямо, потом повернули, потом сразу ещё раз, там их остановили сторожа в высоких шапках, Трофим показал им португал, и сторожа пропустили их дальше. Они пошли вверх по лестнице, миновали горницы, потом светлицы и взошли на самый верх – чердак. Но чердак там был особенный – стены обиты дорогой материей, на потолке парсуны, полы в мелкий дубовый кирпич, выложенный шахматой. А возле единственной двери стояли рынды с серебряными бердышами. Трофим показал им португал, и рынды расступились. Стрелец-провожатый остался в сенях, в дверь вошёл только один Трофим. Там, дальше, были ещё одни сени, тоже очень богато убранные, уже даже с коврами на полу поверх дубовых шахмат. Вдоль стен стояли широкие мягкие лавки, на них сидело много людей, и все они, если судить по их виду и нарядам, были люди непростые. А прямо впереди, перед закрытой дверью, стояла толстая сенная девка, а, может, даже и боярышня, ибо больно много было на ней жемчугов. И только Трофим так подумал, как боярышня заулыбалась, подошла к нему и чуть слышно, но очень душевным голосом спросила: – Трофим Порфирьевич? Трофим утвердительно кивнул. Боярышня взяла его за руку и чинно повела мимо сидящих прямо в дверь. У Трофима колотилось сердце. Чёрт знает что, думал Трофим, не на плаху же ведут, он, что, ведьм не видывал?! А вот, оказалось, что таких и впрямь не видывал. Ибо теперь он очутился в небольшой каморке, в полутьме и в свечной духоте, где слева стоял поклонный крест на полстены, а справа, под божницей, в которой икон было в три ряда, не меньше, сидела сухая, древняя-предревняя старуха сбелыми, ничего не видящими глазами. Старуха была в толстой зимней шубе, а голова у неё, поверх шапки, была укутана тёплым платком. Почуяв приход Трофима, старуха завертела головой, будто сова, шумно принюхалась, довольно усмехнулась и спросила: – Это он? – Он, матушка, – с почтением ответила боярышня. – Сама знаю! – сказала старуха. – И видеть не надо. Фу, как винищем провонял! Ведь провонял же? – Провонял, – сказал Трофим. – Винюсь. – Поздно виниться, пёс, – строго сказала старуха и огладила себя по лбу, поправила сбившийся платок. Рукава в шубе были широченные, а из них торчали тоненькие ручки. Пальцы на них были, как крючки. – Чего пялишься? – злобно спросила старуха. – Рано тебе ещё пялиться. Вот выколют тебе глаза, тогда напялишься! Трофим молчал. Сердце бешено стучало. Старуха усмехнулась и сказала: – Не трясись ты так. Мне до тебя дела нет. Таракан ты московский, вот ты кто. – И вдруг спросила: – Что с Ванюшей? Чую, захворал. Так, нет? Трофим помолчал, в душе перекрестился и ответил: – Захворал. – Крепко захворал? – Да, крепко. – Вот! – громко сказала старуха и, поворотившись в сторону боярышни, продолжила: – Я чуяла! А ты что мне молола, чертовка?! Боярышня сложила руки на груди, испуганно сказала: – Бабушка… – Какая я тебе бабушка?! – взъярилась старуха. – Я государыня княгиня! Мой брат, князь Иван… И осеклась, замолчала. Свела брови и сказала с горечью: – Сожрали волки братца моего, кричали, будто братец на Ванюшу замышлял. Да как бы он мог такое, если… И вновь замолчала, начала жевать губами. Потом замерла, по левой щеке покатилась слеза. Старуха резко смахнула слезу, продолжала: – Мал тогда был Ванюша, не смог братца моего отбить. Извели злодеи братца. Ну да Ванюша того не забыл, и как только вошёл в силу, всем им братца моего припомнил. Поотрубал волкам головы. Так им и надо! Тут она вдруг повернулась в сторону Трофима и сказала: – Не называй меня бабушкой. Называй: боярыня княгиня Аграфена свет Фёдоровна. Запомнил? Трофим послушно кивнул. – Вот и славно, – сказала слепая старуха, как будто видела, что он кивает. – Злые люди называют меня ведьмой. Да только какая же я ведьма, прости, Господи?! – и она перекрестилась. И тут же спросила: – Что с Ванюшей? – Плох государь Иван Васильевич, – сказал Трофим. – Не ест и не пьёт. Не спит. Не говорит. И не узнаёт никого. – Чего это он вдруг так? – спросила Аграфена. Трофим промолчал. Она тогда спросила: – Что Софрон? – Софрон при нём, – сказал Трофим. – И ещё лекаря к нему приставили. Лекарь иноземный, Иван Илов… – Тьфу! Трофим промолчал. Старуха Аграфена, вдова князя Василия Челяднина, ещё немного помолчала, поводила носом, а потом спросила: – А что внучек Ваня? Государь-царевич, что с ним? Чую, что и с ним беда. Трофим, помолчав, тоже сказал: – Беда. – Какая? – Помирает. – Эх! – гневно вскричала Аграфена, размахивая сжатым кулачком. – Я так и чуяла! А эти чертовки молчат! Ведьмы проклятые! Скажу Ванюше, чтобы велел их всех пожечь. Слышишь, ведьма?! – Слышу, – едва различимым голосом ответила боярышня. – Вот и слышь! И пожжёт! Я чего ни попрошу, Ванюша всё исполнит. – И, опять повернувшись к Трофиму, спросила: – Что с царевичем? – Убили его чуть не до смерти. Голову возле виска пробили. – Кто? Трофим не ответил. – Кто, я спрашиваю?! Или онемел? – Онемел, – сказал Трофим. Аграфена удивлённо замерла, похлопала слепыми глазами, повела носом, принюхалась… И уже совсем спокойным голосом спросила: – С чем это ты пришёл? Кочергу, что ли, принёс? – Принёс. – Ту самую? Трофим кивнул. – А! – сказала Аграфена. – Вот как. А ну дай её сюда! Трофим подступил к Аграфене и протянул ей кочергу в рогожке. Аграфена развернула кочергу, ощупала. Сказала: – Тут была прядка волос Ванюшиных. Где прядка? Кто ее сорвал? – Винюсь, – сказал Трофим. – По недосмотру. – Как это? – За злодеем гнался. Бил злодея. Прядка отвалилась. – А, – подумав, сказала Аграфена, – тогда невелика беда. Исправим. А кто злодей? – Да тот злодей, может, совсем и не злодей. – Что-то мудрёно говоришь. Дай руку! Трофим дал. Аграфена, отложив кочергу, взяла Трофима за руку. Аграфенина рука была холоднющая как лёд, и она этой рукой щупала Трофимову горячую руку и что-то сама себе под нос приговаривала. Потом вдруг усмехнулась и сказала: «А!» – и отпустила Трофимову руку. Трофим её сразу убрал, сам сразу отступил назад. Аграфена продолжала сидеть прямо, не шевелилась и даже как будто не дышала. Потом вдруг опять заговорила: – Рука у тебя, чую, чистая. Твоё счастье, пёс, что ты тут ни при чём, а то я тебя прямо сейчас в пепел спалила бы. Синим огнём ты у меня горел бы. А так ни при чём – и не горишь. У меня так всегда – всё по правде. И Ванюша всегда был за правду. Ванюша уже сколько правит, а ещё ни разу никого без правды не казнил. И так и сейчас не казнит! Так Зюзину-собаке и скажи, чтобы не смел над кем попало измываться, а не то я и его спалю! – И после добавила уже спокойным голосом: – Не хватайте всех подряд, не невольте невесть на кого наговаривать. Надо истинных злодеев сыскивать. Уразумел?! – Уразуметь-то я уразумел, – сказал Трофим, – да только как их сыщешь? – Э! – сказала Аграфена, усмехаясь. – Это дело нехитрое. Вот… И вдруг осеклась, поворотилась в сторону боярышни и строго спросила: – А ты чего здесь торчишь? Пошла вон! Боярышня низко поклонилась, развернулась и поспешно вышла. – Вот, – продолжала Аграфена, улыбаясь, – сейчас я тебя научу. Подай-ка мне свечку, любую. Трофим взял ближайшую, подал. Аграфена глубоко вздохнула, надула щёки, после резко выдохнула… И свеча засияла так ярко, что просто на диво. Аграфена стала ходить по каморке и этой удивительной свечой зажигать другие свечи. Все свечи загорались очень ярко. В каморке становилось всё светлей, и она от этого казалась всё просторней. Теперь это была настоящая, богато обставленная светлица. Посреди неё стоял длинный и широкий стол, застеленный толстенной златотканой скатертью, на ней в разных местах лежали веретёна, нитки, пряжа, пяльцы, спицы, коклюшки и ещё какие-то приспособления для разных рукоделий. Трофим обернулся. Рядом с ним стояла Аграфена. Глаза у неё были чистые, без бельм. Вот чудо так чудо, подумал Трофим, вот как его обворожили! Или это ему раньше чудилось, а теперь он видит то, что есть на самом деле? Трофим ещё раз осмотрелся. – Это мои девки сюда ходят, – сказала Аграфена. – Но я их сегодня прогнала, чтоб не мешали. Она подошла к столу, и тогда Трофим заметил там и свою рогожку. Аграфена развернула её и достала кочергу – ту самую. – Это я велела её там поставить, – сказала Аграфена, рассматривая кочергу. – Для Ванюши, для его здоровья, и чтобы никто на него не замышлял. А вот про внучка забыла. Эх, дура старая! И она досадливо ударила кулачком по столу. Потом продолжила: – Ну да беда невелика. Лютая беда была бы, если бы она совсем пропала. А так вернули, слава Тебе, Господи. Аграфена подняла кочергу, поднесла к лицу, принюхалась, сказала: – От меньшого Годунова принесли. Вот уж ушлый человек Бориска! Тяжко будет ему помирать. Ну да это ему ещё не скоро. Она опять принюхалась, быстро повернулась в сторону Трофима и сказала: – Чего стоишь, как пень? Разводи огонь! Трофим осмотрелся. Рядом с ним стояла медная тарелка, изнутри вся закопчённая, как будто в ней жгли огонь. – Ну! – ещё строже сказала Аграфена. – Не знаешь, как огонь разжечь? Дубина! Трофим схватил ближайший моток пряжи и положил в ту тарелку. И тут же заметил рядом кресало и трут, взял их, выбил искру, пряжа задымилась, начал раздувать огонь. Рядом, на столе, вдруг появились тоненькие щепочки, Трофим их подкинул. Пламя сразу занялось. – Славно! Славно! – зачастила Аграфена. – Славно! Вытряхнула из рукава бутылочку, выдернула пробку, сыпнула из бутылочки в огонь каким-то порошком, огонь взвился вверх, загудел. Эх, только и успел подумать Трофим, Господи, не гневайся, Ты же видишь, не по своей воле я… – Сыпь! – гневно велела Аграфена. Трофим схватил подвернувшуюся под руку ещё одну бутылочку – откуда она только взялась?! – и тоже сыпнул из неё. Огонь сбился, задымил. Дым был вонючий. Трофим расчихался, перекрестился… Огонь полыхнул! – Эй! Ты чего?! – грозно вскричала Аграфена. – Спалить меня задумал? Не балуй! Трофим убрал руку за спину, попробовал развести пальцы… А они не разводились! Они так и слиплись щепотью! Матерь Божья, подумал Трофим, заступись за меня, сироту… – Помолчи! – грозно велела Аграфена. Трофим перестал молиться. – Держи! Трофим взял кочергу, пальцы сами по себе разжались, и сунул её в огонь. – Жди, пока не раскалится! – приказала Аграфена. Трофим ждал. Огонь горел ровно, языки были большие, яркие, в тарелке давно было пусто, а огонь ничуть не уменьшался. Кочерга стала понемногу раскаляться. Трофим смотрел на кочергу в огне. Аграфена куда-то ушла. Трофим оглянулся. Аграфена, открыв шкафчик не стене, искала в нём что-то. Наконец нашла коробочку. Трофим сразу отвернулся, опять стал смотреть на огонь. Аграфена подошла к столу, поставила на него коробочку. В коробочке, на красном бархате, лежала прядь волос. Волосы были светло-русые. – Убирай! – велела Аграфена. Трофим убрал кочергу из огня. – Задувай! Трофим задул огонь в тарелке… И опять стало темно, просторная светлица снова превратилась в тесную каморку. Глаза у Аграфены затянуло бельмами. Трофим мысленно перекрестился. Аграфена озабоченно спросила: – Как кочерга? Не горяча? Трофим, стиснув зубы, взялся за раскалённый конец кочерги… Но жара почти не почувствовал. И так и сказал: – Не очень. – Это славно! А то бы сгорели. И с этими словами Аграфена приложила прядку волос к кочерге. Прядка зашипела и прилипла. Аграфена усмехнулась, сунула в рот палец, прикусила, из пальца показалась кровь, она этой кровью помазала прядку. Подула. Кровь быстро засохла. – Повороти! – велела Аграфена. Трофим так и сяк повернул кочергу, потом даже встряхнул ею. Прядка держалась крепко. – О! – сказала Аграфена. – Будто новенькая. Теперь только бы злодей нашёлся, а она его сразу узнает. – Как это? – Выставь руку! Трофим выставил. Аграфена в ответ выставила кочергу и поднесла её близко-близко к Трофимовой руке, почти касаясь её прядкой. Потом убрала. – Вот, – сказала она. – Видел? Прядка хоть бы дрогнула! А был бы ты злодей – заколотилась бы. Дай-ка мне это сюда! И указала на маленький столик. На столике лежал янтарный гребень. Трофим его подал. Аграфена провела тем гребнем возле кочерги – и волосы задёргались и даже заискрились. Аграфена отложила гребень и сказала: – О! Сразу почуял. И так и тот злодей: прядка сразу на него покажет. Ясно? Трофим утвердительно кивнул. – Вот так-то вот! – сказала Аграфена. – Кочерга всё видела, она же там тогда стояла. И она теперь не даст невинных людей на погибель. Ищите злодея! И так и Зюзину скажи, пусть ищет. А не сыщет и невинного кого погубит, будет тогда сам гореть, а я ему ещё горючего песочку под костер подброшу. Так ему, псу смердячему, и передай. Держи! И уходи, покуда цел, не дури мне больше голову. Трофим взял кочергу, низко поклонился, развернулся и поспешно вышел.27
В Аграфениных сенях народу стало ещё больше, на лавках места не хватало, кое-кто уже стоял, и это всё были люди именитые. Но Трофим их не замечал, он шёл и думал о том, что эта сумасшедшая старуха, может, ещё хуже Зюзина – от колдовства не бывает добра! Ну а если это так, и Аграфена – ведьма, то кто тогда сам Трофим, несущий колдовскую кочергу? Колдовской прислужник? Но и так ли это плохо, если, может, только эта кочерга его спасёт? Ведь теперь не он сам, а кочерга будет указывать… И на кого она укажет? На царя? Трофиму стало жарко, он снял шапку, вытер лоб, вышел из сеней, пошёл по переходу. За ним шёл провожатый стрелец и помалкивал. Значит, я правильно иду, думал Трофим, иначе стрелец указал бы. А так он пока молчал. Трофим крепко держал кочергу в левой руке, а в правой у него был португал. Так они – Трофим, за ним его стрелец – и вышли к медному рундуку, за которым, как всегда, сидели четверо сторожевых стрельцов. Трофим показал им португал, они все сразу встали, Трофим начал огибать рундук… И тут они разом на него накинулись! А Трофим был с кочергой, и он мог бы их там всех перекалечить! И он так уже не раз, в других местах, калечивал… Но тут кочерга была не та. Трофим поддался, стрельцы сбили его с ног и повалили, вывернули руки, отобрали португал и кочергу, и уже просто месили по бокам, но он и теперь не отбивался, а только мотал головой и рычал: – Кочергу поберегите! Кочерга казённая! Кочерга, мать вашу, сволочи! Стрельцы на это ничего не отвечали. Но и не били уже, а подняли, поставили на ноги, заломили локти за спину и повели. Старший стрелец шёл впереди, нёс кочергу. Волосы на ней, как рассмотрел Трофим, были целы. Трофим сразу успокоился и стал смотреть по сторонам, прикидывать, куда его ведут. Похоже, к Зюзину. Так оно и оказалось – они опять остановились перед как будто бы глухой стеной, старший стрелец постучался в неё, в стене открылась потайная дверь, и вначале туда вошёл старший стрелец, а следом за ним затолкнули Трофима. Трофим сразу узнал те хоромы – в них его, в первый день, только он приехал, допрашивал Зюзин. Зюзин и теперь сидел на той же лавке, сбоку от него опять горел светец, все стены были без окон, а Зюзин – всё в тех же персидских дорогущих сапогах. При виде Трофима Зюзин усмехнулся. Старший стрелец шагнул вперёд и с поклоном подал кочергу. Зюзин принял кочергу, кивнул. Старший стрелец шагнул назад. Зюзин резко мотнул головой. Старший стрелец, ещё раз поклонившись, вышел. Дверь закрылась. Зюзин негромко, но строго спросил: – К Аграфене ходил? – К Аграфене, – ответил Трофим. – И куда от неё сразу побежал? К Борису? – Нет, сразу к тебе, государь воевода. – Ха! – громко сказал Зюзин. – Это мои стрельцы тебя сюда приволокли. – Нет, – твёрдо ответил Трофим. – Меня к тебе Аграфена послала. А эти, не спросив, как псы, накинулись. – Ха! – опять сказал Зюзин. – Чего эта карга меня вдруг вспомнила? Ты с ней что, уже нашёл злодея? Просил целый день, а тут за одно утро управился! Так или нет? – Нет, не так, – сказал Трофим. – Никого мы ещё не нашли. Да и искать там нельзя, где искали. – Кто это сказал «нельзя»?! – грозно спросил Зюзин. – Ведьма тебе так наболтала, да? – Не наболтала, – ответил Трофим, – а указала. Вот, – он протянул руку и добавил: – Дай! Зюзин сидел неподвижно. Трофим, не убирая руку, продолжал: – Я, государь-воевода, много чего на своём веку видывал. Но государыня царева нянька меня в крепкую робость ввела. – Чем? – Да вот этой кочергой. Видишь на ней волосики? Зюзин утвердительно кивнул и посмотрел на Трофима. Трофим еще раз сказал: – Дай. Зюзин подал ему кочергу. Трофим взял её и осмотрел. Потом резко понял голову, глянул Зюзину прямо в глаза и велел: – Выставь руку, государь! Зюзин, подумав, выставил. Трофим поднял кочергу и провёл ею рядом с зюзинской рукой – волосы на кочерге не шелохнулись. – Вот! – с усмешкой продолжал Трофим. – А если бы ты был злодей, волосы бы заскворчили. – Колдовство! – сердито сказал Зюзин. – За колдовство я тебя на кол посажу. – А Аграфену? – Что Аграфену? При чём здесь она? – А при том, что она научила так искать злодея этой кочергой. Потому что, как она сказала, это не простые волосы, а эта прядка государя нашего царя Ивана Васильевича. Или и он тоже колдун? – Э-э-э! – громко воскликнул Зюзин и даже привскочил на лавке. – Ты мне это смотри! Язык вырву! Я вижу, ты совсем страх потерял. Забыл, перед кем стоишь. – И вдруг грозно выкрикнул: – Пёс! На колени! Трофим повалился на пол, прижал шапку к груди и, глядя на Зюзина, начал быстро-быстро говорить: – Государь боярин, воевода, батюшка! Прости пса смердячего! Околдовала она меня, охмурила! А как грозила всяко, прости, Господи! Говорила: я к тебе во сне приду и задушу, и не проснёшься! И как плюнет ядом! Как дохнёт огнём! – Ну, ну! – засмеялся Зюзин. – Не криви! – А я и не кривлю! – Побожись! Трофим истово перекрестился, при этом жарко думая: «Господи, спаси и сохрани, прости мя, грешного, не ради же себя!..» И успокоился. – Что это? – спросил Зюзин, указывая на кочергу. – Она, государь, сказала, что это прядка государева, и эта прядка там была, когда та беда случилась, и она того злодея помнит, посему как только он к ней притронется, она сразу заскворчит! – Колдовство! – сердито сказал Зюзин. – И бесовство, – добавил Трофим. – Да ещё какое! Я, государь, только вошёл к ней в каморку, она взяла свечу, вот так дунула – и я уже в светлице. Вот как! А ещё раз дунула – и я в цепях! А она уже: а я Ванюше расскажу, и он вас всех на колья пересадит! – Побожись! Трофим ещё раз перекрестился. Зюзин нахмурился, сказал: – Скорей бы эта ведьма сдохла! Трофим согласно кивнул. Зюзин подумал и спросил: – Так что теперь? – Как прикажешь, государь. Мы кто? Мы псы. Зюзин помолчал, насупился. После сказал: – Дай сюда! – и протянул руку. Трофим подал кочергу. Зюзин её забрал, сказал: – Если это не та прядка, я велю тебя отдать собакам. Зашить в медвежью шкуру, кровью обмазать и отдать. А пока иди. А это, – сказал Зюзин, – я покажу кому надо. А ты иди, иди! Подожди за дверью. Трофим развернулся. И тут вдруг постучали в стену с другой стороны. Условным стуком. Зюзин удивленно поднял брови и сказал: – Нет, погоди. А тому, кто стучал, велел входить. Вошёл дворовой служитель и уже собрался говорить… Но заметил Трофима и замер. – Говори, говори! – велел Зюзин. Дворовой сказал: – Алёна-дура на косе повесилась! – Ох! – громко воскликнул Зюзин и тут же спросил: – Насмерть? – Не совсем. – И что она теперь? – Молчит. – А крепко спрашивали? – Как тут было крепко? И так ведь была чуть живая. – Болваны! – грозно сказал Зюзин. – Где она сейчас? – У себя. Дали зелья, она спит. – Давно спит? – Только положили. И я сразу же сюда. – Это верно, – уже мягче сказал Зюзин. Подумал и сказал: – Выйди пока что. Дворовой развернулся и вышел в ту же дверь, в которую входил. – Иерои! – сказал Зюзин и задумался. Потом повернулся к Зюзину и нехотя начал говорить: – Ну, коли царь тебя позвал… Так и я тебя пошлю. К той Алёне. – Какой Алёне? – Шереметевой, – ответил Зюзин и добавил: – К царевичевой жене, царской невестке. – И уже громко, гневно продолжал: – На косе хотела повеситься. Дура! На косе надо уметь. А она ничего не умеет. Да и не одна она! Она у Иванки уже третья! Первые две были порожние, царь их прогнал, взял эту. Ну и эта тоже ходила, ходила, уже и перестали ждать… И вдруг забрюхатела! Ой, было разговоров, радости!.. А сегодня взяла да и скинула. Слыхал? Трофим пожал плечами. Зюзин злобно выкрикнул: – Слыхал?! – Слыхал, – тихо, с опаской ответил Трофим. Зюзин усмехнулся и продолжил: – Говорят, она нарочно скинула. Ей, говорят, наколдовали, будто она в чреве чёрта носит. А кто ещё, говорят, может от такого муженька родиться? И она поверила и скинула. Дура! Вот ты теперь и сходи и узнай, так это или нет. – А… – начал было Трофим и покосился на кочергу. – А это уже не твоё дело, – строго сказал Зюзин. – Знающие люди глянут, скажут, что это за прядка здесь прилеплена, нет ли в ней какой порчи. И если есть, сядешь, скотина, на кол. А пока иди. Иди, я кому сказал! – и указал на дверь, в которой скрылся тот дворовой человек. Трофим поклонился, развернулся, надел шапку и пошёл.28
За дверью было темно. Трофим остановился. – Ты кто такой? – спросил, судя по голосу, тот самый дворовой. Спросил совсем рядом. Трофим повернулся на голос и назвал себя. – А! – усмехнулся дворовой. – Тот самый! Из Москвы. Тогда понятно, пошли! – и, крепко взяв Трофима за руку, повёл. – Куда мы? – спросил Трофим. – Сперва во двор, – ответил дворовой. – Раньше ходили прямо. Тут ходу всего ничего. Но как царевича убили, ход к ним велели заколотить. Чтоб не шатались и не болтали. И ты, – строго продолжил дворовой, – чтобы молчал. Чего ни увидишь, молчи. И как оттуда выйдешь, сразу всё забудешь. Ясно? Трофим ответил, что ясно. А сам подумал: вон какие тут дела: Шереметевых заколотили, чтобы слухов не было, и чтобы не сбежал от них никто, и чтобы чужой к ним не влез. Но это Трофим так только думал, а вслух ничего не говорил. Дворовой тоже молчал. Они прошли ещё немного, повернули, сразу посветлело – в стене были прорублены окна. Прошли мимо тех окон, спустились вниз и через сени вышли на медное крыльцо – то самое, через которое его вводили во дворец, когда наверху его ждал Годунов, чтобы отвести к Зюзину… А теперь Трофим отсюда выйдет на вольную землю, на снег! На чистый воздух после всего этого смрада! Трофим шагнул вперёд… Но рынды тут же выставили бердыши, Трофим остановился. Дворовой что-то сказал, рынды ответили, он тогда ещё что-то сказал – и рынды убрали бердыши. Дворовой толкнул Трофима в спину, Трофим очнулся и пошёл вниз по крыльцу. День был ясный, небо чистое, светило солнце, земля вся в снегу, морозило. Трофим сошёл с крыльца, остановился и вздохнул всей грудью. Стало хорошо. Но дворовой тут же опять толкнул Трофима. Трофим пошёл за ним. Они шли вдоль дворца по тропке. Справа от них был дворец, слева пустырь, а за ним крепостная стена. И ничего там больше не было! Только сзади, с левой стороны, была видна так называемая Митрополичья звонница, а впереди, тоже слева, стояли высокие каменные палаты с маленькими узкими окошками; за палатами виднелась Троицкая башня – её верх с шатром. Там, если верить Мотьке, и был скрыт сухой каменный колодец, через который есть пролаз на волю. Ну да как дойти до этой башни, если её загораживают эти чёртовы палаты, про которые кое-кто поговаривал, что это тайный монетный двор. Там, говорили, колдун доктор Илов колдует и варит из свинца золото, поэтому там в каждом окне по стрельцу, стрельцы с пищалями, при пищалях горят фитили. Так что только туда сунься, сразу пуля тебе в лоб. Свинцовая! Казне убыток! Поэтому того, кого убьют, сразу несут в палаты, там доктор Илов пули достаёт и бросает их в котёл. От таких пуль котёл ещё сильней кипит, доктор черпаком его помешивает, заговорённые травки в него подсыпает… Но дальше Трофим вспомнить не успел, потому что они дошли до угла, и нужно было поворачивать. Они повернули вдоль стены направо и пошли задами. Опять с правой руки был дворец, а с левой – сад, весь заснеженный, а за садом вновь стена. Сад, как слыхал Трофим, назывался Царицыным. Трофим с дворовым прошли вдоль дворца совсем немного, шагов двадцать, и остановились перед новеньким, ещё пахнущим смолой, деревянным крыльцом. Крыльцо было без стражи, узкое и без резьбы, ступеньки ничем не покрыты. Как в деревне, подумал Трофим. А дворовой сказал со злостью: – Вот так! От всех отгородили! Как псов шелудивых! Они поднялись по крыльцу. Дворовой постучал. Одна створка двери открылась, за ней стояли стрельцы с бердышами и пищалями. – Привёл, – сказал дворовой. Стрельцы расступились. Дворовой и Трофим вошли в сени, прошли дальше, опять в тесноту и смрад, ещё прошли и повернули – и вошли в здоровенные сени, очень богатые, с пустыми лавками вдоль стен (а раньше здесь, наверное, толпились, как у Аграфены), и подошли в дверям, обитым золочёными листами. Возле дверей стояла ближняя боярыня, не меньше, если судить по нарядам. Они подошли к боярыне. Та побледнела и попятилась. – Дура, не бойся, – сказал дворовой. – Это от Зюзина. Лекарь! И хмыкнул. Боярыня перекрестилась. – Отведи его! – продолжил дворовой. Боярыня взяла Трофима за руку и повела. Остановилась, постучала в дверь, потом открыла. Трофим вошёл и осмотрелся. Горница была богатая, просторная. В дальнем от окна углу стояла молодая красивая женщина, одетая в дорогие одежды. В одной руке она держала небольшое зеркальце, всё в самоцветах, и смотрела на Трофима – очень настороженно. Это и была Алёна Шереметева, жена старшего царевича Ивана, так надо полагать. Трофим снял шапку. – Ты кто такой, пёс? – строго спросила Шереметева. – Я не пёс, меня зовут Трофим, – ответил Трофим и поклонился ей большим обычаем, чиркнув рукой по ковру. А распрямился, снова посмотрел на Шереметеву. Она продолжала стоять, не садилась. И стояла как-то боком. Она так стояла оттого, что у неё был синяк под левым глазом, и хоть его засыпали мукой, он всё равно был виден, если присмотреться. Да и припух глаз, подумал Трофим. Надо было сразу лёд приложить, и всё прошло бы. И ещё подумалось: вряд ли кто посмел бы поднять на нее руку, кроме самого царевича. Или сама упала, оттого и скинула. Такое тоже могло быть. Шереметева села на лавку, и села опять правым боком, чтобы того глаза видно не было. Сил нет. Ещё бы, подумал Трофим, бабы после этого чуть ходят. А Шереметева гневно сказала: – Чего пришел? Кто тебя прислал?! – Меня прислал царь и великий государь Иван Васильевич справиться о твоём здоровье, матушка, – ответил Трофим. Шереметева сердито хмыкнула. Трофим как ни в чём не бывало продолжил: – И он ещё велел спросить, может, у тебя есть в чём нужда, так он велит прислать. Шереметева что-то сказала так тихо, что Трофим ничего не расслышал. И он продолжил: – Я так и передам, что ничего тебе не надобно. А ещё царь и великий государь Иван Васильевич спрашивает о твоём здоровье. – Скажи, что ещё жива! – А дальше царь великий государь желает знать, как здравствует твоё дитя, которое ты под сердцем носишь. Шереметева побледнела и замерла. Смотрела на Трофима, не моргала, а потом спросила: – А он, что, ничего не знает? – А кто ему такое скажет?! – ответил Трофим. – У кого на такое язык повернётся? Шереметева молчала. Вдруг у неё по щеке покатилась слеза. Мука намокла, поползла, стал виден синяк под глазом. – Кто тебя так? – спросил Трофим и показал на свой глаз. – А то не знаешь! – сердито ответила Шереметева. – Государь Иван царевич, кто ещё. Слава Тебе, Господи, замужняя жена, есть кому бить. – За что? – Просто так. А если бывает за что, он тогда… – И Шереметева с усмешкой продолжила: – Да это ерунда. Мы к этому привычные. А ты что, пришёл выпытывать? – Нет, спрашивать. И с этими словами Трофим резко подступил к ней, достал целовальный крест, подставил его почти к самым её губам и сказал: – Допрос буду чинить! И вести розыск! По велению царя и великого князя Ивана Васильевича. Ты кто такая? Назовись!!! Шереметева перепугалась, но молчала. – Ну! – грозно велел Трофим. И она нетвёрдым голосом ответила: – Алёна я. Из Шереметевых. Батюшка мой, покойный Иван Шереметев Меньшой, второй воевода Большого полка, его под Ревелем ядром… – И замолчала, дух перевела, едва слышным голосом спросила: – А чего царь хочет? – Это он после решит, – сказал Трофим. – А теперь целуй и говори, что будешь отвечать только по правде, не кривить, и на том клянёшься Святой Троицей, кровью Господней и спасением своей души. Клянись! – Клянусь! – Целуй! Поцеловала. И спросила шёпотом: – А что теперь? Будешь пытать? – Это не моё дело, – ответил Трофим, убирая крест на место. – Моё дело – спрашивать. А пытают у нас нарочно обученные этому люди. – Царевен пытать нельзя! – Ты не царевна. Ты жена царевича. В тебе нет царской крови. Тебя можно. – Свинья! – И замахнулась!.. Но не достала – Трофим перехватил её руку, крепко сжал и отпустил. Будут синяки, подумалось. Шереметева сидела молча, неподвижно. Трофим медленно заговорил: – Недобрые речи о тебе ведутся. Будто ты нарочно дитя скинула. Чтобы государю досадить. – Да как… – Так говорят! – сердито перебил Трофим. – Да разве так можно? Да это же моё дитя родное… – Родное-то родное, а вот взяла досада и скинула. – Какая ещё такая досада?! – Простая. Сказали, что ты чёрта носишь, что какое ещё дитя можно от такого муженька родить? Вот ты напугалась и скинула. Трофим испытующе глянул на Шереметеву. Но та сидела спокойная. Значит, ей это не впервой, значит, она уже слыхала такое, подумал Трофим. А Шереметева ещё немного помолчала и заговорила без всякой обиды: – Мало ли что люди брешут. Но это же моё дитя. Какое бы оно ни было, а оно моё родное. Да по мне хоть чёрт, а только чтоб моя кровиночка. Я б ради него, только было бы оно живое… И тихо заплакала. Трофим терпеливо ждал. Шереметева отплакалась, утёрлась платочком, сказала: – Как услыхала, что Ванечка помирает, сердце зашлось! Умрёт Ванечка, подумала, и люди меня убьют. Ведь убьют, ведь так?! – Почему? – сказал Трофим. – Могут и не убивать. Ведь разве же из-за тебя царевича убили? Но Шереметева, будто его не слышала, продолжила: – Ой, выла я тогда, ой, помирала. Скрутило меня, как… Да не поймешь ты! Это бабье! И вдруг скинула. И меня сразу сюда… – И, сама себя перебивая, продолжала: – Мне же раньше, с самого начала, как сказали? Родишь – будешь царицей самовластной, не родишь – упекут в монастырь, а то и совсем изведут. И я так старалась! Какая я была! А этот… И вдруг замолчала, помрачнела. – Что этот? – спросил, немного подождав, Трофим. Шереметева улыбнулась, продолжила: – Ванечка меня любил. Подарки дорогие даривал. В санях катал. Скоморохов зазывал. А… И опять замолчала, беззвучно заплакала. – И ты понесла? – спросил Трофим. – Понесла, – ответила она сквозь слёзы. – Ох, он рад был! Он… Замолчала. Трофим опять спросил: – А глаз он тебе за что подбил? – Какой глаз? Кто подбил? – А этот вот, левый, Ванечка подбил? Или сам царь великий князь? – Царя государя великого князя я уже недели с три не видела, – сказала Шереметева. – Он всё у Маньки Нагой, день и ночь. Вот кто царя присушил – Манька! Вот с кого надо расспрос снимать. Она же говорит: вот забрюхатею, рожу царевича, и вас, выдр, всех велю изгнать из дворца, голым задом по сугробу! Так и говорит! И покраснела, перекрестилась на иконы. – Так, говоришь, – сказал Трофим, – давно царя не видела? – Давно. – И глаз тебе подбил твой государь царевич? Шереметева, подумав, кивнула – да. – В тот самый день подбил? – спросил Трофим. – За что? Она покраснела, нехотя ответила: – За что всех, за то и меня. Пришёл под утро, пьяный, чужой бабой от него разит. Ну, я и сказала. – А он в глаз? – Ну, и не только в глаз. Не выбирал. – Что говорил при этом? – Всё что ни попадя. И что я такая, и что этакая. – Какая же ты этакая? Ты же ему дитя носила! – Ну, может, он сказал, и не ему. – Вот как! – Чего вылупился?! – гневно воскликнула Шереметева. – Какое твоё дело?! Сейчас кликну псарей, они тебя быстро на мясо кому надо скормят! – Будешь царицей, скормят. А пока что отвечай! И не криви! Он сказал, что не ему ты дитя носишь. А кому?! – Этого он не говорил, – ответила Шереметева. – Пьян крепко был. А только говорил, что я, как его бабка, на стороне забрюхатела. Трофим сделал вид, что ничего не понимает. Тогда Шереметева добавила: – А то ты этого не знал! Все знают! Про то, что Ванечкина бабка, царя Ивана матушка, тоже Алёна, как и я, да только Глинская, не от великого князя Василия Ивановича забрюхатела, а от Ивана Фёдоровича Овчины Телепнёва-Оболенского, кобеля проклятого, няньки Аграфены брата. И тогда эта Аграфена царю не столько нянька, сколько родная тётка. Вот почему она царя так любит, а царь её. Вот что государь царевич тогда крикивал! И мне по морде! По морде! И у меня глаз заплыл. А он встал, оделся и ушёл. – Куда? – А я откуда знаю? Да, наверное, опять туда, откуда пришёл. А как только развиднелось, он, ко мне уже не заходя, явился к батюшке-царю, там они пошли в покойную, Ванечка был очень зол… Ну и дальше сам всё знаешь. И я как про всё про то узнала, так и повалилась как сноп. Лежала, тряслась, как осенний лист, три дня – и скинула. Трофим молчал. Теперь ему всё было ясно: царь, наслушавшись Ададурова, был крепко зол, так же и царевич, после ссоры с Шереметевой, был зол. Ну, они и сошлись, слово за слово, царь осерчал… Ну и так дальше. Понятное дело. И все это здесь понимают. А отвечать тебе, Трофим! И на кол – тоже тебе. Трофим тяжело вздохнул, посмотрел на Шереметеву, сказал: – За поносные речи на государя царя и великого князя, знаешь, что полагается? Язык тебе отрежут, вот что. Но сперва ты нам расскажешь, кто тебя на это надоумил. Кто? Шереметева молчала. Трофим продолжил: – Назовёшь кого, будем его разыскивать. Не назовёшь, будем из тебя выпытывать. Ну?! Шереметева поморгала, слёз уже не было, и медленно ответила: – Это мне за дитя. Не уберегла, теперь хоть режьте. Да и что мне теперь ваши муки, когда у меня и без них сердце на клочья разрывается?! Она закрыла лицо руками и стала качать головой. Потом убрала руки, проморгалась и заговорила ровным, безразличным голосом: – Говорили мне добрые люди: не выходи за него. Говорили: лучше удавись. А я не удавилась, дура. – И вдруг спросила: – У царя был брат? – Был, – ответил Трофим. – Младший, Юрий. – А старший был? – Какой еще старший? Откуда? – с большим удивлением спросил Трофим. А она зло ответила: – Какой, какой! От Соломонии. От первой великого князя жены. Не от Алёны, второй, а от Соломонии, первой. – Да что ты такое говоришь?! – уже в сердцах сказал Трофим. – Не было у Соломонии детей, оттого великий князь с ней и развёлся и женился на Алёне Глинской, и были у них сын Иван, наш царь, и Юрий, его младший брат, ныне усопший. – Э! – сказала Шереметева. – Кому кривишь?! Может, мне завтра помирать, а ты кривишь. Перекрестись! Трофим растерянно перекрестился. Шереметева, усмехаясь, продолжила: – А теперь слушай. Да, это верно, долго великий князь жил с Соломонией бездетно, двадцать лет, и всё не было у них наследника. Тогда великий князь, посовещавшись с боярами, и с благословения митрополита, отослал Соломонию в монастырь, а сам женился на Глинской, на Алёне. И опять же не было у них детей, пять лет! А потом вдруг родился. Сын Иван! Тут Шереметева, не удержавшись, тихо засмеялась. А отсмеявшись, помолчала, облизала губы и продолжила: – Вот как царь Иван родился! Смекаешь?! А Соломония была тогда уже в монастыре Покровском, в Суздале, с дитём. – Каким ещё дитем? – тихо спросил Трофим. – Каким, каким! Таким, какого родила. После того, как государь её прогнал, через полгода, по весне. Назвали Георгием. И государь великий князь про это знал! Да околдован был. Глинская его околдовала! А вот наколдовать себе дитя Бог не давал. Тогда она… Грех повторять! И сразу забрюхатела и родила – царя Ивана! А в Суздаль, в монастырь, верных людей послали. Да не успели те верные люди! Спрятали Георгия. И он до сих пор жив, в надёжном месте обретается. Выйдет – и убьёт царя Ивана! И так и моего сыночка отобрали у меня и спрятали. Я знаю! Жив мой соколик! Жив! И ещё прилетит, и всем вам глаза выклюет! А тебе я их сейчас выдавлю! Пёс! И Шереметева вдруг подскочила, кинулась! Трофим отскочил, да зацепился ногой за ковёр и упал, Шереметева на него навалилась и стала душить! Трофим пытался вырваться – не получалось. Шереметева держала его крепко, руки у неё стали будто железные. Трофим начал задыхаться, закричал, попробовал брыкать ногами, повернуться на бок – ничего не получалось! Прости, Господи, подумал он, прими раба своего неразумного, душит меня бешеная баба – и задушит! А она рычала страшным голосом и душила всё крепче и крепче, Трофим ничего уже не видел, кровь залила глаза… Но тут раздался шум, это распахнулась дверь и в горницу вбежали, закричали и затопали! Схватили Шереметеву и стали её отрывать от Трофима, оттаскивать, она кричала дико, не давалась… И всё же её оторвали, повалили на лавку, прижали, держали за руки, за ноги. Держали стрельцы. А ближняя боярыня металась рядом, причитала что-то непонятное и воздевала руки. Трофим вскочил, поднял целовальный крест, замахнулся им и закричал: – А ну тихо! Всех поубиваю! Стрельцы опомнились и замерли. Ближняя боярыня застыла с поднятой рукой, будто её околдовали. Шереметева затихла, перестала дёргаться и теперь смотрела только на Трофима. Трофим убрал крест, поднял с пола шапку, надел её и сказал: – Выходите. Я сейчас с ней договорю. Ну! Что?! Не слышали?! Стрельцы и боярыня вышли. Шереметева села на лавку, медленно утёрла губы. Потом подняла глаза и посмотрела на Трофима. Глаза у неё были безумные. Трофиму стало её жалко. – Дура, – сказал Трофим. – Если где ещё такое брякнешь, язык вырвут. Просись в монастырь. Шереметева чуть слышно всхлипнула. Трофим ещё раз сказал: – В монастырь! Ибо на воле ты не выживешь – убьют. Шереметева в ответ заулыбалась. Трофим тяжело вздохнул и вышел. В сенях его дожидались стрельцы и боярыня. Трофим, повернувшись к ней, сказал: – Государыню одну не оставляйте. Тронулась. – А что говорила она? Что говорила? – зачастила боярыня. – А чего она может сказать? – сердито ответил Трофим. – Обезумела она, вот что, лечить её теперь надо, отпаивать. И он пошёл, на ходу подумал, что это всё, чем он сейчас может ей помочь. Хоть бы ему кто-нибудь помог! И вышел.29
Как только Трофим вышел из сеней, к нему сразу подошли двое стрельцов. Трофим их узнал, это были зюзинские. Они молча повели его по переходу, повернули, вышли на крыльцо, сошли с него и повели задами вдоль дворца. День был погожий, морозный. Трофим дышал полной грудью, спешил надышаться. Потом они опять поднялись на крыльцо, опять на медное, пошли знакомыми углами и вскоре вышли к зюзинской стене, постучали к неё, открылась потайная дверь – и Трофим вошёл в неё. Один, конечно. Посреди хоромины сидел на своей лавке Зюзин, сбоку горел светец, а сам Зюзин держал в руке кочергу – ту самую, царскую – и поигрывал ею. Ага, радостно подумал Трофим, принял-таки Зюзин кочергу, слава Тебе, Господи, и мысленно перекрестился, снял шапку и поклонился великим обычаем. Когда он распрямился, Зюзин насмешливо сказал: – Знаю, знаю! Эта дура блаженной прикинулась. Ну, так и будет блаженной. Сама напросилась. Посадим на цепь. Эх, с досадой подумал Трофим, вот и насоветовал. Язык бы обкусить! А Зюзин уже продолжал: – И кочерга твоя – так себе. Тоже невеликая добыча. Знающие люди посмотрели, говорят: бабья работа, хлипкая. Ну да испытаем, ладно. А не покажет никого, мы на тебя покажем. Руку выставь! Трофим выставил. Зюзин поднёс к ней кочергу, но волоски не дрогнули. – О! – с досадой сказал Зюзин. – Видишь? Не трещат. – Так я же не убивал! – А если задумывал? Чую ведь: задумывал! Вот и должны были трещать. А не трещат. Ну да там дальше посмотрим. Но знай: не найдём никого, я тебя этой самой кочергой… И тут Зюзин замолчал. Трофим настороженно спросил: – Так это что, дальше уже не я буду искать? – А зачем ты нам теперь? У нас теперь есть кочерга вместо тебя. Трофим закусил губу. А что, подумал он, пускай сами это разгребают, а он, пока не поздно, на коня – и скорей отсюда, домой, в Москву! Но, тут же подумал, а если не найдут здесь никого? Вот тогда ему уже никак не вывернуться, тогда его сразу на кол! И Трофим торопливо сказал: – Нет! Так нельзя! Вы так никого не сыщете. Это только я могу сыскать. Баба Аграфена так и говорила: эта кочерга мне в руку, только мне! Так она наворожила. Иди, у неё спроси! – Ну… – начал было Зюзин… – Дай! – громко сказал Трофим, протягивая руку. Зюзин взглянул на него, прищурился, сказал: – Ну, Трофимка, сам на дыбу лезешь. Лезь! И протянул кочергу. Трофим взял её и тотчас же подумал: дурень, дурень, Зюзин прав, теперь буду один за всё в ответе! А Зюзин сказал: – Ладно. Хватит чесать языками. Розыск не ждёт! И вот что я надумал: сделаем это вот как – пойдём в покойную, будем людей вызывать и испытывать. Покойная теперь – огого! Мимо неё ходить боятся. А затащить туда да испытать – всё выложат! – А затаскивать кого? – спросил Трофим. – Вот то-то и оно! – воскликнул Зюзин, злобно усмехаясь. – Место там продувное – это при той второй двери, там кто только в тот день ни шастал: и по поварским делам, и по истопничьим, и сторожа, и стрельцы, приживалки… Тьфу! Полдворца смело бери испытывать. – Так сколько же мы этак будем… – начал было Трофим. Но Зюзин строго перебил: – Сколько надо, столько будем! А что! Тут любой мог это сотворить: выскочил из-за спины, тырц кистенём в висок – и готово! А с кем Марьян на это сговорился, кого пропустил в ту дверь, откуда теперь знать? Марьян же пропал. – А что Марьян? – Как что? Сидел тогда на рундуке, смотрел за дверью, после кого-то вдруг недосмотрел – по сговору – и тот проскочил и убил. А после и Марьян пропал. Не зря это, ох, не зря! Заметали следы! Но вот если бы сейчас найти Марьяна, он бы нам сразу указал, кого искать, и тогда и без кочерги бы управились. – А если мы никого не найдём? Если кочерга ни на кого не укажет, тогда как? – Тогда это Марьян убил. – Так он на рундуке сидел! Все говорят… – Да мало ли что говорят! И не под пыткой же. Человеку глаза отвести – это раз плюнуть. Вот он тогда и отвёл. Они сидят и ничего не видят, а он шнырь в дверь! И убил! А теперь пропал. Значит, он и есть злодей. Так? Или не так? Трофим молчал, а сам думал: а чего, и правильно, и никого больше казнить не надо, всё на Марьяна спишется, а ему что, он убитый, ты только не говори им про это, и розыск закроют. И тебя в Москву отпустят. К Гапке… – Чего это ты бормочешь? – громко спросил Зюзин. – Ты яснее говори! – Виноват! – сказал Трофим. – Что мне твоя вина? Мне злодей нужен, – сказал Зюзин. Обернулся и позвал: – Амвросий! Вошёл Амвросий – стрелец, не из простых, потому что был с начальным посохом. Зюзин сошёл с лавки, взял Амвросия за рукав, отвёл в сторону и начал ему что-то нашёптывать. Амвросий кивал. Потом развернулся и вышел. Зюзин постоял, подумал, потом повернулся к образам, перекрестился и сказал: – Пойдём и мы. Испытаем кочергу заветную. Трофим тоже поднял руку, чтобы перекреститься, как Зюзин вдруг сказал: – Да! Совсем забыл. Софрон про тебяспрашивал. – Какой Софрон? – переспросил Трофим, невольно опуская руку. – Как какой?! – сердито сказал Зюзин. – У нас один Софрон – царёв заступник. Вспомнил?! Ну как же, подумал Трофим и кивнул, того колдуна разве забыть?! Царица Небесная, спаси и сохрани! А Зюзин продолжил: – Я сегодня к государю хаживал. До самого меня не допустили, конечно, а выходил ко мне Софрон, и я ему обсказал, что да как. А он тогда спросил, как розыск. Я ответил, что идёт. А он грозно спросил, чего так долго? И уже прямо про тебя спросил, кто ты таков, где служишь, где твоя родня. – Нет у меня родни! – торопливо воскликнул Трофим. – Я один! – Это плохо, – сказал Зюзин. – Без родни человек скользкий, ненадёжный, так и норовит вильнуть да выскочить. Сколько раз я говорил: который без родни, того в службу не брать. И твоему князю Михайле говорил. И повторю ещё, если будет такая нужда! Тут он пронзительно посмотрел на Трофима и уже не так грозно продолжил: – Ну да и без родни любого человека есть за что держать. Ведь есть же? – Есть. – Вот! И не забывай про это. А я ещё раз говорю: Софрон сказал, розыск пора заканчивать. И я тебе сегодня в этом пособлю. Я полдворца подниму и прогоню под кочергой! Всех подряд! Не посмотрю, кто в какой шубе, а за бороду – и в покойную! И испытать! И не робеть! Только под кем волосья заскворчат – того сразу к Ефрему! Уяснил? Трофим кивнул. – Вот так-то, – сказал Зюзин. – А то, Софрон говорит, царь на поправку пошёл, уже начал кое-кого признавать, уже кашки отведал. С мёдом. Даже спрашивал про Псков. А если вдруг спросит про царевича? Что скажем? Понял меня? – И, не дожидаясь, продолжил: – Вот так-то. Пойдём! В покойной извелись уже.30
Они вышли из хоромины. За дверью их уже ждали стрельцы и огонь. Они пошли. С огнём идти было легче. Но они шли почему-то не прямо, а кружным путём. Молчали. В покойной, при двери, стояли рынды, а дальше, за ними, у стены, был виден Клим и ещё кто-то из стряпчих. Зюзин и Трофим вошли в покойную. Там всё уже было готово к розыску: окно расставлено, из него шло много света, от растопленной печи шёл жар, а за царским столиком сидел пищик, готовый записывать. Завидев Зюзина, пищик вскочил и поклонился. Зюзин махнул рукой. Пищик сел. Из-за печи вышел Амвросий, тоже поклонился и сказал, что можно начинать. Зюзин прошёл и сел на лавку при стене. Трофим встал возле столика и приподнял кочергу. Зюзин обернулся на Амвросия. Амвросий подошёл к двери, открыл её и велел заходить. За дверью немного потолклись, попререкались, а потом Клим ввёл Никифора – сторожничего Верхнего, иначе, царского житья. Вид у Никифора был сильно оробевший, глаза бегали, руки дрожали. Вот так-то, невольно подумал Трофим, это вчера, когда тебя про Мотьку спрашивали, ты губу выпячивал и морду воротил, а теперь вон какой смирный! – Кто таков?! – надменно спросил Зюзин. – Никифор Петров сын Цыплятев, – ответил Никифор тихим голосом, облизал губы и добавил: – Сторожничий. Был. – Ну, это ещё рано: «был»! – сказал Зюзин, усмехаясь. – Может, ещё и дальше будешь, – и посмотрел на Трофима. Трофим вместо целовального креста выставил вперёд кочергу и велел: – Выставь руку! Никифор выставил. Трофим поднёс к ней кочергу и поводил взад-вперед. Волосы на кочерге не шелохнулись. Трофим, повернувшись к пищику, сказал: – Не дрогнуло. Пищик так и записал: «Не дрогнуло» – с красивой завитушкой. Никифор заулыбался. Трофим махнул рукой. Никифор развернулся и пошёл к двери. Шёл и почти подскакивал от радости. Ещё бы! Следом за Никифором Клим ввёл Фрола Щербатого, Марьянова десятника, старшого с того рундука. Фрол был красный, губы мокрые. Противно было на него смотреть. Трофим, когда его испытывал, вдруг почему-то подумал, вот было бы забавно, если бы волосы вдруг заскворчали! Но они даже не дрогнули, и Фрол ушёл, отдуваясь. Потом, один за другим, прошли все стрельцы с его рундука – и те, что караулили в тот день, и те, что не караулили. Кочерга ни на кого не показала. Дальше, Трофим подумал, будут рынды. Но рынд не было. Пошла челядь – чередой – постельники, истопники (все, кроме Саввы, Савву забрали вниз, к Ефрему), потом пошли метельщики (кроме Максима), комнатные сторожа (кроме, конечно, Спирьки). Это уже сколько получается, думал Трофим, испытывая их, это уже, может, они скоро час идут, идут, пищик пишет, Трофим суёт в них кочергой… А волосья не скворчат! Да и чего им скворчать, думал Трофим, тыча кочергой уже в который раз, челядин замирал, смотрел на кочергу, одни тряслись и краснели, другие замирали и бледнели, третьи дерзко усмехались, будто это не их дело… А вот что они при этом чувствуют, думал Трофим, они хоть знают, что он делает, им хоть объяснили, что это такое? И вот они сейчас стоят в сенях под дверью, ждут свой черёд и между собой шепчутся, гадают, зачем их туда согнали? Может, это из них этой кочергой хотят все силы выгрести и к царю перегрести, чтобы он скорей поправился, или, может… Ну да мало ли что люди могут напридумывать, думал Трофим, да и сколько ещё это может продолжаться? Дворец вон какой, на пять верхов, тут можно три дня народ смущать, и это только на царской стороне, а если ещё перейти на царицыну? Нет, чтоб сразу вызвать Савву и проверить. Или Спирьку. Или Ададурова. Или, страшно даже подумать… И вдруг за дверью, в сенях, закричали, забегали! Трофим опустил кочергу. Зюзин вскочил с лавки, быстро прошёл к двери, раскрыл её, сразу стало шумнее, пахнуло овчинами, дёгтем… А потом в покойную втолкнули человека – судя по одежде, челядина. Он извивался и пытался вырваться, но стрельцы крепко держали его и притискивали к полу. И ещё били его по затылку. Челядин визжал. Клим стоял над стрельцами и зорко приглядывал за тем, чтобы стрельцы не переусердствовали и не убили челядина насмерть. Зюзин, подойдя к ним, постоял, посмотрел, как челядина бьют, и велел закрыть дверь. Закрыли. Стрельцы слезли с челядина. Челядин сразу же вскочил. Зюзин ребром ладони врезал ему по уху. Челядин свалился на пол и заныл. Зюзин, склонившись над ним, ждал. Наконец, челядин затих, с опаской поднял голову и посмотрел на Зюзина. А тот спросил: – Ты кто таков? – Иван Иванов сын Кикин, – ответил челядин. – Сытного дворца подклюшник. – За что они тебя так? – Я не знаю. Зюзин посмотрел на Клима. Клим ответил: – А он за углом стоял. Подсматривал. С самого начала! Остальных всех силой приводили, а этот сам пришёл. Нарочно! И вынюхивал. Зачем? Зюзин опять посмотрел на того, кто назвал себя подклюшником, и тоже спросил: – Зачем? Подклюшник пожевал губами, весь скривился, лоб у него сразу покрылся испариной. А, тут же подумал Трофим, вот ты кто – и сразу кинулся к подклюшнику, наклонился – и сунул в него кочергой! Чуть не в глаз! Подклюшник отшатнулся, подскочил… Но Зюзин схватил его сзади! Подклюшник задёргал руками! Зюзин ударил его по затылку – подклюшник застыл и так и остался стоять, разведя перед собою руки. Трофим поднёс к его правой руке кочергу – и волосья заскворчали так, что просто страх! – А-а-а! – завыл, заверещал подклюшник. – А-а! – почти так же орал Зюзин, только радостно. – Вяжи его, гада! На подклюшника накинулись и начали его вязать. Зюзин стоял перед ним и довольно постанывал, потирая руку об руку. А Трофим смотрел то на кочергу, то на подклюшника и ничего не мог понять. Да как же так, думал он, при чём здесь этот человек, ведь не было же его здесь, когда царь на царевича накинулся – ведь не было!.. Но получается, что был. Трофим тряхнул головой, переложил кочергу в другую руку и перекрестился. А Зюзин обошёл вокруг подклюшника, осмотрел его со всех сторон, будто от этого была какая польза, и, глядя ему прямо в глаза, спросил: – Зачем ты сюда пришёл? – Пришёл повиниться, – ответил подклюшник. – В чём? – Что это я тогда царевича убил. – Да как бы ты мог его убить? Здесь же всегда рынды на двери! Они бы тебя не пустили. – А я через другую дверь. – Через какую? – А вот через эту! – и подклюшник показал за печь. Зюзин сразу покраснел, спросил опасливо: – Откуда ты про неё знаешь? Подклюшник молчал. Зюзин спросил, уже насмешливо: – Ты же пришёл виниться, что молчишь? Подклюшник, опустив глаза, сказал: – Я же о себе пришёл виниться, а не о других. – Ладно, за них можешь не виниться, – сказал Зюзин. – Давай только о себе. Но тогда с самого начала. Вот ты шёл там, за дверью, от своей службы, от сытного дворца, по переходу, так? И что с собой нёс? – Нёс жбан квасу. Клюквенного. Полный жбан. Вот такой, – и подклюшник показал руками. И опять смотрел в глаза. – Дальше, – строго сказал Зюзин. – Вот так шёл, шёл, дошёл до той двери. Ну и зашёл в неё. – А жбан? – При пороге оставил. – А что Марьян? – Ничего. Сидел, подмигивал… – А! – радостно воскликнул Зюзин. – Марьян! Вот ты и проболтался, дурень! Вот кто тебя подговорил – Марьян Игнашин! Так? Подклюшник молчал. Смотрел на Зюзина, хлопал глазами. Он молодой ещё, простой, вот и проговорился, подумал Трофим. А Зюзин уже спросил дальше: – Это Марьян им глаза отводил? – Марьян, – кивнул подклюшник и вздохнул. – Ладно, – сказал Зюзин. – Дальше. Вот ты отставил жбан… А зачем ты его брал с собой? – А чтобы говорить: вот, квас несу. Спросят: кому? Скажу: не твоё дело. Да и кто будет спрашивать? Сколько нас там за день ходит?! Всех не переспросишь. Зюзин кивнул – это верно, – и спросил дальше: – А куда твой квас девался? Мы что-то нигде его не видели. – Так взял кто-то, – сказал подклюшник. – А чего не брать? Кто первый увидел, тот и взял. У нас так всегда. Зюзин опять кивнул, подумал и спросил: – А дальше? – А дальше я прошёл через чуланчик, встал за печью и жду. А они стоят вот здесь, при столике, и говорят. – О чём? – Не знаю. Грех было подслушивать. – А убивать не грех?! – гневно воскликнул Зюзин. Подклюшник мотнул головой, промолчал. Видно было, что его трясёт. – Ладно, – сказал Зюзин. – Дальше. – Они заспорили, стали шуметь. Тут я из-за печки выскочил и кистенём в царевича! Он сразу с ног долой. А царь к нему! А я обратно в дверь – и дёру! – А Савва? – Какой Савва? – Истопник. – А что мне истопник?! Мне про него наказа не было. – А про кого был наказ? – Про царевича. – Чей был наказ? Подклюшник усмехнулся и сказал: – В другой раз ужо не проболтаюсь. – Иерой! – с насмешкой сказал Зюзин и задумался. Тогда Трофим спросил: – А чем ты бил? – Так я же сказал: кистенём, – ответил подклюшник. – Кистень у меня вот здесь был, в рукаве. – Он поднял руку и показал обрывок ремешка на запястье. – Я его после снял и утопил в отхожем месте. – Этой рукой бил? – Этой. – Ты левша? – Такой уж уродился, прости, Господи. А что? – А царевича убили с правой, вот что! – строго ответил Трофим и так же строго посмотрел на Зюзина. – Ну, – сказал Зюзин, – мало ли. В суете как повернёшься, так и бьёшь. – И, снова обратясь к подклюшнику, продолжил: – Ладно. Пока что всё ясно. Ты ударил. Он упал. Ты через него перескочил и в дверь. А там, на двери почти, на рундуке, Марьян этим глазами отвёл, они ничего не видели, и ты сбежал. На службе тебя не хватились? – А кто хватится? Это не мой был день. А жбан у меня с вечера стоял запасенный. Ни у кого я его не просил, ключей не брал, смирно пришёл, взял и понёс. – Так у вас с Марьяном всё заранее было оговорено? – А как же. Конечно. – И это Марьяна Мотька научила честным людям глаза отводить? Мотька? Подклюшник молча кивнул. Зюзин усмехнулся и спросил: – А что боярин? – Да какой боярин? – Да Нагой! Это Зюзин сказал очень громко. Трофим аж вздрогнул. Да хоть бы и шёпотом, как тут не вздрогнешь? Слово на боярина – ого! Да и какое ещё слово! И кем сказано! Трофим мысленно перекрестился. А Зюзин сказал подклюшнику: – Ты вот что, Ваня. Ты должен крепко разуметь, что всё равно будешь ответ держать. Отведём тебя сейчас к Ефрему, и он станет у тебя выспрашивать. И это будет непросто! Так что вот тебе, Ваня, совет: лучше тебе здесь во всём сознаться, и тогда там тебя не тронут. Как Бог свят! – и он перекрестился. Подклюшник задумался. Глаза у него забегали. Потом он сказал: – Пусть они все уйдут. – Это всё слуги государевы, им можно! – строго сказал Зюзин. – Говори! Подклюшник мотнул головой, помолчал. – Ну! – строго напомнил Зюзин. И тот начал говорить – очень негромко, заикаясь: – Нечистая меня попутала. Марьян пришёл, сказал: дело простое. А деньги большие! Сказал, боярин скупиться не станет. – А зачем это боярину? – как бы между прочим спросил Зюзин. – А у него племянница, – сказал подклюшник. – Замуж её отдал, и вот уже год прошёл, а она никак не забрюхатеет. Её повели по колдунам, и колдуны сказали: на ней порча. – Какая? – Пока один наследник есть, второму не родиться. – И что? – Надо убить первого. – И что? – И тогда второй родится. И тогда мне ещё сто рублёв. – А сразу дали сколько? – Ничего пока ещё не дали. Сказали, пока жив, ничего не получишь. А тут вдруг сегодня слышу, говорят: царевич пошёл на поправку. И кто я теперь, а?! – Иуда ты, – с насмешкой сказал Зюзин. Подклюшник упал на колени, закрыл голову руками. Зюзин повернулся к Трофиму, спросил: – Ну как? Трофим поднял кочергу, поднёс её к подклюшнику – волосья заскворчали. Трофим поднёс к Зюзину, поднёс к себе, поднёс к пищику – везде было тихо. – И всё равно, – сказал Трофим, – мало ли что он наговорил. И тот был правша. А мы на Нагих укажем, и что будет? – Каких ещё Нагих? – как ни в чём не бывало спросил Зюзин. – Я Нагих не поминал. Это вот он говорил про боярина, – и указал на подклюшника. – А про какого, не сказал. Таится, пёс! Так вот в заплечную его! К Ефрему! Клим, бери! Клим кинулся к подклюшнику, стрельцы кинулись ему на помощь – и они, гурьбой, пошли, понесли подклюшника к двери. Следом за ними пошли Зюзин и Трофим, за ними Амвросий и пищик.31
За дверью была теснота. Тут толклись и дворовые, и подьячие, и, может, даже стряпчие и стольники. Ну и стрельцы для порядка. И все тянулись рассмотреть подклюшника, ведь понимали же, что если его забрали, то, может, всё на этом кончится и их распустят. А пока теснились, лезли посмотреть, толкались. Но как только из покойной вышел Зюзин, толпа сразу отшатнулась в стороны. А он, ни на кого не глядя, пошёл дальше. За ним повели подклюшника, за подклюшником пошли все остальные зюзинские люди, и среди них и Трофим. Пошли сразу вниз, в заплечную, в Малый застенок. Никто ни о чём не говорил. Трофим пробовал о чём-то думать, но не думалось. И вот пришли они в застенок. Там было тихо, пусто. Только сбоку, возле палаческой каморки, стояли Ефрем и его подручный Сенька. Ефрем мыл руки щёлоком, а Сенька ему поливал из кувшина. – Что, – спросил Зюзин, – тяжелы труды? – Как конь умаялся, – сказал Ефрем. – Всё за грехи наши. – Да какие у тебя грехи? Сидишь тут безвылазно, когда грешить? – Ну, может, в думах. – Только что! Сказав это, Зюзин прошёл дальше, к дыбе, и остановился, ожидая. К нему подвели подклюшника. – Ты в первый раз здесь? – спросил Зюзин. Подклюшник кивнул, что в первый. – Ну, так знай, – продолжил Зюзин. – У нас здесь всё по закону. Мы сейчас тебя поднимем, и ты, на виске, должен будешь повторить всё то, что ты в покойной говорил. И так три раза будем поднимать. Подняли, ты сказал, не сбился – и ты вольный, иди на все четыре стороны. Но если вдруг, паче чаяния, брякнешь что-нибудь другое, чего раньше не говаривал, тогда тебя опять пытать три раза. Понял? Подклюшник кивнул, что понял. – Ефрем, начинай! Ефрем взял подклюшника, рванул на нём кафтан – и разорвал надвое. Рванул ещё раз – и оборвал до рукавов. В третий раз снял рукава. Подклюшник о чём-то замямлил, но Ефрем не стал его слушать, а толкнул взашей. Подклюшник подлетел под дыбу. Там Ефрем завернул ему руки за спину. Сенька всунул их в хомут (правильней, хомутик), а верёвку от хомута перекинул через дыбу. Ефрем держал подклюшника за плечи, Сенька потянул верёвку, натянул. Сперва у подклюшника задрались руки сильно за спину, а потом уже и сам подклюшник стал подниматься над полом. Руки у него в плечах хрустнули. Сенька закрепил верёвку, подбежал, связал ноги, подтянул верёвку. Подклюшник повис крепко, на растяжку. Теперь он уже не вырывался, а только похрюкивал. Лицо у него стало багровое, жилы на горле вздулись. Зюзин повернулся к пищику. Пищик уже держал перо наготове и ждал. Зюзин опять повернулся к подклюшнику и первым делом спросил, кто он такой. Подклюшник назвал себя Иваном Ивановым сыном Кикиным, как он и наверху себя называл. Тогда Зюзин спросил, как он попал в покойную. Подклюшник ответил, что он взял жбан пива и пошёл… – Какого пива?! – разъярился Зюзин. – Ты же говорил, что кваса! – Ладно, пусть будет квас, – сказал подклюшник. И усмехнулся. – Кнута ему! – велел Зюзин. Ефрем дал подклюшнику кнута. – Не мажь! А то помажу! – строго сказал Зюзин. Ефрем дал ещё – с прилипом. – Вот так-то, – сказал Зюзин. – Это славно. И опять спросил подклюшника, как тот попал в покойную. Подклюшник на этот раз сказал всё правильно: и что он взял квас, и что дошёл до той двери, что Марьян отвёл караульным глаза, и он, подклюшник, прошёл незаметно, затаился за печью… И замолчал. Зюзин велел дать ещё кнута. Даже два. Ефрем дал. Ефрем бил с оттяжкой, снёс кожу. Подклюшник захрюкал. Зюзин велел продолжать. Подклюшник продолжил: царь-государь с царевичем заспорили, а он, подклюшник, выскочил, ударил царевича в висок, с левой руки кистенём, царевич упал, а он, подклюшник, побежал. И вдруг добавил: ему за это сулили триста рублей. И ещё триста за Фёдора. – Как за Фёдора? – растерянно спросил Зюзин. – За какого ещё Фёдора? – За младшего царевича, а за кого ещё, – сказал подклюшник. – Наследников-то двое, и надо обоих убить, чтобы третий родился. А так что? Одного убить – второй останется. – Так ты что, – спросил Зюзин, – один взялся двух царевичей убить? Подклюшник молчал. Зюзин велел дать ещё три кнута. Ефрем бил от души, подклюшник стонал от боли. А после затих. Голова у него свесилась. – Хватит, – сказал Зюзин, – снимайте. Надо всё наново расспрашивать. Он же наверху про Фёдора не говорил. Вот где беда-то! И покачал головой, заходил взад-вперёд. Ефрем и Сенька сняли подклюшника с дыбы, Сенька сбегал, принёс лёд и начал оттирать подклюшника. Пищик подчищал перо, подтачивал. А Трофим подумал, что не вырваться ему отсюда, зря он тогда отказывался, когда Зюзин говорил, что они сами с кочергой управятся и отправлял домой. Эх, надо было ехать! А они пускай бы разгребали сами, трепали этого скота. А что подклюшник скот, Трофим не сомневался, ибо это сразу чуется: подклюшник нарочно розыск путает и на себя наговаривает, а потом начнёт на других наговаривать, и вот это – всего хуже. Знаем мы таких, навидались, и не приведи Господь ещё увидеть. Такой же оговорит да после как потянет всех… И Трофим посмотрел на подклюшника. Тот уже открыл глаза и не мигая поглядывал по сторонам. Никакого страха в его глазах не было. И почему, думал Трофим, кочерга на него указала? Не было же его там, в покойной, при царе с царевичем, и быть не могло, а то, что кочерга скворчит, так мало ли что ведьма на неё наколдовала, а после наплела, что будто на убивца это всё. Почему он должен ведьме верить? Да она, небось, только об одном и думала, как бы это ей Трофима извести, чтобы он до правды не добрался и её Ванюшу не сгубил. А что! И верно ведь! Она ради Ванюши никого не пощадит. И так же все эти – этот подклюшник-скот, который совсем не подклюшник, а Аграфенин прихвостень, и Зюзин такой же, и Клим, и стрельцы. Да, вот так! И Трофим ещё раз осмотрелся. Ефрем с Сенькой возились с подклюшником, оттирали его льдом, пищик позёвывал, Зюзин сидел на лавке, тяжело сопел… Но вдруг быстро встал, сказал: – Хватит дурака валять. Пора за дело приниматься. Ну! Ефрем с Сенькой подняли подклюшника, поставили в хомут и растянули на виску. Зюзин велел пищику читать. Пищик прочёл: я, Иван Иванов сын Кикин, Сытного дворца подклюшник, затеял злое, взял жбан квасу… И так далее. И уже с замыслом на Фёдора. Когда пищик прочёл, Зюзин спросил: – Так? – Так, – сказал подклюшник. – А кто тебя на это надоумил? – Не помню. Зюзин велел дать два кнута. Ефрем уже примерился бить, но тут подклюшник закричал: – Не надо! Всё скажу! Зюзин велел говорить. Подклюшник опять начал с самого начала: как он взял квас, как дошёл до той двери… И вдруг продолжил: – А там на рундуке Марьян сидит. Это он меня подбил. И он же говорил, что-де Афанасий Нагой, царицын дядя и боярин, ему сказывал: я тебе, Марьянка, дам пятьсот рублей, если ты возьмёшься это дело сделать. И на второе дам пятьсот, если и второе сделаешь. А не сделаешь – не выдам, схороню надёжно. Вот что Марьян говорил. – Побожись! Подклюшник побожился. – Ф-фу! – сказал Зюзин. – Слава Тебе, Господи, решилось! Осталось за малым. Снимайте его! Подклюшника сняли. Зюзин велел дать ему уксусу. Сенька дал мочало. Подклюшник его пососал, сразу стал весёлым, зарумянился. Зюзин присел над ним, посмотрел ему в глаза, сказал: – Царь-государь у нас отходчивый. Крепко попросишь, он тебя помилует. Ты только всю правду скажи: когда Марьян тебе про это говорил. И кто ещё это слышал или же никто. Видел ли ты боярина Нагого, говаривал ли тебе что Нагой? Сулил ли, стращал ли, поминал ли имя Божье всуе, выведывал ли?.. Вдруг послышалось: кто-то идёт. Зюзин быстро встал и обернулся. Вошёл, со стрельцами, Богдан Бельский, царёв оружничий. Бельский был очень сердит. Он, никого не замечая, повернулся к Зюзину и замер. Зюзин испугался и спросил: – Что? – Нет, – ответил Бельский. – Ничего ещё пока. А только зовут тебя, и спешно. – Я, это… – начал было Зюзин и указал на подклюшника. – Это не я зову! – уже совсем сердито сказал Бельский. Зюзин пожевал губами, да так, что желваки задёргались, и неохотно сказал: – Ладно. – Взлянул на подклюшника, на Трофима и сказал: – Без меня не поднимать. Приду, поднимем. И вместе с Бельским и стрельцами вышёл. За ними выскользнул Клим. Остались только Трофим, пищик, Ефрем с Сенькой да подклюшник. Трофим посмотрел на подклюшника. Тот лежал с полуприкрытыми глазами и почти не дышал. – Дайте ему ещё чего-нибудь, – сказал Трофим. – А то как бы не помер. Ефрем склонился над подклюшником и стал растирать ему уши. Подклюшник открыл глаза, заозирался. Ефрем подложил ему под голову чурбак. Подклюшник смотрел вверх и помаргивал. Трофим не удержался и подсел к подклюшнику, поднёс к нему кочергу. Волосья на ней сразу заскворчали. – Что это? – слабым голосом спросил подклюшник. – Это, – сказал Трофим, – заморская диковина. Она злодеев чует. Скворчит, значит, ты злодей. А на кого не скворчит, тот не злодей. Подклюшник хмыкнул. – Чего хмыкаешь? Смотри! – строго сказал Трофим и ещё раз поднёс кочергу. Она негромко заскворчала. – А вот ещё! – и Трофим повернулся к Ефрему. Ефрем опасливо вытянул руку. Трофим провёл возле неё, кочерга не скворчала. И так же она не скворчала от Сеньки, когда тот, по Трофимову велению, подал свою руку. – Вот так-то вот, – сказал Трофим. – Хоть бы ты и не сознался, а всё равно бы мы тебя нашли. По этой кочерге. Подклюшник опять хмыкнул, уже громче. Трофим продолжил: – Вот какая это сила! Мы с ней скоро все злодейства выведем, по всему царству. – Брехня это, – сказал подклюшник. – Как брехня?! – А так. Колдовство это поганое, вот что, – уже в сердцах сказал подклюшник. – Как это колдовство?! – грозно спросил Трофим. – Ты хоть знаешь, кто мне эту кочергу пожаловал? Боярыня Челяднина, государыня царская нянька, вот кто! А ты… – А я говорю: колдовство! – зло сказал подклюшник. – И нянька колдунья! И ты! Вот государь воевода вернётся, я ему всё скажу! И на неё, и на тебя скажу! И на тебя! – это он уже ткнул пальцем в Ефрема. – И на тебя! – ткнул в Сеньку. – Обманули меня, запытали, вот я и поддался, и наговорил напраслины. А не виновен я! Вот крест! – и он истово перекрестился. И тут же попробовал подняться, да сил у него не хватило, он упал на пол и крепко закашлялся. Ефрем схватил его за плечи, прижал к полу. Трофим сердито сказал: – Никто тебя не запытывал. Ты сам сюда пришёл и сам первый сказал, что ты царевича убил. А кочерга была уже потом. Вот так-то! – Да! – злобно ответил подклюшник, – не с кочерги всё начиналось, это верно. И не с тебя, а с Васьки! – Какого ещё Васьки? – сразу же спросил Трофим и наклонился вперед. – Да того, который меня с правды сбил! – сказал подклюшник. – Про Марьяна я наплёл, винюсь, меня так Васька научил. Сказал: не сомневайся, дурень, мы тебе столько всего отвалим, ты только возьми на себя! И я взял. А кочерга твоя – тьфу! Не виновен я! Не был я там никогда и про потайную дверь не знал! Это мне всё Васька рассказал. А ты: кочерга, кочерга! Тьфу на твою кочергу! Тьфу! И он и вправду плюнул. Трофим замахнулся кочергой… Но спохватился, не ударил, а просто опустил, с опаской провёл над подклюшником… И кочерга не заскворчала. Подклюшник радостно сказал: – Вот видишь?! А я говорил – не виновен. Обманули меня, опоили дурманом, наобещали с три короба и я наплёл на себя. Но больше вам меня не обмануть! Я на дыбе всё скажу! Пусть только воевода возвратится! Я сам на дыбу взлезу! И скажу, что ты колдун! И твоя нянька – колдунья! Вас обоих надо сжечь! И сожгут! А я… я… я… И он начал вырываться. Но Ефрем и Сенька держали его крепко, за руки за ноги. Тогда подклюшник стал кричать: – Я всё скажу! Я молчать не буду! Я под пыткой и про Ваську расскажу, который меня обманул, и про… И вдруг сбился, поперхнулся, начал плеваться кровью, изо рта пошла красная пена – кровавая. Трофим кинулся к подклюшнику, оттолкнул Ефрема, схватил подклюшника за плечи, приподнял… А тот только усмехнулся – и у него изо рта вдруг как хлынет кровь! На Трофима! Трофим отшатнулся. Подклюшник стал падать. Ефрем подхватил его и уложил на пол. Подклюшник похрипел ещё немного и затих. И кровь течь перестала. – Что это с ним? – спросил Трофим. – Преставился, а что ещё, – ответил Ефрем скучным голосом. – Чего это он вдруг? – Не знаю. Может, становая жила лопнула. А может, убили его. – Кто убил? – Ну мало ли. Да вот хоть бы и ты. – Как это я?! – не поверил Трофим. – А очень просто. Ткнул шилом под ребро, вот и готово. Человеку же много не надо. Трофим помолчал, спросил: – Как это шилом? – А так. Из голенища вытащил и ткнул. Из левого голенища. Посмотри там у себя! Небось, ещё и кровь на шиле не засохла. Трофим невольно потянулся к голенищу. Но спохватился, посмотрел на пищика. Пищик подчищал перо и только на перо смотрел. Сенька смотрел на подклюшника, который лежал на полу. Один только Ефрем смотрел на Трофима. Смотрел просто, равнодушно. – Так, может, это ты убил? – опасливо сказал Трофим. – У тебя, может, тоже шило есть. – Может, и есть, – не стал спорить Ефрем. – А, может, и нет. Вот воевода вернётся, и пусть нас пытает. Я, – продолжал Ефрем, – скажу, что ничего не знаю. Скажу, может, жила в человеке лопнула. Скажу по совести. А ты что будешь говорить? Трофим посмотрел на Сеньку, после на пищика – ни тот, ни другой на него не смотрели, и ответил так: – Ну и я тоже по совести. – Тогда, – сказал Ефрем, – ты будешь первым говорить. А я уже за тобой. Согласный? Трофим подумал и кивнул – согласный. – Вот и славно! – Ефрем усмехнулся и, поворотившись к Сеньке, продолжил: – Что-то я проголодался, Сеня. Да и наш московский человек, наверное, проголодался. Сообрази-ка нам чего-нибудь перекусить.32
Сенька встал и, ничего не спрашивая, ушёл в палаческую. Ефрем, глядя ему вслед, сказал: – У нас там всегда огонь раскурен. Мало ли. То, по службе, надо клещи раскалить, то кипятку сварить. Ну и самим чего согреть, перекусить горячего, особенно зимой. Тут он повернулся к пищику, сказал: – А ты чего сидишь? Иди, развейся. Будешь нужен, позовём. Пищик встал из-за стола и вышел. – Вот теперь у нас и место есть, – сказал Ефрем, указывая на пищиковский стол. – Ну а я пока… И он склонился к подклюшнику, взял его подмышки, отволок в угол и там прикрыл рогожей. Прикрывая, он ещё сказал: – Не можешь, не берись. Сколько хлопот теперь из-за тебя. – Шильцем? – спросил Трофим. Ефрем усмехнулся, не ответил. Подошёл к столу, глянул в пищиковские записи и отодвинул их на край стола. Из палаческой запахло жареным. – Это у нас быстро, – сказал с гордостью Ефрем. – Справный у меня подсобный, лёгкий. И начал рассматривать себя, свою знаменитую красную рубаху, нет ли на ней где пятен, но ничего не высмотрел. Вернулся Сенька с большим медным блюдом, на нём было всё: и мясо, и каша, и два куска хлеба. Мясо было подгорелое. – Ложка есть? – спросил Ефрем. – Или только шило? Трофим достал ложку. Ефрем жестом пригласил садиться и сам сел, сказав при этом: – Шилом много не ухватишь, это верно. Они сели один напротив другого и принялись есть. Ели молча. Трофим был очень голоден, но на еду не набросился. Когда они съели половину, Сенька принёс кувшин, две кружки и сразу начал наливать. Трофим принюхался. Ефрем сказал: – На службе у нас без баловства. Трофим взял кружку, начал пить. Питьё было горячее, пахучее. Ефрем пригубил своё, сказал: – На девяноста трёх травах. От всех напастей. Кроме кнута, конечно. Кнут всё перешибает, да! Потом вдруг, глядя в глаза, спросил: – А ты чего желаешь? Вот ты приехал сюда, тебе, поди, много чего насулили. Трофим, помолчав, сказал: – Я на посулы не падкий. Я их уже навидался. И поэтому сейчас только одного желаю – в Москву вернуться, и поскорее. – О, – сказал Ефрем, – это по-нашему. Это с умом. А то, бывает, такие крохоборы попадаются… Ну а это доброе дело. А кто у тебя в Москве? – Так, одна баба, – нехотя ответил Трофим. – Одна баба – это уже много, – понимающе кивнул Ефрем. – И вернёшься, куда денешься. Вот только сейчас воевода придёт, ты ему сразу скажешь: становая жила лопнула. И про то, что здесь был крик, не заикайся. Особенно про Ваську. Про это никто не должен знать. А то распустят языки! Трофим посмотрел на Сеньку. – Сенька, скажи: «а»! – велел Ефрем. Сенька открыл рот. Там была култышка вместо языка. – Вот, – строго сказал Ефрем, – Сенька не проболтается. Поэтому ещё раз говорю: воевода придёт, скажешь, что жила лопнула. Воевода сразу заорёт: ах, вы болваны безрукие! А ты в ответ: не серчай, государь батюшка воевода, в другой раз будем рукастее. Запомнил? Трофим утвердительно кивнул. – Сенька, принеси ещё, – велел Ефрем. Сенька принёс ещё. Трофим ел уже без охоты, то и дело поглядывал на подклюшника. Ефрем, заметив это, сказал: – Тебе, брат, радоваться надо, что этот пёс помер. А то затаскали бы тебя за колдовство, как пить дать. – Так ведь Аграфена… – начал было говорить Трофим… Но Ефрем махнул рукой и продолжал: – Что Аграфена?! Это если царь поправится, тогда, конечно, да. А если не поправится, тогда чего? Чей будет верх? Трофим молчал. – Вот то-то и оно, – сказал Ефрем. – А знающие люди говорят, что государю худо. Ну да нашими молитвами! И, повернувшись к образам, перекрестился. Трофим перекрестился следом. И они опять взялись есть. Ефрем, глядя на Трофима, усмехнулся и сказал: – Ты не кручинься. Может, ещё кого найдём, – и он кивнул на подклюшника. – А что! Болванов хватает. Вобьёт себе в голову: это я, это я! И сам явится, даже искать его не надо, бьёт себя в грудь, кричит: это я, берите! Так что завтра, может, кто-нибудь опять… Да и что я тебе рассказываю. Сам, небось, насмотрелся на всякое. Давно служишь? – Давно. – В Новгород ходил? – Ходил. – Я тебя там помню. – Зачем тогда спрашивал? – Хотел посмотреть, будешь кривить или нет. Не кривишь. Это славно. Просидели ещё, перекусили. Наконец, Ефрем отложил ложку и, громко выдохнув, сказал: – В брюхо уже не лезет. Где наш воевода? Воевода всё не шёл. Ефрем отпустил Сеньку в палаческую, а сам привалился спиной к стене, сказал, что ему всегда нужно быть наготове, и почти сразу ровно задышал. А потом начал даже и похрапывать. Трофим сидел рядом и думал, что сейчас самое время вспомнить Ефремовы слова и их обдумать, а так же подклюшниковы речи, и то, чему Ефрем учил, и что отвечать Зюзину… Но ничего не лезло в голову, а что лезло, сразу путалось, сбивалось, Трофим смотрел на подклюшника, прислушивался, ждал… И, наконец, дождался: раздались шаги. Шедших было несколько, не меньше четырёх, у всех сапоги были с подковками. Но почти все они остались за дверью, а вошёл только один Зюзин. За ним пищик. Зюзин остановился посреди пыточной и уже хотел было что-то сказать… Но увидел подклюшника, накрытого рогожей, и замер. Потом, обернувшись, спросил строгим голосом: – Что это? – и указал на подклюшника. – Это Иван Иванов сын Кикин, – ответил Ефрем. – Преставился. – Как?! Ефрем подошёл к подклюшнику и снял с него рогожу. – Да он в кровище весь! – сердито вскричал Зюзин. – Что это с ним? – и посмотрел на Трофима. Трофим, как научил его Ефрем, ответил: – Становая жила лопнула, и помер. – Тьфу! – яростно воскликнул Зюзин. – Вы ведь замучили его! Замучили! Вот балбесы безрукие! – В другой раз будем рукастее, – сказал Трофим. Зюзин удивлённо замолчал, взглянул на Ефрема, потом на Трофима и, повременив, сказал: – Становая, говоришь? Ну-ну. И подошёл к лежащему. После показал рукой – ворочайте. Сенька повернул подклюшника и так, и этак. С одного бока спина у подклюшника была сильно в крови, теперь уже почти засохшей. – Как это было? – спросил Зюзин. – Да вот лежал себе, – начал рассказывать Ефрем. – Мы подошли, подсели. А он вдруг как подскочит! Да как пойдёт из него кровь! Я, было, сразу подумал, может, это наш московский человек чего уделал. Ну, шильцем ткнул. Нет, смотрю, не похоже. Становая жила это, вот что это. Зюзин повернулся к Трофиму. Трофим подумал, что сейчас про шильце спросит. Но Зюзин спросил другое: – Чего ты из него выпытывал? – Ну, – замялся Трофим, – ничего вроде такого… – Говори! – Я и не успел пытать. Он сам первый стал выспрашивать про кочергу. Ну, я и ответил, что это диковинная вещь, она всех злодеев чует, и ему всё равно не спастись бы, хоть бы он и не пришёл тогда. – А он что? Начал отпираться? Сказал, что это не он? Трофим молчал. – А! Значит, сказал! – радостно воскликнул Зюзин. – А ты и поверил! – Не поверил я! – Но усомнился же! А он давай кричать: это не я, это меня подбили, насулили всякого! Ведь было же такое, а? Трофим нехотя кивнул – да, было. – А говорил, кто подбивал? – продолжил Зюзин. – Ведь называл! Так назови и ты! Трофим посмотрел на пищика. Пищик опять смотрел в сторону. А он вместе с Зюзиным входил! И ещё раньше всё ему донёс, ещё за дверью! Тогда чего теперь молчать?! И Трофим ответил: – Назвал. Ваську. – Какого ещё Ваську? Говорил? – Нет, только назвал «Васька» – и стал плевать кровью. Зюзин мельком глянул на Ефрема, потом опять стал смотреть на Трофима. Смотрел строго, испытующе. И медленно сказал: – Это он на Ваську говорил, на карлу. Они якшались. Ну да Ваське теперь что! Сам себя зарезал, иерой, и теперь с него спрос гладкий. А этот скот! Не побоялся же греха – на покойника наплёл! Стыдоба, прости, Господи. И перекрестился. – Ну да ладно, что было, то было, а службу нам никто не отменял. А даже… Вот! Боярин Годунов, Борис, только что был у царя. И говорит: царь улыбался. И шкалик беленькой испить изволил. Вот так-то! Пошёл на поправку. И, не приведи Господь, если завтра он про нас узнать захочет, что ответим? Так что ты вот что, Трофимка: время уже позднее, давай, иди к себе, сил набирайся, а завтра поутру сразу сюда… Нет, лучше так: сиди и жди, а я человека за тобой пришлю. Иди! И кочергу, смотри, не потеряй! – и засмеялся. Трофим поклонился, надел шапку, развернулся и пошёл. Шёл и спиной чуял, как Зюзин и Ефрем смотрели ему вслед. И спина его будто горела!33
Но тут он вышел, закрыл дверь, и спине сразу стало легче. Зато темнота вокруг была кромешная. Трофим вздохнул, повернулся, нащупал стену, шагнул вдоль неё… Как вдруг кто-то толкнул его в грудь и сказал: – Тебе в другую сторону. А и верно, подумал Трофим, развернулся и пошёл, теперь уже правильным путём, к себе. Если, сразу же подумалось, его не перехватят люди Годунова. Но никто Трофима больше не перехватывал, и он шёл себе, держась за стену, считая углы, и всё ближе подступал к своей каморке. Не до него Годунову сейчас, думал Трофим, Годунов сейчас у царя в опочивальне или у царя в сенях, чтобы быть всё время под рукой. Так же теперь и Зюзин туда кинется. А что ему сидеть в застенке? Что ему этот подклюшник? Подговорили дурака оговорить себя, он и оговорил, да не сдюжил – проболтался. Ну и шило ему в бок. Завтра найдут другого, покрепче, а пока Зюзин побежал к царю, авось там чего перепадёт. Разве не так? Так, конечно! Да и этот подклюшник, может, совсем и не подклюшник, а злодей какой-нибудь, которому так и так грозила плаха, а тут вдруг говорят, что если возьмёшь грех на себя… Ну и понятно. Вот только другое непонятно: почему кочерга на него указала? Сколько народу было перепытано, а только на нём заскворчала. В чём тут хитрость? Трофим остановился и ощупал кочергу. Кочерга была как кочерга. Трофим пожал плечами, пошёл дальше, на нужном углу повернул и, миновав Козлятник, за малой лестницей прошёл мимо одной двери на ощупь, возле второй остановился и толкнул её. Дверь отворилась. Возле окна, на средней лавке, горел свет. Слева на лавке лежал Клим. Справа, на Трофимовой лавке, никого не было. Да чужого и не чуялось. Трофим прошёл и сел на своё место. Снял шапку, сунул под тюфяк. Потом сунул туда же кочергу. Клим продолжал лежать с закрытыми глазами. И, не открывая их, спросил: – Пришёл? – Сам не верю, – ответил Трофим. Клим открыл глаза и повернул голову к Трофиму. Тот сказал: – Подклюшника зарезали. – А! – сказал Клим. – Я так и думал. Хлипкий мужичонка был. Ну да это не беда, завтра найдут кого покрепче. А за что зарезали? Стал отпираться? – Стал. – Это бывает. Насулят с три короба, и он и рад. А как только взяли в хомут, так сразу поумнел. Дубина! Клим заворочался, сел. Продолжал: – Надо будет, и двоих найдут. И они будут орать наперебой: я зарезал, нет, я, нет, я первей. Тьфу! Надоело всё. А ты, небось, думал: сейчас в розыск возьму, добьюсь до правды… Да ничего ты не добьёшься здесь. Ещё раз говорю: хоть двоих, а хоть пятерых найдут, и все будут брать на себя, и тебе скажут: какой розыск, кого ещё искать, нам хотя бы с этими управиться. Вот так! Клим негромко засмеялся. Трофим молчал. Клим перестал смеяться, помрачнел, сказал: – А у вас что, в Разбойном приказе, разве не так? Разве ваш князь Михайло вам ничего не говорит? Не учит вас? Трофим молчал. Клим усмехался. Трофим вдруг спросил: – А кочерга? – Что кочерга? – не понял Клим. – Почему она скворчала? А потом перестала скворчать. – Ну мало ли, – сказал, подумав, Клим. – Да и откуда эта твоя кочерга? От Аграфены. Сумасшедшая она, тронулась умом давно, что она путного могла наколдовать? Да и много ли было проку от её кочерги? Кому она помогла? Царевич как лежал, так и лежит при смерти, вот-вот помрёт, а ты: кочерга, кочерга! От тёмной бабы неучёной. Вот если бы боярин Годунов за это взялся, вот тогда была бы кочерга! Годунов да вместе с Иловым, заморским лекарем. Илова видел? Трофим кивнул, что видел. – Вот эти оба – сила! – сказал Клим. – Они, бывает, как запрутся, достанут лекаревых книг, все иноземные, и как начнут читать, так по всему дворцу аж пол дрожит, стены скрипят и свечи гаснут! А Аграфена – это смех. И кочерга её – смех. На кого хочешь скворчит, на кого хочешь нет, вот и весь розыск! – сказал он с насмешкой. – Да и что там, прости, Господи, разыскивать? Ты что, думаешь, один такой умный, что всю правду про то, что там тогда случилось, знаешь? Да все её знают. Вот только голова дороже, и молчат. И ты, когда придёт пора, будешь молчать, а спросят, будешь отвечать, как надо. Умник! Клим опять лёг на лавку и закрыл глаза. Сказал: – Давай, свет гаси. Завтра нам сразу на службу. И суеты будет огого! Зюзин уже сказал, что если подклюшник какого-то Ваську назвал, так мы вот как сделаем: всех каких только Васек найдём, соберём, и будем их испытывать, и на кого кочерга заскворчит, того сразу на дыбу. Гаси свет! Трофим наклонился, дунул. Свет погас. Трофим разулся, лёг, подумал: вот уже и Клим про Ваську знает. Эх! И, повернувшись к стене, начал ждать, когда заснёт… Но не спалось. Всё время казалось, что Клим сейчас встанет и ткнёт его ножом в спину, под ребро. Вот вроде бы уже даже встаёт, вот уже нож заносит… Тьфу! Давно со мной такого не было, думал Трофим. Это только когда он в Новгород ходил искать того, кто Демьяна зарезал, тогда так было. А Демьян ходил за гирями, и вот Демьяна там вправду зарезали. Трофим заворочался, вздохнул, подумал, что не уснуть ему теперь, пока он всё не вспомнит, по порядку, с самого начала: как к ним в Разбойную избу приехал человек из Новгорода и привёз гирю фунтовую, на вид исправную, но весом без шестнадцати золотников. В ней, как оказалось, было устроено дупло, закрытое клеймом. Это клеймо отколупнул Демьян, секрет открылся. Тогда ему сказали: езжай в Новгород и разыщи там того, кто такие гири льёт. Демьян поехал и долго искал, но когда уже почти нашёл, его самого нашли убитого. Тогда вместо Демьяна послали Трофима, и он уже не ехал у всех на виду, а тайно пошёл с обозом, будто он простой вожатый. Он, и в Новгород придя, опять же как простой вожатый, не пошёл на Наместничий двор, а зашёл в кабак, сел на условленное место, к нему сразу подсел человек, назвался Еремеем и выложил бирку. Трофим выложил свою. Бирки сошлись в одну, Трофим и Еремей перемигнулись, выпили. Трофим почему-то сразу опьянел, упал, закрыл глаза… А когда открыл, то уже лежал в какой-то конуре, рядом горел свет, а напротив сидел Еремей, и он строго спросил, чего это Москва на такое серьёзное дело таких сопляков посылает. Трофим промолчал. Ладно,продолжил Еремей, будешь за мной ходить, быстро ума наберёшься. А куда ходить, спросил Трофим. Искать того, кто зарезал Демьяна, сказал Еремей. А пока что, сказал, спи, и задул свечу. Стало темно. Трофим всю ночь лежал, затаившись, не спал и ждал, когда Еремей поднимется и заколет его ножом в спину. Но Еремей не заколол. Утром они встали и пошли на Торг. Служба у них там была такая – ходили по рядам, торговали всякой дрянью: свистками, заговорёнными корешками от зубной боли, жвачкой от поноса, колокольчиками, лентами и, это уже из-под полы, травой для курева. И так целыми днями ходили, с раннего утра и до того, покуда Торг не закроется, а после шли к себе в каморку, выпивали и ложились спать. Трофим сразу засыпал, а потом, если просыпался, то слышал – Еремей не спит – и ждал, когда он его зарежет. Но Еремей и на этот раз не зарезал. А днём они опять ходили по Торгу и торговали своей дрянью. Трофим спрашивал, когда они начнут искать того, кто зарезал Демьяна. На что Еремей сперва долго отмалчивался, после долго отговаривался, что они и так ищут, и наконец, сказал, что они ищут Шубу, и что это Шуба Демьяна зарезал. Тогда Трофим спросил, кто такой этот Шуба. На что Еремей ответил, что он сам его ещё ни разу не видел. Шуба раньше здесь не жил, а в другом месте. – В каком? – спросил Трофим. – Да хоть в Твери, – ответил Еремей. – А тебе какое дело? – Да такое, что если в Твери, то как он мог Демьяна зарезать? – Приехал и зарезал! И опять уехал. – Зачем? – Не твоё дело! Ты когда на службу нанимался, крест целовал? Целовал! Вот и служи теперь! И помалкивай. Трофим помалкивал. Он видел, что Еремей имеет силу и всё и всех знает. И с ним на Торгу все считались. Ему и в кабаке на веру наливали. И даже у продажных девок… Да! И там к нему тоже с уважением. А ведь простой человек, торгует вразнос всякой дрянью. И ни перед кем не робеет. Вот только когда приходил с той стороны, Софийской, из-за Волхова, такой же простой человек по прозванию Ждан, то при нем Еремей робел. И прогонял Трофима из каморки, говорил: сходи-ка по нужде во двор. Трофим вставал и выходил, а они, оставшись одни, совещались о чём-то. Трофим к этому скоро привык. Поэтому, когда однажды Ждан опять пришёл, Трофим сразу поднялся выходить. Но Ждан велел ему сидеть. Трофим остался. И Ждан ему с Еремеем сказал, что он и его люди выследили Шубу. – И где это? – спросил Еремей. Оказалось, что на их же, на Варяжской улице, но ближе к бывшему Готскому дому, в больших хоромах, в боковой пристройке. Хоромы сами знаете, чьи, добавил Ждан и усмехнулся. И тут же сказал, что он там был вчера, а сегодня его перепрятали, и он теперь хоронится на Торгу, и в каком ряду, тоже известно. Завтра, сказал Ждан, пойдём его оттуда выцарапывать. Еремей обрадовался и начал говорить, что это славно – и не даром! А Трофим первым делом спросил, каков Шуба из себя, и Ждан ответил, что Шуба очень крепкий и высокий, почти три аршина, и что он одним ударом кулака годовалого бычка насмерть сбивает, а человеку сразу вжик ножом по горлу – и готов, и дух вон. – Как же мы его тогда одни возьмём? – спросил Трофим. – А его и брать не надо, – сказал Ждан. – Он сам к нам выйдет. Он хоть и злодей, а каждый день ходит в обедне. И возле церкви его ждут его люди, да и простых людей будет полно, будут мешаться. Так что надо будет резать его сразу, как только он из лавки выйдет и отойдёт хоть немного. – Но как же так? – удивился Трофим. – Насмерть зарезать! А как тогда розыск? А расспрос? У кого мы тогда будем о гирях допытываться? Еремей и Ждан переглянулись, и Ждан сказал, что чего тут допытываться, и так всё уже известно: гири льёт Ёган Немец – он сидит в тех хоромах на Варяжской возле вас в подклете, а в подвале у него – горн и литейная яма. – Так что, – добавил Ждан, – теперь только ждём человека из Москвы, он привезёт грамоту – и всех по той грамоте возьмём, подклет опечатаем, добро всё опечатаем, как есть, и в хоромах опечатаем. А там есть что опечатывать! Это же чьи хоромы? Федьки Сыркова, вот кого! Это купчина ого-го! Он пять лет в государевых дьяках ходил, пока его не выперли за воровство. А теперь выпрут за гири! А может, и совсем на кол посадят! И пора бы! И чтобы этот змей Сырков опять не вывернулся, как и тогда, когда его из дьяков пёрли, Шубу надо зарезать сразу, и, зарезавши, сразу под лёд, чтобы Сырков ничего не почуял и не вынюхал. Понятно? Трофим подумал и ответил, что понятно. Тогда Ждан добавил, что злодей Шуба одет вот как: шуба на нём медвежья, с красным верхом, верх – немецкое сукно, и сам он – как медведь здоровый, а смотрит, как боярин, – очень грозно. Так что резать его надо сразу, в один мах, ибо во второй раз размахнуться он уже не даст. И за это они выпили – за один мах. Потом ещё поговорили о том о сём, и Ждан ушёл. Трофим и Еремей легли. Трофим ничего не спрашивал. Назавтра собрались заранее, пришли пораньше. Это было в Вощаном ряду, недалеко от Сурожского, главного, и тут же рядом Свечной и Сапожный. Там Сырковских было половина лавок, но Ждан указал на одну и сказал, что в этой. К ней подходить они не стали, а разошлись, как ещё с ночи было оговорено: Ждан ближе к Великому мосту, это если Шуба вдруг надумает пойти в Успенскую, Еремей пошёл в другую сторону, к Никольскому собору, а Трофиму указали встать на полдороге к Параскеве Пятнице. Там был даже не ход между рядами, а почти пролаз, такой он был узкий. Трофим там прислонился к стене, поправил на брюхе лоток, и правой его придерживал, а в левую взял шило, убрал под лоток и принялся ждать. На лотке, как всегда, лежала всякая дрянь, смотреть на неё было тошно. Трофим даже подумал, что вот он сейчас Шубу запорет – и можно будет снимать лоток и ехать обратно в Москву. А пока Трофим стоял и ждал. Никто в этот пролаз не лез и мимо не проходил. Начали звонить колокола к обедне. Трофим весь подобрался. Но опять никто мимо не шёл. А колокола звонили и звонили. Трофим ждал. В пролазе было сумрачно. Начал сыпать мелкий снег, ветра совсем не было, и Трофима начал бить озноб, будто мороз ударил. Колокола всё звонили. Трофим начал на них злиться, думать, что из-за них можно не услышать, если вдруг от Ждана закричат: «Зарезали! Зарезали!» Думалось, что именно от Ждана будет крик, потому что Ждан ловкий, взял себе лучшее место, он и зарежет, и ему будет вся честь. Колокола звонили. И опять подумалось: Шуба, конечно, пойдёт к Ждану, Ждан же знает Шубины повадки, поэтому и встал ближе к мосту, Шуба пойдёт к мосту, потому что там можно, если вдруг чего, сразу через мост – и на Софийку, а там попробуй, найди! И вдруг из-за угла вышел быстрым шагом Шуба! Трофим его сразу узнал по красной шубе и по его росту – трёхаршинному, и ещё по глазам – они так и сверкали, и брови были грозно сведены. Трофим сдвинул руку с шилом, выпростал из-под лотка, шило было здоровенное, таким только кабана колоть… А вот не кололось! Трофим стоял, как пень, шило сверкало, Шуба шёл прямо на шило… И Трофима взяла робость. Он смотрел Шубе в глаза и не шевелился. Шуба усмехнулся, прошёл мимо – и пошёл дальше, не оглядываясь. Трофим мог его догнать, пырнуть в спину, шило насквозь прошло бы… Но Трофим стоял, не шевелясь, и смотрел, как Шуба уходит всё дальше и дальше, пока не скрылся за тыном. А потом колокола затихли. Началась обедня. Трофим стоял столбом как околдованный. К нему подбежали Ждан и Еремей, Ждан начал трясти его, Трофим не чуял. Тогда Еремей спросил, что было. Трофим, опомнившись, ответил, что был Шуба, проходил, видел шило, хмыкнул, а он, Трофим, не смог Шубу ударить – не поднялась рука. Трофим думал, что они начнут кричать на него, орать, обвинять в измене… Но они ему ни слова не сказали, а только переглянулись между собой, помолчали, а после Ждан – он стал от злости весь чёрный – сказал, как будто сам себе, что это не беда, московский человек уже приехал. – Московские люди, – поправил его Еремей. – Да, – сказал Ждан. – Московские. Много людей! И никуда от них Шубе не деться! Хоть это и грех. Трофим хотел спросить, почему грех? Но не решился.34
И проснулся. Уже в Слободе. Было ещё совсем темно, в ноябре всегда светает поздно… Зато, опять подумалось, не там, а в Слободе! Трофим вспомнил Шубу и перекрестился. Хотя и здесь не мёд, конечно. Трофим тяжко вздохнул. Сейчас начнут вставать, шуметь. Встанет Клим, придут от Зюзина и, хоть сегодня воскресенье, поведут в покойную, там опять надо будет тыкать кочергой, кочерга будет молчать, пока не войдёт ещё один такой же тощий и приземистый, назовётся Васькой, в него ткнёшь кочергой, кочерга заскворчит… И опять мочало – начинай сначала: этот человечишко станет кричать, что это он убил, ему за это Нагие… или Трубецкие?.. или кто ещё?.. посулили сто рублей, и вот он… Тьфу! Трофим перевернулся на спину и стал думать о другом – как он сейчас с опаской встанет, и Клим не почует, не проснётся; он выйдет из каморки, сойдёт вниз, к крыльцу, а там все тоже спят – время ещё тёмное, ночное, почему не прикорнуть? А он с крыльца и через двор к Троицкой башне, и там все спят, он в башню, вниз по лесенке к колодцу, снимет с него решётку и полезет вниз. Чего туда не залезть – колодец давно сухой, и там на самом дне сбоку открыт лаз – он в него нырь и полез дальше! Лез, лез и вылез в чистом поле, осмотрелся – кругом снег, Слобода аж вон где, сзади в четырёх верстах, не меньше, и он по полю, через леса, реки, болота и опять через поля – за Каму, к медведям, и пусть его там медведи задерут, сожрут, только бы сбежать отсюда. Марьян был прав, Мотька права, эх… Вдруг Клим чихнул во сне. Трофим опомнился, вздохнул, подумал, что какая тут Троицкая башня, да тут только с лавки слезь – и сразу же сбегутся и начнут орать: «На службу!» Трофим ещё раз вздохнул, сел на лежанке, сунул руку под тюфяк… И похолодел! Кочерги не было! Трофим сунулся туда, сюда, ощупал… Нет нигде! Трофим соскочил на пол, проверил под лавкой – нет. Завернул тюфяк – нет. Глянул под досками – нет. Трофим прислушался. Клим спал. Или делал вид, что спит. – Клим! – громко позвал Трофим. Клим даже не шелохнулся. Трофим ещё раз окликнул и ещё. Клим не отзывался и не шевелился. Да его что, зарезали, что ли? Так не дышал бы. Трофим тряхнул Клима за плечо. Клим заворочался, спросил спросонья: – Что такое? – Кочерга пропала! – Какая ещё, на хрен, кочерга?! – Аграфенина! Заговорённая! Клим встрепенулся, сел. Спросил: – Как это вдруг пропала? – А вот так! Из-под тюфяка! Кто-то достал! – Из-под твоего, – сказал Клим, – значит, тебе и отвечать. – А я скажу: ты взял! – Как это я? – А так! – в сердцах сказал Трофим. – А кому ещё? Больше никого здесь не было! Кому брать, как не тебе? Тебя Марьян подкупил! Нагие надоумили! – Ты это брось! – сердито вскричал Клим. – Ты думай, что несёшь! На дыбу захотел?! Трофим усмехнулся, помолчал, после сказал насмешливо: – На дыбу мы вместе пойдём. Клим сердито засопел, заворочался, брякнул кресалом, высек свет. Трофим, уже при свете, посмотрел на Клима. Вид у Клима был весьма нерадостный. Клим посмотрел на Трофима, сказал: – Я ничего не слышал. Это колдовство какое-то. Никто сюда не заходил. – А где кочерга? – спросил Трофим. – Чёрт снёс! – сердито сказал Клим. И ещё сердитей продолжал: – Связались с колдовством, и на тебе. Так я и думал! – махнул рукой и замолчал. Трофим сказал: – За мной скоро придут. Надо же идти в покойную, а там без кочерги никак. Васек надо же испытывать! Что будем говорить? Клим не отвечал. Сидел, громко посапывал. Жевал губами. После в сердцах сказал: – А я говорил тебе: скорей надо, скорей! Назвали бы кого ни попадя – и с плеч долой. А теперь нас самих назовут! Чем тебе тот подклюшник был плох? Назвали бы его – сейчас бы водку пили, девок… Да! А теперь вот как! И Клим сплюнул. Трофим молчал. Клим снова начал говорить: – И вот что всего обиднее: кочерга эта – сущее дерьмо. А что ещё слепая нянька могла наворожить? Дурная же она! Неграмотная. Вот если б доктор Илов за это взялся, да по своим книгам, тогда бы цены ей не было, а так чего? Дерьмо и есть дерьмо. На одних шипит, на других нет, а после наоборот, где шипела, там молчит, а где молчала… Тьфу! И замолчал. Утёрся. Успокоился. И опять начал, но уже спокойным голосом: – Я про неё, про эту кочергу, много думал. И вот что мне надумалось: ну как кочерга может видеть злодея? У неё что, разве есть глаза? Нет. Значит, видеть не могла. А вот грех чуять – это запросто! Вот она его и чуяла. И пока подклюшник нам брехал про то, что он царевича убил, кочерга шипела, потому что чуяла: брехня это. А как он перестал брехать, она и замолчала. Так и сегодня будет: кто будет брехать, на того она будет шипеть, а кто… – Так её же нет теперь! – сказал Трофим. – Ну да, – расстроенно ответил Клим. – Всё верно… И задумался. Трофим тоже молчал и думал: только он войдёт в покойную, Зюзин сразу спросит: а где кочерга, чем будем народ испытывать? Что ответить? Нечего! И на кол! И это не скорая смерть! Вон, в прошлом году один сидел, так ещё назавтра живой был, постанывал… Трофим сердито вздохнул. Но тут же подумал, что вот если бы он сразу подскочил да Клима сонного – шилом, ведь это ж Клим украл, кому еще, и вот его за это шилом, шилом, а после в дверь и к лестнице, и на крыльцо, там бы его сразу бердышом по лбу – и поминай, как звали. Вот как скоро! Не смерть, а малина! Не успел бы даже сам сообразить… Вдруг дверь широко распахнулась. В двери стоял некто в богатой шубе и высокой шапке, сразу видно – государев ближний человек, а за ним стрельцы, с десяток. С бердышами. Но не бежалось на них почему-то, на быструю смерть. Трофим сидел как приклеенный. – Который из вас Пыжов? – спросил ближний государев человек. Трофим встал, снял шапку. – Пойдёшь с нами. Трофим поклонился. Ближний государев человек развернулся, стрельцы расступились. Трофим пошёл к двери, оглянулся на Клима. Клим его перекрестил. Трофим опять развернулся и пошёл вслед за ближним государевым человеком и его стрельцами. Куда они его ведут, Трофим не мог даже представить.35
В переходе, как всегда, было темно, воняло луком, прелыми овчинами. И теснотища, конечно. Зюзин что-то вынюхал, думал Трофим, или уже узнал про кочергу, или его люди её украли и отнесли ему, а он теперь хочет потешиться. Пусть тешится!.. И это – всё, больше ни о чём не думалось. Трофим просто шёл и молчал. Но прошли они тогда немного – повернули к медному крыльцу, а через два поворота подошли к знакомой двери. Возле неё стояли рынды с золочёными алебардами. Как только Трофим увидел эту дверь, у него внутри похолодело. Ближний государев человек строго сказал: – А ну! Рынды сразу расступились. Ближний государев человек сам открыл дверь и подтолкнул Трофима. Трофим зашёл – и тот человек за ним зашёл. Как Трофим и ожидал, это были те самые сенцы, за которыми два дня тому назад лежал царевич. Он и сейчас там, похоже, лежал, потому что из двери оттуда крепко тянуло зельями и жженьями. Трофим снял шапку и перекрестился. В сенях, как и в прошлый раз, сбоку, возле напольного креста, стояли на коленях монахи, их было трое. Они тихо молились. Там же, при кресте, мерцали свечи. Дверь к царевичу была полуоткрыта, за ней тоже был виден свет. Но ничего оттуда слышно не было. Ближний государев человек, строго погрозив Трофиму, с опаской прошёл в ту дверь. Трофим вслед ему перекрестился и начал читать Отче наш. В прошлый раз он читал долго, раз десять, не меньше. А только дошёл до «царство и сила», как ближний государев человек вернулся, подошёл к Трофиму и чуть слышно велел заходить. Трофим медленно пошёл к двери. В прошлый раз возле неё тоже стояли рынды, как и при входной двери, а теперь их там не было. Может, и царевича там уже нет? Или он уже преставился?.. Нет, тут же подумалось, какая суета бы тогда сразу началась! А так вон какой покой. Вот с такими мыслями Трофим вошёл в ту маленькую, почти без окон, горенку. Дышать там было нечем, столько там было всего накурено, трав всяких. И дыму от них было столько, что Трофим не сразу рассмотрел царевича. Тот лежал на прежней мягкой лавке и был укрыт до самой головы. Лицо у него было белое-белое, а с левой стороны уже даже немного синюшное. Трофим сразу подумал: залечил колдун! И обернулся. Колдун, или доктор Илов, или, правильнее, Эйлоф, стоял немного в стороне. Эйлоф, сразу было видно, крепко спал с лица, нос заострился, глаза провалились. Но смотрел дерзко! – Что… – начал было Трофим, но тут же сбился, потому что почуял, что за Эйлофом ещё кто-то стоит. Трофим повернулся туда и увидел троих. Эти трое стояли в тени. Трофим присмотрелся и узнал: первым стоял Годунов. А как же без него? – подумалось. За Годуновым – Бельский. Бельский ведал Аптекарским приказом, это ясно, и ещё поп какой-то, Трофим его не узнал. – Говори! – напомнил Годунов. – Чего замолчал? Говори. – А что теперь?! – сказал Трофим. – Раньше надо было говорить. И опять повернулся к царевичу. Царевич смотрел на него. Глаза у царевича сильно слезились, он моргал, слезинки катились, а глаза опять слезами наполнялись. Надо было промывать глаза. Чего же они так, думал Трофим, или нарочно залечили, что ли? Никого он теперь не узнает. Но царевич вдруг сказал: – А я тебя видел. Ты приходил сюда. Голос у царевича был слабый, Трофим едва расслышал. Царевич приготовился ещё сказать, но сил не хватало, он облизнул губы. Трофим наклонился ниже… Но его оттолкнул Годунов, наклонился над царевичем и быстро-быстро заговорил: – Батюшка-царевич! Отец наш родной! Только скажи… Царевич поморщился, сказал: – Уйди. Годунов отпрянул. Царевич уже громче повторил: – Уйди! Кому я говорю! Годунов шагнул к двери. Царевич свёл брови. Годунов вышел за дверь. Царевич строгим голосом спросил: – Кто здесь ещё есть? Ну?! Бельский выступил вперёд. – Уйди! – велел царевич. Шагнул Эйлоф. Царевич прогнал и его. Шагнул поп. Царевич усмехнулся и сказал: – А ты, Феодосий, останься. А, подумал Трофим, вот кто это – поп Феодосий, царский духовник. Поп подошел к двери, прикрыл её. Царевич опять посмотрел на Трофима и сказал почти обычным голосом: – Я знаю. Тебя из Москвы призвали. Ты спрашивал, чем меня били. Так? Трофим кивнул – так. – И я сказал, что я не видел, – продолжил царевич. – Потому что сзади били. Так? Трофим опять кивнул. Царевич посмотрел на Феодосия, сказал: – Скрывал я. Грех на мне. Феодосий согласно кивнул. – Велик ли этот грех? – спросил царевич. – Нет, – ответил Феодосий. – Ты же не ради себя согрешил. – Не ради. Да, – сказал царевич, улыбаясь. Опять посмотрел на Трофима. Сказал: – С правой руки меня убили. Посохом. Трофим молчал. А в груди у него всё горело! Вот оно как, подумалось, вот так!.. А царевич тихо засмеялся и спросил: – Чего не спрашиваешь, кто убил? Трофим опять промолчал. Стоял, боялся посмотреть на Феодосия. – Червь ты! – громко сказал царевич. – Я ради чего велел тебя сюда призвать? Чтобы ты моё покаяние принял. А ты червь! Что тебе Васька Зюзин скажет, то ты и повторишь! Червь! Червь! И все черви! И я червь! Оробел! А надо было… А… И он весь изогнулся, дёрнулся и попытался встать, но сил в нём уже не было, его только трясло. Феодосий кинулся к нему, прижал ладонь ко лбу, начал шептать: – Иванушка, Иванушка! Христос с тобой! Господь милостив, Иванушка… И царевич понемногу успокоился. Его перестало трясти. Лицо у него от пота было мокрое, все в красных пятнах, а у левого виска всё синее… Но он опять заулыбался, осмотрелся, увидел Трофима и моргнул. Феодосий с умилением сказал: – Признал, слава Тебе, Господи! Царевич закрыл глаза и опять улыбнулся. И почти сразу ровно задышал. – Отходит, болезный, – чуть слышно сказал Феодосий. Трофим спросил: – Причащали? – Как это?! – сказал Феодосий. – Живого хоронить? А если… Государь не простит! – Ну а… – Это как Бог решит, – строго сказал Феодосий. – Сам знаю. Не учи. И широко перекрестился. Трофим, помолчав, спросил: – Так что мне теперь делать? – Как что? – удивился Феодосий. – Что раньше делал, то и делай. – Так он вон же что сказал! Про посох. – А кто это слышал? Ну, я слышал, ну и что? Я, знаешь что, бывает, слушаю? Иной как начнёт каяться, так хоть святых из дому выноси. А я сижу и слушаю. Нельзя перебивать. Человек же уходит, дай ему чистым уйти, вот в чём моя забота. И он ушёл, а я молчу, он в могилу, и я как могила. Так и тут: сказал про посох, так когда сказал? Когда в могилу уходил. А почему раньше молчал? Потому что раньше думал – будет ещё жить, вот и молчал про это, чтобы жизнь не портить. Да и сейчас он как? Вначале всех выгнал, только нас оставил, и только потом заговорил. Перед тобой был грешен – и перед тобой покаялся. А я этот грех отпустил. И ему стало легко. Вот почему он нас не прогонял – для своей лёгкости. Ты посмотри – легко ему? Трофим обернулся. Лицо у царевича было всё синюшное, но улыбалось. – Легко? – ещё раз спросил Феодосий. – Легко, – кивнул Трофим. – Вот то-то же! И тебе тоже должно стать легко. Ты же теперь знаешь, как оно там было, и уймись. – Как это уймись? Он же сказал про посох! – Про чей посох? Ты что, знаешь, про чей посох он сказал? – Ну… – начал было Трофим, но не договорил – сам замолчал. – Вот то-то же, – сказал с усмешкой Феодосий. – Бес тебя путает, сын мой. Гордыня гложет. А кто ты? Государь-царевич правильно сказал: червь ты. И все мы черви – из земли пришли и в землю же уйдём. И что нам Васька Зюзин скажет, то и повторим. И это и есть смирение. – И громко добавил: – И мудрость! Ибо что иначе будет? Иди и скажи ему про посох! Мало было крови пролито? Ещё желаешь? Мало было невинных замучено? Ты сидишь там у себя в Москве и ничего не видишь, он раз от разу к вам заедет, так у вас всех сразу мокрые порты, а здесь он каждый день, и в жар и в хлад. Подай ему! И подаём. И знаем, гореть нам в геенне огненной до Страшного суда, а что поделать? Пойти поперёк? Так только ещё больше крови будет. А ты: посох, посох! А что, если это не посох, а перст судьбы? Это сейчас он лежит, улыбается, а ты его раньше видел? Он к тебе на исповедь ходил? А ко мне ходил. И потому ещё раз говорю: может, это перст судьбы и всем нам облегчение. Царевич застонал, губы его скривились. – Иванушка, Иванушка, – запричитал Феодосий и подступил к нему, начал его оглаживать по лбу, что-то нашёптывать. Царевич понемногу успокоился. Феодосий, опять повернувшись к Трофиму, сказал: – Не кори себя, сын мой, этот грех я на себя возьму. Иди. Трофим стоял, не шевелясь, и смотрел на царевича. Потом спросил: – А из-за чего он его так? – Кто его знает, – сказал Феодосий. – Может, и не из-за чего, а по горячности. Вот как в прошлом году шуту досталось. Осип Гвоздев был такой. Тоже начал задирать, дерзить. Ну и посохом его, посохом! А тот возьми да помри. И вот теперь за это кара. И государь презлющий был в тот день! Как порох! – Из-за чего презлющий? – Это у Машки спрашивай. У этой его жёнки криво венчанной. У б…и. И перекрестился. – Так это у неё он так разгневался? – Да, у неё. Но, правда, с утра ему покоя не давали. Сперва карла Васька напился, пел срамные песни, матюгался, а после разбил царский кубок, свинья. Государь его чуть не убил. А после призвали Ададурова Сёмку. Сёмка пошёл стращать про Псков… И государь его прогнал. Ох, он тогда был крепко зол! А после вдруг собрался, пошёл к Машке, долго там сидел, а как вернулся, вот где гневен был! Воистину! И говорит: где Ванька? И пошли за ним… Феодосий замолчал, покосился на царевича. Тот лежал смирно, медленно помаргивал. Феодосий скорбно улыбнулся и продолжил: – Не томи меня, сын мой, иди. Как Зюзин скажет, так везде и повторяй. А я про это, – и он кивнул на царевича, – я как могила. Трофим помолчал, подумал, поклонился Феодосию, поклонился царевичу и вышел. В сенцах его уже ждали Годунов и Бельский. Трофим в душе перекрестился, подошёл к ним и, обращаясь к Годунову, сказал: – Царевич велел снять с царицы расспрос. – С какой царицы? – спросил Годунов. – С Нагой, что ли? С Марии? Трофим кивнул. Годунов взглянул на Бельского. Тот усмехнулся и сказал: – А я что говорил?! Вот где оно! Годунов хотел было что-то сказать, но Бельский уже кликнул: – Харитон! Из перехода в сенцы заглянул тот самый ближний государев человек. – Харитон, – продолжил Бельский, – отведёшь вот этого туда, куда он скажет. Живо! Харитон поклонился. Трофим подошёл к нему и оглянулся. В царевичевых дверях стоял Феодосий. Трофим оробел. Феодосий молчал. Трофим развернулся и вышел.36
Трофим вышел, закрыл за собой дверь и остановился посреди сеней. Голова горела. Сейчас бы шкалик, подумал Трофим. Но тут к нему подступил Харитон и спросил, куда его вести. Трофим сказал, что на медный рундук. – И это всё? – удивился Харитон. – Там будет видно, – ответил Трофим. – Пока что больше говорить не велено. Харитон сердито чертыхнулся и велел стрельцам идти на медный. Стрельцы, они были с огнём, выступили вперёд и пошли. Трофим и Харитон пошли за ними. Эх, в сердцах думал Трофим, зачем он всё это затеял, сейчас бы пошёл к Зюзину в покойную… А с чем идти? Где кочерга? Но, тут же подумалось, и что с того? Это небось Зюзин и велел её украсть, и вот бы сейчас Трофим пришёл к нему и повинился бы, что не сберёг, и на кого Зюзин указал, того и взял бы. И к Ефрему! А у Ефрема это дело быстрое – язык развязывать. И вот тебе весь розыск. И Зюзин ещё дал бы пятьдесят рублей за службу. А что, не дал бы?! И тут вдруг вспомнилось, совсем не к месту, что в тот недобрый год, в Новгороде, Зюзин только одно ему дал – сапогом под дых. Это государь дал чарку водки, а Зюзин ничего не дал, а только сапогом! Зюзин не из тех, которые дают, а из тех, которые… Много о чём ещё Трофим успел подумать, пока они дошли до медного рундука. Там они остановились, и Харитон спросил Трофима, туда ли он его привёл. – Туда, – сказал Трофим. – А теперь мне надо ещё дальше, к государыни царицыным палатам. – Вот зараза! – рассердился Харитон. – Не мог сразу сказать?! Да мы от царевича могли бы прямиком туда пройти. – Я прямиком не умею, – ответил Трофим. Харитон сердито сплюнул, полез за пазуху, достал золотой португал (у Трофима раньше был такой же) и сказал, что им нужно к царицыным палатам. Один из рундуковских сторожей встал и повёл их дальше. И уже не прямиком, как Трофима водили до этого, к Мотьке и Ксюхе, теперь они сразу свернули налево. Тут, Трофим это сразу заметил, было и светлей, и чище, воздух легче, а кое-где вообще тянуло благовониями. Так они прошли до ещё одного рундука, так называемого хрустального, как после узнал Трофим. Этот рундук и в самом деле был очень красивый, весь в самоцветах и каменьях, и сторожа там были в богатых кафтанах в золотом шитье. – Всё? – строго спросил Харитон, останавливаясь и косясь на тамошних сторожей. – Нет, – твёрдо ответил Трофим. – Мне надо к самой царице. Прямо к ней. Мне царев крестовый поп Феодосий велел. По цареву слову. Харитон посмотрел на Трофима. Трофим широко перекрестился. Харитон громко вздохнул, снова достал португал и повернул его уже обратной стороной. Та сторона была с большим алмазом красной крови. Сторожа все сразу встали. Старший из них подумал и сказал: – Но это только его одного! – и указал на Трофима. Харитон кивнул и отступил на шаг. А Трофим, напротив, выступил вперёд. Один из сторожей вышел из-за рундука и велел Трофиму идти за ним следом. Они миновали рундук и пошли по переходу. Там на стенах, в специальных плошках, горели душистые свечи. – Не смотри по сторонам! – строго сказал царицын сторож. – Дверей не считай! Морду вниз! Трофим потупился. Так они прошли ещё немного, дошли до двери, перед которой стояли двое рынд, одетых в серебро. Царицын сторож остановился перед ними и посмотрел на Трофима. Тот, обращаясь к одному из рынд, сказал: – От государя царя и великого князя. По государеву велению. К государыне царице с розыском! И почему-то показал свою овчинку – красную. Рында удивленно отступил. Второй рында открыл дверь. Трофим вошёл в неё. И оказался в так называемых Золотых царицыных сенях. Вот уж где было золота и разного сверкания – и на стенах, и на потолке. Даже ковры на полу, и те были златотканые. А сколько горело свечей! Дымилось благовоний! Трофим проморгался, осмотрелся. К нему подошли две боярыни – одна справа и вторая слева. Трофим снял шапку, поклонился в середину. – Ты кто такой, холоп?! – спросила одна из боярынь, та, что потолще. – Я Трофимка, – ответил Трофим. – Порфирьев сын Пыжов, стряпчий Разбойного приказа. Пришёл к матушке-царице. По государеву делу! Последние слова он сказал громко, во весь голос. И строго посмотрел на боярынь. Толстая как будто оробела. А тощая насмешливо ответила: – Много вас здесь всяких шляется. Царским титлом прикрываетесь! А чем докажешь, что ты царев? Трофим, ничего не говоря, повернулся боком и показал своё подрезанное ухо. – Как у Малюты! – прошептала тощая. – А может, я и есть Малюта! – строго сказал Трофим. – А ты кто такая? И вдруг вытащил целовальный крест, ткнул его тощей и велел: – Целуй! – А я что? А я что?! – зачастила боярыня. – Такая моя служба – сторожить. – Раньше надо было сторожить, – назидательно сказал Трофим. – А теперь что? Досторожились! И решительно пошёл вперёд, к дальней двери, всей в самоцветах. А ещё там, при двери, на лавочках, сидели царицыны сенные девки, или боярышни. Завидев подходящего Трофима, они поспешно повскакали на ноги. – Государь стряпчий! Батюшка! Куда ты?! – опять зачастила тощая боярыня. – Где же это видано этак к царице вхаживать? Не ровён час перепугается и скинет. Трофим остановился. – Что?! – спросил он настороженно. Боярыня усмехнулась, но молчала. Её товарка, толстая, сказала: – Ты, государь, так не спеши. Царица, дело молодое, мало ли. Я мигом! И быстро вошла, мимо сенных боярышень (девок), в ту дверь, в самоцветах. Трофим стоял, посматривал по сторонам и думал, что ему теперь обратного хода нет. Боярышни теснились в стороне и на Трофима не смотрели. Боярыня, которая осталась, тощая, стояла рядом и, думал Трофим, если он без спросу сунется к двери, она в него вцепится и исцарапает так, как его Гапка никогда не царапала. А та боярыня, что зашла к царице, толстая, никак не возвращалась. Трофим прочёл Отче наш и подумал, что если он здесь ничего не вызнает, то не сносить ему головы. Но и если вызнает, то, может, это будет даже хуже, ибо что здесь можно вызнать да и про кого? Даже вспоминать о нём робость берёт. Тут тихонько приоткрылась дверь, из неё выглянула давешняя боярыня и поманила Трофима рукой. Он вошёл в дверь. Войдя, он сразу низко поклонился. И так и остался стоять. Боярыня шепнула: – Чего встал на пороге? Трофим прошёл вперёд и поднял голову. Напротив него, на высокой золочёной лавке, сидела царица и улыбалась. Царица была очень красива и очень молода. Одета она была – конечно, для царицы – просто: на голове небольшой бархатный кокошник, обшитый мелким скатным жемчугом, а сама в чёрной атласной душегрейке на куньем меху и в красных немецких сапожках с золотыми пряжками. – Государыня царица матушка, – сказал Трофим. – Холоп твой Трофимка Порфирьев сын Пыжов пришёл тебе розыск чинить. Государь послал. И поклонился. – Розыск? – удивлённо переспросила царица и поморщилась. – Розыск, матушка, – с поклоном повторил Трофим. – По государеву делу. И спешно. Царица молчала. Трофим осмотрелся. Горница там была небольшая, вся в простых коврах, окна занавешены, возле икон лампадки. А сбоку, возле царицыной лавки, у неё в ногах, на маленькой лавочке, сидела девка с развёрнутой книгой и, округлив глаза, смотрела на Трофима. Рядом с девкой стояла та самая боярыня, которая его и привела сюда. – Ступайте, – сказала царица. Боярыня и девка вышли. Трофим поклонился. Царица сказала: – Подойди. Трофим подошёл. Царица махнула рукой. Трофим опустился перед ней на колени. Царица важно улыбнулась и спросила: – И ты вот так, на коленях, будешь мне розыск чинить? – Буду, матушка, – кротко ответил Трофим. – Тебя и вправду царь послал? – Грех слово царское кривить. Послал. – Что-то никогда я тебя при нём не видывала. – Так он же, матушка, всё время здесь обретается, а я в Москве. Это мы с ним раньше были вместе, когда он в Новгород ходил. И там он меня и пометил. Трофим повернулся, показал подрезанное ухо и продолжил: – Теперь я его всегда узнаю, и ему меня ни с кем не спутать. За ухо взял – и подрезал его. Трофим замолчал. Царица тоже молчала, улыбалась, а у самой на лице ни кровинки не осталось. Трофим усмехнулся и продолжил: – Ещё у Малюты было такое же ухо. Государь его после Твери пометил. А меня после Новгорода. И ещё подал чарку хлебного вина. Очень сладкое было вино! Царица ещё больше побледнела и тихо спросила: – Так это ты тот человек? – А что, – спросил Трофим, – царь про меня говаривал? Царица не ответила. Потом вдруг сказала: – Можешь встать. Трофим поднялся с колен. Но он и теперь оставался много ниже сидящей царицы. А она скривила губы и насмешливо спросила: – Так ты что, пришёл сказать, что это я во всём виновата? Что это я Ивана, старшего царевича, убила, да? – Но… – начал было Трофим. А царица уже продолжала: – Или это я злодеев наняла? Или одурманила? Отвечай, пёс! Тут она даже привстала с лавки. Трофим отшатнулся. Царица села, насмешливо усмехнулась и сказала: – Болван и есть болван. Ничего не смыслишь. Зачем мне это было?! – А зачем царь приходил сюда? В тот самый день, когда эта беда стряслась? – быстрым говором спросил Трофим. – Был у тебя! Полдня сидел! А после вернулся злой-презлой… Зачем государь приходил? – Не твоё дело, – сказала царица и поджала губы. – Не моё, конечно, – подхватил Трофим. – И я сюда, к вам в Слободу, по своей воле не ездил бы. Сидел бы у себя в Москве. За мной приехали. – А ты? – А что я? Взял шило и поехал. Царица помолчала, а потом спросила: – Что ещё за шило? – А вот такое, – ответил Трофим, наклонился и вытащил из-за голенища шило. Оно было длинное, блестело. Трофим им повертел, играючи. – Откуда это у тебя? – совсем тихо спросила царица. – Ещё с той поры, когда мне ухо подкорнали, – почти так же тихо ответил Трофим. – И что? – И ничего, – сказал Трофим и убрал шило пока в рукав. – Чудной ты, – сказала царица. – Какой есть, – сказал Трофим. Царица усмехнулась и продолжила: – Тебя царь ко мне не присылал. – С чего это вдруг так? – С того, что если б посылал, то не велел бы допытываться, зачем он ко мне приходил. Он же и так про это знает. А тебя Зюзин послал! С Годуновым. Это они старшего царевича убили! И это они Ванюшу моего хотят со свету сжить! Лекаря к нему приставили, а лекарь не нашей веры, немец, лекарь его уморит, и ему по его вере за это греха не будет. Вот так! Я всё знаю! Мне был сон! Я… Но тут она вдруг замолчала и насупилась. Трофим терпеливо ждал. Царица вновь заговорила: – Сон был страшный. И я сразу, только рассвело, послала к царю-государю боярыню. Царь-государь велит, чтобы всегда так было – ему про сны рассказывать. И если когда не пошлю, он после крепко гневается. А так я посылаю, говорю: так, мол, и так, сон был вещий. Или был пустой. И он, если вещий, зовёт рассказать. Или приходит сам. – Царица помолчала, улыбнулась и добавила: – Он, может, за это меня и приметил – за сны. – А что тогда был за сон? – Сон был недобрый. Лежал старший царевич в лодке, голова разбита, лодка полная крови, и река тоже – одна кровь. И я проснулась. – Лодка – это что? – спросил Трофим. – Лодка – это судьба. Река – жизнь. Лодка была без вёсел. Это к смерти. – Ты царю так и сказала? Царица кивнула – да. – А он что? – А он сказал, что лодка – это ляхи. – А ты? – А что я? Промолчала. Трофим покачал головой. – Качай, качай! – злобно сказала царица. – А ты ему сам так скажи, в глаза. Ты говорил ему хоть раз? А другие говорили? А если кто и говорил, то где он сейчас? А я жить хочу. И ещё хочу дитя родить. – Это царица сказала негромко, будто бы сама себе. И после так же продолжала: – Просто дитя хочу родить, а не царевича. Да и какой он от меня царевич? Сколько у Ванюши раньше было жён? Одни говорят, пять, другие – шесть. Седьмая я вода на киселе, вот кто я у Ванюши. И если и рожу дитя, так ведь убьют его. Не хотела я сюда идти, дядья заставили. А лучше б сразу в монастырь, чем всё это. А то и… Нет! Я вам не Мотька! – и царица гневно усмехнулась. – Не дождётесь! – А что Мотька? – спросил Трофим. – Что, что! Повесилась. Сегодня ночью, – сердито ответила царица. – Говорят, её дружка нашли. Ну и она на шнуре. У себя. Покуда сняли, а она уже готовая. Гадюка! Да их здесь, этих гадюк… Как тут рожать?! А родишь, так на погибель. Знаешь, что мне часто снится? Мальчик маленький. Лежит под яблонькой, на яблоньке ещё цветы, весна. А у мальчика вот так горло перерезано! Царица показала, как, и тут же закрылась руками. Она, наверное, заплакала, потому что плечи ее дёргались, а так ничего слышно не было. Трофим постоял ещё немного, подождал. Царица так и сидела, закрывшись. Трофим украдкой развернулся и ступил… – Стой, ты куда?! – строго сказала царица. Трофим обернулся. Царица смотрела на него. Лицо у царицы было мокрое, румяна потекли, мука отлипла. – Стой! – грозно продолжила царица. – Ты меня дослушаешь! Я тебе всё скажу! Меня, может, больше никто не услышит, а я скажу. Чтоб все знали! Шереметева меня травила, гадина. Кукушкино яйцо в постель подбросила, чтобы я кукушонка родила. А я ей сказала: дура, дура, мой кукушонок вырастет, твоего из гнезда выбросит и сядет на царство, а твой будет, как Юрка, по притонам шастать! Или ты Юрку убил, и царь тебе за это ухо обкорнал?! Так говорят? Или не так?! – Какой Юрка? Ты о чём? – спросил Трофим, а сам стал белым-белым. – Вот! Вот! – засмеялась царица. – Это ты Юрку убил! А теперь Ваньку! Царь тебе теперь второе ухо обкорнает. И как земля таких носит?! Почему ты, гад, тогда не удавился? Если б не ты, мы б все сейчас… И замолчала. Трофим снова достал шило и сказал: – Молодая ты ещё, дурная. Тебя зачем сюда взяли? Чтобы понесла и родила царевича. А в остальное – видишь? – и он потряс шилом. – Не лезь! Ты думаешь, те первые шесть жён были дурней тебя? Нет, не дурней! А где они? Царица достала из рукава платочек и стала утирать им лицо. – Если Зюзин спросит, что ему сказать? – спросил Трофим. – Скажи, что он свинья, – ответила царица, продолжая утираться. Утёршись, взяла зеркальце и стала в него смотреться. После ещё утёрлась, убрала зеркальце и посмотрела на Трофима. У Трофима дрогнула рука. Почему, он не понял, а вот взяла и дрогнула. – Ну! – строго сказала царица. – Ещё что? – Погорячился, – ответил Трофим, убирая шило за голенище. – Это случается, – задумчиво проговорила царица, глядя куда-то в сторону. Потом, снова глядя на Трофима, продолжила уже так: – Меня в этом году два раза отравить хотели. Второй раз думала, не выживу. Три дня в лёжку лежала, кровью харкала. Государь разгневался, кричал: «Ты что, сука поганая, заразить меня задумала?» И посохом меня, посохом! А потом, ещё через неделю, заснуть не могла. Ночь не сплю, две не сплю. На третью раздвигается стена, вот эта, и оттуда выходит Аграфена, гадина, главная здесь ведьма, и говорит: «Жива ещё? А скоро сдохнешь, тварь, и не будешь больше моего Ванюшу мучить!» А я говорю… И замолчала, усмехнулась и спросила: – Что, не веришь? Думаешь, не может Аграфена через стены проходить? Трофим не ответил. – Иди прочь, – вдруг сказала царица. – И скажи им всем, что я никого не боюсь. Я свою планиду знаю: я рожу царевича, а вы его убьёте. Поэтому чего мне вас бояться? Я за него боюсь. А ты иди, иди отсюда! И скажи Зюзину, что он свинья. Скажи, что это я велела тебе так сказать. Пусть меня мучает! А я царевича ношу! А больше у царя царевичей не будет! Пошёл! Я кому сказала! – и она, привстав на лавке, замахнулась на Трофима. Трофим поклонился, развернулся и вышел.37
Трофим вышел в Золотые сени, надел шапку, осмотрелся. Ни боярынь, ни боярышень там видно не было. Только в углу, возле стены, стояла давешняя девка с книгой. – Иди, – сказал Трофим. Девка поклонилась и, не распрямляясь, вошла обратно к царице. Трофим вышел из сеней. В переходе, у двери, стояли рынды, а вот царицыного сторожа, который приводил Трофима, нигде не было. Нет никого – такого быть не может, подумал Трофим. Ещё раз осмотрелся и увидел, что к нему идут стрельцы, а ведёт их Амвросий, зюзинский начальный человек. – А, это ты, – сказал Амвросий, останавливаясь перед Трофимом. – Воевода тебя ждёт. И они пошли по переходу: Трофим и Амвросий, а впереди и сзади их, и по бокам – стрельцы. Но повели их не к Зюзину, как можно было ожидать, а совсем в другую сторону. Воздух был спёртый, свету мало, никто навстречу им не попадался. Спустились вниз, в подклетное житьё, прошли ещё немного и остановились. Амвросий толкнул Трофима в шапку, тот её сразу снял, Амвросий толкнул его ещё раз – и Трофим вошёл в дверь, потайную, конечно. Там, в тесной тёмной горнице, стоял возле лучины Зюзин и, прищурившись, читал расспросный лист. Расспросный лист Трофим сразу узнал, насмотрелся на них на службе. А на столе, как увидел Трофим, лежало ещё десятка два таких листов. Зюзин, читая, шевелил губами. Трофим подождал, откашлялся. Зюзин мельком глянул на Трофима. Трофим поклонился. Зюзин продолжил читать. Трофим прочёл Отче наш, снова начал … Но не успел. Зюзин отложил расспросный лист на стол, поверх других листов, и посмотрел на Трофима. Взгляд у него был волчий. Нет, даже хуже – колдовской, и как будто сразу в душу лез и там копался, высматривал. Трофим не удержался и признался: – Кочергу украли. Царскую. – Ну и что? – спросил Зюзин. – Так как же нам теперь расспрос вести? – А ничего вести уже не надо, – сказал Зюзин. – Нашли мы злодея. – Кто это? – А ты не знаешь? Как я и раньше говорил: Марьян. И Зюзин усмехнулся. – Нашли? – тихо спросил Трофим. – Нашли. В леднике, с самого верху лежал. Тут недалеко. Да ты знаешь это место. Ты, когда от Мотьки убегал, тоже туда провалился. – Да я… – начал было Трофим. Но Зюзин махнул рукой, и Трофим замолчал. Зюзин продолжил: – Мотька самавсё рассказала – и как Марьян у неё был, а после ты… – Я это… – Я и это знаю, – сказал Зюзин. – Дурак ты! Также и Мотька говорила: ты дурак. Ну да и она не умней оказалась. Думаешь, она сама повесилась? По Марьяну? Ага! У неё этих Марьянов знаешь, сколько было? А это смертный грех. Ну и помогли ей это замолить, – и Зюзин усмехнулся. Трофим, глядя на него, молчал. Зюзин спросил: – Это ты ему правую руку разжал? Хотел кольцо снять, да? – Я такого никогда… – начал Трофим. – И ещё раз дурак, – сказал Зюзин. – А кто-то не дурак! Снял колечко. Ну да и ладно. Снял – найдём. И не такое находили. Будем искать! Но после. А пока мы Марьяна нашли. И ещё вот что: нашлись такие люди, и без кочерги нашлись, которые тогда видали, как Марьян с рундука сошёл и к той тайной двери шмыганул, и там, за ней, пропал. Люди, которые это сказали, надёжные. И все сейчас у Ефрема, в остужной. Будешь их ещё расспрашивать? Или сразу мой расспрос возьмёшь? Вот он, уже набело почищенный, – и Зюзин похлопал по столу, по расспросным листам. – Вот как надо вести дело – быстро! Пока ты шастал неизвестно где. Ну, будешь их ещё расспрашивать или довольно этого? – и он опять похлопал по листам. Трофим подумал и сказал: – Довольно. – Тогда руку приложи. Трофим подошёл к столу. Зюзин подал ему лист. Трофим перевернул его, потюкал пером в бутылочку, написал «стряпчий Пыжов» и ещё сбоку поставил крестик. И подумал: Господи, помилуй. Зюзин подал второй лист. Трофим и к нему приложился. Зюзин подавал и подавал. Трофим подписывал. Когда все листы были подписаны, Зюзин сказал: – Я знал, что ты толковый. – И вдруг спросил: – А где шило? – За голенищем, – ответил Трофим. – То же самое? Трофим кивнул. – Был у царицы? Трофим вновь кивнул. – Дура, – сказал Зюзин. – Ой, дура! Могла бы вон как взлететь! А так дура. Это я про её сны. Она тебе свои сны баяла? Трофим молчал. – Значит, баяла! – сказал Зюзин и засмеялся. – Вот и опять дура. Она если даже и царевича родит, всё равно дурой останется. Зря ты к ней ходил расспрашивать. Только время потерял. А я, пока ты там шатался, вон сколько всего выведал! Вот так! И Зюзин потёр руки от удовольствия. Потом вдруг спросил: – Кто тебя к дуре послал? Годунов? Трофим молчал. – Годунов! – ещё раз сказал Зюзин. – Годунов и Бельский. Я всё знаю! Ты от царевича вышел, а они уже стоят. Ты говоришь… А они отвечают! Всё знаю! Тоже дураки! – Но тут же вдруг замолчал, насупился, потом сказал: – А вот что было у царевича, про то не знаю. А ты спьяну забыл! Понял? Ведь забыл же всё, что было у царевича, о чём был разговор? Забыл? – Забыл, – потерянно сказал Трофим. – Вот то-то же! – воскликнул Зюзин. – Выпил водки и забыл. Кто же такое помнить хочет? Кому голова не дорога? А вот про эти листы, – и он опять хлопнул по столу, – про них ты всё помнишь. И если вдруг спросят, ты им что ответишь, кто убил? Трофим сглотнул ком и сказал: – Марьян. – Побожись! Трофим молча перекрестился и подумал: Господи, помилуй! Господь молчал. Трофим ещё раз перекрестился. Его пробил пот. Зюзин усмехнулся и сказал: – Ну вот, когда дело сделано, можно и передохнуть. Иди к себе и жди там. Когда нужен будешь, позовут. А придут звать, чтоб был на месте. Понял? Или голову вот так! – и он показал по горлу. Трофим кивнул, что понял. – Вот и всё, – сказал с усмешкой Зюзин. – Пока сам не возьмёшься, ничего не сделают. А так р-раз! – и с плеч долой. И завтра уже поедешь к своей Гапке, и с гостинцем. Царским! А пока иди, глаз не мозоль, скотина. Трофим развернулся и вышел.38
Трофим вышел от Зюзина, закрыл за собой дверь и, мимо Амвросия и его стрельцов, пошёл к себе. Ни стрельцы, ни Амвросий не сдвинулись с места. А и верно, подумал Трофим, чего им теперь за ним ходить, он же и так теперь их – с потрохами. Листы подписал, не читая. Да и гори они огнём, эти листы! И, больше ни о чём уже не думая, Трофим шёл по Государеву дворцу и так дошёл до Козлятника, а там свернул под лестницу и вошёл в свою каморку. Дух в каморке был тяжёлый. Трофим подступил к окну, открыл заслонку. Сразу потянуло холодом, свежим морозцем. Трофим подтянулся, посмотрел в окно. Ничего там видно не было, только небо да кусок стены. Да снег, который сыпал медленно, крупными хлопьями. Вот уже и зима наступила, подумал Трофим, и сегодня воскресенье. Сейчас, если бы он был в Москве, зашёл бы к Фильке, и с ним вместе подался бы на Балчуг, в кабак. А что! В воскресный день после обедни – святое дело, как сказал бы Филька. А в кабаке бы сели, где всегда садятся, в дальнем углу, возле печи, а если бы кто там сидел, Матвей тех прогнал бы. Матвей это может, да и Матвеево это дело – смотреть за порядком. И вот они сели бы там, Филька щёлкнул пальцами – и сразу прибежал Силантий. Трофим достал бы овчинку, показал, сказал, что они с проверкой. Силантий бы оскалился, а зубы у него гнилые, тьфу, закивал бы и спросил: чего? Трофим ответил: как обычно. И Силантий одна нога здесь, другая там, принёс бы им по чарке и закусить чего-нибудь. Трофим, глядя на него, отпил бы и спросил: а не разбавлена? А Филька бы сказал: чего-то непонятно. Силантий бы кивнул и убежал. А пока они бы выпивали да закусили, Силантий принёс бы ещё… Ну и так далее, до самой ночи. А в понедельник с раннего утра на службу. С больной головой! А тут что будет в понедельник? Трофим отвернулся от окна и осмотрелся. Да что там было рассматривать? Две лавки, на них тряпки и овчины, и ещё лавка у окна, вместо стола. В красном углу – икона. Трофим перекрестился на неё, прошёл и сел на свою лавку. И подумал, что, может, зря он так себя костерит. Ну и написал на Марьяна. А что, лучше было бы на кого-нибудь другого написать? Совсем ни на кого не написать не дали бы, а на Марьяна написал, и дальше что? Да ничего! Марьян уже убитый человек, его во второй раз не казнишь. И ни на кого доноса из него не выбьешь. Так что никому беды не будет от того, что подмахнул эти расспросные листы, даже, напротив, всем как бы вышло послабление – никого больше трепать не будут, подумал Трофим…. И вдруг его как огнём обожгло! А что он подписал? – подумал. Верно ли, что на Марьяна?! Он же не читая подписал, мало ли что Зюзин мог ему подсунуть? Вдруг Трофим на себя подписал?! А что! И такое бывало! Государев думный дьяк Григорий Шапкин вот уж до чего был голова, а когда за него вдруг взялись, это уже после Новгорода было, когда все, кого Бог миловал, в Москву вернулись… Вдруг Шапкина взяли в расспрос, опять про те подпорченные гири новгородские и начали срамить: ты почему, когда царство шаталось, невесть чем занимался?! И в хомут его! В том же Разбойном приказе, которым он ещё вчера заведывал, на той же дыбе, на которой раньше других поднимал, сам поднялся! И Сидор, наш же разбойный палач, любимец шапкинский, его теперь… А! Что и вспоминать! Трофим вздохнул. Вдруг за окном послышались колокола. Трофим подскочил, прислушался… Колокола перестали звонить. И это совсем не по царевичу. Это они часы отбили. А куда Клим ушёл? А что будет дальше? Да никто не знает, что тут будет дальше. Знать может только один, да и тот сейчас, наверное, лежит и ничего не говорит, и ничего не понимает. Может, опять лекаря к нему призвали, а, может, Софрон не позволил, сказал: сам выхожу. И он это может, про это все знают, Софрон, говорят, уже не раз… Вдруг кто-то тюкнул в дверь – очень несмело. Пресвятая Богородица, только и успел подумать Трофим, как дверь открылась, и в каморку вошёл Савва-истопник – тот самый Савва, который был тогда при всём, что там, в покойной, сотворилось. Вид у Саввы был напуганный. Трофим мысленно перекрестился и велел: – Дверь закрой. Савва закрыл. Трофим поманил его рукой. Савва подошёл, остановился прямо перед ним и опустился на колени. Глаза у Саввы были красные, мокрые, губы дрожали. Трофим, сам не понимая, что делает, достал целовальный крест. Савва приложился к нему и пообещал говорить, ничего не скрывая, и как на духу. Трофим усмехнулся, спросил: – Чего ты это вдруг? А сам подумал, а не привёл ли Савва за собой кого-нибудь, не стоит ли кто сейчас за дверью и не слушает ли? Савва как будто это понял, и сам сказал: – Чист я, как слеза, боярин. Ушли они все к царевичу, а я к тебе побежал. – От Ефрема? – недоверчиво спросил Трофим. – Нет, от себя, – сказал Савва. – От Ефрема нас всех ещё утром отпустили, как только нашли Марьяна. Ага, подумал Трофим, ну что ж, такое могло быть. И снова сунул Савве крест. Савва его опять поцеловал. – Рассказывай. Как на духу, – велел Трофим. – Но скоро говори! А то мало ли! И он покосился на дверь. Савва понимающе кивнул и начал – очень осторожным шепотом: – Я тогда вошёл в покойную и вот так дрова несу, в охапке. А они стоят возле столика, на меня не смотрят и молчат. Но чую, только что говорили. И говорили яро – оба красные! Эх, думаю, только бы половицы не скрипнули, в этой тишине их сразу будет слышно, а царь-государь такого, ох, не любит! И я по одной досточке иду, ступаю по гвоздям, там через пол-аршина гвоздь, на гвоздь наступишь – не скрипит. И вот иду, не скриплю, да и что там идти, шесть шагов… А царь-государь царевичу вдруг говорит очень сердито: «Ты что это, Ваня, опять мне перечишь?! Я тебе разве неясно сказал?!» А царевич: «Нет, не ясно!» И ещё вот так гыгыкнул, очень зло. Тут царь-государь, не удержавшись: «Ах, ты так?!» И посохом его по голове! И посохом! «Вот тебе, дурень, Псков! Вот тебе, дурень, войско!» И ещё! Прямо в висок! Царевич сразу зашатался – и на пол. И лежит, как сноп. Царь перепугался: «Ваня! Ванечка!» Посох отбросил – и к нему. А тот уже не отзывается, лежит, закатил глаза. Полголовы в кровище. Царь на него пал сверху – и рыдать, трясти его! Тут я дрова и выронил. Посыпались они, затарахтели. Царь сразу вскинулся, на меня поворотился, смотрит… А я вижу только посох. Он рядом лежит, весь в крови. А у царя-государя глаза как уголья! Ох, мне тогда стало боязно! Сейчас он, думаю, начнёт кричать: «Савка царевича убил! Савка убил! Савка!» И кому все поверят? Ему! И я тогда в дверь и кричать: «Царевича убили! Царевич убился! Зацепился за порог, об приступочку виском – и насмерть!» Я же тогда и вправду думал, что он совсем убился. Я же не знал, что он так долго будет помирать и у него можно будет спросить, кто его так посохом… И замолчал, посмотрел на Трофима. Тот сказал: – Я спрашивал. И он мне показал, что это его сзади, со спины ударили, и он не видел, кто. Савва помолчал, сказал: – Вот как он родителя любит. Даже теперь не выдал. И вздохнул. Трофим, помолчав, спросил: – Так, говоришь, царь посохом? Савва кивнул, подумал и добавил: – Осном бил. Осно острое. Если бы навершием ударил, то бы не убил. А осном – это верная смерть. Посох снизу – это как копьё. И перекрестился. Трофим нахмурился, спросил: – Почему я должен тебе верить? – Я крест целовал, – сказал Савва. – Так ты и третьего дня целовал. А что тогда наплёл? Савва молчал. Трофим продолжил: – Как я теперь узнаю, что ты правду говоришь? Была бы кочерга, сразу узнал. Но кочергу украли. Как мне теперь без неё обходиться? – Ну, кочерга, – сказал Савва и хмыкнул. – Она от Аграфены, сумасшедшей бабы. Зюзин тебя нарочно с Аграфеной свёл, чтобы с толку сбить. А когда не сбил, велел украсть. – Кто это такое говорил? – Все говорят, – уклончиво ответил Савва. Трофим подумал и сказал: – Наговорить можно всякое. – Я говорю не всякое, – ответил Савва, – а только то, что сам видел. Вижу, сидит царь на ковре, держит царевича. А сбоку лежит посох, весь в крови. И я побежал. А после привели меня обратно, чтобы показал, где это было, смотрю, а посоха нигде не видно. – Ну, так и царя не видно было. И царевича. И что с того? – Их унесли, сказали. – Вот кто-то и посох унёс. – Посох?! – с жаром спросил Савва. – Да кто это до посоха дотронется?! Да за такое сразу руки обсекут по плечи! Посох! Да кто посох взял, тот царь! – Ну… – начал было Трофим. – А вот и не «ну»! – ещё сердитее продолжил Савва. – Никогда никто до посоха не смей дотронуться! И тут вдруг… Никто не посмел бы. Лежал бы посох по сей день, все обходили бы и, обходя, шапки снимали. А брать – нет! – Но кто-то же посмел, – сказал Трофим. – Посмел, – кивнул Савва. – Максим! – и быстро посмотрел на дверь. Дверь была плотно закрыта, за ней было тихо. – Максим? – чуть слышно повторил Трофим и тоже поневоле посмотрел на дверь. – Какой Максим? – Метельщик, который вчера в пыточной от страха чуть не помер. Я ещё подумал, что это вдруг с ним. А теперь я знаю, что – потому что он посох унёс. – Куда унёс? – Не говорит. – И все, хочешь мне сказать, молчат? Царев посох пропал, и никто не хватился?! – А и хватились бы, и что? А его нет нигде! Посоха царева нет, представляешь? Царь у нас теперь без посоха! И посох в крови. И Савва перекрестился. – Ну, – сказал Трофим, – такого быть не может. Царь бы… – Царь не поднимается. Трофим помолчал, подумал и спросил: – Зачем ты мне всё это говоришь? Почему раньше молчал? – Раньше мне было боязно, – ответил Савва. – А теперь я ничего не боюсь. Ко мне сегодня ночью Мотька приходила. – Как Мотька? Она же мёртвая. – Вот мёртвая она и приходила. – И что? – Я, говорит, тебя, скотина, задушу, если ты правду про посох не скажешь. – Ну а ей это зачем? – А чтобы Марьяна обелить. Противно мне, говорит, что на Марьяна наклепали всякого. Говори, кричит, как было! Или задушу! И вот! Савва открыл ворот, и Трофим увидел у него на горле синяки, будто его и впрямь душили. – Это Мотька, – сказал Савва. Трофим утёр пот со лба и спросил: – Что ещё Мотька говорила? – Пока ничего. Только велела, чтобы я пошёл к тебе и всё как есть поведал. И вот я пришёл. Трофим подумал и спросил: – Что она сказала: она сама повесилась или её повесили? – Вот придёт к тебе, тогда и спросишь. – Ладно, – сказал Трофим. – А как ты про Максима узнал? Тоже Мотька надоумила? – Нет, это я сам, – ответил Савва. – У неё что? У неё только Марьян на уме. И она в меня как впилась, как стала душить! Я чуть проснулся. Глаза продрал, а ничего не видно. Мы же тогда в пыточной сидели. Как ты нас туда привёл, ещё в пятницу, и как оставил, так мы там и сидели: я, Спирька-сторож, да Шестак Хромов с рундука, да рынды эти двое, да Максим-метельщик. День просидели, ночь, ещё день, ещё ночь… И вот в эту ночь она мне и приснилась. Ты у Ефрема не сидел, боярин. Ефрем, если что не по его, знаешь, какой?! Он… – Ладно! – строго перебил Трофим. – Дело говори, не заговаривайся. Савва утёр губы, продолжал: – Дело! Дело было простое, боярин. Ефрем нас всех в угол согнал, сбил поплотнее и ушёл. И вот от этой тесноты мне и приснилось, будто меня Мотька душит. Сам не знаю, как тогда проснулся. Не проснулся, задушила бы. А так протёр глаза – и ничего не видно. Но горло горит. Я по нему рукой провёл, а оно всё липкое, в крови. Вот какой сон! Меня стало трясти. А тут ещё, чую, кто-то сбоку заворочался. Я говорю: «Максим, ты это?» Он сразу затих. И ведь слышу, что не спит, но и не отзывается. Вот, думаю, какой этот Максим, у него что-то на душе припрятано, ей-богу! И я стал думать о Максиме, потом о Мотьке, о её словах… И так, мало-помалу, до утра додумался. А тут и Ефрем пришёл, велел подниматься, стал мимо нас ходить взад-вперёд и спрашивать, кто желает что-нибудь сказать, пока ещё живой. Мы все молчим. Только смотрю: Максим совсем раскис, весь белый, губы закусил, руки трясутся… И тут вдруг входит Зюзин, говорит, нашли злодея, Марьян Игнашин во всём виноват и сознался. – Что-что?! – переспросил Трофим. – Сознался? – Да, сознался, – сказал Савва. – Так тогда Зюзин говорил. Это я уже позже, наверху узнал, что его нашли убитого, а там нам Зюзин говорил – живого. И что он кое на кого показал. Так что, добавил Зюзин, нам сейчас лучше сразу сознаться, повторить, о чём Марьян показывал – и тут же привёл нас к кресту, а Ефрем нас всех, по одному, стал поднимать на дыбу и расспрашивать. Но никто ничего про Марьяна не вспомнил. Также и Максим молчал. Зюзин, я думал, станет гневаться, что мы молчим, а он наоборот засмеялся, сказал, что мы все иерои, государю верные, и велел нас всех оттуда гнать, из пыточной. Мы сразу пошли наверх. Быстро пошли, как могли. И вот мы идём наверх, Максим, вижу, возле меня держится. А наверху вдруг схватил меня за руку и говорит: «Я один дальше не пойду». Я его тащу вслед за собой, жаль дурака же, смотрю по сторонам и говорю: «Чего ты»? А он: «Меня там убьют!» «За что, – говорю, – вдруг убьют?» Он говорит: «Есть за что». Тьфу, думаю, дурень какой, надо сперва уйти подальше, а то вдруг Зюзин передумает и велит идти обратно?! И я Максима потащил ещё быстрей, и говорю: «Не бойся, я с тобой, я тебя до самой твоей лавки доведу и сапоги сниму, ты только молчи, пёс!» И он молчал, слава Богу. И вот я его завёл в каморку, там, конечно, пусто, никто его не ждёт и зла на него не замышляет. Он сел на лавку, снял шапку, весь мокрый, поворотился к иконе, перекрестился и говорит: «Слава Тебе, Царица Небесная, заступница, что ты меня не выдала, Ты же знаешь, я не за себя, а за государя радел». И ещё раз перекрестился, и пал на колени, и начал поклоны бить. Э, думаю, тут дело непростое, и говорю ему: «Ах ты, смердячий пёс, вот ты каков! На Богородицу поклёп возводишь!» Он: «Какой поклёп?!» А я: «Как какой?! Обыкновенный. Тебя, скотина, привели к кресту, ты побожился отвечать по совести, а сам на дыбе промолчал, козлина, через крест переступил, а теперь смотрите, братцы, его Богородица не выдала! Она с ним сговорилась! Да тебе за это надо язык вырвать! Глаза выколоть! Говори, пёс, что скрывал?!» Он весь в лице переменился, почернел и говорит: «Я ничего не таил! И никому зла не желал. Но если скажу про то, о чём не говорил, мне сразу руки по плечи отрубят». И тут Савва замолчал и посмотрел на Трофима. Трофим поспешно велел: – Продолжай! Савва облизнулся и продолжил: – Как только я про эти руки по плечи услышал, сразу думаю: ого, вот это кто! – и говорю: «Так это ты, пёс, украл царев посох?» Он отвечает: «Я не крал. А только прибрал с чужих глаз». Я говорю: «Куда?» Он молчит. Я к нему! И за горло его! И душить! Он аж почернел, глаза выкатил, рот открыл… Я отпустил его. Он говорит: «Хоть убей, хоть не убей, а не скажу. А даже скажу наоборот: что я и раньше ничего не говорил! И будут опять на дыбе поднимать, а я опять оттерплюсь! Будут огнём жечь, оттерплюсь, будут варить в кипятке, я опять оттерплюсь, не скажу! Такой грех на себя не возьму!» Я смотрю на него, думаю: ещё бы, ведь если он скажет, что брал посох, и посох найдут, то увидят на нём кровь и от этого сразу узнают, кто убил царевича. Ну а что будет дальше, и гадать не надо. Поэтому разве Максим в таком сознается? Да ни за что! Я ещё подумал и сказал: «Ладно, пёс, хочешь молчать, молчи. Только смотри, рук на себя не накладывай, ибо это тоже смертный грех. Сиди и жди меня». И развернулся, и ушёл. Искал тебя. Пока искал, мне рассказали, что Марьяна нашли мёртвого. И Савва замолчал. Трофим подумал и спросил: – И чего ты теперь хочешь? – Надо тебе с Максима снять расспрос. Он тебе, думаю, расскажет. Так будет по-божески. Трофим усмехнулся и подумал: это верно, надо поставить Максима к кресту. И вот Максим оробеет, сознается. Трофим пойдёт, найдёт посох, весь в крови, принесёт его царю… И что ему за это будет? Вначале отрежут правую руку по локоть, потом левую ногу по колено, потом… Ну и так далее. Да ещё скажут: тебе, пёс, было велено сидеть у себя в Козлятнике и никуда не выходить, а ты куда попёрся?! И отрежут ему уши, а после выколют глаза. И – на кол! Трофим усмехнулся. Ну а если не ходить к Максиму и дождаться Зюзина, прийти с ним к царю, показать на Марьяна, получить подарки, поехать домой… Да он уже однажды приезжал такой. Нет, даже тогда было ещё так-сяк, а тут это уже совсем не по-божески. Трофим мотнул головой, поднялся и сказал: – Пойдём к Максиму. И они пошли.39
Идти к Максиму оказалось совсем близко. Они вышли, обогнули лестницу, миновали две двери, зашли в неприметный закуток под ещё одной лестнице. Там Савва на ощупь нашёл дверь и постучал в неё. Никто не отозвался. Савва негромким голосом сказал: – Максим, будем ломать. Максим так же негромко ответил: – Открыто. Савва толкнул дверь, они вошли. Максим сидел на лавке и перебирал метлу – на столе, перед лучиной. Прутья в метле были один в один, пушистые, духмяные. Максим убрал руки со стола и посмотрел на Трофима. – Помогай Бог, – сказал Трофим. Максим горько усмехнулся. Савва сказал: – Чего сидишь? Принимай гостей. – Это не гости, – ответил Максим. Трофим снял шапку. Максим встал. Савва прошёл и сел на лавку. Трофим спросил, продолжая стоять: – Знаешь, зачем я пришёл? Максим кивнул, что знает. – А ты кто таков? – спросил Трофим, доставая целовальный крест. – Я Максим Терентьев сын Огалин, царев метельщик с Верха. Трофим протянул Максиму крест. Максим побелел, как снег, не шелохнулся. Трофим, помолчав, сказал: – Я знаю, почему ты посох спрятал. И я тебя за это не виню. Максим упал на колени. Трофим подал ему крест. Максим схватился за крест, но целовать его не стал, а, подняв голову и глядя прямо на Трофима, начал говорить: – Мало, боярин, знать. Ещё должно быть понимание. Ты понимаешь, что такое царев посох?! Царев, боярин, понимаешь?! Царь без посоха не царь! А посох – царь и без царя! Тут Максим встал с колен, и, по-прежнему держа Трофима за руку, не подпуская целовальный крест, продолжил: – Когда государь Василий помер, посох стоял подле ложа. И унесли Василия, а посох не посмели тронуть, и посох стоял, где стоял. Не было царя, был посох! Привели царевича. Сколько ему тогда было? Три года. И не осилил посоха Иван Васильевич, даже с места не смог его стронуть. Стали тогда бояре говорить: что делать? Когда государь ещё в силу войдет? Как нам до этого без государя быть? И тогда старший Шуйский, Андрей, вышел вперёд, всех растолкал, сказал, что негоже быть державе без присмотра – и взял царский посох. И стал всей державой править. И так он правил десять лет, никто не смел ему перечить. Но тут государь Иван Васильевич подрос, окреп, вошёл в отроческий возраст – и однажды вдруг взял да и вырвал у Шуйского посох! Не здесь это было, а ещё в Москве, в Тронной палате, при всех боярах, при всей прочей дворне. Ух, Шуйский тогда разгневался! Как ты смеешь, сопляк, закричал… А государь на него и не смотрит, а повернулся к псарям и велел: «Эй, слуги мои верные, а ну укоротите этого!» И взяли Шуйского псари. Затравили его псами насмерть. А царь-государь Иван Васильевич как взял тогда отцовский царский посох, так и по сей день его из рук не выпускает. И не выпустит! И даже если кто только до посоха дотронется, тому руки сразу по локоть обрубят! – Но ты же дотронулся, – сказал Трофим. – Кто тебе сказал такое? – Савва. – Вот с него теперь и спрашивай! – Нет, я с тебя спрошу! – гневно сказал Трофим и снова сунул целовальный крест Максиму… Но Максим крест не отпускал и не давал его к себе приблизить. И очень крепко не давал! Трофим давил на Максима и думал: а откуда в том столько сил?! Ведь тщедушный человечишко, соплёй его перешибёшь, а вот не даётся, и всё! Трофим левой свободной рукой схватил Максима за плечо и ещё сильней напыжился… А Максим по-прежнему не поддавался! Что за бесовщина?! Трофим обернулся к Савве. Савва вскочил с лавки и кинулся на подмогу. Теперь их было двое здоровенных бугаёв, а Максим один. А кто такой Максим? А вот не поддавался им, и всё! Но Трофим и Савва с обеих сторон его всё давили, давили, давили, крест понемногу шёл вперёд, Максим почернел от натуги, он был весь мокрый, глаза вылезли, рот крепко сжат, сопел, как бешеный… И наконец не сдюжил, отпустил. Трофим сунул ему крест, разбил в кровь губы, цакнул по зубам и яростно велел: – Целуй! Максим что-то прохрипел. – Поцеловал! – воскликнул Савва. – Приложился! У Максима из глаз полились слёзы. Трофим грозно велел: – Божись! Максим что-то невнятно прошамкал. – Побожился! – радостно воскликнул Савва. И, отпустив Максима, истово перекрестился. Трофим тоже отстал от Максима, утёр ладонью крест, сказал: – Ну, вот так, Максим Терентьев сын Огалин, ты мне побожился говорить как на духу. Так говори теперь, скотина! У Максима весь рот был в крови. Он утёрся рукавом, сказал: – Бог вам судья, бояре. Чтоб вы провалились! – Это не тебе решать, – сказал Трофим. – Это как Бог рассудит, сам же говорил. А теперь отвечай за себя! Ты посох брал или нет? Максим пожевал губами и сказал негромко: – Брал. – Зачем? – Захотел – и взял. – Почему захотел? Максим молчал. Трофим поднял целовальный крест, показал Максиму и спросил: – Это видишь? Божился? Максим молчал. Трофим повернулся к Савве и спросил: – Он женатый? Дети у него есть? Но Савва только открыл рот, как Максим уже ответил: – Взял, чтобы с глаз прибрать. Он же был весь в кровище. – Во-о-о-т! – протянул Трофим. – Так оно лучше. – И, снова повернувшись к Савве, начал: – А где… – Ты не у него, а ты у меня спрашивай! – сказал Максим. – Кто посох брал: он или я?! Трофим усмехнулся. Максим утёр лоб и заговорил: – Когда всё это там у них сотворилось, шуму было много. Все туда побежали. И я побежал. Но нас в дверь не пускали никого. Рынды на двери стояли, а сама дверь была закрыта. Много нас тогда туда набилось, под ту дверь. Стояли, говорили всякое. Потом вот его привели, – Максим показал на Савву. Савва утвердительно кивнул. Максим продолжил: – Его завели туда, а мы стояли. – Говорили: почему стоят? – спросил Трофим. – Говорили, царевич убился, – ответил Максим. – Одни говорили – зацепился за порог, другие – поскользнулся на ковре, и головой об стол, об угол. – А говорили, что его убили? – Кто же такое скажет вслух? Молчали. – Ладно, – сказал Трофим. – А дальше было что? – А дальше оттуда вышел Зюзин и велел всех отогнать от двери, чтобы не мешались. Стрельцы вышли за ним и стали отгонять. А я остался. Сказал, я здешний служка, мне здесь надо быть. Меня тогда поставили к стене. А остальных всех затолкали за угол, чтобы не видели. – Чего не видели? – А как выносили двоих – вначале старшего, а после младшего. Стрельцы их на руках несли, я видел. – Несли неприкрытых? – Прикрытых. Но я и так их узнал, по сапогам. Живые были оба, тоже видел. – А дальше? – Зюзин меня заметил, говорит: «Вырву язык, собака!» Я говорю: «Помилуй, государь, за что?!» Он: «Если пикнешь». После завёл меня туда и велел прибрать. Я и прибрал. – А Зюзин что? Смотрел, как прибираешь? – Нет, он сразу вышел. Даже не сказал, что прибрать. А так: «Прибирай!» – и пошёл. Не в себе он тогда был. Да и все там были не в себе. И я был такой же. Ещё бы! Царь царевича убил! Сказав это, Максим перекрестился. Трофим спросил: – Почему ты так решил, что царь? – Потому что чей посох? Царский. И он весь в крови. Да там всё было в крови. Посох на ковре валялся. Они все ушли, я там остался один, а посох весь в крови лежит. Я подумал: вот завтра придут, и что тогда? – А тебе что до этого? – Да ничего как будто бы, – сказал Максим. – Но это сейчас так говорю. А тогда я тоже был не свой, как все. Стою тогда и думаю: нельзя, чтобы такое видели, грех же какой! Да и Зюзин, думаю, велел прибрать, вот сейчас вернётся, спросит: «Ты прибрал?» И я взял посох… – Вот так и взял?! – спросил Трофим. – Руками? – Нет, конечно, – ответил Максим. – Кто я такой, чтоб царев посох брать? Я до него не притронулся! А отвернул рукав, спустил, и через рукав только взял. За дверь отнёс и там поставил. И закрыл обратно. – За какую дверь? – За потайную, за ту, что за печью. – Так ты что, про неё, про ту дверь, раньше знал? – Как не знать?! Это же только ему, – и Максим кивнул на Савву, – там ходу только до печи, а я должен везде прибирать. И я туда, за печь, посох и поставил, в том чулане. И на этом всё. – И посох там до сего и стоит? – И стоит. Никто у меня про него не спрашивал. И не искал его никто. – Так, может, его давно нашли. – Кто?! Кому туда был ход? И кто знал про эту дверь? И если бы нашли, тогда бы искали того, кто его туда занёс. А так не ищут. Ведь не ищут же?! Трофим подумал и сказал: – Ну как будто да. А сам подумал: тут что-то не так. Но и Максим ведь не кривит. Поэтому надо проверить. Да и что тут проверять – пошёл и посмотрел за дверью. И ещё вот что: сейчас не пойдёшь, потом всю жизнь будешь себя корить. А пойдёшь, а тебя кинутся искать… И на кол! А так что, а так найдёшь посох, весь в крови, и как быть дальше? Вдруг откуда-то издалека, через окно, раздался колокольный звон. – Что это? – спросил Трофим, а самому подумалось: царевич умер. Савва послушал и сказал: – Во здравие. – Больно уныло бьют, – сказал Максим. – Откуда радость? – сказал Савва. Колокола продолжали звонить. Звонили вполсилы. Трофим перекрестился и подумал, что до покойной тут совсем недалеко, колокола ещё не отзвонят, а дело уже будет сделано. И, повернувшись к Максиму, велел: – Веди! – Куда? – спросил Максим. – Посох искать, куда ещё! Максим как не слышал. Трофим достал шило, приставил его Максиму к горлу. Максим молчал. Трофим надавил до крови, но Максим по-прежнему молчал. А колокола продолжали звонить. – Ладно, – сказал в сердцах Трофим. – Вернусь – убью, если сбрехал. – Убрал шило, повернулся к Савве и велел: – Пошли! Савва пошёл за ним. А Максим стоял, не шелохнувшись.40
Было уже почти совсем темно. Трофим и Савва шли по переходу. Откуда-то сквозь стены слышались колокола. Не к добру это, думал Трофим, чего вдруг звонить в такое время? А самого его куда несёт, да какой там в чулане посох? Набрехал Максим, ловушка это, лучше не ходить. Но, с другой стороны, там же темно, как в погребе, а он огнём не светил, там хоть десять посохов поставь – не заметишь. Так что он сейчас быстро туда сходит, глянет, ничего, конечно, не найдёт – и сразу обратно. Зюзин пришлёт к нему людей, а он уже на месте! И Трофим прибавил ходу, Савва за ним едва поспевал. Навстречу стали попадаться то стрельцы, то дворовые бабы, становилось непривычно шумно. Да и за окном стали звонить намного громче. Трофим остановился. Но Савва тут же взял его под локоть и потащил куда-то в сторону, надо понимать, в обход. Трофим не спорил. Они так и пошли, куда вёл Савва. Петляли, как зайцы, вправо, влево, вверх, вниз по лестницам, но встречных и там было немало, правда, совсем не было стрельцов, а только дворовые. Куда их всех вдруг понесло, думал Трофим, откуда столько суеты, но шагу уже не сбавлял, держался рядом с Саввой. Так они шли, шли… И, ещё раз резко развернувшись, вдруг сразу вышли к покойной. Там, возле двери, стояли не двое, как обычно, а четверо рынд. Савва, выступив вперёд, велел посторониться. Но рынды даже не шевельнулись. – Овсей! – сердито сказал Савва. – Ты что, меня не узнал? – Пошёл вон, – сказал один из рынд, наверное, Овсей. – Овсей! – опять начал было Савва… Но Овсей вдруг выступил вперёд и замахнулся бердышом, и Савва сразу отступил. Трофим, оставаясь на месте, достал красную овчинку и, показав её рындам, сказал: – Не сердите меня, братцы, я от воеводы, от Василия Григорьевича. Ну! – А сам ты кто такой? – спросил Овсей. Трофим повернулся, сдвинул шапку, показал обрезанное ухо. Овсей оробел, посторонился. Трофим шагнул к двери. Савва ступил за ним. Но рынды Савву не пустили. А Трофим толкнул дверь и вошёл. И сразу закрыл ее за собой. В покойной было сумрачно. Хоть окно и не было заставлено, света из него уже почти не шло. Трофим выступил вперёд, остановился посреди покойной. Было тихо, только откуда-то издалека слышался негромкий перезвон колоколов. Трофим перекрестился и подумал, что это, наверное, царевич помирает, звонят по нему. И вдруг вспомнил, что огня-то он с собой не взял, чем теперь светить?! Осмотрелся и увидел, что на столике стоит погашенный светец. Трофим взял его и подошёл к печи. Печь была тёплая. Трофим наклонился, глянул в печь, там сбоку, слева, едва заметно светились уголья. Трофим подковырнул их ногтем, выкатил и начал раздувать. Засветился огонь. Трофим втолкнул его в светец. Светец разгорелся. В покойной сразу посветлело. Трофим поднял светец повыше, обошёл вокруг печи, осторожно толкнул потаённую дверь, вошёл в чулан и, посветив, глянул за дверь. Ничего там, конечно, не было. Сзади вдруг отчётливо послышалось, как кто-то кашлянул. Трофим резко оглянулся и увидел Клима. Клим молча забрал у Трофима светец и посветил туда, сюда, потом спросил: – Чего ищешь? Потерял чего-нибудь? Трофим, немного помолчав, ответил: – Посох. – Какой посох? – Царский. Весь в крови. Трофим думал, что Клим оробеет. Но тот только тихо засмеялся и сказал: – Ага! Вот даже как. Так это ты царевича убил? А посох сюда спрятал! Ты?! – и вдруг перекосился весь! И сунул светец в Трофима! Трофим отшатнулся, воскликнул: – Да ты что?! Да я тогда в Москве был! Ты же за мной сам туда ездил! – Ну и ездил, – сказал Клим, опять подступая к Трофиму. – И что?! Знаем, знаем мы таких! Убил! А после сразу на коня – и погоняй в Москву! А мы тут бегай, ищи! – И спросил: – Это тебя Нагие надоумили? – Ты что несёшь?! – вскрикнул Трофим. – Несу то, что на тебя показано! – ответил Клим. – Знаем, знаем, это ты с Марьяном сговорился! Максим всё нам рассказал, Савва на дыбе повторил: ты и Марьян убили!.. Вдруг где-то в переходе закричали! По лестницам забегали! Клим утёр лоб кулаком, злобно сказал: – Ну, брат, теперь тебе только на Бога надежда! Пойдём! И поднял светец ещё выше и первым шагнул из чулана в покойную. Трофим выступил за ним. Спросил: – А посох где? – Где, где! – злобно ответил Клим. – У царя в палате, где ещё! – А Максим говорил… Клим остановился, обернулся и сказал: – Дурень твой Максим! Дубина! – Передразнил Максима: «Царев посох! Царев посох! Руки отрубить!» – И уже своим, обычным голосом, продолжил: – Железяка это, вот что. Позолоченная и с каменьями, а всё равно железяка. Дурень её за дверь унёс. А мы забрали. В тот же день. Кровь утёрли и к царю снесли. Сейчас сам увидишь. Пойдём! И Трофим пошёл следом за Климом. Клим нёс перед собой светец. Они вышли из покойной, рынды перед ними расступились. Саввы нигде видно не было. Пёс смердячий, подумал Трофим. Но тут Клим толкнул его в плечо, и Трофим опять пошёл за Климом. Клим сказал, они идут к царю. И, наполовину обернувшись, спросил, не забыл ли Трофим то, что ему Зюзин наказывал. Трофим ответил, что нет, что всё помнит. Они шли дальше. Им навстречу тоже шли, кто со светом, кто без света, со двора был слышен колокольный звон. Клим сказал, что дело плохо, Трофим промолчал. Клим спросил, кто, как сказал Зюзин, убивал царевича. Трофим ответил, что Марьян. А кто подучил? – спросил Клим. Нагие, нетвёрдо ответил Трофим. А кто кочергу украл? Нагие. Зачем? Чтобы царевича убить, а после спрятать. И так и убили? Убили. Вот и славно, сказал Клим. Трофим молчал. Вдруг Клим остановился и спросил: – Что, думаешь, какая ты свинья? – Да, думаю, – ответил нехотя Трофим. – Ну и дурень, – сказал Клим и пошёл дальше. – Думай, пока ещё не поздно. А завтра домой приедешь, думать будет уже некогда! – и засмеялся. Трофим промолчал. И тут они подошли к рундуку. Этот рундук был позолоченный, на нём горело много плошек, свет от них так и слепил, за ним плотно стояли стрельцы, все в белых шубных кафтанах, а с ними Амвросий, зюзинский начальный человек. – Привели? – спросил Амвросий, глядя на Трофима. – Как было велено, – ответил Клим. – Проходи, – велел Амвросий. Трофим прошёл через рундук, а Клим остался сзади. Амвросий взял Трофима за локоть и повёл. Амвросий держал очень крепко, казалось, вот-вот руку оторвёт. Трофим гадал, что будет дальше. Но тут Амвросий вдруг сказал: – Сейчас я тебя к царю сведу. Царь у нас строгий, но ты не робей. Ты только не путайся. Убил кто? – Марьян. – Верно. Подбил кто? – Нагие. – Наколдовала кто? – Матрёна. – А ты сам кто? Трофим молчал. – А сам ты – червь, – сказал Амвросий. – Запомнил? Трофим кивнул, что запомнил. – Вот и славно. Перепутаешь – на колесо пойдёшь. Это значит, что тебе сперва отрубят правую руку по локоть, потом левую ногу по колено, потом… Ну и так далее, – закончил он, потому что они уже пришли. Возле двери стояло восемь рынд в златотканых кафтанах, в золочёных шапках, с позолоченными бердышами. Амвросий махнул рукой – и рынды расступились. Амвросий и Трофим вошли в золочёную дверь… Но царя там не было. Там были просторные сени, все, конечно, в золоте, и лавки были золочёные, на них, справа и слева, сидели царевы ближние люди, а дальше, прямо, была ещё одна дверь – золотая, в самоцветах – и возле неё опять стояли рынды. А перед ними – Зюзин. Трофим сжал зубы и подумал, что это Максим-скотина заманил, Савва поддакивал, а теперь что, теперь только одно – валить всё на Марьяна. Марьяну что – с него уже ничего не возьмёшь… Зюзин поднял руку, поманил. Трофим пошёл к нему. Ноги подгибались, голова кружилась, во рту было сухо. Когда подошёл, остановился и снял шапку. Лоб был мокрый, весь в поту. – Э, – сказал с усмешкой Зюзин. – Не робей, не выдам. – И вдруг велел: – Перекрестись. Трофим перекрестился. Рука дрожала. Думал: это перед смертью. Зюзин взял Трофима за плечо и потащил к двери. Рынды перед ними расступились. Зюзин толкнул Трофима в дверь. Дверь распахнулась. Зюзин и Трофим вошли. Дверь затворилась.41
Трофим, не поднимая головы, переступил через порог, Зюзин толкнул его взашей – Трофим упал на колени и ещё ниже склонил голову. Шапку он держал в левой руке, правой надо было бы перекреститься, но он не посмел махать рукой – и не крестился. Было тихо. Только слышалось, как кто-то громко дышит. Да колокола откуда-то издалека, с Митрополичьей звонницы, наверное, позванивали. Трофим скосил глаза. Рядом стояли зюзинские сапоги. Трофим осторожно поднял голову и посмотрел на Зюзина. Зюзин строго сдвинул бровь. Трофим застыл. Там, куда они зашли, было натоплено до жару, дышать тяжко, но зато и свету было много, свечей не жалели. И ладан курился. Трофим понюхал – славный ладан, – осмелел и снова поднял голову. Слева и справа от него, на лавках, сидели бояре, все длиннобородые, в высоких шапках. Вот только кто там сидел, Трофим не разобрал, не стал рассматривать… Перед ним, шагах в пяти, на возвышении, на царском месте, сидел царь Иван Васильевич. Он был в царской шапке, с царским посохом и в царской шубе. И это он так тяжело дышал. Рот у него был приоткрыт, глаза прищурены, скулы торчали. Царь крепко хвор, подумалось. А посох чист, без крови. Твари поганые, Максим и Савва, набрехали, а ты и поверил. Вот он, царев посох, чист, да кто бы это посохом царевича убил? Это же надо было накривить такого, нехристи! Вдруг из-за спины царя вышел, как тень, Софрон – тот древний старик, колдун, царев постельничий – и сверху вниз посмотрел на Трофима. Трофим вконец оробел. Софрон стоял подле трона, держал руку на царской руке, на левой. А в правой царь держал посох. Посох был очень богатый, золочёный и весь в самоцветах, в его навершии горел красный рубин с куриное яйцо, осно же было гладкое и острое, сверкало. Осном царь и убил царевича, да и что такое осном голову пробить, если оно, как копьё? Один раз ударил – и готово. Быка можно осном убить, а человека – тьфу. А крови там ни пятнышка. Клим говорил, что её сразу стёрли. И как теперь докажешь, что там была кровь? Да никак! Трофиму стало жарко… А тут он ещё увидел царские глаза! Царь смотрел прямо на него и не мигал. Глаза у него горели. Царь тяжко дышал. Губы были искусаны. Нос после болезни заострился. Борода всклокочена. Рука впилась в посох! Посох дрогнул! Трофим отшатнулся!.. Царь тряхнул головой, отвернулся. Теперь он смотрел на бояр – тех, которые сидели справа. Софрон склонился к царю и стал ему что-то нашёптывать. Царь криво усмехнулся, закивал. Колокола продолжали звенеть, но теперь уже совсем в треть силы, с перебоями. Царь повёл головой справа влево, бояре, сидевшие слева, обмякли. Царь хмыкнул. Колокола перестали звонить. Стало совсем тихо. Даже царского дыхания не стало слышно. Царь опять повернулся направо, потом вновь налево и спросил: – Софрон, что это? Почему колокола молчат? Случилось что-нибудь? Софрон не отвечал, а только жевал губами. – Вася, – сказал тогда царь, обращаясь уже к Зюзину, – я спрашиваю, что это? Зюзин растерялся, покраснел, переступил с ноги на ногу, оглянулся на дверь… Дверь отворилась, вошёл Бельский, держа в руке шапку, и перекрестился на икону. – Богдан! – строго сказал царь. Бельский ещё раз перекрестился и сказал: – Царевич Иоанн преставился. Трофима как варом обварило! Бояре стали снимать шапки и креститься. А царь самым обычным, даже удивлённым голосом опять спросил: – Как это вдруг преставился? – Так, государь… – начал Бельский. Царь махнул рукой, и Бельский замолчал. А царь продолжил: – Никак он не мог преставиться. Мы же с ним утром сидели, беседы водили, ещё Сёмка Ададуров с нами был, из Пскова весточку привёз, рассказывал. Тяжко нашим рабам в Пскове! А Ванюшка из-за чего вдруг? Ведь не хворал же он. Ведь так я говорю? Ведь не хворал же? И он ещё раз обвел глазами бояр. Они молчали. Все были без шапок. Кто посмелей, те косились на Зюзина. Зюзин молчал, смотрел в пол. Потом вдруг выступил вперёд и, глядя царю прямо в глаза, сказал: – Он не преставился, великий царь и государь, а убили его злые люди. Убили – и сразу сбежали. Но мы их нашли! – Как это нашли? – спросил царь робким голосом. – А вот, – ещё уверенней ответил Зюзин. – Человека из Москвы прислали. – И он грозно глянул на Трофима. Трофим подскочил, поклонился царю, распрямился и замер. – Вот! – ещё раз сказал Зюзин, хлопая Трофима по плечу. – Наилучший сыщик! Прямо пёс! Из-под земли находит. Царь смотрел на Трофима, молчал и вроде чуть заметно усмехался. Потом вдруг сказал: – А я тебя знаю. Это не тебе ли я чарку водки в Новгороде подносил? Трофим согласно кивнул. – Сам знаю! Не кивай! – строго продолжил царь. – Поднёс! Поднёс! Ну да как было не поднести, когда ты нам тогда такую службу сослужил! Прямо царство спас. А что теперь? Рассказывай! Трофим открыл рот и замер. Оглянулся на Зюзина. Зюзин сделал страшные глаза. Трофим опять посмотрел на царя. Царь весьподался вперёд, опёрся на посох, посох осном ткнулся в ковёр, ковёр был красный, как кровь. – Ну! – грозно сказал царь. – Чего молчишь?! Трофим поднял голову, глянул царю в глаза… И увидел: а царь-то не грозен! Царь оробел! Глаза у него забегали! И Трофим, сам того не ожидая, вдруг сказал: – Проломили голову царевичу. Вот так вот с правой руки ударили в висок – и насмерть. – Как это в висок? Чем? – осторожно спросил царь. – А посохом! – громко воскликнул Трофим. – Вот этим! Посмотри! Царь поднял посох, осмотрел его. Трофим поспешно добавил: – Ты на осно смотри! Кровь на осне! Видишь?! Царь стал смотреть на осно. Осно было острое, гладкое, так и сверкало. Но ничего на осне не было, ни пятнышка. А Трофим опять сказал: – Видишь?! – Кровь? – спросил царь. – Где?! И он на посох уже не смотрел, а смотрел по сторонам – вначале на бояр в одну, потом в другую сторону. Потом на Зюзина. Зюзин стоял красный, потный. И не своим голосом заговорил: – Царь-государь, великий князь… Царь махнул рукой, и Зюзин замер. В палате наступила мертвая тишина. Трофим только слышал, как сердце стучит, вот-вот из груди вырвется. Царь на Трофима взглянул, стиснул зубы, провёл рукой по посоху. Рука у царя была белая, холёная. Обернулся на Софрона и показал ему руку. Софрон ответил: – Вижу. – Что «вижу»?! – спросил царь злобным, но нетвёрдым голосом. – Руку вижу, – ответил Софрон. – А что на ней? – Ничего, – сказал Софрон и взял руку царя в свою, глядя царю в глаза. – Врёшь, пёс! – грозно воскликнул царь и вырвал руку. – Не надо мою руку утирать! Нет на ней крови! Кровь на посохе! Кровь! Кровь! И он вскочил с трона, ударил посохом в пол. Ударил ещё и ещё. – Вижу! – кричал. – Вижу! Бесы! Изыдите! Всех убью! И продолжал бить посохом перед собой. Бил по ступеням и кричал: – Убью! Околдовали! Бесы! Бояре повскакали с лавок, расступились, отступили к стенам. Зюзин стоял, как пень. Рядом стоял Трофим. А царь, продолжая кричать, уже сошёл по ступеням и бил в пол, лицо его почернело. Софрон кинулся к царю сзади, схватил за плечи и запричитал: – Ваня! Ванюшенька! Уймись! Христос с тобой! Оговорили тебя злые люди! Царь вырвался, ступил вперёд, замахнулся посохом… но не удержался и повалился на спину. Шапка с него свалилась, посох откатился. Софрон кинулся к царю, перевернул его со спины на бок, стал разжимать ему рот и кричать: – Воды! Скорей воды! Помрёт же! Но все стояли, как столбы. Только один кто-то кинулся к двери. Софрон улыбнулся, сказал: – Не робей, Ванюша, вылечим. И не от такого лечивали. И стал гладить царя по голове. Царь был неподвижен. Софрон гладил его, гладил, что-то очень тихо приговаривал. Лицо у царя было тёмное-тёмное, глаза зажмурены, рот приоткрыт. Смотреть на царя было страшно. Все молчали. Вдруг Зюзин сделал шаг вперёд, склонился к Софрону и царю… Но тут же с другой стороны, от бояр, быстрым шагом вышел Годунов и громко выкрикнул: – Эй, воевода, ты куда это?! Зюзин поднял голову, увидел Годунова, покраснел от злобы и спросил: – Как это куда?! – А вот туда! – ничуть не робея, сказал Годунов. – Не видишь, что государю худо?! Не мешай! Ну! Я кому сказал?! Зюзин, ещё сильнее покраснев, неспешно распрямился. Его всего трясло от злобы. А Годунов усмехался. Что бы было дальше, неизвестно… Но тут открылась дверь, рынды внесли воду, оттолкнули Зюзина и стали вместе с Софроном поить царя из простой кружки. Царь давился, обливался. Софрон успокаивал царя. Годунов стоял над ними и зорко поглядывал по сторонам. Царь понемногу приходил в себя. А потом вдруг начал всех отталкивать, сел на полу, утёрся и поднял руку. Софрон его за эту руку поднял. Один рында подал царю шапку. Второй рында подал посох. Царь, помолчав, сказал: – Не надо. В нём бесы. Надо сперва бесов выгнать. Позовите Феодосия, он выгонит. – А что с этим? – спросил Годунов, указав на Трофима. – И в этом тоже бес, – ответил царь. – И из него тоже выгнать. Но не здесь. Годунов, оборотившись к Зюзину, велел: – Чего стоишь? Веди! Зюзин схватил Трофима за руку и потянул к двери.42
За дверью стояли стрельцы. Зюзин толкнул на них Трофима. Те подхватили Трофима и повели куда-то. Никто ничего не говорил. Трофима били по бокам, по голове. Трофим шатался, но не падал. Чёрт его дёрнул, думал он, зачем распускал язык, показал бы на Марьяна и было бы тихо. А так – получай! Продолжая бить, повели его вниз по лестнице. Ведут на крыльцо, думал Трофим, а там совсем убьют. А что?! Трофим часто видел, как на крыльце убивали. Выведут, поставят на самом верху, старший крикнет, кто-нибудь из младших саблей ш-шах! – и голова долой. И покатилась по ступеням вниз, к толпе… Но потом отрылась дверь, и они в самом деле вышли на крыльцо. Во дворе было уже довольно сумрачно, морозило. Трофима толкнули в спину и повели вниз по ступеням. Внизу, во дворе, было пусто. Завтра отрубят голову, подумал Трофим, когда соберут толпу, а пока будут пытать. Но куда ведут? Ефрем же остался здесь, в подвале. Трофим обернулся. Ему дали в зубы, схватили под руки, свели с крыльца и повели по снегу, по двору. Снег был свежий, пушистый, нетоптаный. Трофима ударили сбоку, и он упал на снег, его плотно обступили и начали бить сапогами. Трофим вертелся, закрывал рёбра локтями – били по голове. Стал закрывать голову – били по рёбрам. Трофим катался по земле. Зюзин смеялся. Стрельцы били всерьёз, в охотку. Вдруг Зюзин крикнул: – Хватит! Стрельцы сразу остановились. Трофим лежал на спине. Загрёб полную пригоршню снега и начал утирать лицо. Снег быстро набух кровью. Трофим зачерпнул ещё. – Хватит! – опять сказал Зюзин. – Не баба! Чего красоваться?! Берите! Трофима подняли и, поддерживая, повели по снегу дальше, через двор. Мимо Митрополичьей звонницы. К Троицкой башне! Трофим не верил собственным глазам! Ещё бы! Ведь его вели туда, где, как говорила Мотька, есть сухой колодец, а из него ход за стены. Марьян думал туда пробраться, взять с собой Мотьку и сбежать… И вдруг прямо туда вели Трофима. Так, может, Мотька не повесилась, а наколдовала, и теперь, по её колдовству, Трофима заведут в ту башню, толкнут в тот колодец и он спасётся. А что?! А почему бы не спастись? Что он кому худого сделал? Или он что не по-божески сказал? Нет, он сказал, как было, он на Марьяна не клепал, он никого не оговаривал… А дальше он подумать не успел, потому что его опять ударили, опять по голове – и оглушили. Он упал, во рту было полно кровищи, он харкал кровью и мычал, потому что кричать уже не мог. А его тащили дальше. Подтащили к башне, затащили по ступенькам, открыли дверь, втащили в сени. Там горел огонь. Кто-то спросил: «Кто это?», ему ответили: «Скотина», кто-то опять спросил: «Куда его?», ему ответили: «В колодец». И Трофима опять поволокли, теперь уже по полу, пол был каменный, его волокли вначале прямо, потом повернули, потом повалили на спину и начали обыскивать. Забрали овчинку с орлом, сняли пояс, в поясе нашли двадцать рублей ефимками, забрали, потом сняли с пальца перстенёк, на что Зюзин засмеялся и сказал: «Скоты!», потом добавил: «В сапоге ищите, в левом», няли сапог, достали шило, сапог не стали надевать и потащили дальше. Зюзин грозно сказал: «Открывай», что-то заскрипело, кто-то спросил: «А не убьётся ли?» «А хоть и убьётся, – ответил Зюзин и велел: – Кидайте!» Трофима скинули. Он упал куда-то вниз, на твёрдое, и потерял сознание. Так он лежал долго. Потом начал мало-помалу приходить в себя. Но ничего не видел. Да там и свету никакого не было, как там что-нибудь рассмотришь? Также и расслышать не получалось. А на ощупь Трофим понял, что он лежит на песке. Песок был твёрдый, слежавшийся. По бокам была стена. Стена была каменная. Трофим прополз вдоль стены. Стена всё время загибалась внутрь. Трофим, похоже, полз по кругу. Круг был небольшой. Похоже, это был сухой колодец – тот самый, про который говорила Мотька. Трофиму стало жарко. Он начал туда-сюда ползать, ощупывать стены, искать лаз из башни. Лаза нигде не было. Тогда Трофим немного полежал и успокоился, а после поднялся на колени и начал медленно, камень за камнем, ощупывать стены. Но камни не поддавались, ни один не шелохнулся. Трофим проверил их ещё раз. Потом ещё раз. Потом рыл песок. Песок не поддавался. Хоть бы шило оставили, сволочи, думал Трофим, с шилом было бы способнее. Трофим тяжело дышал, болели рёбра, правый глаз заплыл, нога без сапога замёрзла. Трофим прочёл Отче наш, перекрестился и подумал, что если б здесь был лаз из башни, Марьян давно бы по нему сбежал и Мотьку с собой забрал бы. А так он убился, а её повесили. А Трофим ещё живой! И ещё до завтра будет жить. И, может, даже и до послезавтра, если про него вдруг забудут. Подумав так, Трофим хмыкнул, сел, упёрся спиной в стену и вытянул перед собой ноги. Левая нога, без сапога, уже крепко озябла. А сколько здесь ещё сидеть? До послезавтра насмерть околеешь. Трофим поднял голову. Вверху было темным-темно. Трофим подумал: значит, лаз, через который его скинули, закрыт. Как же его теперь будут доставать обратно? Или доставать уже не будут, а так и оставят здесь помирать? Это было бы лучше всего. Но, тут же подумалось, и Зюзин тоже понимает, что ему так лучше. Поэтому он скажет: «Что это такое? Мы тут все ходим под Богом, а он прохлаждается? Не быть тому!» И велит завтра с самого утра достать. Да и царь утром проснётся, сразу спросит: «Где тот пёс смердячий, который мне вчера дерзил, приведите его сюда да потешьте меня!» Потому что в иное время царь сам сюда пришёл бы тешиться, а тут занемог, вот и велит, чтоб привели. И приведут! Царь сразу начнёт срамить Трофима, говорить, что как же ты, как будто какой нехристь, посмел мне такое говорить вчера?! А ну, скажет, Ефремка, чего даром мою рубаху носишь, а ну давай отплачивай, потешь меня! Ефрем ему тут же поклонится, снимет у себя с головы ремешок, а он у него всегда повязан, чтобы волосы в глаза не лезли, – снимет и повяжет Трофиму, возьмёт ложку, всунет её под ремешок, а потом начнёт накручивать. Ремешок начнёт давить, кожа на лбу и за ушами лопнет, начнёт хлестать кровь, голова начнёт трещать, Трофим выпучит глаза, а Ефремка знай себе крути, Трофим уже орёт как оглашенный, а царь смотрит на него и усмехается. А после говорит… Трофим мотнул головой и подумал, что надо думать о другом. О чём? Да о чём хочешь. Можешь что угодно задумывать, всё равно ведь темнотища, ничего не видно. Так, может, он сейчас и не в колодце, а, может, он в своих сенях лежит? А почему в сенях, почему до лавки не дошёл? Как почему? Шёл, шёл и завернул к Демьянихе. И кто Демьяниху осудит? Она же баба одинокая, вдова. Ну и зайдёт, бывало. А у Демьянихи всегда и пироги, и чем запить, и вообще. Вот так! Гапка это терпела, терпела, а однажды вот так ночью, в такой же тьме, Трофим с Демьянихой вдруг слышат: бах-бабах! бах-бабах по двери! Уже давно за полночь, а эта чувырла рубит топором, кричит: «Трофим, пёс проклятый! Лучше не выходи, зарублю!» Ну, он и не стал выходить, он же не враг себе. Его через подпол выпустили. Он вылез из подклета, смотрит: луна светит, видно далеко, Гапка на Демьяновом крыльце стоит, кричит, чтобы Трофима вызвали, а он, Трофим, боком-боком вдоль тына – и дальше по лесенке к себе, и уже взялся за дверь… Как ему вдруг сзади обухом по голове шарах! – и он через порог ввалился к себе в сени и лежит, и ничего не помнит. А дверь открытая стоит. Дело было зимой. Ох, и замёрз он тогда! Долго он тогда лежал, как ему после рассказали. Сейчас у него только одна нога мёрзнет, та, которая без сапога, а тогда он весь продрог. Если бы Гапка не одумалась, так бы и околел. Но посреди ночи вдруг почуял – его волокут. Прислушался – а это Гапка. А он – как мешок. Ни рукой, ни ногой не шевельнуть, и голова в крови, и кровь засохла. А Гапка его дальше волочёт. Заволокла в горницу, на лавку взвалила, укрыла и ещё сама рядом легла. И вот она лежит, в слезах вся, причитает: «Царица Небесная, спаси его, век буду на Тебя молиться, не дай ему, дураку, помереть, не виноватый он, опоили его, обнесли, обкурили». А он лежит как мёртвый! Только голова гудит. Так всю ночь и пролежал. Только утром и продрал глаза, когда Мартын, князев дворский, пришёл, начал им в дверь стучать и костерить: «Скоты поганые, никому всю ночь не дали спать, князь на вас гнев положил, сошлёт вас в дальнее село!» Только тут Трофим очухался, смотрит – он дома, рядом лежит Гапка, глазами лупает, молчит. А что ей говорить, они же не венчаны, она и так должна быть рада, что он её из дому не гонит. Кто она? – никто, а он – царев стряпчий, он у себя в Приказе второй человек после князя Михайлы, да и что князь? Он туда неделями носа не кажет, тогда Трофим первый, над ним только царь… И как только вспомнил про царя, так сразу всё исчезло. Опять стало темно и холодно. Трофим сидел в сухом колодце, в Троицкой башне. Глухая ночь. Набрехала Мотька, тварь поганая, никакого выхода отсюда нет, думал Трофим. Здесь есть только один лаз – сверху, и там, наверху, стоят зюзинские люди, они утром сюда спустятся, обвяжут Трофима верёвками, поволокут наверх, а там опять через двор, а после мимо царского крыльца. Трофим начнёт кричать: «Куда вы, ироды? Меня царь ждёт, он сам будет меня пытать, я хочу к царю, пусть царь меня пытает»… Но Зюзин засмеётся, скажет: «Нет, пёс, мы тебя к царю не поведём, царские пытки ещё нужно заслужить, а мы тебя сами пока что попытаем – от души!»… Представив это, Трофим вздрогнул. Его начало всего трясти. Нет, думал Трофим, так нельзя, так он до утра не доживёт. Да и что он раскис, будто баба, ничего же ещё не случилось. А вот в тот недобрый новгородский год, уже после того, как он оробел перед Шубой…43
В том тёмном закутке за Торгом, сразу после того, как Трофим упустил Шубу, он думал, Ждан его убьёт за это. Ждан и вправду почернел от злости, но всё же сдержался, не стал хвататься за нож, а только плюнул, развернулся и ушёл. А Еремей сказал: – И ты наплюй. И то, беда большая: человека не зарезали. Ну да даст Бог завтра день, завтра и зарежем. Трофим на это промолчал. Еремей тогда добавил: – Ждан у нас горячий, но отходчивый. Завтра опять придёт, будем опять Шубу караулить. Вот увидишь! Но назавтра Ждан не появился. Трофим сказал, что надо бы сходить его проведать. На что Еремей в сердцах ответил, что он не знает, где искать Ждана. Знает только, что за Волховом, на Софийской стороне. – Надо будет, сам объявится, а пока, значит, так надо. Трофим не спорил. А что спорить? У Еремея бирка была старшая, а у Трофима младшая. А у Ждана – старше Еремеевой. И опять всё пошло по-старому: Еремей с Трофимом ходили на Торг, торговали всякой дрянью, по сторонам поглядывали, примечали и ждали, когда придёт Ждан. И только уже на пятый вечер Еремей сказал, что больше нет его терпения, отдал свой лоток Трофиму и пошёл к Ждану. А Трофим вернулся в их каморку, зажёг плошку и сел ждать. Еремей вернулся за полночь. По его виду ничего нельзя было понять. Трофим подал хлеб, Еремей взял его в руки, руки задрожали, и сказал: – Ждана зарезали. Трофима как огнём ожгло, перекрестился. – По горлу ножом. От уха до уха. А после брюхо ему распороли и соломы туда напихали. Это значит: много будешь знать – подавишься. Трофим молчал. После спросил: – Это его за гири? Шуба? Еремей негромко засмеялся и ответил: – Эх! Кабы бы это были только гири! Тут, голубь ты мой, такое открывается, что дна не видно. Как в пекле! Трофим перекрестился и спросил, а что ещё стряслось. – Да не стряслось! – в сердцах ответил Еремей. – А провалилось всё к чертям! Измена в Новгороде, вот что! Трофим опять перекрестился и подумал, что это ещё страшнее Ждана. Что Ждан! Ножом по горлу – и готов. А государева измена – это ого-го! Это как начнут тебя верёвками перетирать только за то, что рядом был, и как начнут жилы тянуть-вытягивать, босым на спицы ставить… И хотел опять перекреститься, да рука застыла, и только подумал: Господи, дай миновать яму сию, ведь я… Но тут Еремей громко хмыкнул, сказал: – Да, вот таковы у нас дела. Правда, они уже давненько таковы, просто мы со Жданом не желали тебя в это впутывать, думали, сами управимся. Ну а теперь мне одному никак. Поэтому… – и вдруг грозно велел: – А ну божись! Трофим, уже в который раз, перекрестился. Но Еремей ещё немного помолчал и только после начал: – Скажу сразу: дело таково, что хуже не бывает. Государево дело. Измена. И такая, что хоть всех подряд хватай, не ошибёшься. Вышел на Торг, и всех! – Еремей ещё раз осмотрелся и добавил: – Извести государя задумали. Как только он сюда приедет, отравить. Не люб им государь. Подай другого! Трофим подумал и перекрестился. – Вот-вот! – жарко, но шёпотом воскликнул Еремей. – А эти, змеиное гнездо, гущееды недобитые… Да ты сам видел: ходишь по Торгу, все усмехаются, шапки ломают. И это при том, что у них в Софии, в алтаре, за иконой, челобитная лежит. На государево имя! Только не на Ивана Васильевича, коего митрополит помазал, а на вора! Который говорит, что будто это он и есть наш истинный царь-государь, а царь Иван – подмена! Трофиму стало жарко, он спросил: – Но как же это – в алтаре? Кто же её туда занёс? – А вот нашлись такие! Не побоялись греха. Да владыко им на это волю дал, сказал: несите. Наш владыко, новгородский, Пимен. Пёс! Трофим помолчал, подумал и сказал: – Так что же это мы сидим? Надо идти на наместничий двор, надо… – А если и там измена, тогда что?! – с жаром спросил Еремей. – А почему бы и нет?! Ну и наместник, ну и что? Князь Андрей Курбский тоже был наместником, а после в Литву сбежал. А наш наместник чем хуже? Я его давненько знаю. Князь Пётр Пронский – это птица ещё та! И его дядя тоже в Литву бегал… Так что тут давно было о чём задуматься. Вот за это Ждана и зарезали – чтобы ненароком не сболтнул. – А Шуба… – Дался тебе этот Шуба! – сердито сказал Еремей. – Теперь надо Юрку сыскивать! Или Георгия, как он сам себя величает. Я, говорит он, сын вашего покойного царя Василия и покойной царицы Соломонии. Оговорили её злые люди, говорит, сослал её мой батюшка в неблизкий монастырь. Не знал батюшка, что матушка уже меня под сердцем носит. И что после родила меня, не знал. Вместо меня ему Ваньку подсунули, литовской колдуньи змеёныша. И эта же колдунья, говорит Георгий, восемь раз его убить хотела. Да только спасли его верные люди, вскормили и взрастили тайно. Но больше он таиться не желает, а явился за своей сыновней долей – за царской шапкой и за царским посохом. А змеёныша Ивашку, говорит, я своими руками задушу, только пособите мне его поймать! И народ что? Пособим, говорят, сами от Ивашки настрадались. Вот какая у нас здесь измена и вот кто такой этот Юрка-пёс, Георгий! Трофим, повременив, спросил: – А какой он из себя, этот Георгий? – Зачем это сейчас тебе? – строго спросил Еремей. Трофим не решился ответить. Они посидели, помолчали. Потом Еремей вздохнул, достал косушку, они молча выпили, так же молча закусили и легли. Это было на Васильев вечер, в субботу, в последний день декабря. А назавтра, в воскресенье, первого января всё того же семь тысяч семьдесят восьмого года, Трофим проснулся рано, ещё затемно. Было очень тихо – так, что аж не по себе. Трофим долго лежал, думал, что это же в какую яму он попал: в измену! Да лучше всю жизнь разбойников, уголовников, ведьм, упырей ловить, чем один раз в измену вляпаться! Потом вдруг опять прислушался и подождал, а после с опаской подумал: а ведь колокола давно должны были звонить, да не звонят. Как же это так, а служба? Трофим растолкал Еремея, стал говорить ему про тишину. Тот перекрестился и сказал: – Это пришли наши. Слава Тебе, Господи. – Кто наши? – спросил Трофим. Еремей не ответил. Они молча собрались, пошли на Торг. Светало. Шли мимо сырковских палат. Палаты у купца Сыркова были знатные, тын высоченный. – Государев дьяк, мать твою за ногу! – злобно сказал Еремей. – Вон как наворовал! Ну да теперь за всё ответит, пёс! Пришли на Торг, там сразу к бабе Колотухе, они у неё столовались. Баба дала им каши, а говорить с ними не стала, развернулась и ушла. Они перекусили и пошли в ряды. Так как служба в церквах ещё не кончилась, все лавки стояли закрытые. Но и после службы многие из них так и не открылись. Да и вообще, прямо сказать, торговли в тот день почти не было, в рядах было пусто. Еремей у лавочных сидельцев спрашивал, что приключилось, но говорить об этом никто не желал, или говорили, что не знают. Только уже вечером, когда они перед уходом перекусывали, Колотуха им ответила: – Потому что пришли ваши. Но кто такие эти «ваши» и куда они пришли, Колотуха отвечать не стала. Еремей насупился, велел Трофиму возвращаться домой, а сам пошёл, как он сказал, разузнать что-нибудь у сведущих людей. Вернулся он, когда было уже темно. Куда ходил, не ответил. Только сказал, что видел владыку, везли его в санях, шестериком. Еремей в сердцах добавил: – А скоро поедет на свинье, попомни моё слово! Трофим вдруг опять спросил: – А Георгий какой из себя? Еремей сердито хмыкнул и сказал: – Сразу узнаешь. Сразу видно: царь! – И вдруг продолжил: – Эх, если б государь Василий тогда не погорячился да не отринул бы царицу Соломонию, она бы ему сыночка родила. А так родила невесть кому! Теперь только смуту развёл! Трофим набрался духу и спросил: – А если бы Георгий стал царём, что, мы и вправду жили бы сытней? Еремей посмотрел на Трофима и с укоризной ответил: – Вот я сейчас пойду на наместничий двор да скажу там государево дело – и тебе твой поганый язык вместе с кишками выдерут! Трофим взяла злость, и он спросил: – Так чего не идёшь? – А потому, – ответил Еремей, – что идти там уже не к кому. Наместник воевода боярин князь Пронский сегодня с города съехал. – Куда? – Никто не знает. Сказали, в поле. И еще болтают: государь пришёл нас проучить и с войском встал на Городище. Не хочет в воскресенье заходить. Обложили нас пока и ждут. Никто из города выйти не может и никого к нам не впускают. – И что дальше? – Завтра видно будет. Сказав так, Еремей достал ещё одну косушку. Они её выпили и легли почивать. Правда, Трофим не почивал, ворочался. Потом он, наконец, заснул. Снился ему царь Георгий, похожий на Шубу. Тьфу-тьфу! Утром снова было слишком тихо. Они вышли из своей каморки, осмотрелись. Город как будто вымер. Постояли, подождали и зашли обратно. Еремей встал на колени и молился – очень долго. А о чём, было не разобрать. Трофим сидел на лавке и не знал, что думать. Ближе к полудню послышался набат, но почти сразу унялся. Но Еремей уже не мог молиться – встал и пошёл к двери. Трофим пошёл за ним. Они опять вышли на крыльцо. Вокруг было по-прежнему пусто и тихо. Даже дыма из труб было почти не видно. Еремей перекрестился. Откуда-то издалека раздался разбойничий свист. – О! – сказал Еремей. – Слушай! Трофим прислушался. Засвистели ещё раз. Потом ещё и ещё. Потом стали свистеть как будто бы со всех сторон. Потом раздался конский топот. Трофим смотрел по сторонам, но никого пока что нигде видно не было. А потом они вдруг выскочили из-за ближайшего поворота. На вороных конях, в чёрных шубных кафтанах. Одни с горящими смоляками, а другие с саблями наголо. Проскакали мимо их двора и повернули на Варяжскую. Еремей сказал насмешливо: – К Сыркову! И точно: вот уже стало видно, как заполыхали сырковские палаты. Послышались крики. Кричали наперебой: одни грозили, другие просились. – Вот сейчас и Ёгана зарежут! – сказал Еремей. – А вот не порти гирь, скотина! А Сыркова, подлюку, под лёд! С Великого моста! Чтобы все видели! Трофим не отозвался. У Сыркова полыхало всё сильней. А вот кричали меньше. Потом загорелось дальше, и там тоже закричали. Еремей сказал: – Это у Лутохиных. Так им и надо. Трофим откашлялся. По улице опять скакали, и опять на вороных, с огнями. Подожгли соседнюю усадьбу. Открыли ворота, ворвались туда. И вот уже и там всё запылало. Заорали бабы. Проскакал по улице одиночный верховой в чёрном опричном кафтане, проволок за собой на аркане кого-то. Подъехали ещё с десяток, стали уже ломиться к ним во двор, не к Еремею с Трофимом, а к их хозяину, который их к себе пустил на подселение. Били в ворота. Хозяин вышел из своих хором, он держал копьё наперевес, за ним валили его слуги, все кто с чем. Государевы люди стучали в ворота, пытались их выбить. Ворота оказались крепкие, не поддавались. – Ну! – яростно воскликнул Еремей. – Жить хочешь, возьмёшь грех! Айда! И он сбежал с крыльца, перебежал через двор, открыл их калитку – открыл настежь, – выбежал на улицу и закричал опричникам: – Сюда! Сюда! – и замахал руками. Они поскакали на него. Первый подскочил к нему, махнул саблей – и снёс ему голову. Безголовый Еремей упал, голова покатилась по снегу. Трофим начал креститься. А опричники уже, теснясь, заскакивали к ним во двор через открытую калитку. Трофим, не докрестившись, соскочил с крыльца и кинулся на задний двор, а там через тын, через соседский двор, опять через тын – и к Волхову. И дальше побежал, вдоль Волхова. Волхов был чёрный, как опричный конь, а вокруг – белый снег. Трофим бежал вдоль берега к Великому мосту, думал, только так можно спастись, ибо сейчас софийские мост подожгут – и тогда все царские на этой стороне останутся, а там, на Софийской стороне, можно спастись, там не достанут пока что. Про то, чтоб повернуть к опричникам и объяснить им, что он тоже царский, у Трофима даже в мыслях не было. Бежал… И вдруг впереди опять увидел конных. Свернул в переулок. Там снова перебрался через тын, метнулся по дворам, опять заскочил в переулок, стараясь держать так, чтобы выбежать к мосту, но как назло получалось, что он всё больше забирал вправо и вправо, пока не забежал в такую тесноту, что и бежать-то было уже некуда. Трофим остановился, осмотрелся… И окаменел! Ещё бы! Это же был тот самый закоулок, в котором он недавно встретил Шубу! Трофим прислушался. Издалека раздался колокольный звон. Как и в прошлый раз, подумал Трофим. Это знак. Да только теперь Шуба уже усмехаться не будет! Руки у него длинные – как грабли! А сам он – трёхаршинный. Больше ни о чём не думая, Трофим достал из голенища шило. Колокола ещё сильней ударили. Трофим сдвинул шапку на затылок, чтобы не мешала. И тут из-за угла вдруг вышел Шуба. На этот раз он был весь в чёрном, шапка по самые глаза, а руки прятал в рукавах, их не было видно. Если бы не грозный взгляд да борода торчком, Трофим Шубу не узнал бы. Подумал бы, начальный человек опричный. Или, может, так оно и есть, опричный, тут же подумалось Трофиму, кто бы ещё здесь шастал? Трофим поднял шило… А Шуба быстрым шагом подступил к нему, поднял руку, задрался рукав, из рукава вылезла рука с ножом, нож был здоровенный, мясницкий, и Шуба замахнулся им! Трофим пригнулся, проскочил у него под рукой – и изо всей силы всадил Шубе шило в бок! Шуба дико хыкнул, повернулся. Трофим вырвал шило и ещё ударил! И ещё! Шуба закричал, крик захлебнулся в бульканье, кровь хлынула у Шубы изо рта, Трофим толкнул его, Шуба свалился в снег, Трофим вскочил на него… И тут услышал сзади крики, гиканье, топот. Топот быстро приближался. Шуба хрипел всё тише. Щёки у него задёргались. Из глаза потекла слеза. Так тебе и надо, пёс опричный, подумал с радостью Трофим, ещё раз замахнулся шилом… Но тут подбежали сзади, закричали матерно, схватили Трофима под руки, стащили с Шубы, отобрали шило, поставили на ноги, стали трясти. Трофим ничего не понимал. Он только видел – все вокруг одеты в чёрное, при саблях. Государев полк, подумалось, кромешники. Пресвятая Богородица, помилуй… Да только чего было миловать? Трофима же не убивали и не мучили, а просто держали под руки, правда, держали крепко. А возле Шубы хлопотали. Это значит, разложили на снегу, положили под голову шапку, расстегнули шубу, потом кафтан, потом разорвали рубаху и открыли грудь. Она была вся в крови. Кровь стёрли рукавом. На груди у Шубы оказались знаки – два орла. Трофим не поверил собственным глазам! Сунулся вперёд… Но ему тут же дали по бокам и осадили. А того, на снегу, заслонили. Обступили плотно, зашушукались. Трофим клацал зубами и шатался. Его всего колотило. Он думал: «Господи, кого же я убил! Я же отбивался, Господи! Я же не думал, Го…» И он стал оседать на снег. Его встряхнули, сказали: – Стой, пёс, покуда не убили! Трофим подумал: может, так и лучше бы. От тех, кто стоял вокруг Шубы (пусть Шубы, подумал Трофим, Шубы, конечно, Шубы!) – выступил один и подошёл к Трофиму. Это был приземистый, плечистый человек в высокой куньей шапке и с начальным посохом. Зюзин, подумал Трофим, обмирая. Он же много чего о нём слышал. Сейчас сразу убьёт, подумалось. Но Зюзин – а это и был он, Трофим не ошибся, Зюзин спросил самым обычным голосом: – Ты кто такой, холоп? – Трофим Пыжов я, – ответил Трофим и утёрся. – Здешний? – спросил Зюзин. – Здешний. – А это кто такой? – и Зюзин кивнул себе за спину. – Знать не знаю, – ответил Трофим. – А зачем ты его так? – Не знаю, спьяну. – А ну дыхни! Трофим дыхнул. И тут же Зюзин пнул его под дых. Пнул очень сильно. Трофим потерял сознание и упал. Очнулся он в какой-то яме. Ночью. Опять было темно и холодно. Ну и много ещё было всякого. И очень долго! Первым пришёл Зюзин, спрашивал: «Ты почему, подлец, назвался здешним, если говор у тебя московский? Ты почему, пёс, скрыл, что ты Гришки Шапкина подьячий, и что это он тебя сюда заслал?! Ты что, тварь, думал, мы не дознаемся?! Ты, гад, с Еремейкой Зубовым стакнулся, с вами ещё Ждан Тетерин был за старшего. Что вы, сволочи, затеяли? Какие гири и какой подпил? Шапкин, свинья, совсем ума лишился? На государя заговор, а им, дурням, гири, Ёган Немец! На виску тебя, сука, пять кнутов!» Таскали на виску, ставили в хомут, сажали на кобылу! Но Трофим терпел, не отступался, одно и то же талдычил: «Я, Трофим Пыжов, подьячий из Разбойного, послали меня сюда, в Новгород, по делу о подпиле гирь и велели затаиться, ибо одного у нас уже зарезали, а зарезал Шуба-вор, вот меня по Шубу и послали, а никакого иного воровства здесь мне не ведомо, купца Сыркова я не видывал и слыхом не слыхал, так же и в Софию я не хаживал, тем паче в тамошний алтарь, и никаких там челобитных я не читывал, и от других о них не слыхивал, и кто такой Юрка-злодей, не знаю»… И так далее. Невесть сколько дней-ночей вот так его трепали, не доставая из ямы. А потом достали, глаза завязали, повели. Привели, слышно, шум, гам, надымлено, кто-то гогочет. Потом стало тихо. Потом глаза развязали. Трофим смотрит – ничего там почти не видно, только чернота и тени. Ну и огоньки ещё. Трофим стоит и не знает, что делать. Но тут его сзади кто-то взял за плечи, развернул. Трофим видит: прямо перед ним стоит стрелец без шапки и держит горящий смоляк. Справа и слева от того стрельца стоят ещё стрельцы и начальные люди, все в чёрных кафтанах. И с ними Зюзин. Все молчат. И вдруг вперёд выступил царь, одетый, как и все. И ничего царь у Трофима не спрашивал! А просто осмотрел его – а Трофим был худой, грязный, в синяках, ободранный, – усмехнулся и велел: – Вася, подай-ка. Зюзин подал чарку. Царь взял её, понюхал, усмехнулся, передал Трофиму и сказал: – Жалую тебя, мой верный раб Трофимка, этой чарой. Пей! Трофим взял чарку (а не чару), руки задрожали, и он подумал: сейчас царь кивнёт – и все как кинутся!.. Но тут же подумал: нет, не кинутся, зачем кидаться, в чарке яд, и он сейчас помрёт. Ну, так ему и надо! Пей! Зачем царя Георгия убил?! Вот тебе за это яду! И разом выпил! И стоит, ждёт… Все на него смотрят, усмехаются. Царь, тоже усмехаясь, говорит: – Чего загоготали, ироды?! Над кем гогочете?! Над моим самым верным слугой! Вы двадцать лет по всей державе бегали и ничего не выбегали, а он шилом один раз ткнул – и всё готово! Все молчат, стоят, рожи потупили. А царь говорит: – Проси чего хочешь, Трофимка. А Трофим молчит! Язык отняло! А царь: – Ладно, – говорит, – и так бывает. Значит, у тебя всё есть, коли ничего не просишь. Ну да в другой раз попросишь. А чтобы я не забыл, что я твой должник, я тебя сейчас помечу. И обернулся к Зюзину, протянул ему руку. Зюзин подал царю нож. Трофим сжал зубы. А царь подался вперёд и обкорнал Трофиму пол-уха. Трофим схватился за ухо, рука сразу стала вся в кровище. Царь ножом махнул – Трофим попятился. Его тут же схватили под локти и поволокли вон из палаты. Потом из палаты на крыльцо. Там Зюзин повернул его к себе, посмотрел прямо в глаза и сказал самым серьёзным голосом… Ну, что сказал, то и сказал. Через семь дней Трофим домой, в Москву, вернулся. Демьяниха спросила: – Где ты был? Трофим ответил: – Не помню. Шапкин его к себе призвал, начал расспрашивать. Трофим опять ответил: – Ничего не помню. – А ухо где ты потерял? – Собаки обкусили. Пьяный был, в яме валялся, вот и обкусили. Шапкин разозлился и прогнал его. Трофим ушёл. Лето настало. Шапкина забрали и казнили. Тогда многих казнили. Трофим был в тот день на Красной площади, смотрел. Зюзин мимо ехал, подмигнул ему. Царь не подмигивал, проехал. Царь тогда был очень грозный. Люди в толпе говорили, что он в Новгороде крепко лютовал, Новгород стоит пустой, пограбленный, Волхов от крови красный. Так ли это? Трофим пожимал плечами, отвечал: «Не знаю ничего, не видел, я там не был». И в живых остался. А следом за Шапкиным, на следующий год, казнили Мясоеда Вислого, который было заступил на шапкинское место. Или до Вислого ещё кого казнили? А до Шапкина? До Шапкина казнили новгородцев… И Георгия, старшего царского брата. И царь по нему, по своей родной кровинушке, не горевал. Ещё бы! Ведь по божеским и по людским законам царский венец – Георгию, царский посох – Георгию… А получил Георгий только шилом в бок! А Ивану – и венец, и посох! Да только много ли добра было ему от посоха? Чем царь сына старшего убил? Вот как Господь Ивана наказал! И Иван про это знает, оттого его и крутит так. Да только что Трофиму думать про царя? Пусть лучше про себя подумает. Трофим видел, как вытягивают жилы. У Ефрема есть такой крючок. Он им нащупает жилу, зацепит и тянет. Вертит и тянет, вертит и тянет, человек кричит… Ну да что будет, то будет. А пока было темно и холодно. Мёрзла левая нога. Да пусть хоть обе мёрзнут! Трофиму было очень гадко, не хотелось жить. Эх, думалось ему уже в который раз, кто знает, а может, если бы он тогда за шило не схватился и Шуба убил бы его, сейчас совсем всё по-другому было бы, люди по всей державе жили бы сытно, спокойно, а Трофим сверху, с облака, на них бы смотрел… А так с облака смотрит Георгий и думает: когда же этого скота, Трофимку, мой младший брат замучает, скорей бы! Нет, тут же подумалось: на облаке о таком думать грех. Георгий там о другом думает, вот только о чём? Трофим поёжился. Ему было очень холодно. А ещё очень хотелось есть. Он целый день до этого не ел, а после столько ещё здесь сидит. За это время наверху, может, уже рассвело. А здесь по-прежнему темно и холодно. Трофим сел поудобнее, обнял сам себя как можно крепче – и не шевелился. И так и заснул.44
Снилось ему, что он пришёл в Приказ, а там только Котька да Петька, подьячие, и ни одного просителя. А за окном лето, жара. Тогда они послали Петьку за питьём и закуской, закрылись и играли в зернь. Весь день играли! Уже начало темнеть, когда явилась Гапка, начала его хватать за волосы, кричать. Трофим смеялся. Гапка грозила: «Я тебя убью, свинья», а он ей отвечал: «Убей». А она опять его трепать за волосы, а он смеяться… И так он со смехом и проснулся. – Что, падла, ржёшь? – спросил чей-то сердитый голос. Трофим проморгался. Вокруг было по-прежнему темно, только сверху шло немного света. Трофим глянул туда. Там был открытый лаз. А возле Трофима стояли стрельцы. Один из них склонился над Трофимом и начал обвязывать его верёвкой. Обвязав, ещё раз сказал: – Падла! – Поднял голову и приказал: – Тащите. Сверху начали тащить, снизу придерживали, чтобы не болтался. И затащили в лаз. Наверху, а там было светлей, Трофима сразу подхватили и толкнули на пол. Трофим упал, но сразу начал подниматься, глянул верх. Над ним стоял Зюзин и смотрел на него сверху вниз. За Зюзиным стояли несколько стрельцов. Зюзин, потирая руки, ждал. Трофим начал вставать на ноги. Зюзин его ударил. Трофим упал на колени, упёрся руками в пол. Зюзин ударил ещё! И ещё! Трофим не удержался и упал. Зюзин зашёл сбоку и ударил снова – теперь просто сапогом в лицо. Трофим упал на живот. Зюзин ударил по рёбрам. Трофим ткнулся носом в пол, зажмурился. Зюзин ударил, но уже лениво, громко сплюнул, развернулся и ушёл. За ним ушли его стрельцы. А как те, которые в яме, подумал Трофим. А вот и те, услышал он, из ямы вылезли. Собрались и ушли. Трофим продолжал лежать. Потом высвободил руку, ощупал разбитые губы и заплывший глаз. Бока болели. Вставать не хотелось. Вдруг сверху послышалось: – Чего разлёгся? Трофим сразу узнал этот голос, поднял голову – и увидел Клима. – Клим! – радостно сказал Трофим. – Ты это? – Я. Вставай. Я за тобой пришёл. Трофим встал, утёр с губ кровь, спросил: – А государь где? – Уехал. – Куда? – Не спросили! – Клим усмехнулся и добавил: – Он совсем уехал. И посох в руки не взял. Посох за ним несли. Сел в сани, посох рядом положили, и уехал. Говорят, в Кириллов монастырь, грехи замаливать. А про Новгород сказал: ноги моей здесь больше никогда не будет. Ну да что ты о царе всё спрашиваешь? Ты про себя спроси. – А я что? – А про тебя сказал, чтоб гнали тебя в шею. Чтобы духу твоего здесь больше не было. Вставай! Трофим встал, посмотрел на Клима. Клим повернулся, щёлкнул пальцами. Из-за столба вышел служка, вынес Трофимову шапку и Трофимов же сапог. Трофим надел шапку и стал обуваться. Служка ушёл. Трофим обулся, топнул сапогом, подумал и спросил: – А что царевич? – Пока что лежит. Илов его лёдом обложил. Никто тронуть не смеет. – А… – начал было Трофим. – На! – строго перебил его Клим. – Сказано, чтоб духу твоего не было, вали отсюда! Покуда царь не передумал. Трофим не спорил. И они пошли из башни. Караула в башне и возле неё не было. Потом они шли через двор. А дальше – мимо медного крыльца. Проходя мимо него, Трофим снял шапку. Свернули за угол, пошли к крепостным воротам. Снег во дворе был весь истоптан. Клим, посмотрев по сторонам, сказал: – Все уехали. Дворец стоит пустой. Что здесь дальше будет? Погост! Трофим не ответил. – А всё из-за тебя! – продолжил Клим. – Я царя такого никогда не видел. Ну да, может, это к лучшему. Айда! В крепостных воротах их никто не задерживал. За воротами Трофим остановился. Клим отдал ему целовальный крест и красную овчинку. Трофим их взял. Клим подал ему шило… Трофим отшатнулся. – Как знаешь, – сказал Клим. – Знаю, – ответил Трофим. Клим развернулся и пошёл обратно в ворота. Не глядя, бросил шило в снег. Трофим перекрестился и пошёл своей дорогой – сперва через площадь, а после по пустой Стрелецкой улице, ведущей прямо к городским воротам. Там как раз пропускали обоз. Трофим спросил, куда они. Ответили: в Москву. Трофим сел в ближайшие сани. У него спросили, кто таков. Он молча показал овчинку. Его больше не трогали. Обоз пошёл.45
День было холодный, пасмурный, шёл мокрый снег. Трофиму было холодно, правый опухший глаз почти не видел, разбитые губы болели. А ещё очень хотелось есть. Трофим пошарил под рогожей, нашёл кусок чёрствого хлеба и начал грызть его. Человек, шедший рядом с санями, сердито смотрел на Трофима. Это, наверное, был его хлеб. Трофим отвернулся, стал смотреть по сторонам. Смотреть было особо не на что – вокруг было поле, кое-где из-под снега торчали кусты. Так обоз дошёл до Каринской заставы и остановился перед закрытыми воротами. Все повставали со своих саней. Один Трофим по-прежнему сидел. Каринские стрельцы пошли вдоль обоза, вожатые им кланялись. Стрельцы задирали дерюги, проверяли, что в санях. А как дошли до Трофима, старший из стрельцов сказал: – А, это ты! На той неделе сюда ехал. Помню! – и даже не стал требовать овчинку, обернулся на ворота и махнул рукой. Открылись ворота. Обоз пошёл дальше. Шли ещё четыре дня. За это время зажи́ли разбитые губы и с глаза сошла опухоль. Трофим же к нему снег прикладывал, вот глаз и открылся. Теперь Трофим то и дело оглядывался, смотрел обоими глазами, думал, что сейчас увидит, как скачут за ними вслед верховые стрельцы в чёрных шубных кафтанах и злобно кричат: «Где Трофимка Корноухий, падла, царь велит его поймать и предать лютой смерти!» Потому что, думалось, не может царь его простить, просто тогда царь был крепко хвор, а как только ему полегчало, так сразу же послал вдогон. Но верховых всё не было и не было. Обоз, никем не остановленный, дотянулся до Москвы. Там, за Сретенскими воротами, обоз повернул на Покровку, а Трофим соскочил с саней и дальше пошёл своей дорогой. Пока дошёл до Кремля, никого из знакомых не встретил. А вот в Кремле сразу началось: «Эй, ты откуда такой?», «Где ты был?» и так далее. Трофим на это или отмалчивался, или просто отвечал: «Не твоё дело» и шёл дальше. И за каждым углом ждал, что вот сейчас на него кинутся! Не кинулись. Зайдя на двор боярина князя Михайлы, Трофим ни с кем не стал якшаться, никому ни на что отвечать, а прямиком пошёл к князю. Боярин князь Михайло встретил его настороженно, к руке не подпустил, остановил на пороге и спросил: – Как дела? Трофим вздохнул и ответил: – Дела получились грозные. Лучше и не спрашивай, боярин. А то не только мне, но и тебе… И не договорил, утёрся. Боярин осмотрел Трофима и осторожным голосом ещё спросил: – Ну а в Слободе что нового? – Да ничего, всё старое, – уклончиво ответил Трофим. – Вот только государь-царевич Иоанн преставился. – Чего так? – Да вдруг разболелся и помер. – Бывает. – Боярин перекрестился и добавил: – Ну иди, иди. Небось, притомился с дороги. Трофим поклонился, развернулся, надел шапку и пошёл. Шёл, думал: жив! И царь за ним не посылает! Чего ещё желать?! Но оказалось, есть чего. Трофим пришёл домой, смотрит, а Гапка сидит на лежанке. Руки на коленках, в новой душегрее, волосы распущены, глаза потуплены. На столе бутыль, два шкалика. Хлебчик, мяско, курка, кашка, колбаски колечко. И ещё одна бутыль, стеклянная, поменьше. Трофим головой мотнул и прошёл прямо, мимо накрытого стола. Гапка зарумянилась… Ночью она ничего у него не спрашивала, уткнулась ему в бок и даже не сопела, а спала как мёртвая. Трофим лежал рядом, думал: рассказать, не рассказать? Ну а зачем рассказывать? Чтобы самомулегче стало? А ей станет каково? Ей и так несладко, он же её замуж не берёт, хоть она сколько раз уже просилась… И не стал будить, рассказывать, лежал ровно, руки на груди сложивши, и видел то государя-царя, то государя-царевича, то Зюзина, то Клима, то Матрёну, то карлу, то Шубу, или как его по имени… Но Гапку не толкнул, не стал будить, язык не развязал. А завтра, с утра, им уже не до разговоров было, он сразу пошёл на службу. На службе тоже никому ничего не рассказывал. Да никто у него ничего и не спрашивал, будто он и не уезжал никуда. И в Москве тоже молчали. Потом только, может, дня через три, объявился слух: царевич в Слободе преставился, и царь по нему крепко горюет. А почему преставился, не говорили. Потом стали говорить: царевича везут в Москву, в Архангельский собор, там будут хоронить. Ещё дня через три привезли закрытый гроб, поставили на амвоне напротив царских врат. А царя всё не было. Царь в Кирилловом монастыре, так говорили, по царевичу горюет. Ни до чего теперь царю! Даже не до Ливонии. И наши сразу всю Ливонию профукали. Но бояре собрались, послали от себя послов. Послы, и с ними Сёмка Ададуров, съехались с литвой и ляхами и заключили с ними мир – поганей не придумаешь, отдали им земель немерено… А царь как сидел в Кирилловом монастыре, так и сидел, и каялся. Очень горевал царь по царевичу, который, говорили знающие люди, в три дня сгорел, как свечка, невесть от чего. Гроб царевича стоял в Архангельском соборе закрытый, народ туда валом валил прощаться. Может, вся Москва, кроме Трофима, там перебывала. А царь всё не ехал и не ехал. Только в марте по Москве прошел вдруг слух: царь едет! Будто бы отпеть царевича, а на самом деле, говорили, чтобы проучить Москву, как он когда-то проучил Новгород – за мир с литвой. Вот когда страху было! Но вышли встречать всем миром. А он в одном простом возке приехал, в старой овчиной шубе, с лица серый, глаза, как у слепца, пустые, и будто ничего не слышал. Также и на отпевании стоял как неживой, согбенный, но не крестился и не бил поклонов. А потом, рассказывала Гапка, царь головой кивнул – немчин, стоявший рядом (доктор Илов, подумал Трофим), поднял крышку… И все немо ахнули! Царевич лежал как живой – личико белое, щёчки румяные, а рядом стоял царь – как смерть. Все стали креститься, а он не крестился. Кивнул, немчин закрыл крышку, рынды подняли гроб и понесли в алтарь. А царь развернулся и пошёл. Вышел из храма, сел в свой простой возок и, когда обратно ехал, запускал руку в мешок, зачерпывал горстями серебро, бросал в толпу. Народ кричал, а он как не слышал. И опять уехал в монастырь. Опять стало тихо в Москве, опять царю было не до неё. Потом вдруг накинули Трофиму десять рублей в год. Трофим накупил Гапке обновок. Гапка примеряла, радовалась, говорила, что это им за службу от царя. Трофим кивал, помалкивал и думал: «Да от какого тут царя, царю давно ни до чего нет дела, царь сидит в монастыре, а тут всем бояре правят, а боярами – боярин Годунов, шурин Фёдора-царевича, наследника. Вот так-то!» Мимо Трофима как-то раз проехал, как мимо вши какой-нибудь – и головы не повернул. Зато Зюзин, тот ещё издалека заметил! И как смазал плетью, так сбил шапку в грязь и, не обернувшись, дальше поскакал. Трофим поднял шапку, утёрся. Гапка как только про это узнала, стала срамить Трофима, говорить, что надо пойти, пасть боярину Борису Фёдоровичу в ноги и показать на Зюзина, у Зюзина теперь силы никакой. Трофим обещал пойти, но не пошёл. Филька на это засмеялся и сказал: – Ты, Трофимка, стал прямо как царь. Он теперь тоже голоса ни на кого не поднимает, ходит в монашеском куколе, с палкой. А раньше с посохом ходил! Посох золотой, в каменьях! А теперь дрын суковатый. Знающие люди говорят: к беде это, нет посоха – и нет царя. А нет наследника – не будет царства! Гапка на это зашипела: – Ты у меня, пёс, смотри, договоришься! Трофим, а ты чего молчишь? В нашем доме – и такие речи! А Филька ей в ответ: – Что речи?! Погодите, будут и дела! Слыхали, что творится в Слободе? Поразбежались все оттуда, поразъехались, пустая Слобода стоит, пустой царский дворец! Так скоро будет и у нас! Потому что… – Трофим! – закричала Гапка. – Ты чего молчишь?! Трофим только рукой махнул. Но, правда, больше наливать Фильке не стал. Филька обиделся, ушёл. А Трофим сидел, молчал. И так бы всю ночь просидел. Гапка его едва заманила лечь. И он как лёг, так и лежал, лежал… А после вдруг говорит: – Это хорошо, что мы с тобой не венчаны. А так вдруг бы ты сыночка родила. А я бы вдруг его со зла да кочергой. И насмерть! Гапка молчала. Только сопела быстро-быстро. Потом ответила: – Вот за что нам те десять рублей… И как заплачет! Как заноет! Трофим её с трудом успокоил. Успокоил – это так только говорится. Не стало в доме у Трофима жизни. Гапка ходит сама не своя. Трофим тоже сам не свой. Ужинают молча. Спят спина к спине. Утром Трофим проснётся, помолится, перекусит – и на службу. Там опять молчит. День молчит, неделю молчит, месяц. И домолчался б до беды! Но однажды утром призвал его к себе боярин Михайла и говорит: – Надо ехать. Тебе. Больше некому. Другого не послать, не справится. Трофим: – Куда? – А вот, – начал объяснять боярин князь Михайла Лобанов-Ростовский… Но это уже совсем другая история, и мы расскажем её в другой раз.Сергей Булыга Сибирское дело
© Булыга С. А., 2017 © ООО «Издательство «Вече», 2017ГЛАВА 1
Восемнадцатого марта 1586 года в Кремле, в приказных палатах, стряпчий Разбойного приказа Маркел Косой, а с ним Котька Вислый, того же приказа подьячий, сидели у себя на службе и играли в зернь. Запершись, конечно. Маркел выигрывал уже три алтына и две деньги, посмеивался и говорил, что скоро Котька побежит за водкой. Котька сопел, помалкивал. А после вдруг сказал, что сегодня как раз ровно два года с того дня, как великий государь Иван Васильевич преставился. Маркел вздрогнул, перестал трясти стаканчиком, задумался, потом недобрым голосом сказал: – Вечно ты что-нибудь под руку брякнешь. Испортил игру! И в самом деле, рука у Маркела стала как свинцом налитая, трясла неловко, а кидала ещё хуже. И то! Ведь сколько сразу всего вспомнилось: дядя Трофим, ведьма-покойница, Аграфена, нянька царская… Маркел насупился, начал проигрывать. Поэтому когда в дверь постучали, он даже обрадовался, велел Котьке идти открывать, а сам быстро спрятал кости и стаканчик. Вошёл Степан, второй подьячий, и сказал, обращаясь к Маркелу, что его кличет боярин – спешно. Маркел устало вздохнул, перекрестился, сгрёб шапку в кулак, вышел в сени и подошёл к двери напротив. Рында открыл её. Маркел вошёл туда и первым делом поклонился, а уже после, распрямившись, увидел князя Семёна, своего боярина, а рядом с ним какого-то важного дьяка в высокой куньей шапке. Перед дьяком, на столе, лежала толстенная книга. Маркел ещё раз посмотрел на дьяка и теперь узнал его. Это был думный дворянин Черемисинов Деменша Иванович, казначей Казённого двора. Что принесло его сюда, настороженно подумал Маркел и мельком глянул на боярина. Тот смотрел просто, не сердясь. А, уже спокойнее подумал Маркел, глядя как Черемисинов разворачивает книгу, это он, наверное, про свечи, мы их за зиму нажгли немало… И так оно и оказалось, ибо Черемисинов уже нашёл в той книге нужное место, приложил туда перст и, глядя на Маркела, сказал: – Вот тут на вас написано: воску взято шесть фунтов. Куда вам столько?! – Так это, – сразу же сказал Маркел, – по ночам сидим, корпим. А… Черемисинов грозно махнул рукой. Маркел притих. – Ладно, – строго сказал Черемисинов. – С воску мы не обеднеем. Да я и не за тем пришёл. – И замолчал. Маркел подумал: а вот это не к добру! И опять не ошибся. Черемисинов продолжил мягким голосом: – Надо сыскать три вещицы. Снесли из государевой казны. Вещицы такие: шуба, пансырь кольчатый и сабля. – Кто снёс? – спросил Маркел. – Э! – нараспев ответил Черемисинов. – Кабы знали, кто, к тебе бы не ходили. – Опять взялся за книгу, перелистал её почти что в самое начало, поводил перстом, нашёл, что искал, и начал читать со значением: – «Сабля турская булатная, по обе стороны от черена до елмана золотом наведена, а в навод слова татарские и травы золотом. Ножны и черен хоз серебряный, чеканен; огнивцо и на ножнах оковы и устье и нижняя окова и огнивцо на черену оклад серебряный…». Маркел слушал внимательно, запоминал и думал: это же какая сабля дорогущая! А Черемисинов, кончив читать про саблю, сразу же продолжил: – «Пансырь немецкий, битый в 5 колец мудростно, на гвоздь; рукава по локоть, ожерелье хрещавое, пущен в два ряда медью; на хребте мишень набита, медная, образиною; сзади ожерелья кольцо медное мишенью…». Черемисинов читал неспешно, смакуя слова. Ещё бы! Такие вещицы! А прочитав, посмотрел на Маркела. Маркел робко вздохнул. Ибо, подумал, с того, что вещицы очень дорогие, сыскать их будет тяжело. А Черемисинов уже опять начал читать: – «Шуба камка червчатая кармазин, чешуйчатая, на черевах на песцовых на чёрных; кружево и петли немецкое золото с серебром, колёсчатое; четыре пуговицы дорожёные, серебряные золочёные, с чернью, да четыре пуговицы серебряные чешуйчатые золочёные…». Мать честная, подумал Маркел, а у самого аж дух перехватило, и не удержался и опять спросил: – У кого это искать? Или ещё не знают? – Знают, – строго, со значением ответил Черемисинов. – Взял все эти три вещицы вор разбойник Ермак Тимофеевич. – Это который из Сибири, что ли? – Он самый. – Так как это он мог взять? – спросил Маркел с недоумением. – Его же самого давно убили. Ещё прошлым летом. – А он взял ещё раньше, – сказал Черемисинов. – Три года тому назад. – Как это взял? – спросил Маркел. – Он, что ли, в государеву казну пробрался и сам оттуда вынес? – Ну, не то чтобы сам вынес, – нехотя ответил Черемисинов. – Но это с него всё началось. Прислал он от себя посольство, поклонился Сибирским царством. Покойный государь Иван Васильевич ему поверил, одарил шубой, саблей и пансырем, Ермак их принял… А Сибирь-то на проверку оказалась не его! Сибирь отложилась, Ермака убили, и пропали царёвы вещицы. Нет, даже хуже того! Может, теперь сибирский царь Кучум ходит в нашем царском пансыре и со стены Кашлыкской вниз на наших стрельцов поплёвывает! Боярин князь Семён не удержался и сказал: – Стрельцов в Сибири уже нет. – Вот в том-то и беда, что нет! – с жаром воскликнул Черемисинов. – Профукали Сибирь! Сперва Ермаковых казаков побили, после царёвых стрельцов, а теперь у кого ни спроси, мы, отвечают, никого туда не посылали, знать ничего не знаем, и, может, вообще никакого посольства Ермакова из Сибири не было! – Как это так? – удивился Маркел. – А вот так! – сердито хмыкнул Черемисинов. – Не было такого, говорят, посольства. – И тут же спросил: – Вот ты посольство Ермаково видел? – Нет, – растерянно сказал Маркел. – Я тогда в Москве ещё не жил. Рославльский я… – Вот так все теперь открещиваются, – со злом подхватил Черемисинов. – Никто не видел, говорят! – А ты? – спросил Маркел. – Ты видел? – Я тогда в Астрахани был, – ответил Черемисинов. – А так бы видел, конечно. Маркел подумал и спросил как можно проще: – Так, может, в самом деле не было того Сибирского посольства? – Тогда и шуба была бы на месте, – так же просто ответил ему Черемисинов. – А так её нет. Вот здесь написано, – и он ткнул пальцем в книгу. – Шуба! Кармазиновая. Чешуйчатая. С золотыми пуговками. Есть! А сундук откроешь – нет. И это в государевом добре такая недостача – шуба. – Чьей рукой написано, что шуба есть? – спросил Маркел. – Дьяка Семейки Емельянова рукой. Да что Семейка, с него какой спрос! У него спроси, и он ответит: что ему сказали, то и записал. – А кто ему сказал? – Сказал наш бывший первый казначей, окольничий, Головин Володимир Васильевич, когда он царёво добро пересчитывал ещё при великом государе Иване Васильевиче. Ну а как Иван Васильевич преставился, а на его место взошёл его любимый сын Фёдор Иванович, так Головина, как вы все знаете, попёрли, прости, Господи. Вместо него у нас теперь, как тоже всем известно, первым казначеем думный дворянин Трохониотов Иван Васильевич. И он, на это место заступив, тоже опять давай всё пересчитывать! Но государева казна немалая, поэтому только сейчас до этих сундуков дошли… А в них и нет ничего! А здесь, – и Черемисинов опять ткнул в книгу, – есть! Почему это так? Посмотрели, а тут сбоку, вот смотри, головинскою рукой приписка: «про шубу спросить у Богдана». – Ну так и спросили бы, – сказал Маркел. Черемисинов сердито хмыкнул и так же сердито продолжил: – Спросили. Головин сказал, что Богдан – это Бельский. Ну да Бельский теперь кто? Тоже ведь, как только государь преставился, его сразу… Да! А тогда он был в силе, ого! Ну и мы к нему пошли. И он сказал, что да, было посольство Ермаковское, кланялись они Сибирским царством, но царь не стал их принимать, сказал, что ему это не в честь, и послал их к Бельскому. И он, Бельский, их принимал и одаривал. А когда мы у Бельского спросили, чем он их одаривал, он ответствовал, что царской шубой, царской саблей и царским же пансырем. Вот! Слово в слово, как у нас в книге записано! А дальше, у него спросили, что с теми дарами было? А дальше, он сказал, ермаковы люди их забрали и свезли в Сибирь, а что в Сибири с ними стало, то ему не ведомо. Ну да мы и сами это знаем: Ермак дары забрал, а злого царя Кучума злые люди Ермака подстерегли, убили и ограбили. И тогда это уже не нашего, Казённого, а вашего, Разбойного приказа дело, потому что это же разбой! – Тут он мельком глянул на боярина и быстро продолжал: – Так вот теперь нужно туда пойти, найти царские вещицы и вернуть обратно, и мы их снова в эту нашу книгу впишем. Маркел молчал, смотрел то на князя Семёна, то на Черемисинова, моргал, а потом-таки собрался с духом и спросил: – Так это мне теперь, что ли, в Сибирь идти и там искать? – А что поделать? – сказал, разводя руками, Черемисинов. – Это же кого убили? Того, кто в царской шубе хаживал. Такое спускать нельзя! Да и место там известное, казаки знают, где Ермак убит, расскажут, там поищешь. – И что? – тихо спросил Маркел. – Что, что! – сердито передразнил Черемисинов. – Не найдёшь, вернёшься, так тогда здесь и напишем: «царёвы подарки в нетях, Богдан не скривил». – А не вернусь? – спросил Маркел. – Ну, – замялся Черемисинов и обернулся на князя Семёна. Князь Семён подумал и сказал: – Ты не робей, Маркел. Тебе сейчас только до Устюга скорей добраться, а там, мне наши люди донесли, Ермаковы казаки уже новую ватагу собирают, вот к ним и пристанешь, придёшь на реку Иртыш, найдёшь там саблю, пансырь… Ну и шубу, если таковая сыщется, и сразу можешь обратно. И мы отблагодарим тебя здесь так, как ты и не чаял. Маркел молчал, смотрел на князя. А Черемисинов опять заговорил: – Давай, давай, езжай, не сомневайся! А мы пока что будем говорить, что Разбойный приказ ищет. А не вернёшься, скажем, не нашёл. Маркел вздохнул и снова посмотрел на князя. Князь строго сказал: – Не зли меня. Чем скорей вернёшься, тем меньше разозлишь. И я ещё от себя додам подарков твоим Прасковье с Нюськой. А пока два дня тебе на сборы. И больше не мозоль глаза! Маркел поклонился, развернулся и вышел.ГЛАВА 2
Маркел жил тут же, в Кремле, от приказов через площадь, в князя Семёновых палатах, в подсоседях. При князе Семёне жить было вольготно: ни о харчах себе не думай, ни о дровах, ни о многом ещё чём другом. Ну а тогда, в тот день, когда Маркел шёл из приказа, он и вовсе ни о чём своём не думал, а только о Ермаке. Да вот много думать у него не получалось, ибо он о Ермаке почти что ничего не знал. Не до Ермака ему было. Ну, разве что иногда только слышал, что, мол-де, гулял такой на Волге атаман казачий, Ермак Тимофеевич, много кого побил, пограбил, а после как будто одумался, пошёл в дикую страну Сибирь, там тоже всех побил, покорил тамошнее Сибирское татарское царство и поднёс его покойному государю Ивану Васильевичу, покойный государь царство принял и Ермака щедро за это жаловал, а сибирские люди, татары, на Ермака зло затаив, его подстерегли и убили, и Ермаковы казаки, увидев такой оборот, сразу все из Сибири вышли и теперь сидят тишком, не знают, как им дальше быть. Ну, ещё да, к Ермаку на подмогу царь два раза посылал стрельцов, но стрельцов быстро побили – и они тоже из Сибири выбежали. Нет теперь в Сибири православных, теперь один Маркел туда пойдет искать Ермакову могилу. Тьфу, пропади оно всё пропадом! Подумав так, Маркел увидел, что уже пришёл, поэтому поднялся на крыльцо, подошёл к своей, третьей в ряду двери, толкнул её, вошёл – и увидел Параску. Она сидела за столом, смотрела пристально. Ну да ещё бы не смотреть! Они с Маркелом были же не венчаны, так просто жили, в воровстве, грешили. А как было не грешить, когда жили они рядом, через стенку, а Параскин муж, Гурий Корнеевич, сотенный начальный голова Государева Стремянного полка, уже восьмой год сидит в плену в ливонской крепости Венден, в яме, и ливонцы не хотят его менять, хоть наши и сулят за него немало денег. А, может, и не сулят. Или он там давно помер, а воевода венденский молчит, кто знает?.. И вот тут пришёл Маркел к себе, снял шапку и перекрестился на икону. Параска сразу быстро-быстро заморгала и накуксилась. – Чего ты это так? – спросил Маркел. – Случилось что-нибудь? – Да как не случилось! – сказала Параска, утирая слёзы. – Чем ты им не угодил, псам этим? – Чем-чем! – строго сказал Маркел, садясь на своё место. – Служба такая. Накрывай. Я голоден. Параска поднялась и стала накрывать. Маркел взялся есть. Ел через силу, без всякой охоты. – Знаю я! – вдруг сказала Параска. – В Сибирь они тебя сослали. – Ещё не сослали. – Так сошлют! Маркел только пожал плечами и начал зачерпывать почаще и поглубже. Параска стояла рядом и помалкивала. Маркел наконец спросил: – Что у вас там про эту Сибирь бают? – Бают, что Ермак сам виноват, – в сердцах ответила Параска. – Когда он Кучума, того сибирского царя, побил, Кучум предлагал мировую. Я, говорил, даю тебе, Ермак, свою любимую младшую дочь замуж, и пол-Сибирского царства в придачу, будем Сибирью вместе править, а как я помру, заберёшь всё под себя и дальше правь сам как хочешь! А Ермак, ваш дурень, отказался. Кучум осерчал и убил Ермака. – Га! – весело сказал Маркел. – Слыхали. Так уже было про турецкого салтана. – К салтану Ермак не ходил! – Ладно, – не стал спорить Маркел. – Не ходил так не ходил. Теперь я к Ермаку пойду. – Зачем? – строго спросила Параска. – Его же убили. – Вот потому и пойду, что убили. Убили и ограбили. Надо найти злодеев. – Ой-ой! – наигранно запричитала Параска. – Ограбили его, ага! Весь царёв двор смеётся. Кучум его ограбил, да! Да Кучум и не видал того, что грабить. Так и Ермак не видал. А грабили: Богдашка Бельский, это раз, Черемисинов Демешка, это два, и Трохониотов Ванька, три! – А Головин? – спросил Маркел насмешливо. – А этот не успел, этого они оттёрли, – уверенно ответила Параска. – А тебя нарочно шлют в Сибирь. Чтобы ты оттуда не вернулся. Чтобы концы в воду. А шуба кармазиновая – сто рублей, пансырь кольчатый – ещё полста, и сабля – ещё семьдесят, вот сколько на троих поделят. А ты ехай в Сибирь, дурень! – Я не дурень! – осадил её Маркел. – А я на службе. – Ну, служи-служи. И больше она ни слова не сказала. Маркел, тоже обозлясь, ушёл за загородку, лёг и отдыхал после обеда. Думал. Параска ушла куда-то. Маркел ещё немного полежал, поднялся, вышел, сел к столу, достал засапожный нож и начал его натачивать. Приходила Нюська, толклась по углам, играла с цветными тряпками, смотрела на Маркела. Тот молчал, занимался ножом. Нюська, ничего не говоря, ушла к себе за стенку. Маркел отложил нож и подумал, что нехорошо это, надо было дитя приголубить – сирота же, Гурий Корнеевич её теперь небось и не узнает, если вдруг вернётся. Вспомнив про Гурия Корнеевича, Маркел тяжко вздохнул. И, правда, тут же подумал, что да как он мог Гурия Корнеевича вспомнить, если он его не видел никогда, ибо Гурий Корнеевич уже восемь лет сидит в Ливонии, а Маркел всего два года как в Москву приехал. Как раз, кстати, приехал к тому дню, когда государь Иван Васильевич преставился. Или, правильней сказать, его преставили злые люди. Вот где было тогда дело так дело, сколько людей оно сгубило насмерть, Господи, спаси и сохрани, сам уже думал, что живым не выбраться… А всё же выбрался и заматерел, у самого князя Семёна на задворках подселился, а тут ещё соседка-ягодка, а тут… И тут без стука вошёл Филька, горький пьяница, тоже сосед, но напротив. Маркел в сердцах подумал: принесла нелёгкая! И угадал. Филька снял шапку, подошёл к столу, спросил: – Говорят, тебя в Сибирь послали, это верно? – Верно, – нехотя сказал Маркел. – И не дури мне голову, мне завтра ехать. – А я и не дурю, – ответил Филька. – Я, может, со своим пришёл. Тут он и в самом деле достал из-за пазухи небольшую глиняную баклажку и выставил её на стол. Маркел нахмурился. Филька сказал: – Привыкай. В Сибири без этого нельзя. – Почему? – спросил Маркел. – Потому что помрёшь без неё. Замёрзнешь. Знаешь, какие там морозы? Земля трескается. А там простой земли нет, одни камни. И ничего на камнях не растёт, а только мох, называется ягель. Люди этот ягель собирают, перетирают в жерновках и варят. И скотины никакой там нет, не водится. Одни дикие собаки белые. Люди этих собак в силки ловят, варят вместе с ягелем, солью посыпают и едят. Соли там много, ага. И запивают вот этим! Тут он постучал по баклажке. И сразу спросил: – Налить? Маркел молчал. Тогда Филька поднялся, взял, где надо, два шкалика, отломил хлеба, вышелушил пару луковиц, снова сел к столу и налил по шкаликам. Они молча чокнулись и выпили. Филька широко утёрся и сказал: – Страшно на тебя смотреть, Маркел. Ты будто уже покойник. И опять налил. Маркел не перечил. Они ещё раз выпили. В голове немного зашумело. Маркел усмехнулся и спросил: – А ты про Сибирь откуда знаешь? – Так это я знаю давно, – важным голосом ответил Филька. – Это когда ещё от них посольство приезжало. – Посольство? – Ага. Три года тому. Тебя тут ещё не было, а они уже приехали: Черкас Александров со товарищи, как говорится. – Какой ещё Черкас? – Обыкновенный. Ермаковский есаул. Он грамоте умел, вот Ермак его и снарядил. Дал ещё двадцать казаков в придачу, дал ясаку побольше… Ясак был славный – соболя, двадцать пять сороков. И восемь шертных грамот – это значит, что восемь тамошних князьков государю поклонились. А девятый поклон был от всего Сибирского царства – вот такой сеунч расписанный, про все победы, а внизу всё Ермаково войско руки приложило, а кто не умел подписаться, тот ставил крестик. И этих крестиков было ого! Как лес! Да только царь этот сеунч даже смотреть не стал. Сказал, ему это не в честь – с ворами якшаться. – И что? – спросил Маркел. Филька молчал. Маркел взялся за баклажку. Баклажка была уже пустая. Маркел вздохнул, сходил за загородку, принёс добрую бутыль, принёс ещё хлеба и голяшку мяса. И налил. Филька выпил и продолжил: – Вот! Не стал царь-государь с ворами якшаться. Призвал Бельского и говорит: «Якшайся ты». Бельский пошёл якшаться, спрашивает: «Чего взамен хотите, казачки?» Они отвечают: «Зелейного заряда, и поболее, и пушку, и также пищалей, и сабель, пансырей, ножей, бердышей, и просто железа хоть бы сколько». Бельский говорит: «Э, нет! Этого вам царь не даст, этого он даст своим стрельцам, и пошлёт их вам на подмогу. А вам вот: каждому по новой шапке, по отрезу доброго сукна и по паре сапог кызылбашских. Берите!» – Взяли? – спросил Маркел. – Взяли бы, да им не дали, – сказал Филька. – Царь не велел. Велел дать только Ермаку. – Что Ермаку? Что ему дали? – Я этого не ведаю, – честно признался Филька. – Я только ведаю, что казаки сильно обиделись, в тот же день собрались и ушли в Сибирь обратно. А вскоре царь послал в Сибирь стрельцов. А казаки тех стрельцов перебили. Тогда царь послал ещё, теперь уже с воеводой Мансуровым. Но пока эти пришли, Ермака уже убили Кучумовы люди – и на Мансуровских стрельцов накинулись! Ну, Мансуровские и побежали от них. И казаки, которые от Ермака остались, с теми стрельцами тоже побежали. И сейчас они все, или по отдельности, сидят одни в Вологде, другие в Устюге, и снова в Сибирь собираются. Да туда не очень соберёшься! Там же не только мороз, а там ещё и ночь всё время. Темнотища! Вот какое это место проклятущее – Сибирь. Там и замёрзнешь, и ослепнешь на хрен. И Филька опять потянулся к бутыли. Маркел дал ему налить. Филька налил… Но тут как раз вошла Параска. Филька сразу встал, взялся за шапку. – Иди-иди, – строго сказала Параска. – И так вон надышал как густо! Филька, обойдя Параску, вышел. Параска убрала бутыль, смахнула крошки со стола и повернулась к Маркелу. Но тут опять явилась Нюська. Параска, ничего не говоря, взяла её под локоть и увела к себе. Маркел после ещё долго слышал, как они за стенкой переговариваются. А сам он пока сидел и, скуки ради, строгал чурочку. Вспоминал, как жил в Рославле, как после вырвался в Москву и здесь остался, хоть говорили: лучше уезжай, зарежут тебя здесь на такой службе. А вот и не зарезали! Два года как сыр в масле катался… Но вот теперь, правда, в Сибирь отправили. За что?! Маркел отбросил чурочку, нахмурился. И тут вернулась Параска. Теперь она была одета во всё новое, дух от неё стоял очень пахучий, щёки были нарумянены, брови наведены. В руках у неё был графинчик с наливкой. Они сели выпивать и разговаривать. Разговор был о пустом, неважном. После они стали миловаться. Параска просто аж горела вся. А после заснула. Маркел лежал, ворочался. В хоромах было тихо-тихо. Маркел смотрел по сторонам, везде было темно, только лампадка под Николой чуть светилась. Маркел широко перекрестился, прочёл Отче наш. После вдруг снова вспомнился Гурий Корнеевич. Маркел махнул рукой, Гурий Корнеевич унялся. Маркел стал думать про Сибирь, про тамошние холода и темноту, про то, что уезжает он туда надолго, на год, а то и на два, или на все три, но и это уже будет славно, если даже пусть через три года он сюда вернётся… И вдруг узнает, что Гурий Корнеевич уже давно здесь. А что! А вот наши заплатят за него как посулили, и воевода венденский, Ивахим фон Крюк, его и отпустит. Или уже поздно отпускать, ибо давно уже преставился Гурий Корнеевич, Царство ему Небесное, Маркел перекрестился… И тут же подумал, что это нехорошо такое загадывать, не по-христиански, а надо бы… Ну и так далее. Долго ещё Маркел лежал, раздумывал, и сон никак его не брал. Тогда он перестал раздумывать, а начал вспоминать и повторять, чтобы лучше запомнить, приметы пропавших вещиц: сабля булатная, пансырь немецкий, шуба кармазиновая, чешуйчатая, на черевах песцовых, а пансырь бит в пять колец, а сабля золотом наведена, а пансырь рукава по локоть, а… И так, пока всё не запомнил, не заснул. Зато после заснул как убитый.ГЛАВА 3
Утром они первым делом сразу пошли на Красную площадь, в ряды, и там купили Маркелу шубу длинную, до пят, валяные сапоги, рубаху вязаную, урманскую, тёплую, две пары рукавиц, и ещё… Да! И Нюське сладких гостинцев, чтобы не скучала, как сказал Маркел, – и засмеялся. А на душе было тоскливо. Обратно шли, Маркел смотрел на колокольни, думал: а вот прямо сейчас зайти и повенчаться! А что? А сказать, что Параска вдова, дать три рубля – и обвенчают ведь. А если Гурий Корнеевич жив? И вдруг вернётся? Какой грех на себя возьмём! И промолчал. Вернулись, только стали примерять – пришёл Мартын Оглобля, дворский, и сказал, что князь зовёт. Маркел взял шапку, пошёл к князю. Князь сидел тут же, у себя дома в хоромах, на втором этаже, в Ответной палате. Маркел вошёл, поклонился. Князь Семён сказал: – Тебе завтра с утра ехать. – И тут же спросил: – Куда ехать и зачем? – В Сибирь, на реку Иртыш, в град Кашлык, – без запинки ответил Маркел. И так же без запинки прибавил: – За саблей, пансырем и шубой царскими. – Какие они из себя? Маркел глубоко вдохнул и начал как по писаному: – Сабля турская, булатная, на обе стороны… – и дальше, слово в слово. И так же, без передышки, сказал про шубу и про пансырь, нигде ни разу не ошибся. Князь одобрительно кивнул, сказал: – Всё верно. Можешь ехать. Твоя подорожная уже готова. Завтра возьмёшь её в Ямской избе. Там всё прописано, куда ехать, и как, и сколько. До Чердыни! А там дальше уже сам ищи. По-татарски ты же понимаешь? – Понимаю. – Вот и славно, – сказал князь. И тут же странным голосом прибавил: – Ну да, может, тебе этого и не понадобится, а только доедешь до Вологды, а там развернёшься – и обратно. Маркел с удивлением глянул на князя. Князь усмехнулся и сказал: – А что? В Вологде сейчас сидит Мансуров. – И вдруг очень сердитым голосом спросил: – Кто такой Мансуров, знаешь? – Знаю, – ответил Маркел, – воевода. – Га! – ещё сердитей сказал князь. – Ванька Мансуров воевода! Сотник он по выбору, вот кто! В полусотенных ходил, и вдруг его подняли в сотники. И сразу дали сотню – и в Сибирь! Никто не хотел туда идти, вот и послали сотника, а все воеводы отказались. После Болховского никто туда идти не пожелал. – И вдруг опять спросил: – Болховской кто такой? Маркел молчал. – Да, – сказал князь Семён уже без всякой злости. – Далеко ты не уедешь, если ничего не знаешь. Начнём с самого начала. Так вот, был такой на Волге атаман Ермак, всех грабил. А после ему стало там тесно, он перешёл на реку Каму, а там через горы Камень взял да и ушёл в Сибирь со всеми своими людьми, с целым войском таких же разбойников, как сам. И они там враз пропали. Мы тут вздохнули: слава Тебе, Господи, унял злодея. Как вдруг, года не прошло, от Ермака из Сибири посольство с дарами. И говорят: царь-государь, кланяется тебе славный атаман Ермак Тимофеевич и, надо будет, он тебе ещё поклонится, а ты, государь, дай ему пушек, сабель, пищалей, свинца, пороху поболее, и он будет дальше воевать. И что, царь-государь, сам себе, что ли, враг – разбойников вооружать? Ничего он им не дал! А только сказал: дам вам стрельцов, стрельцы вам пособят. И послал воеводу Болховского с войском. Болховской в Сибирь ушёл… И пропал. А тут и государь Иван Васильевич у нас преставился, всем сразу стало не до Сибири, никто туда идти не хочет, молодой царь Фёдор Иванович воеводам не указ… Нашли только одного Мансурова. Этот согласился. Ему что? Ему терять нечего, зато если отличится, ему сразу честь. И он пошёл. И он тоже пропал! Тоже, мы думали, совсем. Но этой зимой вдруг, слышим, возвращается побитый. Из Сибири выбежал, а до Москвы не добежал, сел в Вологде, дальше идти робеет. И вот ты теперь туда, в ту Вологду, езжай и разузнай у него самого, что там у них было да как: и как Ермака убили, и как Сибирь профукали, где Болховской, где его стрельцы, кто столько православных душ сгубил за здорово живёшь… Ну и, конечно, и про то, где те царские шуба, сабля да панцирь припрятаны. Хотя, думаю, вот как раз про это ты ничего не узнаешь. – Почему? – спросил Маркел. – Да потому что, – как бы нехотя ответил князь Семён, – думаю, что никаких подарков не было, а это они уже сейчас списали на него. – Кто списал? – спросил Маркел. – Ну, мало ли, – задумчиво ответил князь Семён. – Да и не наше это дело! – продолжил он своим привычным бодрым голосом. – Наше дело – сыскать правду! Вот ты и езжай к Мансурову, приведи его к кресту и со всей строгостью дознайся, были ли на самом деле Ермаку от нас подарки, и если их не было, то моей властью позволяю тебе сразу ехать обратно. Ну а если они всё же были, тогда не обессудь! Тогда езжай, как было оговорено, в Сибирь, и там ищи. А если и в Сибири не найдёшь, тогда езжай в Китай, в Опоньское царство и, если надо, то и дальше, но царские вещицы любят счёт, их надо вернуть, понятно?! Маркел кивнул, что понятно, и вздохнул. Князь Семён спросил: – Что-то ещё хочешь сказать? Маркел помялся и ответил: – Хочу узнать про Гурия Корнеевича Мухина, сотенного начального голову Государева стремянного полка. Жив он или нет? Князь Семён усмехнулся, спросил: – А ты как думаешь? Маркел покраснел и ответил: – Я хочу знать, как оно есть на самом деле. – Э! – нарастяжку сказал князь Семён. – Я могу послать к ливонцам, в крепость Венден, человека, он узнает. Мне это недорого станет. – А пока что ничего не ведомо? – Пока что ничего. Маркел открыл было рот… но так и закрыл, промолчавши. Князь Семён ещё сильнее усмехнулся и сказал: – Ладно, тогда пока что вот как сделаем. Ты езжай туда, ищи, а мы тут посидим, подождём. И никого к ливонцам посылать не будем. Но и оттуда никого не примем, если что. Маркел поклонился. Князь Семён махнул рукой. Маркел поклонился ещё ниже и, не разгибаясь, вышел.ГЛАВА 4
Когда Маркел пришёл домой, Нюська сидела на полу и играла с деревянной куклой. Маркел спросил, где мамка. Ушла к ведьме, ответила Нюська. Зачем, строго спросил Маркел, потому что не любил такого. Я не знаю, ответила Нюська. Маркел сел за стол. Нюська подала ему поесть, а сама села напротив. Маркел ел и спрашивал о всяких мелочах, Нюська охотно отвечала. Потом вдруг замолчала, облизала губы и сказала: – Ты же в Сибирь идёшь? – В Сибирь, – кивнул Маркел. – А что? – Привези мне оттуда манит-камень. – Это что такое? – А это такая диковина. Чёрненький камешек, маленький. На кого его наставишь, того он к тебе и манит. – Э! – засмеялся Маркел. – Зачем тебе это? Я и так вон как близко сижу, можно рукой достать. – А я не про тебя, – сказала Нюська и насупилась. Маркел подумал и сообразил: вот про кого это она – про Гурия Корнеевича! И тут Маркел тоже насупился, больше уже ни о чём не заговаривал, а сидел сычом, ел молча, глазами посверкивал. Нюська, такое увидав, испугалась, стала шуметь, пошучивать, но Маркел как будто ничего не слышал. А как поел, пошёл и лёг на лавку, заложил руки за голову. Пришла Параска, остановилась в двери, осмотрелась. Потом, повернувшись к Нюське, спросила: – Ты чего ему сказала, дура?! – Ничего, – тихо ответила Нюська. Параска посмотрела на Маркела. Маркел сел на лавке и сказал: – А что, ей уже и слова не сказать?! – Ну, – растерялась Параска, – сказать. А пока иди, Нюся, иди. Надо будет, позову. Нюська надулась и нехотя вышла. Параска села рядом с Маркелом и начала расстёгивать на нём ворот рубахи. – Ты чего это? – спросил Маркел. – Так надо. Параска потянула за шнурок и вытащила из-под рубахи Маркелову ладанку. Маркел перепугался, побелел. Параска сказала: – Не робей. И развязала ладанку. Маркел не шевелился. – Видишь? – спросила Параска, разжимая свой пухлый бабий кулачок. На ладони лежал маленький засохший корень. – Вот это пожуёшь, и сразу как рукой снимает, – сказала Параска. – Что снимает? – спросил Маркел. – Всё снимает, особенно сглаз, – строгим голосом ответила Параска, засовывая корешок в ладанку. – Знаешь, какие в Сибири бабы злые? Татарки эти сибирские, ого! Им такого, как тебя, околдовать – раз плюнуть. Вскочит на стол и как пойдёт плясать! А брюхо голое! И эти вот так торчат! А вам, мужикам, много надо? А так корешок пожевал – и отпустило. – А если не жевать? – спросил Маркел. – А ты побожись, что пожуёшь! Побожись, побожись! Я вот уже божилась. – У ведьмы! – Что у ведьмы? Она с крестиком! – С хвостом она! – Тьфу на тебя! Божись! Маркел побожился, что будет жевать, если татарки нападут. Тогда Параска ещё прибавила, что этот целебный корешок не только от сглаза помогает, но и от отравы – тоже надо пожевать, а после хоть змеёй закусывай, не страшно. И опять поставила на стол графинчик, разложила закусок… Ну и так далее. А после наступила ночь, они заснули. Посреди ночи Маркел вдруг проснулся. Было жарко, дышать нечем. Маркел поднялся, подошёл к столу, напился квасу, полегчало. Маркел вернулся к лавке, сел с краю и задумался. Хотя чего тут было думать? И так уже всё было ясно: недоброе это сибирское дело, скользкое, лживое! Доброе, это когда всё ясно – убьют кого-нибудь или ограбят, приходи и поднимай на дыбу, спрашивай, а тут только и смотри, чтобы самого на дыбу не подняли, или что там в Сибири вместо дыбы у татар, да и не всё равно ли, что, а гадко так, как и тогда, когда царь-государь преставился ровно два года тому назад, вот Котька-пёс накликал, тьфу, всё из-за Котьки, сглазил! Маркел плюнул со зла, лёг, обнял Параску покрепче, зажмурил глаза и заснул.ГЛАВА 5
Назавтра утром они проснулись чуть свет. Маркел сразу начал собираться в дорогу, а Параска крадучись ушла к себе. Маркел продолжал собираться. Вернулась Параска, теперь уже с Нюськой, и они обе стали накрывать на стол. Стол был богатый, даже с пирогами с мёдом. Но веселья не было – они молча сели, все трое, и молча позавтракали. После Маркел встал и оделся в сибирское, тёплое, только шапку пока что не стал надевать. Параска сняла со стены образ Николы, начала читать молитвы, Нюська за ней подхватывала. Когда они замолчали, Маркел приложился к иконе и отступил на шаг. Параска его иконою перекрестила. Маркел надел шапку, повернулся к двери и окликнул. Тут же вошёл Филька, взял у Параски узел с вещами. Тогда Параска взяла узелок поменьше, узелок был припасён заранее. Маркел, глядя на него, нахмурился, но промолчал. Они вышли на крыльцо и стали сходить с него все вместе. Маркелу это не понравилось, он обернулся и расставил руки перед Нюськой и Параской. Они нехотя остановились. Маркел обнял Нюську, потрепал. А Параску он на людях лапать не решился, и только поклонился ей в пояс. Параска немо заплакала, протянула Фильке узелок и стала утираться платочком. Нюська тоже стала нюниться. Чтобы их дальше не терзать, Маркел и Филька, развернувшись, пошли скорым шагом. Да и идти там было недалеко – через Ивановскую площадь. Пришли к приказным палатам и мимо Разбойного приказа подошли к Ямскому же приказу, или, как привычно было называть, к Ямской избе. Там их уже ждали давешние Котька Вислый и Степан (правильнее, Стёпка), оба разбойные подьячие, а с ними Захар Домрачеев, стряпчий Ямской избы. За ним стояла пароконка, запряжённая гусём. Кони, сразу видно, были свежие, ухоженные, ладные. Рядом похаживал их проводник, чистил коней, оглаживал. Лицо у проводника было красное, глаза весело посверкивали, наверное, уже успел хватить, подумалось. Маркел и Филька подошли к своим и поздоровались. Захар подал Маркелу свёрнутую в трубку подорожную с чёрной вислой печатью. Маркел развернул её и начал, шевеля губами, бубнить себе под нос: «По Государеву Царёву и Великого Князя указу по дороге от Москвы через Ярославль, Ростов, Вологду, Устюг Великий и далее, куда будет указано… везде, не издержав ни часу… моему верному слуге Маркелу Петрову сыну Косому всегда два добрых коня с подводою, да проводника, в оглобли, а где надобно, и суденко с гребцами… И подавать ему на корм на каждый день куря да две части говядины… и ещё всего другого прочего столько, сколько его чрево примет. Писано на Москве лета 7094 марта в 20 день». Отбубнив, Маркел задумался, а после опять начал читать сначала и опять запнулся в том же месте: «и далее, куда будет указано». Это куда, подумалось, в Чердынь? А за Чердынью что – никто ещё не знает? И Маркел вздохнул. – Ты что это?! – сказал Захар. – Да я тебе смотри каких коней добыл! И проводник тоже зверь. А ты нос воротишь. Это как? Но Маркел в ответ только махнул рукой. Что проводник, подумал он тоскливо, завтра же будет другой, а послезавтра третий и так далее, пока «будет указано». А кем указано? И повернулся к Стёпке. Стёпка подал ему кошель. Маркел принял его, слегка подбросил. Кошель был не очень полный. Ну и ладно, подумал Маркел, отвернулся и пошёл к саням садиться. Филька пошёл за ним, первым делом уложил в сани узел с вещами, и только уже после узелок с провизией. Сказал: – А что! Когда это ещё тот ям? А тут сразу взял и перекусывай. Маркел улыбнулся, дал Фильке двугривенный и сказал, чтобы тот выпил за него. Филька засмеялся и ответил, что он на это выпьет не однажды и ещё добрых людей угостит. Маркел сел, запахнул полог саней, чмокнул губами, приказал «пошёл!». Проводник легко вскочил на переднюю лошадь, жарко огрел её кнутом – и лошадь рванула, сани тронулись наискосок через площадь, сразу забирая к Никольским воротам. Маркел не смотрел по сторонам, а просто ехал, думал. Думалось только о всяких гадостях, Маркел сидел мрачный, угрюмый. Так он угрюмо ехал и по Кремлю, и дальше, через Воскресенский мост на Сретенку, а там, по Сретенке, к городским Сретенским воротам. Только за воротами, за городом, ему стало немного веселей, он развернул Параскин узелок, достал оттуда кусок пирога, начал его покусывать и думать уже не так мрачно. А что, думал Маркел, очень вполне может быть, что князь Семён прав – и никуда дальше Вологды ехать будет не надо, в Вологде сотник Мансуров скажет, и побожится, что никаких ни шуб, ни сабель, ни пансырей покойный царь Иван Васильевич, равно как и боярин Бельский Ермаку не даривали, а всё это воровские приписки вора Володьки Головина, бывшего первого царёва казначея, просто его тогда не усмотрели, зато в прошлом году поймали за руку на новом воровстве и сразу свели к Ефрему в пыточную, он там во всём повинился – и его осудили на казнь. И был бы жив покойный государь Иван Васильевич, так и казнили бы сразу на славу, а теперь что, теперь при добрейшем государе Фёдоре Ивановиче пришла воля ворам, помиловали и Головина, отправили воеводой в Чебоксары. Вот каковою теперь стала государева великая опала, тьфу! Но пока об этом думалось, пирог был съеден подчистую. Маркел отряхнул руки, вспомнил Параску добрым словом, ещё раз залез в узелок, нащупал и достал баклажку, пригубил – и снова добрым словом вспомнил. И снова. А после пустую баклажку выбросил в сугроб. По сторонам было полно сугробов, это хорошо, подумалось, не дай бог тащиться по грязи. А так ехалось легко, скользилось. А потом, солнце ещё не поднялось до полудня, показался первый ям – Тарасовка. Остановились, там дали другого провожатого и поменяли лошадей. Маркел зорко смотрел, чтобы не подсунули каких-нибудь хромых или заморённых. Но напрасно он об этом беспокоился, кони снова оказались хоть куда. Наверное, все понимают, подумал Маркел, что с царёвым гонцом шутки плохи. И поехал дальше. День был ясный, ислабый морозец, на дороге пусто. Вскоре подъехали ко второму яму, сменились. А дальше вскоре был и третий ям – Сергиев Посад. Там, на ямском дворе, остановились на ночлег. Накормили щедро, как и в подорожной было сказано – сколько чрево вместит. Также и угол для спанья дали самый наилучший, спокойный. Спалось крепко. Утром разбудили, накормили, дали свежих лошадей, проводника. Поехал. Ехалось опять легко. Заночевал в Переславле, и снова на ямском дворе. Потом также в Ростове, потом в Ярославле и так далее. С каждым днём теплело и теплело, ехать становилось всё несноснее. Маркел начал покрикивать на проводников. Проводники стали злобно позыркивать…ГЛАВА 6
Но Господь милостив, всё обошлось, и на восьмой день, на день Матроны Солунской, к полудню, только дорога выбралась из леса, Маркел сразу увидел Вологду. Сперва, это ближе к нему, вдоль реки стоял Нижний посад, а дальше, на горе, возвышались каменные стены вологодского кремля. Стены там были высоченные, но недостроенные. Вот какой был государев гнев на Вологду, думал Маркел, снимая шапку и крестясь. Ох, говорили знающие люди, государь тогда был грозен! Ещё бы! Государь же, люди говорят, хотел здесь такую красоту отгрохать, и вон уже сколько всего настроили – стен этих каменных и башен – как в Москве! И уже почти закончили собор, и царский дворец рядом срубили, дворец-лепота… А после царь вдруг в один час собрался и уехал. И с той поры он сюда больше ни ногой! А всё это так и стоит недостроенное, никому не нужное и скоро развалится. Или люди разнесут по кирпичу. А что? Дурак народ! Проезжая мимо городской заставы, Маркел, не выходя из саней, достал и показал караульным стрельцам свёрнутую в рульку подорожную. Стрельцы убрали бердыши и пропустили сани. Пока ехали посадом, Маркел, глядя по сторонам, про себя отметил, что народ тут живёт не очень сытно, но, заметно, раньше жил сытней. И то, тут же подумалось, какое здесь тогда было строительство, сколько православных душ согнали. Небось кипело всё! А теперь только тишь да запустение. Миновав посад, подъехали к кремлю. Там, перед самым рвом, проводник хотел было свернуть направо, к ямскому двору, но Маркел велел ехать прямо. Они переехали через ров по опущенному подъёмному мосту к Пятницкой проезжей башне. Вот тут Маркел уже велел остановиться, вышел из саней и показал подошедшим стрельцам подорожную. Старший стрелец, глянув на титлы государевы, сразу отступил на шаг и спросил, куда Маркелу дальше. Маркел ответил, что тут рядом, до губной избы. Это и в самом деле оказалось совсем близко – от ворот третья изба налево. И там на крыльце стоял – будто заранее почуял – местный губной староста Чурила Кочергин. Увидев подъезжавшего Маркела, Чурила неподдельно обрадовался и воскликнул: – Маркел Петрович! Какими судьбами?! – По твою душу, – ответил Маркел, усмехаясь. – Буду творить розыск. Готовь батоги. – Горазд ты шутить, Маркел Петрович, – ответил Чурила уже не таким сладким голосом. – Что тут у нас красть? Одну тоску-недолю. – Посмотрим, посмотрим, – продолжил Маркел, вылезая из саней. Проводник взял его узлы. Маркел велел нести их в избу и сам пошёл следом. Чурила вертелся вокруг Маркела, спрашивал, с чего начнём. Маркел важно помалкивал. Зашли в избу. Там вскочил с лавки Никишка, губной целовальник. – Шапку проспишь, – строго сказал Маркел. Никишка сказал, что винится. Маркел повернулся к проводнику, который уже положил Маркеловы узлы на лавку, и велел, чтобы тот передал ямским, что завтра рано утром кони должны быть здесь, возле крыльца. – Что, завтра уже обратно? – с надеждой спросил Чурила. – Там будет видно, – уклончиво ответил Маркел и велел проводнику идти. Проводник вышел. Маркел снял шапку, бросил её на стол, сам сел на лавку, расстегнулся и тяжко вздохнул. Чурила осмотрел Маркела и с уважением сказал: – Всего год тебя не видел, а как ты заматерел! – Москва красит, – ответил Маркел со значением. – А у вас что нового? – Нового у нас одно старое, – без всякой радости сказал Чурила и, повернувшись к Никишке, махнул рукой. Никишка сразу вышел. – Не надо этого! – сказал Маркел. – Как это «не надо»? – удивился Чурила. – Ты с дороги-то небось голодный? А мы нальём! – и подмигнул. – Я это не люблю! – уже просто строго ответил Маркел. – Я это если только уже после службы. – И спросил: – Что это у вас, и вправду скоро двадцать лет как кремль недостроенный стоит? – Пятнадцать, – прикинув, ответил Чурила. – Как государь уехал, так стоит. Ещё покойный государь, Иван Васильевич. – Это понятно. – Понятно! – в сердцах повторил Чурила. – Тут, брат ты мой, такой шум тогда стоял! И то: чуть государя не убили! Вот что надо было расследовать! А тогда замяли. – Да знаю я! – сказал Маркел. – Когда приходили собор освящать, плинфа на него сверху упала. Прямо по голове! Злые люди её будто с крыши сбросили. Но никого на крыше не нашли. – Не нашли! – насмешливо хмыкнул Чурила. – А голов нарубили ого! – А после что?! – задиристо спросил Маркел. – А после ничего, – мрачно сказал Чурила. – Уехал государь. И все уехали. А если бы не эта плинфа чёртова, государь бы к нам переселился, он так и хотел, и мы стали бы столицей, а вы, Москва, стали бы глушью, к нам на поклон бы ездили, а мы вам по мор… Эх! – громко, в сердцах сказал Чурила и утёрся. Потом настороженно спросил: – А ты чего вдруг про это дознаваться стал? Что, опять открыли дело? Наново? И ты по нему приехал? – Нет, – ответил Маркел. – Я по другому. Говорят, сотник Иван Мансуров здесь у вас сидит. Тот самый Мансуров, которого в Сибирь послали, а он самовольно вернулся. Так, нет? Есть здесь такой? Сидит? – Может, и сидит, – уклончиво ответил Чурила. – А, может, уже и нет. Он же и раньше больше лёживал, чем сиживал. А теперь, может, и вовсе помер. – Как это помер? – обеспокоился Маркел. – А очень просто, – ответил Чурила. – Его к нам уже чуть живого привезли. Воевода его как увидел, сразу велел крепко за ним смотреть. Он не жилец, воевода сказал, а с нас после спросят по всей строгости. Он же… Но Маркел уже не слушал. Встал, взялся за шапку и сказал: – Ладно, тогда после перекусим. А сперва сведи меня к Мансурову! Чурила помолчал, посмотрел на Маркела, а после сказал: – Нет, у нас так не делается. Это у вас в Москве, может, иначе, а у нас всё через боярина решается. Через воеводу нашего. – Ну так веди к воеводе! – уже даже в сердцах велел Маркел. Чурила поморщился, но промолчал, тоже надел шапку и пошёл к двери. Маркел пошёл следом. Маркел очень спешил, но когда они вышли во двор, он всё-таки ещё поглядывал по сторонам и примечал: вот, справа, недостроенный собор с куполами без крестов, левей его – дворец, на всех окнах закрытые ставни, а ещё левей – богатые палаты на высоком каменном подклете. Они и шли к тем палатам. Там, на крыльце и рядом с ним, внизу, стояли стрельцы с бердышами. Когда Чурила и Маркел к ним подошли, Чурила, кивнув на Маркела, сказал: – Это наш стряпчий из Москвы, Маркел Петрович. Маркел полез за пазуху, достал и показал стрельцам небольшой круглый кусок овчины, на лысой стороне которой было выжжено клеймо – царский орёл. Стрельцы сразу расступились. Маркел стал подниматься по крыльцу. Чурила пошёл за ним.ГЛАВА 7
Наверху, в сенях, Чурила снова заступил вперёд, провёл Маркела на второй этаж и там, в ещё одних сенях, возле двери, при которой стояли стрельцы, они остановились, и Маркел ещё раз показал овчинку. Один из стрельцов открыл дверь. Маркел вошёл, снял шапку, поклонился великим обычаем, а когда выпрямился и посмотрел перед собой, то увидел вологодского воеводу, князя Вадбольского Ивана Михайловича. Воевода сидел на мягкой лавке, а сам из себя был не в старых ещё летах, телом пышен, лицом свеж, бородой седоват, глазами быстр. Также быстро осмотрев Маркела, он спросил: – Чьих будешь? – Государев я, – просто ответил Маркел. – Стряпчий Разбойного приказа, из Москвы. По службе. Воевода хмыкнул и выставил руку. Маркел сунул в неё подорожную. Воевода принял её, прочитал и, опять посмотрев на Маркела, спросил: – А что за служба у тебя такая? – Из государевой казны пропало три вещи, и я их ищу, – сказал Маркел. Воевода опять посмотрел в подорожную, удивлённо поднял брови и спросил: – И их что, уже в Сибирь свезли? – Может, и так, – сказал Маркел, обратно принимая подорожную, – а может, и нет. Может, они у тебя здесь припрятаны. – У меня? – недобро удивился воевода. – Ну, не совсем, чтоб у тебя, – сказал Маркел. – Но, может, где-то рядом. – И сразу спросил: – А это правда, что, как люди говорят, у вас тут сидит… или уже лежит… сотник Иван Мансуров, из Сибири вышедший? Воевода вместо того, чтобы ответить, перекрестился. – Что так? – спросил Маркел. – Беда какая-то? – Да не сказать, чтобы совсем беда, – нехотя ответил воевода. – Просто когда нам привезли его, пса этого, я сразу почуял, что добра нам от него не будет. – Почему? – спросил Маркел. – Да потому! – уже в сердцах ответил воевода. – Сам увидишь! – Но тут же спросил: – А что за вещицы такие? И как они вдруг пропали? – Про то, как они пропали, я пока говорить не могу, – сказал Маркел. – А вещицы такие: шуба, пансырь и сабля. Шуба кармазиновая на песцах, цена ей сто рублей, пансырь немецкий, пятьдесят, и сабля турская за семьдесят. Шуба – камка червчатая, чешуйчатая, кружево и петли немецкое золото с серебром… Ну и так далее. То есть Маркел, пока всё не назвал, не замолчал. Воевода подумал, ответил: – Нет, вряд ли. Ничего такого при нашем Мансурове не было. Одни обноски и шуба собачья. И так же все его стрельцы такие же. Пришли, глаза на них бы не смотрели! Сейчас хоть немного отъелись. – А что Мансуров? – спросил Маркел. – Мне сказали, что он помирает. – А! – махнул рукой воевода. – Его как принесли, он помирал, и так и теперь помирает. – Что с ним такое? – Говорят, он сибирского беса убил. А бес не убился! А взял и вселился в него! И теперь его бес корчит. – А можно с него снять расспрос? – С беса, что ли? Маркел не ответил. Воевода кликнул Митрия. Вошёл воеводский дворский. Воевода велел ему проводить Маркела, как он сказал, к этому бесу. Митрий кивнул Маркелу, и они пошли.ГЛАВА 8
Идти было недалеко – они прошли до рундука, свернули и спустились по лестнице, после опять поднялись и остановились в сенях, в которых крепко пахло луком. О, подумал Маркел, когда увидел связки лука на стене, вот даже как! Митрий подвёл его к двери, перекрестил и велел входить. Маркел вошёл. Горница была как горница, только и в ней был луков дух, даже, правильней, была уже совсем вонища. Маркел осмотрелся. Мансуров, одетый по-домашнему, лежал, укрытый периной, на лавке. В горнице было довольно светло, поэтому Маркел сразу отметил, что вид у Мансурова очень неважный – лицо худое, борода торчит клочьями, глаза нехорошо блестят. Но всё равно было понятно, что он молодой ещё, может, только чуть старше Маркела. И злобный! Он так злобно и спросил: – Ты кто такой? Маркел, слегка поклонившись, ответил: – Маркел Петров сын Косой, стряпчий Разбойного приказа. По делу. Мансуров сипло засвистел. То есть хотел что-то сказать, да не смог – и получился только свист – от злости. Тогда он, ещё сильнее разозлившись, махнул рукой и сплюнул. Губы сразу стали красными от крови. Мансуров взял белый платочек, уже весь окровавленный, и промакнул им губы. Не жилец, подумалось Маркелу, чуть позже приди – и не застал бы. А Мансуров опять засвистел и показал на прикроватный столик. На столике стоял кувшин. Маркел подал кувшин, Мансуров хлебнул из него, вернул Маркелу и сказал уже почти обычным голосом: – Чёрт бы их побрал, скотов! – Кого? – переспросил Маркел. Мансуров только отмахнулся. После, ещё немного полежав, спросил: – Зачем пожаловал? Маркел показал овчинку. Мансуров на это только хмыкнул. Тогда Маркел достал целовальный крест, поднял его повыше и сказал: – Я же говорил: по делу. Теперь назовись! Мансуров весь скривился и опять закашлялся, и засвистел. Маркел, не опуская креста, сел рядом с Мансуровым на его лавку, потом другой рукой подал ему опять напиться и напомнил строгим голосом: – Назовись, я говорю! – Иван Алексеев сын Мансуров, сотенный начальный голова по выбору, – нехотя ответил тот опять с присвистом. Маркел сунул Мансурову крест, Мансуров крест поцеловал и, повторяя за Маркелом, то и дело задыхаясь, побожился, что будет говорить только правду и отвечать как на духу. Но как только Маркел убрал крест, Мансуров тут же, глотая слова, уже неразборчиво прибавил: – Но это что касаемо разбойных дел. А если разрядных… то я про это буду отвечать только царю… Только он меня послал и только ему… отвечу. – Это конечно, – бодро подхватил Маркел. – Да и я только про разбойное и буду спрашивать. У нас же тут какое дело: из царской казны пропали три вещицы, ценных, мне велено их отыскать. И вот я ищу. – Что за вещицы? – сразу же спросил, свистя, Мансуров. – Шуба, сабля и пансырь, – ответил Маркел. Мансуров засверкал глазами и сказал злорадно: – У меня шуба своя. Вон, на сундуке лежит. И сабля у меня своя, ещё отцовская. И также пансырь. – На тебя никто не говорит, – сказал Маркел. – Я только хотел дознаться, не знаешь ли про них чего, не видел ли. Вещицы все дорогие, приметные. Одно слово: царские! Один раз увидишь, всю жизнь не забудешь. Сказав это, Маркел замолчал. Ждал, что Мансуров сам что-нибудь спросит. Но тот ничего не спрашивал, а просто смотрел на Маркела. Тогда Маркел спросил такое: – А что за человек был Ермак Тимофеевич, казацкий атаман? Что ты про него можешь сказать? Мансуров усмехнулся и ответил: – А что я скажу? Я его не видел ни живого, ни мёртвого. И при чём здесь Ермак? Что, это он, что ли, чужую шубу украл? И чужой панцирь? И… Тут Мансуров засмеялся и закашлялся, и засвистел, изо рта опять пошла кровь, он начал её утирать и ещё сильней закашлялся. Маркел подал ему кувшин, но Мансуров только отмахнулся. Лёг на подушку, утёр губы и сказал: – Не тот был человек Ермак, чтобы украсть. А вот чтобы силой взять, это другое дело. – Да на Ермака никто не думает, – сказал Маркел. – Но и шуба, и панцирь, и сабля были его, ермаковские. Царь их ему пожаловал. А после, когда Ермака убили, то шуба и сабля и панцирь пропали. Царские вещицы, представляешь? И их теперь надо найти. Меня за ними послали. Мансуров долго смотрел на Маркела, а после мотнул головой и сказал: – Не найдёшь. – Почему? – спросил Маркел. – Там сам увидишь, – ответил Мансуров и снова закашлялся, с кровью. – Где это тебя так? – спросил Маркел. – А! – отмахнулся Мансуров. – Было одно дело. Но Ермак здесь не при чём. – А кто при чём? – Пелымцы. – А это ещё кто такие? – Это такой дикий народ сибирский. Все колдуны! И это они мне так наколдовали. Теперь я помру. Сказав это, Мансуров замолчал, утёр губы платочком и жестом попросил подать кувшин. Маркел подал. Мансуров пил, громко дышал в кувшин. Маркел терпеливо ждал, потом, приняв кувшин, сразу спросил: – Но как ты попал к пелымцам? Тебя же к Ермаку посылали, в Кашлык. – Мы и пошли в Кашлык, – злобно ответил Мансуров. – На четырёх стругах и с пушечкой. Да не дошли. – Почему? – Не успели, – со свистом ответил Мансуров. – А были уже совсем близко. Уже был виден тот берег, а на нём стены кашлыкские. Они горели. А по реке, от Кашлыка, смотрим, нам навстречу плывут казаки. И кричат, что Ермака убили, у Кучума очень много войска, бежать надо. Ну, мы и повернули, и поплыли обратно. И казаки вместе с нами. Их было два струга. – И вы все сразу сюда? – спросил Маркел. – Нет, не сразу, – ответил Мансуров, утирая пот. – Сперва шли вниз по Иртышу, а после свернули на Обь, по Оби ещё прошли… И тут я опомнился! А что! За нами же никто не гонится! Куда, думаю, бежим? Что я в Москве скажу? И говорю: нет, братцы, надо нам остановиться, поставим городок, пошлём гонцов на Русь, за свинцом и порохом, а сами здесь отсидимся. А по весне придёт подмога, и мы опять на Кашлык! – Сказав это, Мансуров помолчал, потом вдруг со злом прибавил: – Бес попутал! – Почему бес? – спросил Маркел. – А кто ещё? – хрипло воскликнул Мансуров. – Я же тогда о чём подумал? Что кто я раньше был? Никто! Служил в Калуге сотенным по выбору, и тут вдруг так свезло – в Сибирь воеводой отправили! А я не Ермак, подумал я, я не разбойник, и я своим воли не дам, у меня будет порядок, и царь мне пришлёт свинца и пороха, и я возьму Кашлык, и обратно уже не отдам! И царь пожалует меня Сибирским князем и боярином!.. – И что? – И уговорил я своих, – опять свистящим голосом заговорил Мансуров. – Остановились мы. Поставили городок, стали собирать запасы. – И что дальше? – Я же говорил: пришли пелымцы и околдовали меня. И я помер. – Какое помер?! Ты же ведь живой! – Это тебе так только кажется, – сказал, улыбаясь Мансуров. – А внутри я давно покойник. И замолчал. Опять стал громко, тяжело дышать. Маркел подумал: сейчас он помрёт. Но нет! Мансуров вдруг опять заговорил, уже отчётливо, без присвистов: – Да, стал Ермак Сибирью править. А как правил? Кто такой Ермак и кто такие казаки? Разбойники! Вот и пошли они разбойничать дальше – велели, чтобы вся сибирская земля, татары и пелымцы, и остяки, вогулы и все прочие, платили им ясак: меха, еду, питьё, а они только гуляй. И так и гуляли бы дальше, да кончился у них порох. Где ещё пороху взять, думают. В Сибири его нет, есть только у царя в Москве. И царь им не дал. А мне бы дал! И я бы для него Сибирь сберёг! А он… И Мансуров опять замолчал. Потом, тихо засмеявшись, вновь заговорил: – Царь Ермаку пороху не дал, а послал воеводу Болховского. У того и порох был, и свинец: по три фунта пороха на каждого и по три фунта свинца. Зато припасов не было! И перемёрли все стрельцы от голода, а вместе с ними Болховской. – А казаки не перемёрли? – А зачем? У них припасы были. Но немного. Только на себя. – А как убили Ермака? – спросил Маркел. Мансуров помолчал, потом сказал: – Я этого не видел. А что другие говорят, я в это не верю. – Почему? – После сам узнаешь, когда тебе начнут рассказывать, – безо всякой охоты ответил Мансуров. И прибавил: – Давай, я тебе лучше расскажу про то, что видел сам. Покуда я ещё могу рассказывать. А ведь и верно, подумал Маркел, вон как Мансуров побелел – как снег. И махнул рукой – рассказывай. Мансуров облизнул губы и начал: – Вот мы сидим у себя в городке, думаем, что делать дальше. Да что думать! У Ермака было войско в пять сотен, у Болховского в семь, и что теперь от них осталось? Почти ничего. Ну и наша одна сотня с одной пушечкой, вот и вся наша сила. А тут пришло этих пелымцев просто страшно глянуть! Надо уходить, все наши говорят. А я молчу и думаю: вам такое говорить легко, а когда вернёмся, кто за всё ответит? Один я! И говорю: давайте здесь сидеть. Городок крепкий, запасов довольно, зиму отсидимся, а весной к нам придёт подмога. Но все как начнут кричать, все как… И Мансуров опять засвистел, стал красный, начал задыхаться, схватился за грудь. Маркел быстро взял кувшин, намочил мансуровский платочек и начал тереть им ему лоб, виски, щёки. Мансуров затих. Маркел замер. Мансуров облизал губы, сказал чуть слышно: – Помираю. Дышать нечем. Маркел разорвал на нём рубаху. И увидел на груди Мансурова большое чёрное пятно. – Что это? – спросил Маркел. – Не знаю, – чуть слышно ответил Мансуров. – Само появилось. – Давно? – Там, в городке. И стал я помирать. И не стали они меня слушать. Собрались и ушли. И меня унесли. И вот принесли сюда. Что мне теперь говорить, как перед царём показаться? Маркел смотрел на Мансурова, думал. Потом строго сказал: – Ты, Иван, крест целовал говорить как на духу. А теперь вдруг запираться начал. Это великий грех! Мансуров закрыл глаза. Сказал: – Уйди. Маркел сидел, не уходил. Мансуров ровно, с присвистом, дышал. Потом стал дышать реже и глубже – это он уснул. Маркел надел шапку, встал и вышел.ГЛАВА 9
За дверью Маркела ждал Митрий, и они пошли обратно. Митрий ни о чём не заговаривал. Зато когда они вошли к воеводе, тот сразу спросил: – Что, ничего он не сказал? – Куда уже там говорить! – невесёлым голосом ответил Маркел. – Там уже попа звать надо. – И то верно! – сказал воевода. – И я так и думал. Поэтому пока ты там сидел, я велел ещё кое-кого сюда подать. Есть там у них такой Касьян Панкратов, полусотенный голова. Человек серьёзный. Когда Мансуров повредился, Касьян вместо него командовал. Митрий, веди его! Митрий вышел и быстро вернулся, ведя перед собой того Панкратова. Это был рослый, широкий в плечах человек. Вид у него был очень настороженный. Маркел дал Панкратову крест, тот его поцеловал, назвался, побожился говорить как на духу. Тогда Маркел спросил, правда ли, что они, люди Ивана Мансурова, ходили за Камень, в Сибирь. Панкратов ответил, что правда. – Кто вас туда послал? – спросил Маркел. – Государь царь великий князь Фёдор Иванович, – ответил Панкратов. – А кто велел идти обратно? – тотчас же спросил Маркел. – Наш сотенный голова Иван Мансуров, – тоже сразу, без запинки ответил Панкратов. Маркел помолчал и продолжил: – А Мансуров говорит, что он тогда был без памяти, и это без него решили. – Как же это без него?! – громко спросил Панкратов. – Он же и велел идти, когда мы ермаковских встретили. – Где встретили? И как? – Ну, – замотал головою Панкратов, – мы тогда все вместе шли, всей сотней, на четырёх стругах, Мансуров на первом. И уже почти дошли, уже Кашлык был виден на горе, как вдруг видим: по реке, по Иртышу, к нам ещё наши струги идут, от Кашлыка, казацкие. Мы с ними сошлись и они говорят, что Ермака убили и что Кучум к Кашлыку подошёл, у Кучума несметное войско, что делать. Вот тогда Мансуров и велел всем разворачиваться и идти на Обь, на север, а там, сказал, сойдём на берег, пройдём через Камень на Печору – и домой. И мы пошли, пока что погребли, конечно. – Куда? – На Обь. На север. Туда татары не доходят. А мы догребли. Мы, государевы стрельцы, вся наша сотня, и ермаковы казаки, которые живы остались. – А как убили Ермака? – Я этого не знаю, нет! – сразу же сказал Панкратов. – А так казаки разное тогда болтали. Но что я теперь буду повторять то, чего сам не видел? Это надо у них спрашивать, у казаков, но сначала привести к кресту, чтоб не кривили. – А где они сейчас, казаки эти? – Остались в Устюге. Надо туда ехать и спросить. Маркел молчал, думал. Тогда Панкратов сам продолжил: – И вот мы пришли на Обь, а уже стало холодать, и мы стали говорить, что не дойдём до Печоры, не успеем. Тогда Мансуров велел остановиться, ставить городок. И мы поставили. Даже ещё до конца не доставили, как вдруг пришли пелымцы. Это такой дикий народ… – Я это знаю! – перебил Маркел. – А дальше? – И вот их пришло просто тьма, обложили нас со всех сторон, и стали жечь огонь, песни петь, плясать и своему болвану кланяться. – Что ещё за болван такой? – спросил Маркел. – Ихний бес, – охотно пояснил Панкратов. – Деревянный, позолоченный. Они сначала ему просто кланялись и губы ему кровью мазали, а после посадили его на высоченную жердину, может, десяти саженей, и он стал оттуда сверху кликать. Вот так утробно голосить! И Панкратов начал подражать болвану, получилось очень гадко. Маркел махнул рукой, чтобы Панкратов замолчал, потом спросил: – А вы что? – А что мы?! – развёл руками Панкратов. – Крепко оробели, если сказать правду. Ещё бы! Такая зараза! И так дико орёт! И если бы они тогда сразу на нас пошли, так и побили бы. Но тут Мансуров повелел выставить на стену нашу пушечку. Выставили. Велел зарядить. Зарядили. Велел навести. Навели. Велел… Но тут уже никто не шелохнулся, боязно. Тогда он взял запал, сам ткнул – и как долбануло по тому болвану, так от него только щепки полетели! Золочёные. Ту жердину тоже в щепки. И пелымцы бежать кто куда. Мы, у кого ещё был порох, по ним из пищалей стрельнули, ещё там-сям кое-кого прибили, а остальные сбежали. И больше мы их там не видели. – И вы решили там остаться, – подсказал Маркел. – Нет, ни боже мой, ни в коем случае! – поспешно продолжал Панкратов. – Мансуров-то стал помирать, задыхаться! Будто ему железным сапогом грудь отдавили. Это болван ему так отомстил. И вот лежит наш сотенный начальный голова, кряхтит, кровью харкает. Потом ещё один наш начал харкать, потом ещё один… И мы сошлись на круг и порешили уходить совсем. И ушли, и Мансурова с собой забрали. Вот тут он уже и вправду ничего не говорил и не приказывал. Принесли его сюда уже совсем чуть живого. Вот как тогда было. А он как говорит? – И он примерно так же, – ответил Маркел. И продолжил: – И вот что ещё хочу узнать. Были у атамана Ермака три знатные вещицы, их ему царь пожаловал – это шуба, очень дорогая, чешуйчатая, кармазиновая, лёгкая, сабля в золочёных ножнах и пансырь немецкой работы, пятикольчатый. Слыхал ли ты что про такое? – Нет, про такое ничего не слыхал, – уверенно ответил Панкратов. – Мы же Ермака не видели, и его пожитков тоже. Про это надо у его казаков, которые после него остались, спрашивать, а они, как я уже сказал, все в Устюге сидят. – Зачем? – спросил Маркел. – А чего им здесь, в Вологде, делать? А в Москве тем более. Они же народ гулящий. Одни из них, знаю, из Устюга собирались обратно на Волгу идти, откуда их Ермак привёл, а другие думают опять подаваться в Сибирь. Так что если хочешь их о чём-то расспросить, тебе нужно в Устюг поспешать. – Это я ещё подумаю, – сказал Маркел. И, обернувшись к Митрию, махнул рукой. Митрий повёл Панкратова к двери. Маркел стоял посреди горницы, молчал. Воевода пожевал губами и спросил, что Маркел думает делать дальше. А что тут думать, ответил Маркел, тут думать уже нечего, а нужно ехать в Устюг. Воевода просветлел лицом, но для верности ещё спросил, когда Маркел уезжает. Маркел сказал, что завтра утром и что с ямским двором всё уже оговорено. Не нужно ли чего в дорогу, спросил воевода. Нет, у него всё есть, сказал Маркел, поклонился великим обычаем, развернулся, надел шапку и вышел. Во дворе уже смеркалось. Маркел, сошёл по лестнице, шумно вздохнул и глянул дальше, в сторону, на заколоченный царский дворец, на недостроенный храм без крестов… Развернулся и пошёл обратно, туда, где на крыльце губной избы его ждал Чурила. Вид у Маркела был, наверное, очень угрюмый, потому что когда он входил в избу, Чурила ничего не стал у него спрашивать, а только прошёл вперёд и указал на стол. На столе было всего полно, как говорится, но Чурила всё равно развёл руками и сказал: – Остыло малость. – В брюхе согреется, – строго сказал Маркел, садясь к столу. А Чуриле не велел садиться, и тот стоял при нём как челядин. Маркел ел не спеша, без охоты. Хмурился. Чурила, осмелев, присел с краю стола, спросил, видел ли он Мансурова. Но Маркел только рукой махнул и опять взялся за еду. Чурила смотрел на него. Маркел, заметив это, кивнул на бутыль. Чурила налил в два шкалика. Они выпили, Маркел утёрся, а Чурила весело сверкнул глазами и скороговоркой зачастил, что он хорошо помнит, какое было славное винишко хлебное, которым их в Москве Маркел Петрович потчевал. – Ладно, ладно, – перебил его Маркел. – Мне завтра в дорогу. Я прилягу. Чурила сразу встал, кликнул Никишку и велел стелить. Никишка быстро постелил прямо на лавке при столе. После Чурила с Никишкой ушли, Маркел с большего разделся, лёг, повернулся к лампадке, меленько перекрестился и подумал, что, по-хорошему, надо было бы завтра опять прийти к Мансурову да и сказать ему, что он после креста кривил, а это великий грех, и пригрозить… Но тут же подумалось, а чем грозить, когда с Мансуровым вон что случилось, страшно даже повторить. Так что нечего здесь больше делать, а надо срочно ехать в Устюг, к ермаковым казакам, если он там их ещё застанет. То есть никак нельзя мешкать. С этой мыслью Маркел и заснул. Снился ему болван пелымский, не давал покоя. Маркел несколько раз просыпался, крестился, опять засыпал.ГЛАВА 10
Утром Маркел проснулся от того, что услышал, как фыркает лошадь. Маркел сел на лавке и прислушался. Лошадь стояла совсем близко, прямо под окном, и фыркала. Это, подумалось, ему уже подали сани, как он и велел, пораньше. Маркел встал, кликнул Никишку и велел накрыть на стол. Никишка быстро накрыл. Маркел неспешно ел и думал, ходить или не ходить к Мансурову, срамить его или не срамить. Доел и подумал: не срамить. Встал, быстро собрался, вышел на крыльцо. Лошадь стояла тут же, рядом. Чурила совал в сани узел. Увидев Маркела, засмеялся и сказал, что это чтобы в дороге не мёрзнуть. Маркел махнул рукой, сошёл с крыльца… И вдруг ему очень захотел обернуться. А когда обернулся, увидел, что возле воеводских палат, сбоку, толкутся стрельцы. – Что это там? – спросил Маркел настороженно. – А, – нехотя сказал Чурила, – сотник помер. Сейчас будут выносить. Так ты давай, давай скорей! А то переедут путь – и не доедешь потом никогда. А ему чем уже помочь? Ничем. Маркел согласно кивнул, снял шапку и перекрестился, сел в сани и велел трогать. Проводник погнал коней. До Устюга дорога была дальняя и всё вдоль реки – сперва вдоль Вологды, потом вдоль Сухоны. Возле Тотьмы переехали на левый берег, после опять на правый, и так дальше по нему и ехали. А дни становились всё длинней, солнце светило всё теплей, сугробы стали падать, потом потекли. Дорога превратилась в месиво, сани то и дело застревали или даже оборачивались, проводники ругались на чём свет стоит, жалели лошадей. Лошади, чуя такое, ленились. Маркел три дня терпел, после не выдержал, достал заветный кожаный кошель и начал одаривать проводников – по алтыну, по пятачку, а то и поболее. Дело стало понемногу спориться и, на шестой день, на Преподобного Тита Чудотворца, к вечеру, когда уже начало смеркаться, Маркел наконец увидел купола и стены Устюга. Вот только Маркел стоял, как было уже сказано, на правом берегу Сухоны, а Устюг – на левом. Лёд на перевозе был уже совсем никудышный, весь в лужах, а кое-где даже в полыньях и трещинах. Проводник сказал, что надо возвращаться, потому что через реку он не поедет ни за какие деньги. Что делать, спросил Маркел. Ждать, когда лёд сойдёт, ответил проводник, и тогда брать лодку. Маркел сказал, что он очень спешит и заплатит. Проводник молчал. Маркел достал кошель и начал отсчитывать деньги. Отсчитав полтину, он остановился. Проводник вздохнул, махнул рукой, велел садиться. Маркел сел обратно в сани. Проводник перекрестился и поехал. Ехать было очень боязно, сани то оседали, то кренились на бок, лёд под ними нещадно трещал. Проводник остановился и через плечо воскликнул, что надо бы добавить хоть пятиалтынный. Маркел засмеялся и сказал: – Тогда поворачивай обратно, ничего не дам! Проводник снял шапку, выругался очень богохульно, матерно, и подстегнул коня. И обошлось, доехали до берега. Маркел отсчитал проводнику полтину, проводник её с поклоном взял и спросил, куда дальше доставить. Маркел сказал, что в губную избу. Туда ехать оказалось далеко – сперва через весь Верхний посад, потом через тамошний кремль. Маркел ехал, удивлялся – на городской заставе было пусто, решётки на всех улицах откинуты, и даже открытые ворота кремля никто не охранял. Вот там, в воротах, Маркел и не выдержал, сказал: – Что это у вас такое? Как в казаках! – Так мы в казаках и живём, – загадочно ответил проводник. – А воевода где? – Он ещё в прошлом году помер. А нового пока не прислали. Маркел больше ничего не спрашивал. Проводник довёз его прямо до крыльца губной избы, вынес узлы и даже постучался в дверь. На стук вышел мрачный невысокий человек и грубым голосом спросил, кто вы такие будете. Маркел молча показал овчинку. Тот человек ещё сильнее помрачнел, но всё же отступил на шаг. Маркел вошёл в избу. Тот человек, было слышно, взял Маркеловы узлы и потащил их за ним следом. Маркел прошёл через сени в палату. Там на столе горела плошка, на лавке лежали овчины. Наверное, кто-то на них спал и только что с них поднялся. Маркел оглянулся. Тот мрачный человек положил узлы на стол и, обернувшись, окликнул: – Игнаха! Вышел Игнаха, крепкий детина, одетый как подьячий. Маркел спросил: – Вы кто? – Я – Тимофей Костырин, здешний губной староста, – назвал себя тот мрачный человек, кивнул на Игнаху и прибавил: – А это – Игнат Заяц, губной целовальник. Тогда и Маркел представился: – Маркел Петрович Косой, стряпчий Разбойного приказа, из Москвы. По государеву срочному делу. – А где Трофим Пыжов? – спросил Костырин. – Трофим Порфирьевич Пыжов умре, – строго сказал Маркел. – Зарезали его. Два года тому назад, Теперь я вместо него. Костырин широко перекрестился и сказал: – Земля ему пухом! Ловко ножи метал. Маркел тоже осенил себя крестом и, помолчав, сказал: – А у вас, сказали, воеводы нет. Кто же тогда теперь вас держит? – Держит нас Борис Борисович Бычков, государев думный дьяк, – ответил Костырин. – Но он два дня тому назад уехал в Мезень. Будет через три недели. А ты, может, чего желаешь с дороги? – Перекусил бы я чего горячего, – сказал Маркел. Костырин кивнул Игнахе. Тот подступил к печи, начал разгребать уголья, раздувать их. Маркел снял шапку. Костырин спросил: – А к нам по делу? Или просто так, проездом? – По делам, – уклончиво сказал Маркел и оглянулся на Игнаху. Игнаха подал миску тёплых щей. Отрезал хлеба. Налил водки. Маркел спросил: – А вы чего? – А мы уже поевшие, – сказал Костырин. Ладно, подумал Маркел, и чёрт с вами, и принялся есть. Костырин сидел сбоку и молчал. Игнаха стоял возле Костырина. Какое место гадкое, думал Маркел, ни воеводы, ни стрельцов, ни даже царёва дьяка. А где казаки? Спросить, что ли? Но так и не спросил, смолчал, вычерпал две миски щей, выпил четыре шкалика, в голове приятно зашумело, кровь забегала. Зачем, думал Маркел, спрашивать, на хмельную голову ещё чего не так вдруг ляпнешь. И он молчал. Доел, утёрся, крякнул и сказал, что хорошо пошло, теперь можно отдохнуть, а завтра сразу за дела. Костырин опять спросил, за какие. – Первым делом, – ответил Маркел, – истопите баньку. А там дальше будет видно. А пока бы я прилёг. Игнаха мигом постелил. Маркел сел разуваться и напомнил, что завтра надо начать с баньки. А после, когда он остался один, Маркел долго лежал без сна, ему почему-то думалось о том, что Костырин снюхался к казаками и как бы не было от этого какой беды. Но после Маркел как заснул, так и спал до самого утра. Утром его разбудили, сказали, что баня готова. Баня оказалась тут же, за углом, отдельный вход. Пар был славный, напарился всласть. Вышел, сел, дышать было легко, смотрелось весело. Очень захотелось есть. Но только он взялся за ложку, как вдруг вошёл Костырин и сказал, что его, Маркела, Матвей спрашивает. Какой ещё Матвей, спросил Маркел, а у самого внутри всё ёкнуло. И неспроста, потому что Костырин ответил: – Мещеряк, какой ещё Матвей. Атаман Сибирский. – Сибирский атаман – Ермак, – сказал Маркел. – Был Ермак, а после весь вышел, – не без насмешки ответил Костырин. – Как убили Ермака, казаки сошлись на круг и кликнули Мещеряка вместо него. И вот этот Мещеряк их из Сибири вывел. – Вывел Мансуров, – поправил Маркел. – Га! Мансуров вывел! – скривился Костырин. – Да его самого чуть вынесли. А тех, кто его выносил, вёл Мещеряк. И он, атаман Сибирский Мещеряк, теперь, со своими людьми, здесь, в Угличе, сидит и про тебя спрашивает. Что это, говорит, за козявка объявилась здесь такая – Маркелка-стряпчий из Москвы. – Не Маркелка, а Маркел Петрович, – без всякой обиды ответил Маркел. – И что тут ему спрашивать? Пускай приходит, и поговорим ладком. Или робеет атаман, что не идёт? – Да ты знаешь… – Знаю, – перебил Маркел. – И потому ещё раз говорю: пускай приходит. Иди и передай ему: Маркел Петрович ждёт. – Ну, москва, смотри, потом не обижайся! – в запале воскликнул Костырин и вышел. Маркел встал и заходил по палате. После сел. После снова встал и заходил. После опять сел и даже немного развалился, и принялся ждать.ГЛАВА 11
Ждать пришлось долго. Но вот, наконец, во дворе послышались шаги, потом простучали каблуки по крыльцу, после в сенях. Затем распахнулась дверь, и вошёл атаман Мещеряк. Был он высокий, чернобородый, в широкой соболиной шубе, мех на ней так и сверкал, переливался, а сбоку, на серебряном наборном поясе висела сабля – дорогущая. Маркел засмотрелся на неё, залюбовался и даже подумал, не та ли это сабля ермаковская, но тут же понял – нет, не та, у той серебряные ножны, хоз чеканен и огнивцо золочёное, а тут… Вдруг Мещеряк громко сказал: – Так это ты и есть тот из Разбойного приказа, из Москвы? – А что? – спросил Маркел. – Сопля какая! Маркел усмехнулся и опять спросил: – Лаяться пришёл? Или по делу? И при этом встал и легонько тряхнул рукавом, кистень в рукаве заёрзал. Мещеряк, будто это учуяв, не стал выступать вперёд, как собирался, а так и оставшись у двери, прибавил: – Ты что, так и будешь меня при пороге держать? Маркел широко провёл рукой и пригласил: – Проходи, садись под иконы. Желанным гостем будешь. – А если я некрещёный? – Окрестим. – А ты языкастый, москва, но мы и не такие языки… Но дальше Мещеряк не досказал, а поворотился к иконам, перекрестился, поклонился в пояс, прошёл и сел в красном углу, снял шапку, тоже соболиную, положил её на стол и предложил: – И ты садись. На царской службе ещё настоишься. Маркел усмехнулся, сел напротив, спросил: – А ты царю не служишь? – Нет, – с достоинством ответил Мещеряк. – Нам, вольным людям, этого нельзя – служить. И также и отцы, и деды наши не служили. Когда покойный государь Иван Васильевич на Казань выступил, он нас к себе на подмогу позвал. И мы откликнулись, пришли. Но крест царю не целовали! За Божью правду мы ходили, вот как! И за неё и бились. Так с той поры и повелось. Так и теперь в Сибирь ходили, против агарян нечистых. Но агаряне нас… того. Перехитрили, нехристи. Ермак Тимофеевич поверил им – и они его убили. Сказав это, Мещеряк громко вздохнул. Маркел тут же спросил: – Как убили? – А тебе это зачем? – с подозрением спросил Мещеряк. – Ну как это?! – сказал Маркел. – Я же из Разбойного приказа, как тебе уже сказали. Вот я и хочу знать, не было ли там какого злодейства. – А если было бы, тогда ты что, открыл бы дело? – уже очень грозно спросил Мещеряк. – И привёл всех нас к кресту, и начал допрашивать? За языки тянуть! На дыбу поднимать! Так, что ли? – Зачем за языки? Вы сами бы сказали. – Сами! Знаю я, как это делается! Пять лет тому назад взяли меня твои товарищи. Чуть вырвался! – Где взяли? Кто? – А зачем тебе это? Хочешь опять открыть то дело? Верёвками меня перетереть? Скотина! И Мещеряк поднялся над столом, воздел над Маркелом руки и застыл. Думал, наверное, что тот перепугается… Но Маркел на это только усмехнулся и ответил: – Нет, не стану я то дело открывать. Мне и своего дела хватает. Да и оно, прямо сказать, не столько моё, сколько ваше. – Какое ещё наше дело? – настороженно спросил Мещеряк. – Да про крадёж, – сказал Маркел. – Пропали три вещицы в вашем войске. У вас татьба среди своих, а вы и в ус не дуете. Сказав это, Маркел сглотнул слюну и продолжал сидеть на месте. Мещеряк, не опуская рук, стоял над ним. И думал. Потом, опустив руки, спросил: – Что ещё за крадёж? Чего мелешь? – Мелю то, что мне было рассказано, – сказал Маркел. – Что обобрали Ермака, уже убитого, вот что! – Кто это сказал? – Князь Семён Михайлович Лобанов-Ростовский, судья Разбойного приказа. Сказал под крестом! И побожился! – Ну-у… – протянул Мещеряк. – А что украли? Кто крал? И когда? – Кто и когда, я этого ещё не знаю. А вот что украли, это я могу прямо сейчас сказать. – Скажи! – А ты поначалу побожись, что после будешь отвечать как на духу! – Так а зачем мне божиться? Я, когда говорю, никогда не кривлю. Или ты, червь, мне не веришь? Маркел подумал и ответил: – Верю. – Тогда называй, что украли. – Шубу, пансырь и саблю, – ответил Маркел. Мещеряк молчал. Маркел прибавил: – Сабля на твою похожа, но не та. – Спаси Бог тебя за это, что не та, – насмешливо ответил Мещеряк. – Пансырей я не ношу. А шуба как? – Нет, шуба тоже не та. – А та какая была? – Кармазином крытая. На чёрных черевах песцовых. Мещеряк подумал и сказал: – Нет, такой я у него не видывал. – А какие видывал? – Ты что, – грозно спросил Мещеряк, – с меня допрос вздумал снимать? – Да я только так спросил! – Знаем мы ваши «только так»! Наслушались. Да и какое твоё дело, кто из наших что украл и у кого? Это уже наше дело. И наш суд! А вы в наше ни во что не лезьте! Как на Казань идти, так милости прошу, а как пропала шуба, так сразу на дыбу! Да что шуба! Тьфу! Разве я запоминал, сколько у кого из наших было шуб, а у Ермака тем более! Или я их что, считал? Может, у него их было не одна, а три, пять шуб! Да какое мне тогда было до его шуб дело?! Маркел помолчав, сказал: – А зря. То была особенная шуба. Ему её царь передал. Через посольство. Которое от вас к нам в Москву ездило, к царю. Ну! Вспомнил? Мещеряк нахмурившись, молчал. Потом сказал: – Нет, это всё же наше дело. Я пойду к своим и расскажу, что здесь от тебя услышал. А потом вернусь. И помилуй тебя Бог, москва, чтобы это был не оговор – это я про те твои слова, что будто мы у Ермака шубу украли. Сам вот этой вот рукой, смотри, снесу тебе голову, собака! А пока сиди и никуда не выходи. Ну, только если по нужде за угол, понял? Маркел вместо ответа только хмыкнул. Мещеряк поправил шапку, зыркнул – очень злобно, – развернулся и ушёл.ГЛАВА 12
Оставшись один, Маркел долго сидел неподвижно и вспоминал свой разговор с Мещеряком, думал, не сказал ли чего лишнего и не прослушал ли чего важного. Получалось, будто нет. А что тогда, подумал, будет дальше? Да ничего хорошего, потому что власти сейчас в Устюге нет никакой – воевода помер, государев дьяк в отъезде, всем заправляет Мещеряк, и от него же жди суда. Тьфу! Пропади оно всё пропадом! Маркел кликнул Игнаху, потом Костырина, но ни тот, ни другой не отозвался. Маркел вышел накрыльцо и там остановился. День был весенний, тёплый, с крыши капало, двор был весь в грязи вперемешку со снегом, по двору туда-сюда ходили какие-то люди. Чёрт их знает, что им здесь нужно, сердито подумал Маркел, но, помня атамановы слова, с крыльца сходить не стал, а постоял, подышал свежим весенним воздухом и вернулся обратно в избу. Там он лёг на лавку и лежал, думал, куда пропали Игнаха и Костырин, почему не подали обед, на месте ли кистень… Проверил – на месте, в рукаве. Тогда он снял шапку, подложил под голову, закрыл глаза и подумал, что как только закроет, к нему сразу войдут. Но никто всё не входил и не входил. Маркел отлежал бок, лёжа на голой лавке, надо было бы, он думал, перелечь напротив, туда, где овчины, там мягче… Но так, на твёрдом, и заснул. И спал долго, потому что когда проснулся, время было, судя по солнечным пятнам на полу, далеко за полдень. И на крыльцо кто-то всходил. Всходили двое! Маркел вскочил, надел шапку и сел. Открылась дверь и вошёл Мещеряк, а с ним молодой ещё казак, тоже в богатой шубе и с дорогущей саблей. Мещеряк, показав на Маркела, сказал: – Вот, погляди, это Маркелка, стряпчий из Москвы. А это, – продолжал Мещеряк, кивая уже на казака, – наш первый есаул Черкас Александров. Ага, Черкас, тут же вспомнил Маркел Филькины слова, Черкас был в том ермаковском посольстве к царю и знает про царские дары, вот почему он здесь! Атаман и есаул прошли к столу и сели. Маркел смотрел на них, молчал. – Ты у него спрашивай, спрашивай, – сказал Мещеряк Маркелу и указал на Черкаса. – Ты спрашивай, а я послушаю и рассужу. А, подумал Маркел, значит, ты пока ещё не знаешь, чья возьмёт, и это славно. И заговорил конечно же издалека: – Я из Разбойного приказа. С розыском про воровство. Ну, или небрежение по службе. – Какое ещё небрежение?! – сердито удивился Мещеряк. – Ты мне только про крадёж сказывал! – Дойдём ещё и до крадежа, – сказал Маркел. – Всё по порядку. Так вот. Когда у вас там всё в Сибири сладилось и вы Сибирь покорили, послали вы к царю посольство. Атаман Ермак послал! И ты, Черкас, в том посольстве был за писаря. Черкас и Мещеряк переглянулись. Маркел с улыбкой продолжил: – Государю всё известно. А нам уже от государя. Ну да ладно. Так вот, вы прибыли в Москву. И поднесли ясак. Куда вы его подносили? – В Казённый приказ, – ответил Черкас Александров. – Сколько было того ясаку? – Шестьдесят сороков соболей, двадцать черно-бурых лисиц и пятьдесят бобров. – Расписку вам дали? Черкас почернел от злости и признался: – Не давали нам расписки никакой! Мы разве знали? Мы… – Ладно, – махнул рукой Маркел. – Кому сдавали, помнишь? Окольничему Головину? Или дьяку Емельянову, Семейке? – Наверное, дьяку, – ответил Черкас. – Мелкий был такой, вертлявый. – Вот! – кивнул Маркел. – И что дальше? Сдали и поехали обратно? – Нет, нам велели ждать. Ждали на подворье Чудова монастыря, шесть дней. – А потом? – Потом, говорят, одевайтесь во всё лучшее, вас сейчас примут. Мы подумали, что примет царь. Привели нас во дворец, но как-то сбоку. И там в богатой палате нас принял мы сперва не знали кто, ибо он себя не называл, но сидел на очень богатом седалище. И он вот так сидел, а я достал атаманскую грамоту и стал читать: «Царь и великий государь Иван Васильевич…» Но тут этот важный рукой замахал, это место, сказал, пропускай, я же не царь, а только царёв оружничий боярин Бельский всесильный. – Так и сказал «всесильный»? – Да, так и сказал. И я, царский титул пропустив, начал читать дальше, что кланяемся мы, всем войском, Сибирским царством, и к государевым стопам его слагаем, а взамен просим пуль, пороха, пищалей, пушек и другого воинского снаряжения сколь доступно много. Бельский на это нахмурился и ответил, что грамота составлена неверно, ибо мы не на торгу, где вот это-де тебе, а ты дай мне взамен того-то. Надо, сказал, было просто поклониться. Надо грамоту переписать! Мы перепугались и ему на это отвечаем: и как нам теперь быть, обратно, что ли, ехать, подписи ставить? Бельский говорит: не надо. Я, он сказал, когда буду читать государю, это место пропущу, согласны вы на это, казаки? Мы сказали, что согласны. Он ответил: тогда ждите. Мы ушли. Ещё десять дней прождали, монахи на нас уже коситься начали, что объедаем их… И тут зовут нас в архиерейскую келью. Приходим, а там Бельский с архиереем. Бельский сразу: радуйтесь, казаки, государь вашу грамоту выслушал и велел вас всех отблагодарить за службу. И вот от него дары. И тут вносят сундук. Это, Бельский говорит, от государя вашему атаману. Открываем сундук, видим: там сабля и пансырь. Маркел не удержался и спросил: – А шуба? – Про шубу погоди! – ответил Мещеряк. – Будет тебе ещё про шубу! Продолжай! Черкас продолжил: – Мы на саблю и на пансырь поглядели, говорим: а где порох, где свинец, где пушка? Бельский: это также не забыто. Государь посылает вам на подмогу войско воеводы Болховского, там будут и пушки, и порох, и всё остальное. Езжайте в Сибирь и порадуйте своего атамана, что скоро ему будет облегчение. И мы что? С кем спорить? Забрали саблю да пансырь и уехали. – А шуба где? – опять спросил Маркел. – Не было там никакой шубы! – со злостью ответил Черкас. – Такой, как ты сказал, с черевьями песцовыми, крытой, у Ермака отродясь не было! – и даже перекрестился, чтобы было больше крепости в его словах. Маркел глянул на Мещеряка. Тот положил руку на черен сабли. Маркел опять повернулся к Черкасу и продолжил: – Но как так! Я сам в книге читал: шуба камка черевчатая, кармазин, чешуйчатая, кружево и петли немецкое золото, четыре пуговицы дорожёные… – Нет! – громко сказал Черкас и даже ударил кулаком об стол. – Не было у Ермака такой бесовской шубы! Он, что ли, девка продажная, чтобы так рядиться?! У него одна шуба была, медвежья, широченная! Нагольная! Надёжная! Не веришь, покажу! – Как «покажу»? – А так! Айда прямо сейчас ко мне, в Пёсью слободу, я сейчас там стою, у купца Лёпёхина угол снимаю, и там всё ермаковское добро лежит, и шуба там, медвежья! А этого баловства, на песцовых черевах, нет и не было! Хоть всё наше войско опроси. Нет такой шубы кармазиновой! Маркел смотрел на Черкаса и обескураженно молчал. Мещеряк, усмехаясь, сказал: – Вот где надо воровство искать – в Казённом приказе, в Москве. Зажилили шубу, скоты! А ты, дурень, попёрся в Устюг, к честным казакам. Маркел сглотнул слюну и ответил: – Но ведь есть ещё и сабля, и пансырь. Они где? Черкас от спеси аж зарделся и спросил: – Какая сабля? Какой пансырь?! Маркел, облизнув губы, начал называть: – Сабля турская, булатная, по обе стороны от черена до елмана золотом наведена, а в навод слова татарские и травы золотом. Ножны и черен хоз.. И дальше, дальше продолжал. Черкас молчал. Маркел, досказав про саблю, начал говорить про пансырь: – Пансырь немецкий, сбитый в пять колец… – И дальше. Когда закончил, глянул на Черкаса. Черкас нехотя признал: – Были у него такие, да. – А где они сейчас? – спросил Маркел. Черкас посмотрел на Мещеряка. Но Мещеряк тоже молчал. Тогда Маркел во весь голос спросил: – Так где они? Кто их украл? Черкас вздохнул и нехотя ответил: – Может, их и не украл никто. А Мещеряк прибавил: – Может, их с него, как добычу, уже с убитого сняли. – Кто снял? – Мы не знаем, – ответил Черкас. – Нас с ним тогда рядом не было. – А где вы были? Мещеряк утёрся и сказал: – Когда Ермак в тот поход уходил, он на меня Кашлык оставил. И всё войсковое хозяйство. Уходил, на нём был этот пансырь, и с ним эта сабля. А что дальше было с ними, мы не видели. – А кто видел? – Василий Шуянин, второй наш есаул. Он с Ермаком тогда пошёл, в тот поход, за ясаком. – А где тот Василий Шуянин сейчас? – В Сибири, где ещё. И с ним сорок наших казаков. Они ещё зимой туда от нас поворотили. И вот у них надо спрашивать. Пойдёшь к ним в Сибирь? – Пойду, – ответил Маркел. Подумал и опять спросил: – А шуба где? – Ту шубу ищи в казне, – насмешливо ответил Мещеряк. – А Ермакову можешь у Черкаса глянуть. Хоть сейчас. Маркел помолчал, ответил: – Нет, мне сперва нужно подумать. – Ну, подумай. А надумаешь, айда к нам в Пёсью слободу. Мы сейчас там стоим. Пока на Волгу не ушли. Сказав это, Мещеряк поднялся, за ним поднялся и Черкас, они надели шапки, развернулись и вышли. Маркел сидел, смотрел в окно, как там садилось солнце, и не шевелился. Пришёл Игнаха и принёс горячего. Маркел поел, а водку пить не стал, лёг на лавку и ещё крепче задумался. Вот почему, он думал, князь Семён на пансырь да на саблю нажимал – потому что тогда уже чуял, что в Сибири шубы не найти. Да и найти ли остальное? Где она, та Сибирь, и как туда попасть? Он же думал, что пойдёт вместе с казаками, князь Семён же говорил… А Мещеряк сказал, что они уже ушли с этим Шуяниным. Так теперь что, Маркелу одному, что ли, идти? Да никуда он один не дойдёт! Да он даже дорогу не спросит, он же понимает только по-татарски, и то через пень-колоду, а по-пелымски вообще ни слова. И кто там ещё? Вогулы, остяки, зыряне, самоеды… Но зато если решиться да сходить, сыскать те две вещицы, принести их князю да сказать, то, может, он в чём пособит. А в чём, опасливо подумалось, пособить нужно только в одном – извести Гурия Корнеевича, и тогда можно вести Параску под венец, Нюську назвать дочкой, накрыть длиннющий стол и пригласить всех… Нет, тут же подумал Маркел, так не по-христиански, а по-христиански вот как: выпала тебе судьба идти в Сибирь и там сложить свои кости, так что поделать, надобно идти. Но идти смело, с кистенём, и тогда, может, не ты, а кто-нибудь другой свои кости там сложит, а ты вернёшься в Москву, принесёшь чудо-камень манит… Ну и так далее. Эх, маета! Маркел поднялся, сел на лавке и подумал, что чему быть, того не миновать, тогда о чём печалиться, и снова лёг, завернулся в овчины и заснул. Снился ему чёрный человек, он сидел к нему спиной и грыз огурец, грыз очень громко, но Маркел не просыпался.ГЛАВА 13
Утром Маркел только проснулся, как пришёл Игнаха и принёс поесть. Маркел позавтракал. Пришёл Костырин. Маркел сказал, что ему надо в Пёсью слободу к купцу Лепёхину, и сразу спросил, знает ли он такого. Костырин сказал, что как не знать, и усмехнулся. Маркел оделся, и они пошли – вначале из кремля на посад, а потом и вовсе за городские ворота к небольшой невзрачной деревеньке, на краю которой стоял кабацкий двор. Костырин повернул к нему. – Ты куда это?! – сердито воскликнул Маркел. – К Лепёхину, как было велено, – сказал Костырин. – Кабак у нас держит Лепёхин. Тебе его надо самого? – Нет, мне нужен есаул Черкас, который у него угол снимает. – Так и надо было сразу говорить! – сказал Костырин. Зайдя на кабацкий двор, они прошли мимо крыльца, зашли за угол, и там Маркел увидел лестницу наверх, на гульбище. Маркел подумал и сказал Костырину, что тот может идти обратно, а сам стал подниматься по той лестнице. Там, на гульбище, и вправду была дверь, Маркел толкнул её. Дверь со скрипом отворилась. Маркел вошёл в ту темноту, прошёл на ощупь несколько шагов, уткнулся в ещё одну дверь и постучал в неё. Потом начал стучать настойчивей. За дверью шумно завозились, после её чуть приоткрыли, и Маркел в полумраке увидел Черкаса. Тот был в одной длинной рубахе, заспанный, нечёсаный. Черкас, рассмотрев Маркела, сказал пока что постоять и закрыл дверь. Сразу раздался недовольный бабий крик, после ещё раз. Черкас, было слышно, прицыкнул на бабу. В ответ что-то грохнуло, и стало тихо. Маркел ещё немного подождал, дверь снова отворилась. Черкас, уже расчёсанный, в портах и даже в сапогах, кивком пригласил входить. Маркел вошёл. Все окна в горнице были завешены, и оттого было темно. Дух стоял тяжёлый, задохнувшийся, табачный. И ещё вот что: везде было полно мелко исписанных листков – и на полу, и на столе, на сундуке и на лавках. А вот бабы нигде видно не было. – Что это? – спросил Маркел, кивая на листки. – Это наша правда, – строгим голосом сказал Черкас. – Когда всё напишу, тогда спрячу за образа, чтоб они там триста лет пролежали, ну а после пускай люди прочтут, подивятся. – Чему? – спросил Маркел. – Чему-чему! – сердито повторил Черкас. – Много чему! Это только у тебя одно на уме – шуба ермаковская. А вот, кстати, и она! Черкас шагнул к сундуку, открыл его, листки с крышки разлетелись, Черкас потянул шубу за подол и вытащил. Шуба оказалась длинная и широченная, медвежья, мех наружу и мех внутрь, двойная. – Вот каков был Ермак! – сказал Черкас, бросая шубу на стол. – Сам как медведь, здоровенный. А всё равно убили. – Как убили? – тотчас же спросил Маркел. Черкас, будто не расслышав, посмотрел на шубу и прибавил: – Кому её теперь отдавать? Кто его родня, мы же не знаем, он про это никогда не говорил. Да и осталось от него кроме шубы ещё только три серебряных чарочки. – Черкас опять полез в сундук. – Вот эти. И поставил чарочки на стол. Чарочки были как чарочки. Черкас сказал: – Они у него ещё с Волги. Мы из них там пили, когда именитые гости Строгановы позвали нас к себе оборонять их от сибирцев. Сибирцы на них каждый год ходили, грабили. И вот Строгановы и говорят: помогите нам, единоверцам вашим, от агарян отбиться, за благодарностью не постоим. И мы пошли к ним. И отбились бы. Но Ермак, он не такой был, чтобы отбиваться, а он чтобы первым бить! И говорит: давайте, казаки, сами пойдём в Сибирь и там их на корню побьём! Чтоб больше неповадно было! Ну и пошли, и побили. Взяли разного добра не меряно. Но как теперь идти обратно, думаем, ведь потеряем это всё! У нас же ни свинца уже почти что не осталось, ни пороха, и людей мы сильно положили, поистратили. Да и зима уже, все реки стали. Тогда Ермак и говорит: езжай, брат Черкас, на Русь обратно, тайно, ты же у нас самый вёрткий, заезжай в Москву, прямо к царю, и там обещай ему что хочешь, чтобы только он дал нам взамен пороху и пуль, и пищалей, и пушек, и ещё нашим братьям-казакам с Волги пусть дал бы до нас тайной тропочкой пройти в подмогу. Но царь… И Черкас замолчал. Маркел усмехнулся и сказал: – Но царь не дурак, так, да? – Ну, – тоже с усмешкой продолжил Черкас, – царь свою службу знает. И кто мы такие, тоже. И не дал. А даже наоборот, послал к нам войско для присмотра. Вот этим он и пороха не пожалел, и пушек, и свинца – всего. Только ума не дал! Поэтому когда они пришли, воевода князь Болховской их привёл, семь сотен стрельцов, а нас тогда было уже вдвое меньше… И вот они пришли к нам в град Кашлык, бывший Кучумов стольный град, и говорят: ставьте нас на постой, кормите нас! Они же царские люди, а мы кто? Но Ермак им ни слова не сказал, а только велел нам выходить, со всеми нашими припасами, и мы, все казаки, собрались, из Кашлыка вышли, встали на Карачином острове, и там перезимовали. Ох, люто было! Как звери, в землянках жили, на ветру и без острожных стен, а выжили! А стрельцы, что в Кашлыке остались, перемёрли с голоду почти что все, и с ними Болховской. Те, которые из них в живых остались, сразу по весне прислали к нам гонцов и просятся: братцы-товариство, идите к нам в Кашлык обратно, у нас и пороху, и пуль навалом, всё вам отдадим, только примите нас к себе, под свою руку! И Ермак велел принять, и мы опять вошли в Кашлык. Вот так! Черкас вздохнул и посмотрел на Маркела. Маркел спросил: – А дальше что? – Что-что! – сердито повторил Черкас. – Разлюбили нас сибирцы. Это же только с самого начала, когда мы только к ним пришли и прогнали Кучума, они нам в пояс кланялись от радости, а после, чем дальше, тем больше, стали они хитрить, бегать от нас. Татары бегали в степь, а остяки и вогулы в тайгу. Тайга – это дремучий лес, и там поди их отыщи! Да и только сунешься искать, а они тебя заманят и убьют. Много так наших перебили. Если только атаманов посчитать: Никита Пан, Брязга, Кольцо… Один Мещеряк остался. И тут опять дело к зиме, а у нас снова ни харчей, ни пороху. И вот тут вдруг о бухарцах слух. А бухарцы – богатый народ, сытый, и они с сибирцами испокон веку торговлю вели. Их караваны из Степи каждый год в Сибирь ходили, место там есть такое, ярмарка, Атбаш. Очень хороший торг всегда. И тут, слышим, опять бухарцы караваном на Атбаш идут. От нас до того Атбаша вёрст по реке не так и много. Но места очень глухие, недобрые. Ну да что поделать! И говорит Ермак: надо счастья испытать! Собрался и ушёл на трёх стругах, а нас оставил в Кашлыке. Сидим, ждём неделю, вторую. После приходят два струга, из трёх, кричат: Ермака убили, а мы чуть спаслись! Кучум привёл десять тысяч войска! Что мы могли сделать? Вот… Черкас замолчал, утёрся. Маркел спросил: – Как убили? – Каждый по-своему баял, – ответил Черкас. – Не знаю, где правда. Но ладно. И тут дальше было так, что мы и вправду видим: идут татары по реке, и также идут берегом. А эти наши, те, которые от Ермака спаслись, кричат, что у татар уже два хана: Кучум и Сейдяк, Сейдяк пришёл из Мугольской земли, у него войска совсем несчитано! Да мы и сами это видим. А сколько нас тогда осталось? Всего ничего. И ни пуль, ни пороха. А нас там, в Сибири, может, только потому так все боялись, что у одних нас были пули, а теперь у нас их нет. И Мещеряк сказал: уходим. Мы пошли, и только отошли совсем немного, тут нам навстречу Мансуров со своими. Эх, думаем, да если бы мы раньше это знали, про эту подмогу, так, может, вместе заперлись в Кашлыке и отбились бы, а так теперь что! Вот как наши тогда думали, Мещеряку веры не стало, и начали все говорить, что это всё из-за него! Поэтому когда Мансуров объявил, что теперь он будет у нас старшим, мы сошлись на круг и крикнули Мансурова, а Мещеряка ссадили. Ох, Мещеряк тогда разгневался! Он и сейчас, если б мог, Мансурова убил бы! – Теперь не убьёт, – сказал Маркел. – Преставился Мансуров в Вологде. Черкас перекрестился. После нехотя сказал: – Только про то, как мы Мещеряка ссадили, ты никому не рассказывай, не надо. Это я, может, спьяну сболтнул, оговорился. Маркел смотрел на Черкаса, молчал. Черкас ещё подумал и сказал: – А я тебе за это скажу, нет, даже напишу, где и как Шуянина найти. Это второй наш есаул. Он был с Ермаком на Атбаше, и он всё знает. Лучше его никто тебе про это не расскажет! – Ну так давай, пиши, – сказал Маркел. – Нет, я после напишу, – сказал Черкас подумавши. – Я напишу и принесу, не сомневайся. А сам ты ко мне больше не ходи, не надо, ты меня жди у себя, я принесу… Тут Черкас прислушался и оглянулся. Из угла кто-то всхлипнул по-бабьи. Черкас виновато улыбнулся. Маркел махнул рукой, сказал, что будет весь день ждать, надел шапку, развернулся и вышел. Выходя за дверь, отчетливо услышал, как Черкас позвал: – Маланья!..ГЛАВА 14
Маркел вернулся в губную избу, походил из угла в угол, подумал. Принесли горячего, он пообедал, лёг и опять думал всё о том же – о том, что он услышал от Черкаса. А сам Черкас пока не приходил. Отдохнув после обеда, Маркел опять начал ходить по горнице и думать. Когда ему совсем не думалось, он останавливался и смотрел на иконы. После опять ходил. Намаявшись, присел к столу. Тут же вошёл Костырин и спросил, может, ещё куда надо сходить, кого проведать. Нет, ответил Маркел, никуда не надо. Горько на тебя смотреть, сказал Костырин, прямо извёлся весь, надо тебя развеселить. И постучал ладонью по столу. Вошёл Игнаха, достал стаканчик и кости. Маркел сказал, что он на службе не играет, да и к нему должны прийти. – Кто должен? – задиристо спросил Костырин. – Может, этот есаул? Маркел утвердительно кивнул. Зачем он тебе, спросил Костырин. Маркел молчал. Костырин засмеялся и продолжил: – А я знаю! Тебя за ясаком послали. Ты ищешь ясак. – Какой ещё ясак? – опасливо спросил Маркел. – Обыкновенный, сибирский, – ответил Костырин. – Третий ясак, за третий сибирский год. Первый ясак они в Москву отправили, это когда Черкас его возил, второй ясак собрали и свезли после того, как к ним в Сибирь пришёл Болховской со стрельцами. Ну а за третий год, за прошлый, за последний, уже совсем никакого ясака в Москву не было, потому что посылать-то его было уже некому – Болховской помер с голоду, Ермак пропал… – Как это пропал? – настороженно спросил Маркел. – А что? А разве не пропал? – дерзко спросил Костырин. Маркел молчал. Костырин усмехнулся и продолжил: – Ну, или ещё болтают, будто бы его убили, а кто это видел? Васька Шуянин, атаманский казначей? Так Васька горазд сбрехать и не такое. Да и он должен был сбрехать, потому что при ком был ясак? При нём, при Ваське. А потом ясака вдруг не стало! Так и сам Шуянин где сейчас? Да ты только посмотри! Они все оттуда вышли и сидят здесь, у всех на виду, а Васька только сюда сунулся, понюхался – и сразу обратно нырь в Сибирь. И там затаился. С ясаком! Маркел молчал. После спросил: – Ну и что? – Как что! – строго сказал Костырин. – Воровство! И ты по нему приехал, начал Черкаса спрашивать, а тот упёрся и молчит. Так? – Нет, не так, – сказал Маркел. – Ясак – это Казённый приказ, это их дело. А я – это Разбойный. Меня послали дознаться, убит ли Ермак, и если убит, то кто его убил, и того убивца, взяв в железа, доставить в Москву. Костырин смотрел на Маркела, молчал. После сказал задумчиво: – Вот и опять мы на Шуянина вышли. Он, я сам это слышал, рассказывал, что видел, как Ермака убивали. – Как убивали? Кто? – сразу же спросил Маркел. – Про это он рассказывать не стал, – сказал Костырин. – Только сказал, что видел. И перекрестился. Вот его теперь и надо подвести к кресту, и расспросить как следует, с пристрастием! – Его сперва ещё нужно найти, – сказал Маркел. – Это конечно! – воскликнул Костырин. – Да только где его теперь… – Ладно! – перебил его Маркел. – На сегодня хватит. Устал я, голова трещит. Давай это! Где оно?! Костырин тяжело вздохнул и нехотя кивнул Игнахе. Игнаха боком подошёл к столу, сел с краю и достал стаканчик. Маркел по привычке потёр руки. Игнаха побренчал стаканчиком и бросил. И пошла игра. Они играли долго, дотемна, Маркел проиграл восемь копеек, Костырин восемь выиграл, Игнаха остался при своих. Его и отправили в кабак. Игнаха быстро обернулся, сели выпивать. Маркел пил с оглядкой, то и дело пропускал, Костырин над ним посмеивался, быстро охмелел, опять начал поминать Шуянина и говорить, что тот прибрал ясак. Да и как тут было не прибрать, громко продолжал Костырин, и они, казаки, все такие, и такой же был Ермак… Ну и так далее. Много чего Костырин говорил, пока водка не кончилась. После Игнаха убрал со стола, Маркел лёг на лавку, Костырин ушёл. Маркел долго не мог заснуть, лежал, думал о разном, гадал, когда придёт Черкас. Но тот и назавтра не пришёл. Маркел опять играл в кости, проиграл ещё двадцать девять копеек, слушал Костырина, который опять рассказывал о Ермаке и о Кучуме, о Кучумовых сокровищах, которые Ермак спрятал на реке Вагае, на острове, и он туда тогда и ехал, вёз третий сибирский ясак, когда его подкараулили Кучумовы татары, напали на него и его товарищей, и всех перебили ночью сонных, один только казак ушёл… – А вот Черкас, – сказал Маркел, – говорит, что казаков с Вагая возвратилось тридцать сабель, два струга. И все они видели, как Ермака убивали. – А чего тогда они, эти тридцать бугаёв, не отбили атамана своего?! – спросил Костырин. Маркел молчал. Костырин продолжал: – Чего было смотреть? Спасать надо было атамана! Вот какое надо теперь дело открывать, а ты Черкаса ждёшь. Он тебе расскажет! Га-га-га! Отсмеявшись, Костырин поднялся, поблагодарил за хлеб, за стол, надел шапку развернулся и ушёл, насмешливо посвистывая. Игнаха ушёл за ним. Маркел лежал на лавке, думал, что Костырин прав. И так, думая, заснул. Утром, после завтрака, пришёл Черкас. Сказал, что раньше он прийти не мог, был очень занят. Сказал, что они, все казаки, собираются опять идти на Волгу, дорога дальняя, а у них ни стругов, ни харчей, ни зелейных припасов… И сразу же спросил, не передумал ли Маркел идти в Сибирь искать там Василия Шуянина. – Нет конечно, – ответил Маркел. – Да хоть бы и передумал, никто меня об этом спрашивать не станет, я же царю крест целовал. Я не вольный казак. Черкас на это усмехнулся, полез за пазуху, достал небольшую грамотку. Маркел взял её, начал читать… И не смог прочесть ни слова, такая она была мудрёная. Маркел посмотрел на Черкаса. Тот сказал: – Здесь сказано, что я, Иван Александров сын Корсак по прозвищу Черкас, за тебя, подателя сей грамотки, ручаюсь. И что если ты привезёшь эту грамотку тому, кому надо, то чтоб этот тот кто надо отправил тебя туда, куда ты пожелаешь. – Кто этот тот кто надо? – спросил Маркел. – Есаул Шуянин. – Где мне его найти? – Здесь, в грамотке, всё сказано. – Я ничего в ней прочесть не могу. – А тебе и не надо читать. А ты, как приедешь в Чердынь, поспрашивай добрых людей, они тебя и надоумят. – А как мне тех добрых людей сыскивать? – А они сразу видны. И скажи, что тебе нужно на Маметкулову тропу и что ты ищешь Шуянина. А станут спрашивать, кто ты такой, покажи им эту грамотку. Но только в руки не давай! Держи в своих руках, не выпускай! И отведут они тебя к нему, в Сибирь. И вот уже только в Сибири дашь ему эту грамотку и скажешь, что ты от Черкаса. Тогда он тебе всё, о чём спросишь, расскажет. Но сперва тебе нужно попасть в Чердынь. И поскорей! Нам-то что, мы ждём, когда реки вскроются, мы же на стругах пойдём, а тебе что – налегке да посуху! – Да какое посуху! – сказал Маркел. – Ямские не хотят везти. Говорят, распутица. – А ты им скажи, что Матвей Евстигнеевич просит. – Матвей – это Мещеряк? – Он самый. Сказав это, Черкас поднялся, взял шапку. Маркел снова посмотрел на грамотку, спросил: – Что здесь написано? – Это написано Шуянину, и он поймёт. Маркел ещё подумал и сказал: – Я не могу такое брать. Я должен знать, что здесь написано. Я крест на службу царю целовал, а вдруг здесь что против царя замыслено? – Не хочешь – не бери, – сказал Черкас. – Иди на воеводский двор, жди, когда к вам пришлют воеводу, и тот тебя в Чердынь отправит. А из Чердыни уже сам езжай в Сибирь и сам же там Шуянина ищи. Можно и так, а что! Маркел молчал. Черкас протянул руку к грамотке. Маркел прижал её к груди и не отдал. Черкас усмехнулся, убрал руку, надел шапку и сказал: – Вот это верно. Посиди, подумай – и езжай! Когда Черкас ушёл, Маркел опять начал ходить по горнице и хмуриться. Время от времени он останавливался, разворачивал грамотку, смотрел на мудрёные слова и думал: га, найди добрых людей, на краю света, очень ловко! Но куда деваться?! Некуда! Сам крест на службу целовал, никто тебя не неволил. Была не была! И Маркел сел к столу, позвал Игнаху, тот подал горячего, Маркел начал перекусывать. Пришёл Костырин. Маркел сказал, чтоб тот сходил на ямской двор и там сказал, что Матвей Евстигнеевич просит, чтобы к губной избе подали двух добрых коней с подводою, и живо. Ого, только и сказал Костырин, но переспрашивать не стал, а надел шапку и вышел. Пока он ходил, Маркел собрался, и Игнаха собрал ему узел. Вернулся Костырин с санями. Маркел вышел, сел, перекрестился и поехал.ГЛАВА 15
До Чердыни Маркел ехал долго и очень умаялся. Дорога же там была непростая, дремучая, места необжитые, безлюдные. А если где и попадались небольшие деревеньки, то в них жили пермяки и говорили они по-пермяцки, а по-русски понимали плохо. Одно тогда радовало – что погода стояла морозная, ветреная – и снег не таял, ехалось легко. Да Маркел ещё и не скупился, помаленьку приплачивал, проводники довольно усмехались, а после, на ямских дворах, Маркела кормили сытно, наливали ему доверху, стелили мягко. Но всё равно было тоскливо. С утра до вечера Маркел трясся в санях, поглядывал по сторонам, а там были одни только ёлки да ёлки здоровенные, и всё. Так Маркел ехал десять дней, и только уже на одиннадцатый, ближе к полудню, когда тучи развеялись, впереди показались какие-то бугры над лесом. – Что это? – спросил Маркел. – Это Камень, – сказал проводник. – А за ним Сибирь. – А Чердынь где? – А тут внизу. Сейчас из леса выедем, и ты увидишь. Так оно тогда и оказалось – дорога пошла под уклон, начала петлять, потом ёлки расступились, и Маркел увидел впереди, в низине, город. Даже скорей не город, а острог с посадом. Посад был ограждён высоченным крепким тыном, от времени почти что чёрным. Да и весь город был чёрный, снег же там уже сошёл. Также и поле вокруг города всё было в чёрных проплешинах, а дорога к городу – раскисшая, грязная, полозья тут же начали скрипеть по песку. Маркел вылез из саней и пошёл с ними рядом. А он был в валенках, валенки сразу набрякли от воды и начали противно хлюпать. Едрёна вошь, думал Маркел, скорей бы дойти! И дошёл. В посадских воротах их остановили, Маркел показал подорожную и сказал, что ему надо в губную избу. Старший стрелец взялся проводить. Они пошли по посаду. Посад был так себе. Когда шли мимо кабака, там было тихо. Дальше, ещё домов через десяток, посад упёрся в кремль. Они вошли в кремлёвские (острожные) ворота, и там, почти сразу рядом, стояла губная изба. Дверь в неё была закрыта, на замке висела красная сургучная печать. Что это, спросил Маркел. Стрелец ответил, что так надо. И тут же прибавил, что всех, кто приходит сюда, велено отправлять к воеводе. Ну что ж, надо так надо, ответил Маркел, а сам тем временем припомнил, что воевода здесь из худородных, седьмой год сидит бессменно, никто его сменять не хочет, вот он и бесится. Ну да и ладно! Пока Маркел об этом думал, они подошли к воеводским хоромам. Хоромы были неказистые. Таким же неказистым оказалось и крыльцо, такие же и сени, лестница на верх, верхние сени, и даже стрелец с бердышом у двери. Стрелец открыл дверь, Маркел вошёл, поклонился, распрямился и увидел стоявшего перед ним чердынского (правильнее, великопермского) воеводу Пелепелицына Василия Ивановича. Сам из себя он был высок, тощ, остролиц и взгляд имел очень пронзительный. Вот таким взглядом осмотрев Маркела, он спросил: – Ты кто таков? Маркел назвался, показал овчинку. Потом подал подорожную. Пелепелицын прочитал её и с удивлением спросил: – «И далее, куда будет указано», это куда? – В Сибирь. По казённому делу. – А! – радостно сказал Пелепелицын. – По Ермаку! По воровству его! Я так и думал! – Нет, – возразил Маркел. – Не воровал Ермак. А это у него украли. – Ну, это тоже запросто, – сказал Пелепелицын. – Там же у него все воры, до единого. – И тут же спросил: – А что украли? – Две редкие вещицы, – ответил Маркел. – Ему их царь пожаловал. Сабля турская да пансырь немецкий, дорогущий, битый в пять колец. Пелепелицын, помолчав, сказал: – Ну, это пропили, скорей всего. Да и даже если нет, а если в самом деле кто украл, то где теперь это найдёшь? В Сибири моей власти нет. Вон, посмотри в окно. Видишь ту реку перед лесом? Так вот по ней Московское царство кончается, дальше земля уже не наша. – А чья? – спросил Маркел. – Вот в том-то и беда, что ничья, – сказал Пелепелицын. – Была бы чья, договорились бы. Но кому таковская нужна? Не земля, а одни камни! Высоченные горы камней! Туда зайдёшь и сдохнешь с голоду! – Ну, может, оно и так, – сказал Маркел. – А вот я ещё слыхал, что у вас тут разные люди встречаются. Кое-кто из них дальше дорогу знает. Через эти горы. Пелепелицын хищно усмехнулся и сказал: – Да, твоя правда, знали тут одни. А теперь вот на цепи сидят! Вон там! – и топнул об пол сапогом. – А кто это? – спросил Маркел. – Ваши людишки, из губной избы! Губной староста Гаврила Хвощ да Сенька Шишкин, губной целовальник. С народцем из-за Камня снюхались! – А их можно допросить? – Нельзя! – строго сказал Пелепелицын. – Потому что они не по твоему, а по другому делу посажены. И будут там сидеть до Страшного суда! Или пока не отдадут… И замолчал, опомнившись. Маркел спросил: – Чего не отдадут? – Так, ничего, – уклончиво сказал Пелепелицын. – Это уже, как я сказал, другое дело. А нам пока надо твоё решить. Ведь так? Маркел не ответил. Пелепелицын, помолчав, заговорил неспешно: – Вот опять. Никак мне этот ваш Ермак не даст покоя. Да как он только появился, я сразу сказал, что не будет от него добра. От него и от его людишек. Потому что их зачем сюда призвали?! Чтобы они нас, православных, от нечестивых агарян оборонили, а они что?! Где был ваш Ермак, когда татары Маметкуловы у нас здесь под стенами стояли?! Да Ермак как про это узнал, засмеялся и сказал своим ворам: вот и славно, казаки, пока татары будут Чердынь брать, мы мимо них в Сибирь заскочим и пограбим у них всё! И заскочили, и пограбили. А мы здесь не щадя живота своего отбивались. А Ермак в Кашлыке пьянствовал, и кучумовых баб гаремских, а у Кучума был гарем ого какой!.. Ну да! Вот что Ермаку досталось. А нам тут было не до баб! У нас такой голод был, что пожрали всех мышей. А сколько народу татары побили! И нам ничего! А Ермаку, ты говоришь, и царскую саблю, и пансырь. Да он их пропил, конечно, знаем мы этих казаков! А тебя, дурня, послали искать! Ну не смешно ли?! Маркел, помолчав, сказал: – Ладно. Поеду обратно в Москву. Скажу: так, мол, и так… – Э! Погоди! – перебил его Пелепелицын. – Великие дела так быстро не делаются. А посидим ещё, подумаем. Может, чего и придумается. Вот, скажем, есть тут у меня на примете один человечишко, попробуем, возьмём его в расспрос, вдруг он чего да присоветует. Сказав это, Пелепелицын обернулся, хлопнул в ладоши и кликнул Якова. Вошёл Яков, его дворский, и Пелепелицын приказал ему, чтобы послали человека на посад и привели Силантия Безухого. – А ты пока сходи, перекуси, – продолжал Пелепелицын, обращаясь к Маркелу. – С дороги небось голоден, а никто и корки не подаст! И, опять хлопнув в ладоши, вызвал теперь уже Сидора, и тот повёл Маркела на поварню.ГЛАВА 16
На поварне еды было много, и всё это жирное, горячее. Жаль только, хлебного вина не дали. Ну да впереди ещё расспрос, думал Маркел, так что вино ещё рано. Размышляя таким образом, Маркел съел одну миску, взялся за вторую – и только теперь насытился, стал жевать медленно, в охотку. И тут же его начали расспрашивать – конечно, про Москву, про тамошнюю жизнь. Расспрашивал приведший его Сидор, а повара, стоявшие в сторонке, только слушали. Сидор спрашивал про нового царя и как под ним живётся, и вообще сытна ли жизнь в Москве, много ли там порядка или мало, и так далее. Отвечая на всё это, Маркел был осторожен в словах и почти всё московское хвалил, а если и не хвалил, то изъяснялся кратко и уклончиво. Ну а потом и сам спросил, кто такой Силантий Безухий, которого сейчас пошли искать. И вот тут уже и Маркелу было отвечено весьма уклончиво, что есть, мол-де, такой человичишко Силантий, бродяга, креста не носящий, снюхался с казаками, ухо ему где-то в драке отчекрыжили, и это всё. Маркел слушал, примечал: бродяга, без креста, с казаками, ага… Но тут на поварню вошёл Яков и сказал, что нашли Силантия, пора идти. Маркел встал, пошёл. На этот раз его привели уже в другую ответную, она и сама была тесней, и окошко слишком высоко прорублено, и там стояла только одна лавка, на которой уже сидел Пелепелицын. А перед ним стоял самый обычный человек, одетый в посадское, с шапкой в руке. Когда Маркел вошёл, посадский обернулся к нему, и стало видно, что у посадского нет одного уха. Пелепелицын, оборотившись к Маркелу, сказал: – Вот, это и есть тот человечишко. После чего повернулся к Силантию и, уже кивая на Маркела, прибавил: – А это и есть тот важный человек из Москвы, которого надо провести в Сибирь. Силантий глянул на Маркела и сказал насмешливо: – Сибирь большая! – Мне надо в Кашлык, – сказал Маркел. – Я так далеко не хаживал, – сказал Силантий. – А недалеко, это куда? – спросил Маркел. – Ну, через Камень перехаживал… – Ха! Перехаживал! – сердито перебил Пелепелицын. – Перескакивал, лучше скажи! В Пелым бегал! Маметкула вместе с войском на нас из Сибири наводил! – Нет, не наводил! – сказал Силантий. – Наводил! Наводил! Люди видели! – уже почти закричал Пелепелицын. – И я его перехватил, и стал на дыбе поднимать! А он, скотина, упёрся, оттерпелся и три виски молча выдержал. Ну и я что? Отпустил его. Всё по закону! Маркел кивнул – по закону. В четвёртый раз молчащих поднимать нельзя. А Силантий упрямо продолжил: – Наклепали на меня со зла! Не проводил я татарву на Чердынь! И мне Бог за это силу дал, и я, с Его помощью, себя не оговаривал, терпел! – Ага! С Божьей помощью! – вскричал Пелепелицын. – А крест на тебе есть? Покажи свой крест, скотина! – У меня крест в душе, – сказал Силантий. – Знаем мы твою душу, ага! А когда этой зимой Васька Шуянин со своим ворьём мимо нас в Сибирь прошмыгивал, кто ему туда дорогу показал? Это тоже на тебя поклёп? – А разве нет?! – дерзко спросил Силантий. – А меня опять на дыбу подняли! Опять три раза! И что получили?! Пелепелицын, покраснев, сказал в сердцах: – И опять он отмолчался, пёс! Ты представляешь, какой терпеливый! Хоть ты его на ярмарках показывай. – Да, – сказал Маркел. – Бывали и у нас такие. – И, обернувшись к Силантию, спросил: – А меня через Камень сведёшь? – А зачем мне это? – ответил Силантий с насмешкой. Маркел посмотрел на Пелепелицына. Тот засверкал глазами и сказал: – Не сведёшь, опять возьму в железа и прикажу Игнату, чтобы он прибил тебя до смерти, когда будет на дыбу поднимать. – Против Бога идёшь, боярин! – гневно воскликнул Силантий. На что Пелепелицын с усмешкой ответил: – Ну, это мы уже только на том свете наверняка узнаем, кто против кого шёл. А тут велю задушить, и задушит. А вот проведёшь человека в Сибирь, я не только зла на тебя больше держать не стану, но ещё дам три рубля! Силантий посмотрел на Маркела. Маркел как бы между прочим сложил пальцами козу и усмехнулся. Силантий задумался. – Ладно, – сказал Пелепелицын. – Утро вечера мудреней. И кликнул Якова. Когда тот вошёл, Пелепелицын, указавши на Силантия, велел: – Отведи его на низ. Пусть там подумает, охолонётся. И, уже обращаясь к Маркелу, спросил: – А ты как? – И я тоже думаю, что утром будет мудреней, – сказал Маркел. – А пока бы я соснул. И в самом деле, за окном тем временем уже стемнело. Пелепелицын снова кликнул Сидора. Сидор отвёл Маркела на третий жилой этаж, там завёл в славно прогретую каморку, постелил на лавке и спросил, что ему ещё угодно. Маркел спросил, где его узел. Утром принесут, ответил Яков, узел цел. Маркел подумал и сказал, что ему нужны сапоги на смену валенкам. На что Яков усмехнулся и ответил, что в этих местах валенки Маркелу ещё летом пригодятся. Маркел промолчал, насупился. Яков ушёл. Оставшись один, Маркел снял шапку и разулся, лёг и накрылся своей двойной шубой. Шуба, вдруг подумалось Маркелу, летом тоже может пригодиться, если здесь и летом снег не тает. Да только какое лето, прости, Господи! С таким попутчиком дожить бы до полудня. Зверь зверем, а не человек! Или, может, так оно и надо? Какие у Черкаса могут быть товарищи? Вот как раз такие и должны! И Маметкула они поминали. Так что, уже спокойнее подумалось, всё в руце Божьей. Маркел вздохнул, перекрестился, прочёл Отче наш и заснул. Спал Маркел плохо, тревожно, ему то и дело чудилось, будто стучатся в дверь и говорят, что Гурий Корнеевич приехал. Маркел просыпался, прислушивался. Было тихо, только где-то сбоку, далеко, через три стены, не меньше, кто-то очень солидно похрапывал.ГЛАВА 17
Утром Маркел проснулся рано, сидел, ждал. Ему принесли его узел, в узле всё было на месте. Потом Маркел кормился, опять очень сытно. Потом пришёл Яков, сказал, что воевода их благословляет, и вывел Маркела во двор. Там уже стоял Силантий, одетый тоже по-зимнему, и за спиной у него был мешок. Яков сказал, что в мешке их харчи, на неделю. После подошли стрельцы и повели их к острожным воротам. Вели молча. После так же молча вели по посаду, но уже не к тем городским воротам, через которые вчера входил Маркел, а в совсем другую сторону. Поэтому когда те, другие, ворота открылись, то Маркел увидел впереди, над лесом, большие темные бугры. Теперь он им уже не удивлялся, потому что знал, что это горы Камень, за которыми лежит таинственная страна Сибирь. От Чердыни в сторону Сибири вела неширокая тропка притоптанного снега, а всё остальное вокруг было черно от грязи и кое-где серо от прошлогодней травы. Силантий шёл впереди, Маркел за ним. Впереди показалась река, лёд на ней ещё держался. Это была та самая река, которую Маркел вчера видел в окне и про которую Пелепелицын сказал, что на этой её стороне заканчивается Московское царство, а на той начинается ничья земля. Маркел вздохнул. Силантий оглянулся на Маркела, хмыкнул. Тропка вывела на лёд. Они шли по льду, лёд под ногами трескался, поверх льда натекала вода, валенки опять промокли и захлюпали. Сукин сын Пелепелицын, со злостью подумал Маркел, пожалел дать сапоги. Ну да, сразу же подумалось, тут как всегда: что из дому взял, то твоё, а чего не взял, того уже нигде не сыщешь. А Силантий, шедший впереди, был в сапогах, скотина! Разуть его, что ли, с горячки подумал Маркел, но тут же одумался: он ведь тогда не поведёт, значит, нужно терпеть. И Маркел терпел. Шёл, хлюпал. За рекой, на ничейной земле, они опять пошли по сухой снежной тропке, валенки мало-помалу отдавились и подсохли. Прошли ещё примерно с полверсты, тропка стала приближаться к лесу. Лес был густой, дремучий. Силантий вдруг остановился и, оглянувшись, спросил: – Тебя как звать, москва? – Звать Маркелом, – ответил Маркел. И, помолчав, прибавил: – Маркел Петров сын Косой из Рославля. – А как сюда попал? И с воеводой нашим ты как снюхался?! – А тебе какое дело?! – строго спросил Маркел. – Ты крест поцеловал, теперь веди, куда было обещано! Или тебе крест не указ?! Силантий хмыкнул, отвернулся, пошёл дальше. Шёл широко, размахивал одной рукой, а вторую держал в рукаве. Там у него нож, думал Маркел, близко подойдёшь, пырнёт, а подходить не будешь, пырнёт ночью. Ну да, может, Господь вступится, не даст. Вскоре они дошли до леса. Лес был опять одни ёлки. В лесу было полно снега. Силантий походил туда-сюда, нашёл новую тропу, и они пошли по ней. Шли долго, до самого полудня. Потом остановились на полянке, сложили костерок, обжарили горбушки хлеба, перекусили, пошли дальше. День выдался пасмурный, тоскливый, всё время шли в горку, Маркел притомился. Силантий больше не оборачивался и ни о чём не спрашивал. Только когда солнце начало садиться, остановился и сказал, что скоро будет привал,отлежимся. И так оно и случилось – только начало темнеть и подул ветер, погнало позёмку, они зашли за бугор, и там, возле здоровенной вывернутой ёлки, Силантий начал раскапывать руками снег. Маркел взялся ему помогать – и вскоре они прокопали вход в землянку. Силантий первым влез в неё, за ним влез Маркел. В землянке было сыро, но тепло. Силантий высек огонь, зажёг лучину. Маркел осмотрелся. Землянка оказалась маленькая, тесная, половину её занимала лежанка, рядом с ней валялись на полу дрова, а в углу, возле входа, стояла печурка-каменка. На стене при печурке висел котелок. На лежанке валялись овчины. И это всё. Маркел сел на лежанку, а Силантий сперва затопил печь, поставил на неё котелок со снегом, и только уже после этого сел рядом с Маркелом, развязал мешок и стал перебирать припасы. Их было немного. – До Сибири хватит ли? – спросил Маркел. – Нет, не хватит, – ответил Силантий. – Нам дали на неделю хода, а надо было на две. Так что будем прижиматься. – А чья это тропа, по которой мы сегодня шли? – снова спросил Маркел. – Ходят люди, вот и протоптали, – нехотя ответил Силантий. – Что за люди? – А ты что за человек? – Ну, – сказал, усмехаясь, Маркел, а сам зорко глянул, не потянулся ли Силантий за ножом, – я птичка вольная. Одному одно спою, другому другое начирикаю, да так, что даже воевода мне поверит, никуда не денется! – И Маркел негромко засмеялся… Но тут же строго продолжил: – Дело мне надо сделать непростое: найти доброго человека, чтобы он вывел меня на Маметкулову тропу и привёл к Василию Шуянину. – К какому ещё Шуянину? – настороженно спросил Силантий. – К есаулу Ермаковскому казачьего. Он с Ермаком в Сибирь ходил. А поле опять пошёл, уже один, без Ермака, и это ты, так говорят, его туда провёл. А после на дыбе оттерпелся, взял грех на душу, сказал, что не водил! И я про это точно знаю, что водил, но ни словечка воеводе не сказал! Силантий смотрел на Маркела, молчал. Маркел подумал: это он, а кто ещё, всё сходится, и, всё же с опаской, прибавил: – Мне про тебя Черкас рассказывал. Сказал, ты добрый человек, мне пособишь. И ещё вот это дал, для веры. Маркел полез за пазуху, достал грамотку и показал – в своих руках. В землянке было темно, Силантий долго присматривался, щурился, потом сказал: – Она. Маркел убрал грамотку. Силантий нехотя сказал: – Черкас – большая скотина. Чего он за других обещает? А если сам пообещал, так ты у него и спрашивай, а я никуда тебя не поведу! Зачем мне твой Шуянин? – Здесь, в грамотке, всё сказано зачем, – строго сказал Маркел. Силантий громко засопел, отвернулся, глянул в котелок, увидел, что снег там уже растаял, полез в мешок, насыпал в воду толокна, прибавил соли, размешал, попробовал. Маркел смотрел на Силантия. Тот, снова перемешивая кашу, вдруг сказал: – А тебе свезло, москва. Я думал тебя ночью зарезать, да вот грамотка спасла. – Помолчал и со злостью прибавил: – А нас никто не спасал! Не пришли к нам казаки, как обещали! Оно и понятно! Им там, с Чусовой, до Кашлыка было ближе. А к нам сюда пришли татары, царевич Маметкул с ордой, и чуть было Чердынь не взяли. Потом, когда они ушли, наши начали искать, кто их сюда навёл. А я не наводил! Они и без меня эту дорогу давно знают! Она у них так и зовётся: Маметкулова тропа. А что тогда было воеводе царю отвечать – что он дозоров на тропе не выставил? Или что у него своих людей в закаменных улусах нет? Что он Кучуму не указ? И что даже пелымские князьки над ним смеются и каждый год приходят сюда грабить?! Вот и свалили на меня! А я взял да оттерпелся! И опять стал размешивать кашу. От неё шёл сильный дух. Маркел был очень голоден, он даже достал уже ложку. Силантий, это заметив, спросил, а сытно ли кормят в Москве. – Кого как, – уклончиво ответил Маркел. – А баба у тебя есть? – спросил Силантий. – Есть, вдова с девчонкой. – Вдова, – задумчиво повторил Силантий, попробовал кашу, сказал, что готова, и снял её с огня. Они ели кашу, молчали. Потом Силантий вдруг спросил: – А что Черкас, как он? – Сидит в Устюге, – ответил Маркел. – Все они там сидят. Дожидаются, когда лёд сойдёт, хотят на Волгу возвращаться. – А грамотку зачем он тебе дал? – спросил Силантий. – Потому что так надо, – ответил Маркел. – А хочешь, я ночью тебя зарежу? – с усмешкой спросил Силантий. – Хотел зарезать, так давно зарезал бы, не спрашивал, – равнодушным голосом ответил Маркел. – Ох, москва! – злобно сказал Силантий. – Плохо ты ещё людей знаешь! И, облизав ложку, убрал её за голенище. Ладно-ладно, подумал Маркел, и не таких горячих видели, но мы должны терпеть, мы же на службе. Эта мысль крепко в него запала. Он после ночью лежал, слушал, как вверху посвистывал ветер, как в печке потрескивали уголья, и сперва думал то о том, что дорога у него очень длинная, надо запастись терпением, а после о том, что если он не спит, то Силантий, даже если бы и захотел, не сможет бы его зарезать. А Силантий крепко спал, похрапывал и поднывал, ворочался. Насиделся на цепи, осатанел, думал Маркел, ну да ничего, это пройдёт. И сам заснул!ГЛАВА 18
Утром Маркел проснулся оттого, что ногам стало жарко. Ноги как будто горели! Маркел вскинулся, сел на лежанке и увидел, что его валенки упёрлись в печку, а в ней горит огонь. Это Силантий опять варил кашу. Ага, подумал Маркел, глядя на Силантия, не спит, значит, мог убить, но не убил, и это добрый знак. А Силантий попробовал кашу, сказал, что готова. Они молча перекусили, после также молча собрались, вышли из землянки и пошли. Светало. Кругом был дремучий лес, много валежника, идти было непросто. Маркел спросил, сколько ещё будет такого леса, Силантий сказал, что ещё неделю, не меньше. И как здесь народ живёт, удивился Маркел. Народу здесь мало, ответил Силантий. Мы никого ещё не видели, сказал Маркел. И это славно, ответил Силантий. А кто здесь живёт, спросил Маркел. Вогулы, ответил Силантий. Но когда Маркел спросил, кто такие вогулы, Силантий уже не отозвался. Они опять пошли молча. Долго шли по бездорожью, потом повернули на какую-то тропку. Шли всё время на восток и немного на север. Так они шли до полудня, остановились и похлебали горячего. После опять шли молча, выбивались из сил, а когда начало темнеть, нарезали веток, поставили шалаш, перекусили и легли. В шалаше приятно пахло ёлкой. Маркел хотел спросить, понимает ли Силантий по-вогульски, но не успел, потому что сразу же заснул. Ночью ничего не снилось. Утром встали и опять пошли. Шли как кабаны по бездорожью, только треск стоял, и так весь день. Вечером опять поставили шалаш, развели костёр, Силантий опять стал варить кашу, у него был с собой котелок, и соль была. Да у него всё было, он даже дал сапожную иглу, и Маркел подшил валенки, а то они уже начали рваться. И то сказать: такое бездорожье! Потом Маркел спал. Снилось, что он ничего не нашёл и вернулся в Москву, входит к себе, а там за столом, спиной к нему, сидит Гурий Корнеевич! То есть его лица Маркел не видит, а видит только чью-то спину и затылок, но знает, кто это такой, потому что рядом с Гурием Корнеевичем стоит Параска, белая как смерть, и у неё зубы колотятся. А, пёс ты поганый, подумал Маркел, и подскочил, и кинулся на Гурия Корнеевича, замахнулся кистенём… Но тут его схватил Силантий и закричал: ты что, очумел совсем, москва?! Маркел очнулся и увидел, что он лежит на снегу, уже начинает светать, на нём сидит Силантий, держит его и говорит: чего ты, с ума сошёл, из шалаша кидаешься?! Маркел ничего не ответил. И он и дальше молчал, когда собирались и когда вышли, и когда шли, только ближе к полудню остыл и, хоть Силантий ничего не спрашивал, сам начал говорить, что ему приснилась его баба, а с ней её муж, и он, Маркел, хотел того мужа убить! Силантий подумал и сказал: – Это по-нашему! Потом спросил, где тот муж. Маркел ответил, что в Ливонии, в плену, и будет сидеть ещё долго. – Даст Бог, не вернётся, – сказал, как пожелал, Силантий. Маркел на это молча перекрестился. – А я, – вдруг сказал Силантий, – воеводу убил бы, собаку! Это же он велел меня схватить и на меня наговорил, будто это я татар навёл. А что татары?! Они исстари сюда ходили к нам и грабили. И так и в тот раз пришли. – И что, – спросил Маркел, – они шли тут, где мы сейчас идём? – Почти что тут, – ответил Силантий. – Ну и они шли не весной, как мы сейчас, а в конце лета, в августе, у нас здесь тогда самая сушь, и вот они ходят и грабят, а в сентябре уже идут обратно, пока морозы не ударили. И так почти что каждый год, уже можно было бы давно приноровиться к ним. Вот Ермак приноровился же! – А что Ермак? – спросил Маркел. – А то, – сердито ответил Силантий, – что как только Ермак узнал, что Маметкул перешёл через Камень, он сразу всех своих на струги посадил – и айда по Чусовой наверх! А там, где Чусовая кончилась, они пробросали струги, перебежали через верх туда, где на Сибирской стороне у них уже другие, новые струги стояли, назапасенные впрок, и они на них давай грести вниз по Тагилу, по Тоболу на Кашлык! А там Кучум без войска, войско же под Чердынью! И побили казаки Кучума, забрали всю его казну, Васька Шуянин хвастался… И тут Силантий, спохватившись, замолчал. Но Маркел сделал вид, будто ничего не заметил и про Шуянина не расслышал. Силантий ещё немного помолчал и продолжал уже неспешным голосом: – Побили казаки Кучума. Маметкул как про это узнал, сразу Чердынь бросил, побежал в Кашлык, да уже поздно. Вот как Ермак Сибирь добыл – умом! И вот как воевода Чердынь отстоял – тем, что Маметкул сам убежал за Камень. А кому за это отвечать? Силантию! А я… Но дальше говорить не стал, и они снова пошли молча. Ночевали опять в шалаше. Ветер дул сильный, они крепко продрогли. Этот ветер дул ещё два дня. Они шли по бездорожью. Одну ночь ночевали в землянке, вторую опять в шалаше. В лесу стали попадаться сибирские ёлки – пихты, и сибирские сосны – кедры. Под кедрами они искали прошлогодние орешки, орешков было мало, да и те все подпорченные. Видели следы сибирской белки – соболя. А прошли ещё немного, Силантий шёпотом велел остановиться, а сам сошёл с тропы, прошёл боком, по грязи, и показал на самострел в кустах. Самострел был насторожен. Силантий снял с него стрелу, переломил и радостно сказал, что наши где-то рядом, и это очень хорошо. А вот кто такие наши, объяснять не стал. На следующее утро, когда они ещё совсем мало прошли, Силантий снова показал следы. Маркел подумал, что это волчьи, но Силантий сказал, что собачьи, и эту собаку нужно посмотреть. Ты, сказал Маркелу Силантий, иди всё время прямо, а потом остановись, и я тебя скоро нагоню. – А за мной, – строго прибавил, – не ходи! И развернулся, и пошёл в чащобу, по тем собачьим следам. А Маркел пошёл дальше. Вначале в лесу было тихо, а после послышался шум. Чем дальше Маркел шёл, тем шум становился сильнее. А потом, когда уже просто в ушах гудело, он вышел к берегу реки. Река была чистая, без льда, и очень бурная. Это она так шумела. Маркел походил взад-вперёд по берегу, но брода нигде не нашёл. А так в реку соваться было неразумно. Маркел, сел на берегу и принялся ждать Силантия. Ждал долго. Солнце уже начало клониться к вечеру, Маркел продрог на ветру, проголодался, да и в голову стали лезть всякие дурные мысли. И тут как раз показался Силантий. Он шёл первым, налегке, а за ним шёл дикий человек в звериных шкурах, нёс на плече лодку-берестянку, а рядом шла собака. Она была сильно похожа на волка. Когда они подошли, Маркел увидел, что тот дикий человек – краснолицый, узкоглазый и без бороды и усов. Это вогул, сказал Силантий, он нас на тот берег свезёт, у тебя деньги есть? Маркел ответил, что немного есть. Силантий повернулся к вогулу и поговорил с ним о чём-то по-вогульски. Вогул спустил лодку на воду и перевёз на тот берег вначале Силантия, после Маркела. Река была бурная, широкая, лодку кидало очень сильно. Бесовская река, думал Маркел, крепко держась за борта лодки. А когда вышел на берег, отсыпал вогулу полтину. Да ты очумел, сказал Силантий, но деньги у вогула отнимать не стал, а что-то сказал ему, опять же по-вогульски, и вогул поплыл обратно, там его ждала собака. А Маркел и Силантий двинулись дальше. Дальше лес пошёл с проплешинами – то чащоба, то болото, а то березняк. Берёзы были дрянь – кривые, низкорослые. И ещё: теперь горы были и слева, и справа, а впереди тянулась низина, вот они по ней и шли, пока не подошли к ещё одной землянке. Она с виду была очень неказистая, зато Силантий нашёл в ней тайник и достал оттуда два куска вяленого мяса. Это оленина, сказал он, за неё надо что-то дать. Маркел положил в тайник пятиалтынный. Утром они пошли дальше. Маркел спросил, что это за места, и Силантий ответил, что горы слева – это Чувальский камень, а справа – камень Коза-Тумп. После они прошли ещё совсем немного, как впереди опять стал слышен шум. Маркел сразу догадался, что это ещё одна река, и надо будет идти за вогулом. Но на этот раз было иначе – хоть речка была тоже бурная, но зато неширокая, с камнями, и они, держась за руки, боком, пошли вброд и перешли. После развели костёр и долго грелись, а Маркел ещё и валенки оттаптывал, сушил их над огнём и чуть не сжёг. Потом они опять пошли… И вскоре увидели следы, но это были уже человечьи следы, в сапогах. И их было несколько, разных. Силантий нахмурился и сказал, что это неладное дело, но пока ещё можно идти. И они пошли дальше. Теперь тропа тянулась вдоль ещё одной реки даже скорее речки, тоже бурной, на ней было много перекатов. Они по одному из таких перекатов перешли на другой берег, и Силантий велел Маркелу ставить шалаш и разводить костёр, а сам вырезал жердину, привязал к ней нож и пошёл к речке. Там он набил ножом трёх больших рыбин, сказал, что это сибирская рыба, называется муксун, она почти без костей. Они этих муксунов испекли на костре и наелись от пуза. Да, и ещё! А костёр Силантий приказал раскладывать укромно, за камнями, чтобы его со стороны видно не было. И так же, за камнями, невдалеке от костра, Силантий показал землянку. Они туда влезли, Силантий долго принюхивался, морщился, говорил, что чужим духом пахнет. Ночью Маркел спал плохо, несколько раз просыпался, и почему-то боялся угореть. Утром Силантий поднялся мрачный, неразговорчивый. Шли дальше, он молчал и всё посматривал направо, на гору Коза-Тумп. Коза была высоченная, до половины заросшая лесом, дальше начиналась чёрная земля с камнями, а ещё дальше, то есть выше, лежал снег. Силантий сказал, что снег там будет лежать до июля и таять, а после ещё месяц земля будет просыхать, и вот уже только после этого там смогут пройти татары войском. А в сентябре, на Вавилу, там опять зима начнётся, Маметкул в прошлой раз чуть успел перескочить обратно, и то почти всех коней перепортил. Не успел Силантий это рассказать, как они опять увидели человечьи следы, и дальше пошли с большой опаской. А вечером, тоже с опаской, они даже не стали заходить в землянку, а отошли на полверсты, поставили шалаш и заночевали в нём. Спали как убитые. Утром проснулись рано, вышли на тропу. Вскоре тропа немного повернула – и посреди Коза-Тумп-горы открылся, как сказал Силантий, уворот, то есть гора разделилась на две, а между ними стал виден перевал, по которому идти будет намного легче. Но Силантий вдруг остановился и сказал, что он дальше не пойдёт. – А тебе, – он сказал, – что, тебе тут никуда и не свернуть теперь, иди между двумя горами и пройдёшь, тут татары даже конно проходили. – А дальше что? – спросил Маркел. – А дальше тропа пойдёт вниз, это уже будет Сибирь, по Сибири пройдёшь версты три, и слева увидишь землянку. Там живёт дедушка Макар, ты покажи ему грамотку, скажи, Силантий бьёт челом, и он тебе пособит. – А сам ты разве не пойдёшь? – спросил Маркел. – Нет, не пойду, – сердито ответил Силантий. – Хоть убей. – А как же ты тогда крест воеводе целовал?! – А я не целовал, – сказал Силантий. – Отказался я. – А воевода?! – А что воевода! Иди, сказал, чёрт с вами! И что Маркелу оставалось делать? Нет, подумал он, чёрт с вами, а со мной Пресвятая Богородица и Параскина молитва крепкая! И он развернулся и пошёл. И был он тогда злой-презлой. Силантий ему что-то крикнул, он не оглянулся. Дорога всё время шла в гору, земля была сырая, скользкая. Потом эта грязь кончилась, дальше, то есть выше, лежал ещё не растаявший снег. По снегу идти было легче, Маркел даже прибавил шагу. Там-сям из-под снега торчали здоровенные острые камни, и были среди них похожие на чьи-то страшные рожи. Проходя мимо таких камней, Маркел крестился. День был пасмурный, облака висели совсем низко, но дойти до них никак не получалось. К полудню небо понемногу развиднелось. Маркел взошёл на самый верх уворота, остановился и осмотрелся. Слева от него была одна гора, справа другая, сзади тропка шла вниз, на Чердынь и Москву, а впереди была тропка в Сибирь, под гору, к дедушке Макару и в Кашлык. Дорога в Сибирь была в густом тумане. Маркел прочёл «Отче наш», перекрестился и пошёл в туман. Пока Маркел шёл по снегу, идти было весело, а когда снег кончился и снова началась грязь, Маркел быстро утомился, валенки опять промокли, хлюпали, а правый даже немного продрался насквозь, нога мерзла, брюхо подвело, он же не ел весь день… А землянки дедушки Макара всё не было видно. Не обманул ли Силантий, всё чаще думал Маркел…ГЛАВА 19
Как вдруг его окликнули: – Эй, ты! Маркел повернулся на голос. Там из-за камня вышел человек с пищалью и строго спросил: – Ты кто такой?! – Маркел я, божий человек, – примирительно сказал Маркел. Тот, с пищалью, засмеялся и сказал: – Вот сейчас я тебя к Богу и отправлю! – ИТ начал поднимать пищаль и целиться. Тогда Маркел прибавил: – Мне нужен дедушка Макар. Тот человек удивился, опустил пищаль, спросил: – Откуда ты про него знаешь? – Земля слухом полнится, – уклончиво сказал Маркел. Тот человек оглянулся. Из-за камня вышел его товарищ, тоже с пищалью, осмотрел Маркела и пальцем поманил к себе. Маркел подошёл. Тот, второй человек, опять молча, показал куда идти. Маркел пошёл. Так они, по камням и кустам, прошли от дороги шагов с сотню, может, больше, после ещё раз свернули в сторону, где, опять же за камнями, показался ход под землю. Маркела подтолкнули в спину, и он полез в тот ход. Ход был короткий и вывел в землянку. Даже это была не землянка, а целое подземелье – такое оно оказалось просторное, хоть там и было темно и мало что можно было рассмотреть. Маркел только увидел полные мешки в углу, и сундуки, и ещё что-то висело вверху, под потолком. А дальше была загородка, за ней горел свет, и оттуда слышались приглушённые голоса. Царица Небесная, подумал Маркел, спаси и сохрани меня, грешного! Тут его опять толкнули в спину, и он прошёл за загородку. Там вверху горел огонь, а под ним был виден стол, за которым сидели и чинно перекусывали и выпивали с десяток крепких молодцов звероватого вида, а во главе стола, под иконой, сидел маленький благообразный старикашка. Это, как понял Маркел, и есть тот самый дедушка Макар. Дедушка при виде Маркела радостно заулыбался и ласковым голосом спросил: – Где вы этого злодея взяли, голуби? – Шёл от Москвы, – ответил один из Маркеловых провожатых. – Тебя спрашивал. – Меня? – удивился дедушка Макар. Провожатый утвердительно кивнул. Тогда дедушка Макар, посмотрев на Маркела, спросил, кто он такой и что ему здесь нужно. Маркел ответил: – Маркелом меня звать. Иду в Сибирь. Ищу Василия Шуянина. – О! – сказал дедушка Макар и осмотрел своих людей. После, опять повернувшись к Маркелу, спросил: – Зачем он тебе? – Значит, нужен, если я его ищу, – сказал Маркел. – И это верно, – улыбнулся дедушка Макар. – Твоё дело – лишнего не брякнуть. А моё – правду из тебя выпытать. – И громко окликнул: – Василий! Один из Маркеловых провожатых сорвал у него с плеча узел с вещами и положил на край стола. Тот, кто сидел там рядом, этот узел развязал. И все увидели, что ничего там особого нет, а есть только пара чистого нательного белья на случай если вдруг убьют, бритва, дратва, запасные кремень и кресало, подошвы, лезвие для ножика и всякая другая ерунда. Дедушка Макар вздохнул, махнул рукой, чтобы завязали обратно, и спросил: – А сам ты откуда идёшь? – Из Устюга, – ответил Маркел. – От Черкаса Александрова, есаула первого казачьего. – Знаем такого, – сказал дедушка Макар. – А чем докажешь, что ты от него? Маркел полез за пазуху и вынул грамотку, хотел показать в своих руках, но её у него отобрали и передали дедушке Макару. Тот развернул грамотку, повертел её и так и сяк, сердито сказал: – У, как меленько написано! Ничего не разобрать! А вдруг тут против нас что есть?! Ты это читал? – Нет, не читал. Я не могу прочесть, – сказал Маркел. – Черкас нарочно так писал, чтобы только Шуянин прочёл. – А если ты прочесть не можешь, тогда зачем тебе глаза? – спросил дедушка Макар. И тут же прибавил: – А ну! Маркела схватили за плечи, скрутили. Дедушка Макар ещё кивнул. Тот, который сидел с краю, подошёл к Маркелу, одной рукой достал нож, а второй схватил Маркела за волосы, чтобы тот не вертел головой. Да Маркел и не вертел. Он же чуял, что его просто пугают. И не ошибся. Дедушка Макар махнул рукой, Маркела отпустили. Маркел встал прямо, отряхнулся. Дедушка Макар спросил: – А как ты про меня дознался? Тоже Черкас Александров рассказывал? – Нет, – ответил Маркел. – Не Черкас. А Силантий. – Какой ещё Силантий? – Безухий. Из Чердыни. Сказал, что ты мне пособишь. Что ты знаешь, где сейчас Шуянин. – Про Шуянина я знаю, это верно, – сказал дедушка Макар. – Но и Силантий тоже знает. Тогда почему он сам тебя туда не свёл? И где он сам сейчас? Почему он с тобой не пришёл? – Да он хотел прийти, – сказал Маркел. – А потом вдруг что-то передумал и сказал, чтобы я дальше шёл один, что здесь просто идти, а сам повернул обратно. – О! – громко сказал дедушка Макар и осмотрел сидящих. – А когда это было? – Позавчера, – сказал Маркел. – Ха! – сказали за столом. – Знает кошка, чьё мясо съела! – А вот нет! – сказал другой. – А он… За столом заспорили. А Маркел подумал, что они Силантия не очень жалуют, видно, он им чем-то крепко досадил… Как вдруг кто-то громче всех сказал: – А я всё равно не верю! Кривит этот шелудивый пёс, след путает! Порешить его, и все дела! Все опять повернулись к Маркелу. Маркел глаз не опустил, но и ничего не говорил, не оправдывался. И они все, один за другим, стали уже дружно говорить, что Маркела надо порешить, что так оно будет надёжнее. Один только дедушка Макар молчал. Потом он, усмехнувшись, сказал: – И я ему тоже не верю. Но порешить его не дам! Потому что он нам ещё пригодится. Молодцы начали между собой переглядываться, но вслух никто ничего не сказал. Дедушка Макар подал Маркелу черкасовскую грамотку. Маркел, подступив к столу, забрал её и снова отступил. – Да ты садись! Садись! – любезным голосом сказал дедушка Макар. – В ногах правды нет. – И тут же строго прибавил: – А вы что развалились, боровы?! Его молодцы потеснились. Маркел сел. Ему дали миску каши. Маркел снял шапку, достал ложку и принялся есть. Ему подали выпить. Он выпил. Дедушка Макар сказал: – Как ты оголодал, любезный! Ешь, ешь, до Шуянина дорога неблизкая. Маркел продолжал есть. Никто, кроме него, уже не ел, все только смотрели на него. Дедушка Макар благостно улыбался. А когда Маркел всё съел, велел ему добавить. Маркел опять взялся есть. Дедушка Макар то смотрел на Маркела, то оглядывался себе за спину и что-то невнятно приговаривал. Маркел как бы между прочим присмотрелся и увидел, что там, в углу, на сундуке стоит небольшая клетка, а по ней бегает маленький зверёк, похожий на белку, даже скорей на куницу. Глазки у зверька сверкали, шерстка лоснилась. – Что, – спросил дедушка Макар, – раньше ни разу не видел? Маркел ответил, что не видел. Дедушка Макар обернулся и выставил клетку на стол. Зверёк замер, принюхался, показал остренькие зубки. – Соболь? – спросил Маркел. Дедушка Макар кивнул и постучал ногтем по клетке. Соболь опять забегал взад-вперёд, стал биться в прутья, грызть их. – Но-но, – строго сказал дедушка Макар. – Не балуй, а то шкуру спущу! Государю царю на ясак! И засмеялся. За ним засмеялись его молодцы. Маркел смотрел на соболя и не смеялся. Соболь притих, отвернулся. Дедушка Макар убрал клетку со стола и, опять глядя на Маркела, заговорил: – Неблизкая тебе дорога будет. И всё среди чужих людей. Не знаю, что тебя туда несёт, ну да в жизни всякое случатся. Да и если Силантий за тебя просил, и если Черкас, то как тут откажешь? Так вот! Завтра придут ко мне сюда людишки, и я их попрошу, чтобы они тебя взяли с собой. Эти людишки эту землю знают. Каждую тропку и каждую ёлку! Ты им только не перечь ни в чём, и тогда всё будет славно. Ну а начнёшь перечить, тогда уже не обессудь! Уяснил? Маркел кивнул, что уяснил. – Ну да я думаю, – тут же прибавил дедушка Макар, – что ты молодец ловкий, разумный, вон и у тебя в правом рукаве кистень припрятан, но ты же его не достаёшь, и это правильно. Маркел хотел что-то сказать, да поперхнулся. Дедушка Макар продолжил: – А вот обувка у тебя совсем дрянная, её надо сменить. Игнат! А ну подай нам сапоги вчерашние! Они ему должны быть впору. Один из молодцов поднялся и пошёл куда-то в темноту. – И полушубок лёгкий принеси! – велел ему вдогонку дедушка Макар. А повернувшись к Маркелу, прибавил: – А то куда тебе в таком! Сопреешь. Ведь пока туда доедешь, будет уже лето. – Лето? – озадаченно переспросил Маркел. – А ты как думал! – с гордостью ответил дедушка Макар. – Это же тебе Сибирь, а не Москва. Тут же в любую сторону три года ехать не доехать. – И вдруг спросил: – А ты в Москве бывал? Маркел подумал и сказал: – Бывал. – То-то я слышу, говор к тебя не наш! – радостно воскликнул дедушка Макар и сделал знак налить Маркелу. И пока Маркелу наливали и он пил, дедушка Макар ещё прибавил: – А Москва, она сильно большая? – Поменьше Сибири, конечно, – ответил Маркел, – но и побольше Чердыни. Раз в двадцать! – Э! – только и хмыкнул дедушка Макар. – Ну ладно. А царя там видел? – Самого царя не видел, нет, – сказал Маркел. – Только видел, как люди на него смотрели. Толпища там тогда собралась страшная! А какая была давка! – Ну, не знаю, – сказал дедушка Макар. – Я бы не стал давиться. Молод у нас нынче царь, несамовитый. Вот прежний царь великий князь был самовитый! – И он опять кивнул налить. Налили, Маркел выпил. Дедушка Макар продолжил: – Прежний царь, Иван Васильевич, вот то был настоящий царь! И девок у него было гарем, и на войну ходил, татарам головы рубал, а приезжал домой – рубал боярам. А ты у которого боярина служил, он тому тоже рубал? – Нет, – ответил Маркел, выпивая ещё одну чарку и глядя, как ему наливают вторую. – Моему боярину он не рубал. Нет надо мной боярина! Я вольный человек! – Перекрестись! – Так некрещёный я. – Как? – Так! Вот крест! – и Маркел засмеялся. И все засмеялись. – Я, – уже серьёзным голосом сказал Маркел, – иду из Устюга. Меня Черкас послал к Шуянину. Надо один товар Шуянину продать. – Какой товар? И где он? – Он пока что ещё в Устюге, – без особой охоты ответил Маркел. – А какой это товар, я вам открыть не могу. – И, осмотревшись, негромко прибавил: – За такой товар с дыбы не слезешь! – Порох, что ли? – спросил дедушка Макар, и глаза у него засверкали. – Мы не бабы, мы гадать не будем, – строго сказал Маркел и поднял чарку. А когда ему налили, выпил, широко утёрся рукавом и вольно осмотрелся. – Ну, голубь! – сказал дедушка Макар. – Если ты мне накривил, я с тебя шкуру сниму с живого! Вот тебе на этом крест! – и перекрестился. А потом повернулся к тому молодцу, которого он посылал за вещами, и велел показывать. Тот показал. Маркел снял валенки, примерил сапоги. После примерил шубу. Шуба была лёгкая, лисья. И сапоги, и шуба оказались впору. – Вот и славно, – сказал дедушка Макар. – До Шуянина будет как раз. И завтра к нему и поедешь. А по дороге заглянешь в одно местечко. – В какое? – настороженно спросил Маркел. – Там увидишь, – сказал дедушка Макар. – Или, может, не тебя туда послать? А, может, тебя? – спросил он у одного из сидящих, и тот аж отшатнулся. – Или тебя? Или тебя? Или тебя? – И каждый раз тот, на кого он показывал, крепко пугался. Дедушка Макар, этим натешившись, сказал своим: – Вот так-то, голуби! Я же говорил, что этот человек нам очень пригодится, а вы: «порешить, порешить!» Надо будет – порешат без нас. А пока пора честь знать, скоро людишки приедут, а мы к ним ещё не приготовились. А ты, голубь, – сказал он, поворотившись к Маркелу, – на нас не смотри, ты с дороги, тебе нужно отдохнуть. Игнат, положи гостя спать! И опять тот самый молодец завёл Маркела за ещё одну загородку и там посветил и постелил. Маркел лёг. Игнат задул огонь и вышел. А Маркел ещё долго лежал и не спал, всё прислушивался, как ходят за стеной, как что-то носят, перетаскивают, а после подумал, что всё равно ничего не выслушаешь, а что на роду написано, то завтра и будет – и, перекрестившись, заснул.ГЛАВА 20
Утром они пораньше проснулись и только сели перекусывать, как вошёл караульный и объявил: идут! Все сразу начали вставать и выходить из-за стола, брать стоявшие в углу пищали, и тут же, в землянке, заряжать их. Маркелу тоже досталась пищаль, но зарядов к ней не дали, сказали, что ему пока и так сойдёт. Маркел спорить не стал и вместе со всеми вышел наверх. Наверху было уже светло. Они выступили из-за камней на свободное место. Их было десять молодцов с заряженными пищалями, Маркел с незаряженной и дедушка Макар с саблей и в высокой куньей шапке, почти как боярин. И вот что ещё: и сам дедушка Макар, и все его молодцы смотрели куда-то вперёд вниз, в долину на сибирской стороне. Маркел тоже туда глянул и увидел, что там по тропе между камнями идут люди. Их было не меньше двух десятков, и это, как догадался Маркел, были вогулы, потому что они были одеты в шкуры и каждый держал в руке копьё. Тропа, по которой шли вогулы, поднималась вверх. Маркел внимательно смотрел на вогулов, ему хотелось рассмотреть наверняка, что у них за плечами торчит, не луки ли. Маркел обернулся и хотел спросить… Но тут вперёд, и прямо перед ним, вышел Игнат с длинным шестом, на конце которого была привязана красная тряпица. Игнат громко крикнул «гай! гай!» и начал трясти шестом. Вогулы в ответ замахали руками и прибавили шагу. Тропа завернула за камни, вогулы стали пропадать из виду. Маркел оглянулся. – Сейчас они опять появятся, – сказал один из молодцов и поставил пищаль прикладом на землю. И все остальные так же сделали, а с ними и Маркел. А вогулы тем временем начали выходить из-за камней теперь уже намного ближе. То есть шли они довольно быстро, и Маркел уже мог хорошо их рассмотреть. Они и в самом деле были с копьями и с луками. А ещё они были без шапок, волосы у них были завязаны в косички. Маркел обернулся и спросил: – Это вогулы? – Да, – ответили ему. – Только они пелымские. Пелымские, про себя повторил Маркел, вспомнил Мансурова и помрачнел. А вогулы уже прошли последний поворот и начали выходить из-за ближайших камней. Первым вышел вертлявый вогул, он беспрестанно что-то приговаривал, а может, пел, и он был без оружия. Следом за ним шёл сердитый старик в толстом кожаном пансыре, в одной руке у него было белое копьё, а за спиной длинный лук, тоже белый. Это их князь, догадался Маркел. За князем шли его воины, все, конечно, с луками и копьями. Они выходили из-за камней, останавливались посреди площадки и настороженно смотрели на наших. Наши стояли вольно, но с пищалями, и усмехались. И вот все вогулы пришли и молча столпились большой кучей. Впереди них стоял их князь, или просто самый старший, и грозно поглядывал по сторонам. Впереди наших стоял дедушка Макар, а возле него Игнат с шестом. Дедушка Макар заговорил, конечно, по-вогульски. Потом приложил руку к груди и кивнул головой. Вогульский князь тоже кивнул и повернулся к безоружному. Безоружный начал говорить и говорил быстро-быстро, потом замолчал. Дедушка Макар посторонился и показал себе за спину. Там стояло несколько мешков, приваленных к камню. Вогулы смотрели на мешки, но не подходили к ним. Дедушка Макар махнул рукой, один из наших подошёл к мешкам и уже начал их развязывать, но тут старый вогул что-то гортанно выкрикнул, и наш отступил. Старый вогул ткнул пальцем в безоружного, и тот опять заговорил, но теперь он говорил медленно, с достоинством. Потом старый вогул сделал знак – и от вогулов вышел один рослый воин и вынес, и поставил на землю большой и высокий мешок. Но этот мешок, сразу видно, был лёгкий. Старый вогул велел – и воин развязал мешок. Дедушка Макар выступил от наших, подступил к мешку, заглянул в него и заулыбался. После даже сунул в мешок руку, пощупал, что там, и ещё сильней заулыбался. Старый вогул что-то сказал. Дедушка Макар вынул руку из вогульского мешка и кратко, но очень довольным голосом ответил, а после обернулся и по-нашему велел: давайте! Наши стали выносить мешки и ставить их рядом с вогульским. Одни наши мешки были лёгкие, другие тяжёлые, а некоторые из них при этом ещё и погромыхивали по-железному. Маркел насторожился и подумал: это не к добру. Старый вогул степенно подошёл к нашим мешкам, наши ему их поочерёдно открывали, он в них заглядывал и хмурился. Осмотрев все мешки, старый вогул ещё сильней нахмурился и даже недовольно выпятил губу. Потом что-то отрывисто сказал. Дедушка Макар аж покраснел от злости, но повернулся к нашим и сердито повторил его слова. Один из наших заступил за камни и вытащил оттуда ещё один мешок. Мешок был неширокий, но длинный, из него торчали жерди, и он был в нескольких местах туго перевязан сыромятными ремнями. Старый вогул при виде этого мешка повеселел и о чём-то также весело спросил. Дедушка Макар развёл руками. Вогул разгневался и отвернулся. Тогда дедушка Макар воскликнул что-то очень важное, старый вогул вновь обернулся к нему, а дедушка Макар указал на Маркела и стал что-то рассказывать и даже размахивать руками. Старый вогул внимательно поглядывал на Маркела и молчал. Потом кивнул на безоружного. Безоружный подошёл к Маркелу и взялся за пищаль. Маркел оттолкнул его. Безоружный отступил. Дедушка Макар что-то сказал ему, а потом, обращаясь к Маркелу, заговорил уже по-нашему, понятно: – Я им сказал, что ты хороший человек, и им поможешь. А они сказали, что за это отвезут тебя к Шуянину. Как ты того и желал! Так что давай, собирайся. Маркел оторопел. Да как это, подумал он, и осмотрелся, один, что ли, с вогулами, с чертями этими?! И он снова повернулся к дедушке Макару. Тот сказал: – Езжай, езжай, не сомневайся! Они сейчас едут к себе, тут близко за горой река, а после свезут тебя дальше, по той же реке, и там сидит твой Шуянин. А река быстрая, шумливая, за неделю как птичка домчишь! – А… – начал было Маркел. Но дедушка Макар уже перекрестил его, сказал: – Христос тебе храни! И Пресвятая Богородица! И, повернувшись к старому вогулу, опять стал говорить по-вогульски. Старик слушал его и кивал. Маркел крепко прижал пищаль к груди и осмотрелся. По вогулам ничего нельзя было понять, а наши смотрели на Маркела весело. Ну, ещё бы, подумал Маркел, не приди он вчера к ним, послали бы кого-нибудь из них. И он хотел уже сказать об этом вслух, как тот безоружный вертлявый вогул опять подступил к нему. Маркел вцепился в пищаль ещё крепче и повернулся к дедушке Макару. Но тот смотрел не на него, а на вогулов, которые уже обступили наши мешки и разбирали их, и поднимали на спину. А наши уже обступили вогульский мешок и стали рассматривать, что в нём и даже совать в него руки. Вертлявый опять потянулся к пищали. Маркел снова его оттолкнул. Вертлявый что-то выкрикнул, к нему сразу кинулись его товарищи и тоже начали хвататься за пищаль. Маркел вырвался от них и уже замахнулся прикладом… Но ударить не успел, потому что подбежали наши и удержали его. Вертлявый и его вогулы отступили. А дедушка Макар, а он уже был тут же, рядом, укоризненно сказал: – Зря ты, Маркелка, с ними так. Они люди тёмные, но мирные. – И тут же прибавил: – А это отдай! Не твоё! – и потянулся к пищали. Маркел отпустил её. Дедушка Макар забрал пищаль и, опять же не по-нашему, что-то прокричал вогулам. Те молчали. – Вот и славно, – сказал дедушка Макар. – Они на тебя зла не держат. Иди! – и стволом пищали подтолкнул Маркела в сторону вогулов. Но Маркел упёрся и сказал: – А где мой узел? Как мне теперь одному без узла?! Дедушка Макар беззлобно засмеялся, обернулся к нашим и велел подать. После сказал что-то по-вогульски. Вогулы смотрели на Маркела, ждали. Псы поганые, думал Маркел, чтобы вы все передохли, нелюди! Один из наших протянул Маркелу его узел. Припасли заранее, скоты, с большой злостью подумал Маркел, закидывая узел на плечо, и посмотрел на вогулов. Те уже построились гуськом. Вертлявый завёл Маркела вперёд, поставил его сразу за старым вогулом, старый вогул махнул рукой – и они, и Маркел с ними, пошли обратно вниз с горы. Маркел шёл, поглядывал по сторонам, на горы, на кусты с боков тропы, на торчавшие из земли камни, похожие на бесовские рожи, а вот оборачиваться на дедушку Макара и его людей ему совсем не хотелось. Да и чего он там не видел, думал Маркел злобно, как они вогульский мешок треплют, что ли, и как дедушка Макар им не даёт его, бьёт по рукам. Ну ещё бы! Там же соболя, конечно, и в такой мешок их можно засунуть да хоть восемь сороков, не меньше, а после тайно свести в Устюг, а из Устюга опять же тайно в Новгород, а после в Иван-город, а оттуда через реку ночью в Нарву, а оттуда… И какие за это деньжищи! Зато если поймают, то сдерут со спины кожу, вырвут пальцы, вырежут язык, чтобы не рассказывал, где взял… Ну и так далее, подумал Маркел уже без всякой злобы, да и его не за этим сюда посылали, этим пусть другие занимаются, а он идёт с вогулами, а после они поплывут по реке, плыть неделю, плыть вниз по течению… А по какой реке? И правда ли, что надо по реке? У кого теперь спросить? По-вогульски он не понимает, а по-татарски у кого спросить, кто здесь умеет по-татарски? Да и поможет ли это? Потому что мало ли что дедушка Макар им про него нагородил, ему скривить – раз плюнуть. Продал Маркела, сволочь, как коня на ярмарке! Подумав так, Маркел аж головой мотнул, так ему тогда стало досадно.ГЛАВА 21
Шли они долго. Молчали. Тропа спускалась вниз, в туман. Когда дошли до тумана, он рассеялся, а тропа стала подниматься вверх, между двумя горами. Солнце уже перевалило за полдень и то выходило из-за туч, то опять скрывалось. Маркел притомился. Но вогулы и не думали делать привал. Старый вогул, идущий впереди, даже не оглядывался. А вертлявый шёл рядом с Маркелом и иногда на него пристально поглядывал, но ничего не говорил. Чем выше поднимались в гору, тем тропа становилась грязнее, сверху же текла вода от тающего снега. Хорошо ещё, думал Маркел, что у него отобрали пищаль, а так бы сейчас тащил её, такую тяжеленную, и проклинал, потому что какой от неё толк, от незаряженной? И тут же подумалось: а что у них в том длинном мешке с жердями, уж не вторая ли пищаль? Но если это так, и если об этом где надо дознаются, то дедушке Макару мало не покажется, тут уже и голову отрубят запросто! А что в других мешках, в которых железо погромыхивало? Там, наверное, чурки железа, вогулы отнесут их своим кузнецам, те им ножей, серпов, шил, кос, вил или чего ещё наделают. А в других, лёгких мешках, лежат, скорей всего, где бусы, где платки, ленты, серьги, колечки и прочая мелочь. И за всё это платили соболями! А это разбой! Это нельзя! Никакая шкурка мимо государевой казны пройти не может!.. Но, тут же спохватился Маркел, всё это не его забота, а его забота – это царская сабля и царский же пансырь, вот что он должен возвратить в казну под запись, а всё остальное его не касается, на это царь найдёт других людей, а Маркел должен искать то, что ему велено. И он же ищет! Вот что тогда думал Маркел, а они поднимались всё выше и выше. И вот они уже взошли на самый верх тропы, на перевал, снегу там было ещё много, и горы по бокам были в снегу, а тропа спускалась прямо вниз и забирала чуть вправо, и там, уже ниже снегов, в грязи, был виден маленький ручей. Они к нему и свернули. Теперь они шли быстрей, радостней. Маркел тоже прибавил шагу. Когда дошли до ручья, старый вогул поднял руку с копьём, и все остановились. А он начал что-то выкрикивать, и все остальные стали понемногу приплясывать. Один Маркел стоял неподвижно. Тогда вертлявый начал дёргать его за рукав и повторять: «давай! давай!». Чёрт его знает, в честь чего это, сердито подумал Маркел и не приплясывал. Вертлявый разозлился, стал дёргать сильнее. Но тут старый вогул замолчал, все перестали приплясывать и, наклонившись кто как мог, стали пить из ручья. Маркел тоже приложился. Вода оказалась холодная, чистая, вкусная, Маркел пил с удовольствием. Потом старый вогул махнул копьём, и все пошли дальше. Шли всё время вдоль ручья. Ручей становился всё шире. Так они шли ещё не меньше часа, а потом завернули за угол очень большого камня, и за ним Маркел увидел лодки, лежащие на берегу, а возле лодок стоял сторож, тоже вогул конечно же. С собакой. Собака увидела Маркела и поджала хвост. Маркел посмотрел на лодки. Они были крепкие, долблёные. Но все пошли не к лодкам, а дальше, за камень. Там, на другой стороне камня, была вырезана страшная бесовская рожа с толстыми губами. Вогулы встали перед ней на колени и начали вразнобой что-то приговаривать. А Маркел на колени не встал. Но теперь его никто не дёргал, всем было не до него. Все кланялись роже, мотали головами и приговаривали «поэм! пым! поэм! пым!». Потом старый вогул встал с коленей, достал нож, порезал себе руку и стал этой кровью мазать бесу губы. Потом также сделали другие. А потом вернулись к лодкам, столкнули их в ручей и поплыли, отталкиваясь вёслами от дна. Маркел плыл на третьей лодке, вместе с вихлястым и ещё тремя вогулами. Маркелу не дали весла, он сидел и смотрел по сторонам. Смотреть было страшновато, потому что ручей был очень быстрый и в нём было много камней, вода возле камней бурлила, вот лодка и болталась как скорлупка. Маркел то и дело крестился. Так их трясло довольно долго, уже начало смеркаться. Маркел думал, что сейчас они сделают настоящий привал, перекусят и лягут поспать. Но старый вогул, а он плыл на первой лодке, опять даже не думал оборачиваться, и они плылии плыли. Берега ручья были с обеих сторон высокие и густо засыпанные камнями. Да и в самом ручье камней тоже хватало, лодку кидало с боку на бок. Маркел читал про себя Отче наш. Вертлявый иногда вдруг приговаривал «речка!» и скалил зубы. Зубы у него были мелкие, изъеденные. Маркел не сдержался и спросил, понимает ли вертлявый по-нашему. Но тот в ответ только ухмыльнулся и ничего не сказал. Значит, понимает ирод, подумал Маркел, а вот говорить почему-то не хочет. Или ему не позволяют. Тем временем совсем стемнело, но гребцы продолжали грести, правильней, отталкиваться вёслами. Но вот, наконец, впереди закричали. Потом там показался огонь. Лодки, подплывая к нему, останавливались, и вогулы выходили на берег. Вышел на берег и Маркел, и сразу увидел ещё одну рожу, выбитую в камне. Под рожей горел огонь, возле огня стоял сторож. И опять старый вогул начал размахивать копьём, а все остальные пританцовывать и напевать о чём-то. Потом роже поднесли дары – бусы, ленты, бубенцы и ещё какую-то мелочь. Это они у дедушки Макара наменяли, подумал Маркел, а вот железа не дают, оно им самим сгодится. Вдруг крепко запахло рыбами. Это сторож выставил их целую корзину. Вогулы разбирали рыбу, тут же разрывали на куски и прямо сырьём ели. А Маркелу дали прут, он наколол на него свою рыбу, немного обжарил на костре и, полусырую, съел. Потом начали укладываться спать. Ложились прямо на голую землю. А Маркела отвели за камень и приказали лезть в шалаш. Маркел залез, зарылся в ветки и подумал: дикари какие, и ничего их не берёт, как это Ермак с такими воевал? А как Шуянин воюет? Или его давно уже убили? Как после убьют и Маркела. Ну а пока не убили, надо ехать дальше и искать царские вещицы, а найдя, вернуться и сказать князю Семёну… И Маркел заснул. Вначале ему снилась Параска, но потом она пропала, и стало сниться только то, как его хотят убить и съесть сырого. От таких мыслей спалось очень плохо. Зато проснулся живой, и от этого на душе сразу стало весело. Но веселиться было некогда, потому что вогулы уже рассаживались по лодкам, вертлявый прибежал и стал кричать: – Чердын! Вставай! Лодка бежит! Скорей! Понимает по-нашему, чёрт, радостно подумал Маркел, вылезая из шалаша. Вертлявый тоже улыбался, взял Маркела за руку и потащил к лодке. Они быстро отчалили и также быстро поплыли. Маркел искоса поглядывал по сторонам. Речка уже стала настоящей рекой. По обеим берегам рос густой лес. Вертлявый долго молчал, а потом вдруг сказал: – Ты, чердын, больше не бойся. Наш бог тебя принял. Теперь хорошо! – Как это принял? – настороженно спросил Маркел. – Так принял! – ответил вертлявый. – Не убил! А мог убить! – За что? – спросил Маркел. – А просто так, – важным голосом ответил вертлявый. – Глазом моргнул, губой дыхнул, и ты в ледышку превратился. Он это умеет! А тебя пощадил. Поедешь дальше. – А это куда? – спросил Маркел. Но вертлявый уже ничего не ответил, а, как глухой, смотрел в сторону. Так они плыли полдня. Потом вышли на берег, к ещё одной каменной роже, поклонились ей, поднесли дары, подкрасили бесовские губы своей кровью и поплыли дальше. Маркел спросил: – Долго ли нам ещё плыть? Вертлявый подумал, потом поднял кулак и начал разгибать пальцы. Разогнул четыре. – И что там? – спросил Маркел. – Город, – нехотя ответил вертлявый. – А кто в городе? – Аблегирим, большой князь. – А этот тогда кто? – И Маркел указал на старого вогула впереди. – Малый князь, – ответил вертлявый и презрительно поморщился. – А ты кто? – Поркоп, – сказал вертлявый. – А где ты научился по-нашему? – Я же говорю, что я Поркоп! – сердито ответил вертлявый. – Меня на вашей стороне крестили. Назвали Поркоп. А я убежал. Давно уже! – И засмеялся. А Маркел подумал, что Поркоп – это, наверное, Прокофий. Плыли дальше, река становилась всё шире и глубже. Гребцы уже не отталкивались веслами от дна, а гребли по-настоящему. И так гребли до самой ночи, после опять причалили возле бесовской рожи, и вогулы все вместе поели сырой рыбы, а Маркела отсадили отдельно и развели ему отдельный костёр. Он сам себе нажарил рыбы и поел, потом также отдельно лёг в шалаш, зарылся в ветки и заснул. А утром они опять поплыли. Поркоп молчал. Тогда Маркел сам спросил, почему к нему никто не подходит и не заговаривает с ним. – Потому что боятся, – ответил Поркоп. – Чердынские люди, они все шайтаны. – А куда меня везёте? – спросил Маркел. – Покажем большому князю, – нехотя ответил Поркоп. – Если ты ему понравишься, он возьмёт тебя к себе и отведёт на молельное место. А если нет, прогонит дальше по реке. – А кто дальше по реке живёт? – Раньше жили всякие. А теперь поселился один ваш. Казак Васька называется. Маркел радостно усмехнулся и подумал, что это, наверное, про Василия Шуянина сказано. Значит, дедушка Макар не накривил, и они пока что правильно плывут, так что теперь только одна забота – не приглянуться вогульскому князю, чтобы он не отвёл на молельню, а то это как-то недобро звучит – «отвести». И Маркел крепко об этом задумался, думал весь день. Также и Поркоп молчал. Вечером пристали к берегу, перекусили, легли спать. Утром проснулись и поплыли дальше. Плыли очень быстро и почти без остановок: утром, как только взошло солнце, сели и гребли до полудня, в полдень пристали, наскоро перекусили и гребли дальше, пока солнце не зашло. А в мае месяце дни длинные! А река становилась всё шире и шире. По обоим берегам стоял густой лес, и нигде не было видно никакого жилья. Маркел спрашивал, неужели здесь никто не живёт, на что Поркоп отвечал, что, конечно, живут, но зачем это показывать? Будешь показывать, злые люди про тебя узнают, придут и убьют тебя, и всех твоих родичей убьют, и всё твоё добро пожгут. – Или пограбят, – прибавил Маркел. – Зачем грабить? – удивился Поркоп. – У них и так всё своё есть. Им только одно надо: чтобы ты их рыбу не ловил, их зверя не стрелял и их самих не убивал. Вот чего злые люди хотят! – А большой князь чего хочет? – А! – засмеялся Поркоп. – Большой князь совсем ничего не хочет. И он не боится, что ты его убьёшь. У него крепкий дом, ты в него не войдёшь! И тебя убьют, если полезешь! Но мы не полезем. Мы придём и поклонимся ему, и поднесём дары, которые у твоих братьев наменяли, и большой князь нас помилует. – А если не помилует, тогда что? Поркоп не ответил. И молчал весь день. Только вечером сказал: – Если ты большого князя разгневаешь, он с тебя волосы снимет. – Как это? – не понял Маркел. – А очень просто! – ответил Поркоп. – Вот так возьмёт за макушку, вот так ножом чиркнет – и снимет волосы, как шапку, себе к поясу привяжет, и твоя сила перейдёт к нему, а тебя в речку бросят, и всё. Или отнесут на молельное место, чтобы тебя там священные птицы склевали. Маркел больше ничего не спрашивал, молчал. А ночью ему снился большой князь с ножом, князь ходит по лесу и негромко посмеивается. Утром погода испортилась, пошёл сильный дождь и не прекращался до ночи. Когда они пристали к берегу, костёр возле беса не горел. Поркоп сказал, что это дурная примета – им же завтра приезжать к большому князю, а они сейчас даже не могут поднести бесу дары. Поркоп называл беса ойкой, конечно. Маркел задумался, потом спросил, каков большой князь из себя. Поркоп ответил, что он высокий и толстый, примерно такой же, как Ермак. – А ты что, видел Ермака? – спросил Маркел. – Да, видел, – ответил Поркоп. – Он к нам приезжал. Большой князь с ним пировал. А потом Ермак уехал. – А для чего он приезжал? – спросил Маркел. Но Поркоп вдруг очень сильно помрачнел и сказал, что не будет про Ермака рассказывать, сегодня этого делать нельзя. Сперва, сказал он, нужно прийти к большому князю и поклониться ему. Маркел поел сырой рыбы (потому что костёр не горел) и лёг спать в шалаше. А утром встал со всеми и поплыл. Дождь ещё ночью кончился, но небо всё равно было хмурое. Река сделала крутой поворот, и Маркел наконец увидел вогульский город, город большого князя Аблегирима, а сам город, как сказал Поркоп, называется Полум, а не Пелым.ГЛАВА 22
– Потому что, – продолжал Поркоп, – что такое Пелым? Это чердынское слово, бесовское. А Полум – это наше, правильно имя. Так великого бога зовут: Полум, сын Торума. Он здесь, рядом, в священной роще живёт. Ему все земные звери подвластны, и все птицы, и все рыбы. Он только одно слово скажет – и звери пойдут к тебе, только успевай стрелу закладывать. И рыба сама в невод поплывёт, птица сама в силок запрыгнет. А не скажет, ничего не будет, опухнешь с голоду, звери придут и задавят тебя, до костей мясо обгрызут, а птицы жилы с костей склюют начисто, а рыбы остатки обсосут! И он ещё что-то говорил, но Маркел его не слушал, а смотрел вперёд, туда, где при слиянии двух рек, на высоком холме, стоял крепкий толстенный частокол, на нём там и сям висели черепа звериные, с рогами, за частоколом были видны берестяные крыши. А у воды, Маркел их только что заметил, стояли вогулы, все с копьями, в кожаных латах, а кое на ком блестели и железные. А один, стоявший впереди, был и выше всех, и толще, и он был без копья, зато у него было две сабли – в правой и в левой руке. И латы на нём сверкали ярче прочих. – Кто это? – спросил Маркел. – Большой князь Аблегирим, – с почтением ответил Поркоп. – Понравишься ему, убьёт. А не понравишься, тоже убьёт, но уже в другом месте. – Так как тогда быть? – Просить пощады. Маркел хмыкнул. А лодки тем временем всё приближались к стоящим на берегу вогулам. На передней лодке положили вёсла, теперь только последний гребец загребал, лодка развернулась и уткнулась в берег. Старый вогул первым сошёл на землю, поклонился большому князю и что-то кратко сказал. Большой князь одобрительно кивнул. Подплывали остальные лодки, вогулы выходили на берег, выносили мешки с товарами и составляли их перед большим князем. Маркел думал, что и его сейчас вытолкают вперёд, к мешкам, но ошибся – его, наоборот, затолкали в самую толпу, чтобы большой князь его пока не видел. Или чтобы мог сделать вид, будто не видит. А большой князь, заткнув свои обе сабли за пояс, уже начал рассматривать дары. Поркоп, а с ним ещё двое помощников поочерёдно развязывали мешки и высыпали их содержимое на специально расстеленные на земле шкуры. В мешках была всякая мелочь – опять бусы и ленты, колокольчики, зеркальца, платки, холсты и прочая бабья рухлядь. Но попадались и нужные вещи – ножи, топоры без топорищ, а то и просто куски и полосы железа, это уже для местных кузнецов. Большой князь иногда улыбался, и тогда Поркоп поднимал понравившуюся ему вещь, большой князь её рассматривал и передавал шедшим за ним дружинникам, или отырам, если по-вогульски. Отыры были в богатых одеждах, но большой князь был одет лучше всех. А ещё у всех было только по две косички, а у него четыре, и у всех ничего на голове не было, а у него был повязан позолоченный ремешок со вставленными в него золочёными фигурками бесов. Бесы торчали как зубцы в царской короне. Маркел меленько перекрестился. А когда большой князь остановился и отвёл руку, чтобы кому-то что-то показать, Маркел увидел у него на поясе связку человеческих волос на человеческой же коже, и эти волосы были не только чёрные, вогульские, но и наши, русые. Маркелу сразу стало жарко. Большой князь тем временем осмотрел все мешки кроме последнего – длинного, из которого торчали жерди. Там пищаль, почему-то подумал Маркел, дедушка Макар, скотина, продал пелымцам пищаль, пелымцы научатся стрелять и перестреляют всех нас!.. А большой князь уже подошёл к тому мешку и стал его рассматривать. Потом что-то спросил. Поркоп ответил. Большой князь опять что-то спросил. Поркоп усмехнулся, повернулся к Маркелу и поманил его рукой. Вогулы расступились. Маркел, а куда было деваться, вышел вперёд. Большой князь стал пристально его рассматривать. Потом одобрительно кивнул. Поркоп повернулся к Маркелу и сказал: – Большой князь, тере Аблегирим, спрашивает, кто ты такой. Маркел повернулся к Аблегириму и сказал по-нашему: – Я – Маркел Косой, человек из Чердыни. – И тут же, мало ли, прибавил по-татарски: – Я тебе кланяюсь, князь. – И, сняв шапку, поклонился. – А! Я это маленько понимаю! – так же по-татарски радостно сказал Аблегирим. – Я был в Кашлыке. А ты был? – Я туда еду, – ответил Маркел. – Зачем? – Мне такой сон приснился. Мне надо в Кашлык. Аблегирим посмотрел на Маркела, прищурился и зло сказал: – Собака! – тоже по-татарски. Маркел, растерявшись, молчал. А Аблегирим уже опять повернулся к тому длинному мешку и снова сказал по-вогульски. Мешок подняли и понесли к городу. Также и все остальные дары сложили обратно в мешки и понесли. А потом и лодки понесли. И все остальные туда же пошли. На берегу, возле воды, остался только один Маркел. Он смотрел на город и думал, что не бывают холмы с такими почти что отвесными склонами, это вогулы его так обкопали, чтобы на него нельзя было подняться. И ворот в частоколе не видно, а есть только башенки, а в башенках везде стоят люди. А люди, идущие к городу, правильнее, к городскому холму, начали обходить вокруг него и скрываться за ним. Там у них, на той стороне холма, наверное, ворота. А что ему делать одному на берегу, без лодки, подумал Маркел. И вдруг увидел, что Поркоп возвращается. Подойдя к Маркелу, он сказал: – Большой князь подумал, что ты ещё можешь ему пригодиться. Если хочешь, я отведу тебя к нему. А если нет, иди сам дальше, большой князь тебя не держит. Иди, зло подумал Маркел, а куда? И далеко ли он уйдёт? И не пошлёт ли большой князь за ним погоню? Конечно, пошлёт! Поэтому Маркел спросил, куда девался его узел с вещами. Поркоп сказал, что узел несут в город. – Тогда и я туда! – сказал Маркел. Они развернулись и пошли за остальными.ГЛАВА 23
Как Маркел думал, почти так оно и оказалось. То есть когда они с Поркопом завернули за холм, то на его обратной стороне Маркел увидел вход в город. Только это были не ворота, а просто с самого верха, с частокола, до самого низа холма тянулась длинная верёвка. Она была с узлами для удобства. Маркел полез по ней, следом полез Поркоп. Склон был крутой, обкопанный, а когда Маркел долез до частокола, то увидел, что брёвна в нём поставлены так плотно, что нигде между ними мизинца не просунешь. И так же и стрела не пролетит, подумалось. Как только Маркел взлез на самый верх, до остро отточенных верхушек частокола, ему с той стороны, от крепости, сразу подали руки, и он перелез туда, встал на подмости, хотел осмотреться, но ему не дали, а сразу подвели к бревну с зарубками, он по нему сошёл на землю и уже только там осмотрелся. Посреди города (даже скорее маленького городка, а то и просто острога) возвышалась большая двухэтажная хоромина с высоким крыльцом, с широко прорубленными окнами и островерхой берестяной крышей, а вокруг теснились приземистые избы для местных лучших людей, полуземлянки для худших, и ещё всякие подсобные постройки и службы. Всё это было обнесено высоким крепким частоколом, в котором нигде не было видно ни входа, ни выхода, кроме того бревна, по которому сошёл Маркел. Маркел обернулся к Поркопу и спросил: – Как это вы без ворот живёте? – Были раньше ворота, – ответил Поркоп. – А этой зимой разобрали. Времена пришли очень недобрые. Много чужих людей стало вокруг шататься. Маркел промолчал. Поркоп повёл его к хоромине. Там возле крыльца стояли отыры. Когда Маркел с Поркопом подошли к крыльцу, отыры перед ними расступились. Поркоп сказал снять шапку, Маркел снял, и они стали подниматься по крыльцу. На крыльце, как и при частоколе, ступеней не было, а были только неглубокие зарубки в брёвнах. Зимой, подумал Маркел, сюда не очень-то взойдёшь, а у них тут почти всегда зима. Поднявшись по крыльцу, они прошли через сени, где всё было увешено и устелено шкурами, поднялись на второй этаж, опять же по зарубкам, и вошли в просторную светлицу, пол в которой был почти весь застелен толстой белой кошмой, на которой в самом почётном месте, возле чувала, сидел, скрестив ноги по-татарски, пелымский князь Аблегирим и, усмехаясь, смотрел на Маркела. Маркел поклонился. Аблегирим похлопал по кошме рядом с собой. Маркел ещё раз поклонился, прошёл и сел рядом с Аблегиримом. Аблегирим молчал и наблюдал за тем, как по кошме ходят босые челядины и расставляют закуски и выпивку. Закусок было много, самых разных, а вот посуда была только деревянная. – Чего смотришь? – спросил Аблегирим, усмехаясь. – Голодный? Маркел на всякий случай промолчал. Аблегирим окликнул одного из челядинов, тот взял ближайшую тарелочку (правильнее, деревянную дощечку) и подал её Маркелу. На тарелочке лежали мелко порезанные кусочки сырого мяса. – Ешь, ешь, не бойся, – сказал Аблегирим. Маркел взял один кусочек и начал жевать, а потом скорее проглотил. – Вот хорошо! – сказал Аблегирим. – Теперь будешь быстрый как олень. Я каждый день это ем. А ваш Ермак не ел! И не убежал от татар. Вот так-то! И сделал знак челядину. Тот убрал эту тарелочку, подал другую. Маркел взял самый маленький кусочек и проглотил, не жуя. Аблегирим усмехнулся, сказал: – Теперь ты будешь говорить только правду, как ворон. Иначе умрёшь! Маркел мысленно перекрестился. Аблегирим отпустил челядина, повернулся к дверям и трижды хлопнул в ладоши. В светлицу начали входить отыры и рассаживаться вдоль кошмы. Среди отыров был и хорошо знакомый Маркелу старый вогул. Когда отыры расселись, в светлицу стали входить простые воины, так называемые ляки, и они уже не садились, а так и оставались стоять вдоль стен, на голом полу. Вместе с ляками вошёл Поркоп, и остановился прямо за спиной у Маркела. И почти сразу же один из отыров начал быстро-быстро говорить по-вогульски, все остальные это подхватили, а потом запели. А кто-то стал бить в бубен и выкрикивать. Потом, по знаку Аблегирима, отыры замолчали, разобрали берестяные ковшики и выпили. Маркел тоже выпил. Выпивка была некрепкая и пахла мёдом. Поставив ковшики, все начали закусывать. Маркел увидел вяленое мясо, забрал его себе и начал есть. А увидел лепёшки – и стал есть лепешки. Но вдруг вспомнил слова про правду и про ворона, и сразу разогнулся от кошмы, и ничего уже не ел – не мог. Конечно, думал он, княжьи слова – это, скорей всего, обычные бесовские хитрости, но всё равно лучше не гневить Бога и ничего нечистого не брать. Подумав так, Маркел перекрестился. А когда всем, по аблегиримову велению, опять налили, Маркел только пригубил, а остальное, будто ненароком, вылил. Аблегирим это заметил, но смолчал, только сверкнул глазами. Время шло, отыры начали всё больше и больше хмелеть, общий разговор становился всё громче и путаней, Маркел покусывал лепёшку, а когда наливали, он каждый раз отпивал по глоточку, не больше. Но хмель всё равно стал понемногу забирать и забирать его! Аблегирим это заметил, тихо засмеялся и махнул рукой. Тут же забренчала, задудела, заныла татарская музыка, в светлицу вбежали девки в просторных рубахах, с длинными распущенными волосами, и начали плясать, ловко прыгая между закусками. Маркел широко раскрыл глаза. – Ха! – радостно воскликнул Аблегирим. – Я у Кучума пировал. Я знаю, как вы веселитесь! Смотри, чердын! Маркел смотрел. Девки плясали очень ловко. Аблегирим опять заговорил: – Какая тебе больше нравится? Скажи, подарю! Не понравится, завтра вернёшь, возьмёшь другую. У меня их много. Выбирай! Маркел молчал, смотрел на девок, думал: ага, так и скажу, я, думаешь, не знаю, что это только колдовство и вид один, а никого здесь нет, Параска говорила же… Или, может, Параска врала, а на самом деле… Но дальше он додумать не успел, потому что Аблегирим вдруг громко хлопнул в ладоши, музыка сразу смолкла, девки убежали, и в светлице стало совсем тихо. Аблегирим повернулся к Маркелу и мрачно сказал: – Обидел ты меня, чердын. Да вы, чердыны, все такие злые, только и думаете нас обидеть. Но мы вам не поддадимся! И он опять повернулся к двери, поднял руку, щёлкнул пальцами – и снова заиграла музыка, но уже не быстрая, а скучная и заунывная. Ляки налили в ковшики, отыры выпили. Маркел тоже выпил, и теперь уже до дна. Аблегирим смотрел перед собой в кошму, молчал. Маркел ждал, что будет дальше. А дальше было то же самое – ляки налили, отыры выпили и ещё сильнее зашумели. А кое-кто из них уже даже начал размахивать руками, вскакивать. А кто сидя задремал. А кто совсем привалился к стене. Ляки опять налили, отыры опять выпили. Аблегирим не пил. Сидел как истукан. Потом вдруг, повернувшись к Маркелу, сказал: – Приходил к нам сюда Ермак, постоял три дня внизу, пострелял из пищалей. А наверх не полез! Я выходил на стену, приглашал его. Но он всё равно не полез. Мало уже было у него людей, и он мне говорил: дай мне своих людей, дай мне припасов, и я уйду от тебя. А я отвечал: а зачем тебе уходить? Стой здесь! Я буду сверху на тебя смотреть, мне будет радостно. Но он ещё день постоял и ушёл. И убили его! И это правильно! Зачем он ходил в медвежьей шубе? Он что, Консыг-ойка, чтобы так рядиться? И за это его и убили, за шубу. – Так шуба у него была медвежья? – спросил Маркел. Аблегирим кивнул. – А пансырь на нём был какой? – Пансырь железный, красивый, – с видимой завистью ответил Аблегирим. – Мой человек в него стрелял и попал, но стрела отскочила. А хорошая был стрела, заговорённая! Ермак смеялся, хвастался, что этот пансырь ничем не пробить, его ваш главный князь ему пожаловал. И так оно после и было, никто не смог тот Ермаков пансырь пробить, такой он был крепкий. Так Ермак в том пансыре и утопился. – Как утопился? – А как люди топятся? Пошёл на дно и пузыри пустил, и всё. А его ляки разбежались. Татары шибко радовались, три дня на берегу плясали, ждали, когда Ермак всплывёт. Но он не всплыл. Его Аутья-отыр съел. Про Аутью знаешь? Маркел молчал. Аблегирим продолжил: – Аутья-отыр – младший брат Конгсыг-ойки, Конгсыг-ойка в лесу живёт, Аутья-отыр в воде, во всех реках. Вот он Ермака и сожрал. Вот как бывает с теми, кто чужую шубу носит! Ваш Ермак, он что, медведь? Или он Конгсыг-ойка? Маркел ничего не ответил. Аблегирим щёлкнул пальцами. Поркоп наклонился и налил Маркелу в ковшик. На этот раз питьё было мутное, Маркел не решался его пить. – Пей, пей! – сказал Аблегирим. – Тогда много чего нового узнаешь! Маркел выпил. Воняло грибами. Его что, отравить хотят, что ли, подумал Маркел. А Аблегирим, усмехнувшись, продолжил: – Вот сейчас мы с тобой поговорим! Сейчас это будет славно! – И спросил: – А теперь прямо скажи: куда едешь? И зачем? И Маркел, сам того не ожидая, вдруг ответил: – Еду в Кашлык. Мне велено узнать, убит Ермак на самом деле или нет. – Убит, убит! – радостно ответил Аблегирим и даже рукой показал, как убит. – Это все у нас тут знают. А что ещё тебе велено? – Велено найти две царские вещицы, которые он Ермаку пожаловал: саблю и пансырь. Где эти вещицы? – Как где? – переспросил Аблегирим. – У татар, где ещё. Это мы ничего не берём, а только убиваем, а татарин нет, татарин может не убить, а заберёт всё! А я, если бы убил, ещё бы Ермаково сердце съел. Это мне много силы дало бы! И он широко усмехнулся, засверкал зубами. Маркел невольно отстранился от него. Аблегирим неслышно засмеялся и сказал: – А хочешь, съем твоё? Что, оробел? – И опять засмеялся. А потом уже серьёзным голосом, продолжил: – Это шутка. Мы уже давно никого не едим, мы же не самоеды. Вот самоеды съели бы! Самоеды – злые люди, но их здесь нет, это надо далеко на север ехать, у них князь – баба! Золотая. Говорить умеет. Она живёт на острове, сидит в пещере, к ней люди приходят, спрашивают, как им быть, она отвечает, и как она скажет, так они и делают. Вот это сильный бог! А самоеды всё равно смешные. Бабу слушают! Пусть даже золотую! Сказав это, Аблегирим опять засмеялся, а после вдруг как опомнился, нашёл на кошме свой ковшик и поднял его. И велел то же самое сделать Маркелу. Маркел сделал. Поркоп налил им грибной настойки. Они выпили. Аблегирим немного подождал, потом облизал губы и спросил: – Что видишь? – Ничего, – честно ответил Маркел. – Закрой глаза! Маркел закрыл. – Смотри! Маркел снова ничего не видел. В глазах было совсем черно. Потом начало понемногу светлеть, и вскоре Маркел увидел, что он как будто в лесу и идёт по тропинке. Потом выходит на широкую поляну и видит перед собой очень толстую, очень высокую и очень старую берёзу. На ней на ветках навязаны ленточки, бусы, тряпичные куклы, обрывки цветного холста, возле неё лежат на земле зеркальца, ножи, топоры без топорищ… И пищаль! Пищаль новенькая, салом смазана, блестит. Маркел наклонился к пищали… Но его сзади схватили за бока, а после завернули ему голову и повалили на землю. Повалил Аблегирим, встал коленом Маркелу на грудь, из голенища вынул нож и хотел резануть… Но Маркел увернулся, вскочил! А его опять свалили аблегиримовы отыры, и Аблегирим опять надавил Маркелу коленом на грудь, достал нож – и полоснул! И кровь как хлынет! Маркел схватился руками за горло, кровь хлестала по рукам, Маркел хрипел, а Аблегирим смеялся, говорил: – Вот тебе за наших всех! И вот тебе и за ваших! Зачем в наших богов стреляете? Зачем сюда пришли? Хочешь ещё?! – и опять замахнулся ножом… А Маркел, со зла, крикнул: – Хочу! Аблегирим опять ударил! Маркел ещё громче захрипел!.. И проснулся. Было совсем темно, только в чувале угольки мерцали. Маркел лежал на кошме. Рядом лежали отыры и громко дышали во сне. Маркел выпростал руку, перекрестился и начал читать «Отче наш». Прочёл, зажмурился и затаился. Вспомнил Мансурова, опять прочёл, опять перекрестился. После провёл рукой по горлу. Оно было целое. Слава Тебе, Господи, подумалось, приснится же! Или так оно на самом деле было? Маркел опять пощупал горло, оно было липкое. Маркел облизал пальцы и почуял на них кровь. А, что будет, то будет, подумал Маркел, вот только Параску жалко, будет ждать, дура, слёзы лить… И поплыло всё перед глазами, и Маркел заснул. Или куда-то провалился.ГЛАВА 24
Утром Маркела растолкали, он вскочил. В светлице, на кошме, никого, кроме него, уже не было. Маркел проморгался. Голова очень сильно болела, Маркел стал стучать по ней кулаком. Поркоп, а это он его будил, велел подать Маркелу выпить. Маркел выпил, это была чистая вода, и ему сразу стало легче. Поркоп сказал, что им надо спешить, потому что их ждут во дворе. Маркел поднялся, они вышли на крыльцо. Там, во дворе, стояли ляки с луками, таких ляков было с десятка два. Маркел и Поркоп спустились к ним, и они, теперь уже все вместе, обошли вокруг хоромины и на её другую сторону. Там, на просторной зелёной лужайке, стоял князь Аблегирим в окружении отыров. А дальше от них, шагах в сорока, не меньше, на шест было насажено соломенное чучело с копьём и в шапке. Маркел подошёл к Аблегириму и поклонился. Аблегирим усмехнулся и спросил, как Маркелу спалось. Маркел ответил, что крепко. – Это хорошо, – сказал Аблегирим. – Наши боги тебя приняли. И также и я принимаю. А теперь смотри! И он указал на чучело, потом спросил, кто это такой. Маркел ответил, что не знает. Тогда Аблегирим сказал: – Это Агай, большой князь Кондинский. Это его душа. Смотри, что мы сейчас с ним сделаем! И, обернувшись к лякам, махнул им рукой. Ляки подошли, поставили луки на землю. Луки были большие, наборные. Аблегирим, то и дело поглядывая на чучело, начал что-то быстро говорить. Потом замолчал и отступил. Ляки построились в круг, стали ходить по кругу и на ходу стрелять по чучелу. Все попадали. Тогда они зажмурились и опять, теперь уже с места, начали стрелять. И опять никто не промахнулся. Аблегирим махнул рукой, и они побежали за стрелами. Аблегирим, повернувшись к Маркелу, сказал: – Вот какие у меня стрелки. А ты бы так смог? – Я из лука непривычный, – ответил Маркел. – А из пищали? – А где её взять? – А я дам! И с этими словами Аблегирим опять обернулся, теперь уже к отырам, и один из них выступил вперёд и вынес тот самый мешок с жердями. Аблегирим указал пальцем, и отыр достал из мешка пищаль. Эта была та самая пищаль, которая Маркелу снилась ночью. – Бери, – сказал Аблегирим. – Стреляй. – Этого мало, – ответил Маркел. – Пищаль сама не выстрелит. Ей надо пищальные стрелы. А сам подумал: Господи, помилуй, пронеси! Но не пронёс Господь! Аблегирим, усмехнувшись, сказал: – И это тоже есть! И снова кивнул. Отыры подняли мешок, встряхнули, и из него вывалились зарядный подсумок и пороховница. Маркел тяжко вздохнул и злым словом вспомнил дедушку Макара. А Аблегирим опять сказал: – Бери! И что было делать? Что Маркелу в Москве было велено? Пойти в Сибирь и принести оттуда саблю, пансырь и шубу. Шубу, ясное дело, уже не найти. А за саблю и за пансырь ещё можно постараться! И Маркел протянул руку. Один отыр подал ему пищаль, а второй подсумок и пороховницу. Маркел взял это и опять посмотрел на Аблегирима. Тот скривился и сказал: – Собьёшь Агая, отпущу. Прямо сейчас. Плыви, куда хочешь! И лодку дам, и людей, и припасы. А не собьёшь, отведу к священной берёзе и там зарежу, и съем сердце. Берёзу видал? – Маркел кивнул, что видал. – А теперь стреляй! И отпущу! Маркел вздохнул, взял пищаль и первым делом снял с курка фитиль, достал из пояса кресало и кремень, выбил искру и запалил фитиль. Затем сдвинул полку, насыпал затравки, закрыл полку и обдул её на всякий на случай. После встал боком, чтоб другим было не видно, и сыпнул в ствол зелья, вкатил пулю, сунул пыж, прибил шомполом на раз-два-три… Скосил глаз, увидел глаз Аблегирима, этот глаз смотрел очень внимательно, запоминал, скотина… Ну и бес с ним! Подумав так, Маркел вернул фитиль на место, сбил нагар, прижал приклад к щеке, открыл полку, взял прицел – и клацнул спусковым крючком! Пальнуло знатно! А когда дым рассеялся, на голом шесте ничего не осталось! Маркел снял фитиль, продул полку и, усмехаясь, осмотрелся. Все ляки, белые-пребелые, стояли как столбы. Первым опомнился Аблегирим и что-то выкрикнул, к Маркелу сразу подскочили и отобрали пищаль и припасы. Аблегирим забрал у них и то, и это, и, ничего не говоря, пошёл обратно, к крыльцу. За ним поспешили отыры. Ляки, лучники, стояли на прежнем месте и со страхом, но и со злом тоже, поглядывали на Маркела. Маркел не знал, чего ждать дальше. И тут к нему подскочил Поркоп и стал быстро и сердито говорить, что если Маркел хочет остаться в живых, то ему надо срочно уходить отсюда. – Так я и ушёл бы, – ответил Маркел. – А где мой узел? И где та лодка, которую мне князь сулил? И где припасы? Или он хочет, чтобы я порчу на пищаль навёл? Так я это могу! Поркоп замахал руками, велел Маркелу ждать и никуда не уходить, а сам побежал за князем. Маркел ждал. Сперва просто стоял столбом, а после сел на валявшееся неподалёку бревно. Вокруг было тихо, никто не ходил. Маркел смотрел на частокол и думал, что за ним река, и если плыть по ней вверх по течению, то можно доплыть до дедушки Макара, а дальше, через Каменные горы, можно дойти до землянки, в которой сидит Силантий, а ещё дальше, через реку, через которую перевезёт вогул, можно попасть в Чердынь, ну а оттуда уже рукой подать до Устюга, до Вологды и до Москвы. А вот зато что будет с ним, если он поплывёт вниз по реке, этого никто не знает! И только он так подумал, как сзади послышались шаги. Маркел обернулся и увидел, что к нему идёт Поркоп, за ним ещё трое вогулов тащат лодку, а четвёртый несёт мешок с припасами. – Вот, – сказал Поркоп. – Наш князь слово держит. Сказал, что отпустит, и отпускает. И даёт припасов. И ещё нас даёт тебе в придачу, – прибавил он уже со злом. – И велит везти тебя, пока не довезём, куда ты скажешь! Маркел обрадовался, встал и велел тащить всё это к берегу. Они так и сделали. Только теперь перелезали через частокол не с обратной стороны, к лесу, а сразу с передней, к реке. Сперва спустили на верёвке лодку и припасы, а потом уже спустились сами. И вот пока они спускались, к берегу пришёл Аблегирим со своей свитой. Большой князь посмеивался и поглядывал на последние приготовления Маркела и его людей. Да, и ещё: у одного из отыров на плече была пищаль. Маркел как увидел её, сразу мысленно перекрестился и велел Поркопу не мешкать. Да Поркоп и так уже всё понял и поспешал как мог. Наконец они все пятеро залезли в лодку, Маркел сел на корму, ляки начали отталкиваться вёслами от берега… Как Аблегирим вдруг громко выкрикнул: – Эй, чердын! Посмотри на меня! Маркел обернулся… И увидел, что Аблегирим стоит на самом берегу, поднял пищаль и целится прямо в него! И фитиль уже горит! Маркел только и подумал: «Пресвятая Богородица!», подскочил и повернулся к князю. И тот выстрелил! Громыхнуло очень знаменито! С Маркела сбило шапку. Маркел побелел как снег, губы у него свело, но как только разошёлся дым, он усмехнулся, широко перекрестился и сказал: – Вот какова она, сила креста, а вы берёзам кланяетесь! Бесовщина это! Тьфу! И сел на лавку, и махнул рукой. И ещё, уже в самом конце, подумал, что какой глазастый этот чёртов князь, за один раз всё запомнил! А Аблегирим стоял на берегу и с уважением поглядывал на Маркела, которого река уносила всё дальше и дальше.ГЛАВА 25
Плыли они так же, как и в прошлый раз, при старом вогуле, то есть гребли без остановок до самого позднего вечера. Вот только каменного беса на привале не было. Да и вообще камней по берегам стало мало, а дальше их становилось всё меньше и меньше. И лес по берегам стоял уже не такой дремучий, и сами берега были уже не такие крутые. Зато рыбы стало ещё больше. Когда они пристали к берегу, Поркоп оставил двух ляков готовить костёр и шалаш, а двух других послал за рыбой. И вот пока одни готовили, другие натаскали полную корзину рыбы. А таскали очень просто: зашли в воду, и один светил огнём, а второй бил копьём подплывавшую на свет рыбу. Бил только крупную. И опять Маркел обжарил свою рыбу на огне, а ляки своих ели сырьём. В аблегиримовом мешке нашлось немного вяленого лосиного мяса, Маркел перекусил лосятиной. Было там ещё питьё, но оно пахло грибами, и Маркел его не пил, а пил только речную воду. Вода была так себе, кислая. Да, и ещё: у костра Маркел, как всегда, сидел один, а ляки сели поодаль. Потом они легли спать возле лодки, у самой воды, а Маркел лежал в шалаше и долго не мог заснуть. Ему почему-то думалось, что ляки хотят его зарезать сонного. Так что назавтра утром, проснувшись живым и невредимым, Маркел заметно повеселел и, когда они поплыли дальше, он уже даже насвистывал, а после стал спрашивать, кто такой Агай, князь Кондинский, и почему Аблегирим его так не любит. Поркоп на это нехотя ответил, что так потому, что Аблегирим настоящий воин, а Агай трусливый как женщина, таких надо убивать. – Но, – тут же прибавил Поркоп, усмехаясь, – убить Агая очень трудно. Ты ведь не его убил, а только разбил его личину, и это его очень разозлило, теперь он захочет тебе отомстить. И отомстит, потому что он сильней тебя. Что ты умеешь? Только посылать огненные стрелы. А у Агая есть такая сила, против которой никакие другие силы ничего не значат. – А что это за сила у него такая? – насмешливо спросил Маркел. И Поркоп, задыхаясь от злости, ответил: – Это сила называется толых-аахтас! Она к себе приманивает. Она наваливается на тебя сонного, обматывает тебя и тащит как на верёвке, тоже сонного. И притащит к Агаю! А он возьмёт священное копьё и заколет тебя как священного оленя! И съест твоё сердце и выест твой костный мозг, и снимет волосы с твоей головы! Вот для чего Аблегирим давал тебе стрелять по Агаю! Теперь ему не нужно убивать тебя – теперь это вместо него сделает Агай! Также ему теперь не нужно убивать Агая, потому что ты, когда разбил его личину, убил его душу, и Агай скоро умрёт! И все его люди, и все его богатства, все угодья, и сам его толых-аахтас достанутся Аблегириму. Вот о чём я должен был тебя предупредить, но Аблегирим мне это запретил, и я его послушался и промолчал. – Всё это бесовство! – сказал Маркел. – Ничего этого нет, а есть только сила креста. Видишь?! – продолжал он, снимая с себя шапку. – Даже огненная стрела нашего могучего бога, и та прошла мимо, а эти Агаевы верёвки и подавно меня не удержат. – Это не верёвки, – сердито возразил Поркоп, – а это такая невидимая сила, которая тебя манит, и ничего против неё не сделать. – Манит? – переспросил Маркел. – Манит, – кивнул Поркоп. – Камень такой. Из него выходит сила и манит, и тащит. Манит, вспомнил Маркел слова Нюськи, сибирский манит-камень, это когда о ком-то думаешь, и он к тебе придёт. Но это же не для того, чтобы убить, а, наоборот, чтобы помиловать! Маркел задумался и думал долго. Потом спросил, какой он из себя, этот бесовский камень толых-аахтас. На что Поркоп ответил, что эти камни бывают самые разные. У Кондинского князя Агая толых-аахтас большой как старая полуземлянка, он наполовину вылез из земли, а наполовину в ней остался, и это очень сильный камень, он может приманить лося, и его потом тридцать крепких воинов не смогут оторвать обратно. А бывают камни толых-аахтас поменьше, а бывают совсем маленькие, их можно спрятать в кулаке. – А как тогда узнать, что это не просто камень, а толых-аахтас? – спросил Маркел. – А ты это сразу почувствуешь, – ответил Поркоп. – Ты как только дотронешься до него, так сразу наполнишься силой, и всё вокруг тебя загудит и задвигается. Но, – тут же прибавил он, – тебе этого не получить, потому что ты не поклоняешься нашим богам, и наши боги тебе его ни за что не дадут. Сказав это, Поркоп замолчал и отвернулся, тем самым давая понять, что он больше ничего не скажет. Так оно после и было, они молчали до самой ночи, до привала. На привале они тоже говорили только о самом необходимом. И на второй день, и на третий было то же самое. Вот только мошкары становилось всё больше и больше. Она просто заедала чуть не до смерти! Нужно было жевать особую траву, а после этой кашкой мазаться, и тогда становилось немного полегче. А берега были по-прежнему безлюдные, и нигде не было видно дымов. Только на пятый день они увидели на берегу, среди густой листвы, частокол. Поркоп сказал, что это Табарский городок, здесь сидит Гында, малый князь, данник Аблегирима, и сюда надо пристать ненадолго. Маркел согласился. Они пристали, и двое ляков остались с Маркелом, а двое ушли с Поркопом к городку. Их долго не было. Потом они вернулись очень мрачные, и Поркоп сказал, что князь Гында подтвердил, что ниже по реке сидят чердыны, они укрепились в бывшем Лабутинском городке, прошлись по окрестностям и обложили ясаком всех местных князей, и также и Гынду. Теперь Гында, продолжил Поркоп, платит два ясака – один Аблегириму, а второй чердынам. Маркел спросил, далеко ли ещё до чердынов. Ещё столько же, пять дней, ответил Поркоп. И они поплыли дальше. Теперь Поркоп был очень насторожен и всё время поглядывал по сторонам, прислушивался, наверное, опасался засады. Маркел несколько раз пытался разговорить Поркопа, расспрашивал то о волшебном камне толых-аахтас, то о Кондинском князе Агае, а то о самом Ермаке, но Поркоп на все вопросы отвечал очень односложно, а то и вообще молчал. И только вечером четвёртого дня Поркоп вдруг что-то выкрикнул, ляки резко развернули лодку и начали причаливать к берегу. – Что случилось? – спросил Маркел. – Я слышу, чердынами пахнет, – ответил Поркоп. – Горят их костры. Поэтому мы дальше не поплывём. Мы оставим тебе лодку и все припасы, а сами развернёмся и пойдём обратно по берегу. Да и тебе здесь совсем немного осталось. Маркел не стал спорить. И даже больше того: он развязал узел, достал оттуда свой запасной нож, очень хороший, немецкий, и отдал Поркопу. Поркоп сильно обрадовался, поцеловал нож и сказал, что завтра утром, на следующем повороте реки Маркелу надо быть очень острожным, потому что слева у берега набиты подводные колья, так что нужно брать круто правее, если хочешь выжить. Маркел поблагодарил Поркопа, вогулы вышли из лодки, вошли в лес и пропали. А Маркел развёл огонь, перекусил тем, что оставалось в аблегиримовом мешке, после достал иголку и нитку, заштопал в шапке дыру от аблегиримовой пули, положил шапку на землю, лёг на неё и заснул. А утром встал, перекусил остатками, сел в лодку, трудно было управляться одному, но он управился, выгреб на стрежень, на следующем повороте обогнул подводные колья, после повернул ещё раз…ГЛАВА 26
И на левом берегу реки увидел Лабутинский городок. Он был сильно похож на Пелымский, так как тоже стоял на высоком холме и был обнесен крепким частоколом. Но тут, прямо со стороны реки, были ещё устроены ворота с островерхой надвратной башней. В башне стоял караульный. Караульный тоже заметил Маркела, замахал рукой и что-то выкрикнул, но вот что именно, Маркел не расслышал. Да и не до слов ему было тогда! Он же тогда вскочил и грёб изо всех сил, стараясь направить лодку к берегу, но это у него никак не получалось! Река быстро несла его дальше, и Маркел сперва поравнялся с воротами, потом его быстро снесло уже ниже холма, потом снесло ещё… И только уже перед следующим поворотом реки Маркел наконец прибился к берегу. Там он сразу вытащил лодку на песок, подхватил узел с вещами, поправил шапку и пошёл, уже по сухому, обратно. Когда он подошёл к тропинке, ведущей вверх, к воротам, то увидел, что в надвратной башне уже не один караульный, а несколько. Все они были в наших шапках, бородатые. И все с пищалями. Радость какая, подумал Маркел и перекрестился. А сверху грозно крикнули: – Эй! Ты куда?! Стоять! – Братцы! Братцы! – закричал в ответ Маркел. – Я православный! – И опять перекрестился, и сделал шаг вперёд. Но сверху опять крикнули стоять, и он остановился. Сверху крикнули, кто он такой, он назвал себя Маркелом и прибавил, что ему нужен есаул Шуянин, что он привёз для него весточку из Устюга от атамана. От какого ещё атамана, спросили. От Мещеряка, Матвея Евстигнеевича, а от какого ещё, строгим голосом ответил Маркел, полез за пазуху, достал оттуда грамотку, помахал ею и сказал, что в этой грамотке всё сказано. В башне посовещались и велели подойти поближе. Маркел подошёл к самым воротам. Сверху бросили верёвку и велели привязать к ней грамотку. На что Маркел ответил, что ему строго-настрого наказано отдать грамотку только есаулу прямо в руки. И прибавил: – Да что вы, братцы, в самом деле всей ватагой одного меня пугаетесь?! Наверху ничего не ответили. Зато за воротами затопали, сняли затвор и немного приоткрыли одну половину. Маркел с трудом протиснулся мимонеё. Дальше стояли двое казаков. Они, ничего не говоря, повели его прямо к хоромам. Лабутинские княжеские хоромы на вид были немного попроще пелымских. Также и жилья тут было меньше, и подсобных служб. Зато крепость была много надёжнее – и частокол выше, и на каждом углу башенка, а в каждой башенке казак с пищалью. И по стенам тоже казаки. Значит, неспокойно здесь, подумалось. Будь оно иначе, разве так хоронились бы? И это всё, о чём Маркел успел тогда подумать, потому что его уже подвели к хоромному крыльцу, на котором стоял высоченный и крепкий казак в высокой собольей шапке, в широченной чёрной лисы шубе и с дорогущей саблей при поясе. Но сабля была не та, что в розыске, а пансыря и вовсе никакого видно не было. Вот каков был тогда есаул Шуянин Василий Порфирьевич! Но шапку перед ним Маркел снимать не стал, а лишь назвал себя по имени и сказал, что он приехал из Устюга и привёз грамотку для Василия Шуянина, славного есаула казачьего. После чего спросил: – Ты это? – Да, это я, – ответил тот. И сразу велел: – Дай грамотку! – Э! – весёлым голосом ответил Маркел. – Добрый хозяин так не делает. Добрый сперва истопит гостю баньку, после накормит его, напоит… Но Шуянин не стал дальше слушать, а велел идти за ним, развернулся и вошёл в хоромы. Маркел вошёл следом. И больше никто за ними не пошёл. В хоромах они поднялись на второй этаж и завернули в небольшую горницу. Там Шуянин задержался в двери, кликнул Ивана и велел, чтоб тот подал человеку с дороги. Пока Иван ходил и собирал поесть, Маркел и Шуянин зашли в горницу, перекрестились на икону и сели к столу, по разные, конечно, стороны. Иван начал выставлять на стол. Разносолы были немудрящие – болтуха, вяленое мясо, сушёная рыба и хлеб. Маркел начал с хлеба. Шуянин опять кликнул Ивана и велел дать ещё хлеба. Иван дал. И соли дал. Маркел быстро, жадно ел. Шуянин, немного подождав, протянул к Маркелу руку. Маркел, продолжая есть, подал Шуянину грамотку. Шуянин развернул её, повернул удобней к свету и, шевеля губами, начал читать про себя. Маркел, с большего уже насытившись, косил глазом на Шуянина, хотел догадаться, как ему такое чтение, по сердцу ли. Но пока что ничего понятно не было. А Шуянин прочёл грамотку, сдвинул шапку, почесал затылок и начал читать сначала. Маркел съел всё, что было, запил кружкой брусничного кваса и теперь просто сидел и ждал, когда Шуянин начитается. И вот тот наконец начитался, свернул грамотку и, усмехаясь, сказал: – Ну а теперь давай, рассказывай про себя. С самого начала. – А чего рассказывать? – развёл руками Маркел. – Атаман позвал меня и говорит: сгоняй, Маркел, в Сибирь, на речку Тавду, в Лабутин городок, мне там… – Это ты про Устюг? – перебил его Шуянин. – Да. – А ты с самого начала начинай. С Москвы. – С какой ещё Москвы? – спросил Маркел, хотя уже почуял, что пришла беда. И не ошибся! Шуянин сказал: – Как какой ещё Москвы? Белокаменной, конечно. В которой ты служишь в Разбойном приказе. Стряпчим, чтобы твои зенки вылезли! Здесь ясно написано! Вася, пишет мне Черкас, смотри за этим человеком зорко! Вот я и смотрю! И тут Шуянин вскочил за столом и вырвал саблю из ножен! И замахнулся! И рубанул бы!.. Но Маркел сказал: – Тихо-тихо! Не ори! Не в пыточной! И встал, и ясно, тяжело прибавил: – Атамана своего продал, скотина, а теперь ещё орёшь. Креста на тебе нет! – Как это продал?! – заорал Шуянин, поднимая саблю ещё выше. – Кто такое говорит?! – Кто-кто! – передразнил его Маркел. – Да вся Москва так говорит! И вся Казань, вся Волга! Всё царство! И, говорят, Васька Шуянин не казак, а тать продажный! Атамана продал! За ясак! Шуянин замер. После медленно опустил саблю и так же медленно сказал: – Я у тебя язык за это вырву. Вот этой рукой! – А у всего царства как? – спросил Маркел. – Брешешь, пёс! – сказал Шуянин. – Не может того быть! – Нет, может! – ответил Маркел. – Царь меня призвал и говорит: «Маркел»… – Царь? Наш? – переспросил Шуянин. – Наш! Чей ещё! – гневным голосом сказал Маркел. – И вот царь говорит: – Езжай, Маркелка, и хоть из-под земли его достань! Вот! На! Читай! И вытащил, и сунул Шуянину в нос подорожную. Тот взял её, начал читать: – По Государеву Царёву и Великого Князя указу… Моему верному слуге Маркелу… Писано на Москве… И замолчал. Отдал подорожную и сел. Маркел тоже сел. Шуянин, помолчав, сказал: – И что? – Как что! – гневно ответил Маркел. – Открыли дело об убиении раба божьего Ермака Тимофеевича и покраже двух царских вещиц – сабли и пансыря. И о пропаже ясака за прошлый год со всей Сибири. И я поехал. Добрые люди где меня надоумили, где мне чем пособили, и вот я здесь! И спрашиваю: где ясак? Кто его взял? И кто атамана продал – в самом деле ты или не ты? Шуянин молчал. Потом нехотя сказал: – В грамотке об этом ничего не сказано. – Зато вся Москва, вся Волга говорит: Шуянин – тать! Шуянин опять вскочил. Маркел усмехнулся и сказал: – Ну и отрубишь ты мне голову, а как все люди говорили, что ты тать, так и дальше будут говорить. Шуянин постоял ещё немного, помолчал, а после сел, стёр пот со лба, губами пожевал и начал: – Я не тать. Я вольный человек и никогда ещё к моей руке ни одна чужая копейка не прилипала. Мне Ермак Тимофеевич ещё на Волге нашу казну доверил. И когда мы к Строгоновым пришли, казна была на мне. И через Камень перешли и пришли на Кучума, побили Кучума, взяли его казну, сложили с нашей – и опять я всё держал! Вот так! – А много ли было Кучумовой казны? – спросил Маркел. – Мало, – прямо ответил Шуянин. – Пока мы Кашлык брали, Кучум через подземный ход сбежал. И всё лучшее с собой унёс. Нам только по мелочи осталось – ковры, посуда, утварь всякая. А кому это в Сибири надо, когда уже морозы начали прихватывать?! И засмеялся. А Маркел спросил: – А что было надо? – Хлеб, – резко ответил Шуянин. – Мясо. Крупы. Рыба. – Так рыбы здесь много. – А ты за ней ходил? – злобно спросил Шуянин. – А ты видал, как вогулы стреляют? А у татар ещё конное войско. А наши струги все на берегу лежат, река замёрзла и жрать нечего. До весны чуть дотянули. Весной, как только лёд сошёл, сразу пошли ясачить, набрали соболей и прочей меховой казны, настращали князьков, князьки прислали припасов, и стало немного полегче. Но и опять уже лето проходит! Что делать? И мы снарядили посольство в Москву, все меха туда отдали, всё что было, до последнего хвоста, и взамен просили только одного: дай, государь, огненных припасов! А государь прислал стрельцов, теперь ещё стрельцов корми! – И вы кормили? – Нет. – А дальше что? – Дальше ещё одна весна пришла, пошли ясачить. Осенью опять послали соболей в Москву, а нам обратно совсем ничего! – А Мансуров? – напомнил Маркел. – Что Мансуров?! – взъярился Шуянин. – Когда он пришёл? Когда мы уже ждать их перестали?! И когда Ермака Тимофеевича уже в живых не было. – А где ясак за тот год? – И ясак туда же, вместе с Ермаком. – Как это так? – А очень просто, – уже равнодушно ответил Шуянин. – Когда весна пришла и никто из Москвы не явился, Ермак говорит: если и дальше будем ждать со стороны, помрём от голода, так что надо нам, братцы-товариство, самим о своих головах заботиться. И мы так и сделали – сели на струги, разъехались кто куда, благо рек здесь хватает, потом мало-помалу снова съехались в Кашлык, и стали считать, кто что собрал. Получилось не так мало – восемь сороков соболей и три соболя, а это уже сто двадцать рублей с лишком, да пятнадцать чёрных бобров, да девять карих, да бурые лисицы три, да десять сарумов беличьих шкур очень добрых, да… Вот и считай! А самих нас оставалось сколько? Пересчитали – сто тридцать шесть сабель. На семи стругах. А когда в Кашлык пришли, стругов у нас было тридцать два! Ну ладно. А дальше теперь было так: опять Ермак говорит: нам надо разделиться, я оставляю здесь Мещеряка за главного, и Черкас у него есаул, и у вас четыре струга, а сам я беру с собой три, и мы с Шуяниным идем к бухарцам, и меняем наш ясак на хлеб и другие припасы, а, может, ещё и на огненное зелье, если так получится. И на том и порешили, Черкас и Мещеряк остались в Кашлыке, а мы с Ермаком пошли в бухарцы. На Атбаш. – Атбаш, это что? – спросил Маркел. – А это место есть одно такое, – ответил Шуянин. – У них там, между сибирцами и бухарцами, ровненько где лес кончается и поле начинается, как бы ничья земля, и каждый год, когда у нас Первый Спас, у них там ярмарка. Это бухарцы из своих земель приходят туда посуху, а сибирцы плывут по реке. А тогда и мы туда намерились. Прийти первыми и всё забрать! – Отнять? – Зачем отнять? У нас же был с собой ясак. А бухарцы зачем в Сибирь ходят? Затем же, что и мы, – за соболями. Только они ходят издавна, а мы только начали ходить. И ничего мы ещё не знали в тех местах, шли, как слепые котята, вначале вверх по Иртышу, потом повернули на Вагай и по нему пошли, опять вверх по реке. Приходим, а Атбаш пустой! Мы немного отошли назад и встали ждать на острове. Нам же сказали, что бухарцы придут завтра. – Кто сказал? – Старик один. Он там у них, на Атбаше, за сторожа. И сначала он молчал, говорил, что ничего не знает. Тогда Ермак велел дать ему задатку. Соболями. Много дали! И старик смягчился и сказал, что ждите завтра. Мы отошли назад, за поворот реки, вышли там на острове, разбили табор и принялись ждать. – А караулы выставили? – спросил Маркел. – А то как же! – ответил Шуянин. – Всё как положено. Стояли Яков Шемеля, Иван Волдырь и Михайла Заворуха. – Назвав их, Шуянин медленно перекрестился, помолчал, после продолжил: – Больше я их в живых не видал. Убили их в ту ночь. Многих тогда убили! – Как? – А очень просто! Мы же тогда как? Мы же весь день гребли, шли по реке всё вверх да вверх, и утомились казаки! Полегли как снопы. Даже шалашей не ладили. А какая ночь тогда была дрянная! Всё время дождь да дождь. Я сплю. А потом вдруг слышу крики. Кричат по-татарски, и со всех сторон! Я вскочил. А темнотища спросонья какая! Ничего не разобрать! Только слышу – железо гремит, наши кричат немо. И, ещё слышу, кричат: «На струги!» – Кто кричит? – Да кто там разберёт! – со злом воскликнул Шуянин. – А дальше? – Что дальше?! Добежал я до воды. А струги уже отчалили. Я в воду! За весло! В струг завалился, а вокруг кричат, дождь хлещет, гром гремит! Струг понесло, я кричу: «Стой! Куда?! Поворачивай!» Да куда там поворачивай! А стрелы дзынь да дзынь! А что наши пищали в такой дождь?! И что наши сабли, если ничего не видно, и спросонья? И мы пошли и пошли по реке, и ушли. – А Ермак? – Утонул. – Как утонул? – А так. Он тоже с берега сбежал, да оступился и упал. Встал, кинулся вперёд, не удержался и опять упал, и больше уже не поднялся. И Шуянин вновь перекрестился. Маркел, помолчав, спросил: – Ты это сам видел? – Нет, не сам. Другие видели. С другого струга. Мы тогда на двух стругах ушли, а третий, Ермаков, с казной, пропал. Мы всю ночью гребли, а как рассвело, остановились, ждали, думали, может, вернётся кто, догонит. Никто не догнал. Только утром подошли татары и стали по нам с берега стрелять. И мы совсем ушли – сперва по Вагаю, а потом по Иртышу, в Кашлык. Там опять пересчитались. Девяносто девять получилось. Вот сколько мы на Вагае оставили – тридцать семь сабель вместе с атаманской. Маркел помолчал, подумал, а потом сказал: – Так, говоришь, другие видели, как он тонул. А подтвердят, если спросить? – А чего не подтвердить? – сказал Шуянин. – Если видели, конечно, подтвердят. Да ты сам у них сегодня спросишь! – Ладно, – сказал Маркел. – Спрошу. А дальше было что? Если Ермак у берега упал, может, татары его после подобрали. – Если б подобрали, много крику было бы, – сказал Шуянин. – А так и тогда молчали, и теперь молчат. А самому ему не всплыть. Он же тяжелый был, в пансыре. А пансырь у него был знатный! Ему его царь подарил. Немецкий пансырь, в пять колец, сбит мудостно. И ещё сабля у него была, тоже от царя, булатная, по обе стороны от черена до елмана золотом наведена, посмотришь – глаз не отвести. И сабля, и пансырь нам были за тот первый ясак, когда мы огненный запас просили, всем по фунту, а получили на всех один пансырь. Ермак его очень любил! А он его на дно и утащил! Маркел молчал. Потом сказал: – Ну ладно. Это мне ещё надо обдумать. И мы ещё поговорим об этом. Вечером, со всеми! А пока я хотел бы в баньку. Я в баньке с Устюга не был!ГЛАВА 27
Баньку протопили славно. Маркел от души попарился, достал из узла чистое нательное бельё, переоделся, поднялся наверх, выпил шкалик и лёг соснуть ненадолго. Но получилось до самого вечера. Когда Маркел проснулся, солнце уже катилось вниз. Маркел кликнул Ивана, спросил, где есаул, Иван ответил, что скоро придёт. Маркел ещё немного полежал, подумал. Получалось, что Шуянин гнул неправду, но несильно. Эх, в сердцах думал Маркел, сейчас поставить бы его к кресту, и его казаков вместе с ним, но казаки к кресту и так не ходят, а здесь, в такой глуши, не пойдут и подавно. И Маркел насупился. Пришёл Шуянин, сказал с лёгким паром. Маркел его поблагодарил. Шуянин сказал, что стол уже почти готов, но всех казаков не поместит. – Но, – тут же прибавил он, – кто Ермака видал, те все придут. Ага, чтобы было больше крику, подумал Маркел, а вслух опять поблагодарил, конечно. После они ещё немного побеседовали о том да о сём, то есть о всяких мелочах, после чего за стеной зашумели, затопали, а потом вошёл Иван и сказал, что все пришли. Маркел и Шуянин перешли в соседнюю светлицу, в которой за накрытым столом уже сидели с полтора десятка казаков. Маркел их поприветствовал, они ответили. Шуянин, кивнув на Маркела, сказал, что это их товарищ с Волги. Маркел усмехнулся. Они сели, началось застолье. Говорили мало. Чуялось, что Шуянин их всех настращал, чтобы никто не брякнул чего лишнего. Но казаки мало-помалу выпили и начали пошумливать, а потом даже стали у Маркела спрашивать, что слышно нового про Волгу. Маркел поначалу отвечал уклончиво, что Волга как текла, так и течёт, куда ей деться… И вдруг сказал, что много разного стали на Волге говорить про Ермака, что его будто убили с умыслом, а то и наоборот, что совсем не убили, а что Ермак ушёл к татарам и сейчас у Кучума сидит. За столом сперва оторопели, а потом, когда опомнились, разом начали шуметь. Тогда было уже много выпито! Вот кое-кто и начал громко говорить, что всё это брехня и татарские выдумки, никто Ермака не предавал, но и никто его не спас, а он убит и утонул в Вагае! – Убит или утонул? – тут же спросил Маркел. Казаки сбились, притихли. Потом один из них сказал: – Я видел, что он утонул. – И я! – сказал второй казак. – И я! И я! – сказали ещё двое. – Как утонул? – спросил Маркел. – Как люди тонут, так и утонул! – сказал первый из них. Второй сказал: – Он поскользнулся. Там берег сколький, камни. Струг уже отчалил. И темно же было! Маркел усмехнулся и спросил: – А как ты тогда рассмотрел, если было темно? Может, это не Ермак был! – Так я совсем близко стоял! – А если близко, то почему тогда руку не подал? – А я был уже на струге, а он в воде был! А струг понесло. Парус поставили – и понесло. – Но если темно, тогда как… – начал было Маркел. Как один вдруг подскочил и крикнул: – Там же гроза была! Там молнии! Там как шарахнет! Как… Но тут уже вскочил другой и перебил его – крикнул Маркелу: – Так ты нам не веришь, что ли?! Мы что, по-твоему, его нарочно татарам отдали?! Или за деньги продали? За соболя?! И он потянулся за саблей. Маркел быстро глянул на Шуянина. А тот молчал! И усмехался. А тот казак уже кричал: – Кто ты такой?! Кто тебя сюда пустил?! Чего ты здесь вынюхиваешь, скотина?! Братцы, вали его! И они все вскочили с лавок. Маркел тоже вскочил, отпрыгнул в угол, встал спиной к стене и вытряхнул из рукава кистень. И ничего не говорил! Они тоже молчали, ждали, что будет дальше. Тогда Шуянин встал из-за стола, посмотрел на казаков, после обернулся на Маркела и сказал: – Погорячились что-то вы, товарищи. Нехорошо это! И сел. Казаки мало-помалу тоже начали садиться. Маркел убрал кистень в рукав и сел последним. Молчали. Потом один из казаков спросил: – А у кого ты там, на Волге? – У одного купчины я, – как бы нехотя ответил Маркел. – Купчина прослышал, что у вас товар недорогой, вот и послал меня проведать. И про товар проведать, и про то, что вы за люди. Люди же бывают и лихие! Про вас же тоже говорят, что вы атамана своего продали, и как тогда с такими иметь дело? А тут я и сам чуть жив остался. Пока что! И хмыкнул. За столом тоже захмыкали. Маркел покосился на Шуянина. Тот усмехнулся. А потом велел налить. Все налили. И мало-помалу эта свара стала забываться, казаки стали рассказывать, как они здесь, в Сибири, живут, ясачат, никому не кланяются, а Маркел, как он на Волге у купчины прохлаждается, его амбары стережёт, его струги мимо лихих людей проводит, а когда и, если надо, не проводит. Говорили знатно! Потом стали расходиться, потому что так велел Шуянин. Когда все казаки разошлись, Шуянин спросил у Маркела, доволен ли он разговором. Маркел ответил, что доволен. – И что, – спросил Шуянин, – теперь обратно поедешь, в Москву? – Нет, – подумав, ответил Маркел. – Поеду на Атбаш и на тот остров. – Зачем? – Пропали две вещицы царские, – сказал Маркел. – Пансырь немецкий в пять колец и сабля турская, пансырь пятьдесят рублей и сабля семьдесят. Как раз как ваши соболя. – И что? – Как что! – сказал Маркел. – Сыскать надо пансырь и саблю, вот что. Вот туда и поеду. – Да ты одумайся! – сказал Шуянин. – Это же убьют тебя пять раз, пока ты дотуда догребёшь! – А что делать? – с усмешкой ответил Маркел. – Служба у нас такая. Шуянин постоял, подумал и сказал: – Ладно. Может, так оно и надо. И я тебе, может, пособлю. Тут один, тоже купчина, ко мне едет. Но не с нашей стороны. И он, может, возьмёт тебя в попутчики. На этом их разговор закончился. Шуянин кликнул Ивана, Иван нашёл Маркелу угол, постелил. Место было укромное, тёплое, Маркел быстро пригрелся и заснул.ГЛАВА 28
Назавтра Маркел проснулся поздно, когда все давно уже позавтракали. Опять пришлось искать Ивана, тот распорядился, и Маркел поел. А после вышел во двор. Там все были заняты своими делами. Маркел сел на крыльце и принялся ждать, что будет дальше. А дальше ничего пока что не было. Шуянин раза три прошёл мимо него, ничего не говоря при этом. Потом опять прошёл, поднялся на воротную башню и долго смотрел по сторонам на реку. Потом вдруг замахал руками, быстро спустился вниз, начал что-то говорить казакам, а после опять пошёл к хоромам. И вот только на этот раз, проходя мимо, он остановился и сказал: – Едет твой купец. Я вчера о нём рассказывал. Он довезёт тебя до Кашлыка. – Что за купец? – спросил Маркел. – Купец как купец, – сказал Шуянин. – Бухарский. Будешь плов с бараниной кушать, виноградным вином запивать, кальян курить. А приедете в Кашлык, он тебя к продажным девкам отведёт и ещё сам за них заплатит. Маркел покраснел. – А что, разве не так? – сказал Шуянин. – Я тебе что-нибудь недоброе желаю? Да я… Но дальше он договорить не успел, потому что сзади, с башни, закричали, звали Шуянина, и он опять пошёл к воротам. Маркел стоял, смотрел в сторону ворот и представлял, какой из себя будет этот бухарский купец. Он же видал в Москве бухарцев, это был шумный народ, крикливый, навязчивый. Так и сейчас, подумалось, вместе с купцом войдёт галдящая толпа носильщиков, которые притащат сундуки, мешки с товарами, тюки дорогих материй… А получилось иначе. Открылись створы ворот, и в полной тишине в крепость вошёл только один купец, без челяди. И был он в цветастом бухарском халате, запахнутом наискось, и в длинноносых бухарских сапогах, а сам из себя он был короткобородый, тёмнолицый, бритый наголо и с маленькой скуфейкой на макушке. Шуянин его поприветствовал. Бухарец провёл ладонями по лицу и что-то пошептал. Шуянин взял бухарца за руку, повёл. Маркел встал со ступеньки и посторонился. Шуянин и бухарец прошли мимо него, как мимо пустого места, поднялись по крыльцу и скрылись в хоромах. Маркел опять сел. Потом, посидевши, снова встал и даже походил туда-сюда. Время шло, а Маркела не звали, и он начал сердито повздыхивать. Потом пришёл Иван, а с ним ещё двое незнакомых казаков. Маркел с ними постоял, поговорил, попробовал расспрашивать про их прежнюю жизнь в Кашлыке, но они были об этом не очень разговорчивы. Зато сами с большой охотой спрашивали про Маркелово житьё на Волге. Маркел отвечал с опаской, боялся ляпнуть нелепицу, ведь он на Волге не бывал ни разу. Поэтому при первой же возможности он перевёл свой рассказ на то, как он в прошлом году со своими добрыми товарищами украл из кабака сорокавёдерную бочку водки, как они убежали с ней в лес и там сели пить на поляне, пили три дня и три ночи, а после он неделю ничего не помнил, пока не очухался в губной избе, на лавке, с него уже сняли рубаху и собирались пороть… Ну и так далее. Много чего Маркел тогда рассказывал, и очень складно. А сам всё время думал только об одном: чего это Шуянин не зовёт его наверх, не будет ли какой беды, не затаил ли он на Маркела зло за его вчерашние упрёки про татьбу и пропавший ясак? Но это так только думалось, а со стороны никак нельзя было предположить, будто Маркел чем-то озабочен. Он же тогда так ловко балагурил, вокруг него сошлось уже немало любопытных, и он бы им ещё рассказывал… Но тут открылась дверь, и на крыльцо вышли бухарец и Шуянин. Шуянин ткнул в Маркела пальцем и сказал, что это он. Бухарец улыбнулся. Маркел назвал себя. Бухарец, вдруг перейдя на татарский, спросил, куда он едет. Маркел по-татарски же ответил, что в Кашлык, а там дальше будет видно. Бухарец отёр губы и сказал, что это хорошо, потому что им по пути. И тут же велел собираться, потому что, сказал, он спешит. Маркел велел Ивану, чтобы тот принёс его узел. Иван кинулся в хоромы, а бухарец сошёл с крыльца и пошёл к воротам. Маркел кивнул Шуянину и поспешил за бухарцем. Не по-людски это как-то, думал на ходу Маркел, надо было что-нибудь сказать, а то разбежались как собаки. Ну да ладно! Открылись ворота. Бухарец и Маркел, уже с узлом, Иван успел, вышли из крепости. Впереди, у берега, стояла большая лодка, в ней сидели четверо гребцов. Когда Маркел и бухарец подошли к той лодке, Маркел с удивлением увидел, что никаких товаров в ней нет. Да что это за купец такой, подумалось, нет ли здесь какого подвоха? Маркел бросил узел в лодку, ощупал кистень в рукаве и обернулся на крепость. Ворота там были уже закрыты, а в воротной башне, рядом с караульным, стоял Шуянин. Маркел хотел было махнуть ему рукой, да почему-то вдруг перекрестился – и отвернулся к бухарцу. Глаза у бухарца и без того были маленькие, чёрные, а тут он их ещё сильней прищурил и жестом пригласил садиться. Маркел полез через борт. За ним полез бухарец. Гребцы оттолкнулись вёслами от берега, река сразу подхватила лодку. Маркел и бухарец сидели один напротив другого и молчали. Первым не выдержал Маркел и, опять по-татарски, спросил: – А как тебя зовут, купец? И тот по-татарски ответил: – Называй меня просто: уважаемый.ГЛАВА 29
День тогда был тёплый, солнечный, берега пологие, открытые. И даже лес по берегам был уже не такой густой, как раньше. Почти как у нас, думал Маркел. Но только ему захотелось об этом сказать, как бухарец достал из халата маленькую книжицу и начал читать. Читал очень внимательно, иногда даже отлистывал обратно, перечитывал. Буквы в книжице были мудрёные, не наши. Маркел долго терпел, молчал, но потом не удержался и спросил, далеко ли ещё до Кашлыка. Спросил по-татарски. Бухарец, подняв голову, ответил тоже по-татарски: – Три дня. – И продолжил читать. Маркел ещё сильнее заскучал. Шло время, солнце начало клониться к западу, а бухарец всё читал, не поднимая головы. А потом он вдруг долистал до такого места, где ничего не было написано. Тогда он достал из рукава небольшую палочку и начал ею на чистом месте записывать. Маркел смотрел как зачарованный. Бухарец записал немного, остановился и поднял голову. Маркел спросил: – Что это? – Это называется «серебряная игла», – ответил бухарец. – Очень удобная в дороге вещь. Если что-нибудь придёт на ум, можно сразу записать для памяти, а вечером перечитать и записать подробней. Маркел подумал и сказал: – За такие книжечки можно попасть на дыбу. – Можно, – кивнул бухарец. – Но это если записывать не то, что надо. А я записываю только то, что касается моих торговых дел, и это нигде и никем не возбраняется. Конечно, – продолжал бухарец, – я мог бы вообще никуда не ездить, а поручить всё своим торговым агентам. Но я хочу, чтобы мои дела шли успешно, и поэтому предпочитаю всё рассматривать своими глазами и ощупывать своими руками. – А чем ты торгуешь? – спросил Маркел. – Сейчас ничем, – сказал бухарец. – Я пока что езжу по этим краям, присматриваюсь, прикидываю возможную прибыль, учитываю возможные потери, пытаюсь предусмотреть возможные неожиданности – и вот только уже после всего этого, вернувшись домой, я приму окончательное решение. А ты зачем едешь в Кашлык? Маркел внимательно посмотрел на бухарца, подумал и сказал: – Кышлык это только половина пути. На самом же деле я еду на ярмарку в Атбаш. – В Атбаш? – удивился бухарец. – Но тамошняя ярмарка ещё очень нескоро – в августе. – Я знаю это, – ответил Маркел. – Но я хочу приехать заранее, присмотреться и прицениться. Бухарец улыбнулся и спросил: – А что у тебя за товары? Или тебя кто-то послал? – У нас с одним моим товарищем общее дело, – ответил Маркел. – Первым поехал я. Если мой товарищ посчитает нужным, то он тоже может съездить и проверить то, что я ему скажу. – Вот это самое неприятное в совместных сделках, – кивая головой, сказал бухарец. – Поэтому я всегда стараюсь проводить свои дела самостоятельно. Но есть и другие мнения, я знаю! И, кстати, а что у вас за товар? – Об этом ещё рано говорить, – сказал Маркел. – Это разумно, – снова закивал бухарец. И спросил: – А откуда ты знаешь казака Шуянина? – Да я его и не знал до вчерашнего дня, мне его добрые люди присоветовали, – сказал Маркел. – Гм! Добрые люди! – насмешливо повторил бухарец. – А я так думаю, что они совсем не добрые, или совсем несведущие, потому что иначе они бы посоветовали не связываться с этим человеком. – Но ты же сам связался! – Я разве связался? Нет! Я просто ехал мимо и остановился, потому что мне было так приказано. – Удивительно! – сказал Маркел. – А вот меня никто не останавливал, когда я проплывал мимо них. – Ха! – усмехнулся бухарец. – Ты одет, как они, и выговор у тебя такой же, как у них, зачем им тебя останавливать? Но когда плывёт кто-нибудь из наших, или из здешних татар, то люди казака Шуянина обязательно их останавливают и допрашивают, а то и отнимают часть товара. Но даже и это не так страшно, – продолжал бухарец, опять улыбаясь. – Многие занимаются подобным разбойным промыслом. Есть у нас в Бухаре такие люди, есть такие и здесь. Или были раньше, как всем известный казак Тимофеевич, и с этим нужно смириться, и люди смиряются. У каждого своё ремесло, одни наживают товары, другие их отнимают. А казак Шуянин хочет большего! – продолжал бухарец уже громким голосом. – Он хочет всех здесь покорить, подвести под свою руку, а самому стать здешним ханом! Даже казак Тимофеевич на это не замахивался, а отдавал здешнее ханство под управление вашего великого хана. А Шуянин сам задумал стать великим! Но кем тогда станет Кучум? А кем Сейдяк? А все их братья и дядья, и сыновья, и племянники? Нет! – засмеялся бухарец. – Этого никто не допустит! Шуянина убьют, и очень скоро. Не должен долго жить человек с такими мыслями. Вот если бы он просто собирал ясак и по умеренной цене продавал его добрым людям, тогда бы он жил долго и в должном достатке. – Может, оно и так, – сказал Маркел. – Но я ни у кого ничего отнимать не собираюсь, а только хочу привезти нужный товар и получить за него прибыль, вот и всё. И я буду очень благодарен, если ты подскажешь, как попасть в Атбаш. Бухарец улыбнулся. Маркел прибавил: – Когда я буду этой осенью ехать туда с товарами и встречу тебя, то обязательно сделаю так, чтобы ты обрадовался нашей встрече. Бухарец снова улыбнулся, провёл ладонями по лицу и заговорил: – На самом деле это очень просто. Вначале надо от Кашлыка два дня плыть вверх по Иртышу, а потом повернуть направо, на реку Вагай, и плыть по ней ещё три дня, и это опять вверх по течению. Никаких селений ты там за это время не увидишь. Зато потом, как только лес по обоим берегам кончится и начнётся поле, то опять на правом берегу ты увидишь пристань и лодки, а выше по берегу – несколько хижин, так называемых полуземлянок. Вот это и будет то, что ты ищешь – урочище Атбаш, или «Лошадиная голова», если говорить повашему. Сейчас там будет пусто, ты только увидишь большую вытоптанную поляну и, может, ещё какие-нибудь остатки загонов, в которых в прошлом году стояли наши верблюды, а теперь там только кое-где торчат из земли жерди… И посреди поляны стоит одна высокая, толстая жердь, а на неё насажен лошадиный череп. Место же там нехорошее, дикое, там кони дохнут, вот почему оно так называется и вот почему там выставлен тот череп. Поэтому никто там не селится и не живёт. Там только сидит сторож, очень старый человек, и вот у него ты можешь спросить, что ему известно о том, кто в этом году собирается приехать туда из наших мест. И он, возможно, тебе кое-что расскажет, если, конечно, ты сможешь его заинтересовать. И вот ещё совет: много ему не предлагай, потому что если предложишь много, то он подумает, что тебе это очень нужно, и сразу начнёт привередничать. Говорят, примерно так в прошлом году ошибся казак Тимофеевич, когда пришёл туда и начал расспрашивать… Тут бухарец вдруг замолчал, улыбнулся и спросил: – Ты же, я думаю, знаешь, что после этого там произошло? Маркел насторожился, но ответил: – Да, знаю. – Что знаешь? – Знаю, что старик сказал Ермаку Тимофеевичу, будто бухарские купцы придут завтра, и у них будет много товаров, их надо обязательно подождать, и Ермак Тимофеевич остался ждать. А ночью, на его войско напали татары, Ермак Тимофеевич прыгнул с берега в лодку, оступился и упал в воду, и утонул. – Нет, – сказал, улыбаясь, бухарец. – Это было не так. Казаки побежали к лодкам, а Тимофеевич и несколько таких же храбрецов, как он, их прикрывали. Тимофеевич очень достойно бился. Но Кутугай оказался удачливей – и заколол Тимофеевича ударом копья снизу в горло под подбородок. Маркел осторожно спросил: – Кто тебе такое рассказал? – Кутугай, татарский богатырь, главный сборщик ханского ясака. – А он разве правду сказал? – А зачем ему лгать? За двадцать лет своей службы у хана даруга Кутугай убил столько ханских врагов, что ему уже не нужно выхваляться. Хотя казак Тимофеевич – это был очень сильный противник, и Кутугай говорил, что если бы не заговорённое копьё, то он бы не смог его одолеть. На Тимофеевиче же был надет заговорённый пансырь, а в руке у него была заговорённая сабля. Но копьё длинней сабли, вот Кутугай и победил! Маркел долго молчал, потом спросил: – А где сейчас эти сабля и пансырь? Бухарец тихо засмеялся и сказал: – Ты смешной человек. Может, тебе ещё сказать, где спрятан ключ от ханского гарема? Маркел опустил глаза. А бухарец вновь начал читать свою дорожную книжицу. Больше они в тот день ни о чём существенном не разговаривали. Вечером они пристали к берегу, слуги бухарца развели костёр и приготовили ужин. На ужин была каша из сарацинского пшена с копчёным мясом и настой из трав в белых чашках без ручек. Потом бухарец ушёл отдыхать в расставленную для него палатку, а Маркел, вместе со слугами бухарца, остался у костра и спал очень плохо, потому что его и слуг бухарца тоже всю ночь грызла мошкара. И ещё всё время думалось о Кутугае. Вот кого бы допросить, думал Маркел, вот кто сказал бы и про саблю, и про пансырь! Если, конечно, это он убил. И почему, если убил, все говорят, что Ермак утонул? Почему никто, кроме бухарца, про Кутугая не рассказывал? Или бухарец нарочно так сказал, чтобы запутать? А если захотел запутать, то, значит, знает, кого путает, а если знает, то… Ну и так далее. Много о чём Маркел успел тогда подумать и только под утро заснул.ГЛАВА 30
На следующий день погода выдалась дрянная, ветреная, то и дело начинался дождь. Бухарец уже не доставал свою дорожную книжицу, теперь он просто сидел, закрыв глаза, время от времени проводил ладонями по лицу и едва слышно молился по-своему. Маркел не знал, чем себя занять… Но потом вдруг увидел, что река, по которой они плывут, вливается в другую, куда более широкую реку, и теперь от берега до берега будет не меньше ста саженей! Да и течение стало сильней. Лодку начало крутить. Гребцы вскочили и принялись грести что было сил. Мало-помалу лодка выровнялась и теперь плыла уже не посреди реки, а ближе к правому берегу. Гребцы сели и опять гребли вполсилы. Маркел спросил у них, что это за река такая. Они сказали, что Тобол. Маркел посмотрел на бухарца. Бухарец молился. Маркел стал смотреть на реку и на берег. Вначале это ему было интересно, но потом быстро наскучило. И Маркел опять молча сидел, позёвывал. А дождь то снова начинался, то стихал. В полдень они пристали к берегу, развели кое-какой костёр, немного перекусили и поплыли дальше. Дождя больше не было, но бухарец всё равно не доставал свою книжицу, а просто смотрел на Маркела и улыбался. Ну чего ты на меня так смотришь, настороженно думал Маркел, хочешь сказать, скажи, хочешь спросить, спроси. А после всё-таки не удержался и сам первым спросил – но не про Кутугая, хоть про это более всего хотелось, а про то, приезжали ли бухарцы на Атбаш уже после того, как Ермака убили. Бухарец сказал, что приезжали. Тогда Маркел спросил, что они привозили. Да как всегда, сказал бухарец, привозили ткани всякие китайские, травы лечебные, ковры бухарские, сарацинское пшено, муку, различные приправы, пряности, украшения и драгоценности, златотканые халаты, сабли, воинские доспехи, сапоги и много ещё чего другого, и всё это очень дёшево. А взамен брали меха, по большей части соболиные, и не скупились. – А порох у них есть? – спросил Маркел. – Нет, – без особой охоты ответил бухарец. – Огненного боя у них нет. Но они купили бы. Маркел ничего на это не ответил, отвернулся. Больше они в тот день ни о чём значительном не говорили. Ночью Маркел думал о порохе и о пищалях. На следующий, третий день, бухарец наконец сказал, что завтра они будут в Кашлыке. Маркел сразу спросил, как ему там найти лодку до Атбаша. На что бухарец ответил, что у него на кашлыкской пристани много знакомых, вполне приличных людей, которые за небольшую плату или даже просто в расчёте на будущую прибыль помогут Маркелу. Тогда Маркел стал спрашивать про Бухару, что это за город такой, какой там товар в цене и так далее. Такой поворот беседы бухарцу не очень понравился, и поэтому он строгим голосом сказал, что чужим купцам к ним ходу нет, потому что так велел Искандер-хан, правитель Бухары. Это беда, сказал Маркел. Ну почему сразу беда, сказал, опять улыбаясь, бухарец, он же сказал, что чужих не пускают. А кашлыкцы для них не чужие! Потому что всем известно, что Искандер-хан двоюродный брат Кучум-хана, их отцы – родные братья, а сами они с давних пор очень дружны между собой. Так что, продолжал бухарец, если в Бухару приезжают купцы из Кашлыка, то их принимают с большой радостью, особенно если они везут с собой такие нужные товары, как соболиные меха или порох, или ручные пищали, а ещё лучше большие пищали, для стен. Маркел на это улыбнулся и сказал, что большие пищали для стен, так называемые пушки, это очень дорогой товар, и, кроме того, очень тяжёлый, его не всякая лодка удержит. Да и в тех землях, где умеют лить пушки, строго-настрого запрещено продавать их иноземцам. Другое дело ручные пищали, продолжил Маркел, они занимают мало места и не доставляют много хлопот при перевозке. Но зато если великая царская стража поймает кого-нибудь с таким товаром, то провинившегося бросают в котёл с кипящим маслом, а всё его имущество забирают в казну. Так что, закончил Маркел, прежде чем приступать к такому непростому делу, ему нужно посоветоваться с кое-какими людьми. Бухарец отвернулся и насупился. Остальное время они плыли молча. Даже когда на берегу показалось большое селение и Маркел спросил, что это, бухарец сказал только: – Это юрт. Здесь живут люди – и всё. Потом, проплыв ещё немного, лодка начала поворачивать. Маркел приподнялся и увидел, что река Тобол, и без того широченная, сливается с ещё одной рекой, такой же широченной, и гребцы пытаются повернуть лодку на эту новую реку, что им пока что мало удаётся. – Что это за река? – спросил Маркел. – Иртыш, – ответил бухарец. Маркел смотрел по сторонам. Гребцы упирались изо всех сил. Лодка очень медленно поворачивала на Иртыш. Теперь нужно будет плыть вверх по течению, думал Маркел, а до этого они всё время плыли вниз. Зато если отсюда повернуть обратно, то теперь уже всё время придётся плыть вверх по течению, а это сперва здесь, по Тоболу, потом по Тавде, потом по Лозьве, потом по тому ручью… И пока до дедушки Макара доберёшься, опять наступит зима. И это будет только полдороги до Москвы, а сил уже никаких не останется. Подумав так, Маркел опять стал смотреть на Иртыш, теперь уже без всякой радости. А когда они наконец причалили, Маркел также без всякой радости вышел из лодки, потом также без радости перекусил, лёг при костре, начал отмахиваться от мошкары – и из-за этого опять ночью почти не спал. Ну и, кроме того, ночью опять было о чём подумать. Да вот хотя бы о том, что если сибирские татары и бухарцы одно племя, то Ермаку не нужно было ходить на Атбаш, а теперь это не нужно и Маркелу. Нечего туда соваться! Да только как не сунешься, если у тебя такая служба?! Маркел вздыхал, ворочался. Так прошла третья ночь. А на четвёртый день, сразу с утра, бухарец сперва дольше обычного молился, а после сел в лодку и сказал, что уже к полудню они будут в Кашлыке. И вдруг прибавил по-русски: – Готовься! А чего тут готовиться, думал Маркел, что на роду написано, того не миновать, а что не написано, того не сыщешь. И смотрел по сторонам. На реке было немало лодок, и больших, и маленьких, плывущих туда и сюда. С одной стороны Иртыша берег был очень высокий, а с другой – пологий. Кашлык будет на высоком, загадал Маркел. И не ошибся. Вскоре на высоком берегу показался город, обнесённый частоколом. Над частоколом возвышалась каменная башня с золочёным верхом. Маркел подумал: это минарет. А сам город был какой-то совсем небольшой, даже не город, а кремль без посада. В Устюге был такой же кремль, а то даже и больше. Зато какой тут высоченный берег! Чем ближе подплывала к нему лодка, тем нужно было сильней запрокидывать голову, чтобы увидеть городскую стену. А минарета вовсе видно уже не было. Лодка плыла почти под самым берегом. Берег вначале шёл прямо, потом вдруг сделал крутой поворот, и Маркел увидел небольшую пристань, вдоль неё стояло много лодок. По настилу пристани ходили люди, все они были одеты по-татарски. Маркел стал рассматривать пристань. До неё было уже совсем недалеко, чуть больше сотни саженей. Но тут бухарец что-то злобно выкрикнул. Маркел обернулся к нему. Однако бухарец уже успокоился и, как всегда улыбаясь, сказал: – А ты обманул меня, чердын. Тебе не на ярмарку надо, иначе бы не ждали тебя эти двое! Маркел снова посмотрел на пристань, и увидел там, на самом краю мостков, двоих дюжих молодцов в красных халатах да ещё и с копьями. Оба они смотрели прямо на Маркела. Маркел опять повернулся к бухарцу. Бухарец сказал: – У меня есть тамга, и в ней указано, кто я такой. А у тебя что есть? Маркел подумал и сказал по-русски: – У меня нет тамги. Но ты можешь сказать им, что я твой слуга. Можешь? – Могу, – по-татарски ответил бухарец. – А ты понимаешь по-бухарски? А ты умеешь читать суры? – А ты им скажи, что я немой! – И они начнут тебя пытать, – сказал бухарец, – ты не выдержишь и закричишь, тогда что? Тогда и меня начнут пытать. А кто ты такой, чтобы я из-за тебя всем рисковал? Почему ты сразу не назвал себя? Почему ты меня обманывал? Маркел ничего на это не ответил. Он смотрел то на гребцов, то на тех стражников на пристани, то снова на гребцов. Лодка быстро приближалась к берегу. Бухарец снова усмехнулся и сказал: – С тобой случилась беда. Но у тебя ещё есть время. Прыгай в воду! И не успеет твоё тело ещё достичь дна реки, как твоя душа уже вознесётся на небо. Во Имя Аллаха, Милостивого и Милосердного… С этими словами он надел чалму и повернулся к пристани. А Маркел, глядя за борт, подумал, что утопиться он всегда успеет, а тут за него святой Никола ещё может заступиться – и перекрестился. Лодка тем временем уткнулась в плахи пристани. Бухарец вышел на мостки, показал стражникам тамгу, они что-то спросили у него, он указал на Маркела. Они сошли в лодку, схватили Маркела и заломили ему руки. Маркел согнулся пополам, они стали бить его, а он только покрякивал. Они перестали бить, он замолчал. Они вывели его на пристань и повели мимо толпы зевак к себе.ГЛАВА 31
Они шли по пристани, толпа перед ними расступалась. Маркел не знал, куда его ведут, ему же наклонили голову, и он так и шёл, глядя себе под ноги, на доски пристани. Потом доски кончились, Маркела вывели на берег, провели ещё немного и остановились. Маркел распрямился и прямо перед собой увидел большую глинобитную избу, на крыльце которой стоял ещё один стражник, тоже в красном халате, но уже без копья, зато с саблей. Этот, с саблей, внимательно посмотрел на Маркела, а после кивнул входить. Маркел вошёл. Стражники вошли за ним. В избе было довольно сумрачно. Маркел присмотрелся и увидел, что напротив него, у стены, на ковре, сидит, по-татарски, конечно, строгий старик в чалме. Старик, помолчав, спросил у Маркела, кто он такой. – Торговый гость Иван Косой из Вологды, – ответил Маркел. – Торгую разным товаром. Приехал посмотреть, какие у вас тут места, чем живёте, в чём у вас нехватка, а чего наоборот, излишки. – Это очень хорошо, – сказал старик. – Торговые люди у нас в почёте. Но про тебя нам донесли, что ты никакой не купец, а тебя к нам казаки подослали. – Э, нет! – начал было Маркел. – Да я сказаками сам никогда… Но тут старик махнул рукой, и стражники, а они стояли у Маркела за спиной, сразу на него накинулись и принялись обыскивать. Маркел стоял столбом, не шевелился. Стражники нашли и отобрали у него нож из-за голенища, кистень из правого рукава, подорожную из левого, целовальный крест из пояса и клеймо-овчинку из-за пазухи. Нож, кистень и целовальный крест старик, почти не разглядывая, положил рядом с собой на ковёр, овчинку повертел и так и сяк и положил туда же, а вот подорожную, как он ни щурился, но так и не смог прочесть. Тогда он спросил, что здесь написано. Маркел ответил, что он этого не знает. – Как это не знаешь?! – сердито удивился старик. – А зачем тогда носишь с собой? – Приказано носить, я и ношу, – сказал Маркел. – Кто приказал? – Не помню. Старик внимательно посмотрел на Маркела, усмехнулся, сказал: – Хорошо! – Потом вдруг взял с ковра овчинку и спросил: – А это что? – Я этого тоже не помню, – ответил Маркел. – Зато помню я! – сказал старик и даже засмеялся. – Это вашего царя тамга, двухголовый орёл. Значит, тебя царь сюда послал. Тайком! Значит, ты царский лазутчик. Вот какая нам досталась честь! Думали, возьмём простого казака, а тут вдруг царский слуга! – Старик даже потёр ладонью об ладонь от удовольствия и продолжал: – Царский слуга, это очень хорошо. А что простой казак? Ну, вывели бы мы тебя во двор, получил бы ты своих сорок палок по пяткам, и на этом всё. А так дело сейчас ещё только начинается! С этими словами старик встал с ковра и повернулся к выходу. Стражники подхватили Маркела и потащили следом. И опять они пошли по пристани, опять Маркелу заломили голову, и он видел только доски под ногами. Потом они сошли на берег и пошли уже не таким скорым шагом, и уже не давили в затылок. Маркел распрямился на ходу, мельком осмотрелся и увидел, что они идут по дну оврага, вдоль маленькой речки. Шли вверх по течению. Маркел оглянулся и увидел – речка течёт к пристани. Маркел опять глянул вверх. С одного края оврага, на самом краю, рос густой лес, а с другого стояли стены крепости. Овраг был на удивление глубокий, саженей чуть ли не с полсотни. Маркела толкали в спину, чтобы он не отвлекался, и он шёл. Тропка стала мало-помалу забирать всё выше и выше в гору. И как это Ермак такую неприступность взял, думал Маркел, то и дело поглядывая вверх, на крепостные стены. Стены были, как в Пелымском городке, такой же частокол, только повыше и потолще. А тропка поднялась уже довольно высоко, Маркел, если удавалось оглянуться, видел вдали внизу, под горой, пристань – там, где в Иртыш впадала эта речка, которая, как он после узнал, называется Сибирка. А тогда он просто шёл всё время в гору, где уже были видны ворота крепости. Или, правильней, кремля кашлыкского. Когда они подошли к воротам, там сбоку открылась небольшая калитка, и они вошли в неё. Кашлыкский кремль был совсем небольшой, домов там было, может, с два десятка, стоявших в одну улицу. Дома были глинобитные, побеленные извёсткой, с очень маленькими окнами, а в середине улицы, на площади, с одной стороны стоял ханский дворец, тоже глинобитный и побеленный, но трёхэтажный, а с другой – высокая мечеть и при ней каменный, очень высокий минарет с позолоченным верхом. Это его Маркел видел ещё с реки. А теперь он проходил мимо него. Правильней, его вели – и подвели к ханскому дворцу, но не к главным, тоже позолоченным, дверям, а сбоку к маленькой тесной двери, через которую Маркел едва протиснулся. Во дворце было темно. Маркела взяли под руки и повели. Долго шли. Потом куда-то завели и приказали сесть. Маркел сел на пол, по-татарски. Вздули огонь, зажгли плошки. Когда они разгорелись, Маркел увидел, что перед ним на ковре сидит, судя по одеждам, какой-то очень важный татарин. Это ханский мурза, почему-то подумал Маркел. Мурза сидел, облокотившись на подушку, и будто не видел Маркела. Потом вдруг спросил: – Ты кто такой? Маркел не ответил. Тогда из темноты показался старик с пристани и подал мурзе Маркелову подорожную. Мурза принялся читать. Читал быстро и легко. А прочитав, посмотрел на Маркела, усмехнулся и сказал: – Маркел, сын Петра, человек из Москвы, царский лазутчик, вот ты кто. А сюда зачем приехал? Что ещё нужно здесь твоему повелителю? Он уже присылал к нам своих воинов, и мы их всех перебили. А почему на этот раз он прислал только тебя одного? Убить одного очень просто, разве твой царь этого не знает? Или он задумал что-то другое, недостойное царя? Маркел по-прежнему молчал. Мурза усмехнулся и сказал: – Если ты молчишь, значит, тебе нечего мне возразить, значит, твой царь и в самом деле задумал недоброе дело. Но разве царь на такое способен? Или ваш царь уже не царь, а он по-прежнему наш раб, как были нашими рабами его предки? Вот что тогда сказал мурза. Что тут оставалось делать? И Маркел ответил: – Нет, ничего недоброго мой царь ни сам не замышлял, ни мне не наказывал. Но то, что он мне наказал, я могу рассказать только вашему хану. Мурза засмеялся и сказал: – И ты что, ничтожный, в самом деле думаешь, что наш великий хан захочет тебя видеть? – Я ничего не думаю, – ответил Маркел. – Кто я такой, чтобы думать? Я только повторяю то, что мной было услышано. – От кого услышано? – тут же спросил мурза. Маркел на это только усмехнулся. Тогда мурза резко взмахнул рукой. Стражники тут же схватили Маркела, подняли и потащили прочь. Маркел ни о чём уже не думал, а просто ждал, чем это кончится. Ну а пока что было так: Маркела вдруг остановили, втолкнули в какую-то каморку и с лязгом закрыли за ним дверь. Маркел немного постоял, ощупал вокруг себя стены, они были голые, шершавые, и опустился на пол. Пол был глинобитный. В каморке было холодно, сыро и совершенно темно. Поначалу ещё было слышно, как за дверью ходят туда-сюда стражники и иногда о чём-то переговариваются между собой, а потом и эти звуки замерли, и стало совсем тихо. Маркел задумался. Больше всего думалось о том, как это так получилось, что его сразу схватили. Значит, заранее знали, что он едет! Значит, его кто-то предал. А кто? Да тут выбор небольшой – или купец-бухарец, или кто-то из своих, шуянинских. И почему бухарец, это ясно, купцы часто грешат соглядатайством, платят им за это хорошо. Но если предал кто-то из шуянинских, то, значит, измена в крепости, и дальше там может случиться такое, о чём сейчас лучше не думать… А вот думалось! И даже когда Маркел пытался думать о другом, то его думы всё равно быстро сворачивали то на бухарца, то на шуянинских казаков, а то даже и на самого есаула Шуянина, который, мало ли, не приведи Господь, из-за того, что Маркел начал спрашивать его о том, куда пропал прошлогодний ясак… Нет, этого никак не может быть, перебил сам себя Маркел. Хотя, с другой стороны, чего только в жизни ни случается. Так что пока лучше не спешить с суждением, а подождать и посмотреть, что будет дальше. И Маркел, тряхнувши головой, сел ровно, подумал, что всё в руце Божьей, и начал читать молитвы, которые помнил. Но, правда, читалось недолго, а после снова думалось то о том, кто это мог его предать, и зачем, и как этот, неизвестно кто, успел обогнать Маркела и первым приплыть в Кашлык, а также почему… Ну и так далее. И так прошло немало времени, как вдруг послышались шаги, открылась дверь, и двое стражников, уже других, наверное ханских, потому что они были в золочёных халатах, велели Маркелу выходить. Маркел вышел. Ему приказали снять шапку. Он снял. Велели снять шубу. Он снял. Велели снять сапоги… И вот только тут он заартачился, стал вырываться. Его ударили по голове, и он обмяк. С него сняли сапоги и, уже босого, повели куда-то в темноту. Какие у них нравы дикие, в сердцах думал Маркел, зачем перед смертью сапоги снимать, снимали бы уже после того, когда убьют, а так позор какой – босым на тот свет! Прости, Господи! Маркел опять перекрестился и стал читать «Отче наш».ГЛАВА 32
Но дочитать не успел, потому что его опять остановили, повернули, откинули перед ним ковровый полог – и он вошёл в большую, богато убранную хоромину. Света в ней почти что не было, а только там-сям горели плошки. А посреди той хоромины, на короткой золочёной лавке, с золочёными же подлокотниками, сидел совсем ещё не старый человек в золочёном червлёном халате и в высокой соболиной шапке, усыпанной драгоценными каменьями. – Ниц, собака! – злобно прошептали сзади. Маркел опустился на колени. А тот человек на золочёной лавке – нет, на троне, конечно, подумал Маркел, – а тот человек усмехнулся, огладил коротко стриженную бороду и сказал: – Вот ты какой, царский посол. Босиком и без шапки. А где твоя сабля? – Я не посол, – сказал Маркел. – А кто? Маркел молчал. – Кто ты? – строго спросил тот человек. – И как смеешь ты являться ко мне, если даже не знаешь, как себя назвать?! Но Маркел и теперь ничего не ответил. Тот человек снова усмехнулся и спросил: – Ну а кто я такой, ты хоть это знаешь? – Знаю, – сказал Маркел. – Ты – великий хан Кучум. – Царь Сибирский, – прибавил Кучум. – Царь Сибирский, – повторил Маркел. – А ты кто? – опять спросил Кучум. Маркел тяжко вздохнул, но снова промолчал. – А ты – никакой не купец, а переодетый лазутчик по имени Маркел Косой, – ответил за него Кучум. – Ты из Москвы по царскому велению приехал. По дороге заезжал к Ваське Шуянину, вору главному казацкому, с ним пьянствовал, потом с ним о чём-то сговорился и сюда приехал. Так было? – Ну, может, и так, – без особой охоты ответил Маркел. – А о чём у тебя с ним был сговор? Маркел усмехнулся и ответил: – Да не было у меня с ним никакого сговора. Ну как бы это я, от самого московского царя по делу ехавши, стал бы с казаками сговариваться? Царь с казаками разве дружбу водит? – Ладно, – сказал Кучум. – Пусть будет как ты говоришь. Но тогда зачем ты сюда ехал, если не к казакам? Какое ещё у царя тут может быть дело? У него тут никого своего не осталось, мы всех его людей побили. – Может, побили, а может, и нет, – сказал Маркел. – Об этом говорят по-разному. Иногда даже так говорят, что будто сам Ермак, главный казачий атаман, в живых остался. – Ермак? – удивлённо переспросил Кучум. – Ермак, – кивнул Маркел. – Ермак Тимофеев сын, волжский казак и атаман, который тебя побил. – Нет, – сказал Кучум с улыбкой, – Ермак меня не побивал. Моих слуг побивал, это верно, а я тогда сам ушёл отсюда. А вот теперь вернулся. А где Ермак? Почему он не возвращается и всем нам не показывается, если его не убили? – Вот меня для того и послали, чтобы я это проверил, – ответил Маркел. – Не верит мой великий царь, что Ермака могли убить, вот он и велел мне ехать к вам сюда и найти Ермакову могилу. А не найду могилу, не поверит. Кучум заулыбался и сказал: – Убит, убит! И утонул в реке. Мои люди видели. – А другие люди говорят, что видели, что он не утонул, – сказал Маркел. Кучум прищурился и медленно спросил: – Ты кому больше веришь, мне или тем людям? – Тебе, великий хан, – сказал Маркел. – И если ты скажешь, что сам видел, как Ермак утонул, то я тебе сразу поверю. – Э! – громко сказал Кучум. – Я сам не видел, конечно. Не ханское это дело по ночам по кустам прятаться. Но другие видели, как это было, и я им верю. – Вот! – сказал Маркел и улыбнулся. – Вот я поэтому и еду, что царь сказал: съезди и найди то место, где убили Ермака и где его похоронили. Не верит царь, что вы смогли его убить. Ермака убить нельзя! Кучум улыбнулся и сказал: – Это другим было нельзя, а мои люди смогли. Маркел засмеялся. Кучум зло спросил: – Ты почему смеёшься?! – Да потому, – сказал Маркел, – что как они это могли, если на нём был волшебный пансырь, который ничем нельзя пробить! – А! – весело сказал Кучум и засмеялся. – Мало ли что люди выдумают! Не было там никакого колдовства, а просто вышел вперёд наших всех наш самый знаменитый силач Кутугай, вот так взял копьё, вот так подступил к Ермаку и ударил! Выше пансыря, сюда, в живую жилку! И в один раз убил. – А! – сказал Маркел. – Вот как! А бил бы в пансырь, не пробил бы. Ермаку этот волшебный пансырь царь пожаловал. Пансырь немецкий, в пять колец, вот здесь и здесь круги железные с орлами, Ермак его никогда не снимал. И ещё была сабля царская, Ермак всегда с ней ходил, из рук не выпускал. Поэтому вот если показать царю ермаковские саблю и пансырь, тогда он сразу же поверит, что Ермак убит и что у тебя в войске есть такие силачи, которых у нас никогда раньше не было и, наверное, не будет никогда. Кучум подумал и сказал: – Нет, я про царский пансырь ничего не слышал. И также про царскую саблю. Мне только сказали, что после того, как Ермака убили, мои люди поделили его вещи. Но вот кто делил и к кем и что кому досталось, я не спрашивал. Не к лицу мне входить в такие мелочи. – Так-то оно так, – сказал Маркел. – Но если делили вещи, значит, Ермак не утонул. Потому что если бы он утонул, то и все вещи с ним бы утонули. А так нет, а так их делили. Снимали с убитого. А потом его похоронили же, а не как собаку бросили! И, значит, где-то есть могила… – Хватит! – сердито воскликнул Кучум. Маркел пожал плечами, усмехнулся. Кучум, помолчав, спросил: – Что, царь и в самом деле послал тебя сюда, одного, чтобы ты нашёл ермакову могилу? – Да. – И если найдёшь, тогда что? – Тогда вернусь и скажу, что нашёл. – А если не найдёшь? Маркел улыбнулся. Кучум только мотнул головой и задумался. И он думал долго. Потом наконец сказал: – Хорошо. Тогда будет вот так: сегодня уже поздно, ночь, а вот завтра с самого утра я велю, чтобы тебе дали мою ханскую тамгу, и тебя с ней никто не тронет, и даже больше: всякий, кого ты встретишь, будет тебе помогать, сколько может, если хочет жить остаться. Также тебя будут кормить, будет везти на лодке, будут указывать дорогу, будут всё что сами знают тебе без утайки рассказывать, и привезут на то место, где убили Ермака. А после привезут сюда обратно. Но всё это совершенно напрасное дело, потому что, как я сказал, ты там ничего не найдёшь. Потому что получилось так! Да и зачем ехать искать того, кого уже давно убили? Кому от этого легче станет? Тем более что у тебя ведь есть и другое, куда более важное дело. А оно таково: дикие люди вогулы затеяли убить твоего приятеля, казака вора Шуянина, и уже собрали войско. И это чистая правда! Поэтому я бы на твоём месте, пока ещё не поздно, не ехал бы на поиски чьей-то могилы, а возвращался бы обратно в Лабутинский, как вы его называете, городок, и предупреждал бы своих ещё живых товарищей о смертельной для них опасности. Ну так выбирай, куда поедешь! И выбирай быстро! Маркел смотрел на Кучума и думал. А потом сказал: – Нет, не могу я выбирать. Меня послали искать Ермакову могилу, вот я и поеду искать её дальше. А там будь что будет! – Ладно, – сказал, нахмурившись, Кучум. – Тогда завтра утром, как я уже говорил, тебе дадут мою тамгу, и ты с ней можешь нанять себе сколько тебе надо лодок и людей, и езжай, и посмотри. А потом приедешь и расскажешь мне, что видел. А пока не утомляй меня! И он махнул рукой. Маркела сразу подхватили за бока и поволокли обратно за ковёрный полог, а там опять по темноте и духоте, пока не завели в ту самую каморку, в которой он уже сидел недавно. А теперь, ночью, лёг калачиком, поджал под себя босые ноги и задумался. Но на этот раз он думал не столько о царских вещицах, сколько о Василии Шуянине и всех его товарищах-казаках, которых, если верить Кучуму, вогулы совсем скоро перебьют всех до единого. И ещё вот что: вот кто Маркела предал и вместе с ним Шуянина – бухарец! А теперь хочет ещё раз обмануть Маркела – заманить его в Лабутинский городок и там убить вместе со всеми остальными нашими. Ну да это мы ещё посмотрим, кто кого раньше убьёт! И то же и Кучум: ещё никому не известно, когда, где и как мы в следующий раз встретимся! Подумав так, Маркел радостно заулыбался, повернулся на служебный правый бок, крепко зажмурился, начал считать мешки с добычей и, скоро сбившись, заснул.ГЛАВА 33
Утром к нему пришли три стражника и велели вставать и идти. – Босиком я не пойду! – сказал Маркел. – А босиком и не надо, – сказали ему. И в самом деле, ему дали сапоги, но не его прежние, а другие, татарские, уже крепко поношенные, также и шапку дали татарскую, лёгкую, и, вместо шубы, татарский кафтан, или азям по-нашему. – А шуба моя где? – с горечью спросил Маркел. – Не пропадёт твоя шуба, – сказал старший стражник. – И сапоги не пропадут, и шапка, и тот большой крест. Будешь обратно ехать, всё получишь. А пока ему вернули только нож и, с большой неохотой, кистень. И уже только после этого ему дали ханскую тамгу. Это была такая круглая золотая бляшка, здоровенная, как португал, а на ней был нарисован перевёрнутый трёхзубый гребень, или «тарак» по-татарски. – Это, – сказал старший стражник, – ты должен беречь больше чем свою голову. А если это кому показать, он сразу твой слуга становится. Ничего не надо говорить, а только показал, и всё. Маркел потрогал, осмотрел тамгу, после убрал за пазуху, а про свою овчинку даже не стал спрашивать, потому что было же понятно, что её ему не отдадут. Маркел только попросил поесть. Это, сказали, можно, и отвели его в какую-то просторную камору, там подали баранины, и он поел, а стражники стояли рядом, ждали. А после вывели его из ханского дворца, а там и из крепости, повели вниз под горку, вдоль речки, и довели до пристани. А там, как Маркел и думал, его завели в ту же самую глинобитную избу, или, как Маркел подумал, мытню. В мытне, как и в прошлый раз, сидел тот же самый старик. Старший стражник подмигнул Маркелу. Маркел достал ханскую тамгу. Старик перепугался и стал спрашивать, что Маркелу нужно. Маркел усмехнулся и сказал, что ему нужен его узел, который он вчера оставил в лодке у одного купца, который его предал и оговорил. Какой ещё купец, спросил старик, никаких купцов здесь вчера не было. А узел был, спросил Маркел. Старик подумал и ответил, что один какой-то был, его подобрали люди, этот узел можно посмотреть. И кликнул своего помощника. Тот, в красном халате, вошёл, и у него в руке был узел. Маркел не стал его при всех развязывать, а просто забрал и сказал, что он спешит, ему надо ехать в одно место, и для этого ему нужна хорошая быстрая лодка с гребцами, и харчей на десять дней, не меньше. Старик спросил, куда Маркел собрался, Маркел сказал, что на Вагай и дальше и ему прямо сейчас отправляться. Старик вывел Маркела на пристань, и они пошли мимо стоящих вдоль причала лодок. Старик смотрел на них, прикидывал, вёл дальше. Долго ходил! И лодок было много всяких. Потом всё же нашли одну, в ней было четверо гребцов и загребной. Лодка, сказал старик, и лёгкая, и крепкая, а её хозяин – честный человек. Маркел подозвал его и показал тамгу, и сказал, что ему надо. Хозяин лодки посмотрел на старика, старик посмотрел на стражников из крепости. Старший стражник согласно кивнул. Хозяин лодки начал собираться, то есть послал одного из своих гребцов за харчами, этот гребец быстро обернулся, хозяин осмотрел припасы и сказал, что он готов. Маркел взошёл в лодку, сел, поставил рядом с собой узел, махнул рукой – и они поплыли. Плыть нужно было вверх против течения, гребцы старались как могли, но лодка плыла очень медленно. Ну да это, может, даже к лучшему, думал Маркел, может, его там такое ждёт, что чем позже приплывёшь, тем лучше, – и перекрестился.ГЛАВА 34
По Иртышу они плыли два дня, и это вёрст сорок, не меньше, и всё вверх по течению. Гребцы старались держать лодку ближе к берегу, чтобы её не так сильно сносило. А ещё срезали повороты. Иртыш ведь река очень извилистая, и иногда делает такие петли, что бывает проще не плыть почти по кругу по реке, тем более против течения, а выйти на берег и перенести лодку напрямик, срезая пять, а то и все десять вёрст пути. Они три раза так и делали – два раза в первый день и один раз во второй. Благо, лодка была лёгкая, да и всякий раз было кого позвать её нести. Места же там начались обжитые, что ни верста, то на берегу показывалась новая деревня, по-татарски аул, а по-нашему юрты. И там оно бывало так: лодка причаливала к берегу, кто-то из гребцов шёл в аул, приводил оттуда крепких мужиков-татар, Маркел показывал тамгу, мужики-татары переносили лодку посуху, а после Маркел со своими людьми опять садился в неё и плыл дальше. И ещё. Когда они шли по берегу, то ни о чём не разговаривли. А когда плыли по реке, Маркел иногда спрашивал, что это за аул такой, ему кратко отвечали, и на этом всё. Так в первый день они проплыли вёрст с двадцать, миновали с десяток аулов и причалили на правом берегу Иртыша, в так называемом Устамак-ауле. Деревня была бедная, вместо изб одни полуземлянки, и только местный мурза жил в просторном глинобитном доме. У этого мурзы они и остановились на ночлег. Мурза жил богато, в доме у него было много всякого добра, на полах лежали крашеные овчинные половики, стены были увешаны коврами. Мурза всё время улыбался и помалкивал. Только один раз, ещё на берегу, когда увидел ханскую тамгу, спросил, куда Маркел едет, на что Маркел строго ответил, что он едет по важному ханскому делу, и мурза больше ничего не спрашивал. Хозяина лодки и его гребцов услали куда-то на задний двор, а самого Маркела завели на мужскую половину, посадили на ковёр и угощали всяческими яствами. Играла музыка, выходили молоденькие татарки, танцевали медленно и пели песню, очень заунывную, про девушку и удалого ханского слугу, и про любовь между ними. Маркел вначале разомлел и улыбался, но после вспомнил Параскины слова про здешнее злое бабье колдовство, и стал серьёзным, строгим, сказал, что он сильно устал с дороги, его отвели в отдельную каморку и там ему постелили. Маркел быстро заснул, но спал очень чутко, потому что мало ли что может случиться в незнакомом месте. Утром Маркела плотно накормили и проводили до самой воды. И они опять плыли молча, а потом также молча один раз шли по лесу напрямик, когда мужики-татары несли лодку. И вот уже только когда они после этого снова отплыли от берега, хозяин лодки вдруг спросил, куда Маркел едет. На что Маркел, подумав, что, может, уже и пришло время кое-что открыть, ответил, что он едет на Вагай. – О, Вагай! – сказал хозяин лодки, покачал головой и прибавил: – Это недоброе место. Маркел спросил, чем недоброе. – Так, – уклончиво сказал хозяин лодки. – Людей там часто убивают. Маркел как будто с удивлением спросил, как это убивают. – Ха! Если бы кто это знал! – сказал хозяин лодки. – Поэтому люди просто так туда не поворачивают. Маркела взяла злость, и он спросил: – Так ты что, не хочешь дальше ехать? – Как это не хочу, – сказал хозяин лодки. – У тебя ханская тамга, и ты наш господин. Что ты велишь, то мы и будем делать. И он сказал гребцам грести быстрее. Гребцы немного прибавили. Маркел молчал. А что ему было сказать? О многом говорить, он думал, пока рано. Поэтому он только об одном спросил, далеко ли ещё до Вагая, и хозяин лодки ответил, что верст пять, не меньше. И вдруг прибавил: – А ты не из наших мест. Говор у тебя совсем другой. Так, как ты, казаки говорят. Маркел насторожился и спросил: – А ты их слышал? – А как же! – ответил хозяин лодки. – Они здесь три года жили. Я их многих знал, даже кого как зовут. – Ну, это что! – задиристо сказал Маркел. – Казаки это одно, а мы совсем другое. – А кто это вы? – спросил хозяин лодки. – Мы, люди торговые, – сказал Маркел. – А товары твои где? – Как где? В надёжном месте, – ответил Маркел. – Прежде чем везти товары, надо самому туда съездить и посмотреть. Вот я и еду. А чтобы все знали, что я честный человек и никому зла не желаю, великий хан дал мне тамгу. А казакам он разве дал бы?! – Казаки у него об этом бы не спрашивали, – сказал, улыбаясь, хозяин лодки. – Казаки сами брали то, что им было надо. Пока не пришли на Атбаш. Нет, даже не так. А вот как: пока Ермак их туда не привёл. Он тогда тоже говорил, как примерно и ты, что у него есть товар, и он хочет честно торговать, и что он приедет на Атбаш, и цены у него будут очень низкие… – И вдруг спросил: – Ведь ты тоже едешь на Атбаш, не так ли? – Ну, так, – сказал Маркел. – И что? – Так, ничего, – сказал хозяин лодки. – Просто Ермак тоже ходил на Атбаш и хотел там торговать с бухарцами. Бухарцы каждый год туда приходят. А когда туда пришёл Ермак, бухарцы не пришли! Вот и всё. – Ещё не всё, – сказал Маркел. – Да, ты прав, ещё не всё, – сказал хозяин лодки. – Там было ещё вот что: когда Ермак увидел, что бухарцев нет, он крепко разгневался, развернулся и поплыл обратно. И его убили. – На Вагае? – Нет, уже на Иртыше, – сказал хозяин лодки. – Он по Вагаю спустился, выплыл на Иртыш, и его убили уже здесь, недалеко совсем, на правой стороне, на острове. Маркел молчал, прикидывал, потом спросил: – Ночью убили? Из засады? Здесь, на Иртыше? – Да, здесь, – сказал хозяин лодки. – Версты две вперёд, по правой стороне, на острове. А что? – Так, ничего, – сказал Маркел. А сам подумал: брешешь, пёс, вот только зачем ты это делаешь, пока непонятно. И усмехнулся. Хозяин лодки тоже усмехнулся и сказал: – Скоро ты это место увидишь. Смотри туда! Маркел невольно посмотрел направо, туда, куда указывал хозяин лодки. Берег там был как берег, лесистый. Хозяин лодки приказал ещё прибавить, и гребцы прибавили. Маркел как завороженный смотрел вперёд. Так они проплыли ещё с полверсты. Думать ни о чём толком не думалось, Маркел просто смотрел на правый берег, в голове прыгали обрывки мыслей, и больше всех донимала одна, что вот он уже два месяца в дороге, сколько он прошёл, проплыл, проехал, сколько было разных дум – и вот всё кончилось, сейчас они пристанут к берегу, а там ни земли, ни песка, ни травы, а одни только голые камни – и никакой нигде рядом могилы! И как быть?! Как вдруг хозяин лодки закричал: – Смотри! Вон там! Маркел очнулся, посмотрел вперёд – и увидел голый остров рядом с берегом. Берег был зеленый, заросший травой и деревьями, а остров, как Маркел и думал, оказался голым, каменным, и между берегом и островом была видна узкая протока. Не будет там никакой могилы, очень сердито подумал Маркел, сглазил её чёртов татарин! А чёртов татарин, правильней хозяин лодки, продолжал: – Здесь они в тот раз остановились и заночевали. А наши стояли далеко, вон там, в лесу. Но Ермак всё равно их почуял, и сразу велел копать протоку. Это чтобы наши не могли к ним ночью пройти незаметно, по сухому. Казаки взялись копать. Копали целый день, прокопали вот эту протоку, на полверсты она в длину, не меньше! Видишь? Маркел кивнул, что видит, а сам подумал, что ну как бы это казаки её прокопали, у них что, лопаты с собой тогда были? А если бы даже и были, то, чтобы столько земли и камней перебросить, они бы всё лето копали. А тут за один день! Враньё! И Маркел усмехнулся. А хозяин лодки, этого не замечая, продолжал: – Там и сейчас видно то место, где наши с казаками бились. Если хочешь, я велю, и мы пристанем, ты посмотришь. – Нет, – сказал Маркел, – зачем. Я еду на Атбаш, что мне Ермак? – Ладно, – сказал хозяин лодки. – У тебя тамга, и мы твои слуги. – И велел гребцам плыть дальше. А лодка уже как раз поравнялась с тем островом. До него было полста саженей, может, даже меньше. Маркел сжал руки, мысленно перекрестился. А хозяин лодки вновь заговорил: – Они прокопали протоку и выставили караул, а сами легли спать. Только один Ермак не спал, ходил по берегу, посматривал. А ночь тогда была тёмная, простому человеку ничего не было видно. Но Ермак был непростой! Он был шайтанщик. Но и у наших тоже был шайтанщик. И наш шайтанщик напустил грозу! Вдруг как загремело со всех сторон и как полил страшный ливень, то уже не только казачьи караульщики, но и сам ваш шайтанщик Ермак ничего не стал видеть. А нашим гроза не мешала, её же наш шайтанщик напустил! И наши кинулись на казаков, и стали их убивать. Казаки побежали к лодкам. Остался один Ермак. Наши на него кидаются, а он их саблей отбивает. Сабля у него была тоже шайтанская. И также пансырь шайтанский, от него наши стрелы отскакивали и наши сабли ломались. Что делать? Тогда наш шайтанщик говорит: Эй, Кутугай!.. А это был наш самый сильный богатырь… Эй, Кутугай, кричит шайтанщик, не робей! Бей Ермаку под шлем, бей выше пансыря! И Кутугай ударил, и убил. Тут хозяин лодки замолчал, задумался. Маркел перевёл дыхание, спросил: – А что дальше? – А дальше, – продолжал хозяин лодки, – наш шайтанщик махнул рукой, буря сразу кончилась, смотрим – лежит Ермак, из него кровь течёт и он не дышит. – А что казаки? – А казаки подбежали к лодкам и уплыли. А наши стоят, смотрят на Ермака, и шайтанщик говорит: надо с него снять пансырь, а то он опять оживёт. И сняли. Маркел не удержался и спросил: – А какой был из себя тот пансырь? – Я не знаю, – сердито ответил хозяин лодки, – я там не был. – И сразу продолжил: – Вот, сняли пансырь. Потом шайтанщик говорит: и саблю у него из руки заберите, а то вдруг опять начнёт рубить. Забрали. – А дальше что? – Веселились, что ещё! Шесть недель подряд здесь праздник был. Самые знатные наши люди сюда приезжали, чтобы посмотреть на Ермака. А он лежал, как живой, только глаза закрыты, и из него кровь текла. Шесть недель! А после наши шайтанщики его забрали и унесли неизвестно куда, и там похоронили. – А саблю и пансырь? – Забрали с собой. И там на могилу ему положили. – А… – начал было Маркел, но хозяин лодки уже отвернулся от него, окликнул гребцов, и те опять прибавили. Ермакова перекопь быстро осталась позади, а после и совсем скрылась за излучиной. Начинало смеркаться. Маркел смотрел по сторонам, молчал. Потом увидел впереди, опять на правой стороне, высокий холм на самом берегу и спросил, что это такое. – А это Великая ханская гора, так это место называется, – сказал хозяин лодки. – Сразу за ней будет Вагай, и мы на него повернём. А Великая ханская гора, это тоже очень непростое место. Здесь сам великий хан Чингиз, если ты о таком слышал, на ночлег останавливался. У Чингиза было много войска! Сто раз по сто тысяч! Он все другие царства, какие только были на свете, побил. Также побил и вашего царя, и ваш царь платил ему ясак. А наш хан Кучум – из Чингизова рода, от его старшего сына Джучи и Джучиева любимого сына Шибана. Поэтому Кучум также зовётся Шибанидом. И он ещё придёт к вам в Москву, и ваш царь будет опять платить ему ясак, как раньше платил Чингизу. Вот! И хозяин лодки замолчал. Ну а пока он это говорил, лодка обогнула Великую ханскую гору и повернула на Вагай. Маркел снял шапку, перекрестился и загадал только одно: Господи, помилуй меня грешного!ГЛАВА 35
Иртыш – река сильно извилистая. Но на Вагае поворотов оказалось ещё больше. Он так и петлял! И течение на нём было быстрей, сносило очень сильно, вот только уже некому было приказывать таскать лодку посуху, спрямляя повороты, потому что берега там были пустынные, никто на Вагае не жил. И это, может, даже хорошо, думал Маркел, а то на такой узкой речке (а там от берега до берега не будет и полста саженей) если кто вдруг стрельнёт из кустов, то стрела проткнёт тебя навылет. А так стрелять некому, места глухие, это хорошо. Вот примерно о чём Маркел думал, когда они плыли по Вагаю, а солнце садилось всё ниже и ниже. Хозяин лодки встал и начал осматривать берега, искал место поудобнее. И, наконец, нашёл. Они причалили. Гребцы развели костёр, приготовили еду, Маркел и хозяин лодки сели перекусывать, а гребцы пошли готовить шалаши к ночлегу. Еда была простая, полбяная каша, зато её было много. Хозяин лодки ел, молчал. Также молчал и Маркел. А после вдруг спросил, где живут бухарцы. Хозяин лодки как будто с удивлением посмотрел на него и ответил, что как это где, в Бухарии, конечно. И прибавил: – Московиты живут в Московии, бухарцы в Бухарии. – А Бухария, это где? – спросил Маркел. – А какая тебе нужна Бухария? – в свою очередь, спросил хозяин лодки. – Есть ведь Большая Бухария, есть Малая. – Мне нужна Большая, – сразу же сказал Маркел. – Тогда это великий и богатый город Бухара, – с почтением сказал хозяин лодки. Не удержался и прибавил: – Самый красивый город на свете! Там живут самые богатые купцы и у них там самые дешёвые товары. Но попасть туда очень непросто! От Атбаша, куда ты собрался, это будет ещё сорок дней пути по Голодной степи, так это место называется. Там ни трава не растёт, ни воды нет в колодцах. Там ездят только на верблюдах. Ты верблюдов видел? – Видел. – Вот только они там и пройдут. А кони дохнут. И это хорошо! Никто чужой в Бухару не проберётся. – А кто там правит? – Хан Искандер. А раньше правил его дядя Муртаза-хан, отец Кучум-хана. Получается, Кучум-хан тоже бухарец, сам хан и сын хана! Но отец его не баловал, а как только Кучум возмужал, отец сказал ему: если ты настоящий мужчина из рода Чингиза, то должен сам добыть себе земли, и это будет тебе честь. Иди, он сказал, и добывай! Кучум пошёл и взял Кашлык, убил тамошнего хана Едигера, и стал Кашлыком и всей Сибирью править. А когда хан Муртаза скончался, Кучум в Бухару обратно не пошёл, а оставил её хану Искандеру, своему двоюродному брату, племяннику своего отца Муртазы. Искандер-хан остался в Бухаре, а Кучум в Кашлыке. Вот как Кучум Сибирь любит, ни на что менять её не хочет! Но злые люди его обманом ссадили с ханского трона. – Ермак ссадил? – спросил Маркел. Хозяин лодки усмехнулся. – Нет, – сказал он, – Когда Ермак пришёл, Кучум просто собрал своих людей и откочевал в степь. Сибирь – это не только Кашлык, а ещё и Иртыш-река, и Обь-река, владычица вод, и Великая голодная степь. Кучум ушёл в степь и стал там силы набираться. И вдруг на него обманом наскочил Сейдяк-хан и прогнал Кучума с ханства. У Сейдяка было несметно войска, он их из Муголии привёл. – Когда это было? – спросил Маркел. – Этой зимой, – сказал хозяин лодки. – Но уже этой весной Кучум опять собрался с силами и прогнал Сейдяка за Ишим-реку в глухую Барабинскую степь, а сам опять стал править ханством. И это справедливо, потому что Кучум – сам хан и сын хана, Кучум правит Сибирью, а его отец правил Бухарой, а ещё раньше его дед, Ибрахим-хан, правил не только Бухарой, но и Хорезмом, и Самаркандом, и всеми другими тамошними ханствами, а их предок, Шибан-хан – пятый сын Джучи-хана, сына великого Чингиза, который правил всем миром. А кто такой Сейдяк-хан? Потомок Тайбуги, погонщика верблюдов. Тьфу! Ему только в Атбаш ходить, а не Кашлыком править. Кашлыком правит Кучум, а Сейдяк сидит в степи, на кургане, и воет как голодный волк! Тут хозяин лодки резко махнул рукой и замолчал. И больше уже ничего не рассказывал. Да Маркел ни о чём и не спрашивал, а только старался запомнить всё, что услышал, а потом повторял про себя. А когда Маркел ночью лежал у себя в шалаше, то больше думал уже вот о чём – что про Кучума и про Сейдяка хозяин лодки говорил, похоже, правду, а вот про Ермака кривил. Зачем это ему?! Долго ещё Маркел лежал, ворочался, прикидывал и так и сяк, пока заснул.ГЛАВА 36
В ту ночь Маркел спал плохо, снилась всякая дрянь, даже вспоминать не хочется. А утром встал, вышел из шалаша и первым делом спросил, сколько ещё плыть до Атбаша. Хозяин лодки ответил, что три дня, никак не меньше. Сели перекусывать. Опять была полба, Маркел ковырял её ложкой, вздыхал. Хозяин лодки спросил, чего он сегодня такой невесёлый. Маркел промолчал. А что ему было отвечать? Рассказывать свой ночной сон? Они сели в лодку, поплыли. Места начались совсем дикие, дремучие, и было очень много комарья, ну просто никак не отбиться. И небо было мрачное, серое, и ветер всё время дул в лицо. Маркел старался не смотреть вперёд, а по сторонам смотреть было не на что – берега были безлюдные, густо заросшие, угрюмые. Маркелу то и дело вспоминался ночной сон. Никак нельзя было его забыть! Сон так и пёр! Маркел крестился, читал «Отче наш», «Верую» – не помогало. А сон был такой. Будто Маркел стоит в лесу на тропке и знает, что невдалеке от него Пелымский городок князя Аблегирима, а тропка ведёт к той священной вогульской берёзе на их священном молельном месте. Маркел чует, что его там ждут, но он стоит на месте и почему-то очень не хочет идти. Он только смотрел в ту сторну. Никого там видно не было, тропа была пустая. Потом вдруг затрещали ветки, раздались шаги. Шаги были очень тяжёлые. Маркел подумал, что надо бежать, но ноги его не слушались. А шаги становились всё ближе и ближе! Потом ветки раздвинулись, и на тропу вышел деревянный болван. Он был саженного роста, на нём был деревянный шлем, а в правой руке он держал нож, тоже деревянный. Болван шёл медленно, поскрипывал. Это не тот, думал Маркел, тот был соломенный, с копьём, и он того на клочья расстрелял, а этот не к нему идёт, этот ошибся! И ещё можно было убежать, а ноги как в землю вросли! Или, может, так оно и было? А болван был уже совсем близко! Рожа у него была страшенная: вместо глаз две дырки, вместо рта одна зарубка, вместо носа вторая, и всё. А нож стал уже железный! Болван поднял этот нож, второй рукой сорвал с Маркела шапку и схватил за волосы, резанул ножом по голове, по кругу, дёрнул за волосы и снял их как шапку, засмеялся страшно, сунул волосы себе за пояс, как добычу, – и стал человеком! Вогулом, конечно. В богатой шапке и в кольчуге. А Маркел, вместо него, стал деревянным. Маркел хотел закричать, да не смог, потому что кричать было уже нечем. Мысли тоже стали деревянными. Маркел только ещё успел подумать, что этот вогул и есть тот князь Агай, которого Маркел убил на стрельбище, а теперь Агай убил Маркела на их священном молельном месте… И сразу стало темно. Маркел проснулся. Была ночь. Маркел долго лежал, молился, успокоился, закрыл глаза, сразу опять заснул… И ему опять приснился князь Агай, который смеялся над ним и говорил, что вот что такое великая сила толых-аахтас, никто с ней не справится! А сейчас, прибавлял он, я тебя отведу к себе на Кондинское городище, там превращу обратно в человека – и вырву у тебя из груди сердце, обмакну в золу и съем, и выем весь твой костный мозг, а твои волосы повешу на нашей священной берёзе, но на самую нижнюю ветку, потому что только там тебе и место! И засмеялся, и схватил Маркела за руку… Но тут Маркел, изловчившись, от него всё же вырвался, проснулся и всю оставшуюся ночь уже не спал, чтобы ему опять какая-нибудь дрянь не приснилась. Вот как тогда с Маркелом было. А теперь был день, и они плыли по реке, места были дикие, мрачные, с неба начало накрапывать. Как на погосте, подумал Маркел, не к добру всё это. И не Агая он боится, а просто почему-то вбилось в голову, что это был не просто сон, а это он так свою смерть почуял. А что! А такие места! Нож под ребро – и за борт. Плюхнешься тихо, никто не услышит. Подумав так, Маркел перекрестился. И ему вдруг сразу стало легче. Это, наверное, оттого, подумал Маркел, что он перед собой больше не таится. И это правильно! Если его судьба – сегодня помереть, то он всё равно помрёт, что бы он ни делал, так что дурить голову об этом – это только нечистого тешить. И Маркел даже заулыбался, и начал весело осматриваться по сторонам. Но, правда, надолго его не хватило, и вскоре он опять сидел как сыч, щупал в рукаве кистень и помалкивал. Только когда уже остановились на ночлег и гребцы начали готовить перекус, Маркел вдруг спросил, что такое священный камень толых-аахтас. Хозяин лодки, подумав, ответил, что он первый раз о таком слышит. И спросил, кто Маркелу про него рассказывал. Маркел сказал, что вогулы. А, засмеялся хозяин лодки, дикари они, чего с них взять, не надо их слушать. И сразу стал рассказывать про Бухару, какой это богатый и красивый город, какой там большой базар, как там всё дёшево, какой там порядок, как ханские стражники не дают никого ни обмануть, ни обокрасть и ни ограбить, и какие там удобные постоялые дворы, какие весёлые распивочные, так называемые гурт-ханы, какие бани и какие юные красавицы и как там, если нужно ещё денег, можно легко взять в рост в любой монете, потому что там есть свой монетный двор, на котором чеканят новенькие полновесные золотые дирхемы, которые тут же, в ближайшей меняльной конторе, можно проверить… – А у тебя такие есть? – спросил Маркел. – Сейчас нет, – сказал хозяин лодки. – Зачем мне носить их с собой? Я же говорю, там у любого менялы можно взять сколько угодно денег, и это под самый низкий залог! Маркел согласно кивнул, а сам подумал: ври, собака, хочешь меня убить, я знаю, и улыбнулся. А хозяин лодки продолжал. Теперь он рассказывал уже о других городах Великой Бухарии, как там богато и сытно живётся, кто там и как богатеет, а после о том, как ещё богаче живётся в Малой Бухарии, потом, как в Персии, потом, как в Индийском царстве, как в Китайском, как в Опоньском. Маркел слушал, улыбался, не перебивал – и ни во что не верил. Ночью снова снился князь Агай. Он приходил то соломенным чучелом, то деревянным идолом, то живым вогулом с копьём и саблей – и Маркел ничего не мог с ним поделать, Агай резал у него с головы кожу вместе с волосами и кричал, а у Маркела кровь заливала глаза, но он не мог утереться, потому что руки были деревянные. Потом он, наконец, проснулся и остальную ночь уже не спал. А утром ничего уже не спрашивал. И также весь день молчал. Места были ещё мрачней вчерашних. Берега сошлись, течение усилилось, гребцы с ним чуть справлялись. Хозяин лодки опасливо поглядывал по сторонам и время от времени что-то шептал – наверное, молился. А вечером, когда они пристали к берегу, Маркелу показалось, что хозяин лодки как-то странно переглядывается с гребцами. Но Бог пока что миловал. Перекусили и легли. Маркел достал из рукава кистень и спал так чутко, что ему даже нечего не снилось. На следующий день погода выдалась пасмурная, облака висели низко, между ними то и дело поблёскивали молнии. Что это за напасть сегодня такая, сердито сказал Маркел. На что хозяин лодки отвечал, что так всегда, когда подплываешь к Атбашу. Там ведь кончается Великий Лес и начинается не менее Великая степь. Верблюды, вступив на Атбаш, сразу останавливаются и их уже не сдвинешь с места. С них снимают товары и раскладывают на столах. А так как цены очень низкие, товары быстро раскупаются, и уже к вечеру первого дня часто всё бывает продано. Вот почему Ермак тогда так спешил. – И он что, всё равно опоздал? – спросил Маркел. – Нет, – ответил хозяин лодки. – Наоборот, он пришёл слишком рано. Бухарцев там ещё не было, а был только один старик сторож, который живёт там круглый год, присматривает за порядком. Старик вначале очень насторожился, когда увидел казаков, ондумал, что они прибыли грабить. Но когда Ермак показал ему свой товар, а это были шкурки соболей, старик успокоился. А когда кое-какую часть этих товаров ему подарили, старик стал ещё приветливее и сказал, что, по его сведениям, караван прибудет уже завтра, надо только ночь переждать, а уже утром начнётся торговля. Ждать можно прямо здесь, на пристани, прибавил он, места здесь всем хватит. Но Ермак не захотел там ночевать, а велел развернуться, отплыть немного вниз по течению и остановиться на острове, который он приметил ещё днем по дороге туда. И как сказал Ермак, так казаки и сделали. На этом хозяин лодки замолчал. Тогда Маркел спросил, а где тот остров. Хозяин лодки сказал, что обязательно покажет его, когда они будут плыть мимо, но это будет нескоро. И в самом деле, они после плыли ещё долго, островов на реке не было, и уже только под вечер Маркел по левую сторону от них увидел небольшой, низкий, густо заросший тальником остров. – Этот? – спросил Маркел. Хозяин лодки ответил, что этот. Маркел сказал, что надо приказать гребцам причаливать. – Зачем? – удивился хозяин лодки. – Нам осталось совсем немного, и мы сегодня ещё засветло прибудем в Атбаш, смотритель примет нас и, так как сейчас там нет посторонних, он поведает нам много интересного и полезного, и тогда следующая наша поездка сюда окажется очень прибыльной… – Нет! – сказал Маркел. – Я не хочу так поздно появляться там. Всякое важное дело надо начинать с утра. Поэтому мы сейчас пристанем к этому острову и заночуем на нём, а утром, отдохнувшие, прибудем на Атбаш. Я так хочу! – Владелец ханской тамги – мой господин, – сказал хозяин лодки. И приказал гребцам причаливать. Лодка начала медленно поворачивать к острову.ГЛАВА 37
Лодка ткнулась в берег и остановилась. Маркел первым сошёл на землю, прошёл немного вперёд и осмотрелся. Прямо перед ним была большая просторная поляна, и только уже за ней начинались густые заросли тальника. Поляна здесь как будто нарочно была оставлена для того, чтобы на ней устраивали табор. У Ермака, как говорил Шуянин, тогда было около шести десятков людей, здесь бы им всем хватило места, и ещё осталось бы, не нужно было лезть в кусты. Но ведь и ночевать на открытом месте тоже опасно, река здесь неширокая, с того берега вполне могли перестрелять из луков. Так что, скорей всего, думал Маркел, табор устроили наполовину здесь, на поляне, а наполовину в кустах. И там же, в кустах, ближе к протоке, поставили двух караульных, одного слева, другого справа, а третьего поставили здесь, у открытого берега. Так и Шуянин говорил, что было трое караульных, и назвал их. Это, дай бог памяти, Яков Шемеля, Иван Волдырь и Михайла Заворуха. И, как сказал Шуянин, он после той ночи их уже не видел. Убили их, сказал. Ну а, может, прости, Господи, если напрасно вздумано, может, никто их и не убивал, а, может, подкупили их? Подумав так, Маркел оглянулся и увидел, что гребцы уже поднялись на поляну и, как всегда, начали раскладывать костёр. А хозяин лодки уже тоже стоит на поляне и с хитрым видом смотрит на Маркела. Почуял жареное пёс, сразу же подумал Маркел – и спросил, сколько им осталось до Атбаша. Хозяин лодки с напускной досадой ответил, что скорее не больше двух вёрст, так что надо было дальше плыть, там бы их ждало дело, а тут делать совсем нечего. Да, согласился Маркел, нечего, сел на сухую кочку и прибавил, что он теперь сам видит, что ошибся, но переделывать сделанное – это всегда недобрая примета. Хозяин лодки не стал с этим спорить, а только усмехнулся. Маркел спросил, сколько было у Ермака войска, когда он здесь останавливался. Это ему неизвестно, ответил хозяин лодки, он только знает, ему так рассказывали, что когда Ермак вернулся с Вагая на Иртыш, то шёл на четырёх стругах, а это значит, что у него было не меньше восьмидесяти сабель, по двадцать на струг. Маркел согласно кивнул, а сам подумал, что хозяин лодки снова брешет, с Вагая вернулось всего два струга, и то полупустых, а третий струг совсем пропал, наверное, остался где-то здесь. Вот бы его найти, подумалось, на нём же была казна – весь ясак за тот год. Да хотя какой уже ясак, разграбили его татары ещё прошлым летом! Вот о чём Маркел тогда подумал, а сам помалкивал и делал вид, будто внимательно слушает, правда, теперь уже не про Ермака, а опять про Великую Бухарию, про то, что там всего полно – и зверей в полях, и рыбы в реках, и товаров в городах, а в горах железа, меди, хрусталя, самоцветных камней и даже золота. – Ты только ходи, – говорил хозяин лодки, – и не ленись нагибаться, оно там просто по земле рассыпано! Маркел, не удержавшись, засмеялся, но негромко. А хозяин лодки всё равно обиделся, сказал, что это правда, потому что если бы не было в Бухарии самородного золота, то не было бы в славном городе Бухаре и монетного дворца. А так есть! И на нём чеканят полновесные золотые дирхемы. А золото, продолжал хозяин лодки, надо брать вот как: найди уродливое место, набери на нём песку и просей через сито или промой через тряпицу, пустые лёгкие песчинки сплывут, а тяжёлые золотые останутся. Или, что ещё лучше, сразу иди вдоль речки и там на берегу ищи уже промытый золотой песок, он на солнце блестит. – Вот как, к примеру, здесь, – сказал хозяин лодки и указал себе за спину, на берег. Маркел глянул туда и обмер! На реке, не так и далеко от берега, шагах, может, в двадцати, из-под воды едва виднелся обгорелый остов струга. Солнце садилось, а вода была прозрачная, на дне были видны даже камешки, а струг там и слепой заметил бы! Да и ни с чем другим его спутать было нельзя. Струг, правда, очень сильно обгорел, досок на бортах почти что не осталось, торчали одни только чёрные рёбра. Там было совсем неглубоко, наверное, татары оттащили струг от берега и подожгли его, струг затонул… Маркел опомнился и улыбнулся. Хозяин лодки смотрел на него очень внимательно, потом даже спросил, что это Маркел там такое увидел. Маркел ответил, что, конечно, ничего, ведь там же река как река. Тогда хозяин лодки обернулся, посмотрел… И, наверное, тоже заметил утопленный струг. Но тоже об этом промолчал, а только сказал, что уже пора ужинать. И они пошли к костру. На ужин опять была полба, да ещё почти без соли. Или Маркел вкуса еды не чувствовал? Он же тогда думал совсем о другом – о том, что они сейчас сидят, может, как раз на том самом месте, где в прошлом году убили Ермака. Вот только как оно на самом деле тогда было? Ведь каждый, кого Маркел слышал, про эту битву рассказывал по-своему. Шуянин своими речами хотел показать, какой он тогда был ловкий и как до последнего бился, также и шуянинские казаки свои рассказы вели так, чтобы никто даже помыслить не мог о том, что они виноваты в смерти своего атамана, что они его татарам бросили, вот поэтому они и говорили, что Ермак не убит, а утонул случайно. Ну а татары, те, наоборот, говорят, что Ермак не утонул, а убил его простой татарин… Нет, не простой, а главный их силач, да ещё заколдованным копьём, против которого никакая заговорённая сабля, пусть даже царская, ничего поделать не может. И ведь не смогла, думал Маркел, убил Кутугай Ермака, Ермак упал, татары на него со всех сторон набросились и стали грабить – снимать с него шапку, сапоги, сдирать кольчугу, вырывать из мёртвых рук саблю… Ф-фу! Маркел дальше представлять не стал, опустил ложку, осмотрелся. Татары смотрели на него, молчали. Маркел усмехнулся, сказал: – Что-то каша не идет. Не лезет в горло. Хозяин лодки кивнул, один из гребцов подал кружку воды. Маркел начал пить. Пить ему тоже не хотелось, вода пахла лягушками и тиной. Стало жарко. Маркел отставил воду. Хозяин лодки усмехнулся и сказал: – Сегодня надо много пить. А вот завтра пить будет нельзя. Там нездоровое место. Не зря оно «Ат-баш» называется, что по-нашему означает «лошадиная голова». Кони там дохнут, вот что! Вода там, говорят, с песком, кишки дерёт. А здесь вода чистая. Ещё пей! Маркел выпил ещё. Стало немного легче. – Вот! Сразу порозовел! – сказал хозяин лодки. – Ермак, говорят, здесь тоже пить не стал, плевался. Он же тогда был очень злой! Ходил туда-сюда по берегу, скрипел зубами. После ходил в кусты, проверял караульных. А что они там могли укараулить? Там же вон как густо всё растёт! – А дальше за кустами что? – спросил Маркел. – Протока. Так раньше река текла, а после сюда повернула. – Протока мелкая? – Вот так, почти по горло будет. – Значит, вброд можно пройти, – сказал Маркел. – Но в темноте не очень-то пройдёшь. Караульщики заметят! Хозяин лодки ничего на это не ответил. Сидел, задумавшись, смотрел мимо Маркела. А Маркел подумал, что с караульщиками тогда что-то неладное случилось, кто-то из них предал Ермака – видел татар, а тревоги не поднял. Почему? Его, что ли, подкупили, или он от страха молчал? Или заснул в карауле, а после они его пытали, а теперь хозяин лодки с его слов рассказывает, пёс! С его слов и с повеления Кучума! Да! Это Кучум хозяину велел: отвези урусута на то место, расскажи ему, как там всё было, и убей! И вот он привёз. И сейчас будет убивать! И Маркел посмотрел на хозяина лодки. А тот, усмехаясь, сказал: – Ты о чём-то нехорошем думаешь. А ты выбрось это! Ермак тоже думал, после выбросил – и сразу успокоился, лёг и спал, как у вас говорится, богатырским сном, а утром поехал на Атбаш, встретил тамошнего старика, поднёс ему пять наилучших соболиных шкурок – и тот сразу стал давать ему добрые советы. Ермак поблагодарил его ещё десятью шкурками и велел своим поворачивать обратно. Повернули. Плыли два дня, и плыть было легко, потому что вниз по течению, потом выплыли на Иртыш, сошли на берег, разбили табор и легли отдыхать. Они же не знали, что там их уже третий день наши дожидаются, а это даруга Кутугай и главный ясашный мурза Карача, а с ними многие другие важные особы, и с ними войско, и главный Кучумов шайтанщик, по-нашему кам. Стало темно, кам накамлал грозу, вашим сразу стало ничего не видно, а нашим как ни в чём не бывало! – И вдруг спросил: – Веришь в это? Маркел молчал, кусал губы. Внутри, в брюхе, было жарко. – Веришь или нет? – переспросил хозяин лодки. – Скажи правду! Маркел сглотнул слюну, а её был полный рот, и сказал: – Я про это скажу позже. Я сначала тебя выслушаю. До конца. – А я уже всё сказал! – сказал хозяин лодки. – Ты просто ещё не всё расслышал. А ты послушай! Послушай как следует! Маркел замер и прислушался. Вокруг было тихо. Тогда Маркел прислушался к себе. Внутри всё горело, и горело всё сильней. Брюхо просто огнём жгло. А руки были чугунные, их было не поднять. – Дайте воды, – сказал Маркел. – Зачем? – спросил хозяин лодки. – Дайте! – сказал Маркел. – А где ханская тамга? – спросил хозяин лодки. – Почему я должен тебе прислуживать? Отдай тамгу! Хан велел забрать её! Маркел облизнулся, губы были как чужие, и подумал: отравили, сволочи! Кучум велел – и отравили. Или кривит татарин? А что ему скривить? Раз плюнуть! Но только разве это сейчас важно?! Вот что важно – внутри всё горит! Уже совсем невмоготу! Маркел хотел закричать, но не смог. Татары смотрели на него, молчали. У Маркела лопнуло внутри, он не удержался и упал. Хозяин лодки склонился к нему, залез ему за пазуху, достал оттуда ханскую тамгу, вытер её ладонью и забрал себе. Маркел только гневно поморгал глазами. Татары встали от костра и начали собираться. Хозяин лодки ничего не говорил гребцам, те и так знали, что им надо делать. Маркел лежал ничком, не мог пошевелиться, кровь заливала глаза. Маркел видел только землю и немного над землёй, видел сапоги татарские, называются ичиги, а кафтан по-татарски азям, шапка – тэбэтэй, а… Но больше ничего уже не вспоминалось. Помираю, прости, Господи, думал Маркел, сам виноват, за себя не прошу, а прошу за Параску, за дуру, пособи ей, Господи, не дай… И вдруг опомнился: а царские вещицы как? А князь Семён что скажет?! Нет, так не годится! Надо ещё, пусть только эти уйдут… А чтоб они скорей ушли, Маркел открыл глаза и закатил зрачки наверх, под брови, открыл рот, там огнём горело… А татары всё никак не уходили, собирались медленно. Потом наконец стало слышно, как они подошли к воде и столкнули лодку. Маркел подумал: вот и славно, осталось только повернуться на бок. А сил не было! Лежал, шкрябал руками по земле, время шло, а ничего не получалось. Ещё немного, и совсем помру, думал Маркел.ГЛАВА 38
Но Господь спас – Маркел не помер, а долго собирался с силами и всё-таки перевернулся на бок. Полежал так, отдышался, полез за пазуху, вытащил оттуда ладанку, развязал её и достал Параскин корешок. Вспомнил, как она его давала, усмехнулся. Корешок, говорила Параска, не только от бабьего сглаза, но и от отравы помогает. Глупость это, подумал Маркел, суеверие… Но всё же начал жевать. Корешок был горький, как осина, язык от него сразу скукожило. Маркел продолжал жевать. Вскоре скукожило всё горло. После скукожило скулы, скукожило щёки, нос, лоб, глаза. Это хорошо, думал Маркел, пусть лучше скукожит, чем сожжёт, и продолжал жевать. Потом в голове замутило, и он забылся. Когда очнулся, была уже ночь. Весь рот был в жёваной корешковой каше. Очень хотелось пить. Маркел пополз к воде. Полз очень долго, пока не свалился сверху на песок. Дальше ползти сил уже не было. Тогда он стал протягивать руку, зачерпывать воду ладонью и пить. Стало легче, он опять заснул. Проснулся утром и подумал, что если его татары вдруг вернутся, тогда что? И пополз обратно. Очень трудно было взлезать на поляну, но взлез. Думал оттуда заползти в кусты и там затаиться. Пополз – и заснул на полдороги. Проснулся уже только под вечер. Если живой, сразу подумал он, значит, татары не возвращались, значит, они его не ищут, значит, уверены, что мёртвый. А он живой, подумалось. И быстрый! Маркел с трудом поднялся и осмотрелся. Никого вокруг, конечно, не было. Маркел, шатаясь, вышел к берегу. Там тоже было пусто. Даже обломков струга теперь видно не было, потому что день был пасмурный. Маркел побрёл вдоль берега и увидел на земле свой узел с вещами. Это они, подумал Маркел, выбросили, когда обратно отправлялись. Им этот узел был и вправду ни к чему, а для Маркела это нож, кресало, чистое нательное бельё на всякий случай. Маркел закинул узел на плечо и ещё раз осмотрелся. После вернулся на поляну, походил туда-сюда, но нигде никаких следов прошлогодней битвы не нашёл. Ну а про поиски здесь царских вещиц даже и мысли не было. Разграбили здесь всё давно подчистую и разнесли, развезли кто куда! Как теперь и где искать? А вот ищи где хочешь! Да и как теперь искать без лодки? Но и не торчать же здесь! Что делать?! Маркел сел на ближайшую кочку, задумался. Потом, когда надумал, встал и пошёл в кусты. Шёл, ломился, как кабан, отбивался от мошкары, и так дошёл до протоки. Протока оказалась неглубокая, но очень топкая. Маркел шёл через неё, ноги громко чавкали в грязи. Так и тогда было, наверное, думал Маркел, когда татары ночью шли на Ермака, и их тоже так же было слышно. Так что если бы не татарский колдун, наши бы сразу их почуяли, а так дождь тогда хлестал, гремел гром, вот караульщики и сплоховали. Пройдя через протоку, Маркел вышел на сухое, посмотрел на солнце, а оно уже садилось – и пошёл дальше. Но не вниз по течению, к Иртышу, а вверх, к Атбашу. И так он долго шёл! Берега же там были очень заросшие, дремучие. Шёл, шёл, пока совсем темно не стало. Дальше, понял, не пройти. Сел под кустом, наломал веток и пристроился на них. А огня не разводил – стерёгся. Было очень много мошкары. Маркел думал, что они его к утру съедят. Но Господь опять не дал – не съели. Развиднелось, Маркел пошёл дальше. И очень скоро дошёл до Атбаша. Там и в самом деле лес вдруг сразу кончился и за ним открылось чистое поле, которое тянулось так далеко, на сколько хватало глаз. А сбоку тёк Вагай. На той стороне Вагая было то же самое – голое поле. С поля дул тёплый ветер и пахло цветами. А на бугре у реки Маркел увидел Атбаш. Хотя смотреть там было особенно не на что. Посреди урочища стоял земляной домик с земляной же крышей, дальше за домиком стояли вбитые в землю столбы, за столбами стояли навесы. И был ещё один столб, без навесов, но самый высокий, на нём был надет конский череп – ат-баш. А на берегу лежала лодка, возле неё валялось весло. Маркел сразу повеселел. Он же для этого сюда и шёл – за лодкой, он так и думал, что лодка здесь будет. Если река и пристань, как без лодки? И тут же из домика вышел хозяин – длиннобородый старик в старом выцветшем халате. Старик был с кетменём. Старик спустился в огород и начал там работать. Работы было много. Маркел лежал в кустах, подрёмывал. Чёрт бы его подрал, думал Маркел, почему такой древний, был бы молодой, всё было бы проще, а так только грех один! – и аж зубами заскрипел. В полдень старик ушёл к себе. Из дыры в крыше показался дым. Маркел отвернулся. Когда спала жара, старик вновь вышел работать. Время от времени он останавливался, прикладывал ладонь к глазам и медленно осматривался. Когда старик поворачивался в сторону леса, Маркел крестился и читал молитвы. Старик, чуял Маркел, непростой, он знает колдовство. Не переколдуешь его – не уйдёшь. И Маркел ждал, переколдовывал. Да и куда уже было спешить, и так он с зимы идёт и никак не дойдет, так что полдня можно подождать. И Маркел ждал. Когда начало темнеть, старик ушёл к себе. А Маркел ещё немного полежал, после спустился к лодке, взял весло, осторожно столкнул лодку в воду и поплыл. И Господь ему помог – когда отплывал от Атбаша, луну закрыло тучами, а когда поплыл дальше – открыло. Так, при луне, Маркел плыл довольно долго. Когда он проплывал мимо Ермакова острова, то снял шапку и перекрестился. Также он перекрестился и на то место, где недавно видел затонувший струг. А всё остальное, подумалось, сожрали рыбы. Но ни саблю, ни пансырь, особенно царские, никто не станет рыбам скармливать, так что никто их здесь не оставлял, а татары увезли с собой и уже где-то у себя припрятали. А вот где именно? Никакой зацепки у Маркела уже не осталось, и не у кого спросить, и некого здесь искать, да если и найдёшь, то у тебя сразу спросят, ты кто такой и что здесь делаешь, кто тебя сюда прислал, чердын проклятый! Одно только и осталось, что хозяин лодки говорил о том, будто Ермак не утонул в реке, а его убили на земле, убил даруга Кутугай, а после они пировали, после делили Ермаковы вещи… А где делили? Между кем и кем? А… Ну и так далее. И Маркел махал, махал веслом и также быстро думал. После устал грести, причалил к берегу, затащил лодку в кусты, сам в кустах спрятался и затаился. И опять думал о Ермаке, о Кутугае и о тех, с кем Кутугай делился, и когда, и где. Ну и, конечно, немного поспал. Утром встал, нашёл заводь потише, наколол ножом рыбку потолще, развёл огонь (а утром он не так сильно заметен), испёк рыбку и перекусил, и поплыл дальше. Плыл, зорко смотрел по сторонам, держался то одного, то другого берега, и ни о чём ином не думал, а только о том, как бы его никто не подстерёг. И на привале ночью тоже ни о чём не думал, а только смотрел, чтобы никто к нему не подкрался. Ну да подкрадываться к нему в тех дремучих местах было, похоже, просто некому. А на третий день, ещё до полудня, Маркел миновал Великую ханскую гору и выплыл на Иртыш. Плыл, думал: Господь не оставит. А на кого ещё было надеяться? И вскоре по левую руку Маркел увидел тот невысокий каменистый остров, про который хозяин лодки рассказывал, будто там убили Ермака, а после шесть недель там эту победу праздновали. Врал пёс, конечно, подумал Маркел, ну да всё равно надо проверить. И повернул к острову. Причалил и стал на него подниматься.ГЛАВА 39
Остров был голый, каменистый, поросший мхом, и только кое-где между камнями торчала трава. А дальше, ближе к протоке, виднелись кусты. Кустов было немного. Да как бы это казаки здесь ночевали, подумал Маркел, здесь же ни шалаш не поставишь, ни дров на костёр не соберёшь. Маркел остановился и начал осматриваться повнимательнее. Остров был неширокий, но длинный, с полверсты, наверное, и был отделён от речного берега узкой протокой, про которую хозяин лодки говорил, будто казаки её за один день для того выкопали, чтобы на них сзади не напали. Дурь какая, подумал Маркел, да этого умника самого заставить бы тут покопать – всю жизнь копал бы. А за протокой, сразу от речного берега, начинался густой лес. И вот там, подумал Маркел, и в самом деле вполне можно было целое татарское войско спрятать, и никто бы его никогда не заметил, вот тут хозяин лодки прав. А казаков здесь не было, и Ермака не здесь убили, подумал Маркел, так что нечего здесь время тратить. Но на всякий случай по служебной привычке, чтобы потом князь Семён не корил, что почему не везде посмотрел и не всё своими руками перещупал, Маркел повернулся, прошёл ещё немного в сторону… И обмер! Потому что вдруг увидел, что прямо из тамошней каменной земли торчит невысокий каменный столб, а на нём что-то написано. До столба было не так и далеко, может, шагов двести, и к нему вела проторенная тропка, на которой мох был стоптан начисто. Маркел пошёл по тропке. Чем дальше он шёл, тем столб казался всё выше и выше. Бесовское место, подумал Маркел, добра здесь не будет, но шёл. Потом он прошёл еще немного, и ему открылась небобольшая каменная низина, посреди которой стоял этот столб, а перед ним лежала толстенная каменная колода. И столб, и колода были залиты чем-то тёмным, а вокруг них, да и по всей той низине, вались кости. Но, слава Тебе, Господи, не человечьи, подумал Маркел, перекрестился и начал спускаться в низину. Спуск был неглубокий, сажени на три, а в столбе было саженей пять, вот он и торчал наружу. Маркел спустился вниз, прошёл, стараясь не топтаться по костям, и подошёл к столбу с колодой. Они были в засохшей крови, Маркел это сразу узнал. Также и кости он, присмотревшись, узнал – они были бараньи и птичьи. А ещё на столбе, на самом верху, были начертаны какие-то мудрёные значки. Маркел начал ходить туда-сюда, осматриваться. Теперь среди костей он начал замечать и черепки посуды, и разбитые кувшины, и прочую рухлядь, и просто старые кострища. А потом вдруг увидел стрелу. Потом вторую. Обе стрелы были поломанные. Потом Маркел нашёл ещё стрелу, без наконечника, потом мясницкий нож, уже немного заржавелый. Также и кости были старые, с прошлого года, не меньше. Да и стрелы, сразу было видно, зиму, не меньше, в снегу пролежали. Много тут в прошлом году народу побывало, подумал Маркел. А Ермак лежал здесь, на колоде. Хозяин лодки говорил, что из него всё время текла кровь. И тут же подумалось, что это по нему они стреляли. Такая по нему здесь была тризна. Маркел посмотрел на колоду, снял шапку. Но тут же подумал: бесовское это всё – и отвернулся. Заложил руки за спину, начал туда-сюда похаживать и думать, что, скорей всего, хозяин лодки говорил правду и место татарского веселья назвал правильно. Вот только засады здесь, на этом острове, не было, а засада была там, возле Атбаша, Маркел там и сгоревший струг видел, да и казаки то место называли. Зачем казакам было бы кривить? Они же только про то говорить не хотели, что Ермак не утонул, а был убит татарами, потому что тогда получается, что это вина казаков. Вот, думал Маркел, тогда и получается, что Ермак с казаками прибыл на Атбаш, но не застал там бухарцев и решил их подождать. Для этого он спустился немного обратно, на тот остров, и они заночевали там, но тут на них напали татары. Татар было очень много, казаки побежали от них на струги и уплыли. А татары и не думали за ними гнаться! У них же тогда какая была радость! Они же Ермака убили наконец! Взяли они его мёртвого, разрядили как живого, дали в руки саблю – и привезли сюда, на их знаменитое молебное место, созвали всех кого только могли созвать – и стали праздновать. Праздновали долго, это сразу видно. А дальше было что? Хозяин лодки говорил… Ну да мало ли что этот пёс мог наплести! Он и наплёл – и что Ермак здесь шесть недель лежал, а татары по нему стреляли, и из него кровь текла беспрестанно. Из убитого, ага! Шесть недель! А после будто бы пришли татарские шайтанщики, ну да, а кто ещё, хмыкнул Маркел, и унесли Ермака на другое молельное место, совсем тайное, и саблю и пансырь туда унесли… Ну, это для того, чтобы никто их не искал и не думал искать, вот только на самом деле всё было иначе. Но как? Кто это мог видеть? И кто согласится рассказать? Здесь, в Сибирском ханстве, никого к кресту не поставишь и царской дыбой никого не припугнёшь, а здесь скорей, наоборот, любой может на тебя сказать что хочет – и тебя возьмут, и самого, как Ермака, положат на колоду и начнут… Нет, тут же подумал Маркел, хватит молоть что попало, а пора уже и дело делать, а дело такое: надо искать тех, кто был на этом бесовском веселье и видел, что тут творилось и чем кончилось. Подумав так, Маркел развернулся и пошёл обратно. Вышел из низины, приложил ладонь к глазам и стал смотреть по сторонам. И на другом берегу Иртыша, почти напротив, увидел небольшую татарскую деревню, правильней, аул. Вот к кому надо идти, сразу подумалось, потому что это они, а кто же ещё, это веселье устраивали – подвозили баранов, кормили гостей, давали им приют. Подумав так, Маркел ещё раз оглянулся на колоду, перекрестился и пошёл к воде, туда, где он оставил лодку.ГЛАВА 40
Иртыш в том месте широкий, почти полверсты, да и течение там довольно сильное. Маркел грёб быстро, широко, чтобы не так сносило, но ему всё равно то и дело приходилось загребать в запас. А тот берег приближался медленно. Маркел смотрел на него и видел, что аул там небольшой, хозяев на двадцать, жильё справа, огороды слева, а посредине мостки пристани. Маркел правил к пристани. На ней вначале было пусто, а потом там стали понемногу собираться люди, одни мужчины, конечно. Оружия при них видно не было, ну да без ножа никто не ходит. А лодку всё сносило и сносило, но теперь уже никак нельзя было поддаваться течению, запыхавшись, думал Маркел, иначе, что татары скажут?! Да и станут ли они с ним разговаривать? А он что им скажет, с чего начнёт? Маркел и об этом думал, но ничего на ум пока не приходило. А татар на пристани становилось всё больше, и что они задумали, понять было невозможно. Маркел поправил шапку, поджал губы. Ближе к берегу было уже не так трудно грести. Маркел ещё раз-второй загрёб как можно шире, и лодка ткнулась в причал. Татары подхватили лодку, удержали. Но было видно, что они робеют. Маркел, заметив это, сразу осмелел и начал выходить из лодки. Татары расступились перед ним и даже немного попятились. Маркел вышел на мостки и ещё раз осмотрел татар. Это были простые деревенские мужики, только другой веры. А с мужиками нужно держать себя круто! И Маркел строго сказал: – Я ищу одного человека, и мне это очень нужно. А человек такой: высокий, крепкий, бородатый, на нём пансырь заморский, очень дорогой, вот тут и тут на пансыре личины… И замолчал, потому что татары вдруг все вместе ещё дальше от него попятились. – Вы чего?! – спросил Маркел. – Вы его, что ли, видели? Один из татар, самый старый, ответил: – Да, видели, но только издалека. Он к нам не заезжал, а его вон туда повезли, в тот аул, Толбосе называется, – и старик показал вдоль Иртыша куда-то вверх по течению, после чего сразу прибавил: – Вот там всё про него знают, про того человека, которого ты ищешь. Если хочешь, мы тебя туда проводим. Тут недалеко, через лес. И обернулся к своим и спросил, кто из них готов идти провожать. Было видно, что никто не хочет, но мало-помалу согласились все. Маркел стоял, не зная, что и делать. Убьют они его в лесу как пить дать. Надо было тянуть время, чтобы пока что-нибудь придумать, и Маркел сказал: – Я голоден. Я хочу сперва перекусить. Старик согласно кивнул и опять обернулся к своим. Один из татар развернулся и пошёл в деревню. Маркел спросил: – А тот человек, которого я ищу, почему он в тот аул попал? – Мы этого не знаем, – уклончиво ответил старик. – Но про это знают в том ауле, в который мы тебя отведём. Только вначале мы тебя накормим. Гостя всегда прежде всего надо накормить. Какой бы гость ни явился, ему нужно оказать уважение. Если хочешь, мы даже можем оставить тебя у нас ночевать, а уже только завтра пойдём в тот аул. Они подождут тебя. – Нет, – ответил Маркел. – Я спешу. Мне нужно попасть туда уже сегодня. Старик согласно кивнул. Тут как раз вернулся посланный татарин. Он принёс миску полбы с кониной. А ложки не дал. Маркел достал из-за голенища нож и начал стоя есть с ножа. Татары смотрели на него и молча переглядывались. Маркел, продолжая есть, спросил: – Вы здешние? Старик кивнул. – А что это у вас за место такое необычное на том берегу? Что там? – Мы не знаем, – ответил старик. – Как это не знаете? – удивился Маркел, облизывая нож. – Вы что, там никогда не бывали? – Нет, – просто ответил старик, не моргая. – Никогда туда не ездили. А что нам там делать? – Ладно, – сказал Маркел очень сердито. – Ну а другие там бывают? – Мы этого не видели, – сказал старик. – А в прошлом году? Осенью! – А! Вспомнил! – ответил старик. – В прошлом году там был тот, про которого ты спрашиваешь. – Один был? – Нет, с ним были наши. Наших было много. Шумно было! Костры горели. Кричали. Потом буря началась, много молний ударило. Загорелось всё! – А что потом? – А потом они собрались и поплыли вон туда, куда мы тебе показываем, в тот аул, к мурзе Бикешу. У Бикеша надо про того человека, которого ты ищешь, спрашивать. Мурза Бикеш знает всё! – А тот человек сейчас где? – спросил Маркел. – У Бикеша? – Это тоже надо у Бикеша спрашивать, – упрямо повторил старик. – Бикеш всё правильно ответит. А мы люди маленькие, можем ошибиться. – Хорошо, – сказал Маркел. – Пусть будет так. И отдал пустую миску. Старик нарочно её не удержал, миска упала и разбилась. Маркел подумал: дурная примета. А старик, улыбаясь, сказал: – Не печалься. У нас ещё много таких. И первым повернул к тропе. Маркел взял из лодки узел, забросил его на плечо и повернул за стариком… Но тут вдруг увидел, что татары вытаскивают на мостки его лодку. – Зачем это?! – удивился Маркел. – Пусть там стоит. Я за ней завтра вернусь. – Нет, – сказал старик сердито. – Пусть несут. Маркел сильно нахмурился, но спорить не стал, и они пошли – Маркел, старик и все те татары, которые были на пристани. Трое из них несли лодку. А вперёд всех выбежал татарчонок и быстро побежал по тропке, пока не скрылся в лесу. Это они послали его к Бикешу, подумал Маркел, чтобы этот Бикеш приготовился встречать. Вот только какая это будет встреча, ещё неизвестно. Так, может, пока не поздно, бросить это дело – и в кусты? И там пускай они его догонят! И обратно, к пристани, а там полно лодок, сел в любую и поплыл!.. А дальше что? Куда плыть? И с чем обратно возвращаться – с пустыми руками, что ли, сердито думал Маркел. А тут его ведут туда, куда, после поминок, привезли Ермака и там же где-то невдалеке схоронили. Так что ещё, может, всё устоится, уже не так сердито думал Маркел, и, может, он ещё увидит ермаковскую могилку, а на ней пансырь и саблю царские, кто знает! Ну а не увидит, значит, не судьба. И Маркел шёл дальше, поглядывал по сторонам, помалкивал и мысленно читал молитвы. И ещё вот о чём Маркелу думалось: зачем татары тащат лодку, для чего она им?ГЛАВА 41
Так они по лесу прошли верст пять, не меньше, потом лес кончился, и Маркел увидел впереди аул, раза в два больше недавнего и побогаче. На краю аула стояли местные мужики-татары и внимательно смотрели на Маркела. Когда он прошёл мимо них дальше, они пошли за ним следом. Теперь уже целая толпа прошла половину деревни и вышла на главную площадь, с одной стороны которой стояла небольшая мечеть, а с другой, за невысоким глинобитным забором, виднелся богатый дом из необожжённого кирпича. Ворота во двор были открыты, Маркел со всеми остальными вошёл в них, и туда же протащили лодку. У входа в дом стояли люди, одетые одинаково просто, и только один из них был одет значительно богаче остальных, то есть и халат на нём был ярче, и на чалме красовался султанчик из перьев, да и сам вид у этого человека был очень важный. Маркел сразу догадался, что это и есть тот самый мурза Бикеш, который всё знает. А посмотрев по сторонам, Маркел подумал, что из этой тесноты ему, если вдруг что, уже не выскочить. Раньше надо было убегать, подумал он с досадой, ну да теперь что, теперь что будет, то и будет – и снова повернулся к Бикешу. А тот, огладив бороду, сказал: – Что это за человека вы ко мне привели?! – Мы этого не знаем, – ответил старик из первого аула. – Этот человек приплыл к нам на вот этой лодке и стал спрашивать про другого человека, все мы понимаем, про кого. И что я мог ему ответить? Он был моим гостем, и я был вынужден не перечить ему. Поэтому, чтобы узнать о нём всю правду, я привёл его к тебе, где он уже не гость, а просто чужой человек. – Это ты верно поступил, – сказал, кивая, Бикеш. И, опять посмотрев на Маркела, спросил: – Ты кто такой? Как тебя зовут? Маркел молча пожал плечами. Бикеш посмотрел на старика. Старик сказал: – Я тоже не знаю, как его зовут. Мы у него об этом не спрашивали. Зато он спрашивал сперва о том человеке, о котором мы все помним, а потом он начал спрашивать про тот остров на той стороне. Несколько раз про него спрашивал! Бикеш опять повернулся к Маркелу и строго спросил: – Зачем ты это спрашивал? Маркел опять ничего не ответил. Чем меньше скажешь, тем после от меньшего надо будет отпираться, подумал он, глядя на Бикеша. А тот опять посмотрел на старика. Старик, подумав, сказал: – И ещё вот что: он про того человека спрашивал, как про живого. – Вот даже как! – воскликнул Бикеш и, опять повернувшись к Маркелу, спросил: – Это правда? Маркел не ответил. – Как тебя зовут? Какой ты веры? – спросил Бикеш. Маркел усмехнулся. – Ладно! – уже сердито сказал Бикеш. – Обыщите его! К Маркелу сразу подскочили трое бикешевых слуг и сперва сорвали с него узел с вещами, развязали его и вытряхнули на землю немудрящие Маркеловы пожитки – смену нательного белья, тёплую урманскую рубаху, скребок для бритья, шильце, запасные подошвы и прочую мелочь. Бикеш поморщился. Слуги начали обыскивать Маркела и нашли нож и кистень. Бикеш улыбнулся. А потом один из слуг схватил Маркела за ворот, второй этот ворот расстегнул, рванул на Маркеле рубаху… И показал всем, на верёвочке, нательный крест. Бикеш кивнул, и Маркел спрятал крест. Бикеш сказал: – Вот оно как. Ты урусут! Я так и думал. И ты пришёл сюда в поисках своего хозяина. Но твой хозяин давно мёртв, ты опоздал. И Бикеш осмотрел собравшихся. Среди них послышался гул одобрения. Но вдруг Маркел сказал: – Это неправда! – Ты мне не веришь? – удивился Бикеш. – Ну и не верь. Или ты думаешь, что я начну тебе доказывать, что твой хозяин мёртв? Может, ты ещё даже надеешься, что я, чтобы доказать тебе свою правоту, отведу тебя на его могилу и скажу: вот это место? Нет! Я просто прогоню тебя прочь, как побитого пса! Прошло то время, когда мы вас опасались! А теперь мы смеёмся над вами! Уходи куда хочешь! И тут Бикеш уже даже махнул рукой… И бикешевы слуги уже схватили Маркела под руки, чтобы вытолкать его со двора… И Маркел уже успел подумать, что он всё ожидал, но только не такое… Как старик из первого аула вдруг что-то несвязное выкрикнул. Бикеш повернулся к нему и спросил: – Ты хочешь что-то сказать? – Да, – ответил старик. – Конечно. И это очень важно! – Говори! – Вы посмотрите на эту лодку, на которой он приплыл! – громко сказал старик, обращаясь сразу ко всем собравшимся. – И вы спросите у этого человека, где он её взял? Это ведь лодка нашего уважаемого Вахит-эфенди с Атбаша. Поэтому я говорю: этот человек или украл у него лодку, или даже отнял силой! И при этом может даже и убил его! Эх, только и подумал Мркел, да лучше бы он шёл пешком! Тем более, что теперь совершенно ясно, что спешить было некуда. А Бикеш уже повернулся к нему и, улыбаясь, спросил: – Ну а что ты на этот раз скажешь? Или опять будешь молчать? – А что мне говорить? – сказал Маркел. – Ты же мне всё равно не поверишь. – Это правда, – усмехнулся Бикеш. – Тут я с тобой полностью согласен. Но и это не означает, что я буду поступать с тобой как мне заблагорассудится. Нет! Всё будет по закону! Потому что, и в самом деле, мало ли каким образом ты завладел этой лодкой? Ты мог её просто украсть, мог отнять силой, а мог и вначале убить нашего уважаемого Вахит-эфенди, а потом уже его ограбить. Поэтому мы сделаем вот как: сперва пошлём человека на Атбаш, чтобы он там проверил, как себя чувствует Вахит-эфенди, если он, конечно, ещё жив, а потом уже будем судить тебя. Если ты украл, то мы отрубим тебе левую руку по локоть. Так всегда поступают с теми, кто в первый раз попался на воровстве. А если ты грабил, то сразу лишишься всей правой руки. Ну а если ты убийца, то мы с тебя с живого снимем кожу, а уже только потом отрубим тебе голову. Таков закон! А пока уберите его! Тут Маркела снова подхватили бикешевы слуги и повели вокруг дома за угол, куда-то к хозяйственным пристройкам. Маркел шёл и думал только об одном: Господи, помилуй меня, грешного.ГЛАВА 42
И Господь его пока помиловал. То есть Маркела завели за какой-то сарай, а там затолкали в тёмный и тесный чулан, заперли на замок и ушли. И вот сидел Маркел в углу, на куче прелой соломы, никто к нему не приходил и ничего не спрашивал, не проверял, не… И так далее. А у Маркела внутри всё кипело. Обидно ему было очень сильно! Ну, ещё бы! Вон как Бикеш ловко говорил, запутывал, а он, как малое дитя, ничем не мог ему толково возразить. Позор какой! А надо бы… Эх, думал сердито Маркел, а что было надо делать? И что нужно было говорить? Да тут что ни скажи, всё было бы не так! Потому что с самого начала всё было неправильно! Нельзя было соваться в тот аул, а после тем более нельзя было идти сюда, нужно было бежать с полдороги! А что дальше? Нет, думал Маркел, убегать было нельзя, хорошо, что он не убежал, его сюда зачем послали? Чтобы он нашёл царёвы саблю с пансырем, а они, как все здесь говорят, лежат на ермаковой могиле, а Ермак здесь где-то совсем рядом похоронен, нужно только как-то исхитриться и попасть туда, Бикеш знает, где это, нужно Бикеша заставить рассказать… А как заставишь? Для того чтобы заставить, нужна сила, а какая она у Маркела? Ничего у него не осталось, ни ножа у него, ни кистеня, даже скребок для бриться отобрали, осталась одна только голова, и та пустая. Маркел злился, бил себя рукой по лбу, лоб тупо ныл. Маркел начал молиться – не молилось. Маркел припадал к двери, смотрел в щель между жердями и видел только репейник возле тропки. Маркел, затаив дыхание, прислушивался, но слышал только обычные хозяйственные шумы во дворе. А после и они затихли, и также и в щелях двери света не стало видно. Мало-помалу наступала ночь. Маркел лёг и положил шапку под голову. Надо было думать о том, как ему быть дальше, а не думалось. Опять вспоминался Бикеш со своими ловкими вопросами, на которые Маркел не мог ответить. Нет, он, конечно, мог сказать, что Бикеш не смеет его задерживать, потому что сам Кучум позволил ему сюда ехать и дал лодку, и дал к ней людей, и дал тамгу, в которой было ясно сказано, что все, кого Маркел встретит, обязаны ему служить верой и правдой, и так пусть и Бикеш теперь ему служит! Но сразу подумалось: а дальше что? А дальше Бикеш спросит, где тамга, Маркел ответит, что её украли. Бикеш засмеётся, скажет, что это легко проверить, была ли такая тамга – и пошлёт человека в Кашлык, человек туда приедет, спросит, Кучум удивится, скажет, да как это так, разве Маркел ещё живой, мои люди вчера вернулись и сказали, что они его убили, но если это не так, я их опять пошлю! И пошлёт, а что ему! И эти приедут сюда и теперь уже наверняка убьют. Вот что, думал Маркел, будет, если начать говорить про Кучума. Так что про него лучше молчать, и тогда будет примерно так: вернётся бикешевский человек с Атбаша, скажет, что Вахит-эфенди жив, и Маркела убивать не будут, а ему, за воровство, только отрубят одну руку, левую, по локоть… Нет, так тоже не годится! А тогда можно ещё так: если совсем будет худо, то признаться Бикешу, как он раньше признался Кучуму – так, мол, и так, он и в самом деле урусутский лазутчик, царь его послал за своими пропавшими вещицами и сулит за одну пятьдесят рублей, за вторую семьдесят… Нет, это совсем плохо, не согласится на такое Бикеш, сердито подумал Маркел, что ему такое семьдесят рублей, когда они всем ханством бились, чтобы добыть эту саблю?! Тут надо… И опять так далее! Долго ещё Маркел ворочался, прикидывал и так и сяк и, наконец, извёлся и заснул. Спал очень крепко, снилось всякое, но никак нельзя было проснуться. Так и промучился всю ночь.ГЛАВА 43
А утром к нему опять пришли бикешевские слуги и сказали, что их хозяин его ждёт. И повели. И теперь, удивлялся Маркел, они уже не толкали его, не гнули головой к земле, и не выкручивали ему руки. Так они прошли задами и, через чёрное крыльцо, вошли в дом, там попетляли вправо-влево и вошли в просторную хоромину, где на полу, на ковре, скрестив ноги по-татарски, сидел мурза Бикеш. Рядом с ним лежала сабля, но не та, не царская. Бикеш махнул рукой, и его люди вышли. Бикеш велел Маркелу сесть. Маркел сел. Бикеш улыбался и молчал. Какой-то он сегодня не такой, подумал Маркел, у них что-то очень важное случилось, надо быть настороже. И тут Бикеш сказал: – Мои люди вчера говорили, да ты и сам это слышал, что будто когда ты прибыл к ним в аул и спрашивал про того человека, о котором мы все помним, то ты говорил о нём как о живом. Так ли это? – Нет, не так, – сказал Маркел. – Я такого не говорил. Чтобы говорить о том, что человек жив, надо видеть его перед собой живого. А чтобы говорить о том, что человек мёртв, надо видеть его мёртвым. Или хотя бы видеть его могилу. Покажи мне того человека живого, и я скажу, что он жив! – Я не могу такого сделать, – сказал Бикеш, улыбаясь. – Тогда покажи мне его могилу. – И этого тоже нельзя сделать. Ты человек другой веры, а туда, где сейчас лежит твой хозяин, чужим людям ходить нельзя. – Значит, его там нет, – сказал Маркел. – Воля твоя, можешь думать как хочешь. Но! – громко продолжил Бикеш. – Я знаю, о чём ты думаешь. Меня не обманешь. Один человек, неважно, кто это такой, сегодня сказал мне, что ты очень опасный человек, потому что умеешь разговаривать с мертвыми! – Откуда он это взял?! – сказал Маркел. – Я на твоём месте не стал бы так грубо о нём отзываться, – строго сказал Бикеш. – Но ладно! Дело тут очень запутанное, и не такие, как ты, могут в нём ошибаться. Да яи сам знаю, что часто бывает так, когда об одном и том же человеке одни говорят, что он жив а другие что он мёртв. Вот даже послушай о том, чему я сам был в прошлом году свидетелем. А начиналось это так: мой внук Яныш такого неживого человека из реки выловил. Здесь, совсем недалеко, шагах в трёхстах вниз по течению. – Ты хочешь сказать, что этот человек был мёртвым? – спросил Маркел. – А ты что ожидал? – насмешливо ответил Бикеш. – Что мой внук выловил его живого? Нет, тот человек приплыл мёртвый. – Но мёртвые не плавают, – сказал Маркел. – Мёртвые тонут. – Это совсем необязательно, – ответил, улыбаясь, Бикеш. – Иногда мёртвые плавают, если они не совсем мёртвые. Но и не совсем живые! Но это не самое интересное в этой истории. Куда интереснее вот что: как мы потом узнали, этот не совсем мёртвый человек приплыл с Атбаша. А судя по твоей лодке, ты тоже оттуда же прибыл. Значит, ты плыл за ним по следу. Кто ты такой? Может, ты тоже оживший мертвец?! Маркел, ничего не говоря, перекрестился. – Я пошутил, – сказал Бикеш. – Я же вижу, что ты живой человек. Я только не могу понять, зачем тебе нужен этот полумертвец. – Какой ещё полумертвец?! – Как какой! – продолжил, снова улыбаясь, Бикеш. – Да тот самый, которого мой внук выловил в прошлом году. Нет, куда правильней будет сказать, что тот человек сам к нам приплыл. Он сделал это очень тихо, никто этого вначале не заметил. А потом мой старший внук Яныш пошёл на рыбалку и вдруг видит – в воде лежат ноги. Ноги не в наших сапогах, а в ваших. Яныш немного оробел и не полез в реку, а взял верёвку, сделал петлю, забросил её на те ноги и вытащил человека на берег. Человек был одет по-вашему и очень богато. На нём был дорогой кафтан, а поверх пансырь, тоже очень дорогой. И сабля, которую он держал в руке, тоже была очень богато отделана. Но что ещё удивительней, тот человек был ни жив ни мёртв. – Почему вы так решили? – спросил Маркел. – Слушай дальше, не перебивай, – строго ответил Бикеш и продолжил: – Яныш очень напугался, он же ещё совсем молодой, и мы уже знали, что четыре дня тому назад недалеко от нас наши воины храбро сражались с казаками, и многие казаки разбежались, а которые не смогли убежать, те притворились мёртвыми. Поэтому Яныш даже не стал дотрагиваться до того человека, а побежал домой и рассказал нам обо всём. А у нас тогда гостил мурза Кайдаул, который только что вернулся с битвы на Атбаш-острове. Мы рассказали ему о том, что случилось, Кайдаул взял своих людей, а я своих, и мы пошли к реке. Кайдаул, как только увидел того человека, сразу сказал, что это Ермак. Мы были очень поражены! А Кайдаул, ещё раз подтвердив, что это и есть Ермак, прибавил, что Ермаков пансырь по праву принадлежит ему, Кайдаулу, потому что он с ним бился лицом к лицу, а мурза Кутугай только подкрался сбоку и ударил Ермака обманно. Сказав это, Кайдаул наклонился к Ермаку, начал снимать с него пансырь… И тут у Ермака из носа и изо рта потекла кровь, как будто он был ещё живой. Мы очень растерялись. Мы не знали, как нам быть. Мурза Кайдаул сказал, что это весьма опасно – иметь дело с людьми, которые до конца не умерли. Таких надо прятать куда-нибудь подальше, на сильное молельное место, и ждать, когда это место умертвит такого человека. А такое место у нас близко, через реку, мы Ермака туда и отвезли и держали там ровно шесть недель, пока из него кровь течь не перестала. – А как держали? – спросил Маркел. – С почётом, как ещё, – ответил Бикеш. – Сколько мы туда баранов отвезли, сколько быков, не перечесть. Очень многие наши сородичи хотели побывать у Ермака на погребальном пиршестве. И оно бы ещё дольше продолжалось, но тут наш мулла отправил гонца в Кашлык, и оттуда нам пришёл приказ похоронить Ермака и больше не предаваться, как они сказали, делам недостойным истинных мусульман. Мы так и сделали. Теперь он там лежит, не живой и не мёртвый, и больше никому не может сделать вреда. Так же и ты нам ничего не сможешь сделать, и твой хозяин не придёт к тебе на помощь, потому что ты можешь разговаривать только с мёртвыми, а он ещё наполовину жив, и поэтому тебя не услышит. Так сказал мне один человек, который о нашем мире и о мире мёртвых знает намного больше, чем ты можешь себе представить. Вот что я тебе хотел сказать. Или тебе ещё что-нибудь прибавить? Маркел молчал. – Значит, ты мне поверил, – сказал Бикеш. – Это очень хорошо! Теперь дело осталось за малым: скажи, зачем ты сюда прибыл, и я отпущу тебя. Маркел молчал. Бикеш сказал уже сердитым голосом: – Я даже не стану дожидаться возвращения нашего гонца с Атбаша. Никто не будет рубить тебе руку. Ты сразу уйдёшь отсюда! Я дам тебе лодку! Или ты ещё чего-то хочешь? Скажи, и я выполню твою волю. Даю слово! Только скажи! Маркел усмехнулся и подумал, что вот если сейчас поймать его на слове и сказать, чтобы тот отвёл его на могилу Ермака, и что тогда будет? И приведёт, а что! И там же велит убить, вот и всё. И Маркел ничего не сказал. Бикеш разгневался, воскликнул: – Ну, ладно. Не хочешь, не надо. Будем ждать человека с Атбаша. И если он скажет, что ты обокрал почтенного Вахит-эфенди, то мы отрубим тебе руку. А если скажет, что ты убил старика, то отрубим тебе голову. А пока не утомляй меня! И Бикеш трижды хлопнул в ладоши. В хоромину вошли его прислужники, схватили Маркела под руки и поволокли прочь. Маркел не упирался и даже не гневался, потому что, думал он, со слов Бикеша теперь совершенно ясно, что могила Ермака где-то совсем рядом, так что осталось только исхитриться… А вот это как это сделать, думал Маркел, когда его уже выволакивали во двор, у кого спрашивать, кому довериться? И кто это так надоумливает Бикеша, кого он слушает? Мулла? Нет, на муллу такое не похоже. Тогда, может, это здешний татарский шайтанщик? Как шайтанщик по-татарски? Кам! Вот надо кама и искать! Это Маркел успел подумать ещё во дворе, а уже в следующий миг его затолкали обратно в чулан, закрыли двери и ушли. Маркел лежал в углу, скрипел зубами от злости и думал: это же только выдумать такое, что они здесь, у себя возле аула, нашли тело Ермака! Это от Атбаша-острова три дня вниз по Вагаю на вёслах, а после ещё вёрст пять вверх по Иртышу. Где они такое видели, чтобы покойник плыл против течения? Да ещё какой покойник – в тяжеленном пансыре. Да ещё с саблей в руке. Но и это не всё! Они что, не видели, что бывает с утопленником на четвёртый день, какой он синий становится и как его рыбы объедают, а тут вдруг был белый и чистый! Враньё это всё! А по-настоящему это было вот как: убили они его на Атбаш-острове, положили в лодку и поплыли. А вперёд послали вестового, вестовой приплыл в аул и велел готовиться к поминкам. Эти приехали, как раз и получается четыре дня, а здесь всё уже готово, они сошлись на Ермаковой перекопи и начали праздновать, кам перед ними плясал, бил в бубен, пел бесовские песни… Но тут приехал мулла, стал их срамить, что они как дикари напились и над убитым глумятся, надо убитого предать земле, до заката солнца надо было это сделать, а вы, собаки, что уже который день творите?! Да, вот так. Вот что надо было Бикешу сказать, прямо в лицо, думал Маркел. Так он в следующий раз ему и скажет, пусть послушает! Пусть ему станет тошно! Подумав так, Маркел успокоился, лёг и почти сразу заснул.ГЛАВА 44
И так он спал почти весь день, никто его не беспокоил. Только вечером к нему пришли и дали миску каши. Каша была холодная, свалявшаяся в один большой ком, Маркел отрывал от него куски и ел. Потом стало быстро темнеть. Маркел глянул в дверную щель. Это собирались тучи. А когда солнце зашло, в небе начал греметь гром, но дождь пока не начинался. Потом стали сверкать молнии, их было много, очень ярких. Гром гремел уже почти беспрестанно. Маркел опять подполз к двери и начал смотреть в щель. Во дворе было уже совсем темно, но он то и дело освещался молниями. Потом в окнах у Бикеша зажёгся свет. Тоже не спят, подумалось Маркелу. А гром всё гремел! А молнии всё сверкали и сверкали, и этого сверкания становилось всё больше. Маркел лежал на полу, смотрел в щель – и вдруг увидел далеко, над лесом, высокий огненный столб. Маркел перекрестился и подумал: бесовство. Столб продолжал светиться. Потом он пропал. Маркел прочёл «Отче наш». Во дворе зашумело, потом хлынул ливень. Ливень всё шёл и шёл, гремел гром, сверкали молнии, и то и дело высоко над лесом опять появлялся тот столб. Он поднимался то в одном месте, то в другом, а то обратно в первом. Под утро ливень понемногу стих, гром перестал греметь, исчезли молнии. И огненный столб пропал. Маркел полежал ещё немного и заснул. Утром ему велели выходить. Маркел вышел и увидел Бикеша, с ним были трое его слуг с копьями. Бикеш спросил, как Маркелу спалось. Маркел ответил, что крепко. – А я совсем не спал! – очень сердито сказал Бикеш. – А раньше такого никогда не было. Но и тебя здесь раньше не было! Значит, это всё из-за тебя. Но больше ты мне мешать не будешь! После чего он повернулся к своим людям, и сделал им знак рукой. Они схватили Маркела и повели. Ну, вот, думал Маркел, он теперь, так надо понимать, в тех огненных столбах виновен, это покойный Ермак ему тайные знаки подавал, и теперь его надо убить за это! Тоже, наверное, кам нашептал, а Бикеш его послушался. А что? А запросто! И пока Маркел так рассуждал, его вначале провели через весь аул, затем вывели в поле, повели мимо огородов, затем повернули к лесу, и там, возле самой опушки, Маркел увидел небольшое татарское кладбище. Место подходящее, подумалось. Но на кладбище его не стали заводить, а обвели вокруг, на обратную сторону, и там, между кладбищем и лесом, Маркел увидел большую глубокую яму, а прямо на её краю стояла невысокая, наполовину обгоревшая сосна. Что это за место такое дикое, думал Маркел, и что это за разрытая могила? Может, они хотят его здесь закопать? Но пока никто его не убивал, а его просто подвели к той сосне и привязали к ней верёвкой за ногу. И двое из них ушли, а третий остался сторожить. Это был не очень крепкий на вид мужик-татарин, и он держался с немалой опаской – сидел от Маркела подальше, выставив копьё. Маркел снова посмотрел на яму. Она была выкопана давно, наверное, ещё в прошлом году, а вот сосна, было видно, обгорела совсем недавно, может, ещё только вчера, в грозу. И сразу подумалось: может, это она и горела столбом? А яма – это бывшая могила Ермака? А что! Ведь говорили же, что его сперва положили в одном месте, а потом перенесли в другое. И тут всё сходится – могила была за оградой кладбища, так и положено для иноверца, и вырыта в прошлом году… Так что очень похоже на правду, подумал Маркел и, повернувшись к сторожу, спросил, что это за яма такая, не Ермакова ли это могила. Услышав такое, сторож вздрогнул, но ничего не ответил. – Ты что, глухой? – спросил Маркел. – Нет, не глухой, – злобно ответил сторож, – но нам с тобой беседы разводить не велено. – Ну и молчи, – сказал Маркел. – А я ещё раз скажу, что это Ермакова могила, вы его даже мёртвого боитесь, вы… – Нет, не боимся! – сказал сторож. – И убили мы его, и закопали! А не хотел смирно лежать, мы его ещё глубже зарыли, чтобы он нам не мешал! – И не мешает? – Нет! – А что за огни вчера по небу полыхали? Сторож помолчал, потом сказал: – Злые вы люди, урусуты. А Ермак был злей всех вас. Он даже в могиле улежать не смог. Земля на могиле дышала! Наступить было нельзя! Вот и пришлось его перезакапывать. Маркел в ответ на это только хмыкнул. Сторож, помолчав, прибавил: – Про тебя тоже говорят, что ты нечистый. – Кто такое говорит? – спросил Маркел. – Кам! – громко и в сердцах ответил сторож. – Вчера ночью, в самую грозу, он сказал, что это всё из-за тебя, что ты сжечь нас хочешь! И мурза велел тебя сюда прогнать, на это проклятое место! – А чем оно проклятое? – спросил Маркел. – Это тебе знать необязательно, – строго ответил сторож. – А кто у вас главней, – спросил Маркел, – кам или мулла? Сторож помолчав, ответил очень нехотя: – Раньше был кам. – И продолжал: – Да раньше у нас муллы вообще не было. И нигде по всему ханству не было. А потом пришёл Кучум из Бухары, и теперь у нас в каждом ауле мулла. Но это не твоё дело! Твоё дело сидеть и молчать, а не то, – и он тряхнул копьём, – будешь лежать как Ермак, когда Кутугай его убил! Не помогли Ермаку ни его заколдованный пансырь, ни такая же заколдованная сабля! – А ты видел их? – насмешливо спросил Маркел. – Другие видели! – ответил сторож. – И если ты мне не веришь, зачем тогда спрашиваешь? И в самом деле, подумал Маркел и нарочито широко зевнул. А сторож, отступив на шаг, оглянулся на дорогу, но никого там видно не было. Тогда он, не выпуская из рук копьё, сел на землю. Маркел лёг возле сосны. Солнце поднималось всё выше и пригревало всё сильней. Маркелу захотелось пить, но он молчал. Также молчал и сторож – сидел, опершись на копьё, и подрёмывал. А если Маркел с ним заговаривал, он ничего уже не отвечал и даже не отмахивался. Так наступил полдень, так было и дальше, когда солнце начало спускаться. Потом из аула прибежал мальчишка и принёс сторожу перекусить. А Маркелу ничего не дали! Маркел сидел, смотрел на кладбище. Мальчишка ушёл в аул, сторож опять опёрся на копьё. Маркел, дождавшись, когда солнце зайдёт за деревья, за лес, передвинулся под тень и задремал. Но ненадолго, потому что снилось всякое. И он опять сидел, скучал, помалкивал. Ничего в голову не лезло. А сторож встал, начал расхаживать туда-сюда и поглядывать на дорогу. Это, подумал Маркел, значит, скоро должен прийти сменщик. Но тот всё не шёл. Зато ближе к вечеру пришли сразу трое новых сторожей, таких же мужиков, все с копьями. Прежний сторож сразу же ушёл. А эти подошли к Маркелу, осмотрели верёвку, на которой он был привязан, отошли и сели варить кашу. Маркел опять лёг под сосну. Стало мало-помалу темнеть. Потом стало совсем темно, смотреть на костёр было противно, Маркел отвернулся. Теперь он смотрел на кладбище. Татарское кладбище было непривычное на вид, но робости от этого Маркел не чувствовал. Ему даже, наоборот, было спокойнее. А что, думал Маркел, у них свой закон, у него свой, поэтому ему нет до них никакого дела, а вот лежал бы здесь Ермак, тогда было бы иначе, потому что Ермак свой. А так после него остались только одна яма да обгорелая сосна. И тут сразу вспомнилась вчерашняя гроза и огненный столб над лесом. А сегодня небо было чистое. Но мало ли! Маркел смотрел на небо, ждал, соберутся ли тучи. Но туч не было, была только луна. Вскоре она зашла, и тогда Маркелу показалось, будто в одном месте над лесом начал подниматься слабый свет. Маркел смотрел на него, ждал… Но так и не дождался и заснул. Утром проснулся злой-презлой, голова трещала, эти трое сторожей дали ему кусок холодной каши и немного воды в черепке, Маркел перекусил и выпил. Эти стали собираться и поглядывать на дорогу. Сейчас им на смену придут пятеро, не меньше, подумал Маркел.ГЛАВА 45
И не угадал – пришёл всего один. Этот шёл и держал копьё на плече, как пищаль. Также и шаг у него был широкий, приступистый, спина ровная как будто шомпол проглотил, шапка, конечно, на затылке. А вот борода торчала редкая, кустистая. Сторожа его увидели и сразу встали. Он к ним подошёл, и они начали шептаться. Потом те прежние ушли, а этот новый остался. Сел на бугор напротив Маркела, ловко тряхнул копьём и сказал: – Будешь дрыгаться, сразу убью. Сказал по-нашему. Маркел аж вздрогнул. Давненько он по-нашему не слыхивал! Неужели это наш, сразу подумалось, и он опять осмотрел незнакомца. Борода у того была чёрная, голова бритая, в татарской шапке, а сам он в татарском же кафтане… Но по одёжке разве что узнаешь? Так и Маркел одет во всё татарское, а где тут иное что возьмёшь?! Поэтому Маркел пока просто сказал: – А ты по-нашему умеешь без запинки! – А чего тут не уметь, – ответил сторож. – Я ваших наслушался всяких: и когда они здесь стояли, и когда ещё мы сами ходили на них. – С Маметкулом? – спросил Маркел. – Небось на Чердынь? – Да, и на Чердынь, – с вызовом ответил сторож. – Но и в другие места тоже: на Соль-Камскую, на Орёл-городок… Но это сейчас дела не касается. – Ну а хоть как тебя зовут? – спросил Маркел. – Зови хоть горшком, не обижусь, – уклончиво ответил сторож. И тут же прибавил: – Не люблю я вас всех из-за Камня! От вас только одна беда. До Ермака тут тихо жили, а теперь так жить уже не будем. И не лезь ко мне, не то убью! И он замахнулся копьём. А потом вдруг резко выставил его вперёд, да так, что чуть было не ткнул в Маркела. Маркел сказал: – А ты ловкий! Прямо как рында царский. Ох, они всякое могут! Сторож на это сильно разозлился и сказал: – А ты сиди, молчи! – И ещё раз тряхнул копьём. Маркел откашлялся и уже ничего не прибавил. Так, совершенно молча, они просидели довольно долго, а потом сторож сердито сказал: – Чего ты на эту яму всё зыркаешь?! Не надо на неё так зыркать! Ляжешь туда, тогда назыркаешться! – А что, – спросил Маркел, – меня скоро туда положат? – А что яме пропадать! – насмешливо ответил сторож. – Да и для тебя это почёт. Раньше тут Ермак лежал. О, подумал Маркел, славно, это уже явный след! И спросил: – А чего ему тут не лежалось? Место, что ли, неудобное? – Да ему как раз было удобное, – ответил сторож и оскалился. – Лежал он тут себе, дышал, могила аж трещала. Но после из Кашлыка приезжают, говорят, что Кучум-хан велит, чтобы Ермак здесь больше не лежал, надо, велит, убрать его, а то неровён час вернутся урусуты и начнут его могилке кланяться. Ну и выкопали Ермака из этой ямы, и все его вещицы с собой взяли, и перенесли их на новое место. – Вещиц было много? – спросил Маркел. – А твоё какое дело? – злобно спросил сторож. Маркел промолчал. Как, сердито подумал, какое, царское, какое же ещё! Но промолчал. И также и сторож молчал. А копьё держал крепко! Маркел смотрел на него, думал. Потом как бы задумчиво сказал: – А может, ты всё это врёшь. – Нет! Это правда! – Побожись! Сторож широко перекрестился. Маркел негромко засмеялся и сказал: – А говоришь, не наш. Чего же тогда крестишься? Сторож от злости крепко покраснел, но и теперь смолчал. – Так всё же как тебя зовут? – спросил Маркел. – Поп назвал Яковом, – нехотя ответил сторож. – А! Яков! – радостно сказал Маркел и хотел ещё что-то прибавить… Но спохватился, замолчал. Яков сердито спросил: – А что Яков? – Так, ничего пока, – улыбаясь, ответил Маркел. – Знал я одного Якова. Но дело пока не о нём, а о тебе. И я знаю, кто ты: ты не из ермаковских казаков, а из царёвых стрельцов. Из войска воеводы Болховского. Так? – С чего ты это взял? – настороженно спросил Яков. – Я по выправке тебя узнал, – сказал Маркел. – Как ты копьё, как пищаль, носишь, как шаг печатаешь. И выговор у тебя не волжский, а московский. – Я не московский! – сказал Яков. – Можайские мы с братом были. – А как брата звали? – А тебе какое… – начал было Яков очень зло, но сбился, помолчал, потом сказал: – Максимом брата звали. Он был старший брат, я младший. – Убили брата, да? – спросил Маркел. – Зачем убили, – сказал Яков. – Сам помер, с голодухи. – А! – только и сказал Маркел. Потом прибавил: – Перекрестись. Брату там легче станет. Яков не стал креститься. Сидел как каменный, не шевелился. – Ну, тогда я, – сказал Маркел, перекрестился и продолжил: – Помяни, Господи, раба Твоего Максима и прости прегрешения его вольные и невольные. – Яков молчал. Маркел прибавил: – Вот и всё. И так надо каждый день читать, утром и вечером. И ему там станет легче. – Где это «там»? – с опаской спросил Яков. – Ну, уж не в раю, конечно, – строго ответил Маркел. – Ты что? – взъярился Яков. – Ты кто такой, чтобы его судьбу решать?! На моём брате грехов нет! Мой брат никого не убивал, не предавал… И замолчал. Маркел, немного подождав, спросил вполголоса: – А кто тогда, если не он? Ты, что ли? – Не твоё дело, урусут! – злобно воскликнул Яков. – Пришёл к нам сюда свои порядки наводить! А вот убьём завтра тебя, на колоду положим и будем в тебя стрелять, скотина! – Ну так это ещё только завтра, – сказал, усмехаясь, Маркел. – А сегодня не дури мне голову. Противно тебя слушать, Яша! И отвернулся от него и лёг на землю, и даже зажмурился. Яков молчал. Эх, с досадой подумал Маркел, сейчас пырнёт копьём в спину, – но всё равно лежал, не шевелился. Так прошло немало времени. Потом Яков вдруг сказал: – И долго ты собираешься так валяться? А ну повернись ко мне! Маркел неспешно повернулся. Яков был красный весь, лицо в поту, глаз дёргался. Маркел подумал: эко допекло его! А Яков со злостью сказал: – Кто ты такой, скотина, чтобы на брата моего всякие поклёпы наводить?! Мой брат знаешь какой был? Да ты мизинца братова не стоишь! И твой Ермак не стоит! И твой царь! – Но-но! – строго сказал Маркел. – Хоть ты и в Сибири, и в церковь не ходишь, но на царя не наговаривай. Великий это грех, сам знаешь. Яков молчал. Его всего трясло. – Вижу, тяжело тебе, – сказал Маркел. – Ну так облегчи душу. Не молчи! А я что? Почти уже в могиле. Кому я после это расскажу? Да никому! – Э! – усмехаясь, сказал Як. – Мурза мне говорил, что ты колдун. Опасайся его, говорил, не верь, обманет он тебя… – Тогда молчи, – сказал Маркел и опять стал отворачиваться набок. – Стой! – поспешно сказал Яков. Маркел остановился. Яков облизал губы и сказал: – Ладно, тогда слушай. Скажу всё как было. А если вдруг начну кривить, сразу кричи: «Кривишь!» Договорились? – Договорились, да, – сказал Маркел. – Тогда слушай. С самого начала. Мы вдвоём в стрельцы пошли, я и мой брат Максим. Максим был старший. А фамилия наша Шемеля. Кривлю? – Не кривишь. – Слушай дальше. Хорошо нам в Можайске жилось. А что стрельцом служить? Сходишь в караул, постоишь на стрельнице, постучишь в колотушку, крикнешь: славен город Можайск, славен город Вологда – и уже утро настало. Смена пришла, и ты три дня свободен. Вот тогда у меня и свой дом был, и своё хозяйство, и жена, и дети… А ещё мы с братом сапоги тачали. Брат, честно скажу, тачал лучше. И вдруг нам говорят идти в Москву. И мы пошли, всей сотней. Неделю из Можайска до Москвы тянулись, ох, ноги сбили, ох, плевались, какая это даль, кричали. Мы же тогда ещё не знали, что это Господь нас испытывает. Может, не кричали, так и не послали бы нас дальше. А так прогневили Бога – и послали. Да и не только одних нас, можайских, а там были ещё и дорогобужские, и смоленские, и ярославские. Всего нас было семь сотен и три пушки. Кривлю? – Нет, не кривишь. А дальше? – Вёл вас воевода Болховской. Нет, даже правильнее, князь Болховской Семён Дмитриевич, – с усмешкой продолжил Яков. – Очень он гордился, что он князь, и не из худородных, как он говорил, князей, а из самых родовитых. Правда, кроме родовитости, ничего у него не осталось. Злые люди говорили, что у него под Нижним всего полдеревни, и это всё его имение. Почему нам такого князя дали? Да потому что остальные отказались. А этому куда было отказываться? Этому надо было как-то выслуживаться. И как повёл нас, как повёл! И чем дальше, тем дороги хуже, реки мельче, перекатистей… Но всё-таки дошли, доплыли мы до этого, бес его дери, Угорского Камня. Да ты эти места видел, что тебе про них рассказывать, и так всё знаешь. Только ты небось шёл налегке, а с нами были струги. А струги – это царское добро, их надо беречь! И потащили мы эти струги на Камень. Ф-фу! Тут Яков опять замолчал, утёрся. Маркел вспомнил ту свою дорогу мимо дедушки Макара и только головой покачал. Яков злобно усмехнулся и сказал: – Что, теперь думаешь, кривлю? Нет, не кривлю! Потащили, а куда ты денешься. И, ох, там была маета! Но воевода говорит: ничего, ребята, поднатужьтесь, через Камень перевалим – и там дальше по реке будет всё время вниз и вниз, пока в Кашлык не заедем. И ведь поначалу так оно и было: перевалили через Камень, перетащили на своих горбах струги и дальше поплыли, в самом деле, всё время вниз да вниз. Легко плылось! Правда, с харчами стало туго. Мы их, как после открылось, взяли ровно столько, чтобы как раз до Кашлыка хватило. Зато пороха и пуль у нас был большой запас. И вот мы приплываем в Кашлык, вот к нам выходит Ермак со своими, и говорит: здорово живём, братья-товариство, с чем прибыли? Воевода важно отвечает: мы объелись начисто, у нас все харчи вышли. А Ермак ему: это не беда, если нет харчей, может, у вас порох есть, свинец или ещё чего ратного? Воевода отвечает: у нас если чего и осталось, так только бы самим хватило. Тогда Ермак с усмешкой говорит: ну, тогда я беру вас к себе на службу, за харчи. Воевода как такое услыхал, разгневался и закричал: ты что такое, пёс, несёшь, где это слыхано, чтобы я, природный князь Рюрикова дома, тебе, разбойнику, служил?! И ты что, уже забыл, кто меня сюда прислал? Ты против кого идёшь?! Против самого царя и его царского слова?! Да и своё слово ты, смотрю, не держишь! Ты царю Сибирь отписывал? Или Кашлык не Сибирь?! Ермак аж почернел и говорит: ладно, иди и занимай Кашлык, а я, чтобы тебя не теснить, отсюда выйду. И они, все казаки, собрались, и в тот же день ушли из Кашлыка. И унесли с собой все харчи! Отошли и встали там недалеко, на так называемом Карачином острове, и зазимовали. И тут почти сразу же какой мороз ударил! А у нас есть нечего. Посылали к Ермаку, а он ответил: а что я, я разбойник, какой с меня спрос, да и вы на царской службе, вот пусть царь теперь вам и харчей пришлёт. Вот так! И заголодали мы! Потому что где еды найдёшь? Как только зима пришла, все местные попрятались в лесу, никого нигде не видно, да и не было у нас к этому умения – за местным народцем гоняться. А Ермаку что! Он сидит на Карачином острове, нарыл землянок, обнёс частоколом, караульных выставил – и к нему местные не лезут. Говорят: Ермак шайтан! А Болховской – не шайтан. И нам ну прямо носу из-за кашлыкских стен не высунуть. И стали мы мало-помалу вымирать. И мой брат Максим умер. Ох, я тогда на Ермака разгневался! Ох!.. И Яков замолчал. И молчал долго. Потом как чужим голосом продолжил: – Зима кончилась, снега сошли, и мы, сколько нас осталось, уже без воеводы, конечно – воевода тоже помер, – послали вестового к Ермаку сказать, что пусть возвращается в Кашлык и дальше им правит, а мы, его братья-товариство стрельцы, хотим встать под его руку и кланяемся ему нашим всем пищальным зельем, семь пудов. Он с этим согласился и вернулся. Кривлю, не кривлю? – Нет, не кривишь, – сказал Маркел. – А дальше что? Яков помолчал ещё немного и продолжил уже вот как: – Брат у меня долго помирал. Последнюю неделю не вставал. А ещё раньше зубы у него вывалились и кровь из горла шла. Но брат ни на что не жаловался, а только говорил: Яша, не забудь всё это. Я отвечал: не забуду. Он говорил: побожись! Я божился. И своё слово сдержал! – Как сдержал? – спросил Маркел. – А твоё какое дело? – сердито воскликнул Яков. – Ты мне судья? У тебя брат на руках помирал?! А какой был брат! Какие сапоги тачал! Пол-Можайска в его сапогах ходило. Бывало, куда ни сунешься, везде спрашивают, не Максимов ли я брат. Максимов, говорю. Ох, говорят, золотые руки у твоего брата, какие сапоги он строит, какая кожа на них мягкая. А после мы эту кожу сожрали! Нарезали на полоски и варили в кипятке, такая была голодуха. Но всё равно не помогло, брат вскоре помер. А Ермаку что?! У него на Карачином острове гулянки каждый день! – Откуда гулянки?! – удивился Маркел. – Отовсюду! – злобно сказал Яков. – Здешние народцы наезжали, их князьки, с которыми он снюхался. Приезжают к нему, поят грибной водкой, девок к нему возят, а мы сиди за стенами и помирай! – Так, говоришь, здешние князьки сами к нему ездили? – спросил Маркел. – Сами, а как же! – гневно ответил Яков. – Потому что если не хотели бы, так Ермак их в здешних лесах ни за что не нашёл бы. А так чего искать, когда они сами к нему прут. Да и не только в ту зиму так было, а как нам знающие люди говорили, это с самого начала повелось, когда Ермак ещё только пришёл сюда и Кучум собрал на него войско отбиваться. Много к Кучуму тогда сошлось войска, эх, думал Кучум, сейчас я Ермака побью! А что на поверку вышло? Как только Ермак со своими ворами-казаками из стругов на берег вышел да как стрельнул из пищалей, так сразу побежало Кучумово войско! Не хотели они за него биться. – А за Ермака? – спросил Маркел. – И за Ермака не хотели. Зато Ермак их не неволил, говорил: живите как хотите, молитесь кому хотите, мне до этого нет дела, а только давайте ясак! – А Кучум? – А что Кучум? Не любят его здешние! Он же не только ясак собирал, а он ещё их неволил переходить в его агарянскую веру. А здешние вогулы что? Да и татары здешние, все они испокон веку болванам кланялись. И тут вдруг пришёл Кучум из Бухары, убил их хана Едигера Тайбугиновича и велел всему здешнему народу переходить в его закон. Ох, что тут сразу началось! Мучил Кучум народ, менял им веру… И тут вдруг является Ермак и говорит: а мне до вашей веры дела нет, мне только дай ясак! И к кому народ пойдёт? Вот то-то же! Поэтому Кучум бежал в Барабинскую степь и там кочевал, а Ермак сидел на Карачином острове и с нечестивыми безбожниками пьянствовал, дуванил с ним день и ночь, а мы, его единоверцы, в Кашлыке как мухи мёрли. Брат говорил: Яша, не забудь! И я не забыл. Хотя теперь, конечно, всё уже прошло. Вот только я никак наесться не могу. Всё время голодный! Это мне иногда снится брат, он говорит: ешь, Яша, за двоих, тебе много силы надо, не забудь, кого тебе надо со свету сжить! А я его, бывало, слушаю и думаю: эх, Максимка, Максимка, далеко ты теперь от нас и даже не знаешь, что кого надо было сжить, того уже сжили… А потом стал думать по-другому: а почему это я решил, что Максимка ничего не знает, может, он, наоборот, знает много больше моего – что тот, про кого я думаю, совсем не убит ещё, а он… И тут Яков опять замолчал. Маркел терпеливо ждал. Но Яков ничего уже не говорил, а, ещё немного помолчав, поднялся, осмотрелся и со злом сказал: – Где обед? Чего так долго тянут, сволочи!? И даже махнул копьём. Но после всё же успокоился, начал ходить туда-сюда. После пришёл давешний мальчишка-татарчонок, принёс Якову еды. Яков схватил миску, сел и начал быстро есть. Иногда он поглядывал на Маркела, подмигивал ему, нарочно громко чавкал и облизывался. Когда поел, отдал мальчонке миску и сказал, что у него здесь всё спокойно. Мальчишка убежал. А Яков лёг на спину, положил рядом копьё и сказал, что если он во сне что услышит, или если ему даже что-то померещится, он подскочит и убьёт Маркела! После закрыл глаза и то ли и в самом деле заснул, а то ли только притворился. Маркел тоже лежал тихо, есть ему почти что не хотелось, а только об одном и думалось – что сейчас можно изловчиться, перетереть верёвку, кинуться на Якова и придушить его, и велеть, чтобы во всём сознался… Да только было же понятно, что Яков из тех, кто лучше даст себя насмерть замучить, но ни словечка не скажет. Так что тут придётся всё вытягивать с добром, если такое, конечно, получится. И с этой мыслью Маркел задремал.ГЛАВА 46
Но только Яков шелохнулся, Маркел сразу открыл глаза. Яков поднялся, сел, посмотрел на Маркела и сердитым голосом сказал: – Не спишь? И правильно! Скоро совсем заснёшь, тогда и выспишься. Маркел ничего на это не ответил, а только подумал, что это конечно же и есть тот самый Яков, о котором говорил Шуянин… Но дальше Маркел думать пока не стал, потому что Яков очень злобным голосом сказал: – Ты чего так на меня уставился?! Ты на себя посмотри! А на меня смотреть не надо. Поздно на меня смотреть! – Да я могу и не смотреть, – сказал Маркел. И он и в самом деле отвернулся от Якова и стал смотреть в яму. Потом спросил: – А где вторая ермаковская могила? – Это тебе знать необязательно, – сердито ответил Яков. – Да и всё равно тебя туда не пустят. – А тебя? – спросил Маркел. – Ну, меня! – нехотя ответил Яков. – Да я и сам туда не пошёл бы. – Почему? – Недоброе там место, чёрное. Как и сам Ермак был чёрным, когда его по Вагаю с Атбаша несло! – А ты видел это? – Откуда мне было видеть? – удивился Яков. – Я же тогда был уже тут, в нашем ауле, ясырём у Бикеша, а Атбаш это вон где. Бикеш меня в кости выиграл у Ермака, и меня здесь высадили, а сами поплыли дальше, на Атбаш… – Не криви! – строго сказал Маркел. – Как это? – растерялся Яков. – А вот так! – ещё строже сказал Маркел. – Никто тебя ни во что не выигрывал, а ты как плыл, так и поплыл со всеми дальше, и со всеми приплыл на Атбаш. А когда там начало темнеть, тебя в караул поставили. Ну а когда татары ночью из кустов полезли, тогда ты бросил пищаль и сказал… – Нет! – яростно воскликнул Яков. – Я ничего не говорил! Остолбенел я тогда, вот что! – И спохватился, и спросил: – А ты откуда это знаешь? – Значит, есть такое место, откуда всё можно узнать, – сказал Маркел, после залез за пазуху, достал нательный крест и показал его Якову. Яков тяжело вздохнул и отвернулся. – Яша, – тихим голосом сказал Маркел. – Ещё не поздно повиниться. Господь и не таких прощал. – А Ермака простил?! – Ермак сам за себя ответит, а ты за себя отвечай! – уже очень строго продолжил Маркел. – Так вот, Яша, дело тогда было так: вы пристали к Атбаш-острову, все стали готовиться к ночлегу, но тут вдруг подходит есаул Шуянин, берёт вас троих и ставит в караул. Караул тогда был вот какой: ты, а с тобой Ванька Волдырь и Мишка Заворуха. А ночь тогда была темнющая… Яков насупился, долго молчал, потом настороженно спросил: – Ты кто такой? – Маркел Косой, стряпчий Разбойного приказа, из Москвы. Дело у меня: сыскать того, кто Ермака убил. И кто Ермаковы вещицы украл – саблю и пансырь, царские подарки. Яков ещё сильней нахмурился, сказал нетвёрдым голосом: – Атамана Ермака Тимофеевича убил ханский даруга Кутугай. Ткнул копьём в горло и убил. Я это сам видел. Могу побожиться. – Это необязательно, – сказал Маркел. – Так все, кого я спрашивал, показывают. А кто такой мурза Кайдаул? – Мурза Кайдаул приятель мурзы Бикеша, – уже смелей ответил Яков. – Когда всё это приключилось, Бикеш у себя сидел. А Кайдаул со своими людьми пошёл на Атбаш. Там они нас в засаде поджидали, но нам про это было неведомо. – И что Кайдаул? – спросил Маркел. – Он на Ермака накинулся, Ермак стал от него отбиваться. И может, и отбился бы, но тут Кутугай подскочил и сбоку всадил ему копьё прямо под шлем. – И ты хорошо рассмотрел? – А чего там было рассматривать?! Я от них, может, в пяти шагах стоял. – Руки тебе связывали? – Нет. – А! Если не связывали, значит, ты им добром поддался! – Не поддавался я! – выкрикнул Яков. – А онемел я. Остолбенел! Оно же вдруг ни с того ни с сего началось! Стоял я в карауле, было тихо. И никакой грозы тогда не было, небо было чистое, луна светила. Я стою, смотрю перед собой, а там кусты, и по бокам кусты… И вдруг вижу, прямо передо мной ветка отгибается – и из-за неё выходит татарин. А за ним ещё татарин, и ещё. Много их оттуда вышло. А я стою как столб, держу перед собой пищаль и думаю: надо фитиль поджечь… – А почему не закричал? – Не захотел! – Эти слова Яков сказал очень сердито, даже в ярости. И так же яро продолжал: – Не захотел я кричать! Вот не захотел, и всё! Яша, мне Максим шептал, Яша, молчи! И я молчал. – А дальше что? – Они пищаль у меня отобрали, а самого меня взяли под руки и повели перед собой. Я шёл, молчал. Тихо было, только мошкара зудела. И только когда мы вышли к берегу, вдруг впереди кто-то как закричит: «Татары!». Ну и дальше началось всё это, вспоминать не хочется. – А замолить грех хочешь? Яков молчал. Потом не своим голосом сказал: – Ермак был очень строгий атаман. Чуть что не по его, сразу виновного в мешок, ещё камней в мешок, для весу – и в воду. Многих он так перетопил! Ну да, может, так оно и было нужно, я не знаю. – Ладно, – сказал Маркел. – Это пока что к делу не относится. Рассказывай, что было дальше. – А что было! – сердито сказал Яков. – Перебили они наших всех. А кого перебить не успели, те повскакали на струги и уплыли в Кашлык. А мы остались. Кутугай сразу стал кричать, что если это он убил Ермака, то ему должно достаться и всё Ермаково добро. А Кайдаул сказал: нет! Сперва, сказал, мы должны Ермака убить совсем. Заколоть копьём – это ещё не убить, а утопить его надо! Вот что Кайдаул тогда придумал! Это из-за того, что у них так считается, что если человек утонет, тогда он лишается души и уже никогда не оживёт. Поэтому им всем такие Кайдауловы слова понравились, Ермака оттащили к воде и опустили туда с головой. И так держали до утра, а утром положили в лодку, прикрыли ветками и поплыли обратно. И меня взяли с собой. Тут Яков опять замолчал. Тогда Маркел спросил: – И куда вы поехали? Сразу в аул к Бикешу? – Нет, – ответил Яков и поморщился. – Мы сперва остановились в одном очень недобром месте. Там ни кустов, ни трава не растёт, а там только посреди камней стоит каменный столб, а перед ним каменная же колода. И вот сняли с Ермака шлем, пансырь, кафтан, сапоги и всё остальное прочее, положили его на колоду, сели перед ним и начали пировать. И как только кто скажет здравицу, тому сразу дают лук, он встаёт и в Ермака стрелу пускает. Говорили, кровь текла из Ермаковых ран, как у живого. Но так это было или нет, не знаю, я не видел. Я был на дальнем костре костровым. И так они день пировали, а после ещё, а на третий день приехал человек от муллы и стал кричать, что мулла всех проклянёт, если они это безбожие не прекратят. И перестали мурзы пьянствовать, велели гасить костры. Потом мы пошли к реке, переплыли на эту сторону, как раз стало темнеть, и понесли Ермака к кладбищу, сюда, и похоронили здесь, где эта яма. Мулла назавтра приходил, посмотрел и ушёл, ничего не сказавши. Так Ермак здесь и лежал до самых холодов, и лежал бы дальше, он же лежал чин чином, за оградой… Но вдруг люди стали поговаривать, что у Ермака на могиле будто свечка светится. Мулла разгневался и велел, чтобы убрали Ермака отсюда. И унесли в другое место и там закопали. – И ты с ними тоже закапывал? – спросил Маркел. Яков утвердительно кивнул. – И пансырь с саблей на могилу положили, да? Яков опять кивнул. Маркел ещё подумал и спросил: – Зачем ты мне всё это рассказываешь? Яков помолчал, облизал губы и ответил: – Хочу душу облегчить. Да и ты никому не расскажешь. Потому что убьют тебя завтра! – Кто? – Может, и я убью. Не Ермака, так хотя бы тебя! И Яков тихо засмеялся. Потом уже серьёзным голосом продолжил: – Бикеш хочет, чтобы я тебя убил. Это ему кам так накамлал, что надо, чтобы один урусут убил другого урусута. – И что ты? – А что я? Я человек подневольный, ясырь. А могу и не убить! Могу даже больше! Хочешь, отведу тебя на новую Ермакову могилу? Или робеешь? Маркел молчал, думал. Яков тихо засмеялся и опять сказал: – Робеешь! А ведь это здесь недалеко! Верёвку с тебя срежу – и за мной! Маркел молчал. Ему очень хотелось верить Якову, но была опаска…ГЛАВА 47
Вдруг Яков сердито сказал: – Прозевал ты свой случай, москва! Маркел обернулся и увидел, что от аула к кладбищу идут новые сторожа, опять трое местных мужиков, все с копьями. Эх, не судьба, подумалось. Или, может, просто ещё рано? И Маркел мысленно перекрестился. Подошли новые сторожа, спросили, как дела. Яков сказал, что всё в порядке, развернулся и пошёл в аул. Маркел смотрел ему вслед и не знал, что и думать. А сторожа опять сперва проверили Маркелову верёвку, а после развели костёр и стали готовить перекус. Маркел лежал, смотрел на них, а сам думал о Якове и о его словах. Сторожа начали перекусывать, а Маркел опять думал о Якове. Стало темнеть, сторожа, уже перекусив, сидели у костра и говорили о чём-то своём, а у Маркела в голове опять был один только Яков со своими рассказами. А о чём ещё было думать? О том, что завтра вернётся посыльный с Атбаша, и Бикеш велит отрубить Маркелу руку? Или о том, что накамлает кам? Поэтому Маркел и думал только о рассказах Якова и всё хотел понять, что в них правда, а что кривь. Но получалось так, что всё могло быть правдой и всё кривью. Ничего заранее не угадаешь. Подумав так, Маркел лёг поудобнее и приготовился заснуть. Но сон всё не шёл и не шёл! Маркел лежал, смотрел на сторожей, те по-прежнему сидели у костра и даже не собирались ложиться. А если бы они и легли, и заснули все трое? Ну, досадливо думал Маркел, и перетёр бы он верёвку, а что дальше? Куда после идти? Один он ничего здесь не найдёт. Так, может, зря он не поверил Якову? Или не зря? И тут вдруг кто-то осторожно кашлянул. Маркел оглянулся и увидел лежащего рядом с ним Якова. Маркел покосился на костёр. Там все сторожа спали. Или лежали, притворяясь спящими. Потому что как-то слишком быстро они заснули, подумал Маркел и недоверчиво глянул на Якова. Тот поманил его рукой. Маркел даже не шелохнулся. Тогда Яков шёпотом сказал: – Пять вёрст по лесу. И дальше я дорогу тоже знаю. До утра выйдем к реке, а там нас лодка уже ждёт. Ну чего?! Кривит, тут же подумал Маркел, вот только зачем ему это? Или у него такая служба? И Маркел поморщился. А Яков уже с горечью заговорил: – Эх, москва! Ты теперь не только одного себя, а ты и меня убиваешь! Знаешь, что мне будет, если меня сейчас вдруг хватятся? Маркел ещё раз обернулся на догоравший костёр и на лежащих возле него сторожей. Брехня это, не верь, думал Маркел, они тебя убить хотят. Но тут же подумалось: а пусть хоть и убьют! А по-другому разве не убьют?! И тут вдруг Яков подал ему нож. А, будь что будет, подумал Маркел, схватил нож и одним махом перебил верёвку. Яков радостно оскалился, поднялся и, стараясь не шуметь, первым шагнул в кусты. Маркел ступил за ним. Они пошли по перелеску. Они шли всё быстрей и быстрей. Потом, выйдя на тропку, побежали. Маркел старался не отстать от Якова. А Яков бежал очень быстро. Лес был густой, темнющий, но луна светила ярко – и на тропе было светло, бежать было просто. Вдруг сзади, вдалеке, заухал филин. Яков остановился, прислушался. Филин опять ухнул. Яков матерно ругнулся и сказал: – Гады! Почуяли! Давай! И повернул с тропы. Теперь бежать стало трудней. А вскоре они и вовсе перешли на шаг. Яков шёл первым, утирался, говорил, что здесь их искать не должны, здесь же места очень недобрые, поэтому искать их будут возле пристани. Так что пока там разберутся что к чему, они пять раз успеют дойти до кладбища. – Да это даже и не кладбище, там только одна могила, – сказал Яков. – И на ней пансырь и сабля, и… Тут Яков вдруг замолчал, остановился и прислушался, опять ругнулся и ещё раз повернул. Они шли оченьбыстрым шагом. Лес был не такой уж и густой, но они всё время поднимались в гору. Маркел вскоре стал задыхаться, а потом совсем остановился. Остановился и Яков, и опять стал прислушиваться. Маркел не удержался и сказал, что пять вёрст они уже давно прошли, а где Ермакова могила? Яков помолчал и нехотя ответил, что он заблудился. И прибавил: – Я там только один раз был! Да и небо теперь вон какое! Небо и в самом деле плотно затянуло тучами, луна исчезла, и стало темно. – Ну и как нам теперь быть?! – спросил Маркел. Вместо ответа Яков тяжело вздохнул. Маркел строго сказал: – Ты что-то не договариваешь. А ну перекрестись! Яков не стал креститься. Но и глаз не отводил. – А! – гневно сказал Маркел. – Я так и думал. Но меня-то за что, Яша? Я не Ермак и твоих братьев голодом не изводил! Яков молчал. Маркел поднял нож – тот самый, который дал ему Яков. Яков посмотрел на нож и отвернулся. В лесу зашумело. – Это перед грозой, – сказал Яков. – Гроза будет сильная. А когда Ермака убивали, никакой грозы не было. Врут люди! – Ты мне зубы не заговаривай, – сказал Маркел. – А вот посмотри сюда! Яков опять повернулся к Маркелу. Маркел приставил ему к горлу нож. Яков молчал. Ветер шумел в лесу всё громче. Яков откашлялся и начал говорить: – Это очень хорошо, что мы с тобой заблудились. А не заблудились бы, пришли туда, так там тебя сразу бы убили! – Почему вдруг обязательно убили? – Потому что нас там ждут! Потому что они знают, что я приведу тебя. Потому что кам сказал: тебя надо убить, а не убьём, всем нам будет беда! Вот я и вёл тебя. А вот дальше вести не хочу! Потому что заблудился я! Маркел молчал. Потом спросил: – А зачем ты им для этого? Они меня и без тебя могли туда свести. Заврался ты. – Нет, не заврался! – сказал Яков. – А это кам учил, что ты должен сам туда прийти, и тогда колдовство будет сильное. А если не сам придёшь, тогда несильное. И вот меня к тебе и подослали. И вот я тебя и заманил! Маркел молчал, смотрел на Якова. Потом спросил: – И там, на той могиле, Ермаковы сабля с пансырем лежат, так, да? Яков кивнул. И сразу прибавил: – Но там Бикешевы люди тебя ждут! – Ну что ж, – сказал Маркел. – Значит, такова моя судьба. Веди! Или робеешь? Яков постоял, помялся, а после тяжко вздохнул и повёл. Было темно, всё небо в тучах, даже звёзд видно не было. И вдруг пошёл дождь. Он хлестал всё сильнее, выл ветер, начали сверкать зарницы. Тут без колдовства не обошлось, думал Маркел, это кам камлает, путает тропу, ну да не на тех напал, – и поспешно, истово перекрестился. Дождь продолжал хлестать, Яков идущий впереди, начал о чём-то говорить, но Маркел не слушал, а уже прикидывал, как быть, когда они выйдут на кладбище, у них же только один нож, эх, надо было прихватить копьишки, чего они там у костра валяются… Вдруг Яков замолчал, остановился, утёр лицо от дождя, внимательно осмотрелся по сторонам и приглушённым голосом сказал: – Здесь где-то. Маркел тоже осмотрелся и ничего не увидел. Тогда Яков, меленько, таясь, перекрестился и шагнул вперёд. Маркел шагнул следом. Они обошли кучу валежника, вышли на поляну и увидели…ГЛАВА 48
Да только что там можно было рассмотреть? Вначале Маркел совсем ничего не видел, а потом вдруг сверкнула молния, и он успел заметить, что посреди поляны стоит высокий деревянный болван – толстый столб с поперечиной, на столб надет пансырь, а поперечина продета в рукава, и эта поперечина в правой своей как бы руке держит саблю. И никого там рядом нет!.. И сразу опять стало темно. Но, правда, дождь стал понемногу стихать. – Видал? – с гордостью воскликнул Яков. – Как я и говорил – та сабля! И тот пансырь. – И здесь Ермак лежит? – спросил Маркел. – Нет, – сказал Яков, – не здесь. У него вообще нет могилы. Они тогда, как только его на том кладбище выкопали, так сразу отнесли и бросили в Иртыш. Теперь он в Иртыше лежит, вот где. А здесь только их болван стоит, у болвана пансырь ермаковский и сабля тоже его. Татары, которые сюда приходят, всякие мурзы богатые, кланяются сабле с пансырем, и те дают им удачу. А Ермаку татары кланяться не стали бы. И он ещё что-то сказал, но Маркел его уже не слушал, а наугад шагнул вперёд, после шагнул ещё… Опять сверкнула молния, болван был совсем рядом. Рожа у него была кривая, тёсанная топором, глаза и губы чуть намечены. Но Маркел на рожу не смотрел, а только на пансырь и думал, что это тот самый и есть – немецкой работы, мудросный, – и сабля та же, турская. Теперь всё это было легко рассмотреть, потому что дождь закончился, из-за туч вышла луна. Маркел ступил ещё вперёд, взялся за саблю и подумал, что, может, это даже к лучшему, что Ермака здесь нет, а то как это было бы – с чужой могилы брать чужие вещи? Грех какой! А так это уже болван чужое взял, а Маркел у него отбирает своё, царское, и отвезёт в Москву, и царь ему там за это… Но тут вдруг Яков сзади закричал: – Маркел! Маркел вырвал у болвана саблю, быстро обернулся и увидел, что сзади него стоит кам, а за ним Бикеш со своими людьми. Людей было много, но Маркел смотрел только на кама. Кам был в большой мохнатой шапке с оленьими рогами и в широкой распахнутой шубе, расшитой яркими лентами. В одной руке кам держал бубен, в другой колотушку – и не шевелился. – Брось саблю! – тихо сказал Яков. – Маркеша, брось, хуже будет! Но Маркел и не думал бросать саблю, а только ещё выше её поднял, и даже встряхнул. Тогда и кам тряхнул бубном и, приплясывая, боком-боком подошёл к Маркелу. От кама разило мухоморами, глаза у него были дикие, рот широко раскрыт. Маркел хотел сразу ударить его саблей… Но не смог! Рука не двинулась. А кам громко, хищно засмеялся и начал скакать вокруг Маркела, бить в бубен и кричать, да ещё громко бренчали колокольцы, которыми была обшита его шуба. Кам бегал, прыгал, плясал, приседал, снова вскакивал, кричал, пел, плевался. Маркел стоял столбом, не мог пошевелиться. Так же и татары никто с места не сходил, тоже, наверное, остолбенели. И это всё тянулось и тянулось! Дождь давно кончился, ярко светила луна, а кам всё скакал вокруг Маркела, бил в бубен громче и громче… А после вдруг остановился, подбросил бубен вверх, крикнул «хей, хей!» – и бубен назад не вернулся, застрял в небе. Маркел хотел поднять голову и глянуть вверх, но голова не двигалась и даже глаза не косили. А кам, продолжая скакать, подбросил вверх колотушку – и она тоже исчезла. И почти сразу же бубен заухал где-то высоко над головами. Кам засмеялся и опять начал плясать, повизгивать, хрипеть, а после вдруг выхватил из шубы два длинных ножа и начал с ними плясать, подбрасывать их и ловить за рукояти, а после схватил их, остановился, осмотрелся – и воткнул себе в бока! Татары дружно охнули. А кам вырвал ножи из боков, ножи были в кровище, и опять начал их подбрасывать, ловить, теперь уже за лезвия, и вновь подбрасывать. А Маркел стоял как пень, с занесённой рукой, держал в ней бесполезную саблю – и хоть ты кричи! Но даже не кричалось. А кам опять схватил ножи за рукояти и, продолжая плясать, теперь с каждым кругом всё приближался и приближался к Маркелу, и всё размахивал ножами, размахивал, вверху, было слышно, колотушка била в бубен, Маркел стоял столбом с саблей в руке, кам подскочил к нему, замахнулся ножами, татары опять дружно вскрикнули… Но с Маркела вдруг как колдовство свалилось! И он рубанул кама саблей! Чуть надвое не развалил! Ну, ещё бы, сабля-то какая! Кам упал на землю и залился кровью. Стало тихо. Потом сверху, с неба, упал бубен, за ним колотушка. Кам корчился, плевался кровью и что-то хотел выкрикнуть, но у него не получалось. Маркел смотрел на кама и молчал. Татары вразнобой шушукались: «Шайтан! Шайтан!» Бикеш, стоявший впереди татар, вертел головой туда-сюда, наверное, искал кого-то… И тут первым опомнился Яков, схватил Маркела за рукав и, ничего не говоря, потащил его за собой прочь с поляны. Сначала они просто шли, потом побежали, а татары всё стояли на полянке и не знали, что им делать с камом – так это было, наверное.ГЛАВА 49
Бежали они тогда долго. Луны из-за деревьев видно почти не было, земля после дождя скользила. Маркел прижимал саблю к груди и думал, только бы не уронить. А больше ни о чём не думалось – ни о болване, ни о каме-колдуне, ни о татарах, ни даже о том, чья это сабля и что будет Маркелу за то, если он вернёт её в Москву. Бежал – и всё, старался не отстать от Якова. Потом лес кончился и началось болото. Яков побежал прямо в него, Маркел побежал за ним следом. В болоте оказалась тропка, бежать по ней было удобно. Небо начало светлеть, и стало видно, что болото здесь очень большое, без края, но в одном месте темнел лес. Вот они к этому лесу и бежали. Пробежав примерно полпути, Яков остановился, подождал Маркела и сказал, что надо делать привал. Маркел, тяжело дыша, сразу сел на кочку, положил саблю себе на колени и начал её осматривать. Сабля по всем приметам была настоящая, царская: ножны и черен хоз серебряный, чеканен; по обе стороны от черена слова татарские и травы золотом. Да это же, думал Маркел… И ничего не думалось, а просто голова горела! Маркел опять смотрел, смотрел на саблю, просто не мог глаз отвести!.. Потом, опомнившись, привстал, прислушался, ничего не услышал и настороженно спросил: – А что татары? – Ничего, – насмешливо ответил Яков. – Небось наложили в порты, когда ты кама ухайдакал. И саблю унёс! Что они теперь Кучуму скажут? А как умалчивать? Маркел провёл рукой по сабле и сказал: – Мне было велено вернуть саблю и пансырь. А у меня только сабля. – В другой раз придёшь, возьмёшь и пансырь, – сказал, усмехаясь, Яков. – А пока хотя бы саблю донести. А и верно, подумал Маркел, и спросил: – Где это мы сейчас? – Это Толбосе-бурен, болото, – сказал Яков. – Я эти места знаю хорошо. Меня Бикеш прошлой зимой через это болото вон в тот лес за дровами гонял, я тут все кочки изъездил. А вот туда, – он показал, – через тот лес и дальше налево, будет тропа, про которую я тебе говорил, да ты не слушал, а по той тропе мы выйдем к Иртышу, к Вагай-аулу, его зимним жилищам. Там сейчас нет никого. А лодки есть! Мы возьмём одну и поплывём… – Куда? – Домой, куда ещё! – сердито сказал Яков и вздохнул. А Маркел подумал: это верно, дома ничего хорошего его не ждёт. Ну да и здесь с него с живого шкуру снимут. И тоже вздохнул. – Хватит, вставай, – сказал Яков. – А то уже светать начинает. И они пошли дальше. Пока шли до леса, совсем рассвело и показалось солнце. Вошли в лес, напились из криницы, дальше ещё прошли, и там Яков показал землянку, в которой он зимой, бывало, останавливался. А теперь он только залез туда, достал горшок крупы, они её сырьём поели, запили водой. После Яков вытащил кусок рогожи, Маркел увернул в неё саблю, чтобы было неприметно. А так на всякий случай у него был нож, который ещё на первом кладбище дал ему Яков. А теперь Яков взял себе второй из тайника под лежанкой. – Хороший нож, – сказал он про него. – Ещё со службы, из дома. И это всё, что у меня от Можайска осталось. – А остальное где? – спросил Маркел. – Где-где! – передразнил его Яков. – У Ермака спроси! – А что Ермак? – А то! Когда мой брат Максим умер… Тут Яков сбился, поморщился, немного помолчал и начал снова: – Ну, это когда Ермак ушёл на Карачин-остров со всеми харчами, а нас оставил в Кашлыке, и мы там за зиму почти что все от голода померли… И вот весна пришла, а подмоги из Москвы нам нет! Что делать? Два десятка нас всего осталось, чуть живых. И мы позвали Ермака к себе. И он пришёл. Мы открыли ворота, вышли, вытащили весь наш огненный запас, а это семь пудов пороху и три мешка пуль, и вот стоим, ждём. И нас на ветру качает! А он крепкий такой, кряжистый, вышел вперед всех своих, на нас хитро поглядывает, спрашивает: «Вы кто такие?» Но мы уже учёные и отвечаем: «Мы твои братья-товариство, здоров будь, атаман хороший!» А он опять усмехается и говорит: «Какие же вы братья и какие вы товариство, когда вы в царских шапках и в царских кафтанах?!» «Так, – говорим, – а в чём нам ещё быть, когда нас так одели?!» «А мы вас переоденем! – говорит Ермак. – А ну снимайте это всё!». А своим командует: «А вы несите!» Ну и что? Сняли мы своё стрелецкое, подбежали ермаковы люди и подожгли его. А нам раздали другое – поношенное, конечно, старое, татарское, только одно название что казачье. Вот так от всего нашего стрелецкого вида только одни бердыши и остались. И так мы и проходили с бердышами всё то лето, и в тот поход на Атбаш мы пошли с бердышами, и в ту последнюю ночь я тоже с бердышом стоял. Пищаль и бердыш, как положено. Нас казаки так и дразнили: бердыши. А мы не обижались. Разве что… Ну да и ладно! Не до этого всего сейчас. Вставай! Маркел встал, и они пошли дальше.ГЛАВА 50
Вначале они шли по лесу, потом опять по болоту, перешли в другой лес и там пошли по бурелому, по чащобе. Идти было очень неудобно. Маркел сперва терпел, а после не выдержал и спросил, что неужели здесь нет никакой другой дороги. Есть, конечно, сказал Яков, но мало ли кого можно на ней встретить. Маркел подумал и спорить не стал. Так они прошли ещё немного, солнце взошло высоко и стало припекать даже в лесу. Маркел снял шапку, утёрся… И вдруг раздался конский топот. Кони, было слышно, не подкованы. – Это на дороге, – сказал Яков. – Саженей сотня до неё. Топот приблизился, потом начал стихать. – Проскакали от нас на Кашлык, – сказал Яков. – Может, и по наши головы. А кони не наши. У Бикеша дурные кони, а эти правильно объезженные. И они пошли дальше. Теперь Яков начал забирать к дороге. Вскоре они вышли на неё. Дорога, по тамошним меркам, была очень широкая – двум подводам запросто разъехаться. На дороге были видны свежие следы. Кони и вправду были не подкованы. И их было с полдесятка. – Чёрт их знает, где они их взяли! – сказал Яков. – И кто они сами такие, тоже чёрт их знает. Яков и Маркел сошли с дороги, отошли шагов на двадцать в сторону и так, рядом с дорогой, пошли дальше. Шли они не очень долго. Но когда дошли, сразу из леса выходить не стали, а вначале подкрались к опушке и посмотрели оттуда. Впереди, возле реки, стояло около двух десятков полуземлянок, а дальше, на самом берегу, виднелась пристань с лодками. – Это Вагай-аул, – сказал Яков, – и здесь никого сейчас не будет, потому что это зимнее жильё. Они здесь все так живут, на два жилья: одно летнее для летних работ, и второе зимнее, для зимних. Летнее у них вон там, – и показал вперёд, где, на другом берегу Иртыша, виднелись какие-то странные домики. – Это юрты, – сказал Яков. – Весной ставятся, осенью снимаются… И замолчал, потому что увидел, как из-за ближайшей к ним полуземлянки выходит татарин при сабле, в наборной кольчуге и в шлеме. Татарин вёл коня, конь был очень хорош, а по другую сторону коня шёл старик, одетый по-простому. Старик что-то говорил, татарин согласно кивал. Потом старик остановился, татарин вскочил в седло, огрел коня камчой, поскакал по дороге и скрылся в лесу. – На Кашлык поехал, – сказал Яков. – Это из тех, кого мы в лесу слышали. Не наши это удальцы! Что-то у татар случилось очень важное. И он опять стал смотреть на аул. Старик постоял, посмотрел на дорогу, а после развернулся и ушёл к себе. Маркел и Яков, ещё немного подождав, вышли из леса и пошли к стариковской полуземлянке. Когда они подошли туда, то увидели, что старик сидит на завалинке и с интересом смотрит на них. Яков поприветствовал старика и спросил, что это за человек сюда только что приезжал. Старик усмехнулся и ответил: – Я не помню. Совсем старый стал. – Нам очень надо, – сказал Яков. – А вы кто такие? – спросил старик. – Зачем это тебе? – ответил, усмехаясь, Яков. – Всё равно опять сразу забудешь. – Э! – сказал старик. – Бывают такие дела, которые никто забыть не может. Вот как уже сколько лет прошло, а я как сейчас вижу, как грязный пёс Кучум отрубает голову отважному и великодушному Едигер-хану. – Но разве Кучум сам рубил? – спросил Яков. – Нет конечно, – ответил старик. – Но пальцами он щёлкал. Повернулся к палачу и щёлкнул! И покатилась голова! Не стало больше Едигера рода Тайбугинова, пришёл к нам лживый пёс Кучум, стал нас силой загонять в свою обманную веру! Но всякое злое дело рано или поздно наказывается. Так теперь случилось и у нас: идёт из Мугольской земли Сейдяк-хан, родной племянник хана Едигера, и он примерно посчитается с шелудивым псом Кучумом, не по праву захватившему чужой улус, ибо Кашлык всегда был Тайбугинским, и всегда у нас было много мяса и араки, всегда нас ласкали наши жёны и уважали наши сородичи… Пока не пришёл пёс Кучум. Ну да теперь недолго ему осталось! Сейдяк уже совсем близко, да вы только посмотрите туда! И он указал на ту сторону Иртыша, на летние жилища Вагай-аула. А там и в самом деле всё было уже совсем по-другому, прежнего покоя и в помине не было, а поднялась какая-то суета, люди бегали между юртами и что-то кричали. – Глупцы! – сердито продолжал старик. – Они собираются бежать. Они страшатся одного имени Сейдяка, они не знают другой жизни. А я знаю! Я прекрасно помню, как славно мы жили при Едигере, и поэтому никуда не бегу. Я всё помню, что было когда-то… А вот недавнее совсем в голове не держится. – Ха! – весело воскликнул Яков. – Тогда я тебе сейчас напомню. Тот человек, который только что приезжал к тебе, это посыльный Сейдяка. Так? – Может, и так, – сказал старик сердито. – А вы кто такие? Но Яков уже не слушал его, а развернулся и пошёл к пристани. Маркел поспешил за ним, держа рогожу под мышкой. В рогоже была увёрнута сабля. Старик смотрел на рогожу и делал это так пристально, будто видел всё насквозь. Маркел не выдержал, перекрестился и поспешил за Яковом. На пристани они быстро, не мешкая, сели в первую попавшуюся лодку, выгребли на стрежень и поплыли. Яков задумчиво сказал: – Непростые здесь у них пошли дела. Ну да, может, нам это на пользу будет. Не до нас им сейчас станет, ох, не до нас совсем!ГЛАВА 51
И так оно сперва и было: Маркел и Яков плыли по реке одни. Никто не плыл им навстречу и никто их не обгонял, с берегов не окликал и тем более не постреливал. Ну так и чего стрелять, когда они плыли по самой середине Иртыша, по стрежню, потому что, как сказал Яков, пока стрелы до них долетят, они будут уже на излёте, и их хоть рукой лови. Ермак, тут же прибавил Яков, если не знал, где татары, всегда плавал только по стрежню, а как только татары выскакивали на берег и начинали стрелять, он сразу же приказывал грести к другому берегу, куда татарские стрелы вообще не долетали, и казаки плыли себе дальше и только посмеивались. И с ходу взяли Кашлык! – Но, – тут же прибавил Яков, – я сам этого не видел, я тогда был ещё в Можайске. Мы позже пришли. – А когда вы плыли на Атбаш, – спросил Маркел, – татары тоже бились с вами? – Нет, никаких битв не было, – ответил Яков. – Тогда было тихо. Кучумова войска мы совсем не видели, а те татары, которые здесь по аулам живут, все нас хорошо встречали. Робели! Ну и мы были довольные. Один только Ермак был очень злой. Казаки говорили, что они его таким раньше никогда не видели. – Почему так? – спросил Маркел. – Ну, говорят, – нехотя ответил Яков, – человек свою смерть издалека чует. Вот даже взять… И, спохватившись, замолчал, перехватил весло поудобнее, и ни о чём уже не заговаривал, и даже не оглядывался на Маркела. Долго они плыли молча! Трижды проплывали мимо аулов, но даже и не думали к ним приставать, да там и людей видно не было. Да и просто не было охоты выходить на берег, потому что мало ли что те утрешние конные могли народу рассказать! Вот о чём думал тогда Маркел и хмурился. Единственное, что его в тот вечер радовало, так это что они плыли уже не вверх, а вниз по течению, и оно было довольно быстрое. Так что ещё день-два, и они выйдут с Иртыша на Тобол, а там и до Тавды рукой подать, а от Тавды… И так далее. А пока что, когда начало темнеть, они выбрали место поглуше, причалили к берегу, развели костёр, приделали к ножам шесты, набили в затоне рыб, запекли их и перекусили. Потом просто сидели у огня, рассматривали саблю, Маркел с пятого на десятое рассказывал о своей службе в Разбойном приказе, Яков слушал, улыбался. А потом также с улыбкой вдруг сказал, что не ждут его в Можайске, да и брат Максим ему каждую ночь снится, говорит, айда со мной. – А ты? – спросил Маркел. – Я и сказал: айда! – уже без улыбки ответил Яков. – И он мне сразу руку подал. И эта рука будто лёд! – А ты что? – Вырвал руку, что ещё! И убежал. – Вот и славно! Значит, будешь жить, раз вырвался, – сказал Маркел. – Э! – снова улыбаясь, сказал Яков. – Если приснился, значит, смерть. И разговор на этом как-то сразу кончился. Да и уже совсем стемнело, легли спать. Маркелу долго ничего не снилось, а потом он вдруг увидел, что вот приходит он домой, а там, за его столом, сидит Гурий Корнеевич, рожа кривая, жирная, из Маркеловой миски хлебает. Маркел страшно разгневался и закричал: ты чего это за моим столом расселся?! А Гурий Корнеевич: а ты чего… Ну и не выбирая слов!.. Маркел почернел от гнева, схватил кочергу… И очнулся, было уже утро. Позавтракали, сели в лодку, положили рогожу под лавку, на сухое место, и поплыли. День был нежаркий, с лёгким ветерком. Сперва Маркел долго молчал и вспоминал вчерашнее, а после вдруг спросил, крут был Ермак или не крут. – Крут, конечно, – нехотя ответил Яков. – Суд у него был короткий! Чуть что, тебя сразу скрутят, камней за пазуху навалят – и в воду, рыб кормить. И так за всё: убил кого, обокрал, пищаль бросил, саблю потерял, товарища не спас… Ну и много ещё чего разного. И за всё это – на дно. Только если уже совсем какая малая провинность, тогда он просто сунет тебе кулаком в зубы – и дальше пошёл. – А тебе в зубы совал? – За что? – удивился Яков. – Я справно служил. Мне только старший брат покоя не давал, каждую ночь снился. И также и в ту ночь, когда меня на Атбаш-острове в караул поставили, я только закрыл глаза… И тут татары! А брат шепчет: молчи, Яшка, не то уши надеру! Он всегда мне уши драл, даже когда я уже стал женатый, в стрельцы записался. Ну и что, что стрелец? Старший брат как старшим был, так старшим и остался. Правда? Маркел не ответил, у него не было старшего брата, была только сестра Елизавета. И ещё была мать-старушка, которая очень не жаловала Москву, говорила, что она его погубит. А вот не погубила же пока, думал Маркел, и ничего уже у Якова не спрашивал, а грёб себе в полную руку, смотрел по берегам, чтобы татарин с луком где не выскочил, и опять думал о своём. Думал до самого вечера. А вечером они выбрали место поглуше, подплыли к берегу, нашли небольшую удобную заводь, вытащили лодку на место посуше и спрятали под ней рогожу с царской саблей, а после развели небольшой костёр, зашли в воду и самодельными острогами (правильней, ножами на жердях) набили сколько было надо рыбы, испекли её на костре и сели ужинать. Маркел ел без всякой охоты. Яков спросил, чего он так кручинится. – Да как чего! – сказал Маркел. – Дело я своё не сделал. Должен был добыть саблю и пансырь, а добыл пока что только саблю. – Э! – сказал на это Яков. – Да как бы ты пансырь добыл? Как бы ты его с болвана снял, это же не саблю вырвать! Татары бы опомнились – убили! Маркел молчал. Яков продолжил: – Да и что пансырь, какой с него толк?! Много было разговоров про него, а что на деле вышло? Кутугай подскочил, ткнул копьём – и пансырь не помог. А вот сабля, та не сплоховала. Ух, они её с тех пор боятся! Видел, как они от тебя кинулись, когда ты на них только замахнулся?! Думаешь, они тебя перепугались? Ермаковой сабли, вот кого! И это она колдуна зарубила, а не ты! И это… Но тут Яков замолчал, прислушался. Вначале было совершенно тихо, только мошкара зудела, а потом послышались едва слышные, мерные шлепки по воде. – Лодка! – испуганно прошептал Яков. – Большая! О, подумал Маркел, это только очень непростые люди в такую позднюю пору на лодках плавают. А Яков уже вскочил и хотел было кинуться в лес. – Сядь! – строго сказал Маркел. – От беды не убегают! Яков опять сел к костру. Шлепки вёсел приближались. Было уже довольно сумрачно, а тут, среди кустов, было ещё темней. Маркел отвязал нож от жерди и спрятал его в рукав. Яков сделал то же самое и, не стерпев, сказал со злостью: – Вот почему мне снился брат! Я так и думал! – Молчи! – строго сказал Маркел. – Каркать ума много не надо. И почти сразу же из-за кустов, от Иртыша, к ним выплыла лёгкая длинная лодка-долблёнка. Гребцы мерно гребли, пригнувшись, а позади их, на корме, стоял их старший и смотрел по сторонам. Маркел его сразу узнал! Это был тот самый бухарец, который его в Кашлыке предал, пёс смердячий! А бухарец весело воскликнул: – О! Кого я вижу! Ты ли это, уважаемый Маркел-эфенди? То есть никакого стыда у него не было, он, наоборот, широко улыбался, а его маленькие чёрные глазки так и сверкали неподдельной радостью. Да, а лодка его тем временем развернулась и остановилась посреди заводи. Гребцы подняли вёсла в ожидании команды. Маркел мысленно пересчитал гребцов, их оказалось восемь. А тогда их было четверо. Да и сам бухарец на этот раз одет куда богаче, чем тогда – и сразу же заговорил уверенно: – Надеюсь, мы тут никому не помешали? Мы и в дальнейшем не будем мешать. У нас всё своё – и еда, и питьё. Ну и, конечно, если пожелаете, присоединяйтесь к нашей трапезе. Маркел настороженно молчал. Но бухарца это не смутило – он кивнул своим гребцам, те в два гребка ловко уткнули лодку в берег. Первым из лодки вышел, конечно, бухарец, а уже за ним его гребцы. Они сразу занялись устройством табора, а бухарец подошёл к костру Маркела и остановился. Маркел не сдвинулся с места, тем самым давая понять, что не хочет приглашать его к своему костру. Бухарец усмехнулся и сказал: – Я так понимаю, ты весьма недоволен тем, как мы с тобой тогда расстались. Ты коришь меня за то, что я не стал выгораживать тебя, а отдал твою судьбу в руки правосудия. А вот я считаю, что я тогда поступил правильно, потому что каждый должен отвечать только за себя, а не за других. Вот что я говорю и вот как думаю. Аллах тому свидетель! Маркел немного отодвинулся. Бухарец сразу сел к костру и продолжал: – В нашу последнюю встречу ты неоднократно спрашивал, как меня зовут, а я не отвечал или отшучивался. А вот теперь прямо скажу: меня зовут Ишмет-ага, я из Самарканда. Это неподалёку от Бухары. По большей части я торгую пряностями, дорогими тканями и украшениями. А отсюда я вожу меха. И ещё: если тебе нужно срочно взять взаймы, то я могу дать тебе некоторую сумму под самый ничтожный рост. Маркел улыбнулся. – А! – со смехом продолжал бухарец. – Ты, наверное, заключил здесь уже не одну выгодную сделку, поэтому что тебе мои жалкие, смешные предложения! Ведь так? Маркел уклончиво пожал плечами. Ишмет-ага продолжил: – Я помню, ты собирался на Атбаш. Ну и как, ты побывал там или нет? – Побывал, – без особой охоты ответил Маркел. – И как там поживает наш уважаемый Вахит-эфенди? – Нашими с тобой молитвами. – Прекрасно! А что он ещё говорил? – Говорил, чтобы я никому не передавал того, что он мне поведал. – Ах, старый хитрец! – сказал Ишмет-ага. – Значит, он-таки выдал тебе кое-какие секреты! Ну что ж, придёт время, и ты поделишься ими со мной. А пока я поделюсь с тобой нашим прекрасным пловом, а то, вижу, ты совсем исхудал и даже почернел от рыбы, которой тебя здесь кормят каждый день. Не так ли? Маркел усмехнулся. Ишмет-ага оглянулся на своих людей и велел подать еды ему и его товарищу, то есть Маркелу, потому что Якова Ишмет-ага как будто бы совсем не замечал, да и Яков сидел молча и не лез в беседу. Слуги Ишмет-аги подали два блюда сарацинского пшена, приправленного вяленой кониной. Маркел сразу принялся за угощение. А Ишмет-ага, наоборот, ел мало, а всё больше говорил, то есть рассказывал о всяких разностях: какие кушанья любят в Бухаре и в Самарканде, а какие не любят, какие вина пьют, а какие не пьют и почему не пьют, какие носят халаты, на каких скакунах ездят, какими саблями сражаются, каких девушек покупают в гаремы, каких… Ну и так далее. То есть Ишмет-ага долго не умолкал, рассказывал очень складно и интересно, но тем не менее Маркелу казалось, что Ишмет-ага себя не слушает, а постоянно зыркает по сторонам, будто хочет что-то высмотреть. Уж не про саблю ли он уже что-то вызнал, опасливо думал Маркел и то и дело поглядывал на свою перевёрнутую лодку, под которой была спрятана та самая рогожка с саблей. И так продолжалось достаточно долго, Яков уже успел заснуть возле костра, небо стало чёрным, наступила ночь… Как Маркел вдруг заслышал перестук копыт. Это ехало довольно много конных. Ишмет-ага замолчал и обеспокоенно осмотрелся. – Что это? – спросил Маркел. – Я думаю, что ничего хорошего, – обеспокоенно ответил Ишмет-ага. – Это едут не простые люди. А у меня в лодке ценный товар! Топот копыт всё приближался. Потом между деревьями начали мелькать огни. Ишмет-ага негромким голосом приказывал, и его люди ловко и привычно вытаскивали из лодки мешки с товарами и прятали их по ближайшим кустам. Проснулся Яков. Маркел шепнул ему молчать. Топот усилился, огни быстро приближались. Когда они совсем приблизились, Ишмет-ага сделал знак больше не прятать. Его люди вернулись к своему костру. Топот поравнялся с заводью и стих. Забренчала конская упряжь, огни задёргались вверх, вниз, потом чей-то голос грозно выкрикнул: – Кто здесь?! – Мирные путники, – ответил за всех Ишмет-ага. – Во имя Аллаха милостивого, милосердного! – Аллах велик! – ответили ему. Раздался треск веток, огни приближались. Потом из-за ближайших кустов на поляну вышли несколько татарских воинов в дорогих шлемах и пансырях, и с саблями в руках. За воинами показалась их прислуга, не меньше десятка, и все они были с огнями. – Кто из вас тут старший? – спросил один из воинов. – Я, уважаемый, – услужливо ответил Ишмет-ага. – Вот моя тамга. А это мои слуги. – Затем, повернувшись к Маркелу, прибавил: – А это мой ключник. А это мой раб, – и указал на Якова. – Куда едете, зачем? – спросил всё тот же воин. – Едем свести концы с концами, – с притворной горечью ответил Ишмет-ага. – Вот, кое-что из того, что осталось, – и он указал на свою лодку. – А остальное ушло за долги. Неисповедимы пути… – Помолчи! – строго сказал всё тот же воин, обернулся к своим и указал им на лодку Ишмет-аги. Воины с саблями даже не шелохнулись, а вот их слуги сразу обступили лодку и начали перебирать мешки, которые в ней ещё оставались. Ишмет-ага уговаривал их быть осторожнее, не повредить товары, но татары не очень-то его слушали, и дело кончилось тем, что несколько мешков они забрали, и Ишмет-ага смолчал. Тогда татары повернулись к Маркеловой лодке. Один из слуг приподнял её, и все увидели там старые стоптанные сапоги, а рядом с ними скруток дерюжки. Слуга опустил лодку обратно, а старший татарин сказал, что пора уходить. Слуги несли добычу, воины шли налегке. А после, это было слышно, да и видно по огням, они сели на коней и уехали в сторону Кашлыка. Ишмет-ага сложил руки перед собой и начал шёпотом молиться. Его люди ходили по кустам, подбирали мешки с товарами и грузили их обратно в лодку. Ишмет-ага, отмолившись, повернулся к Маркелу и сказал, что время позднее, а он хочет отдохнуть перед непростым завтрашним днём. – Потому что, – с горечью прибавил он, – у меня такое предчувствие, что завтра будет ещё хуже. И он ушёл к себе в палатку, его слуги разошлись по шалашам, а Маркел, чтобы не оставлять дерюжку без присмотра, остался лежать возле костра. С ним рядом остался и Яков. На поляне стало тихо. Маркел лежал на боку, смотрел на догоравшие уголья и вспоминал, как он познакомился с Ишмет-агой и как тот после его предал. Так что, подумал Маркел, доверять аге нельзя ни в коем случае. С этой мыслью Маркел и заснул.ГЛАВА 52
Но не успел он как следует разоспаться, как его начали трясти за плечи. Маркел открыл глаза и увидел, что это Яков. – Вставай! – шептал он громким шёпотом. – Скорей! Саблю украли! Маркел сразу подскочил, спросил: – Кто?! – Твой Ишмет со своими людьми! Встали тайком, подняли нашу лодку, взяли саблю и на своей лодке уплыли! – А ты что?! – А что я?! Мне нож к горлу приставили! Ну а крикнул бы, меня сразу прирезали. А заодно и тебя, сонного. А так мы живые! И они недалеко отплыли, мы их легко догоним. – Догоним! – злобно повторил Маркел. – Скотина ты! Предал меня! Как Ермака! – Ну, ты с Ермаком не равняйся! – задиристо ответил Яков. – Там вон сколько батыров было! Один Кутугай чего стоил! А Кайдаул каков! А мурза Алтанай? И ещё сколько было других! А у тебя один бухарец с дворней, и у них одно шило на всех! Мы их напрямую догоним. Пока они будут плыть вокруг, мы через лес срежем угол! И Яков ещё что-то говорил, но Маркел уже встал, надел шапку, проверил нож в рукаве и спросил, где дорога. Яков повёл сначала по кустам, потом вывел на тропку, а дальше они уже не шли, а побежали. Маркел то и дело восклицал: – Скорей, скотина! Догоню, зарежу! – и грозно ругался. Яков бежал изо всех сил. Маркел, с ножом в руке, едва поспевал за ним. Бежать было очень неудобно – темно, буреломы, и тропка всё время петляла. Саблю украли сволочи, думал Маркел, зачем им сабля, разве мало у них своих сабель, отдайте саблю, сволочи, – ну и так далее. А то вообще просто бежал и ни о чём не думал. И бежали они долго. Ноги стали как свинцовые, а Маркел всё бежал и бежал. Уже даже начало как будто светать. Маркел спросил, далеко ли ещё. Яков ответил, что он сам не знает. И тут они почти что сразу выбежали на бугор, под которым, с левой стороны, внизу что-то чернело. – Иртыш! – сказал Яков. И перекрестился. Маркел тоже вначале очень обрадовался, и только потом уже подумал: ну и что? ну и увидят они сейчас лодку бухарца, а что дальше? Бухарец же будет не по берегу идти, а плыть по реке, и как ты его там достанешь?! Маркел снял шапку и нахмурился. На Иртыше ничего и никого видно не было ни в одну, ни в другую сторону. Яков сказал: – Ещё не проплывали. Мы успели. – Да! – яростно сказал Маркел. – Конечно! Вот только как мы будем его из реки вытаскивать? Ты верёвку с собой взял?! И Маркел засмеялся – негромко. И почти сразу, как ему в ответ, кто-то вдруг истошно закричал – как будто его режут. После ещё раз закричал, после ещё. Или это уже другие кричали? И кричали все три раза справа, ниже по берегу, вниз по течению. – А! – радостно воскликнул Яков. – Я так и думал! Айда! И побежал на крик. Маркел побежал за Яковом. А там, впереди, ещё два раза крикнули и замолчали – уже насовсем. Яков остановился и обернулся. Маркел подошёл к нему, они постояли, подождали, но криков больше не услышали. – Недоброе там было дело, – сказал Маркел. – Надо нам с опаской быть. И первым пошёл вдоль берега. Они шли, хоронясь за кустами, без лишнего шума, иногда останавливались, слушали и снова шли. После наконец Маркел остановился, отодвинул ветку… А уже солнце взошло… И Маркел увидел ту большую лодку, уткнувшуюся носом в берег. А на берегу лежали люди, гребцы Ишмет-аги, убитые. Лежали вповалку, кто как. А дальше, выше всех по берегу, лежал сам Ишмет-ага. Он лежал на спине и как будто смотрел в небо. Горло у него было перерезано, вокруг вся трава в кровище. Также и его гребцы все были сильно порезаны. И там же по берегу валялись распоротые мешки, из них торчали товары – где серебряные мисы и кубки, где рульки тонких дорогих материй, где бабьи украшения – по-всякому. Яков подошёл, встал с Маркелом рядом и сказал: – Искали что-то. Маркел тяжело вздохнул, перекрестился, вышел к самому к берегу, ещё раз осмотрел зарезанных, потом глянул в лодку. Там было пусто. Украли сволочи, гневно подумал Маркел, так ему что теперь, всё начинать сначала, что ли? И он подступил к самой лодке, заглянул в неё ещё раз… И увидел: на дне, под скамьёй, среди всякого тряпья, валяется его рогожка! Он сразу вскочил в лодку, наклонился, развернул… И радостно подумал: черен хоз серебряный, чеканен; огнивцо и на ножнах оковы, и устье, и нижняя окова… Всё здесь, на месте! Маркел поднял голову. Рядом с лодкой в воде стоял Яков. – Вот, – только и сказал Маркел. – Она! И протянул саблю Якову, чтобы тот тоже посмотрел, на всякий случай, а то вдруг подмена какая. Но Яков взять саблю не успел – на дороге, и пока что ещё где-то далеко, затопотали кони. Маркел прижал саблю к груди, прислушался… А Яков слушать не стал, а подскочил, навалился грудью на лодку и столкнул её в Иртыш, пробежал с ней по воде, лодка разогналась – и он прыгнул в неё, упал на дно, дёрнул Маркела за полу, велел «Ложись!», и тот тоже лёг и затаился. Так они лежали на дне лодки и не шевелились. Конский топот становился всё отчётливей, а лодку несло медленно, вёсел при ней не было, они остались на берегу. Ну а даже если бы они и были, подумал Маркел, то ни в коем случае сейчас нельзя с ними высовываться, и тогда другие, может, и подумают, что лодка сама плывёт, пустая. Да и как иначе, ведь же и сам Ишмет-ага, и все его люди там, на берегу, лежат, значит, кому быть в лодке, некому… – Эй! – вдруг раздалось с берега. – Эй, стой! Но Маркел и Яков, даже не шелохнувшись, лежали на дне, а борта в лодке были такие высокие, что из-за них их видно не было… Вж! Вж! И лодку аж встряхнуло всю! Это две стрелы в неё воткнулись. Маркел усмехнулся. Вж! И ещё раз: вж! И ещё! И ещё! А потом и ещё! Последняя стрела была такая сильная, что прошила борт насквозь и вылезла, наполовину, в лодку. Маркел ощупал ту стрелу, на ней был калёный наконечник. Вот это беда, подумалось, как бы это их отвадить? Но тут само собой отвадилось – те ещё стрельнули пару раз, одна стрела воткнулась в борт, вторая пролетела мимо… И те перестали стрелять. Вначале было слышно, как они о чём-то спорят, потом их голоса затихли, послышался конский топот, топот быстро удалялся и вскоре совсем затих. А лодка продолжал плыть. Маркел хотел было встать и осмотреться, но Яков удержал его. Маркел, его послушавшись, лежал, не шевелясь, и думал, что хоть лодка у них теперь тяжёлая и неповоротливая, зато они в ней живые и невредимые, и, главное, царёва сабля при них.ГЛАВА 53
Но долго так лежать не было никакого терпения, поэтому Маркел ещё немного подождал, а после осторожно приподнялся и увидел, что они плывут уже по самой середине Иртыша. Яков тоже выглянул, осмотрелся и сказал, что версты через две-три по правую сторону будет аул, вот только он не помнит, зимний это аул или летний. На что Маркел ответил, что им теперь не до этого, им надо приставать к любому, хоть и летнему, и скорее разживаться вёслами, иначе далеко они не уплывут. А пока что вместо вёсел можно взять скамьи. Они так и сделали – оторвали от лодки скамьи и стали ими грести. Но делать это было очень неудобно, скамьи были короткие, а борта в лодке высокие, нужно было далеко высовываться, чтобы достать до воды, и можно было перевернуться. Но Господь миловал, они не перевернулись, а благополучно догребли до того аула, он оказался зимний, пустой, они причалили к берегу, выбрали себе самую лучшую лодку, взяли к ней вёсла и погребли дальше. И так гребли весь день, никого на реке не встречая, а если замечали впереди на берегу аул, то сразу поворачивали и объезжали его. Гребли весь день без продыху, умаялись, оголодали. Вечером пристали к берегу, спрятали лодку в кустах, набили рыбы побольше, запекли и съели всю, с костями. И сразу завалились спать, хотя поначалу Маркел думал, что ему после вчерашнего нужно быть настороже, и поэтому он сперва только притворялся, будто спит, а сам держал нож наготове. Но Яков, было слышно, крепко спал, посапывал, и Маркел, не удержавшись, убрал нож, лёг поудобней, прочёл «Отче наш» и тоже заснул. То есть понадеялся на Бога. И не ошибся – утром проснулся живой, невредимый и с царёвой саблей под боком. Яков уже возился у костра, готовил перекус. Перекусив, они вытащили лодку из кустов и поплыли дальше. И опять весь день было спокойно. Только один раз случилась незадача – это когда по правому, по Кашлыкскому берегу, по дороге, скакали конные удальцы и некоторые из них постреливали из луков, хоть Маркел с Яковом уже успели отгрести подальше. Смотреть на летящие стрелы было очень неприятно, одно только тешило – что они были уже на излёте, от них было легко увернуться. Но конные смеялись и опять стреляли и стреляли. И этих конных было очень много, они всё ехали и ехали, и, казалось, им конца не будет. Так что неизвестно, чем бы это кончилось, но тут Иртыш вновь повернул, дорога тоже повернула, конные пропали за деревьями, и стало спокойно. Яков сказал, что это не татары, а муголы, потому что у них и кони совсем другие, и упряжь, и луки. – Это люди Сейдяка, – прибавил Яков. – Ох, беда будет Кучуму! Маркел молчал, он думал о другом – о том, как сохранить царёву саблю. Больше в тот день ничего приметного не случилось, и только уже вечером, когда начало темнеть, справа впереди показалось зарево. Оно всё росло и росло. – Это Кашлык горит, – сказал Яков. – Вот и добрался Сейдяк до Кучума. А Маркел сказал, что это, может, и к лучшему, потому что татарам теперь будет не до них, они легко проскочат мимо Кашлыка, и велел грести бойчее. Стало ещё темней. А зарево поднялось ещё выше и стало ещё кровавее. Маркел и Яков гребли, прижимаясь к левому, противоположному берегу. А потом они увидели горящий Кашлык. Это было очень необычное зрелище, Кашлык ведь стоял на высокой горе, и теперь свет от него освещал всю округу. Огонь был красный с золотом, и Иртыш стал таким же. Казалось, что ещё немного, – и загорится вода. Маркел велел держаться ещё ближе к берегу. На той, правой, стороне бушевал пожар, кричали люди, грохотали бубны, искры летели во все стороны, а там, где плыли Маркел и Яков, было совершенно тихо, и казалось, что пожар им только представляется. Но вот повернулся ветер, и вначале потянуло гарью, потом полетели хлопья пепла, потом повалил густой дым. Дым это хорошо, думал Маркел, в дыму их совсем не будет видно, в дыму они легко проскочат. И так оно и случилосьь. Где-то к середине ночи их лодка выбралась из дыма на чистое место, Маркел и Яков сразу положили вёсла, отдышались, а потом опять взялись грести. Отблески пожара на воде были уже не такие яркие, потому что пожар почти кончился, Кашлык догорал. Яков сказал, что Сейдяк одолел Кучума и завтра прилюдно посадит его на кол. Маркелу это было всё равно, он думал процарёву саблю. Клонило на сон. Так ведь, шутка ли, гребли день и ночь почти без остановок! И Маркел велел причаливать. Они пристали к левому, конечно, берегу, спрятали лодку, подкрепились рыбой и заснули. Когда Маркел проснулся, было уже совсем светло, светило солнце. Они лежали на траве, на берегу, то есть у всех проезжих на виду, так что слава Тебе, Господи, что проезжих тогда не было. А если обернуться и посмотреть на Кашлык, то было видно, как над горой клубится редкий дым. Яков опять стал говорить, что одолел Сейдяк и что там теперь начнётся совсем другая жизнь, привольная… А Маркел велел садиться в лодку. Они сели и поплыли. Плыли целый день, сильно устали. Зато вечером доплыли до того места, где в Иртыш впадает Тобол. Теперь им нужно было поворачивать на Тобол и плыть вверх по нему, то есть против течения. Ну а там дальше, думал Маркел, скоро покажется Тавда, ещё дальше Лозьва и так далее – и дом! А пока они остановились прямо на мысу, справа от них был Иртыш, слева Тобол. Маркел не таясь развёл костёр, потому что места там были дикие, необжитые. Перекусили рыбой, как всегда, и легли отдыхать. Маркел лежал, смотрел в небо, слушал плеск воды и думал, что когда вернётся домой, три года рыбу есть не будет! И заснул. Спал как сквозь землю провалившись. Назавтра плыли вверх по Тоболу. Яков этих мест не знал, Маркел не помнил, поэтому они держались стрежня и весь день не приставали к берегу – на всякий случай. Вечером, за ужином, Яков непривычно молчал. Почему так, Маркел не спрашивал. Вдруг Яков сам заговорил. Сперва он сказал, что это Маркел плыл по Тавде, то есть вдоль Большой татарской дороги, как это здесь называется, а вот Ермак плыл по Туре, по так называемой Старой купеческой тропе, откуда его никто не ждал, а он от Камня спустился прямо к Чинги-Туре, бывшей сибирской столице, и разорил её и сжёг, а после вышел сюда, на Тобол. Вот такие, сказал Яков, есть две дороги в Сибирь и обратно. А есть ещё и третья, дальняя, это надо от Иртыша не сворачивать на Тобол, а плыть дальше куда плывётся, и так заплывёшь на реку Обь. Обь – река очень большая, шириной вёрст десять, не меньше, и вот по этой Оби, по быстрому течению, надо плыть на север, сорок дней, а там, по левую руку, будет река Сосьва, надо подняться по ней, а с неё через совсем уже низкие горы перевалить пешком на нашу сторону, на реку Печору, и это уже почти дома, уже почти Устюг. – А от Устюга, – прибавил Яков, – и слепой в Москву зайдёт! – К чему ты это всё? – спросил Маркел. – Так, – сказал Яков, – ни к чему. Просто я, когда у Бикеша сидел, про всякие дороги у татар выспрашивал. А вот теперь тебе рассказываю, вдруг пригодится. Тогда ты придёшь в Можайск и расскажешь им про брата. – Нет, это ты уже сам! – сказал Маркел. – Вот приедем, и иди в Можайск, а у меня служба, кто меня в Можайск пошлёт? Это от Москвы не близко. Яков на это только усмехнулся. Тем тот день и кончился, они легли спать и почти сразу заснули.ГЛАВА 54
Назавтра день выдался сырой, пасмурный. Маркел сказал, что это хорошо, в такую непогодь тетива отсыревает, и стрелы летят недалеко. – Это смотря у кого, – сказал Яков. – У некоторых ещё как летят. Маркел не стал спорить. Они сели в лодку и поплыли. Против течения грести было непросто, не до разговоров было, плыли молча. Но вскоре Яков вновь разговорился, начал опять рассказывать о том, что Маркелова дорога вверх по Тавде хороша, конечно, но Ермаковская дорога по Туре много лучше и спокойнее. На Тавде, продолжал Яков, сидят буйные вогулы, а на Туре никто не сидит, был там городок Чинги-Тура, но Ермак его разбил и разорил, и теперь нет там никого, а Тура что, это сразу за Тавдой, ещё сорок вёрст вверх по Тоболу по ту же правую руку, там сворачивай и дальше плыви по той Туре до самого Камня, и никого по берегам не встретишь, такие там места глухие, необжитые. Маркел молчал. А что было говорить?! Он же уже сколько раз говорил, что на Тавде, в Лабутинском городке, сидит Василий Шуянин со своими казаками, поэтому надо только добраться туда и, считай, они уже почти домой вернулись. Но каждый раз, как только Яков это слышал, он сразу мрачнел и замолкал. И это понятно, думал Маркел, Яков боится встречаться с Шуяниным, Шуянин же сразу начнёт спрашивать, каким это чудом Яков вдруг остался жив, когда там, на Атбаше, всех его товарищей поубивали. И что Яков на это скажет? А что Маркелу говорить? Грешить на правду, выгораживая Якова? Или сдавать его Шуянину, и пусть тот со своими казаками судит его по казацким законам, а это в куль да в воду. Как быть?! Много Маркел об этом раньше думал, и в тот день опять задумался… Как вдруг услышал – сзади закричали по-татарски: – Стойте, собаки! Вы куда?! Маркел оглянулся и увидел, что по берегу скачут конные татары с луками наизготовку. Татар было не меньше десятка, берег был близко. Маркел крикнул: – Гребём! Навались! И зачастил веслом, и зачастил. Так же зачастил и Яков, они гребли дальше от берега, к стрежню. Татары стреляли. Стрелы пошоркивали рядом, в брюхе становилось холодно. Ну да что поделаешь, такая служба, думал Маркел и грёб изо всех сил. Яков тоже старался как мог. Яков грёб на носу, а Маркел на корме, они всегда так становились. А татары, перестав стрелять, поскакали вперёд. Заскочив вперёд шагов на сто, они остановились, развернулись, подняли луки и изготовились. Потом, когда лодка приблизилась, опять стали стрелять. Стрелы свистали всё ближе и ближе. Эх, думал Маркел, перекреститься бы, но руки были заняты – и не крестился, а грёб. Берег с татарами всё отдалялся и отдалялся, пошёл мелкий дождь, стрелы летели мимо, а которые и вовсе не долетали. – Я же говорил, – сказал Маркел, – в дождь из лука не очень-то постреляешь! – Да и из пищали тоже, – сказал, оглядываясь с носа, Яков. И продолжал: – А вот у них стрелы кончаются. Смотри! Маркел оглянулся. Татары в самом деле стреляли уже не так часто, как вначале, а, остановившись на бугре, подолгу целились, прежде чем сделать выстрел. Но всё равно не попадали. А тут ещё поднялся ветер, стрелы начало сносить. Маркел стоял на корме, оглядывался на татар и, усмехаясь, видел, как вот они уже поопускали луки, и только один из них, крайний, поднял свой лук и начал целиться. И вдруг Маркел подумал: это смерть! Сейчас она его убьёт! В горло вопьётся! В кадык! Татарин выстрелил! Стрела взлетела, Маркел хотел отшатнуться, но вдруг застыл как вкопанный, остолбенел, стрела вжикнула над ухом и исчезла. И там, у Маркела за спиной, что-то тяжело упало в воду. Маркел оглянулся – и не увидел Якова! Маркел кинулся вперёд по лодке, взбежал на нос, глянул по сторонам… И увидел весло Якова. Оно проплыло вдоль борта, медленно развернулось и поплыло дальше. Татары начали громко кричать и свистеть. Маркел опомнился, опять схватил своё весло и начал грести уже один, стоя посреди лодки. Рядом, на скамье, лежала царёва сабля в дерюжке. Эх, Яков, думал Маркел, а ведь не ошибся, смерть издалека почуял. Пошёл сильный дождь. Берег был уже чуть виден, но Маркел всё же рассмотрел, как татары развернулись и поехали обратно. Маркел левой рукой перехватил весло, а правой перекрестился. Посмотрел на небо, правильней, на тучи, и опять перекрестился. Потом снова взялся за весло и начал грести к берегу – противоположному тому, по которому уезжали татары.ГЛАВА 55
Дождь вскоре кончился, но было по-прежнему пасмурно. Маркел грёб не спеша, размеренно, стараясь ни о чём не думать, а только считал гребки, досчитывал до ста и начинал сначала, а после опять начинал, и опять. Да и о чём было думать и о чём вспоминать, если он даже не видел, как убили Якова, а только слышал, как тот упал. Да! И в воду Маркел тоже не смотрел, на всякий случай. А по сторонам смотреть было неинтересно, там всё время виделось одно и то же – густой лес, по большей части лиственный, который подступал к самой воде. Так Маркел плыл дольно долго, время приближалось к вечеру. Вдруг Маркел краем глаза заметил светлое пятно. Он повернулся и увидел, что это на одном из деревьев виднеется свежий затёс, а на нём выжжен так называемый «тарак» – перевёрнутый трёхзубый гребень. Такой же знак был и на ханской тамге, вспомнил Маркел, обернулся и на противоположном берегу увидел ещё один тарак. Вот почему татары тогда повернули, подумал Маркел, это их земли здесь кончаются. От такой мысли стало веселей, Маркел заулыбался, стал шире грести. Но так продолжалось недолго, потому что ещё через сотню-другую гребков он увидел стоящего на берегу деревянного болвана. Маркел сразу перестал улыбаться, перекрестился и нахмурился. Правда, когда он поравнялся с тем болваном, то ясно рассмотрел, что болван старый, неухоженный, никаких подарков возле него не лежит, и губы у него сухие, серые. Маркел обернулся на противоположный берег и увидел, что и там стоит болван, но он сильно наклонён, почти к самой земле, как будто кто-то хотел его вырвать, да почему-то не успел или просто поленился. Маркел снова улыбнулся и подумал, что это дела шуянинских людей, они показали вогулам, кто здесь хозяин, и ещё не раз покажут. Так что зря Кучум болтал про то, будто вогулы собрали несметное войско, чтобы перебить лабутинских казаков всех под корень. А вот и нет! Жив Шуянин, живы и его казаки! Зато что с Кучумом будет, это ещё надо посмотреть, может, его и в самом деле Сейдяк на кол посадит! С такими мыслями Маркел проплыл ещё немного и, так как уже начало смеркаться, пристал к берегу и спрятал лодку, отдельно спрятал саблю, набил острогой рыбы, запёк её на костре и поел, лёг и приготовился заснуть. А не спалось! Всё время лез в голову Яков со своим старшим братом Максимом. А ещё лез Бикеш, который хотел отсудить у Маркела его левую руку по локоть. Лез Кучум, который со злорадством говорил, будто бы вогулы перебили всех казаков до единого. Лез Гурий Корнеевич… Тьфу! Одним словом, тогда была не ночь, а одно наказание. Маркел утром поднялся злой, не выспавшийся, перекусил безо всякой охоты, попил из ручья, из ладошек, сел в лодку и поплыл дальше. Плыл – себя не жалел, грёб за двоих, и к вечеру доплыл до устья Тавды. Там сделал привал, перекусил, ночь пролежал почти без сна, думал о всяком, держал саблю под боком, при каждом шорохе вздрагивал, крестился и читал молитвы, вспоминал Рославль, мать-старуху, которая сколько ни учила его уму-разуму, а так ничему не научила, не вдолбила. То есть как он родился дураком, так дураком и помрёт. От этой мысли становилось совсем тошно. Одно только радовало – что осталось всего только два, даже меньше, полтора дня, и он доберётся до Лабутинского городка, а там… А что там? Маркел вспоминал Кучумовы слова и морщился. Утро настало, Маркел сел в лодку, поплыл дальше. Встречное течение становилось всё сильней, грести приходилось всё быстрее. Маркел совсем умаялся и всё чаще думал, что лучше бы он шёл пешком. Ну да пешком он ещё находится, думал Маркел и вспоминал Камень, дедушку Макара, Силантия, Чердынь… И так миновал тот день, Маркел, слава богу, никого не встретил и никого не увидел, только один раз видел лося, который выходил к реке попить воды. Эх, думал Маркел, сейчас бы ему Аблегиримову пищаль, он себе мяса до самой Москвы заготовил бы! Лось напился воды и ушёл, Маркел грёб дальше, вздыхал. Вечером Маркел перекусил, лёг спать, положив саблю под бок, и почти сразу заснул. Спал хорошо, не дёргался, не просыпался, утром не помнил, что снилось, перекусил, напился из реки, поплыл. Плыл, то и дело крестился, читал Отче наш. Сердце колотилось очень сильно, и руки дрожали. Шутка ли, он столько ждал, когда сюда вернётся, и вот вернулся, наконец, сейчас Тавда ещё раз повернёт, и он увидит Лабутинский городок, увидит людей на воротах, засмеётся, сунет пальцы в рот и засвистит по-разбойничьи на всю округу! И вот Тавда повернула вбок, Маркел выплыл из-за леса, посмотрел вперёд… И обмер. И даже забыл грести. Потому что ничего там не осталось – ни городка, ни стен его, ни башен – ничего. Было только одно большое пепелище, а впереди его, на бугре, над самым берегом, стоял высоченный, совсем недавно вкопанный болван и щерился, за болваном стояли вбитые в землю колья, а на них торчали отрубленные головы. Голов было много, несколько десятков. Маркел спохватился, ударил в воду веслом, начал грести изо всех сил, но лодка плыла медленно, течение мешало, Маркел грёб, смотрел на головы. Они все были уже сильно поклёваны птицами, уже трудно было разобрать, где чья голова. Так и Шуянина Маркел узнал только по шапке, да и Шуянинская голова торчала на колу впереди всех, сразу за болваном. У болвана губы были широченные, чёрные, наверное, в крови, а сам болван был ещё совсем недавно вытесанный, почти что белый, только глаза ему подвели сажей. Как же так, думал Маркел, да кто это их так, за что… Да как за что, подумалось, за многое! И чем им Маркел теперь поможет? Раньше надо было помогать, когда Кучум предупреждал, а он не послушал. И это теперь он во всём виноват! Подумав так, Маркел перестал грести, снял шапку и перекрестился. И почти сразу, как в ответ, зашелестели стрелы. Маркел упал на дно лодки и затаился. А те, невидимые, с берега, продолжали стрелять по нему. Лодку так и колотило, и дубасило, когда стрелы в неё попадали. Лодку болтало, разворачивало в бок, потом её подхватило течением и понесло вниз по Тавде. А стрелы летели всё реже и реже. Маркел, лёжа на дне лодки, досчитал до ста, потом ещё раз досчитал, приподнялся и осмотрелся. Лабутинский городок, правильнее, то, что от него осталось, скрывался за поворотом. И погони от вогулов видно не было. Но Маркел всё равно начал править к противоположному берегу. Вначале он грёб сидя, хоронился, а после встал во весь рост и начал грести уже в полную силу. А когда догрёб до берега, то затащил лодку в кусты, спрятал её там как следует, сам отошёл вдоль берега шагов на сто вниз по течению, спрятался в кустах, прижал царёву саблю к груди и начал ждать, что будет дальше.ГЛАВА 56
Но ничего дальше не было. То есть никто из-за Лабутинского поворота не появлялся – ни в лодке по реке, ни пешим ходом по берегу. Маркел лежал, смотрел на воду, вспоминал отрубленные головы и опять думал, что Кучум ведь предупреждал его, что вогулы затеяли набег на Лабутинский городок, так что, говорил Кучум, чем ездить искать непонятно чего, лучше бы Маркел вернулся к Шуянину да предупредил своих земляков. Но Маркел не послушался, поехал дальше, добыл эту саблю, и что теперь? Вывезет ли он её отсюда? Или будет ему то же, что и всем шуянинским – отрубят ему голову и насадят на кол?! Подумав так, Маркел поморщился… И вдруг услышал едва различимый всплеск. Потом ещё один. Потом там как будто убрали весло, и оно негромко бухнуло по борту лодки. Или Маркелу это только показалось? Но он насторожился, ждал. Всплесков больше слышно не было. Только птицы почему-то всполошились, зачирикали. Может, почуяли кого? Или мало ли чего они чирикают, поди пойми птичьи дела. Подумав так, Маркел немного привстал. Перед ним были кусты, а за ними, между ветками, виднелась река. Вдруг между ветками Маркел увидел лодку! В лодке сидел вогул, смотрел на берег, а в руке, над головой, держал небольшое копьецо наизготовку. Маркел сразу вскочил, махнул правой рукой, из рукава нож выскочил, прошелестел по кустам и попал вогулу прямо в горло. Вогул упал на дно лодки, убитый, лодка поплыла дальше. Эх, беда какая, подумал Маркел, они же скоро его хватятся – и, боком-боком, отступил от берега, зашёл в лес, развернулся и, стараясь не шуметь, побежал. Сперва он бежал куда глаза глядят, потом остановился и прислушался. Где-то у реки закрякал селезень. Ему никто не ответил. Селезень опять закрякал, уже зло, настойчиво. Крякай, крякай, подумал Маркел, зачем одного посылал, а вот теперь хоть закрякайся! И, придерживая саблю, пошёл дальше. Теперь он шёл прямо. Так, думал он, если идти два дня, можно опять выйти к Тоболу, а дальше, как Яков учил, свернуть на Туру, по ней подняться до Чинги-Туры… И что Чинги-Тура, сердито подумал Маркел, кого он там найдёт и кто его там встретит? Чинги-Туру давно сожгли и перебили там всех! И тогда что ему теперь – стоять здесь на месте и ждать, когда эти селезни его догонят и убьют? Маркел остановился и опять прислушался. Было совсем тихо, только чуть слышно дул ветер. А вот и крякнули! Ох как далеко они залезли, подумал Маркел, взял немного левей и пошёл. Шёл долго, очень долго шёл, даже успел проголодаться. Надо идти к реке, подумалось, что он в лесу царёвой саблей наохотит? Правда, и в реке будет не лучше, погорячился он, не нужно было нож метать, потому что как теперь быть без ножа?! Но, тут же подумалось, без ножа это всё же лучше, чем без головы. И он, прибавив шагу, пошёл дальше. Так он шёл весь день до вечера. Никакой зверь ему не встречался, никакой рыбы он в ручьях не видел. Когда начало темнеть, Маркел решил сделать привал. Чтобы развести огонь, он полез в пояс, но нашёл там только трут и кресало, а кремня нигде не было. Маркел стал вспоминать, где и когда он мог его обронить, и получилось, что это могло случиться как сегодня, так и неделю тому назад, потому что как только он стакнулся с Яковом, тот всегда и разжигал костры. А теперь нет Якова! Маркел ещё немного посидел, подумал о всяком, а после залез на дерево, примостился в удобной развилке, привязался к ветке кушаком, и также саблю привязал, чтобы ненароком не упала вниз, и так и продремал всю ночь вполглаза. Утром слез с дерева, пошёл. Шёл всё время на полдень, насколько это у него получалось. Питья по дороге было много, то ручьёв, то просто луж, да и жажды у Маркела не было. А вот есть хотелось очень сильно. Маркел рвал ягоды, случалось, грыз коренья. Видел грибы, вполне съедобные на вид, но не решился их брать. А когда вышел на осыпь, то надолго задержался, искал кремни, не нашёл. Нашёл только камешек с дыркой, куриный бог, его так дома называли. Маркел этот камешек выбрасывать не стал, а спрятал в пояс. Подумал, после скажет Нюське, что это и есть манит-камень, про который она спрашивала. И так бы тот день ничем и кончился, но тут когда опять стемнело и нужно было собираться спать, то есть опять моститься как глухарь на дерево, Маркел подумал: а попробую, а мало ли! Сел, устроился, достал тот камень с дыркой, во вторую руку взял кресало, положил перед собой трут, и начал бить кресалом по тому камню, совсем не по кремню. Бил-бил, бил-бил… И выбил! Искра попала в трут, трут задымился! Маркел стал подкладывать травинки, раздувать огонь, опять подкладывать, потом сунул веточку потолще, ещё одну, ещё… И развёл настоящий костёр. Маркел сидел возле него и улыбался. Хорошо было ему! Можно было, конечно, думать о том, что он здесь один на тыщи вёрст в любую сторону, никто ему не поможет, никто даже слова доброго не скажет, а можно и просто сидеть и смотреть на огонь, а эти пусть рыщут по лесу, ищут его, а когда найдут, так у него на них царёва сабля! А если они всё равно его заколют, а не он их, ну, значит, такая у него была судьба, ну… И так далее. А ещё очень хотелось есть, вот только где чего возьмёшь, ведь тогда уже совсем стало темно. Но Маркел взял горящую ветку, прошёл по опушке, надрал полшапки грибов, на вид вполне съедобных, нанизал их на прутья и начал печь на огне. Дух от грибов пошёл очень питательный. Так же и вкус у них, как после оказалось, был вполне терпимый. Маркел все их съел, и его разморило, он лёг прямо на землю и заснул. Снились ему всякие нелепицы. Утром Маркел проснулся, голова трещала. Он сходил к ручью и там долго пил воду, потом встал и пошёл дальше, опять на полдень. Шёл и думал, что больше грибов в рот не возьмёт, ну разве только от Параски. Так он и шёл целый день и на всякий случай ничего уже не ел, даже ягод. Вечером опять развёл костёр, посидел у огня и заснул, саблю из рук не выпуская. А утром вышел, прошёл совсем немного, и вышел к реке. Вдоль неё по берегу была протоптана дорога. Что это была за река, Маркел не знал, но, как он думал, это был Тобол выше Тавды по течению, то есть как раз те места, в которые он и направлялся. Маркел перешёл через дорогу, сел на берегу, свесил ноги вниз и осмотрелся. Ничего приметного вокруг он не увидел, с одних сторон была вода, с других деревья. Три тысячи, а может, пять тысяч вёрст от Москвы, а от Рославля ещё дальше. Эх, думал Маркел, поглядывая по сторонам, сколько раз мать говорила: не ходи в Москву, от неё одна беда. Как будто в Рославле лучше. Хотя, тут же подумал Маркел, чтобы узнать, что такое беда, надо сходить в Сибирь. Вот тут беда так беда! Вот как сейчас, вот… И Маркел осёкся! Потому что он увидел…ГЛАВА 57
…что по дороге вдоль реки, со стороны Кашлыка, идут люди. Правильнее, пешие татары в малахаях, с луками. Луки у них были пока за спинами, потому что Маркела они ещё не видели. И было их с десяток, может, даже больше. Они шли кучей и о чём-то говорили. Маркел присел, откатился за куст, вскочил и побежал. Пробежал немного по дороге, потом вбежал в лес. В лесу не очень настреляешься, думал Маркел, а сабле что, ей для размаха и аршина хватит. Но, тут же подумалось, будет ещё лучше, если они просто пройдут мимо. Маркел остановился за кустом и затаился. В лесу было тихо. От дороги тоже ничего не доносилось. Да что это такое, подумал Маркел, неужели татары ему показались? Никогда с ним такого раньше не бывало. Свят, свят! Маркел перекрестился. Потом опять прислушался и опять ничего не услышал… Но почуял: в лесу кто-то есть! Нельзя здесь оставаться, надо убегать! И он, пригнувшись, сделал шаг, второй… Как сзади закричали по-татарски: – Стой! Убью! Маркел побежал ещё быстрей. Рядом вжикнула стрела, за ней сразу вторая. Маркел бежал, петлял между кустами, прыгал через бурелом. За ним гнались, кричали. Бежать по чащобе было трудно, слева, совсем недалеко, была дорога, можно было повернуть к ней… Но Маркел не поворачивал. Он же понимал, что на открытом месте татары быстро его подстрелят. И он опять бежал по бурелому. Татары бежали следом, гикали, стреляли. Стрелы пока летели мимо. Маркел запыхался, стал спотыкаться. И, что ещё хуже, он слышал, что они обходят его справа, прижимают к дороге. И надо поворачивать к дороге, получается, иначе его здесь застрелят! Вон как стрелы вжикают всё ближе! Была не была, думал Маркел, теперь и в лесу его подстрелят, а на дороге мало ли, вдруг он по дороге убежит. Или даже вдруг кинется в воду и переплывёт на тот берег, а они никто за ним не кинутся, вдруг, мало ли… Эх, думал Маркел уже совсем запыхавшись, вот она, смертушка родимая, никто и не узнает никогда, как он ходил за саблей, как добыл её… Маркел резко свернул и побежал к дороге. Татары кинулись за ним. Эх, думал Маркел, не добежать. Саблю в воду бросить, что ли, чтобы она им не досталась? Маркел на бегу повернулся к реке… И снова не поверил собственным глазам! По реке плыли струги, наши, как их не узнать, и их было с десяток, не меньше! И это только здесь, а сколько их ещё за поворотом! Но Маркелу было не до этого, он как бежал по дороге, так и свернул к реке, забежал в воду, побежал по мелководью и кричал: – Братцы! Я свой! Меня Маркелом звать! Я православный! На стругах вёсла сбились со счёта и стали ляпать вразнобой. Сзади, от татар, летели стрелы. Маркел, пробежав мелководье, упал на брюхо и поплыл, загребал правой рукой, а в левой держал саблю и кричал: – Я Маркел! Я из Москвы! Я Разбойного приказа стряпчий! Передний, ертаульный, струг был уже совсем близко. Маркел уже не кричал, а только плевался, воды наглотавшись. Его стали подхватывать, ему совали вёсла. Он ухватился за одно, а во второй руке держал саблю, очень крепко. Когда его втащили в струг и попытались выдрать саблю, он заорал «Не трожь! Это царёва сабля!» – и её отпустили. А он сразу обомлел, то есть потерял сознание.ГЛАВА 58
Очнулся Маркел оттого, что ему ударило в нос водкой. Он открыл глаза и в полумраке не сразу заметил чью-то руку, держащую чарку. Маркел открыл рот. Ему влили водки. Внутри стало жарко и весело. Маркел широко открыл глаза и уже ясно рассмотрел, что перед ним сидит кто-то, одетый стрельцом. – Ты кто таков? – спросил Маркел. – Иван, – ответил стрелец, улыбаясь. Убрал пустую чарку и подал вторую, полную. Маркел выпил и её, ему стало ещё лучше. Теперь он видел и соображал, что он сидит, в одном исподнем, в каком-то шалаше, один стрелец угощает его водкой, то есть тянет ещё одну чарку. Маркел оттолкнул её, сказал: – Довольно! – и ещё раз осмотрел, и ощупал себя. Он и в самом деле был босой, в одном исподнем, и спросил: – А где моё добро? – Какое же оно было добро? – насмешливо сказал Иван. – Тряпьё это было татарское, вот что. И сапоги ты утопил. А это тебе взамен. И стал подавать стрелецкие одежды. Маркел, больше ничего уже не спрашивая, начал одеваться. Потом обулся. Сапоги оказались великоваты, но Маркел не стал об этом говорить. Он только спросил: – Вы откуда? – Из Москвы, – сказал Иван. – Откуда же ещё. – На Кучума, что ли, высланы? – спросил Маркел. – Нам об этом говорить не велено, – строго сказал Иван. – А ты, если уже очухался, вставай. Маркел встал. Иван вывёл его из шалаша, и там Маркел увидел, что на том самом месте, где он убегал от татар, теперь разбит табор – наставлено много шалашей, перед ними горят костры, возле костров суетятся стрельцы, вдоль берега стоят струги, а в самой середине табора красуется высокий, просторный, богато тканный шатёр. И вот только увидев позолоту на шатре, Маркел окончательно опомнился, озабоченно похлопал себя по бокам и спросил, где его сабля. – А она разве твоя?! – насмешливо спросил Иван. Маркел растерялся, промолчал. Иван добавил: – Пойдём, пойдём! Воеводе всё расскажешь! – А кто у вас воевода? – Воевода у нас строгий! Прозывается Сукин Василий Борисович, Бориса Ивановича сын. Давай, давай, не задерживай! И он толкнул Маркела в спину. Маркел пошёл к шатру. Стрельцы, завидев Маркела, сразу бросали все свои дела, вставали с мест и смотрели на него. А кто и выступал вперёд и невольно мешал проходить. Иван на таких очень злился и покрикивал, а то и замахивался бердышом. А Маркелу было не до них. Сукин, пытался вспомнить он, Василий, приказный дьяк, так, что ли? Или воевода в Ладоге? Или то его отец? Маркела подвели к шатру, откинули полог, он вошёл… И увидел воеводу Сукина, который лежал на куче парчовых подушек и что-то медленно пожёвывал. Воевода был ещё довольно молод, но уже заметно растолстевший. Одет он был просто – в широкий татарский халат, и без шапки. Также и на вид он был весьма негрозный. – А! – сказал он при виде Маркела. – Говоришь, ты князя Семёна человек? А чем докажешь? – Винюсь, государь-боярин, доказывать нечем, – ответил Маркел, кланяясь. – Обобрали меня агаряне как липку! И овчинку, и подорожную, и нож, и кистень, узел с вещичками, и даже целовальный крест забрали. Вчистую. – Ладно, – сказал Сукин. – Тогда так. У князя твоего, у боярина Семёна, по двору собачка бегает, одно ухо чёрное, второе белое. Как её дразнят? – Чумичка. – А самого тебя как звать? И зачем сюда послали? Маркел назвался. И прибавил: – Нашли недостачу в государевой казне, и меня послали эту недостачу выискать. – Что за недостача? – спросил Сукин. – Эта? И достал из-за подушек саблю. Маркел вздохнул и начал говорить: – Эта сабля не простая, а государева. К нам Черемисинов в Приказ пришёл, государеву казённую книгу принёс, а там записано, что сабля в нетях. И там же её приметы сказаны. Они такие: сабля турская булатная, по обе стороны от черена до елмана золотом наведена… Ну и так далее, Маркел читал по памяти, а Сукин вертел саблю так и сяк, сличал, и всё сходилось. Когда Маркел замолчал, Сукин спросил: – Ну и что дальше? – А дальше, – нехотя сказал Маркел, – меня в Сибирь послали. И я ходил, искал, искал, и, наконец, нашёл. И теперь несу обратно. Вот и всё. – Э, нет! – сказал Сукин. – Так не годится! Ты мне подробно всё давай! – продолжил он, огляделся и позвал: – Данила! В шатёр вошёл этот Данила. Он был в больших годах, сухой, улыбчивый. Ох, такому палец в рот не клади, подумал Маркел, кланяясь. А Данила смотрел на Маркела и ждал. Сукин сказал, обращаясь к Даниле: – Это Семёна Лобанова сыщик. Говорит, что это сабля будто царская, и вдруг пропала, а он её нашёл и нёс обратно в Москву. Так, нет? Маркел кивнул, что так. Сукин положил царёву саблю себе на колени, полюбовался ею, провёл по ней рукой, спросил: – А как она сюда, в Сибирь, попала? Кто украл? – Да никто её не крал, – сказал Маркел. – Её от царя Ермаку пожаловали, за верную службу. А после татары Ермака убили, и его саблю унесли в одно укромное местечко, и там спрятали. А я нашёл и обратно несу. – Что за местечко? – спросил Сукин, продолжая любоваться саблей. – Местечко, я сказал, укромное, – уклончиво ответил Маркел. – И у нас в Приказе так заведено, что покуда дело не закрыто, ничего о нём не говорить. Сукин задумался. А после поднял саблю над собой, стал любоваться ею, глядя снизу вверх, и при этом ещё и спросил: – Так, говоришь, сабля царёва? И поднесли Ермаку? А за что? – За Сибирское царство, – ответил Маркел. – Во-о-о-т! – нарастяжку сказал Сукин. – За Сибирское, говоришь, царство. – А я куда еду? Брать это царство. И, значит, теперь она моя! Запомнил? Маркел не ответил. – О, правильно, – сердито сказал Сукин. – Кто ты такой, чтоб с воеводой спорить?! – И, повернувшись к Даниле, спросил: – Так я говорю или нет? – Так-то оно так, – сказал Данила. – Но, может, у него есть ещё что сказать, а он молчит. – И, повернувшись, спросил у Маркела: – Есть у тебя ещё про что-нибудь сказать, или ты только про эту саблю знаешь? – Только про саблю, – ответил Маркел, решив про пансырь помолчать. – Вот, – вкрадчиво продолжил Данила. – Славную ты добыл саблю. Да только берёт меня сомнение, что ты один с этим справился. – Ну, не совсем один, – сказал Маркел, – но об этом тоже говорить ещё не срок, дело закончится, тогда и скажем. Если князь Семён позволит. Да и свезло мне несказанно! Обложили нас со всех сторон, уже и кидаться было некуда… но тут им стало не до нас, у них началось смятение, и мы ушли. – Что за смятение? – спросил Данила. – Хана Кучума хотят сбросить. Или, может, уже сбросили. – Кто сбросил?! – разом спросили Сукин и Данила. – Хан Сейдяк-хан из роду Тайбугинова, – сказал Маркел. – Сибирь – это исконно его вотчина, но Кучум его было прогнал. Ну а теперь Сейдяк, в силу войдя, пришёл из Мугольской земли и привёл с собой несчётно войска, десять тысяч. И у Кучума почти столько же. И как они между собой схлестнулись, как стали биться – всё сгорело, весь Кашлык! На прошлой неделе. А про остальное мне рассказывать пока не можно. Сукин помолчал, подумал, а потом спросил: – Так что, татары сейчас в Кашлыке? И их десять тысяч? – Люди, говорят, что десять, – ответил Маркел. – А, может, и меньше. Но вот что Кашлык сожгли, так это чистая правда, потому что я сам это видел. Сукин глянул на Данилу. Данила сказал: – Тут нужно с оглядкой. Но, с другой стороны, а что такое десять тысяч? Против Ермака не меньше было, а одолел он их! – Одолел, – с усмешкой сказал Сукин. – А где он сам сейчас? Одна сабля от него осталась! И то добрый человек принёс, а так бы и этого не было! И он опять задумался. Потом, повернувшись к Маркелу, сказал: – Вот такие у нас тут дела, братец. Послали нас Кучума замирять, а он уже как бы замирён, наше дело как бы сделано. – Э! – встрял было Данила. – Знаю, знаю! – перебил его, отмахиваясь, Сукин. – Государю крест поцеловали, это теперь как же?! Это голову сложи, а сделай! – А потом, обращаясь к Маркелу, продолжил: – Мы тут, как ты уже, я думаю, понял, идём на Кучума. Государь нас отрядил. Болховской Сибири не взял, а мы возьмём! А ты иди пока что и сиди там, где тебя посадили. И молчи как пень! Когда будешь нужен, тебе скажут. Иди. Маркел поклонился, развернулся, надел шапку и вышел, думая: эх, сабля, эх, беда какая!ГЛАВА 59
Возле шатра Маркела ждал Иван. Он и повёл его обратно. И опять стрельцы полезли на него глазеть, но тут уже не только Иван, но и стрелецкие десятники стали на зевак покрикивать, чтобы не лезли. И обошлось. А как только пришли в шалаш, Маркел сразу сказал, что он сильно голоден. Иван на это ответил, что за обедом уже посланы и скоро его принесут, а сам, как бы между прочим, и как ему казалось, издалека, стал говорить, что у них в войске много всякого болтают о Маркеле, и, честно сказать, ему, Ивану, тоже очень интересно было бы узнать, кто такой Маркел на самом деле и что он здесь, в Сибири, делал. – Мне об этом говорить не велено, – сказал Маркел. – Крест целовал, что не откроюсь. Иван покивал, помолчал, после спросил: – А что за сабля при тебе была? Люди про неё много чего болтают. – А чего болтать?! – сказал Маркел. – Сабля как сабля. Только дорогая очень. – А люди говорят, – сказал Иван, – что это Ермакова сабля. Так это или нет? – Ну, не знаю, – ответил Маркел, усмехаясь. – Наверняка об этом не скажу, потому что Ермака живым не видел. Но слышал, божились знающие люди, что это не просто сабля, а намоленная. Поэтому кто её держит, тот и всей Сибирью правит. Стерегли её татары очень зорко! Ну да не устерегли. И мне за это будет сто рублей от государя. И он хотел ещё что-то сказать, но тут в шалаш вошёл стрелец и принёс каши. Маркел сразу замолчал и взялся перекусывать. Иван сидел рядом и ждал, когда Маркел опять заговорит. Но Маркел только ел да помалкивал. А когда съел, сказал, что он крепко устал, ему надо лечь и вздремнуть, и чтобы ему не мешали. Иван громко вздохнул и вышел, а Маркел подумал, что скоро всё войско будет знать про Ермакову саблю и про её намоленную силу. Размышляя таким образом, Маркел лёг на лежанку, накрылся овчиной и попробовал заснуть, но не спалось. Маркел и так и сяк ворочался и вспоминал о всяком… Но почему-то более всего ему вспоминалась сегодняшняя каша. Она была очень хороша! Ну, ещё бы, с улыбкой думал Маркел, сколько он каши не ел, всё только рыба да рыба! И дальше Маркел сразу же подумал, что когда он вернётся в Москву, то велит Параске, чтобы рыбы в доме близко не было! Ну и так далее. И так привязалась к нему эта рыба, что он никак не мог от неё отвязаться, нарочно думал о другом, о всяком, а получалась опять одна рыба. Поэтому Маркел очень обрадовался, когда к нему в шалаш вошёл Данила. Маркел сразу вскочил и снял шапку. Данила усмехнулся и велел садиться. Маркел сказал, что пусть сперва боярин сядет. – Я не боярин, – ответил Данила. – А я Данила Григорьев Чулков, письменный голова при воеводе. – Тут он не удержался, усмехнулся и прибавил: – Меня государь к нему приставил. Для советов. Понял? Маркел ответил, что понял. Чулков сел на его лежанку, Маркел сел на землю, и Чулков, усмехаясь, сказал, что он уже слышал о том, что Маркел рассказывал Ивану, и это забавно. – И людям полезно, – прибавил Маркел. – И полезно, – повторил Чулков. – А теперь ты мне так же полезно и кратко, толково, всё расскажешь – и откуда ты когда вышел, и куда пришёл, и кого ты по дороге видел, и сколько отсюда вёрст до Кашлыка, богато ли живут татары, любят ли они Кучума или больше любят Сейдяка, а если любят и не любят, то за что, и… – Тут он негромко засмеялся и спросил: – Запомнил? – Не совсем, – уклончиво сказал Маркел. – Надо ещё раз повторить, боярин. – Ладно, – сказал Чулков. – Давай ещё раз. И начал спрашивать уже не всё сразу, а по порядку. Маркел так же по порядку отвечал. После Чулков стал и о многом другом спрашивать, а Маркел ему также подробно, как мог, отвечал и уже не поминал того, что если дело не раскрыто, то о нём нельзя рассказывать. К тому же, иногда думал Маркел между ответами, Чулков же ничего про саблю не выпытывал, а про пансырь и тем более, а всё больше о других делах, а после даже достал из рукава четвертинку бумаги и гвоздик, и начал чертить чертёж Маркелова странствия, и проставлять на нём вёрсты, где сколько, и делать ещё какие-то, уже совсем мудрёные пометки, и снова продолжал расспрашивать, теперь уже о том, есть ли у татар пищали, и есть ли они у бухарцев, и как пройти в бухарскую землю, далеко ли это, и когда они сами в Сибирь приезжают, и что они говорят про Сейдяка и Кучума, кто такой этот Сейдяк, и кто такие Тайбугиновичи, много ли у них войска, и каково оно по силе, и много ли войска у Кучума, и за кого станут вогулы, если им надо будет выбирать, и где лучше поставить городок, где запасти харчей… Ну и так далее и далее. Долго Чулков Маркела мучил своими расспросами, у Маркела голова шла кругом, а Чулков, наоборот, был радостный, встал, потирая руки, и сказал, чтобы Маркел помалкивал, ничего никому не рассказывал о том, что он в Сибири видел, а тихо бы сидел и ждал, когда за ним придут. И, больше ничего не говоря, Чулков ушёл. Вскоре после этого в шалаш вошёл Иван, принёс каши, и конечно же ещё того, чем эту кашу запивать. Маркел сел ужинать, Иван сел рядом, но Маркел на этот раз совсем молчал, про Чулкова не сказал ни слова. Так, в полном молчании, тот ужин и закончился, Иван встал и ушёл, Маркел лёг на лежанку и скоро заснул.ГЛАВА 60
Спал Маркел очень крепко, ничего ему не снилось. А утром, только рассвело, Иван разбудил его и сказал, что надо идти к воеводе. Маркел наскоро оделся, и они пошли. В таборе уже не спали. Но никто не выходил, как вчера, глазеть на Маркел как на чудо, а только поворачивали головы. Когда Маркел вошёл в шатёр, там на подушках сидел Сукин, очень мрачный, и так же мрачно поигрывал царёвой саблей. А Чулкова нигде в шатре не было. Маркел снял шапку, поклонился и назвал себя. – Помню, помню, не забыл! – сердито сказал Сукин. – Задал ты мне хлопот! Маркел виновато вздохнул. Сукин ещё сердитее продолжил: – Даниле что? Спрос же будет не с него – с меня! Или какой спрос теперь с Болховского? А? Чего молчишь?! Маркел опять вздохнул. Сукин опять продолжил: – Тебе было легко, ты же ходил один. А у меня семь сотен войска! Тут Сукин замолчал, повернул саблю так и сяк, после отложил её, полез и вытащил из-под подушек маленькую грамотку с двумя вислыми печатями. – Вот, – сказал Сукин, – это сеунч государю царю и великому князю. Здесь всё написано, про все наши дела. Снесёшь в Москву и передашь. Снесёшь?! – Снесу! – бойко ответил Маркел. И тут же спросил: – А саблю? – Нет, сабля здесь останется, – сердито сказал Сукин. – Да и как нам теперь без неё? У кого эта сабля, того и Сибирь. Кто этого не знает? Так что так в Москве и передай, что Ермакова сабля нам здесь помогает. Маркел на это промолчал, только в сердцах подумал, что винить тут некого, сам вчера брякнул, а теперь хоть разорвись от злости! А Сукин продолжил: – Ладно, чего тут много говорить. Мы сегодня выступаем дальше, на Кашлык, а ты давай обратно, на Москву. Как поедешь, по Туре или по Тавде? Маркел подумал и сказал: – По Тавде привычнее. – Ладно, – опять сказал Сукин, – будь по-твоему. Но одного я тебя не пущу. Ведь с тобой сеунч на имя государево. Дам тебе десять стрельцов охраны. Нет, – тут же передумал Сукин, – пять! Довольно ли? Маркел ответил, что довольно. – Вот и славно, – сказал Сукин. – Иди, собирайся. Скоро выступаем. Маркел поклонился. Сукин дал ему сеунч. Маркел сунул его за пазуху, развернулся, надел шапку и пошёл. Когда Маркел вышел из шатра, то увидел, что суеты в таборе прибавилось – стрельцы гасили костры, собирали пожитки, носили мешки на струги. Маркел немного постоял и посмотрел на них, а потом развернулся и уже собрался было идти к своему шалашу собираться… Но тут же подумал, а что собирать? Узла с вещичками у него давно уже нет, ещё с татарских земель, а теперь и саблю отобрали. За его длинный язык! Как он теперь в Москве покажется, что князю Семёну скажет?! Что вместо царёвых вещиц сабли и пансыря, и шубы, кстати, тоже, он принёс один только сеунч? Так ведь носить сеунчи – это не нашего, Разбойного приказа, дело, а Разрядного, сердито скажет князь Семён, а тебя посылали за чем?! Ты кому царёву саблю отдал? Ваське Сукину? Нашёл, кому! И обернётся, и велит… Но дальше думать не хотелось. Маркел ещё раз осмотрелся и увидел идущего к нему Ивана. Иван был с мешком. Подойдя к Маркелу, Иван широко заулыбался и сказал, что он ему крепко завидует. – Чему тут завидовать! – в сердцах сказал Маркел. – Как чему! – удивился Иван. – Едешь домой! Маркел не спорил. Иван велел идти за ним. Они свернули к реке и там подошли к передовому стругу. Этот струг, да как и все остальные, был уже готов к отплытию. Иван велел садиться. Маркел взошёл на струг, гребцы потеснились, Маркел сел. Рядом с ним сидели ещё пятеро стрельцов, а все остальные сидели на вёслах. Маркел осмотрелся. Воеводский шатёр был уже сложен и убран, на берегу почти никого не осталось. Ударили в било. Десятник с их кормы велел отчаливать. Гребцы стали упираться вёслами в речное дно, и струг начал отходить от берега. Маркел снял шапку и перекрестился. Струги мало-помалу выгребли на стрежень. Маркел сидел, надувшись, как сыч, смотрел на берега и время от времени повздыхивал. Только иногда десятник с кормы спрашивал, куда держать, и тогда Маркел молча указывал налево или направо. Солнце поднималось всё выше и жарило всё сильнее. Маркел отдувался, думал, мать честная, уже середина июня, он в середине марта из Москвы выехал, а после ехал, плыл, шёл и снова ехал пятнадцать недель! И что он выходил и выездил? Как теперь князю Семёну в глаза глянуть?! А Нюська спросит, а где манит-камень! А Параска спросит… И Маркел опять вздыхал, поглядывал на пятерых стрельцов. Они все как один были весёлые, не то что те, которые сидели на вёслах. Ну, ещё бы, тем же плыть невесть куда в Сибирь, а этим… Да, думал Маркел, теперь уже сам усмехаясь, и эти тоже сразу посмурнели бы, если бы он им сказал, сколько им и как и через что идти, ехать, плыть, бежать, ползти, карабкаться только до Чердыни, уже не говоря про Москву. Ну и Маркел не говорил, конечно. Сидел, думал, смотрел по сторонам… И, наконец, по правой стороне, увидел Тавду, встал, указал рукой и приказал табанить. Гребцы налегли на вёсла…ГЛАВА 61
А потом всё было очень просто. Их передовой, так называемый ертаульный струг причалил к берегу, Маркел и пятеро его стрельцов сошли на землю, со стругов им прокричали здравицу, Маркел их построил, и они пошли. Дорога была так себе, сильно заросшая. Это, как догадался Маркел, и есть та самая Татарская тропа, про которую Силантий рассказывал. По ней, он говорил, татары ходили на Чердынь и на другие государевы и строгановские городки. Так что, думал Маркел, когдапо ней каждый год скакали конные полки, она была широкая, вытоптанная, а теперь тех полков нет, вот она и заросла. Но для тех глухих мест и такая дорога была хороша. Маркел со своими стрельцами прошёл в первый день вёрст сорок, не меньше, а вечером они устроили привал, перекусили и перезнакомились. Стрельцы оказались ярославскими, старшим у них был Гаврила Спица, человек бывалый, воевал с крымцами, замирял ногаев. Маркел тоже о себе рассказывал, но кратко, а о хождении в Сибирь и вообще почти что промолчал. Утром они опять пошли и прошли ещё примерно столько же. На третий день убило первого стрельца. Правильней, он сам убился – ненароком сорвал чей-то наведённый самострел, и его стрелой насквозь пробило. Стрельца звали Степан. Его похоронили, взяли его пищаль, его подсумок и пошли дальше. На третий день шли мимо Лабутинского городка, но только по другой стороне реки, и видели, что на противоположной, лабутинской стороне, стоит болван на пепелище, а за болваном видны колья с насаженными на них казацкими головами. Стрельцы поснимали шапки и долго крестились. На пятый день кончились харчи. Но на шестой день убили лося – подстрелили и наелись вдоволь, и навялили мяса в запас. А ещё через три дня по ним стреляли из кустов и застрелили ещё одного стрельца, Котьку-Константина. Маркел разъярился и велел стрелять в ответ. Стреляли наугад и ни в кого не попали. Похоронили Котьку, взяли и его пищаль, пошли дальше. На десятый день медведь задрал Петра, а они застрелили медведя, и уже потом Петра похоронили и взяли его пищаль. И на этом, слава богу, всё! То есть никого уже не хороня, на двадцатый день они дошли до Пелыма, Аблегиримова городка. Но, как и у лабутинцев, Аблегиримовский городок стоял по другую сторону реки. Маркел вышел к берегу, его заметили. Он стал кричать им по-татарски, они его сразу узнали, побежали в городок и вскоре вернулись с Аблегиримом. Аблегирим стал у Маркела, через реку, спрашивать, как у него дела. Маркел ответил, что дела его хороши, он со всеми ими справился, а теперь возвращается обратно в Чердынь. Да вот беда, кончились у него харчи, да ещё один из его воинов сбил ногу и не может идти дальше. Поэтому Маркел просит у Аблегирима большую лодку с гребцами и два мешка съестных припасов, и за это он даст три пищали. Аблегирим, подумав, согласился. С той стороны пришли две лодки. В одну лодку Маркел положил пищали, а во вторую, с харчами, сел сам с Гаврилой-десятником и с последним строевым стрельцом Игнатом. Этот Игнат сильно хромал, нога у него распухла, ну а в лодке ему стало легче. Да и Маркелу, и Гавриле тоже. Теперь у них был рай, а не поход – вогулы гребли, а они сидели себе по целым дням в лодке и глазели по сторонам. Так они плыли по Тавде, вверх по течению, пятнадцать дней, и там отпустили вогулов. После ещё два дня шли до дедушки-макаровского уворота, всё время вверх да вверх. Игнат чуть шёл. Но когда они взошли на уворот, Маркел к дедушке Макару поворачивать не стал. Да никто их туда и не звал, а даже, наоборот, когда они шли мимо, то Маркел заметил, как пищальный ствол в кустах сверкнул. Но Маркел виду не подал, и они пошли дальше. Потом, уже всё время вниз да вниз, они дошли до того места, где Маркел расстался с Силантием, остановились и срубили плот. Дальше они плыли на плоту, сперва по ручью, потом по реке. Река была очень норовистая, вся в перекатах. И вот на одном из таких перекатов их плот перевернулся, Маркел и Гаврила выплыли, а Игнат пропал в водовороте. Они его искали, не нашли. И пищаль его тоже пропала. Ну что делать? Пошли дальше. На привале сушили сеунч, подправляли печати. Потом шли дальше, уже лесом, потом снова плыли на плоту, выплыли почти что к самой Чердыни, соскочили с плота в воду, выбежали на берег и, берегом, дошли до Чердыни. Чердынский воевода Пелепелицын очень удивился возвращению Маркела и сразу стал расспрашивать его о сибирских делах. Маркел отвечал неохотно. Тогда Пелепелицын, разгневавшись, строго спросил, не везёт ли Маркел с собой чего-либо недозволенного, как то, к примеру, мягкой рухляди – соболиных ли, беличьих, песцовых или же бобровых шкур. На что Маркел дерзко ответил, что с ним никакой поклажи нет, да и он не дедушка Макар, чтобы баловаться подобными делишками. Кто такой дедушка Макар, грозно вскричал Пелепелицын. Маркел в ответ только пожал плечами и сказал, что это так просто к слову пришлось. Пелепелицын засмеялся, подобрел и велел выписать Маркелу подорожную. И Маркел уехал – в тот же день. А стрелецкого десятника Гаврилу Спицу Пелепелицын оставил у себя, сказав, что у него великая недостача служилых людей. Так что Маркел опять ехал один, опять густо торчали те же ёлки по обочинам, а в деревнях сидели пермяки, которые ни словечка не знали по-нашему, но принимали хорошо и сменных коней давали справных. На одиннадцатый день Маркел приехал в Устюг и, как и в прошлый раз, остановился в тамошней губной избе у губного старосты Костырина. Устюг теперь был тихий и пустой. Костырин сказал, что казаки, почти сразу за Маркелом, ушли на Волгу, нового воеводу в Устюг так и не прислали, а государев думный дьяк Бычков опять в отъезде. Так что в самый раз было сделать роздых, отоспаться, а то, чувствовал Маркел, у него все бока отбиты. Но очень хотелось в Москву! И Маркел в тот же день поехал дальше. Вологду Маркел видел проездом, в тамошний кремль вообще не заезжал, сменил коней на ямском дворе и сразу поехал дальше. Нет, даже не ехал, гнал, денег не было – грозил скорой расправой, и проводники старалась. Маркел то и дело вскакивал, заглядывал вперёд, не показалась ли Москва. А когда наконец показалась, то он аж прослезился. Встал, вышел из возка, и долго стоял, смотрел на стены, крыши, купола… и будто глазам своим не верил! Было это двадцать шестого августа, на Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, через сто пятьдесят девять дней после того, как Маркел из Москвы выехал.ГЛАВА 62
А теперь он, по Москве уже, по Сретенке, ехал обратно. Он думал вначале заехать в Приказ и там доложить князю Семёну о делах, и передать сеунч. Нет, даже сперва надо сеунч, он же победный, наши опять в Сибирь пришли, это же какая радость, а уже после говорить о сабле, которая хоть и не привезена в Москву, но тоже в наших руках, а это значит… Ну и так далее, думал Маркел, князь Семён прочтёт сеунч и подобрев, кликнет Степана, велит ему открыть сундук и отвертеть Маркелу, за верную службу, пять, нет восемь, нет, десять аршин камки, или тафты, цена… Ну и опять так далее. Маркел думал об этом, представлял, как Параска будет рада, и улыбался. А они ехали уже по Китай-городу, впереди был виден Кремль, они уже подъезжали к Никольским воротам… Как вдруг кто-то сбоку заорал: – Маркел! Он обернулся. И увидел, что на крыльце Никольского, так называемого Привратного кабака стоит Филька. Пьяный в доску! И делает рукой вот так – мол, подойди ко мне. В другой раз Маркел только бы отмахнулся и поехал дальше… А тут почуял беду! Велел проводнику остановиться, вышел из возка и подошёл к крыльцу. Филька, икнув, сказал: – Вернулся! Я так и думал! Маркел молчал, чуял, что это ещё не всё. И угадал – Филька, по-пьяному весело хмыкнув, продолжил: – Тебя Гурий Корнеевич ждёт. Маркел вздохнул полной грудью, а выдохнуть никак не мог. Филька утёр губы, сказал: – Он раньше тебя явился. Ещё с самого утра. – А… – начал было Маркел… Но не спросил, не решился. Филька усмехнулся и сказал: – Робеешь! Маркел облизал губы и сказал: – Дай нож! – А твой где? – В Сибири забыл. Филька пожал плечами, дал свой нож. Маркел взял его, сунул в рукав, вернулся, бухнулся в возок и велел ехать дальше. А когда они въехали в Кремль, Маркел велел ехать не прямо, а взять правей, к князя-семёновым палатам. Возле княжеских ворот Маркел сошёл, прошёл через калитку, сторожа его сразу узнали, но окликать не решились. Маркел шёл широким шагом, облизывал губы. Пройдя через князев двор, зашёл за поварню, за угол. Там, на заднем дворе, все уже знали, что Маркел вернулся, и вышли смотреть. Много во дворе было народу! Но Параски с Нюськой видно не было. Да и их дверь была закрыта. А его, рядом, стояла раскрытая настежь. Маркел поднялся по крыльцу, тряхнул правым рукавом, нож в рукаве задёргался, будто живой. Маркел прошёл через сени и вошёл в светлицу. Там, за столом, спиной к двери, кто-то сидел, волосатый, без шапки, в летней шубе, и громко ел огурец. Маркел остановился в двери и спросил: – Эй, есть тут кто живой?! Тот, кто ел огурец, замер, а потом спросил: – Живой? – И сам же ответил: – А вот мы сейчас это посмотрим! Обернулся, и Маркел увидел Гурия Корнеевича. Это был крепкий, широкий в кости и широколицый бородатый человек лет сорока, не меньше. – А! – громко и насмешливо сказал Гурий Корнеевич. – Вот ты какой, Маркел! Да я тебя соплёй перешибу! И встал со скамьи, лягнул её ногой, она упала. Гурий Корнеевич был высок ростом, на полголовы выше Маркела. Маркел облизнулся. Гурий Корнеевич, разгневавшись, воскликнул: – Ты что, кот помойный, нажрался чужой сметаны, а за свои дела ответ не держишь? – Как это не держу?! – сказал Маркел. – Я к себе в дом пришёл, а ты кто такой? Кто тебя звал сюда?! Гурий Корнеевич аж задохнулся от гнева и оглянулся на дверь. Дверь была распахнута. Через дверь и дальше через сени был виден двор, во дворе было полно народу… И Гурий Корнеевич смолчал. Только сказал: – Ладно. Чего зря языком чесать? Пора и дело делать. С этими словами он выхватил из ножен саблю и замахнулся ею. Эх, тут же подумал Маркел, вот бы где сейчас царёва сабля пригодилась, да только чего уже теперь – и вытряхнул нож из рукава. – А! – закричал Гурий Корнеевич. – Знаем мы эти разбойничьи замашки! Сейчас будешь в меня ножи метать! – Нет! – с гневом вскричал Маркел. – Я тебя и так зарежу! И, пригнувшись, кинулся вперёд. Гурий Корнеевич едва успел отпрыгнуть – и рубанул сверху. Маркел упал на пол, откатился и опять вскочил, опять кинулся вперёд. Гурий Корнеевич ещё раз рубанул, попал в столешницу. Маркел проскочил у него под рукой, забежал сзади, замахнулся и уже почти ударил… Как в горницу вбежал Мартын Оглобля, князев дворский, и дико, гневно заорал: – Вы что это затеяли, скоты?! Благодетеля вашего позорите? А ну бросайте это дело! И тебе, Маркелка, как не стыдно, тебя боярин ждёт, а ты тут людей убиваешь?! А ты, Гурка, славный воин, где ты с утра так набрался?! Тебя разве для этого из плена выкупали?! – Я… – начал было Гурий Корнеевич… Но Мартын замахал на него руками, и Гурий Корнеевич замолчал. Мартын, повернувшись к Маркелу, продолжил: – Чего зенками сверкаешь?! А ну иди к боярину! Боярин тебя ждёт в Приказе, гневается! И что тут было делать? Маркел злобно вздохнул, сунул нож в рукав и вышел в дверь. Во дворе было полно народу, и теперь все смотрели на Маркела, когда он сперва шёл через толпу, а после заворачивал за угол. И после, когда он шёл по Кремлю, ему казалось, что все смотрят только на него – и усмехаются. Ух, как его тогда трясло и как подмывало достать нож!.. Но не достал, Бог миловал. Подошёл к Приказу, встал перед крыльцом, три раза прочёл Отче наш – и только тогда отпустило, он стёр пот со лба и стал подниматься по ступеням.ГЛАВА 63
Когда Маркел вошёл к князю Семёну, тот сидел на лавке и что-то тихо говорил, а рядом с ним, сбоку, стоял Стёпка, подьячий, и слушал его. Увидев Маркела, князь Семён замолчал, кивнул, и Стёпка вышел. Маркел снял шапку и поклонился великим обычаем, то есть до самого пола. – Ладно, ладно, – сказал князь Семён. – Так и другие могут. А что ты с собой принёс? Отчего вдруг с пустыми руками? – Я не с пустыми, – ответил Маркел, полез за пазуху, достал сеунч и, подступив, подал его. Князь Семён повертел сеунч так и сяк, и недовольным голосом спросил: – Что это? – Сеунч государю царю и великому князю, – ответил Маркел. – От воеводы Сукина с известием о взятии Чинги-Туры, первопрестольной столицы сибирской. – Так её ещё при Ермаке сожгли! – сердито сказал князь Семён. – Тоже мне известие! А что Кашлык? Взяли его? – До Кашлыка ещё не дошли. – А где Кучум?! Маркел молчал. Князь Семён, ещё раз осмотрев сеунч, спросил: – Отчего он такой весь изжёванный? И где печати? – Издалека несли! – сказал Маркел. – В реках тонули… Князь хмыкнул, развернул сеунч, начал читать и, ещё сильней поморщившись, сказал: – Да тут ничего не видно! Тут даже титла царского не разобрать! Как такое государю показывать? Маркел тяжело вздохнул и подумал, что зря он на сеунч надеялся, не отвертят ему камки ни аршина. Да и ладно! Лишь бы только голову не отвертели. А князь Семён сердито продолжал: – Ты меня с толку не сбивай, Маркелка! Я тебя зачем в Сибирь послал? За сеунчем или как? Где царёвы сабля с пансырем?! – Ну, это… – опять начал Маркел. – Отыскал я их, саблю и пансырь. На татарском тайном мольбище. И сабля там вот так низко висела, я её сразу взял, а пансырь, он был высоко, на болвана надет, болван высоченный, я не дотянулся… – И что? – строго спросил князь Семён. – Взял? Не взял? – Пансырь не взял, – сказал Маркел. – А саблю взял! И побежал, и выскочил! И в лодку! И поплыл! И мимо Кашлыка проплыл! И, вижу, плывут мне навстречу наши на стругах! Я к нашим! К воеводе Сукину Василию Борисовичу. Так, мол, и так, говорю, воевода… И Сукин взял саблю себе, потому что, он сказал, если ему надо идти брать Сибирское царство, то ему без этой сабли ну никак… – А! – гневно вскричал князь Семён. – Опять этот Сукин! Какое ему дело до царёвой сабли?! Пускай Кашлык берёт, пускай Кучума замиряет! А сабля ему для чего?! У него что, своей сабли нет?! – Так эта сабля, он сказал, особенная. У них же в Сибири такая примета: у кого эта сабля, тот всей Сибирью и владеет. Князь Семён нахмурился, подумал… И засмеялся, и сказал: – Ну, правильно! А кто Сибирью владеет? Государь царь великий князь! Вот у кого должна быть Ермакова сабля! И я тебя за ней и посылал! А ты её Сукину отдал! У тебя Сукин выше царя получается! Ничего тебе доверить нельзя! Из трёх вещиц только одна нашлась, шуба, и то потому что не ты её искал! – А где она нашлась? – спросил Маркел. – Да здесь, в Москве, – нехотя ответил князь Семён. – Но это уже не твоего ума дело. Искать надо уметь! Рассказывай дальше. – Так я уже всё рассказал, – осторожно ответил Маркел. – Да? – удивился князь Семён. – А как мне кажется, ты только ещё начинаешь рассказывать. Или тебя к Сидору свести, чтоб вспомнилось?! Маркел вздохнул и сказал: – Помилуй, государь боярин. Не досмотрел я. Не додумал. Сукин как стал кричать, я оробел и отдал саблю. А он мне вместо неё дал сеунч. – Ловок твой Сукин, ничего не скажешь! – сказал князь Семён. – Ну да это не беда, вернётся, сам за всё своё ответит. А ты пока что ответь за себя. Значит, говоришь, саблю добыл на их тайном мольбище? А как туда попал? – Своим умом, – уклончиво ответил Маркел. – И дальше убегал своим умом? И набежал на Сукина? Так было? – Так. На реке Тобол. В пяти днях пути от Кашлыка, – сказал Маркел. Потом прибавил: – Семь сотен войска. На стругах. Войско на вид сытое, зелейного запасу много. Князь Семён хмыкнул, задумался. Потом сказал: – Ладно, давай с самого начала. Рассказывай, как ты с ним снюхался. Вот ты бежишь… Так было? Да? Маркел ответил, что да. И стал рассказывать, как он очнулся в шалаше, как стрелец Иван наливал ему водки, как они после пришли в шатёр, как Сукин там на подушках лежал… И так далее. То есть очень подробно рассказывал, князь Семён слушал внимательно и только иногда перебивал, чтобы что-то уточнить. Долго Маркел рассказывал, аж во рту всё пересохло. И князь Семён тоже устал, кликнул Стёпку, тот сбегал и принёс перекусить. Князь Семён начал перекусывать, Маркел сбился, замолчал. Князь Семён сказал, что про Сукина хватит, теперь пусть Маркел расскажет про саблю, и тоже так же подробно. Маркел облизнулся и начал с того, что он в Лабутинском городке, у атамана Шуянина, встретил бухарского купца… – Про купца, – сказал князь Семён, – пока не надо. Про саблю давай. Тогда Маркел начал рассказывать про мурзу Бикеша и про огненные столбы на небе, про пустую Ермакову могилу, про байку Бикеша про то, будто Ермак, уже убитый, три дня плыл по реке, а в руке у него была сабля… Ну и так далее. Князь Семён отставил миску и заслушался. А Маркел рассказывал, рассказывал! Что называется, увлёкся. А время шло себе и шло, Маркел рассказывал, князь Семён слушал, иногда перебивал и снова слушал… И только когда стало уже совсем темно, опомнился. – Ладно, – сказал, – пока довольно. Складно баешь! Ну да, может, и кривишь, а кто тебя проверит? Поэтому будет вот так: я сегодня подумаю, а завтра скажу, что с тобой сделаю. Так что иди пока. И помолись! Маркел поклонился, повернулся к двери, надел шапку… – Стой! – вдруг сказал князь Семён. Маркел обернулся. Князь Семён, усмехаясь, спросил: – А что это в твоих покоях сегодня днём шум стоял? С кем ты там на саблях бился? – Я не на саблях, – ответил Маркел. – Да и никого там не было, и я ни с кем не бился. – А! – одобрительно воскликнул князь Семён. – Если не было, так не было, так даже лучше. Ну, иди! Маркел развернулся и вышел. Шёл, по дороге никого не встретил. И когда пришёл домой, там тоже никого не было. Зато везде был порядок. Маркел постоял, походил взад-вперёд, после опять постоял, прислушался, вышел из дому на помост и постучался в соседнюю дверь. Но ему не открыли. Маркел вернулся к себе, лёг в чём был, не раздеваясь, на лавку, думал, вовеки не заснёт, но только положил голову на шапку – и сразу как провалился. И спал без всяких сновидений.ГЛАВА 64
А утром к нему пришли, вывели во двор, сняли с него шапку, и так, без шапки, повели. Позор какой! За что?! А в Приказе с ним решили так: пока не будет доподлинно известно, что дальше сталось с войском Сукина, надо рассмотрение маркелова дела (дело об утере царёвой сабли) отложить до решения сукинского дела (об уносе важной вещи). То есть пока от Сукина не будет известия о том, что он взял Сибирь, ибо ему царёва сабля помогла, Маркела держать на князя-семёновом подворье под надзором. И держали. А чтобы время зря не терять, ему было велено каждый день ходить в Приказ и там подробнейшим образом рассказывать всё, что он знал про Ермака, а также всё, что он в Сибири видел и слышал, а Стёпка напеременку с Котькой за ним это записывали. И тут же, рядом, сидел князь Семён и внимательно слушал, а то и останавливал и переспрашивал, а после, когда начинало темнеть, забирал опросные листы и уносил их куда-то. Стёпка говорил, что в Думу, а Котька – будто самому царю. А назавтра утром всё начиналось сначала. Маркел сильно маялся на такой службе и каждый вечер молился, чтобы у Сукина всё вышло добром и как можно скорее. Хотя, если по совести, Маркелу больше другого хотелось, но молиться об этом он стеснялся. Да, кстати. С того памятного дня Маркел больше ни разу не видел Гурия Корнеевича, ему только потом уже, недели через две, князь Семён как бы между прочим сказал, что тот уехал в Чердынь воеводой вместо Пелепелицына. – А то, – прибавил князь Семён сердито, – Пелепелицын там совсем заматерел, а это большой урон казне!.. И после ещё что-то говорил, но Маркел его уже не слышал, а только думал: в Чердынь! Счастье-то какое! Но, с другой стороны… Эх!.. И вечером Маркел пришёл домой, сел за стол, достал из пояса и положил перед собой тот самый сибирский камешек с дыркой, куриный бог, и стал его и так и сяк вертеть, и вспоминать. Много ему тогда чего припомнилось! Маркел совсем затосковал… Как вдруг, не оборачиваясь, слышит – скрипнула входная дверь! И послышались Параскины шаги! Маркел так и обмер! А она ему из-за спины: – Что это? Он молчит. Она тогда прошла ещё немного, села к столу на угол и смотрит. Потом опять спрашивает: – Что это? – И на камешек кивает. – А, – говорит Маркел очень серьёзным голосом. – Это волшебный камень толых-аахтас, я его из Сибири привёз. Он добрых людей одного к другому притягивает. Надо только в эту дырку глянуть. Параска покраснела, говорит: – Забавно как! Вот Нюська будет рада! Я ей завтра про это расскажу. Маркел говорит: – А сегодня? Параска вся зарделась и ответила: – А сегодня у тебя останусь. И осталась. И зажили они по-прежнему. А после, как Маркелу выдали прогонные, они пошли на Красную площадь, в ряды, накупили Параске и Нюське обновок… Ну и других было, конечно, много разных новостей. Так, вскоре в Москву прибыл гонец от Сукина с известием, что тот заново завоевал Сибирь. Правда, как гонец прибавил, не сам Сукин лично её завоёвывал, а его письменный голова, Данила Чулков. То есть это было так: Сукин опять сидел в Чинги-Туре, а Данила с войском, по его приказу, прошёл вниз по Тоболу и там, где Тобол в Иртыш вливается, поставил град Тобольск. А когда татары пришли на него, он их побил, взял в плен и, уже с пленных, взял восемь шертных грамот о покорности. Иначе говоря, дела сибирские решились по добру, и можно было Маркела выпускать. Маркела выпустили, но на всякий случай, пока сабля не вернётся, его если и посылали по службе, то только здесь же, по Москве, не дальше. Параска была очень рада. А потом, уже только на третий год, наконец вернулся из Сибири Сукин, привёз пленного царевича Маметкула и двадцать его самых верных батыров, и, что особенно важно, привёз царёвы саблю с пансырем. Сукин очень радовался, ждал, когда его начнут одаривать. Но у него вдруг спросили: а где второй пансырь? Сукин удивился: как второй? А вот так, сказали, по бумагам уточнили, Черемисинов нашёл, что было послано два пансыря! Вместо шубы – второй пансырь. И Сукин сразу впал в немилость и уехал дослуживать в Кемь. А Чулкова утвердили в основанном им Тобольске воеводой, ибо он за тот прошедший год не только три церкви в Тобольске поставил, но и ещё тридцать татарских пять мурз пленил! И вот тогда, после таких известий, когда уже стало всем понятно, что Сибирь взята навечно, с Маркела сняли подозрения и, на Параскину беду, опять стали посылать его куда попало, по всему царству. Маркел был доволен. А сабля и пансырь остались в Москве, в Оружейной палате. Они по сей день там висят на стене. Царь и великий князь Феодор Иоаннович, когда мимо них проходит, всякий раз довольно улыбается. А что! Сабля на месте – и Сибирь его!Булыга Сергей Алексеевич Золотое дело
Глава 1
День двадцать седьмого ноября 1595 года выдался в Москве ясный, со снежком, морозцем. Маркел Косой, стряпчий Разбойного приказа, возвращался от ведьмы на службу. Болело в боку. Порезали его когда-то очень сильно, исполосовали кишки почём зря, как ещё живым тогда остался! Да и не остался бы, когда бы не Параска, это она привела тогда ведьму, ведьма обкурила его травами, заговорённой водой окропила – и прошло. Но иногда ни с того ни сего вдруг как схватит, как начнёт тянуть да резать – и Маркел опять идёт к той ведьме, ведьма опять его обкурит, окропит, заветное слово прошепчет, собачьим жиром с порохом помажет… Вот так и сегодня помазала, в боку сразу немного отпустило, и Маркел пошёл на службу. Прошёл через пол-Москвы, наконец вошёл через Никольские ворота в Кремль, а там по Никольской же улице, мимо Патриаршего двора (снял шапку), через Ивановскую площадь подошёл к приказам. Возле Разбойного крыльца стояли сани, а рядом с ними прохаживались челядины с бердышами. Сани были дорогущие, кони породистые, челядь в кармазиновых шубных кафтанах, все как один здоровенные, рослые, смотрели нагло, щурились. Маркел, поднимаясь по крыльцу, подумал, что это непростой гость к ним пожаловал. И не ошибся. Когда он поднялся на второй этаж и зашёл к себе в палату, Котька Вислый сразу же спросил, видал ли Маркел, кто приехал. Маркел ответил, что видал, вот только не вызнал, кто. – Э! – сказал Котька. – Значит, не видал, если не вызнал. Маркел повернулся к Петьке. Петька объяснил: – Щелкалов к нам пожаловал. По делу. Ого, подумал Маркел, садясь за свой стол, Василий Щелкалов, государев думный дьяк, первый судья Посольского приказа, этот просто так ездить не станет. А Петька, подмигнувши Котьке, продолжал: – Свезло тебе, Маркел Петрович. Щелкалов за тобой приехал. – Чего это вдруг за мной, – сказал Маркел. – Я иноземных языков не знаю, какой из меня посол? – Так толмача дадут! – встрял Котька. – А то и толмачку. – Эх! – невесело сказал Маркел. – Какая толмачка! Да я чуть живой приплёлся. Ведьма говорит, скоро пройдёт, а вот не проходит. – Так, может, ты её… – Молчи! Немного помолчали. Потом Петька опять заговорил, что если Щелкалов не кого-нибудь пригнал, а сам приехал, значит, есть важное дело. А дело какое? Может, Маркела к цесарю пошлют, а, может, в Аглицкую землю. – А что, – уже с напором сказал Петька, – давно там не были, а когда великий государь был жив, так туда часто ездили. – Так то было по сватовству, – сказал Маркел, – а теперь туда зачем? – Ну, может, там что-нибудь потянули, – сказал Петька. – Ещё при великом государе потянули, может, какое-нить колечко царское, мудрёное, и только сейчас это открылось, и надо его срочно отыскать. Или вдруг в Гишпанию пошлют? Гишпания тоже богата, они за море ездят, к диким людям, а у тех золота как грязи. Наши в прошлом году ездили в Гишпанию… Ну и так далее. Теперь Петьку было не унять. Видно было, что кривит и просто ради смеха зуба скалит, но как с ним поспоришь?! У него же старший брат, тоже подьячий, служит в Посольском приказе, и всё про них знает, вот Петька и пошёл чесать то про Гишпанию, то про Туретчину, то про Литву, как где живут, что пьют, какие где бабы… А Маркел сидел и думал, что никуда ему не хочется, а только бы домой, на лавку, да чтобы в боку отпустило, а то просто рукой не притронуться! Тут вдруг раскрылась дверь, вошёл Степан и сказал, что князь-боярин желает видеть Маркела. Маркел, поморщившись, встал, взял шапку, приложил её к груди. – Э! – весело сказал Степан. – Чего ты? Может, тебя в Рим пошлют. У них лето круглый год, согреешься. Маркел сердито хмыкнул и пошёл к двери. А там прошёл через сени, рында открыл дверь напротив, Маркел вошёл и поклонился великим обычаем, после распрямился и назвал себя. Напротив него, в мягких лавках с подлокотниками, сидели двое – боярин князь Семён Михайлович Лобанов-Ростовский, судья Разбойного приказа, и так называемый Первый посольский дьяк Василий Яковлевич Щелкалов. Щелкалов был уже в годах, сед, длиннобород… да, впрочем, как и князь Семён. И так же, как и он, был раскрасневшийся, вспотевший, глазки у него так и сверкали. Хватанули уже, что ли, невольно подумал Маркел. А князь Семён, будто почуяв, сразу же спросил: – Чего ты так смотришь?! Маркел промолчал, поклонился. – О! – строго сказал князь Семён. – Вот так уже лучше. По делу мы тебя призвали. Воровство открылось! Нам надо его пресечь. Ехать надо будет далеко. И князь Семён посмотрел на Щелкалова. Тот утвердительно кивнул. А вот что, вдруг поспешно подумал Маркел, а вот возьмут да и пошлют в Гишпанию! Или в Берберию. Петька про Берберию рассказывал. Там воровство кругом, там даже сам берберийский салтан – вор. По морю плавает и грабит всех без разбора. Или, подумалось, всё же в Гишпанию? Но тут князь Семён сказал: – Надо тебе срочно ехать в Вымь. – Куда? – переспросил Маркел, подумав, что ослышался. – В Вымь, – повторил князь Семён. – Это за Устюгом ещё почти три сотни вёрст. Заворовал там один князёк сибирский, вогульский, не привёз ясак. Надо к нему съездить, взять его под стражу, и взять ясак, и привезти сюда. Сроку на всё это сорок дней. – Так сорок дней, – сказал Маркел растерянно, – это только до Выми доехать. Князь Семён посмотрел на Щелкалова. Тот, важно огладив бороду, сказал: – В Вымь и обратно не считается. Сорок дней – это от Выми в Сибирь и обратно. Князёк же в Сибири сидит! А в Сибирь зимой ехать небыстро, оттого и даём сорок дней, а не двадцать. Вот тебе и Посольский приказ, подумал Маркел удручённо, вот тебе и Рим с Гишпанией, да тут с моим дырявым боком прямо на дороге сдохнешь на хрен! И сказал: – Так это, государь князь боярин, у меня рана в боку, как я туда поеду? – Так ведь поедешь же, а не пойдёшь – сказал князь Семён. – Это идти тяжело, а ехать что? Лежи себе, поплёвывай. Пока доедешь, рана заживёт. Так? – Так, – сказал Щелкалов, усмехаясь. А Маркел в сердцах подумал: сколько же вы сегодня, бояре, откушали, что вдруг такие весёлые? Но вслух ничего, конечно, не сказал. А князь Семён опять заговорил: – Теперь слушай внимательно. Дело тут вот какое. Есть один такой князёк вогульский в Сибири, в Югре, зовут его Лугуй, у него шесть городков, а это Куноват, Илчма, Ляпин, Мункос, Юил и Сумт-Вош. Этот Лугуй нам давно покорился, может, даже самым первым, ещё при Ермаке, и получил за это грамоту, что он будет платить ясак не нашим воеводам тамошним, сибирским, а напрямик сюда, в Москву. И это было так: он каждый год, не позже Дмитриева дня, а это октября двадцать шестого, привозил свой ясак в Вымь, а это семь сороков соболей лучших, там наши люди их у него принимали и везли сюда. И так оно и было восемь лет, привозили в срок и шкурка в шкурку, и все лучшие. А два года тому назад он прислал только шесть сороков, а больше, сказал, не могу, запишите в недоимки. Записали. А он тогда в прошлом году прислал и того меньше – уже всего пять сороков! И опять на него записали, а он пообещал в этом году всё вернуть. И вот настал этот год, а он вообще ничего не прислал! И уже и сам не явился! Наши люди после Дмитриева дня его ещё неделю подождали, а после дали знать в Устюг. А уже из Устюга нам дали знать сюда – вчера приехал человек и рассказал. И князь Семён посмотрел на Щелкалова. Тот согласно кивнул. Семь сороков, быстро считал Маркел, отчего это так мало? Ведь если ясашный урок по пять соболей с лука, то, что у этого князька, только чуть больше полусотни лучников? И Щелкалов из-за этого приехал? Быть не может! Да он… Но дальше Маркел подумать не успел, потому князь Семён опять заговорил: – И ещё вот что. Этот Лугуй очень скользкий князёк. Он же почему ясак не досылал? Потому что начал говорить, что зашатались его люди, заворовали, стали от него, Лугуя, смотреть в сторону и стали туда же, в сторону, возить ясак. – В какую сторону? – спросил Маркел. – Вот то-то и оно! – воскликнул князь Семён. – Про Золотую Бабу слышал? – Нет. – Тогда сейчас послушаешь. Якобы там у них, в Сибири, на Югре, есть одна такая то ли ведьма, то ли вещунья великая, то ли даже княгиня самовластная, зовут её Золотая Баба, и вот тамошний народ вогульский всё больше к ней поворачивается и возит ей наш государев ясак. Так вот ты езжай в эту Югру, в городок Куноват, найди там этого Лугуя, поставь его к кресту и допроси, а после пойди с ним к той Бабе, золотой или какой ещё, забей её в железа и доставь сюда! Так я сказал, Василий? – Так, – кратко ответил Щелкалов. А Маркел подумал: вот ради чего Щелкалов приехал – ради этой Бабы! И это значит, вот какая в этой Бабе силища! Вот на какую смерть его хотят послать! Опять стало резать в боку нестерпимо! Но он виду не подал, сказал: – Дело великое затеяно. Но разве я с ним справлюсь? Пусть бы тамошние воеводы на эту Бабу пошли. У них и стрельцы, и казаки, и пушки. А что я один? – Э! – только и махнул рукой князь Семён. – Посылали уже! И всё без толку. Да и зачем там столько шума? Баба-то одна сидит, без войска, но в заговорённом месте. Поэтому кого туда ещё послать, как не тебя? Ты же и по-вогульски умеешь, и вон как в Сибирь в прошлый раз славно съездил, шаманов покрошил! – Да какая то была Сибирь! – махнул рукой Маркел. – Так, только с краюшку, а самой Сибири я, считай, не видел. – А ты в Тобольске разве не бывал? – удивлённо спросил князь Семён. – Там тогда Тобольска ещё не было, – сказал Маркел. – Была только лысая гора высокая, от берега туда вот так вдоль Иртыша… – Да ты, я смотрю, там всё знаешь! – сказал князь Семён. – И тебя там тоже знают, твой дружок князёк Аблегирим опять ворует. – Да какой он мне дружок! – сердито отмахнулся Маркел. – Чуть не убил меня! Пуля прямо в шапку и насквозь. – Вот видишь, какой ты везучий! – сказал князь Семён. – А твой дружок из Пелыма бежал и, говорят, перебежал к той Бабе под защиту. А ты с ним вон как знаком крепко, чуть не до смерти. Так что кому ещё, как не тебе, туда ехать. Маркел молчал. Да и чего тут уже говорить, когда было ясно, что Щелкалов приехал за ним и посылает его в Вымь, а там за Камень в Югру к этой ведьме! Как теперь домой идти и что Параске говорить?! – А теперь вот что, – сказал князь Семён. – Даю тебе два дня на сборы. Соберёшься, приходи, отправим. Маркел поклонился боярам, развернулся, надел шапку и пошёл к двери. Шёл, думал: да чтоб вас…Глава 2
Маркел вышел из приказа и пошёл домой. А жил он, как и прежде, у князя Семёна на заднем дворе, в подсоседях, взойти по лестнице – и третья дверь по ходу. А Параска с Нюськой жили во второй. Нюська была красавица, уже почти на выданье. Ну а Гурий Корнеевич, Нюськин родитель, в прошлом году наконец (прости, Господи!) сложил голову за веру православную в недоброй памяти местах. От ногайской сабли принял смерть. Параска выдержала траур, а после прорубили дверь из Маркеловой светлицы в их светлицу, сговорились честь по чести и венчались. Хотя какое там венчание, когда уже и Нюську пора замуж выдавать, да и у самой Параски под сердцем было уже тяжко. Вот какая она, жизнь, думал Маркел, идя домой, уже десять с лишком лет прошло как он сюда приехал из Рославля, привёз дяде Трофиму дачу, дядя Трофим дачу принял, они сели выпивать, закусывать, а тут как загремят колокола, как набегут стрельцы, дядя Трофим схватил саблю, Маркел поправил в рукаве кистень – и началась она, служба на новом месте. А теперь оно уже не новое! Подумав так, Маркел вошёл через ворота на князя Семёнов двор, прошёл налево, повернул за службы, поднялся на крыльцо, вошёл в третью по ходу дверь, в сенях снял шубу, шапку и вошёл в светлицу. Параска сидела на лавке и вставать не думала. Маркелу это не понравилось, но он смолчал. Параска спросила: – Чего такой хмурый? И чего так рано? – А ты что, не рада? – строго сказал Маркел, садясь к столу. – На тебя глядя будешь рада! – язвительно ответила Параска. И тут же ещё спросила: – На службе что-нибудь стряслось? – У них всегда всё трясётся, – сердито ответил Маркел. И посмотрел на стол, а после осмотрелся. Параска, вздохнув, поднялась, пошла к печи и стала собирать на стол. Маркел молчал, позыркивал. Параска налила болтухи, Маркел взялся есть. Параска, помолчав немного, вновь спросила: – Ну так что у вас там приключилось? – Не велено рассказывать, – сказал Маркел. – Ой-ой! – насмешливо воскликнула Параска. – Не смеши! Или тебя за волосы таскали, и ты вспоминать теперь про это не желаешь?! – Никто меня не таскал! – ответил Маркел со злом. – За что меня таскать?! Я на службе всегда первый! Я за десять лет ни одного дела не профукал. У нас всегда как чуть что, сразу ко мне: Маркел Петрович, Маркел Петрович! И он даже ударил ложкой по столу, для крепости. Параска покачала головой, сказала: – Это так. Да только что в этом хорошего? Если у них вдруг какая беда откроется, они кого призовут? Ведь тебя! Маркел не сдержался и сказал: – Уже призвали. – Куда? – с жаром спросила Параска, а сама схватилась за живот. Маркел посмотрел на Параску. Живот у неё был ещё как живот, незаметный. Параска, помолчав, опять спросила: – Так куда тебя призвали? Маркел, откашлявшись, сказал: – Опять в Сибирь, только теперь в Югру. Золотую Бабу изловить, забить в железа и сюда доставить. – Кого-кого? – недоверчиво переспросила Параска. – Золотую Бабу? Маркел утвердительно кивнул. – Ох, – только и промолвила Параска и побелела как снег. Потом сказала: – Они что, совсем очумели? Зачем она им?! – Значит, нужна, если требуют, – уклончиво сказал Маркел. – И чего ты так перепугалась?! Кто она такая, эта Баба?! Параска помолчала, а потом ответила: – Простой ты у меня, доверчивый. А злые люди этим пользуются. Ведьма она, вот кто эта ваша Золотая Баба! Она тебя сперва засушит, а после сожрёт. Она всех сушит и всех жрёт. – Как это сушит? – не понял Маркел. – А как бабы сушат мужиков? – злобно воскликнула Параска. – Вот так и она тебя засушит! Но не сразу. Может, будет год сушить, а может, два… А как засушит, так сразу сожрёт. Потому что она ведьма самоедская, а самоеды жрут людей. Ты что, и этого не знал?! Маркел подумал и сказал: – А мне сказали, что она не самоедская – вогульская. – Она и вогулов жрёт, и остяков, и самоедов. Всех! И так и тебя сожрёт. Но сперва засушит! И тут Параска замолчала, а по щекам у неё потекли слёзы. Маркел сунулся их утирать, но Параска его оттолкнула. Маркел улыбнулся и назвал её касаткой, но она перебила его и велела молчать. Маркел полез обниматься, а она пнула ему в нос. Но Маркел стерпел и это. А как иначе?! Баба же на сносях, что ни скажет или что ни сделает, ничему нельзя перечить. Но и не слушать же такое целый день! Маркел встал, утёрся и ушёл за загородку. Разулся, лёг, слышал, как Параска вышла в сени и как после бухнула входная дверь. Маркел лежал, смотрел в потолок, вспоминал князя Семёновы слова, потом Параскины. Потом попытался вспоминать о том, как он в первый раз ездил в Сибирь и что он там слышал про Золотую Бабу – и ничего почти не вспоминалось! Так только, мол, де есть такая, идол золочёный. Или нет, живая баба, что ли? Маркел сопел, ворочался, а толком не вспоминалось. Не запоминал же он тогда, не думал, что может сгодиться. Да и когда это было, почти десять лет назад, только-только Ермака убили и казаки обратно на Русь побежали, а Маркел, наоборот, в Сибирь подался, так ему было велено. Маркел поморщился. Потом, чтоб было веселей, начал вспоминать Аблегирима, вогульского князя и его славный Пелым-городок, потом вспомнил царя Кучума и его главный город Кашлык, потом мурзу Бикеша, который Ермака похоронил, потом Якова-стрельца, который Ермака сгубил, потом… Ну и так далее. А потом угрелся и, хоть было ещё дневное время, заснул. Сперва ему снилась всякая дрянь, которую он даже не запомнил, а потом он вдруг увидел тёмную пещеру, в пещере горел огонь, от огня шёл густой дым, а в дыму он видел, но нечётко, простоволосую голую бабу золочёную. Баба усмехалась и тянула к нему руки. Руки были тоже золочёные. Маркелу стало страшно, он проснулся. Встал, обулся и вышел в светлицу. Там за столом сидела Параска. Маркел сел рядом и на её ладошку положил свою ладонь. Параска не стала вырываться. Так они долго сидели молча, улыбались. Рука у Параски была горячая-прегорячая, Маркелу стало радостно. После пришла Нюська, сели ужинать. После все трое играли в бирюльки, говорили о чём ни попадя. Потом свеча стала догорать, Нюська ушла к себе через новую дверь, и Маркел с Параской тоже вскорости легли. Маркел опять попробовал обнять Параску, но она опять оттолкнула его да ещё обозвала медведем. Маркел затаился. Параска спала неспокойно, то и дело вскидывалась, а то даже ныла во сне. А Маркел заснуть боялся, потому что ему сразу начинала сниться Золотая Баба в бане – и там и хотела его засушить. И так всю ночь! Маркел весь извёлся, вставал, ходил в сени, четыре ковша кваса выпил. Да что квас, какое с него облегчение! А тут ещё опять в боку свело, хоть ты снова беги к ведьме. Да только, думалось, чего бежать, когда он через день и так к ведьме поедет, к самой знатной, самоедской, тьфу!Глава 3
Утром Маркел проснулся оттого, что услышал, как в светлице кто-то шепчется. Потом мягко закрылась дверь, и уже только после этого Параска прошла за загородку и сказала, что явился Филька и хочет что-то сказать. – Где он? – спросил Маркел. – На крыльце, – ответила Параска. – Чтобы здесь не надышал. Маркел усмехнулся и подумал, что не любит она Фильку, ох как не любит, а тут вдруг его принимала и даже о чём-то сговорилась с ним. И ладно! Маркел встал, оделся, сунул в рукав кистень и вышел. Филька, как и было сказано, ждал на крыльце. Время было раннее, солнце ещё только всходило. – С чем пришёл? – спросил Маркел. – Это, сосед, не я пришёл, – ответил Филька, дыша перегаром, – а это тебе надо идти. И замолчал, поджал губы. – Говоришь загадками, – сказал Маркел. Филька поморщился, ещё подумал и продолжил: – Мы уже знаем, куда ты собрался. И к кому. И доехать ты туда доедешь, думаем, вон ты какой бугай здоровый, а вот вернёшься ли обратно? Я так прямо у Параски и спросил. Она сразу заохала! Хорошая тебе баба досталась, душевная… Маркел поднял руку. Филька осёкся и сказал уже как можно кратче: – Есть тут один человек на Москве, который всё про Золотую Бабу знает. Вот тебе с ним сперва поговорить бы, а уже после ехать. Услыхав такое, Маркел замер, а потом осторожно спросил: – Что это за человек?! – Я его не видел, – сказал Филька. – Я только слышал о нём. На прошлой неделе, в четверг. – От кого слышал? – строго спросил Маркел. – От ещё одного человека, – нехотя ответил Филька. – Сидели, выпивали с ним. В нашем Никольском кабаке. – И что он про Золотую Бабу говорил? – Про Бабу ничего почти, а всё больше про царевича. – Какого ещё царевича? – насторожился Маркел. – Сибирского царевича, какого же ещё! – уже сердито сказал Филька. – Про того, который всё про Золотую Бабу знает. Потому что как не знать! Он же там у них царевич! Ему всё известно! Маркел подумал и спросил уже такое: – Что это ещё за царевич и как он здесь оказался? И у кого живёт? – Царевич он как царевич, самый обыкновенный, сибирский, – сказал Филька. – Приехал он сюда за правдой. Его другой царевич, тоже наш, сибирский, побил, его казну разграбил и смеётся, а этот приехал к нам, поклонился своим царствишком и просит защиты от того недоброго царевича. Каждый день ходит в приказ, но дело стоит на месте. А ты ему пособи, и он тебе про Золотую Бабу всё расскажет. – Чего же он в приказе не расскажет? – насмешливо спросил Маркел. – Ему там пособили бы ещё быстрей меня. – Он им не хочет говорить, – ответилФилька. – Сказал, про это говорить нельзя, это великий грех. Поэтому он про неё и в приказе молчит, и на подворье, где остановился, тоже. – А почему он тогда мне расскажет? – А ты ловкий. Кого ни возьмёшь в расспрос, тот обязательно всё без утайки выложит. И так и тут бы попытаться. Этот царевич, мне сказали, он много не просит, он смирный. Но такой чудной! Водки совсем не пьёт, а только жуёт мухоморы, он их с собой привёз, сушёных, вот такой мешочек. И ходит в приказ… Маркел насмешливо сказал: – Мало ли кто чего в кабаке расскажет! Уж такое это место разговорное. – Вот и я тогда наутро так подумал, – сказал Филька. – И не вспоминал почти неделю. А вчера вдруг слышу, что тебя опять в Сибирь отправляют, да ещё и искать эту Бабу, и сразу подумал: надо пособить! И опять пошёл в кабак и стал там спрашивать, помнят ли они, с кем я в прошлый четверг бражничал. А они говорят: «Нет, не помним, сколько здесь народу каждый день толчётся, аж в глазах рябит, а тут ещё подай тебе прошлый четверг!» А я говорю тогда: «А дам алтын!» Филька замолчал и посмотрел на Маркела. Маркел сердито засопел, полез в кошель и выдал Фильке алтын. Филька радостно заулыбался и продолжил: – И они сразу сказали, что это был Чурила Гребень, строгановский челядин со Строгановского же старого подворья, что на Покровке в Барашах. – О! – с почтением сказал Маркел. – Строгановы! Крепкое семейство. – И вхожее в Сибирь, – тут же прибавил Филька. – Что им царевича принять? Раз плюнуть. Ну, я и пошёл к ним. Вчера ночью. И дал там уже пятак! – Н-у-у! – на растяжку повторил Маркел. – Пятак! Жирно будет! – Ну и не дал я им пятак, – тут же согласился Филька. – А развернулся, и ушёл. И ничего не выведал! Маркел вздохнул, дал пятак. Филька его забрал, продолжил: – И вот я пришёл туда. Поговорил кое с какими людишками. И вот что оно оказалось: да, в самом деле, говорят, живёт у них давно, уже скоро год, сибирский царевич Агайка. Его другой их царевич, Игичка, у них там в Сибири разбил в пух и прах, и разорил, и теперь этот Агайка прибежал в Москву, поклонился своим царствишком и на Игичку жалуется, просит у нас защиты, каждый день ходит в приказ, а после вернётся, сядет и молчит. Ничего не говорит! Ни про своё царствишко сибирское, ни про Золотую Бабу, ни про что! А ведь по глазам видно, что всё знает! Но молчит. А вот ты бы к нему подкатился, про то про сё поговорил, про Сибирь бы чего вспомнил… А? Маркел задумался, в голове вертелось много чего всякого, потом спросил: – А где сейчас Строгановы? – А это Максимово подворье, – сказал Филька. – Другим Строгановым туда хода нет. А сам Максим уехал в Нижний, а после дальше поедет, в Казань. Так что у него там, на его подворье, сейчас всем заправляет Василий Никитов сын Шпоня, дворский. – Ладно, – сказал Маркел. – Тогда чего стоим? Айда! – Куда? – насторожился Филька. – Как куда? К Василию Никитову, куда ещё! – Э… – начал было Филька. Маркел сдвинул брови. Филька поправил шапку, и они пошли. Маркел шёл и думал, что зря он в это ввязался, мало ли что могут спьяну брякнуть… Но не останавливался, шёл. И у Фильки ничего не спрашивал. Также и Филька ничего не говорил, а только время от времени громко повздыхивал.Глава 4
До старого строгановского подворья оказалось не близко – они прошли весь Белый город, вошли в Земляной, а всё равно идти оставалось ещё порядочно. Маркел посматривал по сторонам и вспоминал, слыхал ли он что-нибудь про Агайку, но ничего не вспоминалось, а только крутилось где-то близко в голове, и всё. Вот так! Маркел злился, шагал широко, Филька едва поспевал за ним. Но вот они вошли наконец в Бараши, и там, наискосок от махонькой церквушки Введения Пресвятой Богородицы, показалось это самое подворье. Тын вокруг него возвышался толстый, здоровенный, также и ворота были дорогущие, обшитые медным листом. Маркел подошёл к ним и постучал в молоточек. Открылся глазок, оттуда строго зыркнули и также строго спросили, кто это такой явился. Маркел показал овчинку и назвал себя, а после, для верности, ещё прибавил, что он по Посольского приказа делу, открывайте. С той стороны ещё строже ответили, что хозяина нет дома, и потому не откроют. – Вы что здесь, совсем очумели?! – сердито воскликнул Маркел. – А вот сейчас кликну земских стрельцов, они живо вам ворота высадят! А после Максим Яковлевич вернётся и вам ещё кнутов пропишет! За калиткой засопели и сказали, что сейчас придёт дворский, Василий Никитич. – Ладно, – сказал Маркел, – дворский так дворский, а пока откройте. И открыли. Но пропустили только Маркела, а Филька остался за воротами. Да он дальше и не лез. Пока Маркел входил во двор и озирался, а двор того стоил, подошёл строгановский дворский, Васька Шпоня, человек в годах, опасливый, и также опасливо спросил, что приключилось. – Пока что ничего, – строго ответил Маркел. – Я здесь по посольскому делу, мне нужен царевич Агайка, или как он у вас правильно зовётся. – Правильней он князь Агай Кондинский, – сказал Шпоня. И тут же спросил: – А что он натворил? – Дела за ним пока что никакого нет, – ответил Маркел. – Пока что его нужно просто расспросить про всякое, а там уже будет видно. – Эх! – в сердцах сказал Шпоня. – Я так и думал, что с этим мухоморщиком добра не будет. И развернулся, и повёл к крыльцу. На крыльце стояли сторожа. Шпоня махнул им рукой, они расступились и открыли распашные двери. Шпоня и Маркел вошли. Там уже даже в сенях горели свечи, а дальше было вообще светло как во дворе. Шпоня и Маркел поднялись на второй этаж, после на третий, там свернули, прошли ещё немного, Шпоня открыл дверь и пригласил входить. Маркел вошёл, закрыл за собой дверь и осмотрелся. Горница была почти пустая, только при одной её стене, на лавке, сидел невысокий щуплый человек и смотрел напротив, на огонь, горящий в маленькой печурке. А человек был вот какой: широколицый, курносый, стриженный в скобку, одетый как простой посадский. Маркел кланяться ему не стал, а только назвал себя, сказал, что он по делу из Разбойного приказа (тут он показал овчинку) и спросил: – А ты Агай, князь Кондинский? Агай, а это он и был, утвердительно кивнул. Потом улыбнулся. Но ни словечка не сказал! Тогда Маркел продолжил: – Я завтра еду в Сибирь. По государеву делу. Могу, если надо, передать, кому скажешь, поклоны. Агай опять улыбнулся, а после отвернулся к печке и снова стал смотреть на огонь. – А могу не передать! – уже сердито продолжил Маркел. – Станут у меня про тебя спрашивать, а я скажу, что не слыхал о таком, скажу, не приезжал такой в Москву. И тебя там похоронят! Но Агай и ухом не повёл. Маркел ещё подумал и сказал уже такое: – Могу про тебя Аблегириму передать, князю Пелымскому. И сразу понял: зацепило! Агай при этом имени в лице переменился… Но как ни в чём не бывало повернулся к Маркелу и равнодушным голосом спросил: – А ты его разве знаешь? – Знаю! – сказал Маркел. – Он вот такой здоровенный, на голове, на лбу, ремень узорчатый, на груди пансырь вот тут и вот тут золочёный, на поясе – кожи с чужих голов, с десяток. А городок у него на горе, там вокруг тын из вот таких брёвен толстенных, а за тыном хоромы. Маркел замолчал, посмотрел на Агая. Тот думал снова притвориться, что ему и это всё равно, но не удержался и спросил: – И ты что, там был, у него в хоромах? – Был! – уверенно сказал Маркел, и даже ещё рукой махнул для верности. – И на кошме рядом сидел, и вашу грибную водку пил. Агай усмехнулся, спросил: – И что было дальше? – Как что? – удивился Маркел. – Опьянел я, конечно, с непривычки и заснул. Проснулся далеко, в лесу, возле священной берёзы. И там Аблегирим хотел меня зарезать, но я увернулся. – А дальше? – сразу же спросил Агай. – А дальше я отрезвел, – сказал Маркел. – А ещё дальше я совсем проснулся, уже снова в хоромах. Там мы ещё немного попировали, а после мне дали лодку, и я поплыл куда мне было надо. – Побожись! – сказал Агай. Маркел перекрестился. Агай внимательно посмотрел на него, ещё немного подумал, а после спросил: – Так это не ты ли на Ермаковой могиле татарского шамана саблей бил? – Бил, да! И убил! – сказал Маркел. – Нет, не убил, – с улыбкой возразил Агай. – Ты убежал тогда, а он поднялся и велел, чтобы за тобой не гнались. Ты, он сказал, сам к своей смерти прибежишь. Тебя, он сказал, убьёт Золотая Баба. Услышав такое, Маркел онемел. У него язык к нёбу прилип! Но он всё же сдюжил, сглотнул ком и воскликнул: – Брешешь ты! Ничего он тогда не сказал бы! Я же убил его! Я… И дальше не смог говорить, замолчал. Агай усмехнулся и спросил: – А про Золотую Бабу тоже брехня? Ты разве не к ней сейчас собрался? К ней! И вот она теперь тебя убьёт! Маркел аж зубами заскрипел от злости, кинулся вперёд, к Агаю, схватил его за плечи, колотнул как грушу и спросил: – Кто тебе сказал об этом?! Откуда ты это знаешь, куда меня послали?! – А это всё вон оттуда, – ответил Агай и указал на печурку, в которой плясал огонь. Маркел отпустил Агая, обернулся на печурку, ничего такого особенного не увидел и сказал уже почти уверенно: – Брехня! Навьи чары! – И перекрестился, и уже почти спокойным голосом спросил: – Кто она такая, чтоб меня убить?! – Ей скоро тысячу лет, – сказал Агай, – а она молодая на вид. Она вся огнём горит, она из золота. Она тоже вот так сидит перед огнём, люди носят ей ясак и спрашивают, как им быть, а она им отвечает. И как она им скажет, так они и делают, потому что эта Баба им как князь или даже как вам бог. – Но-но! – строго сказал Маркел. – Бога не смей поминать, нехристь! А лучше сразу прямо говори, где ваша Баба прячется. – Мне про это говорить нельзя, – сказал Агай. – Тогда я велю тебя пытать, – сказал Маркел. – Тебя на дыбе уже поднимали или ещё нет? – Уже поднимали, – ответил Агай. – А на спицы тебя ставили? Агай усмехнулся и ответил: – Ещё нет. Но, думаю, я и на спицах тебе ничего не скажу. – Почему? – А зачем мне говорить? Что вы ещё у меня отнимете? Отнимать у меня уже нечего. Княжество у меня было, семь городков. Спалили! Войско у меня было, сто отыров и семь сотен ляков, всех побили. Жёнка у меня была, убили. Брат Косялим у меня был, убили. И сына Азыпку убили. А дочку нет, дочку чужим отдали, теперь она у князя Игичея в девках, он даже замуж брать её не стал, так просто тешится. Один я остался, и Максим Строган меня не слушает, смеётся надо мной. Зачем мне такая жизнь? Вели сразу казнить! Маркел задумался. Агай смотрел на огонь. Маркел утёр губы, сказал: – Ладно. Не хочешь ничего про Бабу говорить, не надо. Я её сам найду, закую в железа, сюда привезу и тебе покажу. Агай тихо засмеялся, а после опять стал серьёзным, сказал: – Я тебя предупредил. После на меня не сетуй! Но Маркел только махнул рукой, развернулся и вышел. После спустился вниз, там Шпоня у него спросил, всё ли у Агайки по добру. Маркел на это промолчал, а только утвердительно кивнул и пошёл к воротам. За воротами его ждал Филька. Маркел был зол как чёрт, Филька это сразу почуял и не стал ничего спрашивать. Так они всю обратную дорогу прошли молча, Маркел поскрипывал зубами, думал, что лучше бы он не ходил туда. Хотя, тут же утешливо подумалось, почему он должен верить, что этот шаман тогда остался жив и такую гадость ему нашаманил?! Он же шамана саблей разрубил, он это своими глазами видел. Р-раз – и пополам его! Вот как оно было. А теперь Агайка-пёс хочет его запутать, запугать, но мы-то знаем, что всё это ложь. Вот только откуда, думалось, Агайка мог узнать, куда и зачем Маркела посылают? И эта мысль не давала покоя, Маркел шёл скорым шагом и помалкивал, Филька опять чуть поспевал за ним.Глава 5
Как только Маркел вернулся домой (а Филька остался во дворе), Параска сразу вышла из-за занавески и спросила, как сходилось. – Сходилось хорошо, – сказал Маркел. – Допросил я этого Агая, поставил к кресту. – Так он же некрещёный! – удивилась Параска. – Перед Богом все равны, – строго сказал Маркел. – И он крест целовал и не кривил, поведал всё, что знал. Сказал, что Золотая Баба – это никакая не царица и даже не обычная живая баба, а деревянный чурбан золочёный, идолица, и никакой в ней силы нет, а есть одно только людское смущение. Тёмный вогульский народ к ней ходит, подносит ясак и перед ней его сжигает на костре, и всё. – Так, может, зачем туда ехать? – спросила Параска. – Сходи и скажи боярину: так, мол, и так… – И замолчала. А Маркел сказал: – Га! Если бы всё было так просто! Но Агайкины слова к делу не пришьёшь. Да и некрещёный он, ему крест поцеловать – раз плю… Ну, сама понимаешь. Так что надо всё же съездить, посмотреть, забрать эту идолицу, привезти её сюда, и пусть бояре решают, что с ней делать. Параска, насупившись, молчала. Маркел вздохнул и сказал: – Мне завтра ехать. Надо уже собираться. А пока перекусить хотя бы, и там видно будет. И он сел к столу. Параска постучала в стену, пришла Нюська, стала подавать Маркелу. Маркел ел, запивал. А Параска отошла в угол, к иконам, встала на колени и немного помолилась. Потом, из-за икон же, достала бархатный узелок, развязала его и отсчитала денег, сколько надо. К тому времени Маркел уже поел, Нюська оделась, Параска кликнула её с собой, и они обе ушли, сказали, что в ряды на площади. А Маркел, оставшись в горнице один, первым делом сразу подошёл к иконам, поклонился святому Николе и попросил не гневаться за то, что ему пришлось Параске покривить. Ведь же он кривил не потому, что с умыслом, а чтобы Параска не полошилась. Она же непраздная, под сердцем носит. А Маркелу что? Надо будет, он за этот грех всегда готов кару принять. И, уже вслух, прибавил: – Хоть сейчас! Никола, как Маркелу показалось, усмехнулся. Маркел опустился на колени и положил земной поклон. Никола опять усмехнулся. Маркел перекрестился, встал и, уже не глядя на икону, начал ходить туда-сюда по горнице, вспоминать Агайкины слова и гневаться. А после смирил свой гнев и начал думать, что мало ли что люди могут накривить, особенно нехристи, нельзя нехристям верить, речи нехристей – одно смущение… Тут вдруг постучали в дверь. Маркел остановился и велел входить. Вошёл Котька, их подьячий, и сказал, что князь Семён срочно зовёт к себе. Услыхав такое, Маркел только головой мотнул, ещё раз глянул на Николу, перекрестился и пошёл. Шёл, думал: это всё Агайка напустил!Глава 6
И не ошибся. Но вначале было так: когда Маркел вошёл в приказ, в князя Семёнову палату, князь был очень гневен на вид. Маркел поспешно снял шапку и поклонился великим обычаем. – Что, пёс, почуял?! – сердито спросил князь Семён. – Винюсь! – только и сказал Маркел. – Пёс! Пёс! – ещё раз, уже очень гневно, повторил князь Семён. И только после этого спросил: – Зачем к Петьке ходил?! – К какому Петьке? – не понял Маркел. – Как к какому? Да к царевичу Сибирскому! – Так он Агай. – Нет, Петька! Строганов его крестил, пса этого, а он так псом и остался! – А он говорил… – начал было Маркел. – Га! Говорил! – передразнил князь Семён. – Мало ли что он мог наплести! Зачем ты к нему ходил? Кто просил?! – Да я только хотел узнать… – Хочешь узнать, приди ко мне, и я тебе всё расскажу! – перебил Маркела князь Семён. – А этот Агай, какая ему вера?! В прошлом году заворовал, вышел и ходил туда-сюда и грабил всех подряд. Мы на него войско выслали и чуть поймали. Да и не поймали бы, когда бы не другой князь, Игичей, не пособил. А так пособил, и мы Агайку усмирили, привезли сюда, и посадили за приставы. И тут вдруг ты пришёл! А вот не совался бы туда, куда не надо! – Так что, – спросил Маркел, – всё, о чём он говорил, брехня? – А о чём он говорил? – насторожился князь Семён. – Ну, о всяком, – ответил Маркел. – Говорил, что у него войско побили, городки его сожгли, брата его убили, сына. – На то и война, чтоб убивать, – строго сказал князь Семён. – А что ещё он говорил? – Дочку его отдали Игичею. На потеху. – Дочку! – сердито сказал князь Семён. – А что, нам было их сюда везти, венчать? Маркел молчал. – Что ещё? – спросил князь Семён. – Про Золотую Бабу ты у него спрашивал? Маркел нехотя ответил: – Спрашивал. – И что? – Он смеялся, говорил, что мне её не взять. Что мне на роду написано быть от неё убитым. – Гм! – только и сказал, подумав, князь Семён. Потом усмехнулся и прибавил: – Подлец какой! Ишь что придумал пёс! Ну да ты его не слушай. Это он со зла так набрехал. А от брехни, знаешь, какое средство наипервое? Приди и скажи Параске, чтобы дала святой воды испить. После «Отче наш» семь раз прочти – и как рукой снимет. У вас дома святая вода есть? Маркел кивнул, что есть. – Вот и славно, – сказал князь Семён. – Ну а теперь что скажешь? Маркел подумал и сказал: – Всё равно я один не справлюсь. Дай мне людей, боярин, хоть с полсотни. – С полсотни людей, что придумал! – сердито сказал князь Семён. – Нет, не дам. Людей возьмёшь в дороге. В Берёзове возьмёшь. Сейчас там на воеводстве Васька Волынский сидит. Вот ему от меня грамота, держи. И князь подал Маркелу запечатанную рульку с тремя вислыми печатями. Маркел взял рульку, князь стал объяснять: – Здесь ему всё сказано: и чтобы дал тебе людей, и чтобы пособлял чем мог, и чтобы не чинил препон. А чтобы и другие не препонили, вот, на ещё! И подал красную овчинку – крашеный вершковый кругляшок, и там на одной стороне красный крашеный овчинный мех, а на другой, тоже красной, выжженный орёл двуглавый. У Маркела аж лоб загорелся. – Ладно, ладно, – сказал князь Семён уже совсем негневным голосом. – Ступай. Завтра с утра получишь сани, подорожную. Она будет до Берёзова. Ибо сразу к Лугую не суйся, а сперва заезжай к Ваське и бери людей, а уже только потом езжай к Лугую. И будь с ним настороже, ненадёжный он человек. Да и все они там ненадёжные, особенно крещёные. Не верю я тем, кто быстро веру меняет. Так и твоему Агаю-Петьке я не верю. А теперь ступай домой, собирайся, пей святую воду, и чтобы завтра с утра выехал! Маркел поклонился, развернулся и вышел. Шёл и думал: Агай! Или Петька? Или всё-таки Агай? Да кто их разберёт!Глава 7
Когда Маркел пришёл домой, Параска с Нюськой были уже там. На сундуке возле стола лежали узлы с обновками. – Показывай! – велел Маркел. Параска с Нюськой начали развязывать и подавать, Маркел на себя прикидывал. Вещицы там были такие: шуба медвежья, красный верх, почти как у Ермака, подумалось, высокая бобровая шапка, валенки, чёртовой шкурой подшитые, рукавицы на пуху, две пары нательного белья с начёсом и образок святой Прасковьи. – А это для чего? – спросил Маркел. – Чтобы не забывал, – ответила Параска. – Да я и так… – Хуже не будет! Маркел не стал спорить. Параска надела на Маркела образок, поправила… И, не сдержавшись, быстро-быстро заморгала. – Ну-ну! – утешливо сказал Маркел. – Чего ты это вдруг. – Так, ничего, – ответила Параска, отвернувшись. А Нюська со злостью сказала: – Мы когда шли обратно, встретили Демьяниху. А у неё глаз сам знаешь какой. – Ведьма она! – прошептала Параска. – Хуже той вашей Бабы! – Брехня это! – громко сказал Маркел. – Нашла от чего полошиться. Ты лучше вот про что послушай. Меня князь Семён вызывал, выдал красную овчинку, а это двойные прогоны, двойные харчи, а вернусь – двойная выдача! – А если не вернёшься, тогда что? – спросила Параска. – С чего это я вдруг не вернусь? – удивился Маркел. – Тебя, что ли, на Золотую Бабу сменяю? Так она болван болваном, тощая, а ты вон какая… И осёкся. Повернулся к Нюське и спросил: – А пирогов принесли? – Принесли, – недобрым голосом сказала Нюська. – Мечи на стол! – велел Маркел. – И сходи вниз, принеси чего-нибудь копчёного. Мне завтра в путь, а мы сидим как на поминках. Ну! Параска, утерев глаза, сказала, чтобы Нюська, сойдя вниз, взяла там ещё соленья и грибов. Маркел достал из сундука две бутли – одну сладкого, другую крепкого. Сели за стол, стали выпивать, закусывать, Маркел начал говорить про то, как он вернётся из Сибири и они купят себе дом, недалеко, сразу за Красной площадью, Котька показывал его и говорил, что недорого просят… Ну и так далее. Параска с Нюськой слушали, кивали. После Маркел опять слазал в сундук, достал колоду карт, и они стали играть в трёх царей, на щелбаны, и веселились, вскоре у Маркел лоб опух, но всё равно было смешно. Потом на Фроловских пробило ночь, Нюська встала и ушла к себе. Маркел с Параской легли. Но только Маркел задул свет, как Параска вдруг спросила, правда ли, что сибирский царевич наговорил всякого недоброго. – Брехня это! – уверенным голосом ответил Маркел. – Да и не пристало его слушать. – Почему вдруг не пристало? – спросил Параска. – Потому что князь Семён сказал… Потому что… Спи, вот что! Завтра скажу! Параска затаилась. И Маркел молчал. Было темным-темно и тихо. Маркел водил головой по сторонам и думал, что надо было Агайку за его поганые слова поучить как следует, зря он ему их спустил. А теперь что? Теперь лежи, не спи и думай. Вот Маркел и думал. Долго думал! Параска давно уже заснула, а он всё ворочался. Потом не выдержал и растолкал Параску. Та перепугалась и спросила, что случилось. – Ничего, – сказал Маркел. – Просто приснилась дрянь какая-то, а князь Семён говорил, что если снится дрянь, надо святой воды испить. А у нас она есть? Параска, ничего не отвечая, поднялась, поискала в поставце, нашла, подала Маркелу чашку, он выпил. Параска легла, и было слышно, что она не спит. Маркел семь раз прочёл «Отче наш», полежал ещё, ещё прочёл… И снова растолкал Параску. Та спросила: – Что ещё? – Ничего опять, – сказал Маркел. – Только у нас здесь под лежанкой, под третьей от стены доской, если её поднять, лежит кубышка. В ней деньжата. Это Нюське на приданое, и тебе ещё останется лет на пять. Параска, Маркел слышал, громко задышала, а потом едва слышно спросила: – Что случилось? Прямо отвечай! – Да ничего не случилось, – ответил Маркел даже как будто с раздражением. – Просто сказал на всякий случай. Вдруг задержусь или вдруг что… И замолчал, прислушался. Параска засопела, а потом заплакала. Маркел её обнял, она унялась. Или, может, просто затаилась. Но Маркелу всё равно стало спокойнее, он лёг на спину, начал подрёмывать. Но тут Параска вдруг громко спросила: – Что тебе сказал сибирец? Отвечай! – Да ничего, – сказал Маркел. – Сказал, что робеть не надо, сказал, что эта Баба – деревянная, и никакой беды от неё быть не может, приходи, говорил, и бери, у неё там полно запасов, дурной народ их к ней уже, может, триста лет носит и наносил семь пещер, теперь только бери и нагребай на подводы. И…Глава 8
Что ещё он ей тогда рассказывал, Маркел не помнил, потому что заснул. И крепко спал всю ночь. А вот спала ли Параска, он не знал. Он только, когда утром проснулся, увидел, что она не спит, а сидит рядом и смотрит на него. И под глазами у неё черно. Маркел встал, сказал, что время уже позднее, сейчас за ним приедут, вышел из-за загородки… И у него опять в боку схватило! Будто кто снова воткнул нож по самую рукоять! Но Маркел стерпел и виду не подал, переоделся во всё новое, вчера Параской купленное, ходил туда-сюда по горнице бодрый, весёлый и указывал, куда что сложить и каким боком. Пришёл Котька, принёс подорожную. Маркел развернул её и начал про себя читать: «По Государеву Царёву и Великого Князя указу по дороге от Москвы через Ярославль, Вологду, Тотьму, Устюг Великий, Яренск, Вымь, Берёзов и далее, куда будет указано… Ага, ага… Дано по ямам ямщикам, а где ямов нет… не издержав ни часу… всегда две подводы, да проводника, в оглобли, а где велит, ратных людей для бережения в нужном числе». Вот как! Маркел широко заулыбался и подумал: сдержал слово князь Семён, дал стрельцов! Ну, не совсем дал, конечно, знаем мы этих воевод, но всё-таки… – Стрельцов дают! Сколько хочу! – сказал Маркел Параске, потрясая подорожной. – Слышишь?! Параска только тяжело вздохнула. Маркел глянул на Котьку, подмигнул ему, мол, что в нашем деле бабы понимают, и снова принялся читать, теперь уже про то, чтобы его кормили вдосталь, и каждый день ему всегда была куря да две части говядины, да две части свинины, да соли, да крупы, и сметаны, и масла, да два калача полуденежных, и ещё всего другого прочего столько, сколько его чрево примет. Ну да это всегда так бывало, а вот ратных людей Маркелу ещё ни разу в подорожную не вписывали. А теперь какая была радость! Хотя, с другой стороны, что это значит? Что, может, Агайка прав, Маркелу одному не сдюжить, и князь Семён тоже это чует и даёт стрельцов, да только разве от судьбы кто уходил? Да… Тьфу! Маркел свернул подорожную в рульку. Параска велела садиться. Они сели. И с ними сел Котька. Маркел спросил, где Филька. – Нечего ему здесь делать! – со злостью сказала Параска. – Это он тебя к Агайке свёл, а Агайка набрехал тебе чего ни попадя. А вот когда бы не Филька… Маркел не сдержался и хлопнул ладонью по столу. Параска опомнилась и замолчала. Но Фильку так и не позвали, а дружно выпили по маленькой, закусили пирогом, после вышли из-за стола (а за окном уже кони затопали), Параска сняла с полки Николу и благословила им Маркела. А после Котька дал кошель, сказал, что князь Семён жалует его без счёта. Маркел, принимая кошель, поклонился, подмигнул Параске, улыбнулся Нюське. Котька, здоровый бык, поднял узлы – и они всем скопом вышли на крыльцо. Во дворе было полно народу. Проводник с санями стоял при ступеньках. Кони были гладкие, холёные, проводник сердитый. Маркел, идя к саням, сунул ему пятиалтынный. Проводник немного подобрел. Маркел сел в сани, Котька насовал сбоку узлов, Параска кинулась обнять и заревела. Маркел громко сказал: – Вернусь! Чего кричишь?! – Но где-то у него внутри всё ёкнуло, и он гневно вскричал: – Гони! Проводник огрел коней. Кони взяли бойкой рысью. Снег полетел из-под копыт прямо в глаза. В боку опять стало резать. Маркел сидел, терпел. Но как только выехали из Никольских ворот, Маркел сразу полез в верхний узел, достал баклажку, выпил, после ещё выпил – и мало-помалу полегчало. Вот и славно, подумал Маркел, утирая губы и усы.Глава 9
Так он и дальше ехал – чуть только начинало прихватывать, сразу брал баклажку и лечился. Также и со всем остальным никаких особых хлопот не было. Погоды стояли тихие, небо ясное, морозец слабый, снежок скользкий. Проводники попадались толковые, не вороватые и не ленивые, на ямских дворах кормили сытно и, как говорится, от пуза. И вот таким образом, по тридцать – сорок вёрст за день, а то и побольше, Маркел за неделю доехал, через Ростов и Ярославль, до Вологды. Ну а дальше стало холодать да холодать, так что до Великого Устюга Маркел добрался в самые морозы, а если точно, то пятнадцатого декабря, на день преподобного Трифона Кольского. Ух, они и ехали тогда! Особенно в последний день, когда за ними волки увязались. Ну да святой Трифон вынес – прямо на берег Сухоны, а там на перевоз, а дальше они уже своими силами, по льду, доскакали до проездной башни. А потом, как и везде до этого, Маркел в кремль к воеводе заезжать не стал, а остановился скромно, на ямском дворе, в церковь зашёл, поставил свечку, после сходил в баньку и попарился, плотно поел и лёг спать. Спал – ничего ему не снилось, потому что на душе было легко. А утром ему подали новых лошадей с новым же проводником, Маркел сел в сани, махнул рукой, и они выехали через так называемые Кабацкие ворота, миновали Пёсью слободу и поехали по Яренской дороге на Яренск. Так начались уже совсем незнакомые Маркелу места, потому что в прошлый раз, когда он впервые ехал в Сибирь, то от Пёсьей слободы сворачивал на юг, на Ляльск и дальше на Чердынь, а теперь дорога шла почти прямо на север, на Коряжму, и только уже после на Яренск, и была она почти совсем нетоптаная, деревья по обочинам стояли высоченные, ну а глушь вокруг была такая, что даже волков не стало слышно. А тут ещё окрепли морозы, и то и дело вьюжило, темнело рано, рассветало поздно, на ямских дворах кормили худо, только чарки наливали щедро. Но Маркел пил в меру, не куражился, и так, мало-помалу, ещё за неделю, он добрался до Яренска. Было это уже в строгий пост, двадцать второго декабря, на великомученицу Анастасию Узорешительницу. Солнце висело низко, не было ни ветерка, ни облачка, мороз хватал просто лютый, а дорога всё тянулась и тянулась. Да и какая там была дорога?! Так, просто просека в лесу, и они по ней чуть ехали, нет, даже правильней сказать, тянулись, кони выбились из сил… И тут вдруг, за поворотом, сани выехали из лесу, Маркел увидел впереди, посреди бескрайнего снежного поля серый деревянный тын, за ним крыши посада, а за посадом, на холме, стояли ещё одни стены, уже крепостные. К городу, к низким посадским воротам, вела едва заметная, занесённая снегом дорога. Над посадом кое-где курились дымы. Вот таким был тогда Яренск. Эх, глухомань, думал Маркел, сюда даже воевод не назначают, а только государевых наместников, и сейчас там сидит князь Батищев, он, как сказали в Устюге, судит по чести и берёт по совести. А гостей он принимал очень радушно! Как только маркеловы сани подъехали к посадским воротам, те сразу открылись. А когда Маркел, миновав посад, подъехал к тамошнему кремлю, правильней, конечно, к городищу, то и там ворота тоже сразу же открылись. За ними толпились с десяток стрельцов, а перед стрельцами стоял, важно подбоченившись, сам князь Батищев Гаврила Иванович. Было ему лет под сорок, не больше. Маркел достал подорожную и начал было называть себя, но Батищев только отмахнулся и бодрым голосом заговорил: – Что, голубь московский, продрог? Ну да это не беда. Вы же пока плелись от леса, мои людишки стол накрыли. И показал идти за ним. Идти оказалось совсем близко. Уже за первой, за губной избой, стояла ещё одна, высокая и широченная. Это и были здешние наместничьи хоромы. Из трубы на крыше валил дым. Маркел невольно принюхался. Батищев засмеялся и сказал, что никто ещё из этого дома не выходил голодным или трезвым. В нижних сенях у них приняли шубы. В верхних Маркел снял шапку и опять принюхался. Дух из трапезной палаты шёл очень манящий. А когда они вошли туда, Маркел аж остановился на пороге. – Что, – радостно спросил Батищев, – не ожидал скоромного? Так я же это только для тебя, для государева гонца. А сам я пока пощусь. Ну, только если стопочку. – И усмехнулся. Они сели к столу. Челядь вышла. Батищев кивнул, и они выпили. Батищев опять кивнул, и Маркел, недолго думая, начал с горячего, с лосятины. После пошла вепрятина, дичина, птица всякая. И, раз от разу, стопочки. Батищев и в самом деле ничего не ел, а только пил и смотрел на Маркела. А тот никак не мог насытиться. Только уже после четвёртой (или пятой) стопочки он утёр губы, надул щёки и сказал, что теперь можно не спешить. – Вот и славно, – закивал Батищев. – Теперь можно и за дело браться. И протянул к Маркелу руку. Маркел подал ему подорожную. Батищев взял её, начал читать… И удивился, повторил: – «В Берёзов»! – И сразу же спросил: – А это что? Как ты туда доедешь? – Ну, как ещё?! – сказал Маркел. – Как ехал сюда, так и туда доеду. – Э! – усмехаясь, продолжил Батищев. – В Берёзов ямской гоньбы нет. Гоньба только до Выми. – А дальше как? – спросил Маркел. – А никак! – сказал Батищев весело. – Дальше места новые, неведомые. Нас там раньше и в помине не было. Наша земля была только до Камня. А за Камнем нашей земли не было. А теперь вдруг поставили Берёзов. В прошлом году всего! Но гоньбу туда ещё не проложили. – Но люди как-то туда ходят же! – сказал Маркел. – Ходят, конечно, – ответил Батищев. – Вот пошли же и поставили Берёзов. Но ведь это сразу целым войском шли, а кто войско остановит? Вот так и ты, если тебе так надо, один туда лучше не суйся, туда надо собирать стрельцов. – Вот я и соберу, – сказал Маркел. – У меня здесь, – и он кивнул на подорожную, – так прямо и сказано брать ратных людей для бережения. И вот я у тебя и возьму. – А я не дам, – сказал Батищев. – Как это не дашь?! – А очень просто. Мне самому стрельцы нужны. У нас тут места непростые, народ вороватый. Не дам! И дальше, в Выми, тебе тоже не дадут. Да там просто нет стрельцов, одни монахи, монастырь там у них. И ещё у меня тоже есть грамота: стрельцов при себе держать и кому попало не раздаривать. – Ну так что мне тогда делать? – уже с раздражением спросил Маркел. – Не знаю, – с усмешкой ответил Батищев. – Сиди и жди оказии, когда кто-нибудь пойдёт в Берёзов. Или напиши в Москву, скажи, что так и так, Батищев не даёт стрельцов, велите ему дать. И если велят, дам. – Так сколько это времени пройдёт?! – А ты куда спешишь? – Да мне сам Щелкалов, государев думный дьяк, первый судья… – начал было говорить Маркел. – Знаю, знаю! – перебил его Батищев. – Ты едешь проверять Ваську Волынского, берёзовского воеводу. А написали на Ваську князьки! А что?! Он же там, за Камнем, как царёк, и он тамошних князьков одних хочет казнит, других хочет милует. – Тут Батищев замолчал, потом со значением продолжил: – Я слыхал, князёк Агай Кондинский, как только привезли его в Москву, сразу подал на Ваську челобитную. Так это? – Ну, может, и так, – сказал Маркел. – Но я же не по агаевскому, а я по лугуевскому делу еду. По его ясаку. – А! – весело сказал Батищев. – Лугуй вам ясак не выдал! И не выдаст, да! А что вы хотели? Забрали у него Берёзов, вот он и не выдал. А вот верните вы ему Берёзов – выдаст. Маркел удивился, спросил: – Почему вдруг отдавать ему Берёзов? – Не отдавать, а возвращать, – сказал Батищев. – Потому что это его город был. И у него на это грамота имеется. С царской печатью! Только в царёвой грамоте этот город именуется Сумт-Вош, а не Берёзов. Но в прошлом году пришёл туда воевода Волынский и побил Лугуя, отнял у него этот Сумт-Вош и сжёг его, а на его месте поставил наш, новый город, и назвал его Берёзов. Говорил, что это он так Лугуя учит. Ну и научил! Лугуй теперь совсем от рук отбился и, может, уже заворовал, собрал войско и пошёл на Берёзов отбирать его обратно. А что! – ещё веселей сказал Батищев. – Время для этого самое подходящее. Вогулы же всегда зимой воюют. Зимой им удобно воевать, зимой болота замерзают, да и зимой вогулам делать нечего, а тут вдруг война, добыча. Так что вот тебе ещё одна причина туда пока что не соваться – это чтобы на Лугуя не попасть. Маркел задумался, потом спросил: – Почему мне в Москве про это ничего не говорили? – Это надо в Москве спрашивать, – строго ответил Батищев. – А за что Волынский отобрал у Лугуя Сумт-Вош? – Значит, было за что, – ещё строже сказал Батищев. – Да и что я буду лезть в чужое дело? А вот как приедешь в Берёзов, так у самого Волынского и спросишь. Маркел опять задумался, потом сказал: – Вот оно как! – Помолчал, потом добавил: – А ещё мне в Москве говорили, что Лугуй отложился от нас и больше нам ясак давать не будет, а будет давать некоей особе, которую за Камнем именуют Золотая Баба. Это так? Батищев на такое только хмыкнул и сказал: – Ага! Они тебе расскажут! – А что, – опять спросил Маркел, – ты про Золотую Бабу не такое слышал? – Да я про неё чего только не слышал! – сердито ответил Батищев. – Только брехня это всё! Это вогулы себе цену набивают, а на самом деле никакой Золотой Бабы у них не было и нет. Откуда они золото возьмут?! Так что нечего тебе туда соваться, там только голову сложить. Этим в Москве чего? Сели, по шкалику выпили и говорят: а вот люди болтают, будто-де есть за Камнем забава такая – Золотая Баба, давайте дурака пошлём, пусть глянет, а вдруг правда! Маркел злобно скрипнул зубами. Батищев усмехнулся и сказал: – Ты это на память не бери, я это так, для смеху. А если всерьёз говорить, никакой там бабы нет, одно смущение. Кривит твой Лугуй, ему лишь бы только ясак не платить, вот и вся недолга. Садись, пиши письмо в Москву, проси прислать стрельцов. Ну что?! – Нет, – твёрдо сказал Маркел. – Мне дальше ехать надо. В Вымь. – И спросил: – А что у них там за монастырь? Откуда он вдруг взялся? – А! Гиблое там место эта Вымь! Край света! – сердито ответил Батищев. – Раньше там, от веку, стояло вогульское мольбище, а после пришли наши монахи, мольбище разворотили, поставили церковь, и вогулы сразу разбежались. Скукотища там теперь. Глушь несусветная, даже пуще чем у нас. Маркел промолчал. – Ну, я тебя предупредил! – сказал Батищев. – Как знаешь! И, начав вставать из-за стола, хлопнул в ладоши. Вошёл его дворский. Батищев велел устроить гостя. Дворский провёл Маркела наверх, где всё было уже приготовлено, Маркел лёг на лавку и задумался. Первым делом он вспомнил батищевские речи, а потом князе-семёновы слова, когда тот называл Лугуеву вотчину, и это были городки Куноват, Илчма, Ляпин, Мункос, Юил и, в самом деле, Сумт-Вош. Сумт, с вогульского наречия, это берёза и есть. Или вош – берёза? Или… А! Берёза, она и есть берёза! И ясаку, по словам князя Семёна, было на Лугуя положено семь сороков соболей, самых лучших, а это по сороку за каждый городок и один сорок за князя. Такое вполне может быть. Теперь дальше. А если таковой ясак был в посольские книги записан, то, значит, здесь всё по закону, и должна быть ещё и царёва жалованная грамота, в которой городок Сумт-Вош записан на Лугуя, вот и Батищев говорит, что у Лугуя была грамота! И тут вдруг приходит воевода и отнимает Сумт-Вош! Ну и Лугуй тогда, конечно… И так далее. Маркел лежал, ворочался, вспоминал батищевские слова про то, что он ничего не скажет, потому что это дело не его… Ну и ещё так далее. Ну и ещё другие его речи… И Маркел заснул. И спал беспокойно, но крепко.Глава 10
Утром, ещё затемно, Маркела разбудили, он перекусил и сразу сошёл во двор. Там его уже ждал проводник с санями. Маркел сел в сани, дворский подал ему узел с провизией, сказал, что это от боярина. Маркел велел ехать. Проводник ожёг коней, сани дёрнулись и легко покатились к воротам. Так после и весь день езда была быстрая, хоть и мороз стоял очень трескучий. Маркел даже опасался, как бы не загнать коней, но проводник на это отвечал, что тихо ехать будет ещё хуже, и погонял коней, и погонял, и ещё засветло довёз до яма. Ям оказался совсем плох, там было едва протоплено и никакой еды не заготовлено, потому что, как сказал Маркелу ямской староста, они не ждали никого, в эту пору там никто не ездит. Маркел только головой мотнул, но промолчал, и перекусил тем, что нашёл в батищевском узле. А потом, когда ложился спать, лёг прямо в шубе, и шапку тоже не снимал. А утром, хоть ему уже и подали горячего, ел, ничего не говоря, и не платил, и также ничего не говоря вышел во двор. Там, с новыми конями, стоял новый проводник. Маркел показал ему овчинку, строго велел не мешкать, и они поехали. Проводник стегал коней нещадно, мороз стоял ещё крепче вчерашнего, потом поднялся ветер, начало мести, стало ничего почти не видно. Маркел сидел тихо, крестился. Так они ехали довольно долго, а потом метель мало-помалу унялась, и впереди, немного сбоку, в поле, показалась Вымь. То есть там опять, как и в Яренске, стояли посадские стены, за ними посад, за посадом городище, а в городище купола церквей. Маркел перекрестился и подумал, что это добрый знак, если здесь так много куполов. Ну да знаков там, таких и этаких, тогда было достаточно. Так, когда подъехали к посадским воротам, Маркел с удивлением увидел, что в них, вместо стрельцов, стоят сторожа из местных. Глухомань какая, прости, Господи, мрачно подумал Маркел, Батищев правду говорил. А когда подъехали к городищенским воротам, то и там тоже не увидели стрельцов, а только чернецов в длинных до пят тулупах и в скуфейках. Маркел сошёл с саней, снял шапку и перекрестился. Его, вместе с санями, пропустили. Маркел вошёл в городище. Прямо перед ним стояла одна церковь, слева вторая, дальше третья. И там было ещё много всяких хозяйственных служб – монастырских, как понял Маркел. Один из проходивших мимо чернецов спросил, кого он ищет. Маркел сказал, что у него государево дело. Чернец указал на стоявшую сбоку избу. Маркел прошёл туда, поднялся на крыльцо и постучал. Дверь открыл низкорослый невзрачный подьячий без шапки. – Я из Москвы, – сказал Маркел. – Из Разбойного приказа! И показал овчинку. Подьячий сразу оробел и нетвёрдым голосом ответил: – А я Демьян Аристархов сын Гычев, здешний, вымский, губной староста. – А где твоё начальство?! – грозно спросил Маркел. – Моё начальство это я и есть, – ответил Гычев. – Других сюда не посылают. Один я здесь! Ну и ещё есть у меня помощник, это Санька, губной целовальник. Санька уже домой пошёл, а я задержался. Сверху начали побрякивать колокола. Маркел тяжко вздохнул и, повернувшись на ближайший храм, перекрестился. – У нас тут лепота, – продолжил Гычев. – А вон там, за часовней, раньше росла вогульская молельная берёза. Вот такущая! И показал, какая, и прибавил, что может отвести туда, дать посмотреть. – Это после, – ответил Маркел. – Я с дороги. Продрог очень. – И это у нас всегда есть! – радостно воскликнул Гычев. – Проходи! Маркел вошёл в избу. Гычев втащил его узел и бросил на лавку, а сам полез в печь, разгрёб угли, сказал: – Сейчас согреем. – И спросил: – Как тебя звать? Маркел назвал себя, а после, подумав, прибавил: – Петрович. – Это хорошо! – сказал Гычев, шуруя в печи. – Пётр есть камень, сиречь сила, а без силы нам никак. Сейчас каша подойдёт, а мы пока по маленькой. Он взял с полки кувшин и шкалики, поправил в лучине свет, налил, сказал: – Нынче сочельник. Завтра Господь родится. С Богом! Они выпили. После ещё выпили – за Богородицу. Маркелу стало хорошо. А тут и каша подоспела. Гычев нарезал сала. Ещё выпили. Маркел размяк и подобрел. Гычев почуял это и сразу спросил, по какому делу Маркел едет и куда. Маркел вместо ответа только усмехнулся. Тогда Гычев тоже усмехнулся и сказал, что это ему и так известно – Маркел приехал по лугуевский ясак. Маркелпосмотрел на Гычева, подумал и сказал: – Да, это верно. А как ты про то узнал? – А что у нас ещё могло случиться? – удивился Гычев. – У нас здесь ничего не случается. У нас порядок! Колокола звенят, службы служатся. Ну и ещё раз в год приезжают вогулы, привозят ясак, а тут их уже ждут ваши стрельцы. А в этом году вогулы не приехали, стрельцы их ждали, ждали, не дождались и уехали ни с чем. Пропал царёв ясак! Маркел задумался. Потом спросил: – А что это Лугуй вдруг захотел возить ясак не в наши сибирские городки, а это ему было бы намного ближе, а, через Камень, к вам сюда, в такую даль? На что Гычев усмехнулся и ответил: – Ну, может, это для кого и даль, конечно, но зато почётная. Потому что это же только для вас, московских, наши места – глушь несусветная, но мы-то знаем, что это не так. Эти места очень знаменитые! Тут же в былые времена росла самая в наших краях высокая молельная берёза. Вот такая в комле! К ней отовсюду вогулы сходились, носили ей всякое. И этих даров вокруг неё было навалено в три роста, может, даже выше. А потом пришли наши монахи и её срубили. Когда та берёза падала, вот где было грохоту! Вогулы напугались и крестились. И стали нашими. И также земля вокруг вся стала наша. А те вогулы, что не испугались и не стали нашими, ушли за Камень. Это очень давно было, может, двести лет тому назад, но вогулы, те и эти, наши и не наши, про эту берёзу крепко помнят. И также помнил и Лугуй. Он, когда к нам приезжал с ясаком, всегда ходил на то место. – И что? – спросил Маркел. – И ничего, – ответил Гычев. – Постоит, помолчит и уйдёт. А в этом году вдруг не приехал. Это значит, убили его. – Почему ты так думаешь? – спросил Маркел. – Потому что был бы жив, приехал бы, – уверенно ответил Гычев. – Как бы это он свою молельную берёзу не уважил? – Ну, может, нашёл другую, лучшую, – сказал Маркел. – Разве мало за Камнем молельных берёз? Или, может, он ещё кого нашёл, ещё молельнее. – Ащ! – насмешливо воскликнул Гычев. – Да ты себе хоть представляешь, что тут была за берёза? Да в ней сама Золотая Баба сидела! – Кто-кто?! – переспросил Маркел. – Золотая Баба, – повторил Гычев, но уже безо всякой охоты. – А это кто ещё такая? – Ну, я не знаю, – настороженно ответил Гычев. – Так, слышал всякое. Будто была когда-то у вогулов такая древняя вещунья, очень ловкая. Она здесь, в этой берёзе, сидела, и это от неё была в этой берёзе сила. Поэтому когда пришли наши монахи и стали её рубить, они три дня рубили, не могли срубить. И только на четвёртый день сообразили, стали Золотую Бабу святым словом оттуда выкуривать. И выкурили! И как только Золотая Баба оттуда выскочила, наши сразу срубили ту великую молельную берёзу, порубили ей на плашки и побросали в реку, а река те плашки в море унесла, и всё на этом. – А Золотая Баба куда подевалась? – спросил Маркел. – Болтают всякое, но наверняка никто не знает, – опять очень нехотя ответил Гычев. – Одни говорят, что её тогда берёзой придавило и она пропала, а другие говорят, что её ничем не взять и она сбежала тогда от нас дальше, за Камень, и там припеваючи живёт, тамошние некрещёные вогулы носят ей дары, а она их за это милует. – А носят они что? – спросил Маркел. – Да у кого что есть, – ответил Гычев. – А куда носят? Гычев не ответил. Потом опасливо сказал: – Нельзя об этом говорить. Она этого очень не любит. Услышит, сразу разозлится, когти выпустит, а когти у неё острющие, а… И тут он замолчал и осмотрелся. – Ладно, – сказал Маркел. – Не хочешь отвечать, не надо. Да ты, может, и в самом деле ничего не знаешь. Поэтому тогда я буду так: раз мне здесь ничего уже не вызнать, тогда я завтра поеду дальше, в Берёзов. Прикажи с утра подать коней. – Так это, – растерялся Гычев. – Как это подать? И куда ехать? От нас дальше ямской гоньбы нет. Да и как это я дам тебе коней в такой мороз? Ты же загубишь их. Тебе об этом в Яренске разве не говорили? – Ну, говорили, так и что?! – строго сказал Маркел. – А у меня государево дело! – И опять достал овчинку. – Видишь?! Она красная! Это значит, что как я сказал, так и будет! А иначе… Сам знаешь. Ну! – Надо подумать, – мрачно сказал Гычев. – Думай. Гычев напыжился, долго молчал, после сказал: – Да и зачем дальше ехать? Убили Лугуя. Не найдёшь ты его там. И также и ясака не найдёшь. А Золотой Бабы и подавно. Лучше поворачивай в Москву, скажи… – Молчать! – гневно перебил его Маркел. Гычев опять напыжился. – Ладно, – сказал Маркел уже не так гневно. – Вот ты говоришь, что через Камень хода нет. И также и Батищев мне в Яренске говорил. А как тогда Лугуй со своими вогулами сюда каждый год ездил?! – Ну так Лугуй совсем другое дело, – сказал Гычев. – Лугуй на собаках ездил, а его люди бежали на лыжах. Да и не зимой это всегда бывало, а ещё по осени, до Дмитриева дня, когда ещё мороз несильный и снег неглубокий. А сейчас бы и Лугуй не сдюжил, а только поморозил бы собак. Маркел задумался. И думал долго. А потом сказал: – Мне надо в Берёзов. Очень спешно. Меня государев думный дьяк послал! Так что только до утра у тебя времени. А пока что постели мне. Притомился я сегодня очень крепко. Гычев наклонился к лавке, расправил овчины. Маркел снял шубу, лёг, накрылся… И задумался. И долго думал, ох, как долго! Вспоминал всё, что ему сегодня сказал Гычев, и что три дня тому назад Батищев, и что ещё раньше Агай, и что Щелкалов, и что князь Семён, и даже что Параска с Нюськой… Но ничего не сходилось! Не о том всё время думалось, чуял Маркел. И также, когда он, наконец, заснул, сны были короткие и бестолковые, значит, во сне думал Маркел, дело ещё нескоро сложится. Ну да и ладно! Ну… И совсем заснул.Глава 11
Назавтра Маркел проснулся рано, ещё затемно. Но Гычев был уже в горнице, похаживал возле печи, из печи тянуло жаром. Маркел встал, оделся. Гычев начал накрывать на стол. – Где твой человек? – спросил Маркел. – Пошёл по делам, – ответил Гычев. – А как мои кони? – Вот он за этим и пошёл. А ты садись пока. Маркел сел к столу. Гычев выставил кувшин и шкалики, сказал: – Сегодня Христос родился. И тотчас за окном послышались колокола. Маркел и Гычев встали и перекрестились, взяли шкалики и выпили, а после сели, начали закусывать. Колокола продолжали звонить. Лепота, думал Маркел, как хорошо всё начинается, сейчас подадут коней, и он поедет, дни с каждым разом будут становиться длиннее, ночи короче, морозы ослабнут, он перевалит через Камень, а там уже и Берёзов рядом. А дальше, если Гычев не кривил, эта Золотая Баба совсем никакая не баба, а дряхлая старуха костлявая, чего костлявых бояться, костлявые всегда… И вдруг подумалось: а Смерть, она ведь тоже старуха костлявая, так, может, Агай прав: Золотая Баба – это смерть Маркелова! Подумав так, Маркел аж похолодел, начал смотреть по сторонам, прислушиваться… Но было уже совершенно тихо, колокола не звонили. Ну и что, подумал, успокаивая себя, Маркел, служба началась, вот колокола и замолчали. А какая служба нынче славная – Господь, наш Спаситель, родился! Маркел улыбнулся, посмотрел на Гычева. А тот достал из-за пазухи небольшой, засаленный комок бумаги и начал его разворачивать. Маркел спросил, что это. – Это я чертёж тебе составил, – сказал Гычев. – Куда и как тебе дальше ехать, кого где спрашивать. Он развернул чертёж и стал разглаживать его ладонью. Чертёж был как чертёж, там были какие-то корявые рисунки, стрелки, чёрточки, неразборчивые меленькие подписи, опять рисунки. Маркел насупился. Вдруг под окном раздался шум, как будто кто-то бегал по двору, громко дышал, повизгивал, а потом, также вдруг, опять стало тихо. Маркелу это очень не понравилось, он встал и спросил, что это значит. – А это Санька вернулся, – сказал Гычев. – Он у меня добычливый, всё что ни вели добудет. Пойдём глянем. Они накинули шубы, вышли на крыльцо… И там Маркел увидел двух вогулов, при них при каждом были свои сани, правильнее, небольшие санки, а в них впряжены собаки – по десятку в каждые, не меньше. – Это что?! – спросил недобрым голосом Маркел. – Это наши зимние проводники, – ответил Гычев. – Не первый год у нас служат. Крещёные. Довезут, куда велишь. Хоть до Москвы, хоть до Китая. Маркел вздохнул, стал смотреть на собак. Он, конечно, и раньше слыхал о таком, что в дальних землях ездят на собаках, но никогда не думал, что и ему такое тоже доведётся. – А что здесь худого? – сказал Гычев, глядя на сердитого Маркела. – Собака – чистая скотина, не свинья. Ничего здесь зазорного нет. И там дальше такие морозы, что только собаки выдерживают. Вот мы их зимой и седлаем, если кому-то очень нужно. Маркел продолжал молчать. Теперь он больше смотрел на проводников-вогулов, а потом спросил, хорошо ли они понимают по-нашему. – Немного понимают, да, – ответил Гычев. – Да и что тут понимать? Им велено довезти тебя до Берёзова, и они довезут, для них это знакомая дорога. И она короче санной. Собаки же проходят там, где лошадям не пройти. На три дня дорога получается короче. Вот здесь, глянь сюда. И Гычев опять развернул свой замусоленный чертёж, начал водить по нему пальцем и рассказывать, где, что и как у него там помечено. Маркел слушал и поскрипывал зубами. А Гычев говорил и говорил о всяких пустяках, тыкал в записи по краю чертежа и утверждал, что здесь всё подробно сказано, да и дорога здесь зимой только одна, и дальше, вверх на Камень, тоже только одна будет – там, где река замёрзшая, река называется Щугор, и вот по этой замёрзшей реке, по увороту, прямо к так называемому Щугорскому острожку выедешь. – Это здесь, – сказал Гычев и ткнул пальцем в середину чертежа. – А эти крестики – ваши привалы, их до Щугра шесть, Щугор – седьмой привал, и после тропа идёт вниз, на ту сторону Камня, и там ещё шесть дней, а на седьмой день ты уже в Берёзове у воеводы Волынского. Всё! Маркел взял чертёж, так и сяк повертел его, а после сказал, что он про Щугорский острожек раньше ничего не слышал. – Так его только в прошлом году срубили, – сказал Гычев. – Воевода повелел. А то, говорил, что это такое, дорога стоит открытая, кто хочет ходи туда-сюда, носи что хочешь, и казне убыток. Вот и поставили острожек. Маркел ещё раз осмотрел чертёж, а после спросил, кто сидит в острожке. – Тихон Волдырь, десятник со стрельцами, – сказал Гычев. – И запасы у них, запасов много. Им же до весны одним сидеть, а может всякое случиться. Маркел согласно кивнул. Тут к ним подошёл совсем ещё молодой подьячий. Гычев сказал, что это и есть его Санька, и, обернувшись, спросил у него, всё ли готово. Санька ответил, что всё, харчи уложены, и для собак тоже имеются, и даже есть ещё пудовый куль соли. – Это берёзовским гостинец, – сказал Гычев. – У нас тут, дальше по берегу, солеварен много, а у них и у самих нехватка, да и с сибирцами можно меняться. Вон тот мешок на вторых нарточках. Маркел посмотрел теперь уже на сани, или, как назвал их Гычев, нарточки. На них были уложены и для надёжности привязаны различные мешки, узлы и всякая прочая, наверное, нужная мелочь. Пора было ехать. Маркел ещё раз глянул на проводников, и, повернувшись дальше, посмотрел на церковь, потом, ещё дальше, на часовню… За которой, как он только сейчас заметил, стояла высоченная толстенная берёза с голыми ветками. Берёза была очень-очень старая, Маркел таких ни разу в жизни не видел. Да и как он мог такую видеть, если её двести лет тому назад срубили?! Ведь это же та самая берёза! Вон сколько у неё на ветках всякого навязано – и тряпочек, и ленточек! Бесовство всё это, прости, Господи! Подумав так, Маркел перекрестился. Но берёза не исчезла. Тогда Маркел опять перекрестился. Берёза дёрнулась. А Гычев, сзади, вновь заговорил: – Да, она вон там стояла, за часовней. А теперь там совсем ничего не растёт. Зимой, вот как сейчас, там везде снег и ничего не видно. А какая она здоровенная была! Спаси и сохрани! И Гычев широко перекрестился. Берёза снова дёрнулась и медленно, но теперь уже окончательно исчезла – как растаяла. Маркел утёр пот со лба, поправил шапку, пошёл к нарточкам. – На передние ложись! – громко, с крыльца, сказал Гычев. – На брюхо! Маркел лёг на брюхо. Гычев громко засвистал, собаки рванули вскачь, вогулы побежали рядом. Маркел лежал лицом вниз и с непривычки ничего почти не видел, а только слышал, как опять со всех сторон зазвонили колокола. Эх, подумал в досаде Маркел, как всё недобро сложилось – у всех людей Рождество, а он как чёрт на собаках поехал, да ещё мимо чёртовой берёзы!Глава 12
Так, брюхом на нартах, под собачий лай, Маркел выехал из города. И было это тогда вот как: впереди, на лыжах-ступанцах, бежал старший вогул, за ним ехал на нартах Маркел, а за Маркелом ехали вторые нарты со вторым вогулом. Он, как иногда на поворотах замечал Маркел, ехал не лёжа, а сидя. Маркел тоже попытался сесть, но почти сразу же не удержался и перевернулся вместе с нартами. Собаки перестали лаять и остановились. Вогулы подбежали к Маркелу и помогли ему подняться. При этом старший вогул покачал головой и сказал: – Крепко лежи! Насидишься ещё. Это он сказал по-русски. Маркел опять лёг на нарты и подумал, что это очень хорошо, что они знают по-нашему, он им тогда… Но тут собаки опять побежали, Маркел крепко вцепился в нарты и ни о чём другом уже не думал, а только как бы опять не свалиться. Так он проехал ещё версты две и мало-помалу приловчился, благо поле было ровное. Тогда он опять сел прямо и так проехал немного, а потом снова упал. Но теперь он уже сам поднялся, разобрал постромки и поехал дальше. Поле кончалось, приближался лес. Лес, вспомнил Маркел, по-вогульски называется «тайга». И ещё ему подумалось, что надо учиться по-вогульски, потому что как это не знать, о чём рядом с тобой говорят, а вдруг говорят недоброе? Но пока что ничего недоброго не предвещалось, они с поля въехали в тайгу, и теперь передовой вогул бежал уже не так быстро, как раньше. Также и второй вогул уже не ехал в нартах, а бежал рядом с ними, потому что собакам теперь стало намного тяжелей. И так они бежали долго, до полудня. В полдень вогулы остановились, Маркел поднялся с нарт, собаки легли в снег. – Перекусить пора, – сказал Маркел. – Нет, – строго сказал старший вогул, – собачкам будет тяжело. Они с полным брюхом бегать не умеют. – А вы? – спросил Маркел. На что старший вогул ответил, что они сегодня уже ели. Маркел пожал плечами, поискал в мешках, отломил краюху хлеба и сел перекусывать. В тайге было тихо, небо чистое, солнце висело низко, его было почти не видно за деревьями. Вогулы сидели на корточках, что-то жевали. – Что это у вас? – спросил Маркел. – Еда такая? – Нет, – сказал старший вогул. – Это пун. Дурной гриб. Дать тебе? – Мухомор? – опасливо спросил Маркел. – У вас, может, мухомор, – сказал старший вогул, – а у нас пун. Его пожевал, лёгким стал, побежал. Дать пуну? Маркел сердито отмахнулся. – Смешной ты, – сказал старший вогул. – Скоро замёрзнешь. Нас Гычка будет ругать за тебя крепко-крепко. Маркел ничего на это не ответил. Вогулы встали, повыплёвывали жвачку. Старший вогул сказал: – Ехать пора. Теперь садись в другие нарточки, а эти пусть отдохнут. Маркел пересел куда ему было указано и крепко взялся за поручни. Старший вогул, больше ничего уже не говоря, развернулся и побежал дальше. Собаки кинулись за ним. Небо было серое, а тучи на нём красные. Мороз пробирал до костей. Маркел, чтобы хоть чем себя отвлечь, достал гычевский чертёж и стал его рассматривать, вертеть и так, и сяк, но нарты так сильно трясло, что Маркел вскоре убрал чертёж обратно. Да и ничего не лезло в голову! Маркел проголодался до смерти, пора было делать привал, солнце уже вон как низко опустилось… А этим, думал Маркел, что, они, грибов нажравшись, ничего не чуют, и теперь могут бежать без остановки хоть до самого Берёзова. Но тут Маркел, слава богу, ошибся. Старший вогул остановился, обернулся и махнул рукой. Собаки сбились с бега, перешли на шаг. Второй вогул догнал Маркела и сказал, что они уже приехали. Маркел сошёл с нарт. Вогулы отошли с тропы немного в сторону и довольно быстро раскопали в снегу вход в землянку. Маркел сразу вспомнил, как он в прошлый свой приезд в Сибирь уже видал такое. Но ведь тогда он шёл пешком, а теперь он едет на собаках, и если он даже тогда, пешком, дошёл, то теперь и подавно доедет! Вот о чём он тогда думал, держась за бок, пока вогулы разгребали снег. Потом они, уже все вместе, наломали веток и развели костёр на поляне, а в землянке разожгли щовал, чтобы там, внутри, к ночи прогрелось. Ну а пока старший вогул варил на костре кашу, а младший рубил мороженую рыбу и кормил собак, а после их привязывал. Потом старший вогул разлил кашу по мискам, и они поели, залезли в землянку и легли. Маркел лежал возле щовала, потому что там было теплей всего. Но, думал Маркел, зато здесь слишком крепко спится, а надо быть настороже. И он поправил кистень в рукаве, а после стал ровно дышать, потом даже начал притворно похрапывать… И не заметил, как заснул. А утром проснулся живой, невредимый, и бок совсем не болел, вот только голова шумела от угара. Он тогда вышел из землянки, осмотрелся. Вогулы уже разожгли костёр, и старший опять стал варить кашу, а младший разнимал дерущихся собак. Собаки выли от досады, но негромко. Потом Маркел с вогулами ел кашу. После запрягли собак, поехали. День был пасмурный, немного вьюжило, по-вогульски это называется «пуржило». Ехали небыстро, и всё тайгой да тайгой. В полдень опять остановились, дали собакам отдохнуть, Маркел перекусывал, вогулы, как и в прошлый раз, жевали пун, говорили, от него тепло, но Маркел снова от него отказался – и мёрз, и молчал. А потом вдруг сказал, что вот они уже второй день едут и никого не встречают, здесь, он спросил, что, в самом деле никто не живёт, или это от них все заранее прячутся? И вогулы на это ответили, что людей здесь и в самом деле зимой не бывает, зимой здесь только одни менквы остаются. А менквы, продолжал старший вогул, это такие дикие мохнатые люди, они едят других людей, если поймают. Маркел усмехнулся и сказал, что это бабьи страхи. – Ащ! – строго сказал старший вогул. И стал опять жевать пун. А после поехали дальше. И как только теперь Маркел заметил, вогулы старались держаться в тайге тихо, будто они в самом деле боялись, что их кто-нибудь услышит. И даже собаки там не лаяли, а, поджав хвосты, бежали молча. Вот так и прошёл тогда тот день – в молчании. А вечером они нашли ещё одну землянку, там переночевали, утром вышли ещё затемно, вскоре тайга кончилась, и впереди открылось широченное замёрзшее болото с торчащим из него голым редким кустарником. Вогулы остановили собак и стали между собой о чём-то переговариваться. Потом старший вогул, повернувшись к болоту, что-то быстро-быстро прошептал, потом странно махнул рукой, ещё немного постоял, послушал, а после обернулся и сказал, что можно ехать. И первым пошёл вперёд. За ним пошли собаки, потащили нарты. За нартами пошёл Маркел. Лёд под ногами проседал, поскрипывал. Идти было очень противно. И, что ещё противнее, Маркел не решался креститься. Так они шли довольно долго, но потом лёд под ногами окреп, перестал проседать, старший вогул обернулся и сказал, что можно садиться в нарты. Маркел сел. Старший вогул быстро прошёл вперед, за ним побежали собаки. Маркел сидел в нартах, стараясь держаться как можно ровнее, и раз за разом читал «Отче наш». И, слава богу, больше им таких гадких болот не встречалось. Дорога была ровная, всё время в гору. Так что они ехали себе и ехали, и бывало это так: утром, наскоро перекусив, вогулы запрягали нарты, Маркел садился на передние, и они выезжали. В полдень Маркела пересаживали на другие нарты, это чтобы собак не перетрудить, а вечером они каждый раз безошибочно подъезжали к спрятанной в укромном месте землянке, разводили огонь, перекусывали, кормили собак и ложились спать. Так они ехали семь дней. Дороги никакой почти что не было, а были просто более ровные места, по которым бежали, меняясь, вогулы на лыжах, а уже за ними, по проторенной тропе, ехали нарты, в одних из них сидел Маркел. Когда собакам становилось совсем тяжело, Маркел вставал и шёл рядом. Когда была пурга, они её пережидали. Однажды целый день пережидали. А весь следующий день они всё время ехали по косогору. Нарты так и стягивало вниз, приходилось их придерживать. Потом тропа стала всё круче подниматься в гору, а самой горы видно не было, она вся была в пурге. Лес кончился, остались только одни камни. Потом и камней не стало видно, везде был только один лёд. И это хорошо, говорили вогулы, лёд – это замёрзшая река Щугор, вдоль этого Щугра они выйдут к так называемому Щугорскому острожку, или к Щугор-паулю, как это раньше называлось по-вогульски. И до него, говорили вогулы, осталось совсем немного. Ну а пока дула пурга, стоял лютый мороз. Они шли по тропе, Маркел в нарты уже не садился, шёл рядом с собаками, притопывал. Тропа была узкая-узкая, а горы поднимались вверх как стены, как колодец, а на стенах колодца висели сугробы. Сугробы были огромадные. Поэтому, как говорили вогулы, если громко крикнуть, то эхо твой крик повторит, и ещё повторит, и ещё, и затрясутся горы, и сорвутся с них эти сугробы, в каждом из них будет возов на сотню снега, и засыплет тебя так, что ты оттуда уже никогда не выкопаешься, а там и задохнёшься насмерть. Маркел поглядывал вверх, покашливал, эхо его кашель повторяло, и горы как будто потряхивались. Но это так только казалось, понимал Маркел, это такая же брехня, как и про менквов – и опять покашливал, шёл дальше, то и дело доставал чертёж, разворачивал его, смотрел, и получалось, что уже вот-вот должен показаться Щугорский острожек, а он всё не показывался и не показывался. Солнце склонялось всё ниже и ниже, пуржило. А острожка не было и не было! Маркел шёл, смотрел вперёд, глаза слипались, уже начинало смеркаться. И было это в самом конце декабря, в самый последний день, в Васильев вечер. Всякий крещёный человек, думал Маркел, сидит в такое время дома, со своими домочадцами и вспоминает своих дедов, прадедов. А он что делает? К каким ведьмам его занесло и к каким чёртовым берёзам?! Собаки вдруг остановились, поджали хвосты и затявкали. А Маркел увидел впереди, шагах в полусотне, не больше, сторожевую жердь – рогатку, точно такую, какие в Москве ставят на ночь, перегораживают улицу, чтобы лихим людям не было проходу. А тут, правда, и сама рогатка была наполовину засыпана снегом, и никакого караула при ней не стояло. Маркел прибавил шагу и почти что побежал. В боку сильно закололо, ну и чёрт с ним, с боком! Маркел подошёл к рогатке, остановился, посмотрел налево, направо…Глава 13
…И увидел острог – маленькое городище, обнесённое высоким тыном, с небольшими крепкими воротами. Маркел пошёл к воротам. Но не прошёл он и десяти шагов, как из-за ворот послышалось: – Эй! Стой! Маркел остановился. – Ты кто такой? – спросили. – Я царёв гонец, – сказал Маркел. – Еду из Москвы в Берёзов. У меня государево дело. – А грамота у тебя на это имеется? – Имеется. Но это для воеводы. А для тебя у меня подорожная. Вот! Маркел достал её из-за пазухи и, держа перед собой, опять пошёл к воротам. Теперь там молчали. Маркел подступил к воротам и сунул подорожную в щель между брёвнами. Подорожную тут же забрали, немного помолчали и сказали, что уже темно, надо огня подать. И было слышно, что один остался на месте, а второй ушёл. Потом он вернулся и привёл с собой ещё кого-то. Этот кто-то грозным голосом спросил, что тут случилось. Маркел на это спокойно ответил: – Волдырь, не гневи меня. В подорожной всё написано. Я из Москвы, из Разбойного приказа, со мной красная овчинка, открывай скорей, ну! С той стороны, вполголоса бранясь, начали мало-помалу открывать. А когда открыли, то Маркел увидел, что перед ним стоит толстый, матёрый десятник, а это и был Волдырь, и с ним двое молодых стрельцов. Волдырь смотрел, насупившись. Маркел подступил к нему, выставил руку. Волдырь вернул ему подорожную, после глянул на вогулов и велел одному из своих стрельцов пристроить их, а второму бежать в дом и накрывать на стол, как он сказал, для гостя. После того как стрельцы разошлись, Волдырь ещё раз осмотрел Маркела и сказал, что время зимнее, позднее, они в такую пору никого не ждут, поэтому и принимают наспех. Маркел промолчал. Волдырь повёл его в острожек. Острожек был совсем маленький – одна большая изба, за ней вторая поменьше и ещё несколько каких-то хозяйственных построек, вот и всё. Волдырь с Маркелом взошли на крыльцо, прошли через сени и свернули на жилую половину. Там над столом горела лучина, сбоку от стола были видны полати, занавешенные холстинами, за которыми кто-то похрапывал, а кто-то и ровно дышал. Волдырь пригласил садиться. Маркел снял шапку, перекрестился на иконы, сел и сказал: – Что же это вы в такое время спите? – Как в какое? Ведь уже темно, – сказал Волдырь. – Так Васильев вечер же, – сказал Маркел. – Как это сегодня Васильев? – удивился Волдырь. – Васильев был вчера. – Нет, Васильев сегодня! – уже строго сказал Маркел. – Я считал! Волдырь помолчал, посмотрел на Маркела, потом растерянно сказал: – О! Грех какой! Мы тогда что, живём, воскресных дней не соблюдая? – Получается, что так, – сказал Маркел. Волдырь утёр лоб, обернулся. В избу как раз вошёл уже знакомый Маркелу стрелец, и Волдырь сказал ему: – Слышь, Гришка?! Василий-то сегодня! А мы вчера – это зря. Стрелец кивнул и начал накрывать на стол. Стол получался не очень богатый, но и не бедный. Да, и ещё: пока стрелец накрывал, с полатей начали слезать его товарищи, все молча, и также молча садиться к столу. Скоро на полатях уже никого не осталось. Маркел смотрел на сидящих. Все они были на вид помятые, медлительные, но это, наверное, со сна. Волдырь велел всем наливать. Налили. Волдырь торжественно сказал: – За Щедрый вечер и за гостя нашего московского. Все выпили. Маркел встал, назвал себя и ещё раз, уже всем, сказал, что он едет из Москвы в Берёзов по государеву делу, дело спешное, поэтому он завтра сразу же проедет дальше. Сказав это, он сел. Вначале все молчали, а после Волдырь, уже многозначительно, сказал: – Да, дело царское. – Как тут у вас, спокойно ли? – спросил Маркел. Стрельцы стали усмехаться, а Волдырь громко, уверенно сказал: – Спокойно, слава Тебе, Господи! Да ты сам видишь, как здесь тихо. – Да уж, – сказал Маркел. – Так тихо, что даже ясак у вас пропал куда-то. – Ты это про Лугуя, что ли? – спросил Волдырь. – Так а мы здесь при чём? Собирать и отвозить ясак это не наше дело. Наше дело смотреть за порядком, принимать тех, кто сюда приезжает, и провожать тех, кто отсюда уезжает. – Так что, – спросил Маркел, – Лугуй через вас не проезжал? – Нет, не проезжал, – сказал Волдырь. – Срок прошёл, потом мы ещё три для прождали, а после я послал вот этих, – и он показал на двоих из сидящих, – они сошли вниз, на сибирскую сторону, поискали, развернулись и пришли обратно. Не нашли они Лугуя! И следов никаких не нашли. – Так как это? – спросил Маркел. – Куда он тогда подевался? – Я думаю, – сказал Волдырь, – заворовал Лугуй, схоронился где-нибудь в тайге. Летом они на виду, на реке, рыбу ловят. А зимой шасть в тайгу, и пропал, и кто его там найдёт? – А чего он вдруг пропал? – Обиделся. Городок у него отобрали. – Кто отобрал? – Воевода, кто ещё. – За что? – Да как это за что? – удивился Волдырь. – Да ты бы только видел, что они тут в прошлом году творили! Этот твой Лугуй и его дружок Агайка. Но воевода им ходу не дал. Агайку забил в железа и отправил к вам в Москву. А у этого отняли городок, Сумт-Вош, вот он и обиделся. Сейчас, наверное, мутит, подбивает своих на войну, идти отбивать Сумт-Вош. – А где этот Сумт-Вош? – Как где? – опять удивился Волдырь. – В Берёзове. Раньше Берёзов был Сумт-Вош и была Лугуева вотчина. А как Лугуй в прошлом году заворовал, воевода пошёл на него, а он затворился в Сумт-Воше. Мы его оттуда выбили и городок его сожгли, а потом на его месте поставили Берёзов. О, радостно подумал Маркел, с гычевскими речами слово в слово сходится! А вслух сказал: – Лугуя понять можно. Отобрали городок. Конечно, жалко! – Да какой там городок! Одни землянки! – сердито сказал Волдырь. – И воевода говорил ему: ставь новый Сумт-Вош на новом месте, ставь хоть прямо рядом с нами. А он: нет, не хочу! И ушёл. И как пропал. Это было летом. И так с той поры ни слуху ни духу о нём. И ясак не выдал. А мы ждали! Маркел задумался. Потом спросил: – А с чего всё это началось? Чего Лугуй вдруг начал воровать? Он ведь раньше тихий был. Волдырь усмехнулся и сказал: – Вогул тихим не бывает, это ты скоро увидишь. А тут ещё был у Лугуя дружок, князёк Агай Кондинский, и тут вдруг ещё один князёк, Игичей Кодский… – А, это я знаю! – перебил Маркел. – Игичей побил Агая, разорил, и отобрал у него дочь, тогда Агай призвал Лугуя… Так? – Ну, так, – нехотя сказал Волдырь. Маркел усмехнулся и продолжил: – Ну, вот, теперь всё ясно. Девку они не поделили. А то у нас в Москве начали такое говорить, что Лугуй против царя заворовал и что будто хочет к Золотой Бабе перекинуться! За столом молчали. Маркел удивился, спросил: – Вы что, про такую никогда не слыхали – про Золотую Бабу? – Как не слыхали. Слыхали, – ответил Волдырь. – Про неё здесь много говорят. Но это вогулы. А нам про неё лучше молчать пока что. – Почему это вдруг так? – спросил Маркел. – Да потому что, – ответил Волдырь. – И почему это всё я да я должен рассказывать? А вот приедешь в Берёзов, в бывший Сумт-Вош, и у воеводы спрашивай. Маркел осмотрелся. Опять все молчали. – Ладно! – сказал Маркел с усмешкой. – Пусть будет так. Про Золотую Бабу больше ни словечка. Ну а у вас самих как идёт служба? – А чего ей, – сказал Волдырь. – Служба как служба. Лучше чем в Берёзове. Даже просто сказка, а не служба. А мы сюда идти не хотели! Здесь же вон какое продувное место! Здесь же раньше была Большая вогульская дорога, так её называли. Ходили по ней все кому было не лень туда-сюда, таскали всё что хотели, и казне был великий убыток. Тогда мы в прошлом году сюда пришли, поставили острожек, и с той поры кто бы через нас ни шёл, кто бы ни ехал, останавливаем всех подряд, спрашиваем подорожные, осматриваем кладь, и с мехами или с серебром на нашу сторону не пропускаем. – А с золотом? – спросил Маркел. – Золота в Сибири нет, – строго сказал Волдырь. – Сколько лет здесь караулю, ни разу не видал. Ни крупинки! А меха и серебришко тащат, да. Но мало. – Почему? – А зачем им через нас таскать? Они через Лозьву теперь ходят. Это от нас недалеко. И там иди кто хочешь! А мы здесь сиди да мёрзни. Ну и я дал знать в Берёзов, воеводе. Воевода отписал, что это верно. Так что, может, уже этой весной нас переведут на Лозьву, и мы там новый острожек поставим. – А это место что, – спросил Маркел, – вот так и бросите? И эту дорогу так оставите открытую? – А что дорога?! – строго спросил Волдырь. – Её за пазухой не унесёшь. Но и мы об этом тоже думали: уйдём, дыра останется. Поэтому решили вот как: воевода обещал прислать две бочки пороха, и мы их как рванём – гора обвалится, и проходу здесь совсем не будет. Завалит всё! Никакая мышь не проскочит! Видал, какая там гора висит, когда идёшь, прямо над головами? – А, ну тогда да, конечно, – согласно закивал Маркел. – Порядок во всём должен быть. – Вот так и воевода говорит! – радостно подхватил Волдырь. – При нём у нас теперь порядок! А то что раньше здесь творилось? Бог отступился! Эти агаряне-нехристи на нас так и наседали, наши от них чуть отбивались. А три года тому назад они вдруг как пришли сюда в большом числе… а здесь тогда был ещё первый наш острожек… И вот они пришли сюда, всех перебили, кожу с мёртвых голов посдирали, у них это «ух-сох» называется, или головная кожа. Там же у вогулов как: кто среди них смелее и ловчее, у тех ух-сохов больше. И вот эти самые ловкие всех наших тогда перебили, ух-сохи с них сняли и ушли, и всех коней из конюшни забрали. – А кони им зачем? – спросил Маркел. – А это у них такое бесовство. Они когда к своим божкам на мольбище ходят, коней им подносят. Зарезанных коней, конечно, безголовых. А головы в болоте топят. Вот такой обычай, прости, Господи. Но ладно! И вот они ушли, а мы сидим у себя в Яренске, это уже по весне, и ждём от наших весточку. Не дождались, пошли сами. Приходим сюда, смотрим, а тут такое… Волдырь замолчал, перекрестился, после знаком показал налить. Налили, выпили, не чокаясь, немного помолчали. – Ладно! – сказал Волдырь. – Чего там! Да и теперь такого не бывает, и дальше не будет. Может, ещё чего хочешь спросить? – Хочу, – сказал Маркел. После полез за пазуху, достал гычевский чертёж и расправил его на столе. Стрельцы, чтобы лучше рассмотреть, привстали с лавок, но молчали. Спросил, как всегда, Волдырь: – Что это? – Это чертёж Югры, – сказал Маркел. – Вот это Вымь, это Камень, это вот где-то здесь мы. А это Берёзов. Стрельцы смотрели, молчали. Маркел, ещё немного подождав, спросил: – Ну, как, всё ли тут верно указано? Стрельцы, вначале с опаской, а потом всё смелей и смелей, вразнобой ответили, что верно. Тогда Маркел спросил, а где лугуевские городки, а это, кроме Берёзова, бывшего Сумт-Воша, ещё Куноват, Илчма, Ляпин, Мункос и Юил. Стрельцы стали указывать, и это тоже вразнобой, потом даже стали между собой спорить. Маркел слушал и делал пометки. Потом спросил, где Агаевы земли, потом где Игичеевы, потом где остальных князьков. – А где наши городки? Почему их не пишешь? – спросил Волдырь. – Наши не надо метить, мало ли, сказал Маркел. Волдырь согласно кивнул. А стрельцы продолжали указывать. Много они тогда чего добавили! Чертёж стал уже весь исчёркан, когда один из стрельцов вдруг сказал про Обдорск: – А он не здесь, а вот здесь! Потому что здесь тропа к Золотой Бабе! Сказал – и сразу замолчал, и, может, даже прикусил язык. И все остальные молчали. Маркел взял чертёж и отчеркнул на нём ещё одну заметку. – Э! – только и сказал Волдырь. – Дурь это. Сколько она добрых людей сгубила, а ты хочешь ещё сгубить! – Кто это «она»? – спросил Маркел. – Сам знаешь, – сердито ответил Волдырь. – Знаю, да не всё, – сказал Маркел. – А царь-государь мне велел всё узнать. И я узнаю! – После оборотился к тому стрельцу, который обмолвился про Золотую Бабу, и спросил: – Ты что, там был? Стрелец тяжело вздохнул и также тяжело ответил: – Да я там был не один. Много нас тогда туда пошло, мало вернулось. – Как это так? – спросил Маркел. – Да что я, – сказал стрелец. – Да там пол-Берёзова перебывало. А ещё, может, два Берёзова под лёд ушло. Сказав это, стрелец перекрестился. Все молчали. Даже Волдырь не знал, что говорить. Маркел смотрел на чертёж, думал… Но не думалось – стрельцы смотрела на него, сбивали с мысли. Тогда Маркел сказал, что время позднее, да и он устал с дороги. А Волдырь сразу встал от стола и прибавил, что пора и честь знать, нагулялись. Стрельцы полезли обратно на полати. А Маркелу, как гостю, постелили при столе, на лавке. Маркел лёг, задули свет, Маркел подумал: очень это странно, что-то здесь не так, вертят они, не договаривают… И заснул.Глава 14
Утром Маркел быстро собрался, перекусил и вышел из избы. Волдырь вышел за ним следом. Были ещё сумерки, но вогулы, вместе с собаками, уже стояли посреди двора. Вдруг Волдырь едва слышно сказал: – Ты им особенно не доверяй. – Почему это вдруг так? – спросил Маркел. – Сон мне недобрый был, – сказал Волдырь. – Будто кто-то висит на берёзе, на нижней ветке. А сама берёза высоченная, толстенная. И, чую, что это кто-то знакомый висит, только лица не вижу. Я хотел подойти ближе, глянуть… И проснулся. Смотрю, ты на лавке спишь, ровно дышишь. Значит, думаю, живой. – Всё сказал? – строго спросил Маркел. Волдырь кивнул, что всё. – А теперь я скажу! – ещё строже продолжил Маркел. – За собой больше смотри. Да за дорогой! Повернулся и пошёл к воротам. Там сел в нарты. Волдырь перекрестил его, махнул рукой. Караульные открыли ворота, и Маркел поехал дальше. Медленно светало, поднимался ветер. А после, порыв за порывом, задула пурга. Пурга дула очень сильно, Маркел даже подумал, что хорошо, что они едут по теснине, тут же некуда свернуть, а то давно бы сбились с дороги. Хорошо было, чего и говорить. И ещё ветер дул в спину. Но недолго! Потому что теснина вдруг повернула направо, вместе с тесниной повернула и тропа – и ветер начал дуть в лицо. И он дул всё сильней и сильней. Вогулы, не дожидаясь полудня, объявили привал и подогнали нарты к самой стене теснины, там было немного поспокойнее. И опять собаки разлеглись в снегу, а вогулы сели жевать пун. Маркел молчал и слушал. Дуло громко, как в печной трубе. Вогулы щурились от снега. Им было тепло и хорошо. А у Маркела зуб на зуб не попадал, его всего трясло от холода. А тут ещё заболело в боку, и болело всё сильней, но Маркел вида не показывал и даже за бок не брался. Но старший вогул вдруг спросил: – Крепко болит, боярин? – Ничего у меня не болит! – сердито ответил Маркел. – Болит, болит, – сказал старший вогул. – Я вижу. Гычка меня убьёт, если я тебя не довезу. Тебе нужно грибка пожевать. Грибок тебе сразу поможет. Маркел молчал. Старший вогул протянул ему кусочек гриба. Отравить они его хотят, подумал Маркел, это Лугуй их подослал, а вот не дамся, и всё! И не дался – встал, сказал, что пурга улеглась и надо ехать дальше. И поехали, а правильней, пошли. Рана расходилась, боль утихла. Шли, молчали. Так и на вечернем привале они ни о чём почти что не разговаривали. Ночью, в землянке, Маркел спал беспокойно, вскакивал, а вот о чём был сон, не помнил. Зато ему то и дело вспоминался Волдырь и тот его недобрый сон, и было гадко. Утром встали ещё затемно, быстро собрались и поехали. Пурга дула слабая, зато мороз был такой сильный, какого раньше ещё не было. Правда, на полуденном привале старший вогул сказал, что завтра они уже выедут в поле, и там будет легче, осталось совсем немного потерпеть. С этими словами он опять достал из-за пазухи пун, отломил кусочек и начал жевать его. Маркел смотрел на вогулов. Вогулам было хорошо, они грелись ядовитыми грибами, а Маркел не грелся, и он от мороза скоро сдохнет, думал он. А от гриба, может, и не сдох бы, потому что как только учуешь, что начал сдыхать, тогда его сразу выплёвывай и заедай снегом. Вот так! А потом доехал до Берёзова, там сдал этих воеводе и сказал: так, мол, и так, хотели отравить… Но тут же подумал: нет, не так, а повернулся к старшему вогулу и сказал: – А дай-ка и мне немного. – Болит? – спросил старший вогул. Маркел молчал. Но и руки не убирал. Старший вогул взял пун, отломил от него кусочек и подал Маркелу. Маркел сунул пун за щёку, начал жевать. Гриб как гриб, подумалось, и даже не очень горчит. И ничего не плывёт в голове, озноб не бьёт, и всякой дряни не мерещится. Дурят они его, вот что! Маркел жевал пун, жевал, и ровным счётом ничего с ним не случалось. Жевал, жевал… Потом старший вогул тронул его за плечо и сказал, что пора ехать. Маркел опомнился и уже только тогда почуял, как ему стало тепло, нет, даже жарко – что хоть ты снимай шубу! И ничего не болело! Нигде! Маркел встал, встряхнулся, сплюнул жвачку, пересел в нарты, развалился как боярин и велел: – Гони! И они поехали. Горы стали совсем низкими, теснина раздалась в стороны, ветер утих, шёл редкий снег. Холода Маркел не чувствовал. Никто ни о чём не говорил. Так они молчали и на привале у костра, и ночью в землянке тоже. Но всё равно не спалось! Маркел лежал и притворялся спящим, ему чудились какие-то шорохи, казалось, что сейчас его зарежут. Такие мысли не к добру, подумалось, потому что всегда так бывает, когда скоро быть беде. Надо к беде готовиться! И Маркел полез за пазуху, достал князя семёнову грамоту берёзовскому воеводе. Грамота была уже сильно потрёпана, печати покривились и расплылись, ну да что поделаешь. Маркел снял валенок, спрятал в него грамоту, опять обулся. На душе сразу стало спокойнее, даже начало клонить ко сну. Маркел перекрестился, три раза прочёл «Отче наш» и заснул. Также и утром на душе было легко. Маркел перекусил в охотку и также в охотку сел на нарточки. А тут ещё, они совсем мало отъехали, дорога вдруг вывела их в чистое поле. Дальше за ним была видна тайга. Они остановились, осмотрелись. Небо было чистое, светило солнце, а мороз был такой лютый, что даже дышать не хотелось. Маркел глянул в гычевский чертёж и сказал, что в Берёзов надо забирать налево. – Нет, – сказал старший вогул, – направо. Там дальше будет река, мы по реке пойдём, по льду. Мы так всегда ходим. А по тайге, нам не пройти, только собак загубим. – Значит, так Бог велел, – строго сказал Маркел. – Какой злой у тебя Бог! – Уж какой есть! Гони! Старший вогул покачал головой и пошёл, забирая влево, на Берёзов. Собаки пошли за ним. Старший вогул побежал – собаки побежали следом. Маркел сидел в нартах, поскрипывал зубами, думал, что недобрые проводники ему попались, Лугуй их подкупил, ну да ещё посмотрим, чья возьмёт. И так они, мало-помалу, проехали через поле и подъехали к редкому лесу, правильней, к тайге, конечно. Но заезжать в неё не стали, а остановились на опушке. Собаки сразу легли в снег, вогулы сели рядом, а рядом с ними сел Маркел. Старший вогул дал ему зубчик пуна, Маркел начал жевать, в боку сразу перестало резать, и мысли в голову полезли добрые. Чего это, думал Маркел, он на вогулов так злится, они ведь правы, дорога на Берёзов и в самом деле идёт правее, по реке Ляпин. Другое дело, что эта река заходит в Ляпин-городок, а Ляпин-городок – это Лугуева вотчина, а к Лугую пока лучше не соваться, так ему и в Москве говорили, а, говорили, сперва надо заехать в Берёзов и взять там стрельцов хоть полсотни, и уже только после этого ехать по лугуевским городкам и искать там самого Лугуя, брать его в расспрос, и всё такое прочее. Ну да это хорошо было рядить в Москве, в тепле, а тут, мухоморов нажравшись, разве что… Но тут Маркелсбился с мысли. Ещё бы! Из леса на опушку выходили люди. Они были с луками, одеты по-вогульски, и их было много. Старший вогул, Маркелов проводник, вскочил, молодой вогул вскочил с ним рядом. Старший вогул стал низко кланяться. Вогулы с луками заулыбались. А один из них, одетый лучше всех и с саблей, спросил по-вогульски: – Кого везёте? – Урусута из Москвы, – сказал старший вогул. – Так было приказано. – Кем приказано?! – насмешливо спросил вогул, одетый лучше всех. Старший вогул молчал. – Снять с него! – приказал самый лучший. Двое вогулов-воинов подскочили к старшему вогулу, один схватил его за голову, а второй махнул туда-сюда ножом – и срезал у него с головы кожу вместе с волосами. Старший вогул залился кровью и завыл. Его толкнули, он упал, немного похрипел и стих. А в молодого кто-то выстрелил, и он тоже упал, и теперь у него из горла торчала стрела. Маркел смотрел на стрелу и не мог пошевелиться. Вогулы тоже стояли на месте. Только тот вогул, который был одет лучше всех, подошёл к Маркелу и спросил: – Ты кто такой? Маркел пожал плечами. Сейчас, подумал он, с него тоже снимут кожу, и это будет быстро. Но самый лучший вогул не спешил. – Хочешь умереть? – спросил он.– А зачем ты мне мёртвый? Ты мне нужен живой. Ты мне такой во сне приснился, разве нет?! Маркел молчал. Самый лучший рассмеялся и сказал: – Если молчишь, значит, я правду говорю. – И, обернувшись к своим, повелел: – Взять его! К Маркелу сразу подскочили, схватили под руки и растянули вправо-влево. Кости затрещали как на дыбе. Самый лучший подошёл и замахнулся саблей. Маркел на это только усмехнулся. Самый лучший тоже усмехнулся, убрал саблю в ножны и сказал: – Грибов наелся, оттого и смелый. Обыскать его! Подбежал ещё один вогул, полез Маркелу за пазуху и достал оттуда подорожную. Лучший вогул взял её, развернул, нахмурился, спросил: – Что здесь написано? Эх, подумал Маркел, Господи, помилуй, и ответил: – Я неграмотный. Читать не умею. – Ладно, – сказал самый лучший вогул. – Найдём того, кто умеет. Да оно и так понятно, что это такое. Это царёва грамота. У простых людей таких грамот не бывает, значит, ты царёв посол. Мне про тебя был сон! Мне в моём сне Великая Богиня предсказала, что ты пособишь мне взять Берёзов. Вяжите его! Маркела подхватили и поволокли, подволокли к ближайшим нартам, повалили на них, брюхом вниз, и привязали к ним ремнями. Подошёл самый лучший вогул и сказал: – Смешные вы люди, москва. Думали меня обмануть. Думали проскочить незаметно! Да только как это можно, если мне сама Великая Богиня помогает!? И он засмеялся. А Маркел подумал, что это Лугуй, больше некому. И тут же невесело подумалось, что вот он и сделал половину дела – нашёл Лугуя, теперь только осталось отвезти его к Золотой Бабе, или к Великой Богине, как величает её Лугуй, и привести их обоих к кресту, потом допросить с пристрастием… Но тут Лугуй велел ехать. Нарты рванулись и помчались всё быстрей. Маркел ничего не видел, он же лежал лицом вниз, снег залепил глаза, вогулы бежали рядом и свистели, собаки тявкали, нарты кидало с боку на бок, Маркел то зарывался в снег, то задирался вверх, а то и падал, его поднимали, свистели, собаки снова пускались бежать. Мало-помалу начало смеркаться. И, с удивлением думал Маркел, у него не болело в боку, и было не холодно, и не хотелось ни есть и ни пить, и даже не хотелось знать, отчего всё это приключилось и чем кончится. Только одного ему тогда хотелось: скорее хоть куда-нибудь приехать и остановиться.Глава 15
Но вот стало совсем темно, а они всё не останавливались. Маркел напыжился, сдвинул ремни. Стало немного свободнее, Маркел начал вертеть головой и поглядывать по сторонам. Они, как он увидел, ехали по редколесью, небо было ясное, светила луна, дорогу было видно хорошо. Так они могут и всю ночь бежать, думал Маркел. И, дальше думал, а куда они бегут? В Ляпин-городок, или в Ляпин-пауль по-вогульски. Эта крепость, если верить гычевскому чертежу, совсем небольшая, ну да Гычев её, может, и в глаза не видел и нарисовал с чужих слов, а чтобы о чём-то судить верно, это нужно обязательно увидеть собственными глазами. И вот у него, думал Маркел, такой случай скоро представится. Ну а пока что было так: лес кончился и началось болото, снег, правильнее, лёд стал прогибаться под нартами всё сильней и сильней. То есть сразу же вспомнил Маркел, они сейчас, как и тогда, на той стороне Камня, опять едут через кантым-ма, или же злое болото по-нашему. Только тут болото было ещё злей! Лёд прогибался всё больше и больше, вогулы начали осаживать собак, хватать их за постромки, а Маркелу было велено не шевелиться. Маркел лежал смирно, читал «Отче наш» и ещё успевал думать о том, что если вдруг что, то он пойдёт на дно как топор, вместе с нартами. Но этого пока что не случалось, нарты мало-помалу двигались вперёд, ветер посвистывал, мела пурга, мороз крепчал. Так они шли с версту, не меньше, потом лёд перестал трещать. Потом они прошли ещё с версту, и впереди вдруг послышалось мерное буханье. Это бубны, подумал Маркел, значит, Ляпин-пауль совсем близко. И так оно, наверное, и было, потому что, заслышав бубны, лугуевские люди сразу оживились, стали показывать вперёд и погонять собак, собаки с шага перешли на рысь. А бубны бухали всё громче и всё ближе. Лугуевские начали свистеть, свистели они чисто по-разбойничьи. Спаси и сохрани, думал Маркел и мысленно крестился, потому что руки были связаны. А потом на снегу там и сям стали появляться огненные сполохи. Потом стали слышны голоса – это они пели что-то заунывное. А бубны гремели так, что аж в ушах было больно. Совсем приехали, подумалось. И верно – Лугуй закричал, и все остановились. К Маркелу подошли и развязали его. Маркел встал и осмотрелся. Была ясная лунная ночь, впереди горели костры, возле них стояли лучники, по-вогульски правильнее ляки, и, размахивая луками, пели что-то очень важное. Потом замолчали. Лугуй пошёл в их сторону. Маркела стали толкать в спину, пинать копьями, и он пошёл за Лугуем, а уже за ним пошли лугуевские люди. Бубны загремели ещё громче. Маркел шёл за Лугуем и смотрел по сторонам. Костров было много, не меньше десятка, при каждом костре, считал Маркел, по десятку ляков, лучников. А дальше опять были костры, ещё с десяток, а вон и шаманы с бубнами. Шаманов было четверо, они плясали. Четверо, значит, четыре войска собралось, с чужим шаманом на войну не ходят, ещё успел подумать Маркел… А дальше костров уже не было, а был виден высокий холм, по-вогульски правильнее, сопка, она была саженей в двадцать в высоту и залитая льдом. На верху её стоял высокий частокол, как и в Пелымском городке у князя Аблегирима. Вот только тогда было лето, и сопка поросла травой, а здесь был только один лёд сверху донизу. Как на такую высоту и скользоту подняться? И ни ворот там, наверху, ни башен – ничего. Но только Маркел так подумал, как к нему подошли лугуевские люди, взяли его под руки и повели вперёд, к ледяной сопке. Там, у её подножия, уже стоял Лугуй. Наверху, на частоколе, показалась длинная верёвочная лестница. Её раскачали и сбросили. Первым, так велел Лугуй, по ней полез один из его лучников. За ним, тоже по велению Лугуя, полез Маркел, а уже за ним и сам Лугуй. Лестница болталась и тряслась. Хорошо ещё, думал Маркел, что хоть ступеньки в ней не гнутся, потому что деревянные. Забравшись наверх, на вершину стены, Маркел снова осмотрелся. Вдоль стены, на подмостях, там-сям стояли лучники, или, по-вогульски, ляки. А дальше, в самой крепости, был виден большущий двухэтажный дом, это, конечно, были княжеские хоромы, вокруг которых горели костры, а возле костров стояли ляки. И плясал шаман, бил в бубен. Здесь, подумал Маркел, уже только здешние, ляпинские, а остальных, на всякий случай, в крепость не пустили, стерегутся. Пока Маркел об этом думал, Лугуй начал спускаться со стены. Маркел стал спускаться за ним следом. Лугуй, спустившись вниз, сразу повернулся идти к хоромам. Маркел повернул туда же, но тут к нему подскочили какие-то люди и схватили под руки. – Князь! – громко окликнул Маркел. Лугуй обернулся, посмотрел на Маркела, отвернулся и пошёл дальше, к хоромам. А его люди потащили Маркела куда-то к кострам. Стоявшие возле костров вогулы без особого любопытства поглядывали на Маркела. А его вели всё дальше, пока не подвели к одной из землянок, возле которой стоял караульный с копьём. Маркела толкнули в спину, он полез в землянку. Там было темно и ничего не видно. Маркел пролез ещё вперёд, нашёл щовал, за ним лежанку. Щовал был холодный, а лежанка ещё холодней, и накрыться было нечем. Маркел сел на лежанку, спрятал руки в рукава и подумал, что долго он тут не продержится, замёрзнет насмерть. Зачем тогда было его хватать, тащить по лесу? Могли сразу убить, хлопот было бы меньше. Но, правда, если сразу не убили, то, может, его и дальше убивать не собираются, а это просто стращают? Да и Лугуй же говорил, что Маркел ему нужен живой, что он ему поможет взять Берёзов – так ему Великая Богиня обещала, он сказал. И тут же подумалось: а это кто такая? Маркел про такую не слышал. Или это та же Золотая Баба, только по-другому названная? А что! Такое вполне может быть. И вот тогда… Маркел задумался. А во дворе продолжали шуметь. Шаман бил в бубен и выкрикивал «Гай! Гай!», а остальные за ним повторяли и дружно притопывали. И так раз за разом, одно и то же, то громче, то тише. Это они к войне готовятся, думал Маркел, это они на Берёзов пойдут. А Маркел зачем им нужен? Да затем, что им одним не взять Берёзов! Нет у них на это ни силы, ни умения, ни пушек, ни пищалей, вот они и затеяли всё это бесовство – по-бесовски пляшут, бесовские песни поют, бесовские грибы жрут, бесовским кумирам кланяются, бесовские жертвы им подносят. Так и Маркела скоро поднесут. Если, конечно, успеют, подумал Маркел, а то может случиться и такое, что вот Лугуй велит подать его к себе, лугуевские люди сюда прибегут, глянут, а Маркел уже готов, холодный. И ох как тогда разгневается их Великая Богиня, закричит, что как это они посмели подносить ей дохлятину – и отвернётся от них! И не возьмут они Берёзов! Вот где будет смеху, подумал Маркел очень мрачно, закрыл глаза, потом даже крепко зажмурился… Но не спалось, конечно. Во дворе очень сильно шумели. Маркел лежал, ворочался, слушал вогульские крики и ждал, когда уже за ним придут. Хотелось, чтобы скорей пришли, даже ещё скорей, потому что всё равно того, что должно случиться, не минуешь.Глава 16
И наконец за ним пришли. Это сперва в землянку спустился караульный с копьём, а после за ним ещё двое вогулов, они оба были без шапок и бритые наголо. Бритые – это не люди, вспомнил Маркел, а это здешние рабы, или, по-вогульски, кучкупы. Это чтобы Маркел видел, как Лугуй над ним насмехается – безволосых рабов за ним прислал, вот какое это оскорбление! Ну да и ладно, подумал Маркел, ещё посмотрим, чем всё кончится, встал и вышел из землянки за кучкупами. Кучкупы провели Маркела через двор и подвели к крыльцу лугуевских хором. Тамошние сторожа расступились и пропустили их, но при этом приказали, чтобы Маркел снял шапку. Маркел снял. В хоромах Маркел с кучкупами поднялся на второй этаж, и дальше уже он один вошёл в просторную горницу, освещённую десятком, а то больше, плошек. Горница была устлана толстой кошмой, на которой прямо напротив Маркела сидел князь Лугуй, одетый в красный бухарский халат, а на лбу у него был повязан кожаный плетёный ремешок со вставленными в него золочёными фигурками. Это, сразу вспомнилось Маркелу, у них такие княжеские знаки. Да, и ещё: а по обе стороны от Лугуя сидели четверо важных вогулов в дорогих кольчугах и без шапок. Волосы у них были заплетены в косички. Это, как снова же вспомнил Маркел, были здешние бояре, или же, по-вогульски, отыры. И это их люди стоят в поле за крепостью. Подумав так, Маркел опять посмотрел на Лугуя, прижал шапку к груди и поклонился. Лугую это очень понравилось. Он самодовольно усмехнулся, осмотрел своих отыров, и уже только после спросил: – Царский посол? Из Москвы? – Я не посол… – начал Маркел. – Посол! Посол! – уверенно сказал Лугуй. – И зовут тебя Косой. Мы это из твоей царёвой грамоты узнали. Я же, как тебе и обещал, нашёл того, кто умеет читать. И он прочёл, что ты, царёв посол, едешь из Москвы в Берёзов, а куда дальше, там не сказано. Но я и так это знаю, дальше – это в Куноват, мой главный город, а после в другие мои города. И тебе дают стрельцов сколько ты прикажешь тебе дать, и эти твои стрельцы будут сжигать мои города, а на их месте ставить ваши. Вот кто ты такой, царёв посол, как мы из твоей грамоты узнали, и вот для чего ты сюда приехал. Тебе так царь велел – за то, что я больше не захотел ему кланяться и стал возить ясак не ему, а Великой Богине. Так? – Может, и так, – сказал Маркел. – Но я… – Вот видишь, – радостно перебил его Лугуй. – Тебе нечем мне возразить, потому что я говорю правду. Возрази мне, если я не так сказал! Но только Маркел открыл рот, как Лугуй тут же продолжил: – Да, чуть было не забыл сказать. Мои люди нашли в твоих нартах мешок соли. Это очень хорошо. Благодарю тебя за соль. Или, – сразу же сказал Лугуй, – ты, может, вёз её в Берёзов? – Да. – Ащ! – громко сказал Лугуй. – Ну, ладно. Мы передадим её туда. Мы же всё равно как раз туда и собираемся. Слышишь? И он поднял руку. Со двора были слышны удары в бубен, выкрики. Лугуй усмехнулся и опять заговорил: – Не беспокойся. Мы привезём этот мешок в целости, отдадим воеводе и скажем: бери, нам ничего за него не надо, мы и без соли жить привыкли. А вот без Берёзова мы жить не сможем. Поэтому, мы скажем воеводе, отдай нам Берёзов, и мы тогда отдадим тебе не только эту соль, но ещё и царского посла, живого и невредимого. А не отдашь Берёзов, мы тогда отдадим тебе только его отрубленную голову. И без волос, конечно! Справедливо ли я говорю? Маркел молчал, не зная, как лучше ответить. Лугуй рассердился, сказал: – Отвечай скорей, царский посол! Это же я про твою голову рассказываю! Отдаст воевода нам Берёзов, тогда мы отдадим ему тебя живого. А не отдаст, тогда мы отрубим тебе голову и отдадим ему только её. И отдадим так, чтобы все ваши люди видели, как воевода не пощадил царского посла. Тогда все ваши люди отвернутся от вашего воеводы, больше не захотят ему служить, а выйдут из Берёзова и уйдут к себе обратно за Каменные горы, и Берёзов останется пуст. И что я с ним тогда сделаю? – Ты его сожжёшь, – сказал Маркел. – Вот, правильно, – сказал Лугуй. – А почему я его сожгу? Молчишь? Тогда я подскажу тебе. Так вот. Был у меня такой город Сумт-Вош, а потом, в прошлом году, пришёл ваш воевода и сжёг мой Сумт-Вош, а на его месте поставил Берёзов. А теперь я хочу прийти туда и сжечь Берёзов, и опять поставить там Сумт-Вош. И я приду, и сожгу! И никто не сможет меня остановить, потому что то, что ты сегодня у нас здесь видел, это только половина нашего войска, а завтра к нам ещё придут. Вот тогда будет войско так войско! И мы с этим большим войском придём к Берёзову, там я выведу тебя к воротам, положу тебя на мешок с солью, расстегну тебе ворот, подниму саблю и скажу, что пусть, пока не поздно, воевода выходит из города и забирает своего посла и пусть все остальные выходят, мы никого не тронем, пусть все уходят за Камень, а мы сожжем Берёзов и опять Сумт-Вош поставим! На своей земле! Вот так! Справедливо это или нет? Маркел, помолчав, ответил: – Может, это справедливо, а может, и нет, я не знаю. Я же не Великая Богиня, чтобы всех судить… – Э! – строго перебил его Лугуй. – Нельзя так про Великую Богиню говорить, даже если это говорится в шутку. Или ты так говоришь от страха, потому что тебя так напугали мои слова о том, что я отрублю тебе голову? Но ведь этого может и не случиться, если воевода пожалеет тебя, выйдет из города, и вы все, живые и невредимые, уйдёте к себе на ту сторону Камня. Маркел усмехнулся. – Я знаю, почему ты усмехаешься, – сказал Лугуй. – Потому что думаешь, что всё будет иначе – воевода не станет раньше времени выходить из города, а, как он всегда это делает, сперва дождётся князя Игичея, и тогда он и Игичей, оба со своими войсками, с двух сторон набросятся на меня и разобьют. Но этого теперь не будет, даже если обещанное войско не придёт ко мне на помощь. Потому что я теперь не один, а со мной Великая Богиня! И я, с её всесильной помощью, пойду на Берёзов и сожгу его, и прогоню воеводу за Камень. А чтобы ваши люди знали, что мы обратно уже не отступимся, я привезу тебя в Берёзов, выведу в поле перед воротами и отрублю тебе голову. Пусть вашим людям станет страшно. Они, наверное, ещё никогда не видели, как отрубают головы царским послам! А ты видел? Нет?! Маркел молчал. Лугуй засмеялся и сказал: – Чего это вдруг ты стал такой невесёлый? Великой Богине не нужны невесёлые жертвы, она такие не принимает! Поэтому если ты и дальше будешь таким же невесёлым, то я не понесу твою голову к Великой Богине, а я брошу её здесь, на съедение собакам. Но я же не хочу тебе зла, а хочу только добра! Поэтому я сейчас помогу тебе развеселиться. И он громко хлопнул в ладоши. Почти сразу заиграла музыка, как будто кто-то задрынькал на гуслях. Или, как Маркел после узнал, на санквылтапе. И задудели дуделки, бухнул бубен, забренчали колокольцы, заныл варган, тонко запел девчачий голос. – Садись! – велел Лугуй и хлопнул рукой по кошме. Маркел где стоял, там и сел. – Шубу снимай, запаришься! Маркел скинул шубу. В горницу стали входить кучкупы, они мягко ступали босыми ногами, несли деревянные блюда, ставили их на кошму рядом с Маркелом и шли дальше. Блюд становилось всё больше и больше, кучкупы входили, выходили, бренчал санквылтап, девка пела, но без слов, а просто выводила голосом. – Ешь, пей! – сказал Лугуй. – А на нас не смотри, мы не голодные, мы дома. Маркел взял ближайшее блюдо. Там было что-то сырое, кровавое. Маркел начал есть. Было вкусно. Маркел взял со второго блюда. С третьего. Кучкупы начали носить питьё. Санквылтап бренчал всё громче. – Пей, пей! – сказал Лугуй. – Не бойся, это не отрава, а это чтобы душе стало легче, чтобы она за тело не цеплялась. Маркел взял ближайшую бутлю. – Пей! – повторил Лугуй. – Великая Богиня смотрит на тебя. И он опять начал хлопать в ладоши. Отыры тоже хлопали. Потом где-то за спиной открылась дверь, в горницу вбежали девки и стали кружить вокруг Маркела. Лугуй и отыры продолжали хлопать, девки кружили всё ближе и ближе, бесстыже кривлялись, санквылтап бренчал всё громче и быстрей. Лугуй махнул рукой, Маркел взял чашку, выпил, после ещё выпил, поперхнулся и упал. Дышать стало нечем. Отравили, подумал Маркел, а как же Великая Богиня, а как же его голова, она и так, будто отрублена, покатилась девкам под ноги, девки убегали от неё, смеялись, голова катилась всё быстрей, перед глазами всё мелькало… А потом поплыло и стало плыть всё медленнее и медленней и совсем расплылось в темноте. Маркел прислушался. Было совершенно тихо, только слышно, что горит щовал, потрескивают уголья. Вдруг послышались шаги, будто кто-то идёт по кошме, идёт быстрыми шагами, очень лёгкими. Маркел проморгался и увидел, что он сидит в каменной пещере, там на полу постелена кошма, сбоку горит щовал… А посреди пещеры стоит золотая баба, молодая, голая как в бане, и улыбается. Маркел хотел вскочить, не получилось, потому что ноги не послушались. А золотая баба подошла к нему, положила ему руку на лоб, толкнула. Маркел повалился на спину. Золотая баба села на него, на брюхо, склонилась над ним. Маркелу стало страшно, он зажмурился. Золотая баба завернула ему веко и стала смотреть Маркелу прямо в глаз. Пальцы у неё были холодные как лёд. Маркела начал бить озноб, он хотел закричать, но не смог. Тогда он собрался с силами и извернулся, сбросил с себя бабу и вскочил. Баба засмеялась, отступила в сторону… И тут же исчезла. Только ещё было слышно, как кто-то босыми пятками прокрался по кошме – и стало совсем тихо. Маркел сел на кошму, а после снова лёг – сил не было. И также внутри всё горело, губы были пересохшие. – Пить! – громко сказал Маркел. – Пить дайте, а не то подохну! Но никто не отозвался. Маркел облизал губы, затаился. Почему-то вдруг подумалось: Параска узнает – убьёт… Опять задрынькал санквылтап. Музыка была душевная и очень жалостливая. Маркел слушал её, слушал, а потом закрыл глаза, затаил дыхание, прочёл «Отче наш», дышать стало нечем, он посопел, подёргался и умер.Глава 17
Но потом он всё-таки почувствовал, что он ещё живой, хоть голова очень сильно болит. Маркел открыл глаза и увидел, что он лежит на боку, на кошме, вокруг темно, только в углу горит щовал, а возле него сидит бритый наголо вогул. Если бритый, подумал Маркел, значит, раб, по-вогульски кучкуп. И этот кучкуп держит что-то в руках и на свету внимательно рассматривает. Маркел тоже присмотрелся и узнал, что это гычевский чертёж. А рядом с кучкупом, на кошме, лежат маркелов нож и маркелов же кистень. А, вот оно что, подумал Маркел – пока он лежал без памяти, они его ещё раз обыскали. И хорошо ещё, тут же подумалось, что не стали искать в валенках, а то нашли бы и князя-семёнову грамоту. Чтобы проверить, на месте ли грамота, Маркел двинул ногой. Нога, почуял, была не босая. Значит, валенки и в самом деле не снимали, подумал Маркел, улыбаясь. А кучкуп, заслышав шорох, осторожно повернул голову, увидел, что Маркел очнулся, радостно заулыбался и сказал: – Жив! Это очень хорошо. – И тут же прибавил: – Значит, Великая Богиня приняла тебя. А я очень боялся, что не примет. Я давал самые крепкие клятвы, я хотел… И замолчал, посмотрел на Маркела. Маркел спросил: – А откуда ты знаешь, что Великая Богиня меня приняла? – Потому что ты проснулся, – ответил кучкуп. – Теперь мы отвезём тебя в Сумт-Вош и там принесём тебя в жертву. Это будет очень красивое зрелище! Наши самые храбрые воины будут смотреть на твой уход. А вот если бы ты не проснулся, тебя бы просто вынесли во двор и бросили на съедение собакам. Ты же ведь рад, что ты проснулся, правда? Маркел усмехнулся. Кучкуп вдруг спросил: – А какая она из себя? – Великая Богиня? – спросил Маркел. Кучкуп утвердительно кивнул. Маркел ещё раз усмехнулся и ответил: – Когда будет надо, ты сам всё увидишь. Зачем я буду рассказывать о том, что было предназначено только моим глазам? Кучкуп насупился, долго молчал, потом отрывисто сказал: – От урусутов никогда ничего хорошего не дождёшься. Урусуты очень злой народ. Но вогулы тоже храбрые и ловкие. Ты умеешь стрелять из лука? – Я умею стрелять из пищали, – ответил Маркел. – А где твоя пищаль? – Если мне будет надо, я обойдусь и без пищали. – Ну и обходись, – сказал кучкуп. – А я, когда мне бывает надо, обхожусь и без урусутской помощи. Вот посмотри сюда! И он показал гычевский чертёж. Маркел насторожился. И, как оказалось, не зря – кучкуп продолжил: – Я ничего ни у кого не спрашивал, и раньше никогда такого не видел, но сегодня я в первый раз посмотрел и сразу узнал, что это. Это грамота как нас найти. Вот это Вымь здесь нарисована, а это Камень. А это Ляпин-пауль, это где мы сейчас. А это Куноват, а вот это – все остальные наши городки помечены. А Игичеевых нет! И ваших тоже нет ни одного. Почему это так? Маркел задумался… хотя он только делал вид, что думает… а потом вдруг спросил: – Так это ты, наверное, мою подорожную князю читал? – Да, я, – сказал кучкуп. Маркел согласно кивнул и спросил дальше: – А где ты по-нашему читать научился? – В Москве, – ответил кучкуп, снова улыбаясь. – Я там всю зиму просидел. Скучно было, вот и научился. А потом мне это очень пригодилось. Когда нам выписали грамоту, мне её дали, я прочёл. А потом здесь всем, кто попросит, читал. Старший брат меня очень хвалил за это. Ого, подумал Маркел очень быстро, и так же быстро спросил: – А кто у тебя старший брат? – Наш старший князь, а кто ещё, – сказал кучкуп. – Его зовут Лугуй, а меня Чухпелек. Это значит «Быстрый» – Чухпелек. – А почему ты побрит как кучкуп? – Потому что провинился перед братом, – сказал этот Чухпелек. – Не удержал я Сумт-Вош, ваш воевода его взял и сжёг, и поставил там свой город. И старший брат сказал, что я теперь буду ходить кучкупом, пока не верну ему Сумт-Вош. И ведь он справедливо решил? – Справедливо, – ответил Маркел, повернулся, уперся руками в кошму и поднялся, и сел. Чухпелек молчал, ждал, когда Маркел устроится, потом сказал: – Вот так мой брат тогда решил, и я с ним не спорил. Но, конечно, крепко горевал. А когда тебя поймали, мне сразу стало радостно, потому что старший брат сказал, что как только мы отрубим тебе голову, ваши люди сразу испугаются и убегут, и мы сожжём Берёзов, отстроим Сумт-Вош, и брат мне его опять отдаст. А чтобы этому ничто не помешало, а это чтобы ты не убежал или чтобы тебя другие не украли, старший брат велел мне тебя сторожить. И вот я сторожу. – Чухпелек, – сказал Маркел, задумался, сглотнул слюну, потом прибавил: – Дай мне воды напиться, иначе я сдохну. А ему и вправду было очень гадко. Его прямо всего воротило. Чухпелек посмотрел на него, покачал головой, повернулся и подал ему кувшин. Маркел посмотрел на Чухпелека. Тот сказал: – Это топлёная вода, из снега. И сперва сам отпил, потом опять подал Маркелу. Маркел взялся пить. Вода и в самом деле была чистая. Маркел напился, стало хорошо, поставил рядом кувшин и утёрся. Чухпелек молчал. Маркел смотрел на Чухпелека, думал, а потом спросил: – А когда ты был в Москве? Давно? – Ой, давно! – ответил Чухпелек и даже махнул рукой. – Если по-вашему считать, то скоро будет десять лет. Ещё только-только война с вами началась, только-только Ермака убили. Много людей и с той и с этой стороны тогда насмерть пропало. Тогда ух-сохи очень дёшево ценились, у всех было много ух-сохов. А нас было мало в наших городках, и брат сказал: надо скорей с соседями мириться, пока и нас убивать не начали. И мы с братом поехали к царю. И уже полдороги проехали, как брат вдруг говорит: нельзя все наши городки и все наши угодья оставлять без присмотра, езжай ты дальше один и один договаривайся. И я поехал в Москву, и приехал, пришёл в ваше каменное городище и там договорился давать вашему царю каждый год по семь сороков соболей самых лучших, а он бы нас за это миловал, и он сказал, что будет миловать, я получил на это грамоту, и мы по ней долго вашему царю платили, пока вы у нас Сумт-Вош не отобрали. – И эта грамота у вас? – спросил Маркел. – У нас, – ответил Чухпелек, – у брата. Захочет показать, покажет. Там все наши милости записаны. – Так-то оно, может, так, – сказал Маркел и усмехнулся, – но ведь эта грамота не настоящая, она не имеет силы. – Почему это вдруг не имеет? – удивился Чухпелек. – Да потому что, – ответил Маркел. – Её должен был старший брат подписывать, а ты ведь не старший. – Как это не старший?! – сказал Чухпелек. – Это сейчас я не старший, а тогда я был старший. Ведь когда я к вам уезжал, брат дал мне нашу княжескую тамгу и дал свою княжескую шапку. А у нас кто в княжеской шапке и с тамгой, тот старший. А я приехал к вам и в шапке, и с тамгой. Я там был как князь! И принимали меня как князя, и тамгу к грамоте я прикладывал как князь! И также и с вашей стороны к этой грамоте не сам же царь печать прикладывал, да я царя и не видел ни разу, а ваш главный посол Щелкал. Щелкала знаешь? – Да. А как же! – Вот, хорошо. И я его тоже крепко знаю. Мы же к нему каждый день в приказ ходили. И его то не было и не было, а то сидел важный-преважный, его кучкупы перед ним стояли, и молчал. Или говорил: это не то, это не так! И так всю зиму. А потом нас, наконец, позвали, показали грамоту, Щелкал при нас приставил к ней вашу самую большую царскую печать, а я приставил братову тамгу. И после ещё восемь лет и мы, и вы были довольны, мы вам посылали каждый год по семь сороков соболей самых лучших… А после вдруг пришёл ваш воевода Волын и отобрал у нас Сумт-Вош. У меня отобрал, потому что брат тогда был в Куновате, а я был в Сумт-Воше. Мой брат очень разгневался и, когда я прибежал к нему, приказал меня обрить как кучкупа. И, сказал он, я так и буду ходить кучкупом до той поры, пока мы не вернём Сумт-Вош. А как же его вернёшь, думал я, разве у нас есть силы побить воеводу? Мне было очень досадно, я даже хотел сам себя зарезать. Но брат запретил мне делать это, брат сказал, что всё ещё исправится. А я ему не верил и не верил. Я только вчера поверил, что мне недолго осталось ходить бритым, потому что, сказал брат, чтобы взять Берёзов, надо Великой Богине поднести великий дар. Таким даром, ему так приснилось, сказал старший брат, будет твоя голова. Если, конечно, ты настоящий царский посол, а не простой гонец. Если ты простой гонец, то тебя надо просто убить и бросить на растерзание голодным собакам. Но если ты настоящий посол и такой же важный боярин, каких я немало видел у вас в Москве, то тогда тебя нельзя просто так убивать, а тебя надо принести жертву Великой Богине. Она будет очень рада! Она поможет нам – и мы разобьём воеводу Волына, и я опять стану князем Сумт-Воша! И я буду тебе за это очень благодарен. Я велю поставить в честь тебя самого большого идола во всём Сумт-Воше, и мы будем чествовать тебя, приносить тебе богатые дары, приглашать тебя на наши пиршества, и, может быть, даже сама Великая Богиня… Но тут Чухпелек замолчал, задумался, потом спросил: – А теперь ты мне честно скажи: ты и вправду царский посол? Или простой гонец? Я в Москве видел много гонцов! Гонцы не имеют никакой цены. Ведь так? Маркел молчал. Потом спросил: – А тебе понравилась Москва? – Нет, – с раздражением ответил Чухпелек. – Очень шумно у вас. И люди очень торопливые. Но ты мне ещё так и не ответил, кто ты. – Я не хочу заранее говорить тебе об этом, – сказал Маркел. – Да и не нам это решать. Всё решит Великая Богиня, разве не так? – Возможно, ты и прав, – подумав, сказал Чухпелек. – Разве можно предсказать решение Великой Богини? Иногда она радуется самым неприметным дарам, а иногда, наоборот, отвергает самые дорогие подношения. Так же может случиться и с тобой. Поэтому, пока мы не отрубим тебе голову, ни о чём заранее догадаться нельзя. Так что подождём ещё три дня, придём к Берёзову и там увидим. После чего он сложил гычевский чертёж, а также поднял с пола Маркелов нож и Маркелов же кистень, спрятал всё это у себя за пазухой, встал и, больше ничего уже не говоря, вышел из горницы. А Маркел сидел и думал об услышанном. Иногда он поднимал руку и трогал себя за шею. Шея была как шея, как у всех. Вот только её скоро могут отрубить, думал Маркел. И ещё: вот же чёртов Агай, как накаркал! Сказал, что Золотая Баба – это Маркелова смерть, и к этому, похоже, всё и движется. Ну да ладно, сразу же подумалось, ведь же не это главное, а главное то, что никому Маркел не должен, только Котьке пять алтын, но это разве деньги, Параска отдаст. А самой Параске всё остальное достанется – и их общее добро, и та кубышка у них под лежанкой, под третьей от стены доской, слава богу, что успел о ней сказать, там и Параске хватит, и Нюське. Вот только матери в Рославль давно гостинцев никаких не отсылал, а так только: свечки во здравие ставил, когда ходил в церковь, но это нечасто – и перекрестился. Опять потрогал шею и опять перекрестился. И опять задумался. Точнее, голова был пуста и ни о чём не думалось. Голову уже как будто отрубили.Глава 18
Сколько он так сидел, Маркел не помнил. Время, конечно, шло, но Маркел не замечал его. И было совсем тихо. А после со двора опять послышались удары в бубен, выкрики шамана, топот ляков. Это, значит, уже утро, подумал Маркел. И ещё: значит, дело сдвинулось, пришла подмога, и они скоро будут выступать – пойдут на Берёзов. И там, у всех на виду, как когда-то было на Москве при грозном царе Иване Васильевиче, Маркелу принародно срубят голову. И что?! Воеводу это разве напугает? Маркел горько усмехнулся и подумал… Но этого лучше не вспоминать, о чём он тогда подумал, а лучше просто сказать, что Маркел от этих дум крепко насупился и посмотрел на волоковое окошко, за которым уже начал пробиваться утренний свет. Потом по хоромам послышались шаги, откинулась завеса, и в горницу вошёл один из вчерашних отыров. На Маркела он даже не глянул, а походил туда-сюда, посмотрел, похмурился. А как увидал кувшин с водой, сразу же гневно спросил, откуда это. – Сам не знаю, – ответил Маркел. – Он как ниоткуда появился. Отыр злобно сверкнул глазами, забрал кувшин и ушёл. Маркел посидел ещё немного, подождал. Вдруг послышались разные голоса, а после шаги – и вошёл Чухпелек, остановился посреди горницы и сказал: – Радость у нас великая – явилось одно войско, а к обеду подойдёт ещё одно, так что тебе надо готовиться. И, обернувшись, хлопнул в ладоши. Сразу же, как и вчера, в горницу вошли кучкупы, понесли еду. Кучкупов было пятеро, не меньше, каждый принёс по здоровенной миске, и во всех них еды было до краёв. Маркел тяжко вздохнул. – Ешь, ешь! – громко сказал Чухпелек. – Ты теперь должен много есть. Ты должен лосниться от жира. Маркел ещё раз посмотрел на миски и ответил: – Я не могу. Я не голодный. – Как это не могу?! – сердито спросил Чухпелек. – Ты что, хочешь нас обмануть? Да кто это не хочет есть такие лакомства?! Или ты просто боишься смерти? Ешь смело! Ты же не трусливая женщина, а храбрый царский посол. Ешь, ешь! Великая Богиня смотрит на тебя! – Что это? – спросил Маркел, показывая на одну из мисок. – Это мороженый жир, – ответил Чухпелек. – А это оленьи губы. А это настой на оленьих рогах. Выпей чашку, это не грибы. Пей, и ты, может, увидишь то, что никогда не видел. А потом мы отведём тебя к Великой Богине, она сегодня уже спрашивала о тебе, мы сказали, что ты хочешь поскорей её увидеть. Ведь так? Маркел взял миску, начал есть. Ел медленно. Потом запил настойкой. Сразу захотелось закусить. Он закусил, ему понравилось, он взял ещё. И ещё. Чухпелек что-то шепнул стоявшему рядом кучкупу, тот вышел. А за окном кричали воины, шаман бил в бубен. Вдруг там всё стихло. Чухпелек весело подмигнул Маркелу. Потом опять по хоромам послышались шаги, и в горницу вошёл Лугуй. Теперь он был без шубы, в дорогой кольчуге и с золочёным ремешком на лбу. За Лугуем вошёл, как Маркел сразу догадался, ещё один князь, потому что и он был с ремешком и в кольчуге. И с ух-сохами на поясе! У Лугуя они тоже были. И у обоих было по две сабли. Лугуй и второй князь остановились, Лугуй указал на Маркела и по-вогульски, конечно, сказал, что это Маркел Косой, московский воевода и царский посол, и что он ехал в Берёзов передать тамошнему воеводе, чтобы тот не боялся смерти. Второй князь на это усмехнулся и сказал: – Да, это правильно. Смерть ему будет обязательно! Лугуй тоже усмехнулся, а потом сказал садиться. Князья сели. Заиграла музыка. Вошли кучкупы, принесли ещё еды, и это всё только Маркелу. Маркел, не глядя на князей, вновь начал есть. Он же чувствовал себя очень голодным! Что они за гадость ему подмешали, думал Маркел, жрать теперь хотелось просто люто, по-волчьи. И Маркел ел. Грыз. Обкусывал. Жевал. А эти сидели и смотрел на него. В горницу вошли ещё зеваки, они становились вдоль стены, глазели. А Маркел устал. Он сгрёб пригоршню чего-то сырого, холодного, жгучего, сунул это себе в рот, но там ничего уже не помещалось. Маркел запихал это как мог и начал медленно жевать. По лбу у него тёк пот. Трещало за ушами. Челюсти не закрывались. А есть хотелось ещё больше! Нестерпимо! Маркел обернулся. Стоявший рядом с ним кучкуп подал ему чашку питья. Маркел начал пить, правильней, цедить через еду, и питьё вливалось, и еда мало-помалу пропихнулась в глотку. Маркел утёр пот со лба, отдышался. – Кушай, кушай, – сказал, усмехаясь, Лугуй. – Царские послы должны много кушать, иначе Великая Богиня разгневается. Она любит жирные жертвы. А нам уже сегодня выступать, так что тебе надо торопиться. Но Маркел его не слушал. Маркелу стало всё равно. Маркелу было тяжело сидеть, он мягко повалился на бок и, как ни в чём не бывало, продолжал смотреть на сидящих перед ним князей, на стоящего за ними Чухпелека и на зевак вдоль стены. Господи, помилуй, думалось, играла музыка, медленно взад-вперёд ходили голоногие девки, поднимали и опускали руки, улыбались очень широко, было страшновато от таких улыбок… А потом ушли князья. Скоро за ними ушли девки, ушёл Чухпелек, ушли зеваки, и музыка стихла, только дрынькал санквылтап. У Маркела поплыло в глазах, он заснул. Но и во сне ему снилось то же самое – он сидел возле горящего щовала и ел, ел, ел, ел очень жадно, не в себя, руки были в жире… А по ту сторону щовала сидела голая золочёная баба и улыбалась. Смотреть на эту бабу было почему-то боязно, и, чтобы её не видеть, Маркел, не поднимая головы, ел, ел… Пока не упал и не заснул – там, во сне. А здесь он проснулся, осмотрелся. В горнице было уже светло – так, как может стать светло там, где всего два небольших оконца. Вошёл Чухпелек и сказал: – Поднимайся! Все уже собрались. Выступаем. – Я не могу идти, – сказал Маркел. – А тебе идти не надо, – сказал Чухпелек. – Это другие все пойдут, а тебя повезём на нарточках. Зря, что ли, мы тебя столько кормили? И ещё будем кормить, до самого Берёзова. – Кормить на убой, – сказал Маркел. – Называй это как хочешь, – сказал Чухпелек, – но таков наш обычай. Вставай! Маркел встал. Его качало. Опять они его каким-то ядом обкормили, агаряне-ироды, сердито подумал Маркел, но вслух ничего не сказал. Они спустились вниз, вышли во двор. Во дворе было пусто, только виднелись следы от костров. Небо было серое, шёл редкий снег. Было тихо. Они подошли к крепостной стене, правильней, конечно, к тыну, и поднялись по наклонному бревну на подмости. Оттуда, сверху, было видно поле, на котором стояло Лугуево войско. Оно стояло не строем, конечно, а, прямо сказать, двумя большими кучами. Слева, Маркел его сразу узнал, стоял Лугуй со своими, а справа второй князь и его люди. И там же стояли шаманы. Да тут войска, прикинул Маркел, сотен пять от силы, и это по большей части ляки, лучники, а отыров, в шлемах и в кольчугах, совсем мало. И это всё, о чём Маркел успел тогда подумать, потому что его там, внизу, уже заметили, и шаманы сразу начали бить в бубны, визжать и плясать, а войско стало притопывать им в лад и, было заметно, все смотрели на Маркела. Маркел хотел было перекреститься… Но ему не дали, потому что сзади подскочили стенные сторожа, схватили Маркела за локти, заломили ему руки за спину, связали, перетолкнули через колья тына и, на верёвках, начали спускать вниз, на ту сторону, к войску. Чухпелек, слышал Маркел, то и дело приказывал, чтобы спускали с бережением, помягче. И так и спустили, мягко. Тут же от войска, так, наверное, велел Лугуй, к Маркелу побежали лугуевские ляки. Так что не успел он подняться на ноги, как его уже опять схватили, подняли над собой и понесли. Шаманы закричали во весь голос, и в бубны тоже начали бить изо всей силы. Также и ратники стали подпрыгивать и топать всё быстрей и громче, но Маркел не видел этого, его же несли на руках, он лежал брюхом вверх и видел только небо. Но, думал Маркел, сейчас они поднесут его к князьям и опустят на снег… Но было не так. Его понесли дальше, и несли всё быстрей и быстрей, несли уже бегом, трясли нещадно, и бубны бухали всё громче, шаманы кричали всё злее, ляки топали чаще и чаще, и подпевали «гай, гай!». А что там было ещё, Маркел не видел, он только видел вверху облака, облака вертелись, значит, понимал Маркел, его носят по кругу. Потом его вдруг подбросили вверх, подбросили довольно высоко, и разбежались. Маркел подумал, он сейчас убьётся… Но его поймали, и это, он понял, были уже другие ратники, отыры, а не ляки, и отыры понесли его ещё быстрей, а вокруг все гайкали и гайкали, бубны бухали, шаманы выли во всё горло, после Лугуй закричал дико-дико – и в небо, со всех сторон, взлетели стрелы. Их было несчитанная туча. Отыры замерли на месте, стрелы начали сыпаться вниз. Ляки кричали «гай!». После Лугуй снова закричал, и опять в небо взлетела туча стрел. Отыры опять побежали. Стрелы упали вниз, ляки ещё раз стрельнули… И так они стреляли ещё трижды, а потом шаманы перестали выть, ляки топать, бубны тоже больше уже не бухали, отыры перешли на шаг, прошли совсем немного и опустили Маркела на нарты, вверх брюхом. Сразу стало тихо-тихо. Маркел лежал, смотрел на небо и молчал. К нему подошёл Лугуй и стал его рассматривать, как будто в первый раз увидел, а потом спросил: – Ты всем доволен? Маркел тоже сперва помолчал, потом ответил: – Всем. – Вот и хорошо, – сказал Лугуй. – Я так и думал, что ты так ответишь. Тогда мы едем к Великой Богине. Маркел усмехнулся. А что ему ещё оставалось делать? А Лугуй махнул рукой, стоявший рядом отыр причмокнул на собак, и те, сорвавшись с места, побежали. Но теперь они бежали не так быстро, как когда они бежали через Камень, тогда ведь Маркел был один, ну и с ним было ещё двое провожатых, а теперь с ним было целое войско, пять сотен отыров и ляков, и хоть все они были на лыжах-ступанцах, им всё равно было тесно, поэтому они бежали почти шагом, если это можно так назвать. Маркел, лёжа на спине, поглядывал по сторонам. Ни Лугуя, ни второго князя он не видел, рядом был только Чухпелек, он то и дело поглядывал на Маркела и добродушно улыбался. А ведь это он, скорей всего, будет рубить ему голову, думал Маркел и время от времени трогал себя за шею. И так он ехал, а все другие бежали, довольно долго, до полудня.Глава 19
А потом они встретили ещё одно войско. Правда, Маркел его не видел, а видел только то, что Лугуево войско остановилось, началась какая-то суета, впереди снова забухали бубны, загайкали ляки. Маркел приподнялся, сел на нартах и спросил, что случилось. – Это к нам Мамрук пришёл, князь Обдорский, – сказал Чухпелек. – И это наше третье войско. А первое ведёт мой брат, а второе сегодня утром привёл князь Бегбилий Сосьвинский, и ты Бегбилия уже видел. – А кто ещё придёт? – спросил Маркел. Чухпелек нахмурился, сказал: – Раньше бы, конечно, пришёл Агай Кондинский, но ты же знаешь: ваши люди увезли его в Москву. Также и наши пелымские родичи к нам не придут. Ихтоже некому вести! А раньше у них был очень храбрый князь, Аблегирим его звали, и он очень любил ходить на ваших. И быстро ходил! У него на поясе было два ряда ух-сохов! Тут Чухпелек замолчал, тяжко вздохнул и продолжил уже совсем другим, невесёлым голосом: – А потом, одни говорят, Аблегирима убили недобрые люди, а другие что он нарочно пропал в кантым-ма, злом болоте, когда ваши воины поймать его хотели. И вот уже больше года прошло, а он никак из кантым-ма не возвращается. Значит, он уже и не вернётся, потому что он уже не с нами, а он в другом мире поселился – в том, в котором мы все когда-нибудь окажемся – одни позже, а другие, как ты, раньше. Поэтому я думаю… Но тут он снова замолчал, потому что стоявшие вокруг них ляки расступились, и к Маркелу подошли Лугуй, а с ним второй князь, Бегбилий Сосьвинский, как это теперь знал Маркел, и ещё третий, только что прибывший князь, которого, как сказал Чухпелек, звали Мамруком Обдорским. Увидев Маркела, Мамрук остановился и стал с интересом его рассматривать. А Лугуй, указав на Маркела, сказал, что это и есть тот царский посол, который приехал к ним затем, чтобы обложить их ещё одним ясаком, совсем непомерным. Мамрук слушал и кивал. Маркел помалкивал. Мамрук был в толстой собачьей шубе, а сам из себя он был высокий, крепкий, не то что Бегбилий и даже не то что Лугуй. Прямо медведь какой-то, а не человек, подумал про него Маркел. А тот, глядя на Маркела, вдруг сказал, что Маркела надо накормить, а то он совсем худой какой-то. Лугуй подумал и сказал, что это верно, и посмотрел на Чухпелека. Чухпелек махнул рукой. Из толпы вышел кучкуп с мешком, встал на колени перед нартами и начал выкладывать на них еду. Маркел тяжело вздохнул. Кучкуп начал ему подавать. Но Маркел каждый раз отводил его руку – всё, чего бы кучкуп не давал, он не принимал. А после Маркел и вовсе медленно отклонился назад и лёг на нарты, на спину. Лугуй грозно спросил: – Что это с тобой такое? Тебе что, не нравятся наши угощения? – Брюхо у меня от них болит, – сказал Маркел. – Я никогда столько много не ел. – А теперь съешь! – сказал Лугуй. – А вот не съем! – сказал Маркел. – Да я лучше сдохну! И тогда кого ты привезёшь своей Богине? А она ведь уже ждёт меня! А я вдруг сдох! Что она тебе на это скажет?! Лугуй вместо ответа достал саблю, замахнулся. Маркел приподнялся на нартах, повёл головой, чтобы шею было лучше видно. Лугуй держал саблю, кривил рот… А после всё же опустил саблю, убрал её в ножны, развернулся и ушёл в толпу. За ним ушли и Мамрук с Бегбилием. В толпе молчали. Маркел усмехнулся, опять лёг на нарты, сказал по-вогульски: – Ну и что теперь? А ничего! А надо ехать! Великая Богиня ждёт! И так оно тогда и было: толпа мало-помалу расступилась, Чухпелек крикнул собакам, собаки побежали дальше. И так же побежало войско. Маркел смотрел по сторонам и думал, что если бы у каждого ратника были свои нарты, а в них по десятку собак, то сколько сейчас тут было бы лаю, грызни, суеты! А так, на ступанцах, было и тихо, и смирно. И так, тихо-смирно, у них было до самой ночи – они ехали по тайге почти совсем без остановок. То есть никто Маркела уже ни на что отвлекал, и не кормил тем более, и он лежал себе на нарточках и думал. Правда, ни о чём радостном ему тогда не думалось. Ну да откуда, думал Маркел, радость? Жив пока, и это уже славно, а там будет видно.Глава 20
И было видно тогда вот что – когда начало темнеть, они выехали из тайги на большущую поляну и начали ставить там табор, то есть разводить костры и устраивать при них лежанки. Возле Маркеловых нарт тоже разожгли костёр, но никто к нему не приближался, только Чухпелек похаживал туда-сюда да подбрасывал ветки. А Маркел сидел на краю нарт, смотрел на костёр и думал, что совсем неплохо было бы перекусить, ну да только кто ему теперь чего предложит? И Маркел повздыхивал. Было уже темно, небо было чистое, светила луна, мороз стоял очень крепкий. Маркел поднял в шубе воротник и отвернулся от ветра. Чухпелек то и дело поглядывал на Маркела, но никаких разговоров не заводил. Да и вокруг, по всему табору, было так тихо, как будто все ждали чего-то. Вдруг где-то в дальнем конце табора ударили в бубны, завыли шаманы, затопали ляки. И вначале это было не так громко, а после стало слышаться всё громче и громче. Маркел поднялся с нарт и увидел, что от ближайших костров все смотрят на него. А Чухпелек вскочил и воскликнул: – Не бойся, урусут! Великая Богиня не оставит тебя! – и начал хлопать в ладоши. Захлопали и от ближайших костров. А потом, откуда – непонятно, выбежали несколько вогулов, ляков, схватили Маркела под руки и поволокли за собой. То есть его теперь уже не несли на руках, а тащили как бревно, как мертвеца. Может, подумалось Маркелу, он для них уже и в самом деле мёртвый? А его тащили и тащили мимо костров, мимо стоявших рядом с ними ляков, туда, откуда слышались удары бубнов. Потом бубны стали слышаться со всех сторон, но Маркел их не видел, он видел только снег перед собой и ноги тех, кто его волочил по сугробам. Эх, с досадой подумал Маркел, вот и смерть моя приходит! И в самом деле, ляки вдруг остановились, встряхнули Маркела, он распрямился и увидел стоявшего перед собой Лугуя. Лугуй поднял саблю. Маркел попытался вырваться, но это у него не получилось. Лугуй поднял саблю ещё выше, крикнул «Ащ!» – и рубанул. Маркел уже не вырывался, стоял прямо, и сабля просвистела мимо, только ширкнула по бороде да слегка оцарапала кожу. Маркел молча проморгался. – Ащ! – опять сказал Лугуй и улыбнулся. – Великая Богиня будет рада такой жертве. И, повернувшись к лякам, указал рукой. Маркела снова подхватили и поволокли обратно. Эх, только и подумалось Маркелу, зачем такие издевательства, всё равно ведь убьют, так лучше бы убили сразу! И теперь Маркелу было всё равно, он уже не пытался смотреть по сторонам, а и в самом деле был словно бревно или мертвец. Ляки подтащили его к нартам, бросили рядом на снег и ушли. Маркел лежал, смотрел на небо. Небо было чёрное, луна тоненькая-тоненькая, чуть светила. Вокруг было тихо. Потом вдруг подошёл Чухпелек, наклонился над Маркелом, поднял его и посадил на нарты. Маркел смотрел на Чухпелека и молчал. Чухпелек улыбнулся, сказал: – Я всё видел. Ты славно держался. – А! – сердито ответил Маркел. – Зачем твой брат надо мной насмехается? Что ему надо от меня? – Ему для себя ничего не надо, – сказал Чухпелек. – А он помогает тебе. Он перерезал первую паутинку. Маркел удивлённо посмотрел на Чухпелека. Тот укоризненно покачал головой и сказал: – Ничего вы, урусуты, не знаете. Вы даже не знаете, как устроена человеческая душа. А она висит на трёх жизненных паутинках. Так что прежде чем отрубить тебе голову, нужно перерезать эти паутинки. Если этого не сделать, твоя душа может упасть в Нижний мир. А если сделать, и сделать всё правильно, то твоя душа попадёт прямо к Великой Богине, и это великая честь. Поэтому, чтобы твоя душа не потерялась, сегодня мой брат перерезал первую паутинку, завтра князь Бегбилий Сосьвинский перережет вторую, а послезавтра князь Мамрук Обдорский перережет третью. И вот уже только тогда, на следующее утро, мы придём к Берёзову и там отрубим тебе голову, твоя душа освободится от тела и полетит прямо к Великой Богине. Всё наше войско будет это видеть! И всё ваше. Вот какая тебе будет честь! Маркел молчал. Чухпелек улыбался. – А кто будет рубить мне голову? – спросил Маркел. – Брат обещал, что он поручит это мне, – уже опять с самым серьёзным видом сказал Чухпелек. – И ваши люди выйдут из Берёзова, я больше не буду брить голову, как раб, а я опять стану князем, правда, пока младшим. Тут Чухпелек вздохнул. А Маркел только сейчас почувствовал, как он очень сильно замёрз. Да что замёрз – его колотило от холода! Он протянул руки к костру, но это не помогло, тогда он медленно сполз с нарт и передвинулся к костру как можно ближе. – Кай, кай! – обеспокоенно воскликнул Чухпелек. – Так нельзя! Ты загоришься! И, схватив Маркела за плечи, начал его оттаскивать. Маркел почти не упирался. Оттащив Маркела на прежнее место, Чухпелек укоризненно покачал головой и сказал: – Зачем ты это делаешь? Если ты умрёшь раньше времени, мой брат не отдаст мне Сумт-Вош, и я на всю жизнь останусь кучкупом. А когда я умру, я спущусь в Нижний мир. За что ты меня так не любишь? Маркел не ответил, он кутался в шубу, ему было очень холодно, даже ещё холоднее, чем раньше. Чухпелек насмешливо хмыкнул и сказал: – Какие вы, урусуты, слабые люди! Да если бы не ваши огненные стрелы, мы давно бы всех вас перебили. Мы же не боимся мороза, не боимся голода, не боимся плавать в ледяной воде. Ничего мы не боимся! А вы боитесь всего… И всё равно сильнее нас. И вы отнимаете у нас нашу землю, наши города, наши охотничьи угодья, наших женщин и убиваете наших богов. Поэтому я должен желать твоей смерти, я должен радоваться тому, что ты сейчас замёрзнешь насмерть… А я вместо этого спасаю тебя. Держи! И он протянул Маркелу руку, на которой лежал кусок пуна – сушёного гриба. Маркел улыбнулся. – Ты знаешь, что это такое? – спросил Чухпелек. Маркел вместо ответа взял гриб и начал его жевать. Маркелу становилось всё теплей, ему хотелось прямо сейчас лечь и заснуть, и в то же время хотелось подняться, запрячь собак и ехать к Берёзову. А где Берёзов? В трёх днях пути отсюда, как сказал Чухпелек. Надо всё время держать на север, если вспомнить гычевский чертёж, вдоль реки Сосьвы, по льду, говорили те вогулы, с которыми он ехал через Камень. Или нет? Или он ехал не с ними? Надо спросить у Чухпелека. Маркел повернулся к нему… И упал. И заснул.Глава 21
Утром Маркел проснулся от общего шума. Это вогулы сворачивали табор, перекусывали, гасили костры. Маркел был очень голоден. Чухпелек, ничего не говоря, поделился с ним своей долей мелко наструганной рыбы и чашкой жирного питья. Питьё было не ядовитое. Потом где-то впереди бухнул бубен, Маркел сел в нарты, и они поехали. Дорога тянулась по краю тайги, вдоль реки. День был пасмурный, очень морозный, Чухпелек два раза давал жевать гриб, чтобы согреться. А разговоров никаких между ними не было. Вечером на привале к Маркелу пришли, схватили его, оттащили в середину табора, к шаманам, и там князь Бегбилий Сосьвинский одним лёгким ударом сабли перерезал вторую паутинку, соединяющую душу Маркела с этой жизнью. Когда Маркел вернулся к нартам, Чухпелек дал ему немного перекусить, но опять ни о чём не спрашивал. Ночью Маркелу ничего не снилось, но утром он долго не мог проснуться, а потом у него весь день всё болело, он временами даже думал, что сейчас умрёт. Но так и не умер, а опять наступил вечер, они разбили табор, Маркела снова потащили к шаманам, и там князь Мамрук Обдорский ударил саблей изо всей силы, третья паутинка с громким треском лопнула, Маркел не удержался и упал. К нему подбежали, подняли его, начали растирать ему щёки снегом – и он очнулся. Мамрук спросил, что Маркел видел. Маркел ответил, что он видел молнию. Все обернулись к шаманам. – Это очень хорошо, – сказал самый старый шаман. – Его душа уже почти готова. И он махнул рукой. Маркела подхватили и понесли, а не как обычно потащили, обратно. А когда его вернули на место и положили на нарты, то Чухпелеку было строго сказано, хорошенько присматривать за пленником, и, если что, выполнять любые его просьбы. Но Маркел ни о чём не просил, а просто лежал на нартах и молчал. Так он лежал довольно долго. Ночь тогда выдалась тихая, чёрная, мороз немного ослабел. Вдруг из темноты вышел Лугуй. Он был одет очень богато, его шуба была расшита жемчугом, и на шапке тоже были жемчуга. Маркел поднялся и присел на краю нарт. Чухпелек встал рядом с ним. Лугуй посмотрел на Чухпелека и сделал знак рукой. Чухпелек поклонился, развернулся и ушёл. Лугуй подошёл ближе, осмотрел Маркела и сказал: – Я пришёл к тебе по очень важному делу и хотел бы, чтобы никто другой не знал, о чём мы здесь с тобой будем говорить. Я могу надеяться на то, что ты будешь молчать? – Можешь, – ответил Маркел, – но если это, конечно, не касается моей службы царю. – О нет, – сказал Лугуй. – О твоём царе здесь речи не будет. Речь будет только обо мне и о моих умерших родичах. – Тогда я слушаю, – сказал Маркел. – Так вот, – начал Лугуй. – Насколько нам всем известно, завтра тебе отрубят голову, но это в нашем мире, а в мире ином ты, целый и невредимый, прибудешь к Великой Богине. Она будет очень рада видеть тебя. Тебя даже пригласят к щовалу. Там, за пиршественным угощением, по обе стороны от Великой Богини, будет сидеть много наших с Чухпелеком предков. Но там будут и те, кто ещё совсем недавно переселились туда, это я говорю о нашем с ним отце и о двух наших братьях. Как только ты войдёшь в ту горницу, остановишься перед щовалом и поклонишься, Великая Богиня улыбнётся и позволит тебе встать на колени. Ты встанешь. Все наши с Чухпелеком предки, все разом, начнут у тебя каждый о своём расспрашивать. Но ты никому не отвечай, а ещё раз поклонись. Но кланяйся только Великой Богине! И смотри только на неё! Тогда Великая Богиня улыбнётся и спросит, чем тебя угостить. А ты на это отвечай, что пусть она сама решает. И что бы тебе там ни дали, ты уже ни от чего не отказывайся, как здесь. И съедай всё дочиста! Только после этого ты сможешь спокойно осмотреться, и увидишь, что по правую от Великой Богини руку сидит очень уважаемый старик в высокой княжеской короне, и у него ещё большой шрам на щеке. Это мой отец. Он спросит, как идут мои дела. Отвечай, что очень хорошо, что я всем доволен, особенно той помощью, которую даровала мне Великая Богиня. И ещё раз поклонись ей. Она женщина, и очень любит, когда ей говорят приятное. А потом снова повернись к моему отцу и попроси у него, чтобы он мне приснился в ближайшую ночь, потому что я очень спешу, и дал бы мне совет, что делать дальше. И молчи и жди, пока он даст согласие. Жди, пока не дождёшься! Но когда он пообещает, сразу же вставай и уходи! – Куда? – спросил Маркел. – Тебе покажут, куда. Там будут сидеть кучкупы. Они с радостью примут тебя, переоденут в кучкупские одежды, и ты будешь вместе с ними прислуживать на этом пиршестве. – А как долго оно будет продолжаться? – Пока светит солнце и восходит и заходит луна, текут реки и растёт трава. Но не об этом сейчас разговор. Ты запомнил, о чём я сказал?! – Да, запомнил. – Сделаешь так, как тебе было велено? – Там будет видно. Лугуй усмехнулся, помолчал, потом продолжил: – Я думаю, ты умный человек, хоть иногда и горячишься. Так вот, скажу тебе ещё: если ты будешь вести себя так, как я тебя учил, то у тебя будет одна судьба – та, о которой я тебе только что сказал, ну а если ты так не поступишь, то твоя душа провалится в Нижний мир, и что там её ждёт, я не знаю. И никто этого не знает, потому что из Нижнего мира ещё никто не возвращался. С этими словами Лугуй развернулся и ушёл в темноту. Оставшись один, Маркел долго думал. Но, правда, что тут было думать?! Кто ему мог помочь? Никто. Маркела снова начало трясти. Это от холода, думал Маркел, ночь очень холодная, вот и трясёт. Маркел завернулся в шубу. Костёр уже почти погас, рядом валялись заготовленные ветки, их нужно было подбросить в огонь, но Маркел не подбрасывал. Вернулся Чухпелек. Он посмотрел на Маркела, ничего не сказал, присел к костру и начал раздувать огонь. Потом он подбрасывал ветки. Потом достал пун, разломил его пополам и половину дал Маркелу. Маркел молча отказался. Чухпелек усмехнулся, сказал: – Наверное, ты прав. Тебе уже не нужно беспокоиться о том, что беспокоит нас всех остальных. Ты уже у Великой Богини, и она не даст тебе замерзнуть. Ну, это мы ещё посмотрим, сердито подумал Маркел и зажмурился. Вначале было просто темно, и так продолжалось достаточно долго, а потом послышалось дрынканье санквылтапа, потом начал разгораться огонь в щовале, возле него сидела Великая Богиня, закутавшаяся в дорогое золочёное покрывало, а по обеим сторонам от неё сидели важные старики вогулы в княжеских шапках. У одного из стариков был шрам на всю щёку. Этот старик пристально смотрел на Маркела, но ничего не спрашивал. А потом… Но вот что было потом, Маркел не помнил.Глава 22
Утром Маркел проснулся от того, что Чухпелек осторожно тряс его за плечо. Маркел осмотрелся и увидел, что ещё только-только начинает светать, а войско уже сворачивает табор и делает это как можно тише. – Что случилось? – шёпотом спросил Маркел. – Берёзов уже совсем близко, – ответил Чухпелек. – Мы не хотим, чтобы они узнали о нас заранее. Держи! С этими словами он подал Маркелу чашку с горячим жиром. Маркел выпил. Подбежавшие кучкупы запрягли собак. И собаки, и кучкупы не шумели. Чухпелек надел лыжи-ступанцы, Маркел сел в нарты. Где-то впереди послышалось движение. Оно охватывало всё большее и большее число вогулов. Потом двинулись вперёд и стоявшие рядом с Маркелом вогулы. Чухпелек причмокнул на собак, и те молча потащили нарты. Светало, поднимался ветер. Он был попутный, в спину. Войско двигалось по краю тайги, вдоль реки, но на лёд не сходило. Маркел спросил, почему это так. Чухпелек ответил, что это делается из предосторожности, на тот случай, если люди берёзовского воеводы напустили на лёд порчу и он начнёт ломаться, как только вогульское войско взойдёт на него. Маркел ничего на это не ответил. Шло время. Войско двигалось вдоль берега. Солнце поднималось всё выше. Сколько нам ещё идти, спросил Маркел. Не так и много, уклончиво ответил Чухпелек. Вдруг войско начало сворачивать в тайгу. Чего это мы вдруг, спросил Маркел. Чухпелек на это помрачнел и очень нехотя ответил, что Маркелу уже поздно интересоваться земными делами, он должен думать о Великой Богине и только о ней. Маркел насупился и больше ни о чём не спрашивал. Они ещё довольно долго шли по тайге, солнце, то и дело мелькавшее между деревьями, поднималось к полудню. Снег был очень глубокий, собаки крепко утомились и с большим трудом тащили нарты. Может, я пойду пешком, сказал Маркел. Не вставай, злобно сказал Чухпелек, иначе я убью тебя! Маркел усмехнулся и хотел сказать, что тогда некого будет подносить Великой Богине… Но посмотрел на Чухпелека, на его перекошенное от гнева лицо, и промолчал. Они проехали ещё немного, уже в полной тишине, войско двигалось всё медленней и медленней, а потом совсем остановилось. И продолжало стоять. Все молчали. Маркел посмотрел на Чухпелека. Тот сказал, что они уже пришли. Маркел спросил, где Берёзов. Впереди, ответил Чухпелек. Но там густой лес, сказал Маркел. Нет, там поле, сказал Чухпелек, мы просто стоим на краю леса. А что будет дальше, спросил Маркел. Сейчас услышишь, ответил Чухпелек. Только он это сказал, как впереди забухали бубны, загайкали ляки, и войско опять пришло в движение. Только Маркеловы нарты стояли на месте. На нартах сидел Маркел, а возле нарт стоял Чухпелек, а с ним ещё с десяток ляков-караульных. Не убежать, подумалось Маркелу, да и куда бежать? И он сидел и ждал, что будет дальше. А дальше бубны загремели ещё сильнее, завыли шаманы – и выли всё громче и злее… А потом вдруг замолчали, и послышался голос Лугуя. Он говорил, даже почти кричал, очень громко, но вот о чём он кричал, было не разобрать. Маркел повернулся к Чухпелеку. Тот слушал с большим вниманием и, похоже, понимал, о чём шла речь. Потом Лугуй вдруг замолчал, и наступила тишина. Маркел досчитал до двадцати, и чей-то голос начал отвечать Лугую, голос отвечал то по-нашему, то по-вогульски, какие-то слова были понятны, но таких слов было мало. Маркел опять посмотрел на Чухпелека. Чухпелек сердито поджал губы. Маркел хотел спросить у Чухпелека, что случилось, но не открывался рот, язык не поворачивался. Да и что было спрашивать, думал Маркел, и так ведь сразу было ясно, что воевода не согласится с лугуевым требованием, да и какой из Маркела посол, Маркел – простой стряпчий, серая лошадка, вот и отрубят ему голову, спустят с него ух-сох – и сразу забудут о нём, вот и всё. Так что очень хорошо, что он успел сказать Параске про кубышку, а то бы маялась… Но тут Чухпелек подступил к нартам, положил руку Маркелу на плечо и приказал: – Вставай! Маркел встал и увидел, что из-за деревьев, со стороны Берёзова, идут быстрым шагом кучкупы и что-то несут. Маркел присмотрелся и понял, что это они несут тот самый мешок с солью, который ему в Выми дали передать в Берёзов, а после, тут же вспомнилось, Лугуй обещал казнить Маркел на этом мешке как на плахе. И вот теперь его к нему несут! У Маркела задрожали руки, но несильно. – Держи! – приказал Чухпелек не своим голосом и вынул из ножен саблю. Так он, оказывается, с самого утра был с саблей, сердито подумал Маркел, вот оно как, они всё давно решили, получается. – Держи! – ещё сердитей приказал Чухпелек. Маркел взял у кучкупов мешок и закинул его на плечо. Мешок был не очень тяжёлый, с пуд весом, не больше. – Иди! – приказал Чухпелек очень злобно. Маркел пошёл за кучкупами. Снег там был истоптан очень сильно, так что и без ступанцев было легко идти. Маркел шёл неспешным шагом и поглядывал по сторонам. Потом стал поглядывать только вперёд. Войска пока что видно не было. Только когда он вышел из тайги, тогда увидел войско. Оно стояло чёрной тучей, от опушки до опушки, через поле. А дальше, на невысоком холме, по-вогульски на сопке, стоял Берёзов. Это был совсем небольшой городок, меньше Выми и меньше Яренска, но стены у него были новенькие, желтоватые, от них, наверное, ещё смолой крепко разит, думал Маркел, поправляя мешок на плече. – Иди! – злобно прикрикнул Чухпелек и даже ткнул Маркела в спину саблей. Маркел пошёл дальше. Войско стало расступаться перед ним. Маркелу стало тяжело, пот тёк по лбу, Маркел утирал его свободной рукой. До Берёзова было уже не так далеко, Маркел видел людей на стенах и на башенках. На самой большой, надвратной башне, тоже стояли люди, и там, думал Маркел, должен стоять воевода Волынский, собака, который не пожелал его спасать… Нет, тут же подумал Маркел, не спасать, а менять, менять одного дурака-стряпчего на целый город, где это такое видано?! Сам виноват! Подумав так, Маркел остановился. – Давай, давай! – послышался Лугуев голос. – Великая Богиня ждёт тебя! Или тебе помочь? Маркел сердито хмыкнул, поправил мешок на плече, пошёл дальше. Караульные вогулы забежали вперёд и теперь шли, оглядываясь на него. До Берёзова осталось шагов триста, сопка была покатая, идти было легко. Вдруг сзади загремели бубны, Чухпелек крикнул: – Стой! Маркел остановился, оглянулся. Чухпелек бежал к нему, на бегу снял рукавицу, утёр голой рукой саблю и крикнул: – Бросай его! Ложись! Это он про мешок, подумал Маркел, это его бросай, а дальше что? И стоял, смотрел на Чухпелека. Чухпелек подскочил к нему, гневно крикнул: – Бросай! Ложись! Буду рубить! Маркел скинул мешок с плеча, кратко размахнулся – и огрел Чухпелека мешком. Со всей силы! Чухпелек упал. Маркел кинулся вперёд, к вогулам, махнул ещё раз, сбил одного, бросил во второго, оттолкнул руками третьего и побежал к Берёзову, к воротам! Сзади гремели бубны, гайкала толпа, свистели стрелы… А Маркел бежал по бездорожью к воротам. От ворот тоже кричали. И со стен. Потом затрещали пищали. Густо завоняло порохом. Маркел ещё прибавил. Стрела сбила шапку, и чёрт с ней. Стрелы защёлкали по шубе. Маркел оступился и чуть не упал. Да и упал бы, но тут он увидел, что открываются ворота, из них выбегают стрельцы с бердышами, Маркел ещё прибавил и вскочил в ворота, пробежал ещё немного и упал, перевернулся на спину, увидел вверху небо, открыл рот… Но так ничего и не сказал, только закашлялся. Над ним склонились наши рожи, бородатые, стали о чём-то спрашивать. Он ничего не понимал, только широко моргал и улыбался.Глава 23
Лежалось очень хорошо, спокойно. Рожи ничего уже не спрашивали, а просто молча смотрели. Где-то высоко над ними, в небе, ширкали стрелы. Сбоку, со стен, бухали пищали. И вдруг послышалось: – Эй, не замай! Рожи сразу начали расступаться. Стало светлей, небо просторнее. И ещё Маркел увидел, что к нему подходит кто-то очень важный – в дорогущей шубе, в куньей шапке, а сам из себя ухоженный, румяный, с коротко подстриженной бородкой. Воевода, сразу же догадался Маркел и, повернувшись на бок, попытался приподняться. А воевода, Волынский Василий Степанович, как после вспомнил Маркел, немного склонился к нему и спросил: – Так ты и есть тот посол из Москвы, о котором нам Лугуй кричал? – Я не посол, – сказал Маркел и сел на снег. – А кто? Маркел полез за пазуху, а там залез в двойной шов и вытащил оттуда красную овчинку. И назвал себя. – О! – громко сказал воевода. И, обернувшись на своих, строгим голосом продолжил: – Чего глаза повылупливали? К нам человек от государя прибыл! Пособите! К Маркелу тут же кинулись и стали поднимать его. Но Маркел сказал, что он сам справится. И справился. Из толпы ему подали его шапку. Маркел осмотрел её. В ней была рваная дыра. Маркел сунул в неё палец. – От стрелы, – сказали из толпы. – Вогульская. Маркел надел шапку и опять посмотрел на Волынского. Тот спросил: – Как ты попал к ним? – Да вот так и попал! – сказал Маркел. – Нежданно. Только мы с Камня спустились, свернули на Сосьву… И тут вдруг Лугуй со своими! А, вот и ты, он говорит, я тебя здесь давно жду, теперь мы тебе отрубим голову, и Великой Богине станет от этого радостно. – Не Великой Богине, а Золотой Бабе, – строго поправил Волынский. – У нас есть только один Бог. Или ты что, некрещёный? Маркел вместо ответа широко перекрестился. – Ну а сам ты куда ехал, и зачем? – спросил Волынский. – Это я после скажу, – ответил Маркел. – Это дело государево. – Да, – сказал Волынский. —Это верно. И, отвернувшись, посмотрел на стену. Оттуда уже не стреляли. Также и стрелы больше не свистели. Было тихо. – Где они? – крикнул Волынский. Со стены ответили: – Отходят к лесу. Волынский опять повернулся к Маркелу, сказал: – Если отходят, значит, дело уже сделано. – После обернулся и позвал: – Кузьма! К ним подошёл стрелец. – Кузьма, – велел ему Волынский, – присмотри за этим. А я мигом. И он пошёл к стене, стал подниматься наверх, на подмости. Маркел смотрел на Волынского. На подмостях было много стрельцов, и все с мушкетами, но почти что никто не стрелял. Маркел оглянулся на Кузьму. Тот усмехнулся и сказал: – Сейчас всё кончится. Вогулы – народ хлипкий. Если чего сразу не заладится, никогда не дожимают. Маркел шагнул было к стене. – Стоять! – строго сказал Кузьма. – Не велено! – Так я… – начал было Маркел. – Стоять! – уже злобно продолжил Кузьма и замахнулся пищалью. Маркел отступил на место. – Вот так-то! – почти с радостью сказал Кузьма. – А то мы это знаем. В прошлом году в Пелыме вот так же прибежал к нам один казачок. «Отче наш» читал, крестился. А как дошло до дела, он нам в колодец крысу бросил. Отравленную, конечно. Мы там все чуть не подохли. И я… – Э! – сердито перебил его Маркел. – Думай, что говоришь! Я из Москвы, царёв гонец! У меня письмо к боярину! – Га! – злобно выкрикнул Кузьма. – Ну и письмо, и что?! Сейчас такие времена, что любой письмо напишет, эка невидаль! А вот ты возьми пищаль, вбей пулю, насыпь пороху… А! – И Кузьма махнул рукой и замолчал, только ещё сильней насупился. Маркел осмотрелся. Рядом с ними было пусто, зеваки стояли подальше. Стрельцы замерли на стенах. От вогулов тоже шума не было. Волынский походил туда-сюда по подмостям, обернулся на Маркела и, махнув ему рукой, начал спускаться по лесенке. А спустившись, громко, чтобы все слышали, сказал: – Чёрт их поймёт, дикарей. Отошли и встали за кустами. Не уходят! Что бы это значило? Никто ничего не ответил. Волынский повернулся к Маркелу и спросил: – Ну а ты что скажешь? Что они про это дело говорили? – Говорил один Лугуй, – сказал Маркел. – Говорил, Великая Богиня… – Золотая Баба! – сердито поправил Волынский. – Золотая Баба, – повторил Маркел. – Она, он говорил, ему приснилась и обещала помочь. – Ну, это он зря, – сказал Волынский. – На чёрта надеяться – дело неумное. Дальше! – Ну и ещё эта Великая Баба, когда ему снилась, сказала, что ей нужен дар, и получше. Сказала, дашь мне царёва посла в жертву, тогда помогу. Ну, он и дал. А я Чухпелеку мешком по сусалам – и к вам. – Это мы видели, – сказал Волынский. – Это ты их ловко. А что было в мешке? – Соль. Волынский помрачнел, сказал: – Унесли они её. То-то я думал, что это они так лезут! А это они за солью. Ясно… И Чухпелек там был? Маркел утвердительно кивнул. Волынский ещё сильнее помрачнел, сказал: – Жалко ему Берёзов отдавать… А кто там ещё? И сколько их? – Лугуй со своими, – ответил Маркел. – Это будет сотни три. И Бегбилий с Мамруком, сотен пять, и это всё. – Всё? – очень строгим голосом переспросил Волынский. – Всё. Пелымские вогулы не придут, сказали. И агаевские тоже. Волынский усмехнулся, осмотрелся. В толпе радостно заулыбались. – Вот, все слышали?! – гордо сказал Волынский. – А я вам давно говорил! И так оно и вышло! И так и дальше по-моему выйдет, вот увидите! Постоят до ночи, постреляют, расстреляют стрелы и уйдут! Правда, Кузьма? Кузьма утвердительно кивнул. – Вот так! – продолжал Волынский. – Уйдут они сегодня ночью! Как пить дать, уйдут. А пока пускай сидят в тайге, сопли морозят. А мы здесь погреемся и перекусим. – Тут он опять повернулся к Маркелу, сказал: – Ну что ж, дорогой посол, ты с дороги, думаю, проголодавшийся. Да и дело государево не здесь же оговаривать. Пойдём! И они, развернувшись, пошли. За ними было подалась толпа, но стрельцы не дали им проходу, и народ остановился. А Маркел с Волынским пошли дальше. Маркел смотрел по сторонам. Да только смотреть там было почти не на что – городок был небольшой, совсем недавно срубленный. Также и воеводские хоромы тоже были новенькие, ладные, крыльцо широкое, на нём стоял только один стрелец, а остальные, подумал Маркел, сейчас все, наверное, на стенах. Проходя мимо стрельца, Волынский велел никого не впускать. А когда вошли в нижние сени, там к ним сразу выступила челядь. Волынский оглянулся на Маркела и велел, чтобы стол накрыли не скупясь. – Э, нет-нет, – сказал Маркел. – Я сыт! – Чего это вдруг так? – удивился Волынский. – Так кормили же как на убой, – сказал Маркел. – Собирались же поднести Великой Богине в жертву. Аки агнца. Волынский нахмурился, поправил: – Я говорил уже: не Великой Богине, а Золотой Бабе. Повтори! Маркел повторил. Волынский удовлетворённо кивнул и, уже даже не глядя на челядь, пошёл дальше. Они поднялись на второй этаж и вошли в Ответную палату. Там Волынский, ещё раз перекрестившись, прошёл под образа и сел на мягкую лавку. Маркел встал напротив. – Рассказывай, – велел Волынский. – Да что рассказывать, – сказал Маркел. – Доехал из Москвы до Выми, оттуда дали мне собак, но только мы перешли через Камень, а там только перешли на Ляпин-реку, как Лугуй меня перехватил, сказал, он меня принесёт в жертву Великой… – Золотой! – сердито перебил Волынский. – Золотой, конечно, – подхватил Маркел. – А после подождали Бегбилия Сосьвинского, потом Мамрука Обдорского, ну и пошли на вас. Они все пешком и только один я на саночках. Это чтобы я не исхудал в дороге, это чтобы жертва была жирная, чтобы Золотая… Да, чтобы Баба Золотая не разгневалась, а то, они говорили, ей только подай не то, она тогда порвёт на клочья. Брехня, конечно, суеверие и ведьмовство, а слушать очень неприятно. И вот так мы ехали и ехали три дня. А что было дальше, это вы всё видели и слышали. – Ну да, – злобно сказал Волынский. – Эту брехню мы уже слышали. Лугуй горазд брехать! И это же чего придумал, что я ради невесть кого сдам им целый город. Экая скотина! – А… – начал было Маркел. – Да, – снова перебил его Волынский. – У Лугуя такой норов. А в прошлом году какую он здесь замятню устроил! А теперь опять пришёл. Ну да ладно, отобьёмся. А ты лучше пока про себя расскажи, зачем тебя сюда послали. – Послали взять Лугуя, – ответил Маркел, – и отвести его к Великой Боги… К Золотой Бабе, конечно, забить её в железа и послать в Москву к ним на допрос. – Зачем? – Затем, что Лугуй ясак в казну не выдаёт, а выдаёт Боги… А выдаёт той Бабе. – А вы её теперь в железа и в допрос, – насмешливо сказал Волынский. – Так? – Ну, так, – смущённо подтвердил Маркел. – И она на дыбе повинится, так? А вы её тогда к Агаю, на очную ставку, Агай же тоже в казну не платил. Так? Маркел, чувствуя подвох, молчал. И не ошибся. – Ой, насмешили! – скривился Волынский. – Знать ничего не знают, ничего не понимают, а распоряжаются. Да вы хоть себе представляете, что такое Золотая Баба, какая она из себя? Маркел молчал. – Вот, это уже хорошо, – сказал Волынский… Но Маркел уже тут же спросил: – А ты как думаешь, она какая? – Я об этом ничего не думаю, – сказал Волынский. – Я же её ни разу не видел. И тех, кто её видел, я тоже ни разу живым не видывал. – Почему это так? – Да потому что тот, кто её видел, ещё ни разу обратно не возвращался. – А не возвращался откуда? – Э! – погрозил пальцем Волынский. – Какой ты досужий. Ждёшь, когда я проговорюсь. Одно слово: Разбойный приказ. Ну да и ладно. Я и так прямо скажу. Люди болтают разное. Одни говорят, что надо ехать по Оби, и ехать долго, за Обдорск и к морю… А другие говорят, что надо, не доезжая до моря, поворачивать на реку Надым. Но есть ещё третьи, они говорят, что надо на другую сторону, то бишь на реку Пырью поворачивать. А четвёртые… Ну и так дальше. Всякий всякое болтает. А после уходят и не возвращаются. Так это же ватагами идут, и идут люди бывалые, которые здесь каждую кочку, каждый завал знают. А ты что? Как ты один туда пойдёшь? – Так я не один пойду, – сказал Маркел, – а я возьму твоих стрельцов. – А если я их не дам? – спросил Волынский. – Чего это я вдруг должен давать? Ты же сам видишь, какие у нас тут дела. Тут, как говорится, не до Бабы. – Но мне же велено, – сказал Маркел. – Покажи, где велено, – сказал Волынский. – И где, кстати, твоя подорожная? – Подорожную у меня вогулы отобрали, – ответил Маркел. – А вот грамоту к тебе я уберёг. От князя Семёна грамота, от моего боярина. С этими словами он склонился, полез в валенок, достал князя-семёнову грамоту и передал Волынскому. Волынский взял её, начал читать. А когда прочёл, положил её на стол, накрыл ладонью и сказал: – Хорошо им там, сидя в Москве, приказывать: давай ему туда стрельцов, давай сюда! А у меня, ты видел, какие заботы? Что у меня тут за воротами творится?! Там же целая орда пришла! Хотят царёв город сжечь, до уголька последнего, и свой бесовской город поставить! Но я этого не допущу! У меня стрельцов две сотни! И у меня ещё пушка! Я её пока что приберёг, но, придёт время, выкатим. Так что некогда мне тут с тобой переливать из пустого в порожнее. – И, обернувшись к двери, громко позвал: – Кузьма! Вошёл Кузьма. – Распорядись о нём, – сказал Волынский, указывая на Маркела. – А у меня дела до вечера. – И сгрёб со стола грамоту, сунул её в рукав, развернулся и вышел.Глава 24
Когда дверь за ним закрылась, Кузьма ещё немного помолчал, потом насмешливо сказал: – Разгневал ты его! – Да уж, – сказал Маркел. – Такого не разгневаешь! – Потом спросил: – Как там вогулы? – Стоят, не уходят, – ответил Кузьма. – Может, ждут ещё кого-нибудь. Маркел подумал и сказал: – Это они ждут ночи. Будут Богине молиться. Они при мне каждую ночь ей молились. – И тебя убить хотели? – Да. Отрубить мне голову и отнести Великой Богине. Или Золотой Бабе, не знаю, как правильно. – Правильно и так, и так, – сказал Кузьма. – А ещё можно Золочёная Старуха, она же уже совсем старая. – Старая? – удивился Маркел. – А ты её видел? – Га! – махнул рукой Кузьма. – Если бы видел, здесь бы не сидел. – А где? – В Москве, в хоромах, – радостно сказал Кузьма. – Я же всегда думал, что если вдруг разбогатею, то сразу поеду в Москву, куплю там себе дом-домище и уже нигде служить не буду, а буду только лежать на лавке и смотреть на образа. Или в окно. А окно у меня будет чистое-чистое, прозрачное-прозрачное, как у Аньянги зеркало. – А кто такая Аньянга? – Это Агаева дочка. Нашего Агая знаешь? – Это который раньше у вас князем был? – спросил Маркел. – Конечно, знаю. Видел на Москве частенько. – Ну и как он там у вас? – Неплохо, – с улыбкой ответил Маркел. – Он же у Строгановых пристроился, на их тамошнем подворье. На всём готовом живёт: кормёжка, одёжка. А всей службы у него – это он ходит каждый день в Кремль, в Посольский приказ, и спрашивает, как идёт его дело. Ему отвечают «никак», он разворачивается и идёт обратно, заходит в кабак при Никольских воротах, называется Привратный, и там выпивает две чарки. А то и три… – И вдруг спросил: – А почему ты бы всё бросил и поехал бы в Москву? – Как почему? – удивился Кузьма. – Ты же у меня спрашиваешь, что бы я делал, если бы увидел Золотую Бабу. Так продал бы её, а что ещё! А сколько в ней весу! А она же золотая. И вот такого росту! – Тут он показал, какого. – Это же каких бы деньжищ стоило?! Маркел прикинул высоту, которую показывал Кузьма, и делово спросил: – Это она сидячая такая? Или стоячая? – Сидячая, сидячая, – сказал Кузьма. – И вот такой ширины. В теле баба. – Так это ж просто неподъёмная! – с почтением сказал Маркел. – Как же её тащить тогда? – А ты её в лодку! – подхватил Кузьма. – И плыви себе, не на горбу же тащить, надрываться. Да и где ты такой горб найдёшь? – Ага-ага, – сказал Маркел. Потом опять спросил: – А кто это её так вёз? И откуда? Кузьма прищурился, долго смотрел на Маркела, а после настороженно спросил: – Зачем это тебе? – Так, любопытно стало. – Нечего здесь любопытничать, – сказал Кузьма. – Одни, говорят, нашли её и повезли. И тут самоеды про это прознали! И как погнались за ними! Эти сразу Бабу бросили и дай бог ноги. Вот. Про самоедов слышал? Маркел кивнул, что слышал. – Слышать это полбеды, а вот не дай бог видеть! – строгим голосом сказал Кузьма. Но тут же засмеялся и продолжил: – Ну да нам это чего? Их тут нигде близко нет. Да и пойдем перехватим, на поварне уже давно ждут. Айда! Они пошли на поварню. Там их уже и вправду уморились ждать, но быстро подали каши, хлеба и немного выпить. Они перекусили, выпили, опять перекусили, и Маркел спросил, давно ли Кузьма здесь служит. Кузьма ответил, что недавно, а до этого служил в Пелыме у воеводы князя Горчакова, а ещё до этого на Лозьве у Траханиотова, и стал рассказывать, какая там была собачья служба, какой этот Траханиотов въедливый, как от него люди бежали, а куда тут убежишь, только в кусты сунулся, а там вогул, и он тебя за волосы, вот так вот чиркнет – и ух-сох долой. И Кузьма засмеялся. Маркел ещё налил, и ещё выпили. Кузьма стал рассказывать, как он служил в Вологде, а после в Тотьме, а потом приехал Иван Змеев со своими людьми и стал заманивать, ну и Кузьма, как мягкий человек, поддался, поцеловал крест, подписал поручную грамоту, и Змеев взял его к себе. – А где сейчас этот Змеев? – спросил Маркел. – На стене, а где ему ещё быть, – ответил Кузьма. – Это его служба там стоять. Да и ему что? Он заговоренный, его пули не берут. Его бы даже Золотая Баба… Да! – Тут Кузьма замялся и ни с того и ни с сего продолжил: – А в Тотьме у нас служба была охо-хо! Утром пока солнце в окно не заглянет, не встаём. Потом девка принесёт еды. А здесь где девки? Все наперечёт! Да если бы мне опять поручную подсунули, я бы и ухом не повёл! Но теперь что, теперь служи до гроба. Хотя, конечно… И он опять заулыбался о чём-то своём. А Маркел опять спросил про Золотую Бабу: почему самоеды за неё заступаются, она что, разве самоедская богиня, что ли, или всё-таки вогульская? На что Кузьма только пожал плечами и сказал: – А мне откуда это знать? И разве я чего такого говорил? Не помню! Давай лучше ещё! И они дали. Кузьма как-то сразу протрезвел и замолчал, и больше уже ни о чём не рассказывал, а так только говорил о разных пустяках. Маркелу стало скучно, он сказал, что, может, уже хватит сидеть, может, лучше выйти посмотреть, что там с вогулами. На что Кузьма строго ответил, что если там что-нибудь важное случится, им сразу дадут знать, а раз знать не дают, то, значит, и смотреть там нечего. И предложил Маркелу сыграть в зернь. Маркел согласился. И вначале ему было скучно, а потом он вошёл в охоту и даже пять раз загнал Кузьму под стол, а сам слазал туда только дважды. – Ну, ты, москва! Ну, москва! – приговаривал Кузьма сердито, а поделать ничего не мог. А Маркел только глумливо подхохатывал. И так бы они играли ещё невесть сколько, но тут вошёл кухарь и сказал, что всем велено идти на стены, потому что вогулы что-то очень сильно расшумелись и, значит, собираются на приступ. Кузьма с Маркелом сразу встали и пошли. Даже скорее побежали. Когда они выбежали на крыльцо, Маркел увидел, что уже давно наступил вечер, даже показались первые звёзды, и наши уже бегали с огнями. А впереди, из-за стены, опять слышался бой бубнов и гайканье ляков. Кузьма побежал к воротам, Маркел побежал за ним следом. Возле ворот, перед толпой, стояли двое стрельцов и раздавали пищали и огненный припас к ним. Кузьма с Маркелом взяли по пищали и полезли на верх, на подмости. Там было уже полно наших, а снизу ещё продолжали напирать. Десятники кричали расступаться дальше вдоль стены. Кузьма с Маркелом ещё пробежали по подмостям, нашли место посвободнее и остановились заряжать пищали. Ветер дул прямо в лицо, мороз крючил пальцы, порох сыпался мимо, Маркел трижды прочёл «Отче наш», пока заряжал пищаль, – и сразу положил ствол на рогульку, начал целиться. Да вот только целиться было пока что не в кого, вогулы же ещё не вышли в поле, а по-прежнему стояли за деревьями и там кричали и выли. До лесу было далеко, не дострелить. Маркел прихватил приклад под мышку, надел рукавицы. За спиной туда-сюда похаживал десятник. Кузьма спросил,давно ли это у них так. Нет, недавно, ответил десятник, а до этого там было тихо. Значит, сейчас пойдут, сказал Кузьма. Но он не угадал. Шаманы продолжали выть, а ляки топать и гайкать. И они всё топали и топали. Им что, думал Маркел, они грибов нажрались, им не холодно, они могут всю ночь топать, а тут уже луна взошла, стало светло, мороз крепчает, тут как бы без пальцев не остаться… Вдруг ляки закричали очень громко, и было видно, в небо полетели стрелы, очень много. Потом вогулы вновь завыли, все разом. Маркел поморщился, подумал, что они, наверное, так же кричали, когда ему перерезали паутинку. И только он так подумал, как снова загремели бубны, завыли шаманы – и в небо опять взлетели стрелы. Эх, только и подумалось Маркелу, а вот и вторая паутинка, и он перекрестился. Тут же опять загрохотали бубны, загайкали ляки, и в небо ещё раз взлетели стрелы. Три паутинки, подумал Маркел, больше кричать им будет не о чем, сейчас они или выйдут из лесу и пойдут на город, или развернутся и уйдут к себе в табор и там затаятся до утра… Но вдруг как взъярились шаманы, взревели бубны, затопали ляки, и в небо взвилась туча стрел! И ещё кто-то завизжал по-заячьи… И стало совсем тихо. Эх, только и подумалось Маркелу, грех какой, а больше ни о чём не думалось. И у вогулов было тихо-тихо. Потом чуть слышно забубнили бубны, загайкали ляки. А потом и это стихло, было только слышно, как шуршали лыжи-ступанцы, и этих лыж было много-премного. Это, подумалось Маркелу, вогулы пошли обратно к себе в табор, и сегодня больше ничего уже не будет. Так оно после и вышло: наши ещё постояли на стене, на подмостях, а после снизу было повеление, и все, кроме, конечно, караульных, сошли вниз и, не возвращая пищалей, стали расходиться на ночлег. Маркел с Кузьмой тоже пошли, вернулись в воеводские хоромы, там воеводский дворский отвёл Маркела в какой-то чулан и сказал, что он пока свободен. Маркел приставил пищаль к стене и начал устраиваться спать. Но тут вдруг раскрылась дверь, вошёл Кузьма, сел напротив, на лавку, и сказал, что ему велено за Маркелом присматривать. – А то, – продолжил Кузьма, – у нас в прошлом году в Пелыме уже был такой случай: прибился к нам один казачок… И, осмотревшись, взял Маркелову пищаль, поставил рядом со своей и опять посмотрел на Маркела. У того сразу в боку прихватило. Но он виду не подал, лёг на лавку, отвернулся к стене, закрыл глаза и подумал, что пора и честь знать. И ещё: если приснится Золотая Баба, то будет беда, а если нет… И заснул. А когда утром проснулся, радостно подумал: не приснилась! Сел на лавке, истово перекрестился…Глава 25
Но тут к ним опять вошёл кухарь и сказал, что вогулы что-то слишком расшумелись, вот воевода и велел всем идти на стену – спешно. Маркел сразу помрачнел и даже думать ни о чём уже не стал, а вслед за Кузьмой взял пищаль, надел шапку и вышел. Когда они шли по двору, то ясно слышали буханье бубнов и гайканье ляков. Солнце ещё только-только поднималось, но людей во дворе было уже немало, и все они, с пищалями, шли к стенам. На стенах тоже было многолюдно. Маркел и Кузьма пришли на своё вчерашнее место, это почти возле самых ворот, и поднялись на подмости. Перед ними было поле, а за полем лес или, правильней, тайга. В тайге, на опушке, мелькали вогулы. Было слышно, как воют шаманы, как гайкают ляки. Потом вдруг всё разом стихло. Десятник велел не зевать. Маркел снял рукавицу, стал дышать на пальцы. И тут из тайги попёрло войско. Их было очень много. Они шли медленно, держали луки наготове. Маркел мысленно перекрестился. Без команды не стрелять, сказал десятник. А вогулы шли и шли. Теперь было уже ясно видно, что немного впереди их всех идёт Лугуй в своей дорогущей кольчуге, а рядом с ним двое провожатых, которые что-то несут. – Что это они затеяли? – вполголоса спросил Кузьма. Маркел не ответил. Не хотелось ему отвечать! Хотелось лучше ошибиться… А вогулы шли и шли. Маркел осмотрелся. Волынский стоял невдалеке, в надвратной башне, на нём была красная бархатная шуба с медвежьим подбоем и высокая шапка из чёрной лисы. Будто почувствовав маркелов взгляд, Волынский повернулся к нему и весело махнул рукой. Маркел сразу отвернулся и опять стал смотреть на вогулов. А те прошли ещё шагов с полсотни и остановились, и так и продолжали держать луки наизготовку. А Лугуй и его провожатые прошли ещё шагов с десяток, и только тогда уже остановились. Не стрелять, громко сказал десятник, не дострелим. И тут Лугуй выступил ещё на один шаг, поднял руки, сложил их горшком, это чтобы было лучше слышно, и начал говорить как можно громче: – Эй, урусуты! Это говорю вам я, великий князь Лугуй Пынжин сын, владелец Куновата города, да Илчмы города, да Ляпин города, да Мункос города, да Юил города, да Сумт-Вош города, а также всех здешних рек и угодий, и рыб, и птиц, и зверей, и деревьев, всего живого, неживого, прошлого и настоящего! Я пришёл вам сказать, что мой любимый брат Чухпелек вчера ночью ушёл к Великой Богине, и Великая Богиня приняла его! Тут он замолчал и обернулся к своим провожатым, взял у них что-то, опять обернулся… И обеими руками поднял над собой окровавленную голову Чухпелека. Эх, сердито подумал Маркел, а вот и не ошибся он, а вот… Но дальше Маркел подумать не успел, потому что Лугуй продолжал: – Теперь Великая Богиня смотрит на вас глазами Чухпелека! А моим языком говорит: Великая Богиня рада моей щедрой жертве, и за это она даёт мне в помощь войско великого воина князя Сенгепа Казымского! Он через два дня сюда придёт и приведёт с собой храброе войско в триста воинов, а это триста метких луков, а к ним тридцать бурдюков болотного жира – и мы сожжём ваш город и вас вместе с ним. Так что, пока не поздно, пока Сенгеп не явился, уходите отсюда, я вас всех выпущу, даже тебя, Волын, но это только в эти два дня, а после никого уже на выпущу, а отправлю вслед за моим братом! И он начал трясти чухпелековой головой, отчего зазвенели привязанные к ней бубенчики. Вот какая тогда стояла там тишина, что даже эти бубенчики, казалось, грохотали громче любых бубнов!.. И вдруг Волынский громко засмеялся, а потом так же громко воскликнул: – Трепать языком вы все горазды! – Это не трепать! – крикнул Лугуй. – А это я правду говорю! Смотри, что мне прислал Сенгеп! И, обернувшись к своим провожатым, вполголоса что-то прибавил. Один из провожатых снял с плеча лук, второй достал из колчана стрелу, обмотанную чёрной паклей, и поджёг её. Стрела сразу ярко вспыхнула. Первый схватил стрелу, задрал лук прямо в небо, выстрелил, стрела сверкнула, взвилась в небо и словно пропала… А после наконец вернулась и воткнулась в снег шагах в десяти перед воротами. Снег зашипел, а стрела продолжала гореть. И так снег шипел и шипел, а стрела горела и горела, покуда не сгорела вся, и также весь снег вокруг неё не растаял до самой земли. Все молчали. Один только Волынский снова засмеялся и громко воскликнул: – Вот так ваши стрелы сгорят, а Берёзов как был нашим, так нашим и останется! – Э, нет! – насмешливо отозвался Лугуй. – Это совсем о другом говорится. Это о том, что кто имеет глаза, тот умеет видеть будущее, а кто слеп, тот не только будущего, но даже и прошлого понять не может. Но я ещё раз говорю: даю вам два дня, а потом приду и всех вас отправлю к Великой Богине! С этими словами он ещё раз потряс Чухпелековой головой, а после отдал её одному из своих провожатых, развернулся и пошёл обратно к лесу. Опять забухали бубны, завыли шаманы, загайкали ляки. У них было очень весело. А у нас…Глава 26
Маркел осмотрелся. Наши все были очень угрюмые на вид. И ещё: никто не убирал пищалей и даже не собирался спускаться со стены. Все смотрели на уходящих вогулов и как будто ждали, что те сейчас развернутся, побегут обратно, и начнётся битва. Потому что когда сюда явится Сенгеп Казымский, будет уже поздно, никакой битвы не будет, а будет только один позор и смерть. Подумав так, Маркел невесело вздохнул и посмотрел на надвратную башню, на стоявших там стрельцов и воеводу с ними. Воевода тоже был очень невесел, смотрел вслед вогулам, хмурился. А после развернулся и пошёл спускаться. За ним пошли остальные. Так же и со стен стали спускаться. Оставались только караульные. Кузьма с Маркелом повернули к лестнице. Оттуда, сверху, было хорошо видно, что воевода уже спустился и теперь стоит возле ворот, а рядом с ним стоит стрелец очень важного вида, и одет он тоже непросто – в зимний шубный кафтан и высокую шапку из чёрной лисы. А в руке этот стрелец вместо пищали держит посох. – Иван Змеев, наш начальный голова, – с почтением сказал Кузьма. – Очень строгий господин, не приведи господь. И тут этот Змеев, следом за Волынским, поднял голову и посмотрел наверх. Маркел невольно потянулся к шапке. Волынский поманил рукой. Маркел отдал свою пищаль Кузьме и пошёл вниз по лестнице. Внизу он сразу подошёл к Волынскому и Змееву, снял шапку и поклонился несильно, в полшеи. – Царский посол! – сказал Волынский Змееву. – Приехал Золотую Бабу брать. Но, – тут же прибавил он, – пока суд да дело, мы будем от вогулов отбиваться. Так? Маркел кивнул, что так. И они пошли, все трое, больше ни о чём уже не говоря. Да ещё Волынский тяжело повздыхивал. И щёки у него были пунцовые, и брови грозно сведены. И так, с пунцовыми щеками, он и довёл их до своих хором, поднялся с ними на второй поверх, а там завёл к себе в ответную. Только там он наконец остановился, сорвал с себя шапку и со злостью бросил её в угол. А после уже не спеша обернулся и почти обычным голосом позвал: – Леонтий! Вошёл челядин. Волынский сказал ему: – Накрывать пока не надо. Челядин поклонился. Волынский пошёл и сел на свою давешнюю лавку. Челядин осмотрелся, подобрал воеводскую шапку, подал её Волынскому, ещё раз поклонился и вышел. Волынский мял шапку в руке, молчал. Змеев похаживал туда-сюда. Маркел стоял столбом. Волынский вдруг сказал: – А всё-таки убил он брата. Я так и думал, что этим всё кончится. – Почему? – спросил Маркел. – Да потому что, – ответил Волынский, – Чухпелек был умней и моложе его. И у него есть сыновья, а у Лугуя нет, а у них князей без сыновей не любят. Вот и завидовал он крепко Чухпелеку и оттого и убил. Да ещё сделал виноватым! Он же будто бы из-за чего его убил? Из-за того, что тот тебя не устерёг, и ты сбежал. Небось ещё сказал своим, что Чухпелек их давно предал, когда ещё ездил в Москву и там в нашу веру тайно перекинулся. Ну и убили его, Золотую Бабу порадовали, и она им за это дала помощь – Сенгепово войско. Маркел вздохнул, подумал, что ведь всё оно так, скорей всего, и было. Прости, Господи, раба заблудшего… Но дальше подумать не успел, потому что Волынский уже продолжал: – И как это Лугуй уговорил Сенгепа?! Сенгеп ведь остяк, а эти все трое вогулы: и Лугуй, и Бегбилий, и Мамрук. И вдруг остяк вместе с вогулами! И ещё эти стрелы горючие. Это нам будет совсем непросто. И он посмотрел на Змеева. Но Змеев только усмехнулся и сказал: – Эти стрелы – больше баб пугать. – Пугать не пугать, – сказал Волынский, – а в прошлом году полгородка у Агая спалили. – Так то было летом, в жару… – А! – только и сказал Волынский и махнул рукой. После надел шапку и нахмурился. Долго молчал. Потом сказал: – И тут ещё царёво око! – И, повернувшись к Маркелу, сердито спросил: – Откуда это твоё дело вдруг открылось? Я на Лугуя не писал. Иван тоже. Ведь не писал же? – спросил он у Змеева. – Ни Боже мой! – твёрдо ответил тот. – А… – начал было Волынский и посмотрел на Маркела. Маркел ответил: – А как было делу не открыться? Не выдали ясак, вот и открылось. Тут и писать никому ничего не надо. Срок наступил, ясак не выдали, вот Щелкалов меня и отправил дознаться. – Ну, – сказал Волынский, – про ясак и про Лугуя это ясно. – А вот откуда Золотую Бабу они сюда вдруг приплели? – Люди болтают всякое, – уклончиво сказал Маркел. – Ну так это люди! – сердито воскликнул Волынский. – А это дело! Это кто-то нарочно напутал. И, я думаю, это Агайка! Я слышал, он у вас в Москве немало воды намутил. Разве не так? Так, да ещё дважды так, хотел в сердцах сказать Маркел, и он ещё набрехал, что мне от этой Бабы чёртовой живым не вырваться, что она смерть моя! Да я… Но это Маркел так только подумал, а вслух сказал: – Ну, может быть. Когда его к Щелкалову водили, мог набаять. Вот Щелкалов и объединил дела. Волынский помолчал, подумал, а потом сказал, очень сердито: – А вот это может быть! Даже скорей всего другого может! И посмотрел на Змеева. Змеев поджал губы и сказал: – А я тогда сразу говорил: не надо нам в это встревать! А теперь что! Надо девку отпускать. – Какую ещё девку? – сразу не понял Маркел. Волынский и Змеев молчали. Тогда Маркел уже уверенней спросил: – Это что же, Агаеву дочку? Как так? Откуда она у вас вдруг оказалась? На что Волынский не сдержался и сказал в сердцах: – А очень просто! У них же разве чего разберёшь? Они же всегда между собой грызутся – остяки с вогулами, вогулы с остяками, вогулы с вогулами, остяки с остяками, и чуть что, сразу ко мне: боярин, рассуди! Вот так и тогда было: не поделили они рыбные угодья, одни вышли напротив Носатого камня колданить, и туда же и вторые. Ну и схватились, и Агай Кондинский взял верх. Побил Сохмата, остяцкого отыра-старосту, перебил его людей и спалил их лодки, поломал колданы. Сохмат сразу к Игичею! Игичей разгневался, пришёл, побил Агая и спалил Кон-городок. Агай побежал к Лугую, они же оба вогулы, двоюродные братья, как тут было Лугую за Агая не заступиться? Ну и они пошли на Игичея. И обдорские с ними пошли, и пелымские, и сосьвинские, то есть всё вогульство. А Игичей один! Вот и стали они Игичея трепать. Трепали очень сильно. Игичей послал ко мне гонца. А с Игичеем у нас, тебе надо было давно это знать, дружба особая. Он всегда везде за нас становится, а мы за него. И я и тогда за него сразу выступил. Ну и побили мы вогулов, а особенно Агая. От него же всё начиналось! И забили Агая в колодки, и отправили в Москву. – А его брата что? – спросил Маркел. – Убили, говорят. – Так это же война, – строго сказал Волынский. – Поэтому не только брата, а и сыновей его, и близкую родню, и два городка, Васпалукук да Колпукулук. А как он думал?! – А девку что? – спросил Маркел. – А что девку?! – сердито воскликнул Волынский. – Игичей взял девку. – Для забав, – вставил Маркел. – Э! – строго перебил его Волынский. – В это дело ты не лезь! – Как это вдруг не лезь?! – ещё строже ответил Маркел. – Эта девка – теперь государево дело, потому что она – дочь государева слуги. – Какой это Агай слуга?! – возмутился Волынский. – Вор он! И бунтовщик! – Ну, не знаю, не знаю, – только и сказал Маркел. – Но на цепи я его не видел. На дыбе тоже. Сидит он себе в Москве, на Строгановском подворье, на всём готовом, и пописывает грамоты, и носит их Щелкалову в приказ, а что в тех грамотах, неведомо. Также неведомо, чем это дело кончится. Так что лучше бы, пока беды не вышло, его дочь у Игичея отобрать и вернуть агаевой родне. Волынский усмехнулся и сказал: – Так я и отобрал уже. Маркел посмотрел на Змеева. Змеев утвердительно кинул. Тогда Маркел, вновь повернувшись к Волынскому, спросил: – И где она сейчас? – Здесь. – Покажи. – А вот не покажу! – злобно сказал Волынский. – Агай вернётся, ему покажу. А пока пускай сидит, где сидела. Да её здесь некрепко неволят. Она и сама отсюда ехать не захочет, даже когда Агай за ней явится. Вот так! Маркел опять глянул на Змеева. Змеев молчал. Зато сказал Волынский: – Да и что нам сейчас далась эта девка? Нам сейчас надо думать, как бы от Лугуя отбиться. Лугую эта девка – тьфу. Ему сейчас подай Сумт-Вош! – Берёзов, – поправил Змеев. – Ну, пока что да, Берёзов, – с невесёлой усмешкой согласился Волынский. – А вот когда придёт Сенгеп… И замолчал, и осмотрелся. Змеев сердито хмыкнул и сказал: – Брехня этот Сенгеп. Сам Лугуй в него не верит. – Как это так? – удивился Волынский. – А так! Если бы он в Сенгепа верил, так не стал бы нам про него говорить, а промолчал бы и дождался бы, когда Сенгеп придёт, а после спалил бы нас во славу Великой Богини. Тьфу! Золотой Бабы, конечно. – Э, нет! – сказал Волынский. – Плохо ты Лугуя знаешь. А он нам потому об этом загодя сказал, чтобы мы, не дожидаясь Сенгепа, бросили бы город, и тогда вся слава досталась бы одному Лугую, а не ему с Сенгепом пополам! Змеев нахмурился, подумал и сказал, что, может, оно и так. – Но это ещё не всё, – сказал Волынский. – Я, думаешь, только об одном себе хлопочу? Да я, если надо… – И вдруг повернулся и позвал: – Кузьма! Вошёл Кузьма, поклонился. Волынский достал из-за пояса нож, распахнул шубу, срезал у себя с груди, с кафтана, нитку золотого шитья и протянул её Кузьме, сказав: – Отдай прямо сейчас! Кузьма взял нитку, поклонился и вышел. – Что это? – спросил Маркел. – Так, пустяки, – сказал Волынский, усмехаясь. – А нам пора к столу. И ещё раз окликнул, теперь уже Леонтия. Леонтий вошёл и с порога сказал, что всё готово. Волынский указал идти за ним. Маркел со Змеевым пошли.Глава 27
Обед у воеводы был хмельной и сытный. И приготовленный по-нашему, привычно: с кашами и с пирогами с разными начинками, с медком и водочками, настоянными на полезных травках. Но Маркел почти не пил и поэтому почти не закусывал. А Волынский, тот, наоборот, и ел, и пил, и ещё почти без умолку рассказывал про то, как его в первый раз поставили воеводой. Это было восемь лет тому назад на Засечной черте, в городе Белёве. Глушь там, говорил Волынский, несусветная, почти такая же, как здесь, а какая там ещё неразбериха, кумовство! А какие открылись приписки прежнего начальства, а… Ну и так далее, и очень многословно. Маркел не выдержал и тоже стал, как Змеев, наливать почаще и накладывать побольше. Так они обедали довольно долго, потом Волынский наконец умолк. Маркел сразу же приободрился, подумал, что вот и пришёл черёд переводить беседу на другое, нужное… Но тут Волынский утёр руки и сказал, что пора и честь знать, он же сегодня проснулся ни свет ни заря. А теперь он встал за столом и прибавил, что никого не держит и сам тоже пойдёт вздремнёт часок-другой. Маркел сразу спросил, что ему делать. Волынский с удивлением посмотрел на него и сказал: – Как это что делать? Ничего сейчас делать не надо. Надо будет, тебя позовут, а пока иди, приляг, пока есть такая возможность. И что тут поделаешь? Маркел пошёл к себе в чулан и там лежал, подрёмывал, думал о Чухпелеке и об Агаевой дочке, которую, как оказывается, прячут где-то совсем рядом. А Золотая Богиня, правильнее, Золотая Баба, та сокрыта где-то очень далеко, одни говорят, как говорил Волынский, это надо плыть далеко на север по великой реке Оби, а после поворачивать направо, на реку Надым, а другие, что налево, на реку Пырью, а третьи говорят, что никуда не поворачивать, а плыть и плыть всё время к морю… И там люди почему-то гибнут, то ли на них находит мор, то ли их Великая Богиня рвёт на клочья, то ли… И Маркел заснул. Когда он проснулся, уже вечерело. Никто к нему не заходил, конечно. Маркел встал, оделся, вышел. Солнце уже зашло, смеркалось. По двору никто не шлялся, было пусто. Зато было много кого на стенах, на подмостях, и оттуда иногда даже постреливали. А вот стреляли вогулы в ответ или нет, было неясно, стрелы же летят почти бесшумно, а поют только тогда, когда во что-нибудь вопьются: тэн-н! Подумав так, Маркел пошёл к воротам и там уже собрался было подняться на стену, но вверху вдруг показался Змеев и строго-настрого велел не лезть, как он сказал, а то могут зацепить стрелой, и что тогда царёво дело? Маркел спорить не стал, постоял немного и пошёл дальше. Так он обошёл весь берёзовский двор. Двор был как обычный острожный двор, там стояли избы для стрельцов и для посадских, значит, подумалось, сюда тоже пришли надолго, и здесь всё вокруг скоро будет нашим. Начало совсем темнеть. Маркел вернулся в воеводские хоромы, там его ждал Кузьма. Они сходили на поварню, перекусили, вернулись, легли спать. Но никак не спалось, потому что то и дело было слышно, как постреливают наши пищали или как кто-то кричит. Тогда Кузьма, чтобы этого не слышать, стал рассказывать о том, что днём один раз приходили вогулы, с полсотни, и стреляли горючими стрелами, в стену, стена занялась огнём, наши кинулись тушить, и вогулы подстрелили троих наших. Маркел мысленно перекрестился и спросил, очень ли опасны эти стрелы. Кузьма ответил, что не очень, потому что зимой лук не то, что летом, не такой упругий, это во-первых, а во-вторых, если пойдёт густой снег, то лук тогда почти совсем стрелять не может, потому что тетива у него быстро становится сырой и тянется, и стрелы летят плохо и куда попало. Но, тут же прибавил Кузьма, пищаль в такую непогодь тоже не в радость, да и не видно, куда целиться. Тут же, продолжил он, бывает, так задует, что ничего совсем не видно, и эти нехристи могут подобраться незаметно и вдруг как полезут на стену, что только держись. Или даже просто подбегут к стене, обольют брёвна болотным жиром, подожгут – и тогда и почесаться не успеешь, как у нас всё загорится диким пламенем и выгорит к чертям собачьим! Маркел спросил про этот жир, что это такое и откуда его берут. Кузьма нехотя ответил, что никто из наших этого наверняка не знает, а так только говорят, что вогулы добывают это на верховых болотах, кантым-ма по-ихнему, там будто есть такие чёрные ключи, из которых это бьёт, такое жирное и чёрное, очень горючее. В прошлом году, ещё сказал Кузьма, у Агая такими стрелами сожгли полгородка, они напугались и сдались. Помолчали, а потом Маркел спросил, что означал тот золотой шнурок, который дал ему Волынский. Кузьма на это недовольно засопел и также недовольно ответил, что это дело не его, а воеводское, поэтому пусть Маркел сам об этом у воеводы спрашивает. И развернувшись к стене, уже ни на какие другие вопросы больше не отзывался. Маркел подложил шапку под голову, задумался и долго думал о разном, а потом тоже заснул.Глава 28
Назавтра поначалу было то же самое: утром Маркел с Кузьмой перекусили и вышли во двор, подошли к воротам, и дальше Кузьма поднялся на стену, а Маркела опять не пустили. Опять Змеев сказал, что не велено. Маркел спросил, кто не велел, Змеев ответил, что воевода. А самого воеводы на стене не было. Как сказал проходивший мимо стрелец, он так рано никогда не является – и весело хмыкнул. Это он про Агаеву дочку, подумал Маркел, и тут же додумал дальше: беда, когда бабы в наше дело лезут. И ещё: и, может, уже влезли, потому что Агай что говорил, что Игичей, когда разбил его, отобрал у него дочку и взял себе для забав, а теперь она уже вон где – у воеводы, воевода с ней забавится, ему уже не до вогулов! Только Маркел так подумал, как наверху закричали, потом Змеев стал командовать, стрельцы, и Кузьма с ними, начали заряжать, а после ждали, прикрывая фитили от ветра. Потом, по змеевской команде, дружно стрельнули. Но, похоже, не очень удачно. А день, кстати, был ясный, солнечный, солнце светило в левый, прищуренный глаз, так что можно было стрельнуть и получше. Зарядили и ещё раз стрельнули. Но тоже, похоже, не очень. И, ещё дым над стеной не развеялся, как засвистели стрелы, прямо туча, и двое наших повалились вниз. К ним кинулись. Змеев почернел от злости и громко сказал, что если так пойдёт и дальше, то уже через неделю отбиваться будет некому. Кто-то из стрельцов тут же прибавил, что зачем через неделю, когда уже завтра придёт Сенгеп и спалит нас. Змеев разъярился и стал спрашивать, кто это сказал. Никто не отзывался. Узнаю, кто сказал, убью, продолжил Змеев, сам, своей рукой, убью! И опять приказал заряжать. Да, кстати, стрелы пока что были негорючие, простые. На стене про это говорили, что вогулы не спешат и ждут подмоги. А Маркел похаживал взад-вперёд и поглядывал то вверх, на стену, то назад, на воеводские хоромы. Но Волынского всё не было и не было. А мороз всё крепчал да крепчал. Маркел притопывал валенками, похлопывал рукавицей об рукавицу и думал, что чего он здесь торчит, это не его дело, да и его дело ещё очень нескоро начнётся, надо же сперва отбиться от Лугуя, потом его разбить, пленить, привести его к кресту, начать допрашивать… Ну и так далее. То есть вот уже больше месяца прошло, как Маркел из Москвы выехал, а дело по-настоящему ещё не начиналось! И вдруг наконец показался Волынский. Он шёл от своих хором, спешил, по сторонам не смотрел. Маркел думал, он сейчас пройдёт мимо него как мимо пустого места… Но Волынский вдруг остановился, посмотрел на Маркела, откашлялся и каким-то не своим голосом сказал: – Ты это чего здесь стоишь?! Иди к нам обратно и жди. Тебя скоро позовут. Иди! Маркел снял шапку, поклонился и пошёл к хоромам. А Волынский поднялся на стену – это Маркел увидел уже с воеводского крыльца. А потом поднялся на второй поверх, к себе в чулан. Там он сбросил шубу, сел на лавку и задумался. Он же хотел заранее догадаться, что будет дальше, то есть кто к нему сейчас зайдёт… Но зашёл самый обычный челядин и так же самым обычным голосом сказал идти за ним. Маркел встал и пошёл. Идти оказалось совсем недалеко – до воеводской ответной светлицы, а за ней в следующую дверь. Челядин толкнул её, она открылась, Маркел зашёл… И оказался в ещё одной светлице, весь пол которой был устлан белой шерстяной кошмой, на которой по-бабьи, на коленках, сидела молодая красивая вогулка в нашего покроя летней шубке, очень дорогой, а возле неё, правильней, при ней, стояла ещё одна молодая вогулка, одетая тоже по-московски, но уже скромно, смирно. Та, которая стоит, это служанка, сразу же подумал Маркел, а которая сидит… И не знал, что и подумать! И так и стоял столбом в дверях. А эта, которая сидела, весело заулыбалась и спросила: – Так ты и есть царский посол? Маркел утвердительно кивнул. – А меня зовут Аньянга, – продолжила эта. – Я Васина эква. Эква значит хозяйка, подумал Маркел, а Вася – Волынский. Вот оно как! И только головой мотнул. Аньянга опять улыбнулась, спросила: – Почему ты на меня так смотришь? Потому что мы с Васей не венчаны, да? – Ну… – только и сказал Маркел. Но Аньянга его сразу перебила: – Вася говорил, что для того, чтобы венчаться, нужен ваш шаман и ваше мольбище. Я это знаю. – Не шаман, а поп, – строго сказал Маркел. – Я это знаю! – ещё строже сказала Аньянга. – И не мольбище, а церковь. Но я никогда не видела церкви. Я не знаю, что это такое. А ты знаешь? Маркел утвердительно кивнул. – И ты её видел в Москве? Маркел опять кивнул. – Так мне и Вася говорит, – задумчиво сказала Аньянга, помолчала и опять продолжила: – До Москвы далеко, три года ехать. – Нет, не три! – начал было Маркел, но спохватился и замолчал. – А тогда сколько? – сразу же спросила Аньянга. – Ну!.. – со смущением сказал Маркел и только развёл руками. – А Вася говорит: три года! – с досадой сказала Аньянга. – Я так и думала, что это неправда! Вот ты, сколько ехал из Москвы? – Я это другое дело, я царский посол! – уже бодрым голосом заговорил Маркел. – Мне надо ехать быстро, а воеводы так не ездят. Они ездят чинно. Их каждый вечер встречают, готовят им богатое застолье, топят баню, потом они назавтра отдыхают до обеда, потом, если на небе тучи, коней распрягают… – Надо ехать на конях? – Конечно! А я ехал просто на собаках. – Так же и Вася, – сказала Аньянга. – Когда в первый раз сюда приехал, он тоже был на собаках. И приехал очень быстро! И быстро всех побил! И у Игичея меня отобрал! И я рада! Очень рада! – Тут она даже захлопала в ладоши… Но тут же опомнилась и замерла. Медленно повернула голову и посмотрела на служанку. Та смутилась. – Ащ! – строго сказала Аньянга. Служанка попятилась и, мягко ступая, выбежала вон. Аньянга ещё немного помолчала, опять посмотрела на Маркела и сказала очень грустным голосом: – До Москвы дороги всего сорок дней. А до Выми ещё меньше, двадцать. И там три церкви, в любой можно обвенчаться. Но Вася молчит и думает, что я ничего не понимаю. А я дочь Кондинского князя! Чем Кондинский князь хуже Волынского? У нас, знаешь, какие угодья богатые? А какие рыбные места! Не зря Игичей на них позарился. А какие у нас соболя – все чёрные. И их как комаров в лесу! – А Золотая Баба тоже у вас прячется? – спросил Маркел. Аньянга замерла, пристально посмотрела на Маркела, а потом ответила: – Кто я такая, чтобы это знать? На пиршества к Великой Богине женщин не пускают. – Но она ведь тоже женщина, – сказал Маркел. – Она не женщина, она Богиня! – строгим голосом поправила его Аньянга. – А ты мне лучше вот о чём расскажи: ты моего отца в Москве видел? – Видел, – ответил Маркел. – И как ему там живётся? Маркел подумал и сказал: – Вольготно. Ты слыхала про таких – про Строгановых? – Слыхала, конечно, – сказала Аньянга. – Они с нами торговали ещё до того, как вы сюда пришли. – А вот теперь, – сказал Маркел, – они твоего отца к себе призвали, и он живёт у них в хоромах, в самой почётной светлице, ест, пьёт на серебре, весь день спит или охотится, если захочет. – А когда он обратно вернётся? – Ну-у, – протянул Маркел, – я этого не знаю. Сперва твой отец должен с нашим царём встретиться, они обговорят дела, договорятся, сколько надо выдавать ясаку, и твой отец поедет обратно. – А про Игичея как? – спросила Аньянга. – Царь отдаст нам его голову или не отдаст? – Так просто царь отдать её не может, – подумав, ответил Маркел. – Сперва он должен их обоих выслушать, это твоего отца и Игичея, а уже потом решать, кто из них прав, кто виноват и кому отдавать голову, а с кого её снимать. Аньянга приоткрыла рот, молчала. Тогда Маркел заговорил скороговоркой: – Царь и великий государь послал меня затем, чтобы я дознался, где прячется Золотая Баба. Если я это узнаю, он мне всё, что я пожелаю, подарит. – И что? – строго спросила Аньянга. – А то, что если ты мне подскажешь, где её искать, – сказал Маркел, – тогда царь любое твоё желание велит исполнить. Ты тогда можешь попросить у него, чтобы он велел своим людям отдать твоему отцу Игичееву голову. Аньянга улыбнулась и спросила: – А ещё? – А ещё, – сказал Маркел, – я научу тебя, что говорить и что делать, чтобы воевода отвёз тебя в Вымь и чтобы он с тобой там обвенчался! Аньянга опустила голову, задумалась. У Маркела в висках застучало! Аньянга подняла голову, ещё раз улыбнулась и сказала: – Смешной ты, посол. Как же я могу рассказывать то, чего не знаю? Я же уже говорила тебе, что нас, женщин, на пир к Великой Богине не пускают. Нам даже нельзя слушать о Великой Богине, не то что на неё смотреть. – Ну а что ты от отца об этом слышала? – спросил Маркел. – Где она прячется, он говорил? Аньянга стала мрачной-премрачной и безо всякой охоты ответила: – Отец говорил, что вам, урусутам, этого лучше не знать. – Почему? – Потому что не будет вам жизни, если вы с ней встретитесь. Она вас всех перебьёт. Маркел усмехнулся и спросил: – И ты в это веришь? – Я не могу на это отвечать, потому что я не хочу верить, но знаю, что не верить нельзя. – А почему ты не хочешь верить? – Потому что вдруг Вася с тобой пойдёт? Тогда и его она убьёт. – А так только одного меня? – Нет! А и всех тех, кто пойдёт с тобой, он разорвёт на клочья! Маркел засмеялся и сказал: – Тогда я пойду один. – И это было бы лучше всего, – строгим голосом сказала Аньянга. Маркел на это только усмехнулся. Аньянгу взяла злость, и она ещё строже продолжила: – Или ещё вот как: я скажу Васе, что ты подбивал меня околдовать его, и Вася велит отрубить тебе голову. – Я не подбивал его околдовывать, – сказал Маркел, – а я обещал помочь тебе. А что отрубить мне голову, так одни уже пытались отрубить и не отрубили, и так и твой Вася не отрубит! – Почему? – А ты подумай сама! Аньянга и в самом деле задумалась, при этом глядя Маркелу прямо в глаза. Маркел глаз не отводил. Аньянга долго смотрела, потом наконец отвела глаза и как будто равнодушным голосом сказала: – Ты, наверное, сильно утомился от разговора со мной. Поэтому я тебя больше не держу. Маркел едва заметно, на полшеи, поклонился, развернулся и вышел. И как только закрыл за собой дверь, то сразу с досадой думал, что ну и наплёл он на себя, тут можно и вправду головы лишиться!Глава 29
Когда Маркел пришёл к себе в чулан, там уже сидел Кузьма. Маркел, ничего не говоря, сел на свою лежанку. – Как тебе наша боярыня? – спросил Кузьма. – Головастая, – уклончиво ответил Маркел. – Это да, – согласился Кузьма. – Скользкая как щука. И такая же зубастая. Вон как в воеводу вгрызлась! А от тебя она чего вызнать хотела? – Ну, – нехотя сказал Маркел, – всё больше она спрашивала про своего отца, как он у нас в Москве сидит. – И что ты ответил? – А то, что и есть! – уже в сердцах сказал Маркел. – Что он у Строгоновых живёт на подворье, на всём готовом, а это не просто так. Строгоновы деньги на ветер зря пускать не будут. Так что Агай, может, сюда ещё вернётся, и не один! – А как? – А там будет видно! – ответил Маркел, лёг на лавку и зажмурился. Кузьма посидел, помолчал, а после не удержался и вышел. К воеводе побежал, подумалось, ну и беги, докладывай. А то ему три года до Москвы! А вот такого не хотел?! Потом ещё подумалось, правда, уже не про Волынского, и так ещё долго думалось о всяком разном. И так всё думалось и думалось, что когда Маркел наконец очнулся, уже вечерело. То есть он проспал полдня. И никто не приходил звать его на обед. И Кузьма до сей поры не вернулся. Что бы это могло значить? Не пришёл ли раньше времени Сенгеп? Маркел подошёл к окну, присмотрелся и прислушался. Во дворе было темно и тихо. И тут открылась дверь, вошёл Кузьма и не очень добрым голосом сказал, что воевода требует Маркела к себе. Маркел незаметно вздохнул, взял шапку в руку и пошёл. Когда Маркел вошёл в ответную, там уже были Волынский, Змеев и ещё один стрелец, назвавшийся Арсентием. Волынский строго, даже можно сказать гневно, посмотрел на Маркела, но ничего не сказал, а только указал на лавку. Маркел сел. И все остальные сидели, Волынский, отдельно, напротив. И он же, Волынский, начал говорить. Сперва он сказал, что как ему донесли его верные люди, Сенгеп со своим войском и в самом деле уже совсем близко и завтра утром сойдётся с Лугуем. В войске у Сенгепа триста лучников и, это тоже правда, много бурдюков с болотным жиром. Они идут и стреляют горящими стрелами. Сказав это, Волынский прибавил: – Ну да Господь не выдаст! – и перекрестился. Перекрестились и все остальные. После чего Волынский посмотрел на Змеева. Змеев встал и начал говорить, сколько у него стрельцов с исправными пищалями, и сколько ратных людей, и сколько какого огненного зелья, то бишь свинца и пороха, и сколько сабель, бердышей и прочего. Потом отвечал Арсентий, так называемый нарядный дьяк, правда, наряда было у него всего одна так называемая затинная пищаль, правильней, конечно, пушка, стреляющая ядрами и дробом, а при пушке трое пушкарей. Пушка уже на станине, продолжал Арсентий, так что её можно уже хоть сейчас затащить на надвратную башню, на стрельницу, и потом оттуда и стрелять. – Докуда у пушки бой? – спросил Волынский. – До лесу достанет, – ответил Арсентий. – Как скоро пушка заряжается? – «Отче наш» не прочитаете, как она уже готова. А если дробом бить, то ещё быстрее получается. – Дроб это очень хорошо, – сказал Волынский и повернулся к Маркелу. Маркел утёрся шапкой и встал. Волынский велел ему подробно рассказать, сколько войска у Лугуя и сколько у союзных с ним князей – Бегбилия и Мамрука. Маркел рассказал. Волынский снова посмотрел на Змеева. Змеев сказал, что в прошлом году в Пелыме было ещё горше, а ведь же отбились. И тут же прибавил, что вот бы сейчас пришли сюда наши пелымские, хотя бы с полсотни, мы тогда вогулам показали бы! На что Волынский сердито ответил, что пелымские никак прийти не могут, потому что они сейчас сами в осаде. И так же сургутские к нам не придут, а от Тобольска слишком далеко. – Так что, – сказал Волынский, – мы можем только на себя надеяться, на наши руки и на нашу веру крепкую. Тут он перекрестился. И все остальные тоже. Тогда он ещё сказал, что утро вечера мудренее, завтра придёт Сенгеп, а пока что можно отдохнуть, чтобы после рука не дрожала, – и кивнул вначале Змееву, потом Арсентию. Арсентий со Змеевым ещё раз поклонились и вышли. А Маркел, получилось, остался. Волынский насмешливо посмотрел на него и так же насмешливо спросил: – Ну что, поговорил с боярыней? – Какая же она боярыня, если ещё не венчана? – будто бы удивился Маркел. Волынский почернел от злости и сказал очень сердито: – Венчана не венчана, это дело не твоё. Надо будет, обвенчаем. А ты чего наплёл?! Зачем ей про Москву рассказывал? – А что я такого рассказал? – спросил Маркел. – И разве неправду? – Ну, может, и правду, – ответил Волынский. – Только правда не всегда бывает к месту. Поэтому если не знаешь, к месту ли, не к месту, иной раз лучше придержать язык. А то смотри у меня! – Так я всегда смотрю, – сказал Маркел. – Служба у меня такая – смотреть да примечать, да спрашивать… – Молчать! – злобно перебил его Волынский. Маркел молча пожал плечами. Волынский тоже помолчал, а после сказал уже почти спокойным голосом: – Ой, не зли меня, Маркелка. А не то кивну стрельцам, и они тебя через тын на ту сторону, к вогулам, выкинут. А я после скажу: не знаю ничего, это он сам туда выпрыгнул. – Волынский засмеялся, повторил: – Сам выпрыгнул, ага! – И снова засмеялся. Маркел молчал. Волынский перестал смеяться, помрачнел и недобрым голосом прибавил: – Доведёшь ты меня до греха. Ой, чую, доведёшь. А пока не мозоль мне глаза! Уходи, пока цел! Маркел пожал плечами, надел шапку, развернулся и пошёл к двери. И так и ушёл, не поклонившись. Шёл по коридору и поскрипывал зубами. А пришёл к себе, сел на лавку и опять заскрипел. Кузьма участливо спросил: – Может, чарочку налить? – На службе не пью, – сердито ответил Маркел. – Так какая сейчас служба?! – У меня служба всегда! – А, – сказал Кузьма, – понятно. Воевода наорал. Это у него бывает. Молодой, горячий. А тут ещё девка попалась строптивая, вот он и кидается на всех. Мы теперь все у него виноваты. А что он тебе сказал? – А! Пустяки, – сказал Маркел. – Вот, сам видишь, пустяки, – сразу подхватил Кузьма. – А бывают и не пустяки. Осенью приезжал к нам купец, привозил товары всякие, обновки. А ей всё это не глянулось! А тут ещё купец не так ответил. Ох, наш тогда разгневался! Велел купца повесить! Прямо на воротах! – И повесили? – спросил Маркел. – Нет, Аньянга заступилась. И наш отпустил купца. Купец на радостях Аньянгу одарил товарами. Задаром! Вот как здесь иногда бывает. А у тебя… Брань что? Брань на вороту не виснет. Так налить? Маркел мотнул головой, что не надо. – А что надо? – спросил Кузьма. Маркел подумал и спросил: – А как она к нему попала? – Очень просто, – ответил Кузьма. – Это же её родитель, князь Агай, напал на Игичеевых людей, когда они возле Носатого камня, есть такое место, стали его рыбу колданить. Или не его, пойди их разбери, у них же жалованных грамот нет, каждый сам решает, где его межа проходит, вот и сцепились Агай с Игичеем, вогул с остяком. И сперва был Агаев верх, тогда Игичей кликнул наших, наши пришли, их Змеев вёл, и разорили Агаевы стойбища, взяли добычу, и Змеев вернулся. После позвали Игичея праздновать. Пришёл Игичей. Воевода видит – а с ним девка, очень видная. Кто такая, воевода спрашивает. Игичей отвечает: так и так, это Агаева дочка, он взял её себе, когда мы Агая побили. И воевода, вижу, загорелся! Стал кричать: как это так, про девку мы не договаривались, девка наша, потому что вся её родня у нас, а девка почему отдельно?! Ну и выкричал девку себе, сговорились они как-то с Игичеем, и Игичей после уехал, а девка осталась. – А где в это время был Агай? – спросил Маркел. – А уже не здесь, – сказал Кузьма. – Ещё же сразу отвезли в Москву, ещё до того, как Игичей к нам приехал и девку привёз. А после Игичей уехал, а девка осталась. Но, тогда говорили у нас, он её как бы не совсем оставил, а только на зиму. Или брехали люди, я не знаю. Может, навсегда отдал. – Или, может, на ясак сменял, – сказал Маркел. – Нет, – сказал Кузьма, – Игичей нам ясаку не платит. – Как так? – А так мы с ним уже давно договорились. Игичей нам вместо ясака помогает войском. Это когда нам бывает нужно, воевода ему пишет, и тот выставляет ляков сколько велено. А скажут самому прийти, и сам приходит. – И остальные князья тоже так? – Нет, остальные все платят ясак, – сказал Кузьма. – Так и Лугуй платил, так и Мамрук, так и Агай, и Бегбилий, Сенгеп, и остальные, вся Югра. Один только Игичей не платит, а приводит ляков, если воевода повелит. Но также и он, если что, зовёт воеводу, как в прошлом году было, когда на Носатом камне он с Агаем схватился. И воевода послал Змеева, и Змеев Игичею пособил. – Тогда почему сейчас, – сказал Маркел, – нам Игичея не позвать бы? – Так, может, уже и позвали, – ответил Кузьма. – Просто пока нет ответа, вот воевода и молчит. А как только придёт ответ, он тогда про это и объявит. Маркел подумал и сказал: – Или вдруг посыльного перехватили. – Нет, это вряд ли, – ответил Кузьма. – Наших посыльных не очень-то перехватишь. – Это что за ловчилы такие? – спросил Маркел. – Придёт время, узнаешь, – ответил Кузьма. Помолчали. Кузьма опять спросил: – Может, налить? Маркел опять отмахнулся. Кузьма рассердился, сказал: – Чего же тебе тогда надо? Маркел подумал и ответил: – Нож хороший, кидучий, и кистень в рукав. А то отобрали у меня вогулы всё подчистую, и я стал как без рук! Кузьма подумал и сказал: – Это серьёзно. – Встал и вышел. Маркел сидел, думал о всяком. ВернулсяКузьма, принёс три ножа на выбор и один кистень. Маркел сразу забрал кистень, а ножи сперва испробовал – кидал в дверь и в стену, выбрал лучший и сказал, что он теперь как будто заново родился. Кузьма, ничего не говоря, опять ушёл, принёс горшок каши, ложки, чарки и бутыль. Перекусили. Легли спать. Спалось легко, свободно.Глава 30
Утро тоже начиналось хорошо: проснулись, когда уже совсем рассвело, плотно перекусили и вышли во двор – Кузьма с пищалью, Маркел налегке. Небо было чистое, солнце светило ярко, мороз был несильный. И ниоткуда никакого шума не было. Маркел ещё даже успел подумать, что Сенгеп, может, и не придёт, передумает и развернётся, и пойдёт обратно. Или придёт, но разругается с Лугуем и опять же повернёт… Но тут с надвратной башни закричали: – Идут! Идут! И из-за стен почти сразу послышался бой бубнов и гайканье ляков. И этот шум становился всё громче и громче. Кузьма сбросил пищаль с плеча, кивнул Маркелу и пошёл скорым шагом… а потом, не удержавшись, побежал к стене. На стене было уже полно народу. Поблескивали пищальные стволы. По подмостям туда-сюда прохаживался Змеев, он был в шлеме, а из-под распахнутой шубы была видна кольчуга дорогой работы. А Волынский, тоже в шлеме, стоял в надвратной башне, возле пушки. Арсентий ему что-то объяснял, показывал, Волынский согласно кивал. Маркел не утерпел и полез на надвратную башню. Теперь его никто не останавливал, всем было не до него. Даже Волынский только мельком глянул на Маркела и сразу опять повернулся к Арсентию. Так и Маркел больше не стал на них смотреть, а, вытянув шею, начал смотреть за стену, в поле. Там уже показались вогулы. Их пока было немного, может, сотня. Они шли цепью, не спеша. Шли с уже поднятыми луками, заправленными стрелами. Но стрелы были пока что простые, негорючие. Змеев крикнул приготовиться. Но ляки вдруг остановились, подняли луки ещё выше и, по команде, стрельнули. Стрелы полетели высоко, навесом, и попадали, не долетев до крепости. Тогда они подступили ещё – и ещё раз, опять навесом, стрельнули. Теперь почти все стрелы залетели в крепость и кое-где кое в кого попали. – Берут прицел, – сказал стрелец, стоявший рядом с Маркелом. – А сейчас будет наш черёд. И он склонился к пищали. И верно – Змеев отрывисто выкрикнул: – Пли! Наши пальнули. Ляки, развернувшись, побежали. – Заманивают, ироды, – сказал стрелец, перезаряжая пищаль. Маркел мысленно пересчитал убитых ляков, таких было четверо, а всё остальное войско убежало в лес. Потом они долго оттуда не показывались. Солнце поднималось всё выше, мороз крепчал, наши уже начали мёрзнуть на стенах, а вогулы всё никак не выходили и не выходили из лесу. Они только шумели всё громче, гайкали, выли их шаманы, грохотали бубны. Им чего, думал Маркел, грибов нажрались, а теперь ещё пляшут, где же тут замёрзнешь? А вот мы… И тут у них опять дико завыли, потом над лесом взвились стрелы, чернющая туча. Эх, подумал Маркел, как бы это они ещё кого-нибудь не отправили к Великой Богине! А стрелец, стоявший рядом, сердито сказал: – Лучше бы они горючими стреляли, может, тогда сами себя подожгли бы! Но вышло совсем по-другому. Сзади, с обратной стороны острога, закричали: – Идут! – И начали стрелять. Стреляли беспорядочно. – Обошли! – в сердцах сказал стрелец. А Змеев уже спускался со стены, кричал, чтобы саввинские шли за ним – и побежал к той стене, за воеводские хоромы и ещё немного дальше. Саввинские, как после узнал Маркел, это стрельцы из полусотни Саввы Клюва, полусотенного головы. И вот эти саввинские перебежали, вместе со Змеевым, на ту сторону острога, поднялись на стену и стали стрелять в кого-то. – Обошли, – опять сказал стрелец. – И они так всегда. Их же протьма, без числа, как говорится, их попробуй перебей всех до последнего. И, перезарядив пищаль, сдул с полки лишний порох и прицелился. Волынский крикнул «Пли!», и он, как и все другие, выстрелил. Ветра никакого не было, пороховой дым повис столбом. Волынский опять крикнул перезаряжать. Но когда дым рассеялся, стало ясно видно, что в поле никого, кроме убитых вогулов, не осталось. Да и этих было мало, может, только с полтора десятка. А с той, оборотной стороны острога, стрельба с каждым разом крепчала. Волынский отправил туда ещё два десятка подмоги. И тут же снова попёрли вогулы, теперь уже сбоку. Волынский и туда людей подбросил. Тогда вогулы вылезли с другого бока, и теперь там пошла стрельба. Но это всё стреляли обычными стрелами. Сосед-стрелец сказал, что для горючих стрел вогулы ждут темна, тогда это страшней получается. – Нет, – сказал второй стрелец, – это они ждут, когда поменяется ветер: когда будет дуть на нас от леса. И так оно и случилось, но не сразу. Вначале ещё часа три шла простая перестрелка, а потом и в самом деле поменялся ветер, стало дуть от них прямо на нас – и из лесу вышло сразу сотни две, а то и все три, ляков, а с ними с десятка полтора кучкупов с горящими головнями. Глядя на них, стрелец-сосед ругнулся и, не дожидаясь команды, начал целиться. Но без команды не стрелял. А ляки остановились дальше обычного, то есть так, чтобы до них было не дострелить из пищали, и заложили стрелы в луки. Кучкупы пробежали между ними с головнями, стрелы ярко загорелись, потом ляки выкрикнули «гай!» – и стрелы полетели к крепости. И пока они летели, ляки ещё раз стрельнули, потом ещё, потом ещё. Всего они стрельнули пять раз, развернулись и пошли обратно. А стрелы одни впивались в стену и поджигали её, а другие перелетали во двор – и там шипели на снегу. Стена кое-где начала гореть. Сверху, с подмостей, её пытались загасить, но это получалось не везде. А потом кое-как получилось. Ляки к тому времени давно уже ушли, и опять из леса стало слышно, как воют шаманы, грохочут бубны, кричат воины. Так их прождали с полчаса, не меньше. Потом опять вышли ляки с кучкупами, стрельнули несколько раз горючими стрелами, подожгли стены и ушли, прежде чем наши опомнились. Да, и ещё: на этот раз пожару было больше. Потом, уже перед самым заходом солнца, из лесу вышел сам Лугуй, встал так, чтобы до него не дострелили, и стал кричать, чтобы ему отдали Берёзов, а не то, сказал, он всех сожжёт и отправит к Великой Богине на пир. На что Волынский засмеялся и спросил, чего он сразу не отправил. Мы, сказал Волынский, с удовольствием попировали бы, а то целый день стоим здесь голодные, холодные. Лугуй на это разъярился, закричал, что сейчас он нам устроит пир, развернулся и ушёл. И только он скрылся в лесу, как оттуда снова выскочили ляки, теперь уже сотни четыре, не меньше, и с ними с полсотни кучкупов с горящими головнями, и все они побежали вперёд, они, наверное, хотели нас поджечь в упор… Но тут Волынский дико крикнул «Пли!» – и вместе со стрелецкими пищалями стрельнула и наша затинная пушка дьяка Арсентия, стрельнула полупудом дроба, в самую толпу! И вот тут вогулам, вместе с сенгеповыми остяками, мало не показалось! Поразрывало их на клочья и поразметало во все стороны! А сколько было дыма, грохота! Войско напугалось и остановилось, Волынский снова крикнул «Заряжай!» – и тут войско дрогнуло, развернулось и побежало обратно. Наши кричали радостно и, кто успел, стреляли войску вслед. А после войско забежало в лес и там затаилось. Тем временем начало быстро смеркаться. Никаких огней из леса видно не было и никаких шумов не доносилось. Нашим принесли поесть прямо на стены. Начал подниматься ветер, запуржило. Это, весело сказал Кузьма, Великая Богиня от них отвернулась, не пойдут они сегодня больше, стрелы в такую непогодь не загорятся, пожар не устроишь. И Маркел с Кузьмой пошли к себе. Так же и стрельцы ополовинились, то есть половина их осталась на стенах, а вторая половина ушла отдыхать. Когда Маркел и Кузьма подходили к воеводским палатам, Кузьма показал на воеводские окна. В них было темно. Кузьма понимающе хмыкнул. А Маркел вспомнил Параску. А после почему-то Золотую Бабу, когда она сидела голая. И сразу же подумалось: ох, грех какой, она же – бесовство некрещёное. Но дальше думать было некогда, они вошли в хоромы, поднялись к себе. Время было позднее, но спать ещё не хотелось. Зажгли лучину, сели играть в зернь. Играли не очень охотно, а больше с оглядкой. Маркелу всё время казалось, что их кто-то подслушивает, вот он и сам то и дело прислушивался. Так они играли часа два, у Маркела лоб опух от щелбанов, Кузьма сидел довольный, подхохатывал. Вдруг громыхнула пушка. После закричали наши. Или вогулы? Кто их разберёт! Маркел с Кузьмой вскочили, наскоро оделись и кинулись во двор. Во дворе было полно народу, все кричали, бегали туда-сюда, как на пожаре. Так тогда и был пожар, на той дальней стене. Полыхало знатно! И там же стреляли, рубились. Маркел с Кузьмой кинулись туда. Там было так – тын горел сверху донизу брёвен на двадцать, не меньше, а возле брёвен и на брёвнах мелькали вогулы. И эти вогулы были в латах, с саблями, то есть отыры, а не ляки с ножами и луками. Но, правда, и все наши стрельцы были с бердышами, а что такое сабля против бердыша?! И наши теснили отыров, теснили – и вытеснили, загнали на горящий тын, а после и сбросили с тына, и сами следом за ними попрыгали на ту сторону, в ночь, в темнотищу несусветную, и там продолжали рубиться. Вёл их Змеев. А Волынский, как уже после узнал Маркел, тогда взял с собой сотню стрельцов, вышел через ворота, прошёл вдоль стены и ударил отырам в спину. Отыры побежали. Наши, и с той, и с этой стороны, начали тушить стену и мало-помалу потушили. Крики стихли. Волынский вернулся в ворота, подошёл к пожарищу и сказал, что он так и думал, что Лугуй так просто не уймётся, но вот зато теперь будет молчать до самого утра. Так что, продолжал Волынский, он теперь тоже немного отдохнёт. После развернулся и пошёл к хоромам. Пошли и Кузьма с Маркелом. Но придя к себе, играть в зернь уже не стали, а постелились и легли. Кузьма начал рассказывать о том, как они в прошлом году брали Берёзов, тогда ещё Сумт-Вош, и сколько тогда народу полегло, и как Волынский лез на стену, как ругался… И заснул, вначале тихо, а потом с громким прихрапыванием. А Маркел лежал, вспоминал прошедший день и думал, что вот и опять он ничего для своего дела не сделал, вернётся с пустыми руками – князь Семён оторвёт ему голову. Но не по-настоящему, конечно, слава богу, так что было бы очень хорошо вернуться хоть с пустыми, но всё же целыми руками, потому что тут же понятно, вогулы не уймутся, пока не возьмут Берёзов, а у нас нет должной силы его отстоять, так что нас может спасти только чудо. С этой мыслью он перекрестился, трижды прочёл «Отче наш», закрыл глаза и мало-помалу заснул.Глава 31
Назавтра утром всё началось сначала: вогулы выходили из леса и стреляли горючими стрелами, а наши им отвечали из пищалей и из пушки. Но стрельбы было немного, потому что день тогда выдался ненастный, переменчивый – то поднимался ветер и дула пурга, то наступало затишье, и тогда мы и они стреляли, но без особой удачи. Когда Маркел с Кузьмой вышли из воеводских палат, было уже совсем светло. Маркел осмотрелся и подумал, что опять ему, как идолу, надо будет весь день торчать посреди крепостного двора… Но тут Кузьма вдруг протянул ему свою пищаль и сказал, что пусть Маркел идёт вместо него, потому что воевода так велел. Маркел пожал плечами, взял пищаль и пошёл дальше. А Кузьма по-прежнему стоял посреди двора. Маркел поднялся прямо на надвратную башню, остановился неподалёку от Волынского, – а тот опять был в шлеме и в кольчуге, – зарядил пищаль и начал смотреть в поле, на вогулов. А иногда, вместе со всеми, и постреливал. И также иногда, но это уже только один, Маркел оборачивался во двор и смотрел на Кузьму, который по-прежнему стоял неподалёку от воеводского крыльца и поглядывал то по сторонам, то в небо. Чего это он там, в небе, высматривает, настороженно думал Маркел, неспроста это, ох, неспроста! И Маркел не ошибся. Вначале из-за леса налетела стая воронья и начала кружить, но не над полем, где там-сям лежали убитые, а прямо над крепостным двором. Никто, конечно, не обращал на них никакого внимания, потому что вороньё в такое время – дело самое обычное, вороньё всегда чует поживу… А вот Кузьма, тот нет, тот не сводил с них глаз, и так и вертел головой, а потом даже снял шапку, чтобы не мешала. А вороньё ещё немного покружило, а после полетело опять к лесу, прочь. Один только здоровенный ворон продолжал кружить, теперь уже прямо над Кузьмой… А потом вдруг сделал полукруг и снизился, подлетел к крыше, там забился куда-то под стреху – и как пропал! Кузьма сразу надел шапку, подбежал к крыльцу, вбежал в хоромы и тоже пропал. Э, только и подумал Маркел, вот оно что! И только он хотел было отставить пищаль, как сперва скомандовали целиться, и он прицелился. Потом, тоже по команде, он стрелял. Потом надо было ждать, когда рассеется дым. И вот уже только после этого Маркел смог обернуться и увидел, что Кузьма бежит к ним по двору и держит в руке что-то блестящее. Потом, когда Кузьма поднялся на башню, Маркел мельком увидел, что Кузьма держит в руке косичку – золочёную. И держит украдкой! Волынский сразу выхватил её и спрятал у себя, и быстро осмотрелся. Никто, кроме Маркела, этого не видел. А Маркел, хоть и видел, молчал. Волынский, будто бы ничего не случилось, уже опять приказал заряжать. Маркел, как и все, сыпнул порох на полку, приступил, повернулся к полю и подумал, что золочёная косичка – это ответ на воеводскую нитку золочёного шитья. И тогда получается вот что: воевода посылал шитьё, просил подмоги, и вот ему пришёл ответ, ворон принёс, что подмога близка. А кто подмога? Игичей, конечно. А почему тогда… Но тут уже не Волынский, а Змеев велел целиться, Маркел прицелился. Змеев крикнул «Пли!» – и все, и Маркел с ними, дружно выстрелили. И тут опять задул ветер, поднялась пурга, ничего не стало видно. Дали команду приставить пищали. Выл ветер, снег хлестал в глаза. И так продолжалось достаточно долго. Дело было, прямо сказать, дрянь, но Волынский ничуть не кручинился, ходил туда-сюда, посвистывал. А что, думал Маркел, Волынский же знает, что к ним идёт Игичей, вот он и весел. Вот только почему он об этом никому не говорит? Не верит Игичею, что ли? Или не очень рад тому, что он придёт? Или, может, это из-за Аньянги? А что! Да вот… Ну и так далее. Много тогда о чём Маркел успел передумать, пока их пургой продувало. А после где-то далеко забухало. Потом закричали. Кричали дико, вразнобой. Ветер ослаб, в небе стало тихо. Зато со стороны тайги, оттуда, где стояло войско Лугуя, бухать стало ещё громче и надсадней. И был ещё какой-то шум. Среди наших стали спрашивать, что это там такое. Одни отвечали, это бубны. Другие – нет, это кричат вогулы… И только тогда Волынский вдруг сказал: – Нет, это не вогулы. Это остяки вогулов режут. Это пришёл Игичей! Он обещал мне и пришёл. Да вы сейчас сами всё увидите. Смотрите! И он указал вперёд, на поле. А там становилось всё виднее и виднее, ветер же совсем пропал, снега больше не мело, и вот уже стало видно всё поле, до самого леса, а по полю шли вогулы… Нет, как Маркелу объяснили, – это остяки, просто они очень похожи на вогулов, в таких же одеждах, и у них тоже много ляков и мало отыров. И вот они шли и шли, а впереди всех шёл самый из них видный – в распахнутой шубе, с двумя саблями и с золочёными косичками на непокрытой голове. «Игичей! Игичей!» – заговорили на стене. И говорили это с уважением. А Маркел смотрел на Игичея и думал, что кусок точно такой же косички им недавно принёс ворон. А какое войско здоровенное! В нём не меньше пяти сотен воинов, а то, может, и всей тысячи. Они были уже близко. Воевода развернулся и начал спускаться с башни, на ходу велев открыть ворота. И чтобы все срочно спускались и строились за воротами в поле. Стрельцы валом повалили вниз. Маркела несло вместе со всеми. Потом они выходили в ворота, потом расступались направо, налево. Маркел старался держаться в середине. Потом даже пробился в первый ряд – и увидел перед собой остяцкое войско князя Игичея. Оно и в самом деле очень сильно походило на вогульское, только здесь вместо Лугуя стоял Игичей, у него в каждой руке было по сабле, а золочёные косички так и сверкали на солнце, которое уже начало пробиваться сквозь тучи. Игичей широко улыбался. Игичей был молодой и крепкий. К нему от наших вышел воевода, тоже не сказать, что старый гриб, остановился совсем рядом и, не обращая внимания на Игичеевы сабли, начал громко, чтобы все слышали, говорить: – Рад тебя видеть, Игичей, в добром здоровье и с головой на плечах. Игичей засмеялся, ответил: – И так же и я! – Говорят, ты Лугуево войско побил, – продолжал воевода. – Какое войско? – удивился Игичей. – Мыши по снегу бегали, мы их прогнали, вот и всё. И он опять засмеялся. В его войске тоже начали смеяться. – Это славно! – сказал воевода. – Может, ты проголодался, Игичей? Тогда я приглашаю тебя к своему столу! – Я никогда не бываю голодным, – сказал Игичей. – Но почему бы не повеселиться? Веселиться я люблю! – Тогда, – сказал Волынский, – чего мы стоим? Идём! А всем твоим славным отырам и прочим не менее славным воинам мои слуги поднесут поесть и выпить прямо здесь, на месте! – И, обернувшись, приказал: – Иван, давай! Иван, то есть Змеев, начал подзывать к себе десятников. Волынский и Игичей прошли сквозь толпу наших и пошли дальше в крепость. Маркел не знал, что ему делать. Но тут к нему подошёл Кузьма и сердито спросил: – А ты чего здесь застрял? Тебя ищут везде! Остяк сказал, что он без царского посла на кошму не сядет! Так что давай, иди скорей! И Маркел пошёл обратно, к воеводским хоромам. Навстречу ему шли челядины, несли тяжёлые вёдра и связки берестяных чарок. Это, как догадался Маркел, было угощение Игичеевскому войску.Глава 32
Когда Маркел их догнал, они остановились, и Волынский сказал Игичею, что это и есть царский посол. Игичей посмотрел на Маркела, улыбнулся и спросил, что это не ему ли Чухпелек хотел отрубить голову. Маркел ответил, что ему. Игичей весело засмеялся и сказал, что это очень хорошо. И они, теперь уже втроём, пошли дальше. Маркел при этом ещё думал, что если Игичею такое известно, то, значит, в Лугуевом войске у него есть лазутчики. И, может, в нашем войске тоже. А они тем временем уже пришли, поднялись на крыльцо, а там дальше на второй этаж и вошли в ответную. Теперь там не было лавок, ответная была совсем пуста, и весь пол там был застелен белой кошмой. – Видишь, с какой честью я тебя сегодня принимаю? – спросил у Игичея Волынский. – Я знаю, что тебе так больше любо. И, не дожидаясь ответа, пригласил садиться. Они, все трое, сняли шубы и расселись. Волынский щёлкнул пальцами, и слуги понесли питьё, закуски. Всё это было наше, привычное. И Волынский сказал и про это: – Видишь, чем я тебя потчую? Мои люди несут тебе то, что для меня слаще всего. И, подняв чарку, сказал пить до дна. Они все трое выпили. Игичей аж головой тряхнул, так ему наше питьё понравилось. Хотя, тут же подумал Маркел, питьё было как питьё – водка двойной перегонки. После неё стали закусывать. Волынский начал походя спрашивать, как у Игичея дела, легка ли была дорога. Игичей ответил, что легка, после чего спросил, принесли к нам от него весточку. – Эту? – спросил Волынский и вытащил, и показал обрезок золочёной косички. Игичей кивнул, что эту. А Маркел посмотрел на Игичея и увидел, что одна косичка у него и в самом деле короче остальных. Волынский хотел отдать Игичею обрезок косички, но Игичей его не принял и сказал, что если он что-нибудь отдаёт, то обратно уже не отбирает. – Это очень хорошо, – сказал Волынский. – Но, – тут же сказал Игичей, – если мне чего-нибудь не отдают, то я могу и разгневаться! – И засмеялся. Волынский тоже засмеялся, но не очень весело, после чего велел слуге ещё налить. Слуга налил. Волынский первым поднял чарку и сказал: – Давайте выпьем за то, что для нас всего дороже – за нашу славу ратную. Игичей согласно закивал и выпил. Маркел тоже. Они опять взялись закусывать, а Волынский, отослав слугу, стал спрашивать у Игичея, как прошёл поход. Игичей начал рассказывать, но односложно, коротко – вышли, долго шли, пришли, побили вогулов, взяли две сотни ух-сохов. Волынский спросил, а что Лугуй. Игичей ответил, что ушёл. Волынский спросил куда, Игичей ответил, что послал людей за ними. Люди, сказал, скоро вернутся и расскажут. И вдруг спросил: – А где то, из-за чего я сюда пришёл? – Что «то»? – спросил Волынский, а сам сразу покраснел. Зато Игичей и глазом не моргнул, а неспешно полез за пазуху, достал оттуда кусок золотого воеводского шитья и заговорил неспешным голосом: – Вот что на самом деле для тебя дороже всего, вот что ты при сердце носишь, и ты послал это мне, сказал, что это отдаёшь. А я тебе послал в ответ самое дорогое для меня – срезал кусок золочёной косы, это значит, я хотел сказать, что готов взамен твоего дара отдать тебе свою голову, жизнь, и земли наши, и людей своих, которыми мой покойный отец и мои предки владели три тысячи лет или даже ещё больше! Тут он вдруг повернулся к Маркелу и строгим голосом сказал: – Царский посол! Слушай внимательно и запоминай каждое слово, потом царю всё расскажешь. Маркел открыл было рот, чтобы ответить, но Волынский перебил его: – Слушай внимательно, посол! И примечай! Разве про это в косичке написано? А разве в шнурке что-то сказано?! И опять Маркелу не дали сказать! Игичей уже со смехом говорил: – Вот даже как, Волын! Тогда ты вот на что ответь: если в твоём шнурке ничего не было, тогда зачем было его посылать?! Значит, ты вводил меня в обман? – Я не вводил! – уже очень громко ответил Волынский. – А я звал тебя на помощь и хотел сказать, что готов одарить тебя самыми богатыми дарами, а ты от них, я вижу, хочешь отказаться! – Да, хочу отказаться, – сказал Игичей. – Потому что зачем мне дары, если ты отобрал у меня то, что и без того было моим! – Без того было Агаевым! – злобно сказал Волынский. Ну, тут и Игичей не удержался и очень сердито воскликнул: – Агай вор! Агая на цепь посадили! – Зачем ты тогда с его дочкой путался? – уже просто насмешливо спросил Волынский. – Она ведь тогда тоже воровка! – А ты зачем?! – Она мне как жена! Она меня любит! Вот давай у неё спросим, кто ей люб! – Ха! – засмеялся Игичей. – Буду я бабу слушать! И также и ты её не слушаешь! А иначе ты давно поехал бы с ней в Вымь, в ваше тамошнее молебное место, и женился бы на ней по вашему обычаю! – Ты наши обычаи не трожь! – строго сказал Волынский. – А я и не трогаю, – ответил Игичей. – А я вот сейчас развернусь и поеду обратно домой, и всё войско с тобой заберу, и пусть Лугуй к вам возвращается, и пусть казнит тебя. Это будет очень справедливо после того, как ты нарушил своё слово. – И повернувшись к Маркелу, продолжил: – Царский посол! Езжай обратно в Москву и там расскажи царю, что его слуга Васка Волын не держит своё слово, хоть и целовал святой крест, как он это называет. Маркел посмотрел на Волынского. Волынский, снова сильно покраснев, сказал: – Не клялся я, а я просто сказал, что могу поклясться. Но Игичей сказал, что он и так, без клятвы, верит. – А что ты обещал? – спросил Маркел. Волынский, помолчав, ответил: – Я обещал ему её отдать. Но, – продолжал он, уже обернувшись к Игичею, – если ты мне пособишь! – А разве я ещё не пособил? – улыбаясь, спросил Игичей. – Нет, конечно, – ответил Волынский. – Где Лугуй? Вот разобьём Лугуя, и тогда бери! – Ащ! – сердито сказал Игичей. – А потом ты опять скажешь, что я не помог! Потому что ещё есть Бегбилий, ещё Мамрук, ещё Сенгеп, ещё секлькупы, самоеды… Кто ещё? – Всё это можно оговорить в грамоте! – сказал Маркел. – Написать и припечатать! Хочешь грамоту? Игичей подумал и сказал: – Хочу. Прямо сейчас. Волынский смотрел на Маркела. Маркел на Волынского. Оба молчали. Потом Волынский трижды щёлкнул пальцами. Вошёл Леонтий, его дворский. Волынский велел подать всё, что надо для письма. Леонтий поклонился и вышел. Волынский взял бутыль и налил всем понемногу. Но никто пить не стал. Все ждали дворского. И вот наконец он пришёл, принёс бумагу и перо, песок, чернильницу, дощечку. Маркел взял всё это, приготовился, спросил, чего писать. Игичей сказал: – Пиши как есть. Я, Игичей, великий князь Югорский, – подождал, —меняю город Куноват, – ещё раз подождал, – на Агаеву дочку Аньянгу. А я, воевода Волын, меняю Аньянгу на Куноват. Так? Маркел кивнул, дописал. Дал Волынскому. Волынский спросил: – Почему Куноват? – Потому что, – сказал Игичей, – он в Куноват ушёл, больше ему теперь некуда. Поэтому когда я отдам тебе Куноват, то отдам и всё Лугуего княжество. Волынский, вздохнув, расписался, широко, с завитушками, и отдал Игичею. Игичей долго смотрел на грамоту, потом бережно скрутил её в рульку. – Вот и всё, – сказал Волынский. – Можешь идти. – Нет, – подумав, ответил Игичей. – Сперва позови её. Хочу посмотреть. Волынский опять позвал Леонтия, Леонтий пошёл звать Аньянгу. Аньянга долго не шла, Волынский злился, вертел головой, а Игичей улыбался. Наконец пришла Аньянга. Она опять была одета по-московски и смотрелась очень хорошо. Игичей залюбовался ею, потом вдруг сказал: – Танцуй! Аньянга сердито поморщилась и ответила: – Я не буду перед тобой танцевать! – Почему? – спросил Игичей. – Потому что ты мне никто! – А если станешь моей женой? – спросил Игичей. – Тогда я ночью зарежу тебя! – А если он на тебе женится? – Тогда буду его целовать! А ты уходи! Игичей поднялся, насмешливо осмотрел их всех, сказал: – Это мы ещё посмотрим, кто кого зарежет! – И ушёл. Когда дверь за ним закрылась, Маркел посмотрел на Аньянгу, потом на Волынского. Волынский сердито сказал: – А ты чего сидишь? Тебе здесь тоже делать уже нечего, ты своё всё сделал. Иди! Маркел недобро усмехнулся и хотел ответить… А ответить ему было чего, потому что не таких они к себе в приказ затаскивали и отдавали Ефрему в работу… Ну да Аньянгу стало жалко. Глупая девка, подумал Маркел, молода ещё, выйдет замуж и заматереет, и Волынский у неё тогда… Да! И так дальше. Да только дальше думать было не с руки. Маркел встал, кивнул Волынскому, улыбнулся Аньянге и вышел. А пришёл к себе в чулан, Кузьмы там не было. Маркел не стал раздувать огонь, а так и лёг в потёмках. Долго лежал, думал об услышанном и о том, что как ни крути, а он с Волынским – государевы люди, поэтому так и должны поступать – по-государеву, хотя, конечно… Эх! А тут ещё в боку заныло, и чем дальше, тем сильней. И сразу вспомнилось, как Параска его выхаживала, да ничего у неё не получалось, рана синела и пухла, тогда Параска отвела его к ведьме, и эта ведьма, чужой человек, за деньги, быстро с этой бедой управилась, Маркел встал на ноги, а вот своя Параска… И ещё раз эх! И долго ещё Маркел думал, ворочался, пока заснул.Глава 33
Утром пришёл Кузьма, сел на свою лавку и громко вздохнул. Маркел сразу проснулся, приподнялся на локте и спросил, что случилось. – Да ничего особенного, – ответил Кузьма. – Просто вернулись Игичеевы люди, которые ходили смотреть, куда Лугуево войско девалось. – И что? – спросил Маркел. – А то, – ответил Кузьма, – что разбежалось его войско, вот как! Бегбилий пошёл обратно на Сосьву, Мамрук тоже к себе, в Обдорск, а Лугуй и Сенгеп пошли к Лугую в Куноват, в его столичный городок. – А что мы? – спросил Маркел. – Не ты, а мы, – сказал Кузьма. – Мы, берёзовские, вместе с Игичеем, тоже пойдём на Куноват, конечно. А про себя сам спрашивай. Ты же не наш, берёзовский, а ты московский, так воевода про тебя сказал. – Чего это он вдруг так? – удивился Маркел. – Я не знаю, – ответил Кузьма. – Я только знаю, что он говорил, что как это ему царского посла таскать с собой, вдруг с тобой что-нибудь случится. Поэтому, сказал, мы оставим тебя здесь, в Берёзове, а сами пойдём на Лугуя. – А что он ещё сказал? – спросил Маркел. – Я больше не спрашивал, – сказал Кузьма. – Хочешь, иди спроси сам. – Где он сейчас? – спросил Маркел, вставая с лавки. – Посмотри в ответной. Он там недавно был. Маркел накинул шубу, сгрёб шапку, вышел. Прошёл по переходу, толкнул дверь в ответную, зашёл… И не увидел там Волынского. Зато увидел Аньянгу. Она сидела на кошме. Маркел спросил, где воевода. – Пошёл со Змеем по делам, – ответила Аньянга. – Мы же сегодня выступаем. – И тебя с собой берут? – Берут. Маркел прикрыл дверь, задумался. Потом ещё спросил: – А меня почему не берут? Воевода говорил тебе? – Да, говорил, – ответила Аньянга. – Как же, говорил, брать царского посла, а вдруг его убьют? Надо, говорил, посла беречь. Ты, он говорил, ему ещё пригодишься. – А ты? – А что я? – Почему он тебя берёт? Ты ему что, больше уже не пригодишься, да? Аньянга замерла и помолчала, посмотрела направо, налево, прислушалась, и только уже после этого тихим нетвёрдым голосом спросила: – Ты хочешь мне что-то сказать? Маркел подумал и сказал: – Хочу. – После ещё подумал и продолжил: – Только побожись, что никому не скажешь. Аньянга виновато улыбнулась и ответила: – Мне нельзя божиться, я же некрещёная. – Ладно! – в сердцах сказал Маркел вполголоса. – Я тебе и так верю. Так вот, воевода вчера сговорился с Игичеем, что как только они возьмут Куноват, он тебя Игичею вернёт. Насовсем! Аньянга приоткрыла рот и замерла. Маркел перекрестился и прибавил: – Вот почему он не берёт меня – чтобы я там за тебя не заступался. Аньянга помолчала и сказала: – Этого не будет! Я ему скажу! – Не говори! А только… – И Маркел задумался, потом чуть слышным голосом прибавил: – А лучше вот что мне скажи. Скажи прямо сейчас: что ты про Великую Богиню знаешь? Аньянга покачала головой, ответила: – Я так и думала, что ты обязательно на это повернёшь. Только я же уже говорила, что ничего про неё не знаю. Так и мой отец не знает, и все другие тоже. – Но ведь ясак ей платят?! Значит, ездят к ней! – Не ездят. – А как же тогда отдают ей ясак? – А она сама за ним приезжает, – сказала Аньянга. – И не одна, а со своим шайтанщиком. Это он её привозит. Вот он приезжает в городок, зовёт князя и старейшин, показывает им её, и они дают ей ясак. – Но если он её показывает, то, значит, видят же они её! – сказал Маркел. – Нет, не видят! – сказала Аньянга. – Он же не саму её привозит, а только её образ. Это такая небольшая идолица, серебряная, в красном сукне увёрнута. Шайтанщик у неё спрашивает, сколько она чего желает, и люди ей столько платят. Так мой отец платил, и так и Лугуй платил, и все. Никто не решается гневить шайтанщика. – А после куда он уезжал? – спросил Маркел. – Этого никто не говорит, – ответила Аньянга. – Спросите, говорят, у самоедов, Великая Богиня же у них живёт на Великой Оби, на каменном острове, в пещере, и тот шайтанщик её сторожит, люди к нему приезжают, и он решает, кого к Великой Богине допустить, и тогда они у неё про самое заветное спрашивают, а она им всегда верно отвечает. А сама она там уже не маленькая и не серебряная, а высокая, от настоящей женщины не отличишь, и золотая. Тут Аньянга замолчала. Маркел подумал и спросил: – А шайтанщик какой из себя? – Обыкновенный, – сказала Аньянга. – В длинной шубе с лентами, в большой чёрной шапке, с бубном. А на лице у него мелкая-мелкая чёрная сетка. Лица он никогда не открывает, все его только в сетке видят. И никого он к острову не допускает, и если ваши, а это всегда, или наши, а это если без спросу, к нему едут, он их лодки топит. Это летом. А зимой нарты под лёд проваливает. Ты спроси у вашего Ивана Змея, он там был. Маркел задумался, потом спросил: – А когда шайтанщик за ясаком приезжает? – Когда как, – ответила Аньянга. – В этом году ещё до ледостава был. Ага, подумал Маркел, значит, ещё до Дмитриева дня, значит, теперь ждать ещё долго. Значит, надо самому идти и проверять. А то шайтанщик им расскажет, как же! А девка что? Девка не промах, и может помочь. И, глядя ей прямо в глаза, Маркел сказал: – Ладно, может, так оно и есть, как ты поведала. Но я… И не договорил. Потому что Аньянга вдруг встрепенулась, вскочила и убежала за занавеску. Маркел оглянулся на дверь… И тут в неё вошёл Волынский! Он остановился посреди ответной, внимательно осмотрелся, прислушался, и только уже потом спросил: – Что это здесь такое? – Как что? Тебя ищу, – сказал Маркел. – Мне люди говорят, что ты собрался в Куноват, а меня брать с собой не хочешь. А у меня там государево дело! Волынский помолчал, потом даже прошёл вперёд, заглянул за занавеску, вернулся, ещё подумал и сказал: – Дурь какая! Кто тебе это наплёл? Все едем, и ты с нами тоже. Через час выходим, иди, собирайся! Маркел развернулся и вышел. Шёл по переходу и сердито думал, что это мы ещё посмотрим, где чья дурь.Глава 34
А когда вошёл к себе в каморку, то так же сердито сказал, что откуда это Кузьма выдумал, – едет Маркел со всеми, и ему уже даже сказано, что выступаем через час и надо собираться. – А что я соберу? – тут же сказал Маркел. – Вогулы ободрали меня начисто! И бумаги, и узел с добром, и кошель с деньгами, и нарточки, и даже мешок с солью! – Соль – дело наживное, – ответил Кузьма. – Будешь ехать через Вымь, ещё дадут. – Это да, – согласился Маркел. – Соли не жаль, конечно. А вот нарточек жаль. – Их тоже не жалей, – сказал Кузьма. – У нас же все на лыжах ходят, а нарты только для харчей и для огненного запаса. Пять—десять нарт на всё войско, не больше, и то сколько это собак, а их всех тоже кормить надо. Маркел согласился, что надо. Кузьма подумал, усмехнулся и продолжил: – Да! И ещё Аньянге нарточки. Она никогда пешком не ходит. Княжья кровь! – И усмехнулся. А после встал и начал собираться, набивать свой узел. А Маркелу что, подумалось, кистень в один рукав, нож во второй – и готов. Но только Маркел так подумал, как пришёл Леонтий, тамошний дворский, и сказал идти за ним. Маркел пошёл. Они спустились в подклеть, в так называемый оружейный чулан. Там тамошние люди подобрали Маркелу добрую кольчугу, почти до колен, и шлем, а к нему тёплый подшлемник, и бердыш. Когда Маркел вернулся к себе в каморку, Кузьма даже присвистнул от зависти и сказал, что воевода всё-таки и в самом деле о Маркеле крепко хлопочет. Ну, ещё бы! Ведь у самого Кузьмы никакого другого оружия, кроме засапожного ножа, не было. – Да и ещё, – прибавил он, – этой свистульки. И показал какую-то кривую дудочку, сказал, что это – манок для воронья, и спрятал его в пояс. Маркел стал просить, чтобы Кузьма хоть разик свистнул по-вороньи, но Кузьма не соглашался, говорил, что в доме перед иконами это нельзя. И тут во дворе ударили в било. Маркел и Кузьма, Кузьма с узлом, пошли в дверь и дальше вниз по лестнице, а там и по крыльцу во двор. Во дворе уже стояло войско, и к нему всё подходили и подходили с разных сторон. Всё войско, посмотрел Маркел, и в самом деле стояло на ступанцах, будто вогулы. Впереди всех стоял Волынский, а Змеев ходил по сотням, придирался. Маркелу тоже дали ступанцы, он их надел и, как мог, пошёл в середину войска, к нартам. Нарт и в самом деле было мало, с десяток, не больше, собаки лежали в снегу, били хвостами. В нартах было много всякого добра, харчей. На самых лучших нартах, с бубенцами, сидела Аньянга, а возле неё, на ступанцах, стояла её девка. Маркел не смотрел на Аньянгу, Аньянга не смотрела на Маркела. Кузьма сказал Маркелу, что они с ним должны держаться средних нарт, тех, на которых порох, и зорко за ним приглядывать. Опять ударили в било. Войско двинулось к воротам. А где Игичеево войско, спросил Маркел. А они давно уже ушли, сказал Кузьма, они стояли в поле за воротами, и оттуда сразу повернули на Куноват. А чего, тогда спросил Маркел, и Волынский, и Змеев идут, а кто тогда остался в Берёзове? В Берёзове, сказал Кузьма, остаётся Савва Клюв, и с ним довольно стрельцов. Да ещё к ним скоро подойдут наши пелымские от князя Горчакова и наши лозьвинские от Траханиотова. И также, прибавил Кузьма, мы оставили им пушку, так что они не пропадут. – А откуда ты это всё знаешь? – спросил Маркел. – Вороньё принесло? – Вороньё, – кивнул Кузьма, достал манок, дунул в него, манок хрипло каркнул. На них оглянулись, Кузьма усмехнулся. Потом они всем войском вышли в поле. Там было много погасших кострищ. Это, как понял Маркел, они проходят мимо бывшего Игичеева табора. А потом они шли по тайге, по льду замёрзшей речки. Потом по замёрзшему болоту. Потом просто по тайге, по глухой тропке. Мороз был несильный, зато густо валил снег, а они всё шли и шли. Кузьма чертыхался, говорил, что никогда ещё они так быстро не ходили, и это всё из-за того, что воевода не верит Игичею, боится, что тот придёт первым и замирится с Лугуем. И так, с такими разговорами и мыслями, они шли весь день и даже ещё немного ночи, потом сделали привал. Утром проснулись раньше солнца и двинулись дальше, перешли через Великую Обь-реку, по льду, и дальше пошли вдоль реки Куноват. Шли весь день, заночевали, утром встали и опять пошли. Шли по следу Игичеева войска. Шли очень быстро, но всё равно не могли их догнать. Вечером опять разбили табор и переночевали. Утром встали и прошли ещё немного, уже по густой тайге, и, наконец, выбились на чистое место и остановились. Одни начали сердито спрашивать, чего стоим, а другие им на это отвечали, что мы уже пришли, впереди Куноват, а перед ним Игичей со своими. Так это было или нет, Маркел не знал, они же шли в середине войска и видели только чужие спины и небо над ними. Небо было чистое, светило солнце и в небе кружило вороньё. Чтобы всё получше рассмотреть, Маркел и Кузьма прошли вперёд, в голову войска. Там, в голове, теснилось уже много наших, Маркел с трудом пробился в первый ряд, и уже только оттуда увидел посреди замёрзшей реки, на заснеженном острове, небольшой вогульский городок, а на этом, ближнем берегу реки, здоровущий Игичеев табор. Река неширокая, подумал, глядя на неё, Маркел, через неё вполне можно стрелять убойно. Но пока что в Куновате было тихо, и в Игичеевом таборе тоже. Вдруг в таборе забегали, засуетились. Потом на краю табора показался Игичей, он опять был с двумя саблями и с золотыми косичками, а рядом с ним толклись его отыры. От нас выступил вперёд Волынский и замахал руками. Игичей начал махать в ответ. А потом он пошёл к нам. С ним шли его отыры, пятеро. Наши стояли сверху, на бугре, правильней, на сопке, и молча смотрели на них. Когда Игичей поднялся к нашим, Волынский развёл руки и сказал, что он рад видеть Игичея живым и здоровым. – А каким мне ещё быть?! – ответил Игичей. – Я не старая собака, чтобы кашлять. И не Лугуй, чтобы за стенами прятаться. – Так что, возьмём его? – спросил Волынский. – Я и один возьму, – ответил Игичей. – А ты постой, посмотри. – Я бы мог и постоять, – сказал Волынский. – Но мои люди говорят, что так они быстро замёрзнут. Поэтому они просят, чтобы я дал им погреться. И я дам! Завтра утром! А что ты на это скажешь? – Скажу, что это славные слова, – ответил Игичей. – Они меня очень обрадовали. А теперь обрадуй меня ещё раз – покажи мне сам знаешь кого. Волынский сразу же нахмурился, сказал: – Мы об этом с тобой не договаривались. – Мы о многом в этой жизни не договариваемся, – сказал Игичей. – А потом оказывается, что наша душа уже давно договорилась с Великой Богиней, и не успеваем мы оглядеться, как уже сидим на погребальной кошме и пьём погребальное питьё. – Да, это так, – согласился Волынский. – А если так, то почему ты мне перечишь? – спросил Игичей. Волынский тяжело вздохнул и оглянулся, махнул рукой – наши расступились, и вперёд вышла Аньянга. Она была одета в очень дорогие вогульские одежды, а лицо у неё было неподвижное, будто каменное. – Ащ! Улыбнись! – воскликнул Игичей. – Я не желаю тебе зла! – А я желаю! – сказала Аньянга. – Ха! – засмеялся Игичей. – Женщины, они сперва все такие. Потом привыкают. После опять засмеялся, развернулся и пошёл к себе обратно. За ним пошли его отыры и наш Змеев. Кузьма сказал, что здесь больше ничего не будет, можно возвращаться. Они вернулись к нартам. Там у них стали спрашивать, что там случилось. Маркел молчал, а Кузьма охотно рассказывал обо всём, что видел и слышал. Так прошло ещё немного времени. Потом сказали, что вернулся Змеев и что нам надо спускаться вниз, проходить мимо Игичеева табора и там учреждаться. Будем брать город в осаду, говорили, мы с той стороны, а Игичей с этой. И наше войско спустилось с бугра, то есть с сопки, прошло мимо Игичеева табора, после отошли ещё шагов на сто, остановились и начали ставить шалаши и разводить костры. Пока всё это сделали, уже стемнело. Перекусили кое-как, погрелись у костров, легли в шалаши и заснули. А Маркел не спал – лежал, думал о всяком. Больше, конечно, о Золотой Бабе, которая, как он теперь ясно понимал, никакая не живая ведьма, а обыкновенная деревянная идолица, сверху покрашенная золотом. Щелкалов, конечно, разозлится, если ему такую привезти. Ну а если привезти золотую, тогда что? Ну, дадут ещё один отрез парчи, ну, Нюське красные сапожки, ну… А зато какая это будет тяжесть и сколько с ней будет смертных хлопот! А если она маленькая и серебряная, как Аньянга говорила? А если и в самом деле живая? А если… И так, вздыхая и ворочаясь, Маркел ещё очень нескоро заснул.Глава 35
Утром Маркел проснулся от холода, поэтому не стал надевать ни кольчугу, ни шлем, а сразу вылез наружу. Там Кузьма уже сидел возле костра и грелся. Маркел сел рядом, протянул руки к огню. Кузьма начал рассказывать свой сон. Сон был бестолковый и скучный, Маркел злился, старался не слушать. Принесли еду, и Кузьма замолчал. Маркел тоже ел, помалкивал и думал о своих делах – о том, что ему рассказала Аньянга, как быть дальше, как поймать Лугуя… И так далее. Но додумать до конца ему не дали, потому что от берега послышалась стрельба.Маркел спросил, что это значит. Кузьма сказал, что это наши, они давно уже ушли вдоль берега и теперь будут стрелять до вечера, так им приказал Волынский. Зачем это, спросил Маркел. А затем, ответил Кузьма, что вогулов можно взять только на страх, поэтому покоя им не будет, а уже только потом, может, только к вечеру, мы вышлем им переговорщика. А что будет говорить переговорщик, спросил Маркел. Это мы узнаем вечером, сказал Кузьма. А что Игичеево войско, спросил Маркел, они что делают. А они, сказал Кузьма, тоже стреляют, но тихо, из луков. И ещё сидят у нас. У нас, что ли, в таборе, не поверил Маркел. Да, сказал Кузьма, у нас. Потому что Игичей сказал, что он не верит воеводе, который может нарочно выпустить Лугуя, потому что если тот сбежит, не нужно будет отдавать за него Аньянгу. И прибавил: – Да ты иди сам посмотри. Маркел доел, надел шапку и пошёл по табору. Увидев Аньянгин чум, Маркел свернул к нему. Возле чума и в самом деле сидели Игичеевы остяки, сторожили, и ещё двое лежали рядом, подрёмывали. Маркел подошёл к ним, они сразу подскочили. Маркел развернулся, пошёл дальше. Небо было чистое, мороз крепчал. Маркел вышел из-за деревьев, стал смотреть на остров, на крепостные стены городка. На стенах тоже никого видно не было. Вдруг тэн-н, тэн-н – пропели две стрелы и впились в дерево. Маркел упал в снег, полежал, после пополз обратно, а когда заполз в кусты, поднялся и пошёл в табор. В таборе Кузьма сказал, что он видел, как Маркела чуть не убили, поэтому, сказал, нельзя туда соваться, особенно когда светло. А что, спросил Маркел, ночью, что ли, будем брать их приступом, уже решили? Нет, ответил Кузьма, сегодня ещё рано, сперва надо дать вогулам как следует помаяться, а уже после лезть на приступ. А маются они быстро, продолжал Кузьма, они не могут долго сидеть взаперти, так что уже завтра они начнут гневаться, а послезавтра сами оттуда вылезут прямо на нас. И вот тут их не упустить бы! И взять Лугуя! А что пока, спросил Маркел. А пока, сказал Кузьма, будем сидеть и ждать. И так оно и было. Кузьма и Маркел сидели возле своего шалаша и слушали стрельбу. Потом обедали. Потом дремали у себя. Потом, только они вышли из шалаша, пришёл Волынский, а с ним наш переговорщик, очень горластый, как сказал Кузьма, и ещё двое стрельцов с бердышами и третий с билом. Этот шёл первым и бил в било, за ним шли стрельцы с бердышами, а за ними шёл переговорщик. Они стали спускаться к реке, за ними потянулись любопытные, а с ними и Маркел с Кузьмой. Потом любопытные остановились, так им Волынским было велено, а эти четверо с билом сошли на лёд, било смолкло, и переговорщик начал выкрикивать примерно вот что: славные вогульские люди из славного города Куновата, не пугайтесь, мы не хотим вам зла, а мы, наоборот, никого из вас не тронем, мы же пришли не за вами, нам нужен только ваш бывший князь Лугуй, который убил своего брата, и за это мы будем его судить, поэтому отдайте нам его, и мы сразу уйдём! Когда переговорщик это прокричал, ему никто, конечно, не ответил. Тогда он прокричал это ещё раз. Вогулы опять не ответили. Тогда переговорщик крикнул, что даём им время подумать, и это время до завтрашнего утра. Сказав так, переговорщик развернулся и, вместе со своими тремя стрельцами и билом, пошёл обратно. – На что мы надеемся? – спросил Маркел. – На то, – ответил Кузьма, – что много кто из куноватских не любит Лугуя. Не простили они ему того, что он убил Чухпелека. И тут вдруг их зовут посчитаться с ним за всё! – И ты думаешь, они решатся на это? – А чего мне думать, – ответил Кузьма. – Это они теперь пусть думают! И больше он об этом уже не заговаривал. Смеркалось. Они вернулись в табор, перекусили и легли спать. Маркел долго лежал без сна, вспоминал Чухпелека и странные слова Кузьмы о нём, пытался угадать, чем это кончится, а после устал думать и заснул. Назавтра, тоже рано утром, к реке пришли переговорщики, и любопытные пришли за ними, и Маркел с Кузьмой. В Куновате молчали, никого не было видно на стенах. Но только главный переговорщик начал спрашивать, когда вогулы выдадут Лугуя, как от крепости сразу пошла стрельба, да ещё горючими стрелами. Переговорщики побежали обратно, любопытные тоже начали разбегаться, а куноватские стреляли и стреляли, уже где-то занялись деревья, уже почти начался пожар. Вот сейчас, сказал Кузьма, Волынский велит их поучить. Но Волынский велел не спешить. Надо ещё подождать, сказал он, у них там народу столько набилось, что они весь харч сегодня доедят, ну, завтра или послезавтра, это уже наверняка всё начисто съедят, и вот тогда посмотрим, что они запоют. А пока пускай, сказал, ещё помаются. И те маялись, то есть стреляли, ещё очень долго, пока не пошёл снег, а он пошёл уже только под вечер. На реку опять вышел переговорщик со своими людьми и начал уже так: храбрый благородный князь Сенгеп Казымский, мы на тебя зла не держим, можешь выходить, если желаешь, и можешь забирать своих людей, только скажи, что ты согласен выходить, и наш благородный воевода князь Волынский подаст тебе руку!.. Но опять, как и вчера, никто никак не откликнулся. Тогда на реку, на лёд, выбежал Игичей, начал размахивать руками и кричать примерно вот что: Сенгеп, ты был мне как брат, мы же с тобой оба остяки, зачем ты к чужим прибился, выходи, пока не поздно, а то наступит наше время, сядем на погребальную кошму в святилище Великой Богини – и окажемся в разных углах, даже обняться по-братски не сможем! Разве это хорошо? Подумай, Сенгеп, даю тебе времени до ночи. Нет, даже до утра, можешь уйти ночью, если тебе днём стыдно. И засмеялся: ха-ха-ха! И тут горючая стрела в него оттуда! Игичей чуть увернулся, погрозил пальцем, сказал: – Нехорошо, Сенгеп, добрые братья так не поступают. Но я зла не держу. Уходи когда хочешь. Но завтра будет поздно! – И ушёл. И наши все тоже ушли, вернулись в табор. Вечером, за ужином, Кузьма ругался, говорил, что Волынскому что, ему в чуме тепло, а мы все мёрзни! Скоро передохнем все от холода! На следующий, третий, день, мороз ещё больше окреп, и снегопада уже не было. Все, не дожидаясь переговорщиков, пошли к реке. В Куновате было тихо. Подошли переговорщики, вышли на лёд… И вдруг в Куновате зашумели! По стене забегали. Потом начали выставлять одно бревно из тына, а рядом второе. Выставили, получился узкий пролаз. Через него наружу вылез какой-то незнакомец в большой шапке из чёрной лисы, в длинной медвежьей шубе и с двумя саблями в руках. – Это Сенгеп, – сказал Кузьма. Сенгеп отступил в сторонку. Через дыру в тыне вылез ещё один остяк, после ещё, ещё… И так они вылезали и вылезали очень долго и молчали. И так же у нас молчали, даже Игичей ни слова не сказал. А Сенгепово войско всё лезло и лезло, пока всё не вылезло. Потом те, которые остались в Куновате, поставили, забили выставленные брёвна обратно. Сенгеп развернулся и повёл своих, они огибали Куноват и скрывались за его углом. Наши стояли и молчали. Потом Сенгепово войско показалось на том берегу, а потом уже совсем скрылось в тайге. Стало тихо-тихо… И вдруг в Куновате ударили бубны. Бубны били всё громче и громче, ляки кричали «гай, гай!», и так продолжалось долго. Потом они начали стрелять. Но стрелы были уже не горючие. А наши стреляли по ним из пищалей. Правда, стреляли мало, потому что Волынский велел беречь порох. А то, сказал, как передали, вдруг не хватит на заряд. – Какой ещё заряд? – спросил Маркел. – Пороховой, какой ещё, – сказал Кузьма. – Мы так в прошлом году брали Пелым. Подложили бочку с порохом под стену и рванули. – Так как это подложить? – спросил Маркел. – Ведь не дадут. Убьют же. – Могут убить, а могут – нет, – сказал Кузьма. – Да и чего тебе? Охотников и без тебя всегда найдётся. Ведь не даром же! Когда в Пелыме стену подрывали, князь Горчаков после выдал подкладчикам по полугодовому жалованью и по ведру вина на каждого. А их было двое, значит, два ведра. Попировали тогда славно! Так, я думаю, будет и здесь – как только пойдёт снег, и погуще, вот тогда и закладывай порох, тогда никого не видно, а свечу не загасить, свеча же ставится особая, называется палительная. И уже как рванёт, так рванёт! Дыра в стене будет такая, что хоть на возу въезжай! Но это после. А до этого всё будем перекрикиваться и перестреливаться. Так что скорей бы снег! Но этих его слов Господь, похоже, не услышал, и снега не было ни вечером, ни ночью, ни назавтра утром. Кузьма долго смотрел на небо, а потом сказал, что сейчас выйдет наш переговорщик и будет кричать, чтобы они скорей сдавались, а те не сдадутся, и опять пойдёт стрельба.Глава 36
Но на самом деле это было вот как. На следующий день, только они сели завтракать, как от Куновата забухали бубны, и очень громко. В таборе переполошились, встали и пошли к реке смотреть, что там творится. И увидели, что в Куновате в тыне снова выставлено два бревна, и через получившийся пролаз вылезает лугуевский переговорщик, а следом за ним двое с бубнами. Наши как стояли, так и остались стоять на своём берегу, а эти, лугуевские, вышли на середину реки, остановились, перестали бухать в бубны, и лугуевский переговорщик начал кричать примерно такое: эй, воевода, и ты, Игичейка, это я, простой переговорщик, передаю вам слова нашего славного храброго князя Лугуя, сына Пынжина, который говорит, что он вас знать не знает и видеть не желает, поэтому он будет говорить только с царским послом! Подайте ему царского посла! Где ты, посол? Все стали оглядываться на Маркела. Маркел не выходил вперёд, молчал, и на душе у него было гадко. К нему подошёл Волынский и стал сердито смотреть на него. Маркел ещё подумал, после прошептал что-то в сердцах, выступил вперёд и дальше пошёл вниз к реке. Шёл, трогал кистень в рукаве, пробовал его подталкивать – кистень подталкивался мягко, и Маркел шёл дальше, не оглядывался. Сзади было тихо-тихо. Так, в полной тишине, Маркел дошёл до лугуевских переговорщиков и остановился. Главный лугуевский переговорщик мельком осмотрел его и указал рукой идти к пролазу. И они пошли. Маркел шёл первым. На него смотрели сверху, с куноватской крепостной стены, а кое-кто из смотревших уже держал лук наготове, с вложенной в него стрелой. Маркел изредка повздыхивал. Возле пролаза он опять остановился, перекрестился и полез. Пролез, распрямился, осмотрелся. Перед ним был широкий двор, во дворе стояло войско, а перед войском с золочёным ремешком на лбу стоял Лугуй. В руках у него было две сабли. Маркел кивнул ему. – Снимите! – приказал Лугуй. К Маркелу кинулись, сорвали с него шапку. Ветер раздул его волосы. Лугуй усмехнулся, продолжил: – Славный будет ух-сох! Надевайте. Шапку опять надели. Даже, правильнее, нахлобучили, поэтому Маркел её поправил. Лугуй ещё раз усмехнулся и сказал: – Ты обманул меня, посол. Я посылал тебя на пир к Великой Богине, а ты убежал. И моего брата ты тоже обманул: он тебе поверил и предал меня, и мне пришлось его убить. Но я не держу на тебя зла. Да и разве ты виноват? Ведь если что в этом мире случается, то, значит, на то была воля Великой Богини. А теперь её воля вот в чём: она хочет, чтобы ты меня ещё раз выслушал. – Я тебя слушаю, – сказал Маркел. – Такие речи нужно говорить в тепле, – с улыбкой продолжал Лугуй. – Пойдем! И он убрал сабли в ножны, развернулся и пошёл к большим двухэтажным хоромам, стоявшим посреди городка. Маркел пошёл рядом с Лугуем. Они подошли к крыльцу. Отыры, стоявшие там, расступились. Лугуй и Маркел вошли в хоромы, поднялись на второй этаж и там зашли в трапезную, сплошь устеленную широченной кошмой. Лугуй оглянулся. Вошли кучкупы, сняли с него шубу, он сел на кошму, положил рядом сабли и кивнул Маркелу. Маркел расставил руки, с него сняли шубу. Маркел сел на кошму. Лугуй махнул рукой. Вошли двое кучкупов и подали Маркелу и Лугую по чашке питья. Маркел принюхался, питьё ничем не пахло. Лугуй выпил, Маркел выпил за ним следом. Питьё оказалось сладкое и не хмельное. Маркел утёрся. Лугуй усмехнулся и спросил: – Как идут твои дела, посол? – Даже лучше, чем хотелось бы, – сказал Маркел. – Вот как! – сказал Лугуй и улыбнулся. – Рад за тебя, посол. Тогда ты, наверное, уже собираешься ехать обратно. – Нет, ещё не собираюсь, – ответил Маркел. – Я не все дела закончил. – А что тебе ещё осталось сделать? – спросил Лугуй. – Расспросить тебя о том, о сём, – сказал Маркел. – Ну так расспрашивай, – сказал Лугуй. – И я тебе на всё, о чём спросишь, отвечу. Мне же скрывать нечего, и также виниться не в чем. Язык у меня чист. – Как же это чист, – сказал Маркел, – если ты своё слово не держишь и с ясаком кривишь. Ты же должен каждый год платить по семь сороков соболей самых лучших, а ты сколько заплатил? В прошлом году всего шесть сороков, а в этом совсем ничего. Да ещё бахвалишься, что ты теперь не нам, а Великой Богине ясак возишь! Почему?! – Да потому, – ответил Лугуй, усмехаясь, – что Великая Богиня своё слово держит, а твой царь нет. – Как это нет? – Да очень просто! – ответил Лугуй уже безо всякой усмешки. – Как я с царём договаривался? Я пообещал ему платить каждый год по семь сороков соболей самых лучших, а он мне за это пообещал защищать мои шесть городков и меня. И так оно поначалу и было, а что теперь стало? В прошлом году пришёл его слуга, воевода Волын, и отнял у меня Сумт-Вош! А в этом году и того больше – хочет отобрать все городки и самого меня убить. А царь молчит! А он же обещал, что будет меня защищать! – А где об этом сказано? – спросил Маркел. – Чем ты это докажешь? – Да вот этим! – воскликнул Лугуй. После чего он поднял руку, громко щёлкнул пальцами – и почти сразу же вошёл кучкуп. В руках он держал нечто, увёрнутое в красную парчу. Подойдя к Лугую, кучкуп развернул парчу, и под ней открылось большое серебряное блюдо, на котором лежала грамота с двумя вислыми печатями. Печати были красновосковые, царские. Лугуй взял грамоту и передал её Маркелу. Маркел развернул грамоту. Там сверху, как всегда, был титул, Маркел пропустил его… – Громко читай! – сказал Лугуй. – И с самого начала! Маркел откашлялся и начал: – Божиею милостью государь царь и великий князь Федор Иванович всеа Русии, Владимирский, Московский, Новгородский, царь Казанский… князь Тверской, Югорский, Пермский, Вятский… Обдорский, Кондинский, и обладатель всеа Сибирские земли и великие реки Оби, и Северные страны повелитель, и иных многих земель государь. Приезжал к нашему царскому величеству с великие реки Оби Куновата города, да Илчмы города, да Ляпина городка, да Мункоса городка, да Юила городка, да Сумт-Вош городка Лугуй князь, чтобы нам его пожаловать: тех его городков нашим ратным людям воевать не велели, а дань бы нашу нам с тех городков велели бы имать в Вымской земле. И мы Лугуя князя с теми его городками пожаловали: за то, что он к нам приехал наперёд всех бить челом, с него имать дани на год по 7 сороков соболей лучших, и привозить ему дань ежегод в Вымь самому на срок до Дмитриева дня, и впредь привозить по тому же, и тем городкам помогать. Дана сия наша жалованная грамота в царствующем граде Москве лета 7094 августа в 14 день. Прочитав, Маркел ещё раз посмотрел на грамоту, покачал головой и подумал, что это Семейки Емельянова рука, это он так угловато пишет, – и, перевернув грамоту, осмотрел её оборотную сторону. Там вверху, опять же Емельяновской рукой, было начертано «Царь и великий князь Фёдор Иванович всеа Русии», а ещё немного ниже был виден уже едва заметный оттиск царской перстнёвой печатки: две переплетенные буквы «Ф» да «И», а сбоку рыба с большим глазом, это Лугуева тамга такая. Маркел хмыкнул, начал перечитывать, запоминать и снова перечитывать… Лугуй, не дождавшись, подался вперёд, отнял у Маркела грамоту, сказал: – Ну, вот, теперь ты знаешь, как всё оно вначале было и что мне царь обещал. Поэтому теперь вот так: пойди и скажи своим, что пока опять не будет так, как оно вначале было оговорено, я царю ясака выдавать не буду. А буду только после того, как он вернёт мне Сумт-Вош и казнит воеводу Волына. А пока не вернёт и не казнит, я буду Великой Богине ясак отдавать. И Великая Богиня защитит меня, как раньше защищала, Великая Богиня вам ещё… Но тут Лугуй опомнился и замолчал. Потом прибавил: – Я больше не держу тебя. Иди и повтори им то, что я тебе сейчас сказал. Пусть даже сначала отдадут Сумт-Вош, а уже после Волына казнят, я подожду. – А пока платить ясак не будешь? – Нет. – И будешь говорить, что ты платишь ясак Великой Богине. Так? – Да. – Но где она, эта ваша Великая Богиня? Кто её видел? Не брехня ли это? – Э! Э! – гневно сказал Лугуй. – Как ты смеешь про неё такое говорить? – Смею потому, что я в неё не верю, – ответил Маркел. – А вот поверю, и не стану сметь. Ты показал мне грамоту, и я против неё не смею говорить. А теперь вот так же покажи… – Ащ! – перебил его Лугуй. – Молчи! Маркел замер и подумал: вот оно! И он не ошибся. Лугуй нахмурился, подумал, помолчал, потом заговорил: – Ну, ладно. Тогда слушай. Сегодня утром ко мне приехал один человек, которого я посылал к Великой Богине. Я послал его давно – когда мне приснился вещий сон, и я схватил тебя. Я тогда сразу подумал, что надо известить Великую Богиню, что великая жертва уже схвачена и скоро у Великой Богини будет великая радость. И от меня полетела весть сюда, в Куноват, а из Куновата к тому человеку, тот человек собрался и поехал, приехал к Богине и рассказал ей о тебе, выслушал её советы и сегодня вернулся ко мне. Так вот, если ты хочешь, я сейчас призову к нам его, и тот человек, конечно, не станет повторять того, что ему говорила Великая Богиня, потому что это не касается твоих ушей, но вот просто о Великой Богине он может тебе много чего рассказать интересного. Хочешь его послушать? – Да, конечно, – ответил Маркел. Лугуй обернулся, щёлкнул пальцами. Когда вошёл кучкуп, Лугуй сказал: – Приведите его! Кучкуп ушёл. Стало тихо. Лугуй, подождав, сказал: – Он был там уже не в первый раз. Великая Богиня его любит. Когда он сейчас туда приехал, она с честью приняла его, он пировал вместе с ней и с её гостями, нашими отцами и другими умершими родичами. Он это умеет – разговаривать с умершими. И научит этому тебя, если попросишь. Но тут откинулась занавеска, и в горницу вошёл незнакомый Маркелу вогул в длинной шаманской шубе с пришитыми к ней яркими полосками и бубенцами. Но шаманской шапки на нём не было, и бубна не было, и голова его была обрита наголо, как у кучкупов. Это он уже как будто умер, подумал Маркел, он бывший шаман, вот кто это! А бывший шаман посмотрел на Маркела, что-то сказал, нарочно неразборчиво, и засмеялся. Зубы у него были большие, как у волка. – Что он говорит?! – сказал Маркел. – Это неважно, – ответил Лугуй, повернулся к бывшему шаману и спросил: – Где ты был? – У Великой Богини, – ответил бывший шаман. – Как ты попал туда? – Всякий, кого она ждёт, попадает туда очень просто. Бывший шаман вдруг замолчал, принюхался, повернулся к Маркелу, усмехнулся так, что засверкали его зубы, и сказал: – А я видел тебя там! Ты стоял у неё за спиной и подавал ей блюда, а она оглядывалась на тебя и улыбалась. – Нет-нет! – сказал Маркел, потому что ему вдруг стало очень гадко. – Не было меня там никогда! – Ты, может, и не был, – ответил шаман. – И, может, и не будешь никогда. Но твоя душа уже там. Закрой глаза! И он резко взмахнул руками! Потом ещё взмахнул! Маркел зажурился… Стало темно. Огонь чуть светился. – Дуй! – громко прошептал шаман. – Если он погаснет, ты умрёшь! Маркел начал дуть. Огонь начал понемногу разгораться. Теперь стало видно, что это щовал. Тьма раздвигалась. По тут сторону щовала сидела позолоченная женщина, Маркел её сразу узнал, она же часто ему виделась. И она его тоже узнала, улыбнулась и сказала: – Вот ты и пришёл. А я давно тебя ждала! – Зачем? – спросил Маркел. – Да как это зачем? – ответила она и опять улыбнулась. И протянула к нему руки, прямо над огнём. Маркел испугался, отшатнулся… И очнулся. Он сидел на кошме. Рядом сидел Лугуй. Сбоку стоял бывший шаман. Он и спросил: – Видел её? Узнал? Маркел молчал. – Значит, узнал, – сказал бывший шаман. После прибавил: – Глаза не отводи! Не отводи, я говорю! Маркел не отводил. Глаза у бывшего шамана были волчьи, жёлтые. Маркелу стало тяжело дышать. Бывший шаман оскалился. – Уйди! – гневно сказал Лугуй. Бывший посмотрел на Лугуя. Лугуй схватился за саблю. Бывший шаман засмеялся и вышел. Лугуй с облегчением вздохнул. Маркел спросил: – Кто это такой был? – Так, человек один, – сказал Лугуй. Потом, немного помолчав, спросил: – А ты что видел? – Видел сон, – сказал Маркел. – Мне этот сон часто снится, но я никогда никому его не рассказываю. Лугуй задумался, потом сказал: – Не хочешь говорить, не надо. Тогда и я буду молчать, и буду говорить только о нашем деле. Так вот: иди и скажи им, что пусть они вначале вернут мне Сумт-Вош, потом казнят Волына, и вот только после этого я, может, соглашусь платить им дань. Если Великая Богиня мне это позволит. Ты же теперь в неё веришь, не так ли?! Маркел промолчал. – Ладно, ладно, – продолжил Лугуй, – ты не можешь говорить об этом. Я и так всё понял. А теперь иди. Возле дома стоят мои люди, они выведут тебя. И он махнул рукой. Маркел встал с кошмы. К нему мягко подбежал кучкуп и подал ему шубу. Маркел оделся, вышел. Маркел шёл по двору, был ясный день, светило солнце. Маркел перекрестился, подошёл к стене, полез через пролаз. Вылез, увидел наших переговорщиков, стоявших на льду посреди реки, и быстро пошёл к ним, почти побежал.Глава 37
А на другом, на нашем берегу реки, стоял Волынский со всем нашим войском, а сбоку стоял Игичей со своими. Перейдя через реку, Маркел остановился перед Волынским и громко, чтобы далеко было слышно, сказал: – Не хотят они мириться. Говорят, что их Великая Богиня защитит. – Ладно, – сказал Волынский. – Не хотели по добру, будет по-старому. А пока что можно отдохнуть. И, обернувшись, кивнул Змееву. Змеев кивнул своим, и войско стало понемногу отступать от берега. Солнце зашло за тучу. Волынский посмотрел на небо и негромким голосом прибавил, что сам Господь за нас, сейчас он ещё снег напустит. С этими словами Волынский развернулся и пошёл следом за войском. Рядом с Волынским шли Маркел и Змеев. А вот Игичеево войско осталось на месте. Змеев оглянулся на них и сказал: – Как бы они к Лугую не перекинулись. – Это вряд ли, – ответил Волынский с усмешкой. – Это ему пока что не с руки. – И, повернувшись к Маркелу, прибавил: – Ведь так? Маркел вспомнил про Аньянгу и кивнул, что так. И они больше ни о чём уже не говорили, а молча вернулись в табор, молча вошли в воеводский чум, правильнее, по-вогульски, в чом, сняли шубы и сели к щовалу. Пришёл челядин, подал горячего жира, Маркел его чуть выпил, до того он был противный… И только уже после этого Волынский повернулся к Маркелу и велел рассказывать подробнее. – А! – только и сказал Маркел. – Лугуй на своём стоит. Говорит, что Берёзов его, что ты его у него не по правде забрал. У него на Берёзов есть грамота, он её показывал, и эта грамота исправная. Получается, правда его, а кривь наша. – Правда его, ага! – злобно сказал Волынский. – А почему я на него пошёл, он не рассказывал? А кто с Агайкой снюхался и на Игичея кинулся?! За то, скажет он, пошёл, что Игичей побил Агайку? Так я скажу, что этот пёс Агайка всё и начал! Пришёл на Носатый камень и стал бить Игичеевых людей. Много побил! И началось! Вот я и пошёл их разнимать! Во сколько это казне сталось? Только он этого же не считает! Он только Сумт-Вош считает! А ясак? А порох? А харчи? А… И Волынский замолчал, только махнул рукой. – Так-то оно так, – сказал Маркел, – а зато грамота у него исправная. А у нас и неисправной нет. А вот Щелкалов вдруг откроет розыск, тогда что?! Волынский тряхнул головой, пристально посмотрел на Маркела и недобрым голосом спросил: – А тебе до этого какое дело? Маркел помолчал и ответил: – Это, конечно, дело не моё. Меня за другим посылали. А это… – И он замолчал. Волынский тоже помолчал, потом спросил вполголоса: – Хочешь сказать, что это – дело государево? – Я пока такого не сказал, – также вполголоса ответил Маркел. И посмотрел на Змеева. И Волынский тоже посмотрел. Змеев пожал плечами и сказал: – Я этих ваших дел не понимаю. Пойду лучше караул проверю. И он и вправду начал подниматься. – Постой, постой! – сказал Маркел и даже схватил его за руку. Змеев неохотно сел обратно. Маркел, глядя на него, сказал: – Лугуй не только про Берёзов говорил. А и про Великую Богиню тоже. – Что про неё можно сказать? – спросил Волынский. – Про неё уже всё сказано! – Так-то оно так, – задумчиво продолжил Змеев. – Но пусть говорит. От говорения большой беды не бывает. Ну, говори! – А и скажу, – сказал Маркел. – Так вот, когда я там у Лугуя сидел, приходил к нему один человек и бахвалился, будто он только сегодня вернулся от Великой Богини! – Ну и что? – сказал Волынский. – Сказать можно всякое. – Да, – сказал Маркел, – сказать можно всякое, конечно, вот только скажет не всякий. А этот сказал! И я сразу почуял, что он не кривит. – Какой ты чуткий! – Да уж какой есть! – сердито ответил Маркел. – Такая моя служба – чуять. И так и сегодня было: он вошёл, и я сразу почуял, что он непростой человек. Тут и на дыбу поднимать не надо! – А что в нём было такого непростого? – спросил Змеев. – Глаза у него были дикие, – сказал Маркел. – И голова брита наголо, как у кучкупа. И одет был вот как: в шаманской шубе, но без шапки. И без бубна. – А правым глазом дергал? – спросил Змеев. Маркел подумал и ответил: – Левым. – О! – только и сказал Змеев. – Потом прибавил: – Это шаман с Погорелого мольбища. Я про него много чего слыхал. Он и вправду очень непростой. И что он тебе такого говорил? – Стращал по-всякому, – сказал Маркел. – Ну да чем нас сильнее стращаешь, тем мы только бойчее становимся! На это Змеев только усмехнулся, а вслух ничего не сказал. Зато Маркел тут же спросил: – А что ты слыхал про этого шамана? И что это за Погорелое мольбище? Но только Змеев открыл рот, как Волынский тотчас же сказал: – Ладно, ладно, про шамана хватит! Мы не шамана, а Лугуя ловим! – И, повернувшись к Маркелу, спросил: – Зачем он тебя звал к себе? Чего хотел? Как думаешь?! – Ну, это, – сказал Маркел. – Застращать меня хотел. Может, думал, застращает, и мы от него отступимся. Может, он и шамана для этого приплёл. А так что! Сенгеп ушёл, одному ему теперь не устоять… – Вот! – перебил его Волынский. – Это верно! Не устоять ему против нас! И уходить некуда! И свои ему ещё припомнят Чухпелека! А у Чухпелека есть два сына, выбирай. А у Лугуя нет. А мы: шаман, шаман! И уже, может, снег пошёл, а мы сидим здесь, лясы точим! Сказав это, Волынский встал, подошёл к выходу, откинул полог чома, выглянул наружу и сказал: – А снег уже бойчей пошёл. Скоро, глядишь, лопатами повалит. Выходите! Маркел и Змеев взяли свои шубы, оделись и вышли. Небо было тёмно-серое, смеркалось. Из-за реки, от Куновата, было слышно, как бухают бубны. – Что это они ещё затеяли?! – сердито сказал Волынский. – Айда, Иван, посмотрим. И они пошли к реке. Маркел смотрел им вслед и думал, что не мог он ошибиться и что этот шаман не кривил, когда… Ну и так далее. И что из этого? Да ничего доброго из этого ждать не приходится! Ещё Агай в Москве накаркивал, что не вернуться Маркелу отсюда живым, тогда зачем он ещё дальше лезет? И не по уму это! Ведь в чём здесь всё дело? В том, что прежде всего нужно с царёвой грамотой решать! И так надо было сейчас прямо заявить: говорю государево дело! Вот его грамота, вот что в ней сказано, так что давайте мне стрельцов, я поеду в Москву… И никуда не делись бы, дали! И он уехал бы, приехал бы в Москву, показал бы на Волынского, получил бы за это парчи два отреза, камки десять аршин… А дальше что? А дальше ему скажут: а теперь езжай обратно, ты же своё дело не доделал, Золотую Бабу не поймал, так что… Маркел насупился, и так и сяк прикинул… И вдруг вспомнил: а ведь верно! Ведь если, никуда не ездивши, сразу здесь остаться, то это даже лучше! Ведь что ему сказал Лугуй? Что как только он поймал Маркела, то сразу послал своим весть. Послал с вороном, конечно, как это у них заведено. И было это… Января в четвёртый день! Ворон полетел из Ляпин-городка вначале в Куноват, это один день, а потом на Погорелое мольбище, это второй. А дальше так: на третий день, седьмого января, бывший шаман поехал к Великой Богине, выслушал её и сразу повернул обратно, и сегодня, восемнадцатого января, он уже сюда приехал. Получается, он был в дороге всего десять дней, и это по сорок верст в день, всего получаем четыреста вёрст, двести вёрст туда, двести обратно. Вот сколько туда дороги – всего двести вёрст! Так что его дело уже почти сделано, бросать его сейчас нельзя ни в коем случае! Маркел повеселел, ещё немного постоял, поулыбался, а после развернулся и пошёл к своему шалашу. Шёл, вспоминал Гычевский чертёж, прикидывал шаманскую дорогу и только головой качал, похмыкивал. А тем временем стало уже совсем смеркаться, снег сыпал всё гуще, от Куновата были слышны бубны и гайканье ляков.Глава 38
Когда Маркел залез в шалаш и начал там укладываться, Кузьма проснулся и недовольно спросил, чего он так пихается, неужели что-то новое случилось. Маркел ответил, что пока ничего не случилось, но вот как только снег пойдёт гуще, так сразу случится – мы сделаем приступ. Вот и хорошо, сказал Кузьма, давно уже пора это заканчивать. – Это верно, – ответил Маркел. И почти сразу же спросил: – А ты слыхал про такое место, называется Погорелое мольбище? – Слыхал, конечно, – ответил Кузьма. – А что ты про него вдруг вспомнил? – Да так, – сказал Маркел. – Просто к слову пришлось. – И прибавил: – Когда я был в Куновате, человек оттуда приезжал. – Лысый? – настороженно спросил Кузьма. Маркел утвердительно кивнул. – Очень недобрый это человек, – сказал Кузьма. – Он много наших людей погубил. Кто к нему на мольбище придёт, из наших, конечно, тот обратно уже не возвращается. Один, смотрим, утопится, второй удавится, третий отравится, четвёртого зверь задерёт. Кому как! И всё этот лысый шаман нагадит. – Зачем ему это? – с сомнением спросил Маркел. – Как зачем?! – удивился Кузьма. – Он же на Погорелом мольбище сидит, он всё недоброе… ну, то, что для них недоброе, для здешнего народа, всё это недоброе он должен дальше не пропускать. Он же как бы сторож при Великой Богине. Сразу за его мольбищем начинается её земля, так говорят. И это мольбище совсем недалеко отсюда. Ехать туда дня три, не больше. Но это если на собаках. И если знать тропу. – А ты её знаешь? – спросил Маркел. – Если б знал, – сказал Кузьма, – давно туда уехал бы. И там, может, столковался бы с тем лысым, и… Тут Кузьма замолчал. – Что «и»? – спросил Маркел. Но Кузьма, будто его не слыша, продолжал: – А там, опять же если знать тропу, то ещё через неделю, а то и меньше, дней за пять, можно и до Великой Богини доехать. – До Великой Богини или до Золотой Бабы? – спросил Маркел, улыбаясь. – Э! – настороженно сказал Кузьма. – Золотая Баба, это она только здесь так называется, а там она – Великая Богиня, конечно. И не приведи господь… – Кузьма снова сбился, замолчал, перекрестился и уже совсем негромким голосом продолжил: – Грех великий эта Золотая Баба, вот что. Лучше о ней не думать. И люди это знают, но всё равно думают. И едут туда, просто пищом лезут. А что дальше? Вон ты у Змеева спроси, он знает, он ездил, а после чуть ноги унёс. Он не рассказывал тебе? – Нет, – мотнул головой Маркел. – А зря, – сказал Кузьма. – А то, я вижу, ты это крепко взял себе в голову. А надо отдать обратно. Отдашь – будешь жить, а не отдашь… – И Кузьма перекрестился. После опять посмотрел на Маркела, сказал: – Хотя чего я говорю? Служба у тебя такая. Эх! И Кузьма замолчал. Маркел приподнялся, сел, подался вперёд, выглянул из шалаша, сказал: – А снег очень густой пошёл. Сейчас, думаю, начнётся. – Потом, прислушавшись, прибавил: – И куноватские затихли, и это не зря! И в самом деле, ни ударов в бубен, ни выкриков ляков уже совсем не было слышно. Маркел поправил шапку, вылез из шалаша, встал и осмотрелся. Снег валил уже так густо, что в десяти шагах ничего не было видно. Да и стемнело крепко. Маркел подумал: можно начинать. И не ошибся. Вокруг чуялась какая-то суета. Скрипел под ногами наст, бряцало железо, слышались обрывки слов. А, подумал Маркел, это наши уже начали выступать. Но ничего нельзя было увидеть, снег налипал на лицо, лез в глаза. Маркел сунулся вперёд и наткнулся на идущих. Они шли толпой. Маркел пристроился к идущим. Шли молча. Тропа спускалась вниз. Это, наверное, к реке. Да, река, думал Маркел, она недалеко, до неё шагов триста, не больше, не заблудишься. Только он так подумал, как спереди передали стоять. Толпа остановилась. Снег сыпал и сыпал, Маркел то и дело утирался рукавицей. Время шло. Из-за спины кто-то спросил, когда это уже. Погоди, ответили ему, и ещё прибавили, что это сразу услышишь, даже если не захочешь слышать. Это, подумал Маркел, они про пороховой заряд, который, может, уже подложили под стену и должны вот-вот подорвать, потому что нужно торопиться, снег идёт уже не так густо, со стены уже могут заметить, или подрывную свечу вдруг задует, хотя это особая свеча, на неё сколько ни дуй…Глава 39
И вдруг впереди как рвануло! Как полыхнуло молнией! Как начало гореть, трещать! И тут же где-то совсем рядом Змеев закричал: – Царёв! Царёв! Руби! Руби! Все подхватили: – Руби! И побежали! Маркел после вспоминал и удивлялся, что как это тогда никто не оступился, не упал, вот натоптали бы своих же! А так беды не было, бежали складно, без особой толкотни. Маркел бежал одним из первых и вначале ни о чём не думал, только об одном: «Руби! Руби!», и только потом уже стал думать, а кого рубить и чем, у него же только кистень, и он даже кольчугу не надел! А потом: лысый шаман! надо ловить лысого шамана, вот кого, лысый всё расскажет, только бы его поймать! Пока Маркел про это думал, они уже перебежали через реку и подбежали к тыну, к бывшей крепостной стене, которая теперь горела, и, что ещё важней, в ней зиял здоровенный пролом, брёвен на десять, не меньше. Наши валом валили в пролом и теперь просто орали протяжное «а-а-а!». Снег уже не сыпал, небо стало чистое, из-за туч вышла луна, наши, и с ними Маркел, вбежали в крепость… А там было пусто! То есть всё как будто бы было на месте – и княжьи хоромы, и жилые полуземлянки, и всякие другие хозяйственные постройки, и там и сям ещё горели многочисленные костры, которые ещё не успели погаснуть… Но возле них никого не было! И возле хором, и возле других построек тоже. Волынский, выбежав вперёд всех, теперь остановился, посмотрел на подбежавшего к нему Змеева и очень сердитым голосом спросил: – Иван, что это? Змеев, ничего не отвечая, смотрел по сторонам и, похоже, тоже ничего не понимал. Маркел осмотрелся. Наши стояли как остолбеневшие. А где остяки, подумал Маркел, они что, с нами не пошли?! Но только он так подумал, как в крепость повалили остяки. Они тоже шли толпой, но совсем не спеша. Впереди шёл Игичей, потряхивая золочёными косичками. – Что это такое, Игичей? – строго спросил Волынский. – Где все лугуевские люди? И где сам Лугуй? Игичей осмотрелся, сказал: – Великая Богиня забрала! – И засмеялся. Но только Волынский открыл рот, как Игичей, уже совсем серьёзным голосом, прибавил: – Или ушли вон туда, – и указал вперёд, куда-то в темноту. Волынский ещё раз глянул на Игичея, сердито мотнул головой и пошёл туда, куда тот указал. За Волынским пошли наши. Рядом с нашими шли остяки. Маркел шёл с нашими, в первом ряду. Все шли в полной тишине. Шли мимо княжеских хором, мимо догорающих костров… И вышли к дальней стене крепости. В ней зиял широченный пролом. Даже скорей разбор, то есть там из стены было выставлено много брёвен, может, даже больше, чем с другой стороны выбито порохом. Через такой разбор и не такое войско могло в два счёта выбежать! Маркел стоял, смотрел на это. Стоял и Волынский, стоял Змеев, стояли все наши, стоял Игичей со своими. Вот почему куноватские тогда затаились, подумал Маркел и только головой покачал. А Волынский, повернувшись к Змееву, велел послать кого-нибудь глянуть, куда эти сбежали, а сам развернулся и пошёл обратно. Маркел пошёл за ним следом. Волынский подошёл к княжеским хоромам, посмотрел на них и заходить в них не стал, а отошёл к ближайшему костру и приказал подкинуть дров. Наши кинулись подкидывать. Пламя сразу разгорелось. Волынский стоял возле полыхающего костра, поглядывал по сторонам. Вокруг Волынского стояли наши. Все молчали. Потом из темноты вдруг вышел Игичей, за ним шли его отыры, и спросил: – Ну что, воевода, теперь ты доволен? Лугуев город теперь твой? – Мой, да, – сказал Волынский. – А что? – А то, – ответил Игичей, – что как мы с тобой договаривались? Что когда возьмём Куноват, ты отдашь мне Аньянгу. Ну так отдавай! – Чего это я вдруг тебе её отдам? – спросил Волынский. – Ты мне не помогал! Я один взял Куноват! Я и мои люди! Моя бочка с порохом! Поэтому он мой и без тебя! – Как это он твой? – удивился Игичей. – Он такой же мой, как и твой. Твоё войско зашло в Куноват, и моё тоже зашло. Вот что я могу тебе сказать. Но я не буду этого говорить, а я повторю только то, что и вчера говорил: ты отдай мне Аньянгу, а я отдам тебе Куноват. И ты же согласился со мной, и мы это твоё согласие записали в грамоте, и ты это скрепил своей тамгой, а я своей. Вот здесь! – Он достал грамоту и развернул её: – Читай! – Это твоя грамота, и сам её читай! – в сердцах ответил Волынский. Игичей прищурился от злости, осмотрелся, увидел Маркела, обрадовался и воскликнул: – О! Вот царский посол! – И продолжал, обращаясь к Маркелу: – Ты эту грамоту писал, теперь ты и прочтёшь её! И он потянул Маркелу грамоту. Маркел посмотрел на Волынского. Тот отвернулся. – Бери! Бери! – сказал Игичей насмешливо. – Она не кусается! Маркел вздохнул, взял грамоту и только приготовился читать, как Игичей вдруг сказал: – Нет, не так. Вначале перекрестись. Чтобы всё было без обмана. Маркел перекрестился, осмотрелся. Все молчали. Маркел опять посмотрел в грамоту и начал: – Я, Игичей, великий князь Югорский… – Не читай! – громко сказал Волынский. Маркел опустил грамоту. Игичей схватил её, прижал к груди и засмеялся. Волынский покраснел от злости, обернулся к своим людям и велел позвать Аньянгу. Один из людей поклонился и быстро пошёл в темноту. Волынский опять поворотился к костру и стал греть над ним руки. А Игичей, широко улыбаясь, начал притопывать, хлопать в ладоши. Его люди взялись это за ним повторять. Игичей хлопал, топал всё быстрей, его люди уже чуть поспевали за ним. Потом откуда-то из-за толпы забухал бубен, потом на пустое место выбежал шаман, начал плясать по кругу, гайкать. Следом за ним загайкал Игичей, а за ним всё его войско. А Аньянги всё не было и не было. Наши стояли неподвижно, никто и пальцем не шевельнул, а остяки плясали всё быстрей и гайкали всё громче, шаман бил в бубен, кричал дико, по-звериному. Ночь была тёмная, светили только звёзды. Вдруг остяки перестали плясать, стало тихо. Маркел оглянулся и увидел, что в крепость входит Аньянга, а за ней идёт её девка-прислужница. Аньянга была в дорогущей длинной шубе из белых песцов и в такой же белой шапке. Как на свадьбу, подумал Маркел. А Игичей посмотрел на Аньянгу, подмигнул Волынскому, шагнул вперёд и бросил грамоту в огонь. Грамота стала гореть, изгибаться. Аньянга подошла, остановилась. Волынский повернулся к ней, сказал: – Я посылал за тобой вот зачем. Скажи, за кого ты хочешь выйти замуж: за меня или за него? – и указал на Игичея. Тот только открыл было рот, но смолчал. Ведь грамота уже почти сгорела! Но Аньянга улыбнулась и ответила: – За него, конечно, – и показала на Игичея. Игичей опять стал улыбаться. – Как это «за него»? – нетвёрдым голосом переспросил Волынский. – Анюта, что ты говоришь?! Тебя околдовали! – Нет, – ответила Аньянга, – никто меня не околдовывал и ни к чему не принуждал. Просто раньше я хотела так, а теперь хочу иначе. Хочу за него идти! И с этими словами она кивнула в Игичееву сторону. Игичей решительно подступил к ней и крепко схватил её за руку. – Анюта, – тихим голосом сказал Волынский, – что ты делаешь? Я тебя завтра в Вымь свезу, мы обвенчаемся. Вот крест! И он перекрестился. А она сказала: – Поздно! Тогда Волынский, как и Игичей, тоже схватил Аньянгу за руку и потянул к себе. А Игичей тянул к себе. – Васья! – громко сказала Аньянга. – Мне больно. Волынский разжал свою руку. Игичей сразу схватил Аньянгу, засмеялся. – Анюта! – растерянно повторил Волынский. – Анюта! Но Аньянга даже не смотрела в его сторону. Она смотрела на костёр, и было видно, что щёки у неё мокры от слёз. Игичей схватил Аньянгу ещё крепче, рукавом вытер ей слёзы, поднял на руки и понёс вон из Куновата. – Иди, иди! – крикнул ему вслед Волынский. – Не нужно мне твоё войско! Без тебя справлюсь! Проваливай! Игичей обернулся, ответил: – Твоё слово для меня закон, боярин! И засмеялся, пошёл дальше. Следом за ним шло его войско. Их было много, они всё шли и шли, пока все не вышли из крепости. Волынский сразу же сказал: – Куноват теперь наш. А скоро и вся Югра будет наша! Но все на это промолчали. Все смотрели вслед Игичееву войску. Волынский громко засмеялся и прибавил: – И что мне эта Аньянга? У меня этих Аньянг в Москве!.. И только рукой махнул досадливо. А потом, как будто спохватившись, повернулся к Змееву и закричал: – Иван! Я что, теперь всю ночь здесь на морозе торчать буду? С этими словами он развернулся и пошёл к крыльцу Лугуевых княжеских хором. Следом за Волынским шёл Змеев, за Змеевым шёл челядин с огнём. А из-за реки, от Игичеева табора, опять послышался бубен. Этозначит, подумал Маркел, что они и в самом деле уходят – совсем. Соберутся и уйдут к себе. Что же теперь дальше будет, прости, Господи?! И он опять посмотрел на Волынского. А тот уже поднялся на крыльцо, остановился и долго смотрел на своих сверху вниз, как будто кого-то высматривал… Потом вдруг повернулся к Маркелу и громко сказал: – А ты чего стоишь? Иди, показывай. Ты же здесь всё знаешь! Стрельцы расступились, Маркел поднялся на крыльцо, челядин отдал ему огонь, открыл дверь, и Маркел первым вошёл в хоромы. Следом за ним вошёл Волынский, за ним его дворский Леонтий и дальше другие челядины. Все они были с огнями. Маркел, глядя на них, ещё подумал, что как бы худа не было. И его, то есть пожара, не было. А было то, что наша челядь очень быстро приладилась к новому месту, и не успел Маркел ввести их в княжескую трапезную, как одни из них сразу начали растапливать щовал, а другие кинулись искать чулан с харчами. Волынский расстегнул шубу и сел на кошму. Маркел сел рядом. Челядин подал им чашки. Волынский долго смотрел в стену, держал чашку, думал. Потом разом выпил. И опять молчал. Про Аньянгу вспоминает, про кого ещё, не про Игичея же, думал Маркел. Вошёл Змеев. Волынский знаком пригласил его садиться. Он, наверное, хотел поговорить с ним про Аньянгу… Но Змеев строго сказал, что ему ещё рано садиться, ему сперва надо людей чем-то занять, иначе они перепьются и спалят всё, как спалили в Берёзове. – Никто Берёзов не палил, – строго сказал Волынский. – А я и не говорю, что палил, – ответил Змеев. – Я только говорю, что как бы здесь такого не было. Волынский нахмурился и промолчал. Было видно, что он опять думает про Аньянгу. Но Змеев опять сказал, что нельзя давать людям волю, люди от воли опять перепьются и набезобразничают. – Так как ты полагаешь быть? – спросил Волынский. – Полагаю, – сказал Змеев, – выставить на стены дозор, а всех остальных послать чинить проломы. А то вдруг мало ли кто надумает вернуться. Но, – тут же прибавил Змеев, – это если дозор не выставить. А если выставить, тогда никто к нам не сунется. – Эх! – только и сказал Волынский. – Отдохнул! – Отставил чашку, встал и пошёл к выходу. И они со Змеевым ушли. А Маркел так и сидел возле щовала. Сидел долго. За окном шумели. Пришёл челядин, спросил, чего подать. Маркел сказал, что ничего. Потом спросил, что делается в крепости. – Делается тын, – ответил челядин и вышел. Маркел продолжал сидеть, слушал крики за окном, вспоминал прошедший вечер и вначале гневался, а после стал думать о том, что это очень хорошо, что Игичей ушёл, а так бы он только мешал. А так, думал Маркел, без Игичея… И заснул. Спал очень крепко.Глава 40
Утром Маркел проснулся от громких голосов. Он открыл глаза и увидел, что лежит во всё той же трапезной, но уже не возле щовала, а в самом углу, за ворохом шкур. А голоса были Волынского и Змеева. Они, спиной к Маркелу, сидели на кошме. Волынский строго сказал: – Ты мне не усмехайся! – Да не усмехаюсь я! – ответил Змеев. – Ладно, ладно! – перебил его Волынский. – Я же видел, как ты смотрел на меня. Как будто я оробел перед ним. А я не робел! Да я бы его саблей надвое, как поросёнка! Но нельзя. Заругалась бы Москва. Это же наш верный князь, сказали бы, таких надо беречь, такие нам всегда нужны. Ну и нужны! – Теперь, после вчерашнего, уже и не нужны, – с досадой сказал Змеев. – Нужны, нужны! – уверенно сказал Волынский. – Ещё увидишь, как он прибежит! И Анюту за собой притащит, будет её подсовывать: возьми! А как я тогда возьму? Меня летом заберут отсюда. Они помолчали. Змеев ничего не спрашивал, Волынский злился, потом сам заговорил: – Уеду я летом от вас. Батюшка мой, Степан Васильевич, обещал похлопотать где надо, поклониться до земли, и не с пустыми руками поклон, и заберут меня на воеводство в Ладогу. Вот так! – И он усмехнулся. – Где это? – спросил Змеев. – На шведской границе, – ответил Волынский. – А шведы, это тебе не остяки. Это люди благородные, крещёные, хоть и неправильно, конечно. И за таких знаешь какие выкупы дают? Но это если война. А если без войны, тогда да, тогда не очень. Но это ладно! А ещё дальше вот что будет: отсижу я в Ладоге два года, вернусь в Москву, а там у матушки уже всё готово, сговорено, пишет, есть одна девица на примете, и ещё две на присмотре, за каждой дают по три воза приданого, да деревеньку, да людишек… А ты мне: Аньянга, Аньянга! Привезёт Игичейка Аньянгу к нам в Берёзов, а меня уже и след простыл, я в Ладоге. Хотя, конечно… И Волынский замолчал, тяжко вздохнул. Маркел усмехнулся. Волынский сразу подхватился, обернулся и громко сказал: – Эй! Царский гонец! Не притворяйся! Я видел, ты давно не спишь. Давай, вставай. Сейчас принесут перекус. Маркел поднялся, подошёл, сел рядом с ними. Волынский строго сказал: – Крепко же ты спишь. Люди уже из дозора вернулись. Искали Лугуя. – И что, – спросил Маркел, – нашли его? – Пока что нет, – сказал Волынский. – Пока нашли только следы. Они все одной толпой ушли: и Лугуй, и его войско, и простые люди куноватские. Шли вначале вдоль реки, а после повернули на Казым, к Сенгепу. Маркел подумал и спросил: – Все повернули? Всей толпой? – Как будто всей, – сказал Волынский. – Да и куда им ещё было идти? Только на Казым. Вот где теперь Лугуй будет сидеть! Тебе его там не достать! А я стрельцов тебе не дам, ни одного. Хоть было записано дать, а не дам! Потому что сейчас что всего важнее? Не за Лугуем бегать, а удержаться здесь. И я удержусь! Стены подновлю, поправлю, пошлю знать нашим, чтобы прислали подмоги, кто сколько может. И будет наш Куноват! А на Казым и сам пока что не пойду, и вам не дам ни одного стрельца. А то Иван тоже начал с утра заговаривать, а не пойти ли на Казым, или не догнать ли нам Лугуя, пока он до Казыма не дошел. Было такое, нет? Змеев нехотя кивнул, что было. Волынский опять посмотрел на Маркела и сказал как будто с горечью: – Вот так! Не получилась твоя служба. Не перехватил ты Лугуя. Как теперь тебе с пустыми руками к царю возвращаться? Никак! – А зачем мне его перехватывать? – спросил Маркел. – А снять с него расспрос! – сказал Волынский. – А я уже снял. – Когда? – А когда сюда ходил, – сказал Маркел. – Он мне тогда всё поведал: и почему он не стал платить нам ясак, и куда он стал его возить, и кто такая Золотая Баба, и кто такой ты. Волынский, услыхав такое, покраснел от гнева и сказал: – Много ты себе стал позволять, Маркелка! А то смотри, я тебя своей властью… И замолчал, только зубами скрипнул. Маркел улыбнулся и продолжил: – Мне Лугуй уже не нужен, я его уже расспрашивал, и он честь по чести всё ответил. Теперь мне нужно Золотую Бабу взять и расспросить. Вот я сейчас к ней и поеду. Время сейчас для этого очень удобное: все князьки кто куда разбежались, никто мне мешать не будет, и я быстро к ней доеду. – А где её искать, ты знаешь?! – спросил Змеев. – Знаю, конечно, как не знать. Добрые люди подсказали. – Кто добрые?! – гневно спросил Волынский. Маркел только усмехнулся, не ответил. Волынский приготовился сказать… Но тут открылась дверь, стали входить челядины, вносить и расставлять еду, питьё. Маркел, Волынский и Змеев молчали. Леонтий налил им по чашке, они выпили. Леонтий ещё налил и вышел, прикрыл дверь. Волынский ещё подождал и спросил: – Так ты что, и вправду собрался к Великой Богине? Маркел утвердительно кивнул и принялся закусывать. Волынский опять спросил: – А дорогу туда знаешь? – Что знаю, – ответил Маркел, – а что добрые люди подскажут. Мне от тебя нужны только стрельцы, с десяток, но самых лучших, а к ним харчей на неделю и зелейного запаса как можно больше. – И пойдёшь? – Пойду, – сказал Маркел. – Вот только ещё перекушу и выпью. Волынский молчал. Потом посмотрел на Змеева, сказал: – Иван! Да скажи ты ему! – А что здесь говорить? – ответил Змеев. – Человек решил. Да и служба у него такая. – Но ты ведь ходил туда! – сказал Волынский. – Ну и ходил, – ответил Змеев. – Так ведь не я один туда ходил. – И, повернувшись к Маркелу, продолжил: – Мы как сюда пришли, в эти земли, как про эту Золотую Бабу услыхали, так и ходим, так её и ищем. Много про неё всякого болтают. А про её богатства ещё больше. Но никто из наших этого богатства не видал. Не доходят наши до него. Летом тебя в водоворот затянет, топляком затрёт, зимой под лёд провалишься. А её, может, и нет совсем. – А к кому тогда Лугуй ходил? – спросил Маркел. – Ну, Лугуй тебе расскажет! – А… – начал было Маркел, хотел сказать про бывшего шамана, про Аньянгу, но спохватился и промолчал. Змеев это заметил, сказал: – Ты нам не всё договорил. Ну да и ладно. Когда будешь помирать, тогда про это вспомнишь. – А пока что? – А пока, – ответил Волынский, – ладно. Дам я тебе стрельцов. И дам всего другого, что просил, но понемногу. А сейчас налей! Маркел налил, и они все трое выпили до дна. После Волынский утёр губы, усмехнулся и сказал: – Скользкий ты человек, Маркелка. Ну да бог с тобой. Не тем будем тебя поминать. Маркел усмехнулся, ответил: – Это ещё кто кого помянет. – Ладно, ладно! – погрозил пальцем Волынский. После обернулся к Змееву, сказал: – Дай ему Ермолу со своими. Не скупись! – Э! – только и ответил Змеев, но не стал перечить. А Волынский усмехнулся и прибавил: – Это Анюта за тебя просила. А сам я ничего тебе не дал бы. – Так я тогда пойду, – сказал Маркел. – Иди, – сказал Волынский. И, повернувшись к двери, кликнул: – Эй! Вошёл Леонтий. Маркел встал. Волынский кивнул на Маркела, сказал: – Царский гонец уходит. Проводите его честь по чести. И дайте ему Ермолу со своими в провожатые. Я им за это дам двадцать рублей на всех, сразу, как только вернутся. Леонтий слегка поклонился, поворотился к Маркелу, кивнул, и они оба пошли из трапезной. Волынский со Змеевым молчали. Эх, только и подумал Маркел, двадцать рублей на круг, недорого. И сердито тряхнул рукавом. В рукаве брякнул кистень.Глава 41
Когда Маркел и Леонтий спускались по лестнице, Леонтий спросил: – Куда, царский посол, собрался? – По царским же делам, – уклончиво ответил Маркел. И тут же прибавил: – На неделю. Дашь нам харчей запас, дашь пороху, свинца. Порох рассыпчатый! – Другого не держим, – сердито ответил Леонтий. Они вышли на крыльцо. Леонтий осмотрелся, увидел стрельцов, сидевших на сложенных неподалёку брёвнах, сказал: – Вон твой Ермола. И начал махать рукой. Один из стрельцов, Ермола, как назвал его Леонтий, не спеша поднялся и так же не спеша пошёл к крыльцу. Он был из себя невысокий, худой, в большой шапке. Маркел сошёл с крыльца. Следом сошёл Леонтий. Ермола подошёл к ним, глянул на Маркела. Леонтий сказал: – Царский посол берёт тебя на службу. Служба непростая, но не даром. Маркел посмотрел на Леонтия. Леонтий вздохнул, сказал, что он пока пойдёт похлопочет насчёт харчей, развернулся и ушёл. Когда он зашёл за угол, Ермола спросил, куда надо идти и за сколько. Маркел ответил: – Воевода даст двадцать рублей, на всех, сразу, как только вернётесь. А нужно мне в два места. Первое место, это, если ты знаешь, есть такое Погорелое мольбище. Ермола помолчал, потом сказал без особой охоты: – Это дело очень непростое. И неблизкое. Маркел подумал и сказал: – Ну, ладно, дам, и это уже от себя, ещё десять рублей. Или всё равно робеешь? – А чего робеть? – сказал Ермола. – Робел, сидел бы дома, на печи, за бабой. – А Золотую Бабу видел? – А что, – спросил Ермола, – ты и к ней тоже собрался? Это что, второе наше место? Маркел снова усмехнулся и сказал: – Об этом пока рано говорить. – И тут же спросил: – Там, на брёвнах, твои люди? Ермола кивнул, что его. – Иди, вели им собираться, – приказал Маркел. – А я подожду Леонтия. Как он принесёт харчи, сразу выходим. За тридцать пять рублей. И это всё! Ермола поправил шапку и пошёл к своим, которые по-прежнему сидели на брёвнах. Когда Ермола подошёл к ним, они стали у него о чём-то спрашивать. Он им кратко отвечал. Они стали поглядывать в Маркелову сторону. Так продолжалось какое-то время. Потом они отвернулись и на Маркела уже больше не смотрели. Это всё были люди крепкие, сытые, и не молодые ребятки, а серьёзные мужи. А вот Леонтий всё не возвращался и не возвращался. Маркел начал осматриваться по сторонам. Во дворе крепости было немало народу, все были каждый своим заняты, ходили взад-вперёд, что-то носили, что-то починяли после вчерашнего дела. День был погожий, ясный, солнце поднималось к полудню. И вот наконец из-за угла хором вышел Леонтий налегке, за ним двое челядинов тащили гружёные нарточки. Маркел пошёл им навстречу. Леонтий велел челядинам остановиться. К ним подошёл Маркел, подошёл и Ермола со своими десятью стрельцами. Леонтий стал подробно объяснять, что где лежит в нарточках. Лежало много всякого. Не поскупились, подумал Маркел и посмотрел на Ермолу. Ермола приказал своим брать нарточки, а сам выступил вперёд, махнул рукой – и они все, а с ними и Маркел, пошли по крепостному двору к тому месту, где тын был ещё не починен, в нём оставалась дыра на три бревна, не меньше. Начал подниматься ветер, замела позёмка. Маркел сердито подумал: а ведь заметёт, зараза. И он не ошибся. Когда они полезли через пролом в тыне, ветер уже крепко дул в лицо, глаза так и забивало снегом. Выйдя за пролом, они остановились, надели лыжи-ступанцы и только потом пошли дальше. Но и на ступанцах идти по льду, по реке, было непросто, там же ещё сильней пуржило. Ермола шёл впереди, Маркел за ним. Шли по уже наполовину заметённым следам Лугуева войска. Следы были как от табуна, весь снег сплошь истоптан, и получалась такая дорога шириной сажени в две, а где и во все три. Потом эта дорога по реке свернула вправо, а сбоку, с левой стороны, показался впадающий в реку замёрзший ручей. Там снег был совсем нетоптаный. Ермола повернул туда, все повернули за ним следом. – Это что? – спросил Маркел. – Это Ручей Белого Глухаря, – ответил Ермола, не оглядываясь. – А дальше будет Чёрного. Видишь тамгу? Маркел осмотрелся и на одном из деревьев увидел мудрёный затёс. Это, наверное, и был глухарь. Маркел спросил: – Так всё время по затёсам и пойдём? – Нет, – сказал Ермола. – Затёсов больше не будет до самого мольбища. И прибавил шагу. Маркел и все остальные прибавили тоже. Так они и шли по льду замёрзшего ручья. Там было немного затишнее, чем на реке, но всё равно мело крепко. Никто ничего не говорил, только иногда стрельцы перекрикивались между собой, это чтобы заменить того, кто тащил нарточки, и всё. Маркел шёл, смотрел в спину Ермоле и иногда поглядывал по сторонам. Там, по обоим берегам ручья, была тайга, но уже не такая густая, как раньше. И берега ручья становились всё ниже и ниже. Мороз крепчал. Так они шли весь день, Маркел крепко продрог, но ничего не говорил. Когда начало смеркаться, Ермола объявил привал. Они разбили табор, развели костёр, поставили шалаши, сварили болтуху, сели есть. Ели молча. Маркел долго терпел, потом не сдержался, спросил: – А если мы неправильно идём, тогда что? Все перестали есть, переглянулись. А Ермола утёр губы и ответил: – Как это мы неправильно идём? Мы идём правильно. По Глухариной тропе. Сначала это мы идём вдоль ручья Белого Глухаря, потом, за горой, будет Чёрный Глухарь, и там в конце Погорелое мольбище. Всё очень просто. – А дальше как? – спросил Маркел. – Э! – нараспев ответил Ермола. – Вначале нужно пройти Погорелое мольбище. Боюсь, пропадут там наши денежки. – С чего это вдруг пропадут? – спросил Маркел. – Да мало ли! – сказал Ермола и обернулся на своих стрельцов. Они все заусмехались. – Сорок рублей! Такие деньги! – продолжал Ермола. – Тридцать пять! – твёрдо сказал Маркел. – А не пойдём за тридцать пять! – А не идите! Ермола покосился на стрельцов, поулыбался и сказал: – И не пошли бы. Да ведь обещали. – И спросил: – А где твои деньги, с собой? – В Москве, – сказал Маркел. – Пятнадцать рублей. И у воеводы двадцать. Всего тридцать пять. Вернусь, получите. А не вернусь, не обессудьте. И он опять взялся за болтуху. Сидел, ширкал ложкой по дну миски. Потешаются они над ним, думал Маркел, хотят запугать. И, усмехаясь, ел. А как доел всё до дна, даже дно выскоблил, так сразу отставил миску, встал и сказал, что время позднее, солнце зашло, пора ложиться. Они разлеглись по шалашам. Маркел почти сразу заснул от усталости. Ему снилась Москва, ряды на Красной площади, Параска себе что-то покупала, Маркел платил, денег было много, на душе легко… И вдруг опять заболело в боку. Маркел сразу проснулся, открыл глаза, через прореху в шалаше глянул на звёзды, помрачнел. В боку стало ещё больней. Эх, только и подумалось, святой Никола, не оставь меня, мне же для себя ничего не нужно, мне только бы Параска была радая, да Нюську выдать за какого-нибудь стольника, или хотя бы сотника, чтобы непьющий был, чтобы не бил, чтобы велись у них детишки, чтобы… Эх! Опять заболело в боку. Зачем он, подумал, тогда лез? Пусть бы Иван лез первым, это же было его дело, вот и пырнули бы Ивана, а так полез Маркел, дурак ты дураком, выла Параска, зачем ты высунулся, кто тебя просил… Маркел положил руку на рану, рана согрелась, и Маркел заснул, теперь уже до самого утра.Глава 42
Назавтра день выдался пасмурный, ветреный. Когда они утром сели перекусывать, снег так и сыпал в миску, миска быстро остывала. – До мольбища, – сказал Ермола, а он сидел рядом, – ещё три дня ходу. А дальше куда? Маркел ничего на это не ответил, взял сухарь, обмакнул его в болтуху, обкусил, задумался. Ермола больше ничего не спрашивал. Перекусили, встали, пошли дальше, опять по ручью. Ручей был как ручей, до дна промёрзший. Ни зверей, ни птиц, нигде видно не было, также и никаких следов нигде не замечалось. И тишина стояла, как во сне. Шли молча. Шли весь день, продрогли очень сильно. Когда вечером остановились на привал, Маркел вспомнил вогулов и их гриб, пун называется, но спрашивать о нём не стал. Опять развели костёр, перекусили, всё это почти молча, за пустыми разговорами, и легли спать по шалашам. Но сон не шёл и не шёл. Маркел старался дышать ровно, как заснувший, а сам думал о разном. А тут ещё и бок скрутило. Маркел терпел, только посапывал. Вдруг вдалеке послышались удары бубна. Бубен бил ровно, не спеша, и бил всё громче и громче, потому что быстро приближался. Сейчас, подумал Маркел, бубен будет совсем рядом, надо будить своих, как можно спать при таком грохоте, почему никто не просыпается? Да пусть хоть кто-нибудь повернулся во сне, так ведь нет! Лежат как покойники! А бубен гремел ещё громче! Но он уже не приближался, а стоял на месте, за деревьями. Маркел перекрестился. Бубен сбился с боя. Маркел начал читать «Отче наш». Бубен затих, послышались поспешные шаги, как будто кто-то убегал, снег так и скрипел под ногами. Лысый шаман, подумалось Маркелу, это он, это же его угодья! Маркел поднял голову, прислушался. Бубен больше не бил, было тихо. И в шалаше все спали. Маркел лежал, его всего трясло, и думал, что, может, ничего этого и вовсе не было, а ему только почудилось, надо будет утром посмотреть следы, а пока он закрыл глаза, прочёл «Отче наш», потом ещё раз и ещё и, понемногу успокоившись, заснул. Утром, когда они все встали, перед перекусом, Маркел ходил, смотрел по сторонам, но нигде шаманских следов видно не было. Странные дела творятся, Господи, подумалось, а вслух Маркел ничего никому не сказал. Перекусили, пошли дальше. В тот день ветер дул ещё сильней, снег сильно бил в лицо. И ещё дорога шла всё время в гору, ручей становился всё уже, гора всё круче. И там почти ничего не росло, только редкие кривые деревья да низкие, стелющиеся по земле кусты. Потом ручей совсем пропал, теперь они просто шли в гору. Ветер становился всё сильней, стрельцы едва тащили нарты. Когда солнце, как было похоже, поднялось до полудня, Ермола велел сделать привал. Все сразу остановились и расселись, а кто и разлёгся, где стоял. – Тяжело? – спросил Ермола у Маркела. Маркел утвердительно кивнул. Ермола усмехнулся и прибавил: – Это хорошо, что тяжело. Значит, мы правильно идём. А вот если бы стало легко, это бы значило, что мы заблудились. Маркел ничего на это не ответил. Они ещё немного отдохнули и пошли дальше. Больше привалов не было, поэтому когда становилось совсем невмоготу, Маркел вспоминал Ермолины слова и с радостью думал, что они, значит, идут правильно и скоро будут на месте. Правда, когда они вечером остановились на привал и Маркел спросил, сколько им ещё осталось, Ермола ответил, что ещё два дня. – Но, – тут же прибавил он, – это до Погорелого мольбища столько. А куда дальше идти, я же не знаю, ты же нам ничего не говоришь. – А что говорить, – сказал Маркел. – Мне это мольбище не очень нужно. Мы его, может, ещё обойдём. – Э! – нараспев сказал Ермола. – Его никак не обойдёшь. Там только одна тропа, и мольбище стоит прямо на ней, а справа и слева болото, и такое, что лучше не суйся. – А тропа куда дальше ведёт? – спросил Маркел. Ермола усмехнулся и сказал: – Ты это сам знаешь. Маркел промолчал. Ермола стал очень сердитым и сказал: – Ну да, может, это правильно, что ты молчишь. Он тебя, может, ещё и не пропустит. – Кто это меня не пропустит? – Лысый шаман, – сказал Ермола. – А как он не пропускает? – А вот там увидишь! И, больше ничего не говоря, Ермола встал от костра и пошёл к своему шалашу. А Маркел к своему. Там все быстро заснули, а Маркел опять не спал. Лежал, прислушивался. Было тихо. И так тихо, что совсем ничего слышно не было, даже того, как другие во сне дышат. Ничего Маркел тогда не слышал, лежал как глухой пень! Долго лежал, потом не удержался и толкнул соседа, но тот даже не шелохнулся. Маркел подождал ещё немного, потом закрыл глаза, потом крепко зажмурился… И увидел того самого шамана – лысого, без шапки, в длинной широкой шубе с лентами. Теперь шаман не прятался, как прошлой ночью, а стоял открыто, держал в одной руке бубен, во второй колотушку, смотрел на Маркела и будто не видел его. Потом ударил колотушкой в бубен, ударил сильно, с размаху, но Маркел ничего не услышал. Шаман стал бить в бубен, приплясывать, а Маркел по-прежнему ничего не слышал. Шаман приплясывал всё быстрее, бил всё сильнее, но его по-прежнему не было слышно. Потом шаман вдруг остановился, подбросил вверх бубен, за ним колотушку, и они исчезли где-то в вышине, а шаман развернулся и пошёл прочь, и на снегу следов за ним не оставалось. Какая чертовщина, Господи, подумал Маркел, открыл глаза… И увидел, что он в шалаше. Сразу стало веселей, Маркел заулыбался, подумал, что чего только в жизни не случается и чего со страху не померещится, а после поправил кистень в рукаве, начал считать мешки и заснул. А утром всё было как всегда – перекусили, выкатили нарты и пошли. День был пасмурный, с ветром, морозный. Шли в гору, молчали. Гора была голая, ничего на ней не росло, снег лежал плотный, с толстой коркой. Шли долго, только к полудню взошли на гору, нашли место позатишнее, передохнули и пошли дальше, теперь уже вниз, с горы, на другую её сторону. Вскоре вышли к новому ручью, он тоже был промёрзший до дна. По берегам ручья торчали корявые сосны-недоростки. Холод стоял собачий. Маркел представлял, что он идёт с вогулами, вогулы дали ему пун, он его жуёт и согревается. А ещё очень хотелось, чтобы поскорее был привал. Но и на привале Маркел не согрелся, каша была холодная, питьё было гнилое. А ночью Маркел как заснул, так после никак не мог проснуться, а кто-то навалился на него, схватил за горло и душил всю ночь, прикрикивал «гай! гай!». Маркел отбивался от него, не мог отбиться. Утром проснулся злой, с разодранной щекой. Стрельцы поглядывали на Маркела, усмехались. Ермола молчал и только головой покачивал. Они собрали табор и пошли всё время вниз и вниз с горы, деревьев вокруг больше не становилось, зверей и птиц по-прежнему видно не было. Зато ручей становился всё шире и шире. После по этому ручью они вышли на замёрзшее болото. Болото было здоровенное, ему не было видно конца. Ермола остановился и сказал, чтобы все были осторожнее, потому что это болото до дна не замёрзло, оно живое, в него можно провалиться насмерть. Но, тут же прибавил Ермола, до Погорелого мольбища уже совсем недалеко, к полудню они туда придут. И они пошли дальше. Снег под ногами так и ходил ходуном, под снегом чавкала вода, валенки вскоре промокли насквозь, ноги быстро коченели. Так дальше идти нельзя, думал Маркел, надо остановиться и обсохнуть, или свернуть куда-нибудь, или совсем развернуться, а то лысый шаман… А что лысый шаман? Почему это он одних пропускает, других нет, и как он это делает, надо было спросить у Ермолы, почему Маркел молчал?!Глава 43
И тут вдруг Маркел почуял запах дыма, остановился и опять принюхался. И в самом деле, пахло костром. А вот харчами не пахло. Так, может, это молельный костёр, подумал Маркел, осматриваясь. Возле него сбились стрельцы, рядом стоял Ермола. – Костёр, – тихо сказал Маркел. – Где-то здесь рядом. И он опять начал осматриваться. Все перед ним расступились. Костра нигде видно не было. Маркел перекрестился и пошёл вперёд, стараясь идти бесшумно. За ним пошёл Ермола, а за Ермолой стрельцы. Место там было довольно открытое, только кое-где из болота торчали корявые сосны да прошлогодняя трава. Трава была очень высокая, в ней можно было спрятаться. Маркел так и делал – шёл, осторожно пригибаясь. Запах костра чуялся всё сильней и сильней, а вот дыма нигде видно не было. Они прошли ещё немного, и впереди вдруг послышалось тихое пение. Это, наверное, была молитва, очень заунывная. Лысый шаман, думал Маркел, лысый шаман, это он… А больше ни о чём не мог подумать. Потом наконец подумалось: почему шаман их не чует, почему поёт? Или, может, он обманывает их, хочет приманить поближе? Тогда всё нужно делать очень быстро! Подумав так, Маркел прибавил шагу. Пение слышалось громче и громче. Маркел уже видел, откуда оно раздаётся – там, над жёлтой посохшей травой, стояли невысокие шесты, серые от времени, а на шестах торчали черепа, человечьи и собачьи. Маркел замер, осторожно ступил в сторону… И шагах в двадцати впереди он увидел шамана. Шаман сидел к нему боком, и это был тот самый шаман – без шапки, лысый, в тёмной шубе, украшенной разноцветными ленточками, – а перед ним горел небольшой костёр. Шаман держал руки над огнём и пел вполголоса. О чём он пел, Маркел не понимал. Маркел шёл, крадучись. Шаман перестал петь, Маркел сразу же остановился. Шаман опять запел – Маркел опять пошёл. Потом шаман вновь замолчал, на этот раз надолго. Теперь он держал руки очень близко над огнём, потом убрал их и одну из них отставил в сторону. На ладонь к нему тут же сел ворон. Это случилось так быстро, что Маркел даже не успел заметить, откуда взялся этот ворон. Теперь ворон сидел на руке у шамана, шаман улыбался и что-то шептал. Ворон, казалось, его слушал, склонив голову. Шаман свободной рукой оборвал с шубы ленточку, дал её ворону. Ворон зажал её в клюве, шаман подбросил ворона, и тот взлетел. – Стреляйте! – закричал Ермола. Стрельцы стали стрелять, вразнобой, и никто не попал. Ворон взлетел ещё выше, сделал над стрельцами круг и улетел, и скрылся за деревьями. Только тогда шаман обернулся к Маркелу и сказал, теперь уже понятно, по-вогульски: – Я слышал, как вы шли. И слышал, что вы думали. Глупцы! И он опять повернулся к костру, и стал опять греть над ним руки. Стрельцы подбежали к Маркелу. Маркел мельком глянул на них, ничего не сказал и опять обернулся к шаману. Тот продолжал сидеть перед костром. Снег вокруг костра давно растаял, земля была сухая, серая. Маркел сказал: – Вот мы и снова встретились. Ты меня, конечно, помнишь? Шаман утвердительно кивнул. – Говорят, эта тропа, – сказал Маркел, – ведёт к Великой Богине. – Говорят, – сказал шаман, прищурившись. – А ещё говорят, – продолжил Маркел, – что ты сторожишь эту тропу, и одних пропускаешь по ней, а других не пропускаешь. – И так тоже говорят, – сказал шаман, уже не улыбаясь, медленно поднял голову, посмотрел Маркелу прямо в глаза и продолжил: – Но это не так. Всё решает Великая Богиня, а я лишь делаю то, что она мне прикажет. – Тогда, – сказал Маркел, – ты должен помнить, что она сказала обо мне – что она ждёт меня. – Я это помню, да, – сказал шаман и усмехнулся. – Но это было очень давно, так что Великая Богиня вполне могла и передумать. – Да как это давно?! – сердито воскликнул Маркел. – Это было всего несколько дней тому назад! – Да, это так, – сказал шаман. – Но за это время всё могло очень сильно измениться. Да и Великая Богиня тоже женщина, а женщины не любят быть постоянными. Вот я и отправил ворона, чтобы узнать, как мне теперь быть с вами. А пока не мешайте мне думать! И с этими словами он положил руки на колени и снова запел свою очень тоскливую и непонятную песню-молитву. Маркел обернулся. – Э! – со смехом воскликнул стоявший рядом с ним Ермола. – Не так с ними надо разговаривать! – И он сорвал с плеча пищаль, ткнул ею шаману в грудь и приказал: – Вставай, собака! Шаман даже не шелохнулся. Ермола выстрелил в него в упор. Шаман упал. Всё затянуло едким дымом. – Вот так… – начал было Ермола… Но тут шаман зашевелился, захрипел и начал подниматься. Маркел, Ермола и стрельцы, все отшатнулись. Шаман снова сел к костру. По губам у него текла кровь, и шуба на груди была в крови. Шаман приложил ладонь к губам и что-то с трудом выплюнул, раскрыл ладонь. На ней лежала пуля. Шаман уронил пулю в костёр, облизал губы и снова запел. Это была уже другая песня, очень мрачная. – Эй! – закричал Ермола. – Он колдует! Да он сейчас нас всех убьёт! И они попятились. Маркел крикнул идти за ним, первым взошёл на тропу и пошёл по ней дальше. Шёл и оглядывался. За ним быстрым шагом шли Ермола и стрельцы, катились нарты. А ещё дальше был виден костёр, возле него сидел шаман, костёр быстро разгорался, поднимался дым. А вскоре, когда дым порывами сдувало ветром, становилось видно, что шаман уже лежит на боку и не шевелится. – Вот и всё! – радостно воскликнул Ермола. – Никакой он не колдун! Пуля колдует крепче! – И засмеялся. А все остальные молчали. Просто старались идти быстро, вот и всё. Ермоле было страшно в тишине, и он продолжил: – Великая Богиня! Великая Богиня! Кого это мы так величаем? Нет там никакой богини, а есть только ведьма-воровка, золочёная старая баба, которая сидит в тёмной пещере и скулит как побитая собака. А то как же! Ведь раньше у неё было много слуг, Лугуй и другие князьки, а теперь они все разбежались, никто не хочет её защищать! И вот мы теперь туда придём, свяжем её и отвезём в Москву, и нам там за это дадут… Сколько дадут? Маркел, чего молчишь? Ведь ты же знаешь это! Маркел оглянулся, сердито ощерился и так же сердито начал отвечать: – А что я? А я ещё в Москва так говорил! Дайте мне, говорил, сто рублей, чтобы было чем людям платить, дайте подорожную с царской печатью, дайте стрельцов с десяток, самых лучших, и я вам её привезу. А они… – Маркел отвернулся и прибавил шагу, и продолжил уже с горечью: – А что они? Они не верили! Тогда мой боярин, князь Семён, дай ему Господь здоровья, говорит: да как это вы ему не верите, да он у нас в приказе самый ловкий, самый крепкий, его никакая ведьма, никакой колдун не одолеет, вот как у нас в прошлом году… И вдруг он замолчал, задумался, стал идти медленней. Его окликали, он не отзывался. Вскоре Ермола обогнал его, Маркел этого как будто не заметил… А шамана, того вовсе видно уже не было. Не было и костра, и не было тех шестов, на которых торчали черепа. Всё исчезло! Только над снегом поднимался туман, или скорее всё же дым, потому что пахло гарью.Глава 44
И опять впереди шёл Ермола, за ним Маркел, а уже за ним все остальные, и нарты. Ну и молчали, как всегда. А болото стало очень гадкое! Теперь оно ещё сильней тряслось, и дул сильный ветер, конечно, в лицо. Солнце опускалось всё ниже и ниже, а они всё не делали привал, потому что не было подходящего места. Деревьев вокруг совсем не было, нечего было рубить на костёр и не из чего ставить шалаши, вот они и шли дальше, и шли, уже начало по-настоящему смеркаться, а они всё шли. Потом Ермола наконец остановился и показал, где ставить табор. Они свернули с тропы и нарубили и собрали веток, чтобы развести хоть бы какой костёр, и это им не сразу удалось. Но они всё же наварили кое-какой болтухи и сели есть. Ели молча, как всегда. Потом полезли в шалаши. Шалаши на этот раз получились кривые, дырявые и почти не защищали от холода. В голову лезли противные мысли, мерещился мёртвый шаман. Ветер дул сильный, промозглый, пахло сырым болотом, пробирало до костей, хотелось пуну. Эх, думалось, его бы пожевать сейчас, в голове бы сразу зашумело! И вдруг Маркел увидел тех двоих вогулов, которые когда-то угощали его этим грибом… А теперь они, бритые как кучкупы, ходили по какой-то тёмной пещере, носили миски и расставляли их на кошме. Кошма была длиннющая, саженей в двадцать, шириной в сажень, и вся уставленная мисками с разной едой и также чашками с питьём, а эти вогулы носили ещё и ещё. Были там и другие вогулы, правильней, кучкупы, потому что все они были наголо стрижены, как и положено рабам, то есть холопам, и поэтому они прислуживали за столом, опять же правильнее при кошме. А гостей к этой кошме, похоже, ожидалось очень много! Маркел смотрел вдоль кошмы, считал чашки, досчитал до сорока и сбился, начал считать заново… Но тут его пнули в плечо. Он обернулся. За ним стоял Сенгеп, князь Казымский, весь в крови, и гневно сверкал глазами. Маркел поклонился Сенгепу, подхватил миску с закусками, пошёл. Шёл вдоль кошмы, смотрел на миски, думал, это для больших господ готовится, а вот это, золотая миска и золотая к ней чашка – это для Великой Богини, а рядом серебряные чашка с миской, это для кого? Маркел поднял голову… И проснулся. Было утро, все вставали, выбирались из шалашей. Дул сильный, промозглый ветер, а Маркел был весь в горячем поту. Что это он такое видел, думал он, это был вещий сон или что? Но так ничего и не придумав, Маркел надел шапку, выбрался из шалаша. Ему сказали, что пора садиться, перекусывать, они же сейчас выступают. А он в ответ сказал, что он не голоден. – Где это ты успел поесть? – насмешливо спросил Ермола. – Во сне! – ответил Маркел со злостью. – Сладкие же тебе снятся сны! – сказал Ермола. Маркел ничего на это не ответил. Стоял возле шалаша, смотрел по сторонам. Да только чего там было смотреть?! Вокруг одно болото, заснеженное и замёрзшее, на болоте кое-где торчали кривобокие сосёнки, пожухлые кусты травы. Маркел ждал, когда другие поедят, а сам про себя удивлялся, что и в самом деле когда это он успел насытиться, пиршество же там ещё не начиналось?! Или же он, как и другие кучкупы, нахватался ещё на поварне? Но разве он кучкуп? Маркел полез рукой под шапку и ощупал волосы. Нет, подумал, какой он кучкуп! Или он скоро им станет? То есть сбудется Лугуево пророчество, и он, Маркел, будет служить у Великой Богини, и служить вечно, а это значит, что пока не пересохнет Великая Обь, пока в тайге… Нет, перебил он сам себя, что будет, то будет, перекрестился, обернулся и строгим голосом спросил, не пора ли уже выступать. Никто ему на это ничего не ответил, но и быстро закончили есть, встали, построились и пошли дальше. Шли они долго, и чем дольше шли, тем медленней. А что?! Они же зашли в самое болото, а оно там было почти что совсем незамёрзшее и бултыхалось под ногами как кисель, того и гляди, провалишься. Ермола шёл первым, тыкал палкой, проверял, куда ступить, за ним, след в след, ступал Маркел, затем тащили нарты. Нарты зарывались глубоко и то и дело начинали вязнуть, а то и совсем тонуть, поэтому все очень скоро стали говорить, что харчи надо поделить и разобрать, а нарты, пока не поздно, бросить. И так оно и было бы, но Маркел не позволил, сказал, что на них на обратном пути они будут везти Великую Богиню, а она очень тяжёлая, она же золотая. При этих словах про золото стрельцы стали похмыкивать, но вслух никто ничего не сказал. И всё это кончилось тем, что харчи с нарт сняли и поделили, потом и свинец и порох поделили, и тащить нарты стало совсем лёгким делом. Маркел время от времени оглядывался на нарты, а стрельцы смотрели на него и хмурились. Невзлюбили они его крепко, это же сразу чуялось. И ещё было сразу понятно, что только выдайся подходящий случай, они с радостью столкнули бы Маркела в полынью. Но он стерёгся, и поэтому первым в полынью провалился Овсей. Маркел этого не видел, он тогда шёл впереди, и вдруг услышал, как за спиной у него что-то противно затрещало, кто-то вскрикнул – и всё сразу стихло. Маркел остановился, обернулся. Стрельцы стояли как столбы, один из них показывал рукой перед собой. Там посреди белой затоптанной тропы чернела полная воды дыра – бездонная. – Это Овсей, – сказали сбоку. – Его как кто за ноги дёрнул. Маркел смотрел на чёрную дыру, ничего в ней видно не было. Потом оттуда вынырнул большой пузырь и лопнул. Потом ещё один, поменьше, потом ещё, и всё. Маркел снял шапку и перекрестился. Все тоже начали креститься. Потом кто-то сказал: – Это шаман! Теперь он нам всем… – Ну и шаман! – сердито перебил его Ермола. – А мы ему вот! – И подошёл, и плюнул в полынью, засмеялся и сказал: – Вот так-то! Пошли дальше! И сам пошёл первым. Маркел пошёл за ним. А там и остальные все пошли. Проходя мимо чёрной дыры-промоины, снимали шапки и крестились. А прошли ещё немного, и Ермола объявил привал, потому что солнце опустилось уже совсем низко. Набрали каких получилось дровишек, сварили на костре болтухи, наставили заслонов вместо шалашей и легли спать. Маркел, за день крепко умаявшись, крепко заснул. И ему сразу приснилась Параска. Она сидела за столом, держала в руке пустую чарку и беззвучно плакала. Дура, сказал во сне Маркел, чего орёшь, я тебе столько всего оставил, не пропадёте вы, не рви мне душу! Параска легла лицом на стол и замолчала. Маркел стал гладить её по затылку. Параска чуть заметно дёргалась, потом застыла. А Маркел проснулся, и до утра уже не мог заснуть. Они перекусили и пошли. Мороз в тот день был просто лютый, ветер не давал идти. Маркел спросил, сколько ещё осталось. Ермола сказал, что дней десять, не меньше. Если, прибавил, конечно, дойдём. И они мало-помалу шли. Вот только в ту ли сторону, думал Маркел, но вслух об этом молчал. Так и на привале все молчали. Ночью ничего не снилось. Это оттого, думал Маркел, что нет сил даже на сон. А на четвёртый или уже на пятый день, когда уже почти все думали, что они заблудились, кто-то вдруг крикнул, что он видел ворона, и ворон держал в клюве ленточку. Это известие всех сильно обрадовало, Ермола даже объявил привал, и они перекусили горячего, а потом опять пошли. Шли почти что целую неделю и никого уже не видели. Болото было ровное-преровное, на нём уже ничего не росло. На девятый день Ермола приказал, и они забрали с собой с привала все какие там только оставались ветки. И по дороге, если находилось что-нибудь горючее, всё подбирали. А вечером у них был славный костёр, они согрелись, выкопали ямки и полегли в них. Ермола сказал не робеть, сказал, завтра-послезавтра они должны будут выйти к Великой Оби, а там вдоль берега будет полно топляка, топляк их согреет, а свежая рыба накормит.Глава 45
А на самом деле было вот как: они прошли ещё два дня, и только уже на третий вышли к Великой Оби. Но самой реки они, конечно, не увидели, а просто перед ними тогда открылось очень-очень ровное пустое место, белое-пребелое, насколько хватало глаз – и всё это была замёрзшая река, на которой только кое-где виднелись черные пятна островов. Острова были небольшие, но довольно высокие и каменные. Маркел повернулся к Ермоле и спросил, они ли это. – Да, они, – сказал Ермола. – И это очень добрый знак, что мы их так ясно видим, а то здесь всегда всё в тумане, и зимой и летом. Но только Ермола так сказал, как один из стрельцов закричал, что он видит огонь, и показал на один из островов. Маркел посмотрел туда и ничего не увидел. А стрелец опять сказал, что там огонь. И также и другие, но не все стали говорить, что его видят. А тот стрелец, его звали Антип, теперь уже начал с жаром прибавлять, что это не просто огонь, а что его зажёг шайтанщик и это он их так предупреждает, что если кто к нему сунется, того он в полынье утопит – как Овсея! И, повернувшись к Маркелу, спросил, рассказывали ли ему Змеев про свой поход к этим камням. Маркел ответил, что нет, не рассказывал. Антип удивился и сказал, что пусть тогда Егор вместо Змеева расскажет, Егор был с ним тогда, – и повернулся к Егору. Егор, ещё один стрелец, без особой охоты ответил, что они были не здесь, а в другом месте, и камни там были другие, но, правда, похожие – и замолчал, посмотрел на Маркела. Маркел велел всё рассказать. Егор без особой охоты начал с того, что это тогда было летом и они плыли на лодке, кругом был густой туман… – И вдруг, – уже с охотой продолжал Егор, – этот чёрт из тумана как выгребет! И как шарахнет по нашей веслом! Мы перевернулись и давай тонуть! Втроём только выплыли. Змеев тогда уже на берегу сказал, что ноги его здесь больше не будет. И слово держит! А я, дурень, опять полез, позарился. И он посмотрел на Маркела, и хмыкнул. Маркел тоже усмехнулся и спросил, какой был шайтанщик из себя. – А какой ещё, – сказал Егор. – Обыкновенный. В шубе, в шапке, а лицо закрыто, на лице у него сетка чёрная, от сглаза. Я его вот так вот видел, как тебя! И как сейчас вижу огонь вон там! И я туда не пойду! – Надо будет, и пойдёшь! – строго сказал Ермола. После обернулся к остальным, прибавил: – И все пойдут! Но это уже завтра. А пока что надо запастись дровами, а их тут вон сколько! И в самом деле, внизу, у берега, там-сям виднелись вмёрзшие в лёд брёвна топляка. Ермола махнул рукой, и они все пошли вниз. Маркел, оставшись наверху, смотрел, как они спустились к реке и стали рубить там топляк бердышами. Топляк вмёрз крепко,рубить его было непросто, но кое-что они всё же вырубили и вытащили наверх, к табору, после чего Ермола разделил стрельцов, и одни из них остались разводить костёр и ставить шалаши, а вторые опять сошли на лёд, нашли там свежую промоину и начала ловить в ней рыбу – заманивали на огонь и били бердышами. Добычи получилось много, три охапки, её всю отдали варить. Дух стоял очень крепкий, ждать было очень непросто, зато потом какая была радость! Рыба, если правду говорить, была вонючая и сладкая, зато её было много и она была горячая, Маркел жадно хватал её и ел вместе с костями. Потом, уже насытившись, Маркел придвинулся к костру и начал слушать Егора, который опять, теперь уже подробно и для всех, рассказывал о том, как он ходил со Змеевым и как их чуть не утопил шайтанщик. И будь Змеев один, был бы ему тогда конец, но тут Егор, а он был с бердышом… Ну и так далее. Маркел перестал его слушать и начал смотреть на реку, туда, где раньше были видны камни-острова, а теперь было совсем темно, и только кое-где время от времени вспыхивали огоньки – и тут же гасли. Зато Егор, не замолкая, всё рассказывал и рассказывал про свою былую удаль. А как только он выдохся и замолчал, тут же начал рассказывать Карп, который, как теперь открылось, тоже тогда был со Змеевым, и если бы не Карп, то Змеев бы… Ну и опять так далее. Маркел зевнул, лёг поудобнее и, на полное сытое брюхо, быстро заснул. Снилась ему Великая Богиня, она угощала его наваристой ухой и расспрашивала про Москву, Маркел отвечал правдиво, обстоятельно, и только об одном умолчал – что он женат и жена на сносях… И проснулся. Было уже утро. Маркел выбрался из шалаша и посмотрел на реку. Остров-камень был на месте, вот только огней на нём не было видно. А Антип опять стал говорить, что видно. Маркел спорить с ним не стал. Сели к костру перекусывать. Ермола молчал, не говорил, что надо делать дальше. Все уже всё своё съели, но продолжали сидеть у костра, не вставали. Тогда Маркел сам сказал, что пора собираться. Но никто и не думал вставать, а Ермола опять промолчал. Зато Антип стал говорить, что это ещё совсем неизвестно, сколько им придётся идти до ближайшего острова, потому что это только кажется, что до него совсем близко, а Змеев плыл три дня, и это было летом, по течению, а сколько это будет зимой по торосам?! И, обернувшись, спросил: – Разве не так, Мартын? Мартын, стрелец, сидевший рядом с ним, сперва просто кивнул, что так, а потом, когда его толкнули в бок, начал рассказывать, как они, это уже пять лет тому назад, вместе с воеводой князем Горчаковым, шли по реке семь дней – и острова совсем пропали, будто их никогда и не было, и Горчаков велел поворачивать обратно, потому что у них кончились харчи. – Так что, – закончил Мартын, – нужно сперва… И замолчал, посмотрел на Маркела. Маркел повернулся к Ермоле и сказал: – Что вы всё кругами ходите? Скажите ясно! – А что тут неясного? – стараясь не смотреть ему в глаза, сказал Ермола. – Мои люди вот что говорят. Они тебя довели до Великой Богини. Вон она там, где эти огоньки. Иди! А они не пойдут. Дальше они не нанимались, дальше уже твоя служба. Ну так иди и служи, а мы тебя здесь подождём. А после, как это и было оговорено, отведём тебя обратно, хоть в Куноват, хоть в Берёзов. И тебе всё золото, вся эта Золотая Баба в семь пудов, а нам наших кровных тридцать пять рублей. Разве это не по совести? Маркел задумался. И вдруг Ермола сказал: – Ветер поднялся, как бы не было беды! И точно: над рекой появилась дымка, она очень быстро становилась всё плотнее и плотнее, и острова стали видны уже не так отчётливо. Стрельцы смотрели на реку, молчали. Маркел ещё немного подождал, после вздохнул, встал от костра, подошёл к нартам, взял их и не спеша пошёл вниз, к берегу. – Мы будем ждать тебя три дня, – громко сказал Ермола. Маркел на это даже не оглянулся, а как шёл, так и дальше пошёл, спустился с берега на лёд и пошёл туда, где из реки торчали высоченные камни-острова. Над ними, как ему казалось, парил ворон.Глава 46
А потом он куда-то исчез. Да и сами острова стали видны уже не так отчётливо. Их всё больше и больше затягивала дымка, и эта дымка становилась всё гуще и гуще, пока не превратилась в туман. И острова пропали. Нужно поворачивать обратно, подумал Маркел, только где теперь это обратно? Может, он уже и без этого, сам того не замечая, повернулся и пошёл обратно, и скоро выйдет к берегу, стрельцы его увидят и начнут смеяться, спрашивать, где Золотая Баба, как она, горячая? Ну и так далее. Поэтому Маркел не поворачивал, а шёл и шёл вперёд, по крайней мере ему так казалось, и думал, что лысый шаман был прав, когда говорил, что кому суждено, тот, что бы с ним ни случалось, всегда дойдёт до Великой Богини. Она его везде приманит, думалось, к ней ноги сами приведут! А дальше что, думал Маркел. Ну, тут уже смотря по обстоятельствам, то есть если это просто вогульская ведьма, то это дело простое, он и один с ней справится. Но если это и вправду золотая идолица в семь пудов, то без Ермоловых стрельцов ему не обойтись. Или, может быть, наоборот, лучше не звать стрельцов? Слаб же человек, как говорится, а тут вдруг такой соблазн! Ну и войдут во грех. А после скажут, что ничего не видели, не слышали. Но и это ещё полбеды, тут же хоть твоя душа чистой останется, а вот если эта Золотая Баба и в самом деле Великая Богиня, тогда, прости, Господи, как быть? Тогда, как Лугуй предсказывал, торчать Маркелу здесь безвыходно пока не пересохнет Обь, не передохнут все звери и рыбы, и птицы, и кто там ещё?! Эх, маета! Вот что тогда Маркелу представлялось. А тем временем поднялся ветер, запуржило. Маркел стал всё чаще спотыкаться, и уже чуть тащил нарты, думал, а не бросить ли ему их, столько в них тяжести, а проку никакого. А мороз какой! Нет сил терпеть. А где острова, где ворон, где огни? Кругом было белым-бело, Маркел шатался, думал, надо было оставаться, не идти, стрельцы опять бы наловили рыбы, сели перекусывать, Маркел сел бы вместе с ними… А ему сказали бы: куда ты лезешь, пёс, ты что, не видишь, что у нас пустые миски, и это всё из-за тебя, рыба ушла, нет рыбы, вот ты какой, от тебя одна порча! Надо тебя скорей убить, пока ты нас не перебил, кричали бы, а то нам теперь что, подохнуть, что ли, чтобы ты остался жив? А вот и нет! А вот сейчас убьём тебя, зажарим вместо рыбы и сожрём тебя, как самоеды, и спасёмся, и придём к Волынскому, и скажем, что ты провалился в полынью – и он поверит. Он даже будет очень рад тому, что ты утопился и не поедешь обратно в Москву и не сможешь кривить на него и возводить напраслину! Ну и так далее. Маркел остановился. А куда было идти, он думал, иди куда хочешь, всё равно ведь ничего не видно, нет здесь никаких островов и нет никаких огней, а это одни только видения. Маркел стоял, утирал снег с лица. Снег падал всё реже и реже. Стихал ветер. Маркел снял рукавицу и перекрестился, ещё раз посмотрел по сторонам, там виднелись какие-то тени, но он никуда не стал сворачивать, а опять пошёл прямо. Снегу навалило много, идти было трудно, нарты то и дело застревали в трещинах. Маркел падал в сугроб, отплёвывался, вставал, шёл дальше. Мало-помалу начало смеркаться. Лёд под ногами стал трещать. Маркел подумал: это хорошо, значит, она где-то рядом. И опять упал. Лёд под ним начал прогибаться. Маркел пополз по льду, потащил за собой нарты. Встанет, думал он, и лёд не выдержит, провалится, поэтому вставать нельзя ни в коем случае. И так он долго полз, пока не выбрался на крепкий лёд, после поднялся и пошёл короткими шажками, потащил нарты. Нарты дёргались, потом совсем застряли. Маркел долго их вытаскивал и всё же вытащил, прошёл ещё немного и остановился, потому что впереди как будто замелькал огонь. Маркел ещё прошёл. Огонь стал ярче. Маркел ещё шагнул, ещё… И уже ясно увидел огонь. Огонь мерцал в пещере. Вход в пещеру был чёрный-пречёрный, и сама пещера была чёрная и в налипшем снегу. Это, наверное, тот самый остров, каменный, подумал Маркел, сейчас выйдет шайтанщик и убьёт его. Но тут же подумалось: нет, это мы ещё посмотрим, кто кого! И Маркел оставил нарты, опять снял рукавицу, тряхнул локтем. Кистень чуть слышно брякнул. А из пещеры кто-то вышел и остановился. Было уже довольно сумеречно, Маркел сразу ничего не рассмотрел, и только потом увидел, что это шайтанщик. Он был точно таким, каким Маркел и ожидал его увидеть – в шаманских шубе и шапке, с чёрной сеткой на лице и с двумя саблями в руках. Было темно, сыпал снег, из пещеры брезжил слабый свет. Было совсем тихо. Потом шайтанщик поднял обе сабли и спросил: – Ты кто такой? – Я не к тебе пришёл, – сказал Маркел. – Ха! Не ко мне! Тогда умри! – крикнул шайтанщик, замахнулся саблями… Маркел резко повёл локтем, вытряхнул из рукава кистень, метнул его, попал шайтанщику в висок, шайтанщик повалился на спину прямо в пещеру и там пропал в темноте. Маркел вбежал в пещеру, осмотрелся. Было совсем темно. Тогда Маркел начал искать на ощупь. Искал шайтанщика, потом искал кистень, шарил по полу, за коробами. Вдруг рядом кто-то тихо засмеялся. Маркел замер. Баба смеётся, он подумал, это бабий голос, поднял голову и осмотрелся. В пещере начало светлеть.Глава 47
Это разгорался щовал. И чем ярче он горел, тем Маркел всё отчётливее видел сидящую напротив него женщину в богатых вогульских одеждах. Таких богатых даже у Аньянги не было, – здесь всё так и горело: бисер, жемчуга, золотые брошки… И длинные золотисто-рыжие волосы, завязанные на макушке в клубок. Да и сама женщина была очень красивая и важная, поэтому она хоть и улыбалась, но это получалось у неё очень серьёзно. Маркел в душе перекрестился. Женщина властно махнула рукой, и он, где стоял, там и сел на кошму. – Ты кто такой? – спросила женщина по-вогульски. – Я человек, – ответил Маркел. – Ладно, пусть так, – сказала женщина и снова улыбнулась. – А что привело тебя сюда? Ты хочешь у меня что-то спросить? Ко мне ведь всегда так приходят – спросить. А я отвечаю. Спрашивай! Маркел молчал и думал: а что спрашивать? Спросишь – и она тебя сразу убьёт за это. Поэтому он сказал так: – Я очень сильно устал. Я долго шёл, весь день, и я замёрз и голоден. – О, это легко поправить, – сказала женщина и повернулась к щовалу. Огонь в щовале сразу разгорелся. Женщина хлопнула в ладоши. Почти сразу же из темноты вышла служанка с блюдом жареного мяса. – Это тебе, – сказала женщина. – Оно ещё горячее. Ты же сырое и холодное не ешь, а я люблю, чтобы моим гостям подавали только то, что им по вкусу. Маркел поклонился, взял блюдо, начал есть. Женщина заулыбалась. Маркел ел, поглядывал на женщину. Потом спросил: – Как мне тебя величать? – Величай меня просто – Хозяйка, – ответила женщина. Вошла служанка, подала две чашки, одну Хозяйке, вторую Маркелу. Маркел пригубил. Это была грибная настойка. Маркел мысленно перекрестился и выпил. В голове сразу стало легко и весело. Откуда-то из темноты заиграл санквылтап. Маркел улыбнулся. Хозяйка сказала: – Ты убил моего верного слугу. Теперь ты будешь у меня вместо него. Ты согласен? Маркел хотел ответить «нет», но язык у него не ворочался. Тогда он отрицательно замотал головой. Хозяйка тихо засмеялась и сказала: – Согласен, согласен, я вижу. Да и как теперь я буду без помощника? Или ты поверил болтовне Лугуя, когда он говорил, будто ты будешь прислуживать мне на пирах? Но для этого у меня довольно слуг. А ты будешь вот кем! Она обернулась, достала из-за коробов большую шаманскую шапку и надела её на Маркела. Маркелу сразу стало жарко, голова горела. Хозяйка опять засмеялась, сказала: – Привыкнешь, и жарко не будет. Ты потом сам никогда снимать её не будешь. А пока ешь, ешь! Маркел послушно принялся есть. Служанка принесла ещё две чашки. Маркел и Хозяйка выпили. Потом Хозяйка вдруг наклонилась к Маркелу и поцеловала его в губы, очень крепко. Маркела будто огнём обожгло. Хозяйка отстранилась от него, сердито усмехнулась и заговорила: – Ты очень сильно оробел. Ты не решаешься сказать мне правду. Но я и так её знаю. Тебя зовут Маркел, ты урусут, твой господин, твой великий хозяин, который сидит очень далеко отсюда, в очень большом каменном городе, послал тебя сюда затем, чтобы ты спросил у меня, как это я смею собирать ясак с его людей. Но это неправда! Все эти люди, живущие здесь, они с самого своего рождения мои, а до этого такими были их отцы и деды, и прадеды ещё с тех времён, когда здесь ещё не текла Великая Обь и не водились в ней рыбы, а на берегах не было зверей, а в небе птиц. Вот с каких пор всё это моё, но твой господин, наверное, не знает этого, иначе бы он не посылал тебя сюда с таким нелепым поручением. Ведь так? Маркел молчал. – Но ты не печалься, – сказала Хозяйка. – Теперь всё это не должно тебя тревожить, теперь тебе не нужно возвращаться в тот большой город, название которого здесь никому не интересно, и так и тебе оно тоже очень скоро станет неинтересным, ты забудешь его. Так же как забудешь всех, кто там живёт, пусть даже если среди них было немало очень близких тебе людей, но весь тот мир сейчас умрёт для тебя, а зато этот мир, в котором ты сегодня очутился, наоборот, станет для тебя родным, и ты будешь здесь счастлив. Здесь будет твой дом! Здесь буду я и будут наши с тобой слуги. Придвинься ко мне! Маркел послушно придвинулся. Хозяйка расстегнула ему шубу, разорвала под ней рубаху у него на груди, пальцы её проникли между его рёбрами, крепко сдавили его сердце и замерли. Было очень больно. Маркел начал задыхаться. – Терпи! – говорила Хозяйка. – Терпи! Ты мой верный слуга, я твоя верная служанка, я буду слушаться тебя во всём, умрёшь ты, умру и я, поэтому не умирай, мой хозяин! И Маркел не умер – Хозяйка отпустила его сердце, убрала руку, запахнула на Маркеле шубу, положила его на бок, закрыла ему глаза, стала что-то тихо напевать, и он очень быстро заснул.Глава 48
Когда Маркел проснулся, уже начало светать, но в пещере было ещё очень сумеречно. Маркел лежал на мягких шкурах, и также и накрыт был шкурами. Шубы на Маркеле не было, и шапки тоже, и валяных сапог – всё сняли, но ему было вполне тепло. Маркел сладко потянулся, начал вспоминать вчерашнее… и оробел, и схватился за сердце. Но сердце стучало ровно, как обычно, и никакого шрама там на рёбрах не было. Колдовство, подумал Маркел, поднял руку и начал креститься, но руку сразу свело. Маркел опустил руку, прочёл «Отче наш», потом ещё раз, потом ещё. Стало легче. Маркел осторожно сел, осмотрелся, но толком ничего не рассмотрел. Тогда он прислушался. Где-то совсем неподалёку слышались голоса. Это, он узнал, Золотая Баба (или Хозяйка, как она вчера себя назвала) за что-то выговаривала служанку, а та несмело оправдывалась. Ну, ещё бы, подумал Маркел, попробуй такой поперечь – беды не оберёшься. И он опять перекрестился, и руку уже не сводило. Маркел осмелел, лёг на шкуры, стал смотреть на потолок и думать. Больше всего думалось о том, кто такая эта Золотая Баба. Никакая она не идолица, думал Маркел, и никакая не золотая, просто волосы у неё рыжие, а кожа золотистая, глаза карие, щёчки… Ну да! Маркел засмущался, вздохнул. Потом опять начал думать, что никакая она не богиня, а обыкновенная ведьма, каких Маркел по своей службе насмотрелся немало, и даже была ему от кое-кого из них польза. Это когда ему пырнули в бок, а ведьма Акулина его вылечила за три пятиалтынных и отрез сукна. Ну и, конечно, ещё и за то, что Маркел не стал на неё доносить, да и князь Семён сказал: не надо, зачем бабе эти хлопоты – дыба, – и замяли дело. А тут не замнёшь! Маркел вздохнул, подумал, что ну а как тут быть, как эту ведьму брать, у него ни целовального креста для присягания, ни царской овчинки для показу нет, что он ей скажет? Что предъявит? Да и пока её брать не за что, а сперва нужно обойти всю пещеру, найти то место, где она прячет полученные дачи, опечатать их (а чем?!) и снять со всей здешней дворни расспрос, расписать расспросные листы (а где их взять?) и… Ну и так далее. А эта ведьма вот так, как вчера, усмехнётся, возьмёт тебя за сердце, сдавит – и из тебя дух вон, а ей забава. Маркел вздохнул. А Параска, вспомнилось, сейчас, наверное, стоит на коленях в углу, молится, святой Никола хмурится, молчит. Да и как он здесь поможет? Здесь не его земля и не его люди, здесь бесовство одно! Маркел перекрестился, сбился, перекрестился ещё раз… И замер. Откинулась занавеска, и к нему вошла Хозяйка. Или Золотая Баба. Или кто-нибудь ещё, подумалось, и рука сама собой опустилась. Маркел сидел на шкурах, ждал. Хозяйка села рядом с ним, скромно спросила, как спалось. Маркел ответил, что покойно. – Дай руку, – сказала она. Маркел дал правую, более крепкую. Она повернула его руку ладонью вверх и стала водить по ней пальцем, рассматривала линии руки и о чём-то тихо-тихо нашёптывала. – Колдуешь, – сказал с осуждением Маркел. – Нет, – ответила она. – Просто смотрю. – И что видишь? – спросил он. – Что ты мне до смерти дан, – ответила она. Маркел облизал губы, они были очень пересохшие, спросил: – А скоро моя смерть? – Этого мне говорить нельзя, – ответила Хозяйка. – Зачем тебе это знать? Начнёшь сердиться, злиться. А ты мне весёлый люб! – И она тихо засмеялась. Смех у неё был как колокольчик, ведьма есть ведьма, подумал Маркел, впилась, теперь не отпустит, как быть?! А она строго сказала: – Не хмурься! Улыбнись! Маркел не хотел, а улыбнулся, правильнее, губы сами растянулись. – Вот, хорошо, – продолжала Хозяйка. – А теперь скажи: я не Маркел! Маркел промолчал… А оно само сказалось! Маркел слышал! – Ведьма! – яростно воскликнул он… Или он только об этом подумал? Или он сам себя не расслышал? А она засмеялась, сказала: – Ты не Маркел, ты Коалас-пыг! Запомни это хорошо: Коалас-пыг, Сын Мертвеца, мой слуга, а я твоя эква, жена. – Ты мне не эква, – ответил Маркел. – У меня другая эква. Её зовут… И замолчал. Смотрел перед собой, видел Параску, а назвать её не мог! Потому что забыл её имя! Тогда он представил Нюську, хотел назвать её… Но и её забыл! И так он и Фильку, и Демьяниху, и Котьку, и князя Семёна, и Щелкалова, и всех остальных точно так же – вспоминал и сразу забывал! И так забыл и свой дом, и князя Семёново подворье, и Кремль, и Москву, и Рославль, и там мать свою родную… И замер. Язык прирос к нёбу. – Ну, – спросила Золотая Баба, – чего замолчал? Говори! – Я ничего не помню, – сказал он. – Нет, это неправда, – сказала она. – Ты всё помнишь! Но другое. Сейчас Монкля принесёт поесть, и ты поешь, а после возьмёшь людей и пойдёшь с ними на реку. Как всегда ходил! Пойдёшь? И Маркел, нет, правильнее, Коалас-пыг, кивнул: да, пойду.Глава 49
И после так оно и было. Но вначале Монкля принесла поесть – миску оленьих потрохов, залитых холодным жиром. Гадость какая, подумал Маркел, сколько раз им говорил, чтобы даже не совали этого! Ну да разве бабу переспоришь? Тьфу! И взялся есть. Ел, то и дело поплёвывал, не любил он жилы. Ел, головой покручивал, сверкал глазами. Монкля стояла смирно. А эта совсем ушла! Ну да а как же, сердито подумал Маркел, она же всегда занятая. Только мы ещё посмотрим, нужны кому-нибудь её занятия или никому не нужны. Маркел сердито хмыкнул, отставил миску, поднял голову. Монкля протянула ему чашку. В чашке была грибная настойка-плясуха. Маркел взял чашку, начал пить. Пил мелкими глоточками, не разжимая зубов. Долго пил! Монкля утомилась ждать, переступала с ноги на ногу. Маркел хмыкнул, хлопнул Монклю по коленке. Монкля отступила, засмущалась. Маркел бросил Монкле чашку. Монкля поймала её и ушла. Маркел сидел, не мог подняться. В голове кружилось. Долго сидел! Потом не удержался и окликнул: – Эй! Вошли кучкупы, Саснель и Хайды. Они взяли его под руки, подняли и так и продолжали держать, а другие двое, Емас и Нор, начали его одевать в шаманские бурки, шаманскую шубу и шаманскую же шапку, рукавицы заткнули за пояс, а в руки ему дали шаманский бубен и колотушку, и закричали: гай, гай. И со всех сторон другие тоже начали кричать, и очень громко. Тогда и Маркел тоже закричал и, как умел, побежал из горницы через сени на реку, на лёд. На реке было уже светло, солнце вставало, видно было далеко, до самого берега. Ащ, только и подумал Маркел, какой беспорядок! И начал бить в бубен, плясать. Долго плясал, пока ветер поднялся, задула пурга, и берег скрылся. Тогда Маркел сел на лёд, положил бубен себе на колени, надел рукавицы, начал ими по бубну водить, бубен тихо заныл, а Маркел также тихо запел. Пел про Владыку Вод, просил у него прощения за то, что наши люди у него рыбу берут. Не сердись, Владыка, пел Маркел, мы тебе отплатим, лето наступит, лёд растает и уйдёт, река очистится, придут чужие люди, мы их к тебе подведём, мы их лодки опрокинем, они к тебе пойдут, и ты их съешь, гай, гай! Маркел вскочил, опять начал плясать, бегал туда-сюда, кучкупы за ним бегали и тоже пели громко как могли. Долго они бегали и долго пели! Маркел весь вспотел, снял с себя шубу, лёг на лёд, немного остудился и опять пошёл петь и плясать. Кучкупы плясали за ним. Хорошо было, ащ, хорошо! А после Маркел замолчал, остановился, задрал голову и стал смотреть на небо. Небо было пустое, без туч. Маркел опять стал бить в бубен и кричать, чтобы Владыка Неба нагнал туч побольше и дал своим людям много снега и мороза, чтобы никто через этот мороз пройти к ним не мог, а замерзал бы в нём насмерть. А кого мороз вдруг не возьмёт, пусть под теми лёд проломится, и Владыка Вод сожрёт их. А ещё… Ну и так далее. Маркел ещё долго плясал, бил в бубен, заклинал, накликивал пургу и снегопад – и накликал. Снег пошёл такой густой, что Маркел чуть отыскал дорогу обратно, вернулся в пещеру, там кучкупы отвели его в трапезную, подали ему еды и выпить, и он начал жадно перекусывать, потому что у него впереди было ещё много забот, и нужно было наесться в запас. И он наедался. А его эквы на трапезе не было. Она у себя сидит, думал Маркел, а ей что, она в тепле, она есть не хочет и греться ей тоже не надо. Холодная она, как деревяшка на морозе. Подумав так, Маркел поморщился и приказал ещё подать. Подали. Он поел и выпил. Опять стало жарко. Ничего ему уже не хотелось, а надо было выходить на лёд и проверять, не перестала ли пурга, а если вдруг перестала, то надо будет опять петь и плясать. Но, Маркел подумал, это после, а пока он сходит к экве, её тоже надо проверять. Это, он подумал, только простые люди верят в то, что она днями и ночами только о них и думает и о них заботится. Люди глупы, что поделать! Маркел позвал кучкупов, кучкупы пришли, сняли с Маркела шубу, помогли ему подняться. Маркел пошёл к экве. Эква, правильнее, Сорни-эква, Золотая Женщина, сидела голая у щовала, прямо на кошме сидела, смотрела на огонь и не моргала. Кожа у Сорни-эквы была густо смазана жиром, и поэтому сверкала будто золотая. Когда Маркел вошёл, Сорни-эква даже головы не повернула, как будто не услышала его, а продолжала смотреть на огонь. Маркел сел рядом с Сорни-эквой и тоже стал смотреть на огонь. Маркел тоже будто не заметил экву. А что! У него тоже немало забот! И он сидел и смотрел на огонь. Было тихо. Потом где-то совсем рядом заиграл санквылтап. Маркел сдвинул брови, начал подпевать: – Дын-ды-ды-ды. Ды-дын-ды-ды… И он долго так подпевал. Сорни-эква повернулась к нему и стала смотреть на него с очень серьёзным видом. А он смотрел на неё. И так они долго сидели. Кучкупы входили и выходили, подбрасывали дрова в огонь, дрова горели очень медленно, кучкупы заходили редко, может, один раз в два часа, и они входили и входили, Маркел сидел по-татарски, держал руки перед собой открытыми ладонями вверх, и молился непонятными словами, но, думал при этом, тот, кому это моление поётся, тот поймёт, о чём оно. И так прошло ещё немало времени, пока Сорни-эква поднялась, накинула на себя золочёное парчовое покрывало, и ушла куда-то по пещере в темноту. А Маркел опять оделся, правильней, его опять одели, и он опять вышел на лёд, на реку, опять бил в бубен и пел пения в честь Владыки Неба и Владыки Вод, просил у них помощи – и они обещали помощь, он это слышал по их голосам, а вот как у него получалось их слышать, этого он никогда никому не рассказывал и не расскажет, думал он, а Сорни-экве и тем более. Пускай она своё поёт, а он своё, и пусть люди смотрят, от кого им больше пользы, а кто просто бесполезный идол, да! И Маркел опять вскочил и начал прыгать, начал петь ещё быстрее… И только когда стало совсем темно, Маркел опять пошёл в пещеру. В пещере всё уже было готово. Сорни-эква, голая и густо намазанная жиром, сидела напротив щовала и смотрел на огонь. Лицо у неё было очень сердитое. Маркел снял шубу, бросил, после бросил шапку, кучкупы подобрали их, ушли. Маркел сел к щовалу. Монкля принесла ему питья. Маркел выпил, голова стала кружиться. Маркел начал качать головой и напевать: дын-ды-ды-ды, ды-дын-ды-ды и так далее. Сорни-эква сложила руки и положила их себе на живот. Маркел усмехнулся. Он знал, о чём Сорни-эква думает: она хочет родить дитя, а ничего у неё не получается. Дитя сидит у неё в чреве и не хочет выходить! И никакие заклинания не помогают! Всё может Сорни-эква, всё знает, и что люди у неё ни спросят, она на всё им ответит и во всём поможет, вот только родить не может. Любая женщина может родить, даже служанка, даже Монкля, а Сорни-эква не может. Вот так! Вот какое Сорни-экве наказание! Хей, ха! Маркел перестал дындыкать, замолчал, Маркел смотрел на Сорни-экву, на её живот и думал, что, может, там и нет никакого дитя, всё это выдумки, а что у Сорни-эквы живот толстый, так это оттого, что она ест много рыбы. Надо ей сказать, подумалось, чтобы ела меньше. Ащ! Маркелу стало весело, он тихо засмеялся, закрыл лицо руками, протёр глаза, убрал руки… И замер! Сорни-эква держала на руках младенца и укачивала его. Младенец был такой же золотой, как и она, и также намазан жиром. Младенец сосал ей грудь. Сорни-эква улыбалась, она была очень довольна. Но это неправда! Нет у неё никакого младенца! Маркел прочёл очистительное заклинание – и младенец исчез. Сорни-эква опять стала очень серьёзной и спросила: – Зачем ты это сделал? – Потому что это неправда! – ответил Маркел. – Нет, это правда, – возразила Сорни-эква. – Просто ты этого не видишь. Ты плохой слуга. От тебя даже детей не бывает. – Ащ! – громко сказал Маркел. – Не бывает оттого, что все наши женщины боятся тебя. А не боялись бы… – Молчи! Маркел пожал плечами, помолчал, подумал: когда все приедут, я ещё скажу. И усмехнулся. А Сорни-эква протянула руку к щовалу и сделала пальцами так, как будто она посыпает огонь солью. Огонь стал гореть ярче, над огнём показался дымок. Дымок поднимался всё выше и выше. Дымок был приятный, с горчинкой, Маркел с удовольствием его вдыхал. Маркел знал, что будет дальше, но не мог противиться. Сорни-эква улыбнулась и спросила: – А ты хотел бы, чтобы у нас появилось дитя? – Если у нас появится дитя, – сказал Маркел, – мы перестанем быть бессмертными. – А мы и так не бессмертны, – сказала Сорни-эква. – Просто мы не признаёмся себе в этом. – И что из этого?! – спросил Маркел. – Значит, у нас могут быть дети, – сказала Сорни-эква. – Или могли бы быть. И вдруг протянула к нему руки. А Маркел протянул к ней свои. Она упала на спину и привлекла к себе Маркела. Маркел хотел что-то сказать, но не успел – она поцеловала его в губы. А потом он уже и не помнил, что хотел сказать. А потом заснул. А когда утром проснулся, Сорни-эквы уже не было. Маркел оделся, посидел у щовала, посмотрел на огонь, послушал, что тот говорит, и опять пошёл на реку.Глава 50
И так прошло ещё пять дней. А, может, восемь или десять, но Маркел дней не считал. Это простые люди, думал он, считают дни и прикидывают, сколько осталось до того, как вскроется река, а после сколько до того, как пойдёт большая рыба, и сколько ещё ходов рыбы они успеют увидеть перед тем, как совсем постареют и дети оставят их в становище, а сами откочуют дальше. Люди боятся этого! А он, Коалас-пыг, не боится. Он вечен! Он будет здесь сидеть, бить в бубен и петь до той поры, пока не пересохнет Великая Обь и Владыка Вод умрёт от жажды, а Владыка Неба не удержится на слабых побелевших тучах и упадёт, и разобьётся о сухое русло умершей Большой Оби, а… И так далее. Вот о чём думал Маркел, сидя перед горящим щовалом. А Сорни-эквы рядом не было. Она как тогда утром, после той ночи, встала и ушла куда-то в глубь пещеры, так пока что и не возвращалась. Зачем она туда ушла и скоро ли придёт обратно, Маркел, правильней, конечно, Коалас-пыг, не спрашивал. У него было полно своих дел! Каждое утро, посидев у щовала и посмотрев на огонь, выслушав, что тот ему говорит, Маркел вставал, шёл на реку и там добывал от Владыки Вод рыбу, а от Владыки Неба мороз и пургу. Если бы не это, думал Маркел, то их люди давно бы умерли от голода или бы их убили чужие люди, а так, заботами его, Коалас-пыга, они и живы, и сыты. А что Сорни-эква?! Кому нужны её богатства? Их разве можно съесть, или разве можно за ними спрятаться, как можно спрятаться в пурге, или разве можно ими согреться, как они греются тем топляком, который Владыка Леса ещё осенью заботливо разложил в разных местах вдоль берега? Маленькие шкурки лесных крыс, какая с них польза? И также какая польза с того, что Сорни-эква умеет притворяться золотой идолицей? Вот если бы она умела притворяться железной, тогда от неё можно было бы отбивать по кусочку и делать калёные наконечники для стрел. Калёный наконечник – это ащ! Стрела с калёным наконечником может пробить любой доспех за пятьдесят шагов, не всякая пищаль способна на такое. Но люди глупы! Людям нужны шкурки лесных крыс и золото. И, что ещё хуже, они думают, что и все другие тоже так же рады этому. Люди, вспоминал Маркел, как только приезжают к ним, сразу развязывают мешки и начинают выхваляться своим богатством. Но золота у них, конечно, нет, потому что откуда им его взять, а вот зато шкур лесных крыс, они их называют нехус, или соболь, у них великое множество. Мех у соболя и в самом деле мягок и приятен на ощупь, крепок, не боится дождя и сырости. Люди, приезжая на Великое Мольбище, первым делом обязательно подносят соболиные шкуры, а уже потом всё остальное. Когда приезжают люди, это всегда очень шумное и хлопотное время, люди везде лезут со своими хлопотами, глазеют на Сорни-экву, которую они, по своей доверчивости, называют Великой Богиней, и задают ей всякие вопросы, по большей части очень глупые. Вот, например… Но лучше рассказывать всё по порядку. Так вот, сперва прошло пять, восемь, или даже десять дней, когда Маркел не видел Сорни-экву. Она тогда, так ему говорили, закрылась у себя в дальней каморке и никого к себе не пускает, ей даже не носят еду и питьё… А потом Сорни-эква вдруг вышла и сказала, что к ним едут. – Кто едет? – спросил Маркел. – Я этого ещё не знаю, – ответила Сорни-эква. – Они от нас ещё очень далеко, за полдня пути. Но они едут очень быстро. Ты должен спешить. Маркел очень рассердился, но не подал виду, потому что ссориться с женщиной – это самому стать женщиной. Маркел просто кликнул кучкупов, они вошли и подняли его, подали ему шаманские бурки, шаманскую шубу и шапку, повязали к шапке сетку, чтобы не было видно лица, потом дали бубен, колотушку, Маркел запел «ды-ды-дын!» и вышел из трапезной, через сени, на лёд. На льду он остановился, осмотрелся. Небо было чистое, видно было далеко, и ветра не было. Маркел начал бить в бубен, плясать. Долго бил, долго плясал, запыхался. Поднялся ветер, запуржило. Маркел снял рукавицу, поднял палец, почуял чужого. Чужой ехал слева, на собаках. Собак было три упряжки, за упряжками бежали воины. Сильно пахло кровью. Это в нартах везли человека. Человек был в кольчуге и в шлеме. Чего это он так, думал Маркел, в такой мороз голова в шлеме отмёрзнет. Ну да головы бывают всякие, подумал он, повернулся и пошёл встречать гостей. За ним пошли кучкупы, все с копьями. Ветер дул сильный, снег свистел в ушах, ничего вокруг видно не было. Маркел время от времени останавливался, снимал рукавицу, поднимал палец, проверял, правильно ли они идут и много ли ещё осталось, и шёл дальше. Когда до гостей стало близко, Маркел остановился и начал бить в бубен, но уже иначе. Ветер мало-помалу стих, снег улёгся. Маркел перестал бить в бубен и теперь просто стоял и ждал, а рядом стояли кучкупы. Вскоре начал доноситься лай собак. Это собаки их почуяли. Лай собак становился всё ближе и ближе. Маркел ещё немного подождал, потом, что было сил, ударил в бубен. Собаки затихли. Пошёл крупный снег. – Гай! – крикнул Маркел. – Гай! Из-за снега показалась первая упряжка. За ней вторая. За ней третья, а за третьей воины, и их было совсем немного. На первых нартах лежал князь. К нему подбежали и помогли ему встать. Маркел посмотрел на князя и подумал, что он уже где-то его видел. Маркела взяла злость на свою память, и он насмешливо спросил: – Что это у тебя так мало воинов? – Остальные разбежались, – сказал князь и провёл рукой себе по шее. На шее было много крови. – Ащ! – только и сказал Маркел. А князь сказал: – Я ищу Великую Богиню. Я хочу спросить у неё об одном деле, которое для меня очень важно. – У всех важные дела, – сказал Маркел, – а Великая Богиня одна, и ей некогда всех выслушивать. – Ты очень дерзок, – сказал князь. – Да, это так, – сказал Маркел. – Не хочешь разговаривать со мной, езжай обратно. Князь опять взялся за своё горло, опять утёр кровь и сказал: – Покажите ему. Воины, стоявшие возле второй упряжки, сняли с неё два мешка, поднесли их к Маркелу и начали вытряхивать из них собольи шкурки. Шкурок было много, они падали на снег и падали. Два раза по сорок, не меньше, подумал Маркел. – Хватит столько? – спросил князь. Маркел сердито усмехнулся и ответил: – Моя Хозяйка не купец. Поехали! Скоро стемнеет! И развернулся, и пошёл обратно. Кучкупы шли за ним. За кучкупами ехали нарты, на них лежал чужой князь, за ним шли чужие воины. Шли долго. Маркел время от времени бил в бубен, поднимался ветер, задувал следы, и это очень хорошо, думал Маркел. Так они шли до самых сумерек, потом впереди показался слабый огонёк. Маркел оглянулся. Чужой князь лежал на нартах, горло у него было в крови, грудь тоже. Раньше надо было приезжать, сердито подумал Маркел и громко крикнул: – Кулах! – Кар-р! Кар-р! – послышалось в ответ. И почти сразу же впереди показалась скала, засыпанная снегом. На верху скалы сидел ворон с чёрной ленточкой в клюве, а под ним слабо светился вход в пещеру. Перед пещерой стояли кучкупы с копьями, ближе к входу стояли служанки, одетые в праздничные одежды. Маркел остановился и спросил: – Где Великая Хозяйка? – Ждёт вас, – с поклоном ответила Монкля. Маркел обернулся к князю и сделал ему знак рукой. Князь с трудом поднялся, обернулся на своих людей и указал на тех, которые были с мешками. Они пошли вслед за князем, а князь пошёл вслед за Маркелом. Маркел вошёл в пещеру и остановился, потому что увидел там совсем не то, что привык видеть. Теперь там было так: всё было заполнено дымом, ничего толком нельзя было рассмотреть, только было смутно видно, что дальше, за щовалом, сидит Сорни-эква – золотая женщина, увёрнутая в золотой платок. Дым был очень приятный на вкус, немного горчил и кружил голову. Долго так не простоишь, а упадёшь, будто грибов объевшись, подумал Маркел. А князь и его люди тем временем уже вошли в пещеру и низко поклонились Сорни-экве. Сорни-эква кивнула в ответ. – Тэ! – громко сказал князь, обернулся к своим людям и громко прибавил: – Давайте! Его люди подошли к щовалу и начали вытряхивать из мешков соболиные шкуры прямо в огонь. Щовал ещё сильнее задымил, дышать стало совсем нечем. Князь закашлялся. Сорни-эква посмотрела на него, спросила: – Чего ты хочешь? Князь ещё раз утёр горло и сказал, стараясь говорить отчётливо: – Сосед мой, сама знаешь, кто, зовёт меня с собой, сулит половину добычи, или мне с ним лучше не идти? Сорни-эква ненадолго задумалась, потом ответила: – Если пойдёшь, тебе отрубят голову, а не пойдёшь – опозоришь себя, над тобой даже женщины смеяться будут. – Так как мне тогда быть?! – воскликнул князь. – Тебе позор уже не страшен, – сказала Сорни-эква. – Также и смерть не страшна. Поэтому поступай как хочешь. – Что ты такое говоришь! – гневно воскликнул князь, хватаясь руками за окровавленное горло. – Я столько даров тебе принёс, и это что, всё напрасно?! – Если тебе не нравится мой ответ, – сказала Сорни-эква, – то забирай свои дары обратно! И она резко махнула рукой. Пепел взвился над щовалом, заполонил всё вокруг, ничего не стало видно, даже самого щовала. Все молчали. Потом пепел начал понемногу оседать, и снова стал виден щовал и кошма на полу перед ним, и звериные шкуры на стенах… А Сорни-эква пропала! Её нигде видно не было. Князь облизал окровавленные губы и сказал очень сердитым голосом: – Идолица проклятая! Как ты смеешь насмехаться надо мной?! И он даже сделал шаг вперёд, к щовалу… Но тут уже Маркел выступил ему наперерез и замахнулся саблей, которая непонятно откуда взялась у него в руке. Сабля была в крови. Князь остановился, потом отступил, оглянулся на своих воинов, потом опять посмотрел на Маркела, сказал: – Ладно, ладно! Я ещё приеду к вам на пурлахтын. И не один приеду! После чего он развернулся и пошёл прочь из пещеры. За ним пошли его люди. Маркел пошёл за ними. Выйдя из пещеры он остановился, подождал, пока князь сядет в нарты и уедет, а вслед за ним уйдут и его люди, после хотел было ударить в бубен, напустить пургу… Но передумал и только спросил, кто это был. – Сенгеп, – ему ответили. – Казымский князь. Маркел задумался, стал вспоминать, но так ничего и не вспомнил, развернулся и пошёл в пещеру, на ходу снимая с лица сетку.Глава 51
Когда он вошёл в пещеру, там всё было уже как всегда – посреди горел щовал, на полу лежала кошма, на стенах висели звериные шкуры. И никого там не было! И было совершенно тихо. А ещё там было очень жарко. Маркел расстегнулся, сбросил шубу, расстелил, сел на неё по-татарски, положил на колени бубен, стал водить по нему руками, водил долго, тихо напевал… И вдруг увидел какую-то странную бабу в странных одеждах. Баба смотрела на него и не моргала. Маркел удивился, он же таких баб никогда не видел, и даже не слышал про таких, таких на Великой Оби не бывает. Может, только в других местах такие есть, подумал Маркел, правильнее, Коалас-пыг, но он нигде в других местах не был. И никто из наших не бывал. Только один Чухпелек был далеко, за Камнем, и вот там, он говорил, живут диковинные люди. Может, она оттуда, подумал Маркел, надо будет спросить у Чухпелека, когда он приедет на пурлахтын. А что, скоро пурлахтын? И Чухпелек уже туда приедет? Почему? Ну да как это почему, сердито подумал Маркел, пришёл его срок, вот и приедет. А раньше он сюда, на Великое Мольбище, никогда не приезжал, Маркел видел его только у него в городе, в Сумт-Воше, пока Лугуй не послушался Сорни-экву. Нельзя было её слушать! Она – баба! Что она может понимать в мужских делах, какой может быть от неё прок?! Её надо убить, думал Маркел, и самому принимать гостей, слушать их вопросы и отвечать на них, и он бы никогда не ошибся, сердито думал Маркел, он бы никогда такую глупость не посоветовал. А она только и знает, что советует! Что она в прошлом году, или уже в позапрошлом, посоветовала Агаю? Да то, что после пришёл Игичей и побил его, и разграбил его стойбища, и рыбные угодья, а после пришли урусуты… А вот, спохватился Маркел, это урусуты те странные люди, вот как их зовут, и эта женщина, которая смотрит на него из огня, это тоже урусутская женщина, вот только что она здесь делает, что высматривает, потом придут урусутские воины, как они уже приходили к Агаю, и всё здесь сожгут и разграбят! Хотя, тут же подумал Маркел, Сенгеповы люди здесь сами всё сожгли, Сорни-эква так велела, так что не пойдут сюда урусутские воины, нечем им здесь будет поживиться, но всё равно нечего урусутской женщине подсматривать и подсчитывать, сколько у нас здесь копий, сколько луков, сколько волшебных бубнов… Ащ! Маркел встал и затоптал огонь. Видение пропало. Маркел опять лёг на кошму и ещё долго лежал, думал, а потом заснул. Что ему снилось, он не помнил. А утром пришла Сорни-эква, она была одета в свои обычные простые одежды, и сказала, что ей приснился Чухпелек, он сказал, что старики послали его сказать, что надо готовить пурлахтын и приглашать гостей. – А что такого случилось, – спросил Маркел, – почему вдруг такая спешка? Ещё не пролетала белая гагара, а мы уже готовимся! – Старикам лучше знать, – сердито ответила Сорни-эква. – А ещё мне очень не нравится то, что ты стал много спрашивать и мало отвечать. Может, тебя пора убить? Маркел насупился и ничего на это не ответил. Он встал, взял бубен, надел сетку на лицо и вышел из пещеры на лёд. Небо было затянуто тучами, выл ветер, пуржило. Маркел запел приветственную песню и пел её долго, потому что в этой песне нужно было упомянуть каждого гостя и назвать все подвиги, которые он в своё время совершил, а об этом быстро не расскажешь. Ну да Маркел и не спешил. Закончив песню, он пропел её ещё раз и ещё раз. Ему стало жарко. Он снял шубу и лёг на лёд. Лёд под Маркелом начал плавиться. Вот, это хорошо, думал Маркел, когда старики узнают об этом, им будет радостно. Он подскочил, начал плясать, бить в бубен. Из пещеры выбежали кучкупы и тоже стали плясать и выкрикивать «гай»! Так они плясали долго, пока не упали. Маркел тоже упал, положил бубен себе на грудь и стал призывать стариков не побрезговать их угощением и приходить к ним на пурлахтын. Но старики молчали. А солнце уже давно зашло за край земли, правильней, за Обь, и Маркел пошёл в пещеру. В пещере было тихо и сумрачно. Сорни-эква сидела за едва теплящимся щовалом и сердито смотрела на Маркела. Маркел опустил голову. – Ты сегодня плохо пел, – сказала Сорни-эква. – Смотри, не гневи меня! После встала и ушла. Маркел сел к щовалу и сидел всю ночь, подкладывал щепки в огонь и молчал. Утром он опять пошёл на реку и весь день пел и плясал, но старики опять не отозвались. И Сорни-эква опять гневалась. И так продолжалось ещёвосемь дней. И только на девятый день, когда Маркел уже совсем отчаялся, старики вдруг едва слышно ответили, что они придут. Это было очень радостно! Маркел поднялся и пошёл, почти что побежал в пещеру. Пещеру опять было не узнать. Теперь вдоль неё тянулась длинная-предлинная кошма, шагов почти на сто, не меньше, и она вся была уставлена мисками, чашками, дощечками с различными сытными угощениями и хмельным и дурманным питьём. Кучкупы, с босыми ногами, ходили по кошме и разносили миски, а служанки стояли в углу и только смотрели на это, так как женщинам нельзя даже близко приближаться к застолью, приближаться можно только Сорни-экве, потому что так велел Владыка Неба. Мало того, она будет сидеть на самом почётном месте, в середине стола, и все будут на неё смотреть, и делать то, что будет делать она. А пока она стояла возле щовала, наблюдала за кучкупами и недовольно морщилась. Старая она стала, ворчливая, подумал Маркел, надо её убить, наверное, и самим всем заправлять. И разве бы не заправили? Только Маркел так подумал, как Сорни-эква сразу повернулась к нему. Маркел тут же подумал: Владыка Неба очень любит Сорни-экву, как родную дочь, и никогда не даст её в обиду. Услышав такие его мысли, Сорни-эква сразу успокоилась и повернулась в другую сторону. А Маркел вышел из пещеры, встал на открытое место, снял рукавицу, выставил вверх палец и начал ждать. Сперва он ничего не чувствовал, а потом стал чувствовать, что к ним со всех сторон едут гости. Одни из них были уже совсем близко, другие ещё совсем далеко. Маркел начал бить в бубен и приплясывать. Потом начал петь. Ветер становился всё сильней, свистел в ушах, мёл снег, мороз обжигал. Но Маркел не закрывался! Маркел стоял прямо, бил в бубен и пел. Из пурги показались олени, Маркел никогда их раньше не видел, или, может, видел, но забыл. Олени тащили нарты, в нартах сидел древний старик. Маркел не помнил, как его зовут, Маркел просто крикнул «О!» и поклонился старику, и перехватил оленей за постромки. Олени встали как вкопанные. Маркел протянул старику руку. Старик её оттолкнул и сам сошёл с нарт, и сам пошёл к пещере. Там, при входе, его встретили кучкупы и проводили дальше. А тем временем из пурги показались ещё одни нарты, тоже запряжённые оленями, потом ещё одни, потом ещё. С нарт сходили старики, а иногда и молодые, и всё это были князья в дорогих шлемах и кольчугах, одни были в крови, другие нет. Никого не нужно было провожать, все хорошо знали дорогу. Маркел уже не подходил к подъезжавшим нартам, а только бил в бубен и восклицал «О!», и гость проходил мимо него к пещере. И ещё: Маркел никого из них не называл по имени, потому что гость иначе мог подумать, что его здесь забыли, и Маркел теперь напоминает. Ну а если говорить на прямоту, то Маркел и в самом деле многих из них не узнавал, потому что по большей части это были древние старики с почти одинаковыми морщинистыми лицами и тонкими седыми косами, в старых поржавевших шлемах и в таких же поржавевших кольчугах, поверх которых были накинуты длиннополые распахнутые шубы, почти у всех медвежьи. И все держали в руках сабли, как будто готовились к битве. Да, может, они и правы, думал Маркел, глядя на старые заржавленные сабли, кто знает, время нынче неспокойное, женщины рассказывают о разных дурных приметах, о которых говорят в ближних становищах. Да и само время сегодняшней встречи – это разве не дурная примета? Где это такое слыхано, чтобы наши предки собирались на пурлахтын ещё до того, как пролетит белая гагара?! И только Маркел так подумал, как подъехала простая собачья упряжка, и с неё сошёл Чухпелек. Он тоже был в кольчуге и в шлеме, в распахнутой шубе. Увидев Маркела, он заулыбался и сказал, что рад его видеть. – А я, – сказал Маркел, – не очень рад, что вижу тебя здесь. Чухпелек снял рукавицу, провёл рукой по горлу и спросил, не видел ли Маркел Лугуя. – Нет, не видел, – ответил Маркел. – А что у вас случилось? Чухпелек только махнул рукой и прошёл дальше. Подъехала ещё одна упряжка, с нарт сошёл очень дряхлый старик, посмотрел на Маркела так, как будто в первый раз его видит, сердито хмыкнул и прошёл к пещере. Потом приехало ещё много гостей, одних Маркел знал хорошо, других не очень, третьих совсем не знал… А после приехал Сенгеп. Увидев Маркела, он очень обрадовался и сказал, что не уедет отсюда до тех пор, пока не получит Маркелову, конечно, он сказал, Коалас-пыгову, голову. – Ты лучше бы о своей голове позаботился! – сердито ответил Маркел. – Кто это её тебе так косо отрубил? Урусуты?! – Не тое дело! – воскликнул Сенгеп, утёр кровь с горла, развернулся и пошёл к пещере. Потом приехало ещё много гостей, но теперь они подъезжали всё реже и реже. А потом и вовсе перестали подъезжать. Маркел поднял вверх руку, подождал – и ничего не почуял. Тогда он опустил руку, кратко бухнул в бубен, выкрикнул заветное слово – и пурга сразу усилилась, нарты с охраняющими их кучкупами исчезли в снежном вихре. Вот теперь они раньше времени никуда не денутся, с удовлетворением подумал Маркел, развернулся и тоже пошёл к пещере. В пещере было непривычно светло, и Маркел увидел сразу всю кошму, от одного края до другого, вдоль кошмы сидели старики, а кое-где и молодёжь, залитая кровью, и все они не спеша, но и безостановочно ели. И это правильно, подумал Маркел, люди приехали издалека, проголодались и замёрзли, сперва их надо накормить и обогреть, а уже после предлагать им другие развлечения. Маркел посмотрел на Сорни-экву. Она, как всегда, ничего не ела, и даже не смотрела на гостей, а просто смотрела прямо перед собой, на голую стену. Маркел, помнится, как-то спрашивал, почему она так делает и что она там видит, и Сорни-эква на это ответила, что она ничего там не видит, да и не хочет видеть, а хочет просто ни о чём не думать. Вот лучше бы сейчас, тут же подумал Маркел, она бы ещё ничего не говорила! Только Маркел так подумал, как Сорни-эква посмотрела на него. Маркел усмехнулся, он знал, что сейчас нужно подумать о том, что ей понравится, и она сразу успокоится, Маркел всегда так поступал… А тут, наоборот, подумал: тебя нужно убить, ты старая и толстая, и ты уже не можешь давать правильные ответы, а те ответы, какие ты даёшь нашим князьям, приносят им только вред, посмотри хотя бы на Чухпелека! А ты посмотри на себя, подумала ему в ответ Сорни-эква, сними сетку и посмотри, почему ты не снимаешь?! И она заулыбалась, очень широко. А Маркелу почем-то стало очень страшно. Он взялся за сетку, но тут же отдёрнул руку и подумал: не пугай меня, чем ты меня можешь напугать, если я уже и так на пурлахтыне, а, значит, я мёртвый?! Э, подумала в ответ Сорни-эква, смерть – это ещё не самое страшное, что может с нами случиться. А что, спросил Маркел. А вот, начала было отвечать Сорни-эква… Но тут на кошме, неподалеку от Сорни-эквы, послышалось какое-то движение и громкий, резкий разговор. Все перестали есть и повернулись посмотреть, что там случилось. Маркел тоже повернулся и увидел, что это двое очень старых князья пытаются удержать сидящего рядом с ними не такого уже и старого князя, который может всего только в десятый или двадцатый раз приезжает на пурлахтын. Ну, это не беда, подумалось Маркелу, сейчас или князь сам уймётся, или кучкупы выведут его с кошмы… Но тут Маркел ещё раз присмотрелся и узнал, что старый буян – это не кто иной, как Пынжа-князь, отец братьев-князей Лугуя и Чухпелека. И ещё: Лугуя на этом застолье не было, а вот Чухпелек сидел неподалёку от отца и теперь тоже порывался встать, но и его пока что удерживали. Ащ, с досадой подумал Маркел, только этого ещё здесь не хватало, и трижды громко бухнул в бубен. Все сразу замолчали и остановились, и князь Пынжа вместе с ними тоже. А Сорни-эква в наступившей тишине сказала: – Я вижу, все уже насытились и обогрелись. Теперь, я думаю, пришла пора вспомнить о тех, кто никогда о нас не забывает. Так или нет? Все стали кивать, что так. Тогда Сорни-эква продолжила: – Наш великий отец, Владыка Неба, Нуми-Торум, чествует нас своим вниманием. Так поклонимся же и мы ему! Маркел опять ударил в бубен, и все поклонились. Потом кучкупы подали всем чашки, и все выпили. Только Маркел не пил. И Сорни-эква. Да они всегда не пили, люди не должны такого видеть. Князья, подумал Маркел, это те же люди, только в шлемах, и усмехнулся. А потом ударил в бубен ещё раз, и Сорни-эква сказала, что пришло время поклониться Владыке Леса, Полум-Торуму, и все поклонились, после кучкупы подали всем чашки, и все выпили. Вторые чашки были больше первых, и глаза у князей засверкали, а общая беседа за кошмой стала немного громче. Только один Пынжа-князь не веселился, а молчал и хмурился. Будет беда, опять подумалось Маркелу, что делать? Но ничего на ум не приходило. А тем временем настала пора третий раз бить в бубен. Маркел ударил, Сорни-эква сказала, что теперь нужно поклониться Владыке Вод, Ас-Тальях-Торуму, и все поклонились, кучкупы подали всем самые большие чашки, и все выпили. Не пил только один Пынжа-князь, поэтому Маркел сразу же опять ударил в бубен, и Сорни-эква сказала, что теперь пришло время познакомиться с теми, кто в первый раз пирует за этой кошмой, пусть, если такие есть, встанут, назовут себя и расскажут о себе и о том, как они попали сюда. Встали двое – с одной стороны кошмы Чухпелек, а со второй Сенгеп Казымский. Сенгеп, как старший, начал первым. Он сказал, что он был убит в битве, защищая свой город. – И ты защитил его? – спросила Сорни-эква. – Да, – с гордостью ответил Сенгеп. – Враги отступили. – А много ли их было? – Очень много, – ответил Сенгеп. – Как летом гнуса в воздухе. За кошмой одобрительно зашумели. Сорни-эква кивнула, Сенгепу подали чашу, Сенгеп выпил и сел. Все повернулись к Чухпелеку. Чухпелек молчал. – А что скажешь ты? – спросила Сорни-эква. Чухпелек стал смотреть в сторону. Шуба на нём была распахнута и вся грудь была в крови. Ему отрубили голову, подумал Маркел, и, похоже, это было не в бою. Все смотрели на Чухпелека и никто ничего не говорил. Тогда встал Пынжа-князь, а он сидел рядом с Чухпелеком, и положил руку Чухпелеку на плечо. Чухпелек медленно сел, а Пынжа-князь повернулся к Сорни-экве и заговорил: – У меня было два сына, старший и младший. А теперь у меня только один сын, который остался там, и второй, который пришёл сюда. Но почему первым пришёл сюда младший? Почему ты допустила это? – Ты же знаешь, что это не мне решать, – сказала Сорни-эква. – Это решает Куль-Отыр, Владыка Нижнего Мира. Это ты должен у него спросить. – Так что, – гневно спросил Пынжа-князь, – это Куль-Отыр отрубил моему младшему сыну голову? С каких это пор Куль-Отыр начал охотиться на нас? Раньше он просто приплывал на чёрной лодке и забирал души тех, на ком была тамга смерти! Разве не так? – Так, – сказала Сорни-эква. – Вот-вот! – гневно продолжил Пынжа-князь. – И поэтому я говорю: Куль-Отыр не убивал моего младшего сына, а его убила ты! – Я?! – в ярости переспросила Сорни-эква. – Да, ты! – воскликнул Пынжа-князь. – Но ты, конечно, не сама убила, ты никогда сама ничего не делаешь, а ты околдовала моего старшего сына, и он в положенный срок не пошёл к тебе, а отправил вместо себя своего младшего брата. Разве мог младший поперечить старшему? И он пошёл сюда. Но разве это хорошо, когда старший брат остаётся там, когда младший уже здесь? Так может случиться только на войне, когда всё решает Владыка Неба, а в иные времена такого быть не может. Ты не должна была такого допустить, а ты допустила! Почему? Сорни-эква помолчала и ответила: – Я посылала за старшим. Но мой слуга привёл младшего. Вот этот слуга привёл, Коалас-пыг! И она указала на Маркела. Маркел застыл от неожиданности. – Чего ты молчишь?! – гневно продолжала Сорни-эква. – Почему ты привёл младшего? Я же говорила тебе: старшего! Отвечай! И сними сетку! Покажи всем своё лицо! Маркел, как околдованный, покорно отставил бубен и начал снимать с лица сетку. Сетка не снималась. Маркел стал её срывать! Сетка начала срываться вместе с кожей! Лицо было всё в крови, руки тряслись! Наконец Маркел сорвал с лица сетку, утер со щёк кровь. Все молча смотрели на него. Сорни-эква с опаской спросила: – Что с тобой? Кто тебя так изуродовал? Маркел молчал. И все молчали. Потом кто-то вдруг воскликнул: – Он к нам из Нижнего Мира пришёл! Вы разве не видите?! Это посыльный Куль-Отыра! Убить его! Убить, пока не поздно! Все стали подскакивать с кошмы и выхватывать сабли!.. Как вдруг раздались громкие мерные удары! «Это летит белая гагара, – подумал Маркел, – она спасёт его!» И кто-то тоже закричал: – Белая гагара! Белая гагара! Пурлахтын! Но это была не гагара, не хлопанье крыльев, а это по чёрной кошме, как по реке, плыла длинная чёрная лодка, а в ней стоял чёрный воин с чёрным же веслом и бил им направо-налево по вскочившим вдоль кошмы князьям. И кого бил, тот разлетался на куски. – Куль-Отыр! – кричали перепуганные люди. – Куль-Отыр! Пощади нас! Мы твои слуги, Куль-Отыр! Но он никого не щадил! Весло его мерно взлетало и падало, взлетало и падало, и било, разбивало, разрывало в клочья! Когда лодка поравнялась с Маркелом, тот быстро пригнулся, но весло оказалось быстрее, удар был очень сильный, ярко вспыхнул свет, потом наступила кромешная тьма, и, как подумалось, всё кончилось.Глава 52
А потом Маркел очнулся. Было совсем темно и тихо. Болело в боку. «Где это я? – подумал Маркел. – А где Параска?» Он провёл рукой по лавке, никого рядом с ним не было. И лавки не было, была кошма. Ага! Маркел провёл ещё и нащупал кистень. Это он бросал его в шайтанщика. И не попал, что ли? Маркел ещё провёл рукой туда-сюда и уткнулся в щовал. Щовал был чуть тёплый. Маркел придвинулся к щовалу, увидел мерцающие в нём угольки и начал раздувать огонь, а сам тем временем думал, кто он такой – Коалас-пыг, что ли? Но тогда оттуда у Коалас-пыга кистень? И кто такая Параска? А Сорни-эква кто такая? Маркел поднял голову и в слабом свете щовала увидел сидящую на кошме голую женщину. Она была сделана из золота. И она была, конечно, не живая, только губы у неё медленно шевелились, будто она что-то говорила. Маркел прислушался. Женщина замолчала. Она была красивая, волосы у неё были собраны золотым пучком на макушке, а живот у неё был большой потому, что она на сносях. По крайней мере, она всегда так отвечала, когда Маркел у неё спрашивал, почему она такая толстая. Но тогда это была живая женщина, у неё было много красивых дорогих одежд, а теперь она сидела голая, всякий мог её рассматривать, такое нельзя позволять. Подумав так, Маркел собрался с силами, приподнялся и накинул женщине платок на плечи. Платок сразу стал золотым. Женщина заулыбалась – и так и застыла с золотой улыбкой. А руки у неё теперь застыли так, как будто она только что держала на руках младенца, но младенца вдруг забрали, а руки так, как были, замерли. Это Золотая Баба, ведьма, подумал Маркел, здешние ясачные люди называют её богиней и везут ей царёв ясак, и царёва казна терпит убыток, вот царь и послал Маркела отыскать эту Золотую Бабу и привезти её в Москву на суд. И вот Маркел ей поймал, сейчас осталось только отвезти её куда было велено. Подумав так, Маркел сел рядом с Бабой и попробовал её подвинуть. Баба легко подвинулась. Так что же это такое, сердито подумал Маркел, какая же она тогда золотая, золотая была бы тяжёлая, золотую он не смог бы подвинуть, а тут она, наверное, деревянная и только сверху покрашена золотом, так что как только здешние люди про это узнают, они сразу перестанут называть её богиней, осталось только отвезти её в Москву, и там… Вот да! Маркел насупился, потому что вдруг подумал, как её везти в такую даль?! И что такое Москва, он разве когда-нибудь там был, он был только в Сумт-Воше и в Куновате, в Казыме, в Обдорске и где-то ещё, но вот где? Маркел опять задумался. Да и какой он Маркел? Он – Коалас-пыг, муж и слуга Великой Золотой Богини, так? И он посмотрел на эту золотую женщину, и она кивнула – так. Щовал разгорался всё сильней, хоть никто в него ничего не подбрасывал. Щовал был пуст, в щовале горела земля, потому что в земле была трещина и из неё шёл дух из подземного Нижнего Мира, которым правит Куль-Отыр, который убил Маркела, правильней, Коалас-пыга, и теперь Маркел мёртв для Нижнего Мира, но зато он ожил для Мира Срединного, в котором живут люди, одни в Сумт-Воше, другие в Москве, в Москве живёт Параска, она тоже на сносях, ему нужно спешить… Но Маркел лёг на кошму, зажмурился, приложил руку к раненому боку и начал читать «Отче наш». Прочёл три раза и заснул. Ему снилось, что он урусут, и с ним другие урусуты, они идут по болоту, идут очень долго, потом выходят на берег великой реки Оби, и нужно идти дальше, теперь уже по льду, но другие урусуты идти дальше не решаются. Они, говорят, будут ждать его на берегу три дня, а после развернутся и вернутся в Куноват, и одному ему не справиться, а зато им только скажи царёво слово – и потащат, надо их скорей найти и приказать им… Да, вот именно! Маркел проснулся, поднял голову и осмотрелся. Теперь он уже точно знал, что он – Маркел Косой, стряпчий Разбойного приказа, из Москвы, его послали сюда для того, чтобы он нашёл Золотую Бабу, взял её под стражу и отвёз в Москву не мешкая! И он не мешкал. Баба сидела на кошме, и она была неживая, значит, никуда не денется. Маркел вышел из пещеры, осмотрелся. Было ещё светло, но сыпал густой мелкий снег, в двадцати шагах уже ничего не было видно. Рядом стояли его нарты, они были уже порядочно присыпаны снегом, уже часа два прошло, как Маркел их здесь поставил, а сам вошёл в пещеру… Да! Два часа, ну, три, вот сколько он пробыл здесь, а всё остальное – это обман и бесовство! И никакого пиршества здесь не было, никакой Куль-Отыр на лодке по кошме не ездил, а Золотая Баба в самом деле деревянная, но было сказано отвезти её в Москву – и он отвезёт! С этой мыслью Маркел развернулся и опять вошёл в пещеру. Золотая Баба сидела на кошме и смотрела мимо, в темноту. Маркел тоже осмотрелся. Но рассматривать там было почти нечего. Пещерка была маленькая, тесная, там был только щовал, за ним лежанка, а над ней в задней стене была вырублена небольшая полочка, на которой лежал жёлтый засохший лист. Берёзовый, узнал Маркел, и отвернулся, обхватил Золотую Бабу покрепче и потащил её к выходу. А там с трудом взвалил на нарты. Баба молчала, улыбалась. Снег пошёл ещё сильней. Маркел посмотрел на Бабу, подумал, после вернулся в пещеру, взял там охапку шкур и связку ремней, вышел обратно, стал увязывать, и увязал, и укрыл Бабу так, что нигде ни золотинки не торчало, а после взялся за постромки и пошёл, потащил за собой нарты. Мороз был крепкий, под ногами поскрипывал снег. Куда это он идёт, думал Маркел, ведь ничего не видно же, ну да и ладно, куда-нибудь да и придёт. И он шёл себе и шёл, то прямо, а то поворачивал. Небо всё темнело и темнело, сыпал снег, мороз был небольшой, лёд ровный. Нарты катились легко, Баба покачивалась вправо, влево, но не падала. А тем временем небо совсем потемнело, стало чёрным. Когда же я так дойду, думал Маркел, давно должен был дойти, если бы шёл к берегу, а если я иду по стрежню, то никуда никогда не дойду, а выйду к морю и там подохну, как пёс. Ну и подохну, так подохну, думал он, но, может, ещё и дойду, куда надо. И так он шёл и шёл, не останавливался, потому что знал, что если остановится, то сядет, а сядет, то ляжет, а ляжет, замёрзнет. Но и если он будет идти, то скоро выбьется из сил и упадёт и опять же замёрзнет. А голос в голове сказал: а вот и не замёрзнешь, не робей! И он пошёл, как шёл до этого. Шёл, шёл. Потом уже чуть брёл. Оглянется, посмотрит на Бабу, не свалилась ли она, и идёт дальше. А вокруг был только один снег. И уже только под утро, когда начало светлеть, Маркел вдруг увидел впереди кусок бревна. Бревно было вмёрзшее в лёд. Значит, это топляк, радостно подумал Маркел, значит, это берег! Может, тут Ермола со стрельцами! Маркел потащил нарты на берег. Но чем дальше, тем берег был круче, Маркел выбивался из последних сил, но больше не мог тащить! Да и Баба чуть держалась, ещё, думалось, немного – и она упадёт и убьётся. Маркел не выдержал и закричал: – Ермола! Ермола! Сюда! И упал. Отполз к нартам, обнял Бабу и застыл. Потом ещё раз прокричал: – Ермола! И больше кричать уже не мог. Лежал и ждал, что будет дальше. Долго ждал. Потом наконец сверху послышались шаги. Маркел радостно перекрестился…Глава 53
И увидел – вверху, на бугре, стоят тени. Тени были серые, неясные, шёл мелкий снег. Потом от них послышался Ермолин голос: – Маркел, ты это? – Я, – сказал он, поднимаясь и держась за нарты. Тени начали спускаться вниз, и теперь Маркел ясно видел, что это и в самом деле Ермола со своими стрельцами. Они спускались медленно и, не дойдя шагов пяти, остановились и стали смотреть то на Маркела, то на Бабу. Но саму её они конечно же не видели, она же была плотно увернута в шкуры. – Что это у тебя, она, что ли? – спросил Ермола. – А кто же ещё?! – сказал Маркел. И тут же прибавил: – Чего стоите? Помогли бы! Он взял с облучка верёвку, бросил им, они её поймали. Маркел велел тащить, и они потащили. Берег был крутой, нарты тяжёлые, Маркел шёл рядом с нартами, придерживал, чтобы они не обернулись. Стрельцы едва втащили нарты на бугор и остановились, отдуваясь. – Чуть не сдох, – в сердцах сказал Ермола, опять повернулся к Бабе и спросил: – Она, что ли, в самом деле золотая? – Деревянная она, – сказал Маркел. – Это вам так в горку показалось. – Ага, конечно! – закивал Ермола. – А зачем тогда её так увернул? – От дурного глаза. Ермола скривился, сказал: – Дурней, чем у неё, не сыщешь. Давай, разворачивай, показывай. – Всю не могу, – сказал Маркел. – Это государево дело. Могу только так, чтобы не думали, что я кривлю. И он немного расслабил ремни, сдвинул шкуру. Открылась часть лица – глаз и щека, всё это золочёное, конечно. Стрельцы от неожиданности замерли, а кое-кто даже попятился. Один Ермола не сробел. Он шагнул ближе, подступил почти что к самой Бабе, присмотрелся и сказал: – Так какая же она деревянная?! – Да, деревянная, – сказал Маркел. – Это она только сверху золочёная. Ермола поднял руку, хотел было дотронуться, но передумал, сказал просто: – Золочёная. И неживая. А болтали! Маркел ничего на это не ответил. – Где ты её взял? – спросил Ермола. – В пещере, где ещё, – сказал Маркел. – Она там одна сидела. И никого там больше не было, и ничего. – А щовал горел? – Горел. Огонь шёл прямо из земли, без дров. – И никого-никого? – недоверчиво спросил Ермола. – Ни сторожей и ни шамана даже? Побожись! – Я, – строго сказал Маркел, – на службе, я божусь только своему боярину, у нас такой порядок. Ермола оглянулся на своих стрельцов, стрельцы молчали, и, опять повернувшись к Маркелу, сказал: – Нехорошо это. Ушли они, а ты пришёл, взял и ушёл. Они вернутся, пойдут за тобой, по следам. Придут к нам. И что? – Кто они? – спросил Маркел. – Её сторожа, – сказал Ермола. – А сторожа у неё – ого-го! Самоеды! Слыхал про таких? – Слыхал, как не слыхать, – сказал Маркел. – Только при чём они? Никого там не было, и ни следов, и ничего! – Ладно, – сказал Ермола. – Что теперь? Теперь нам надо ноги уносить, пока ещё не поздно. А Бабу эту… – И он посмотрел на неё. – Бросить её надо было бы… Да дело царское. – Ещё подумал и сказал: – Ладно, давай заматывай обратно. Маркел начал заматывать. И когда он поправлял ремень, ему показалось, что Баба моргнула. Маркел про это промолчал. А стрельцы тем временем опять взялись за верёвку, рванули тащить… А нарты даже не сдвинулись! – Тяжеленная! – сказал Мартын. – Так, может, она и вправду золотая? – Нет, это полозья прилипли, – сказал Карп. – Прихватило морозом. Тащите! Потащили, но с большим усилием. – Не хочет уходить, – сказал Ермола. – Своих сторожей ждёт, скотина. Давайте, давайте, пока они нас не сожрали! Стрельцы потащили нарты всё быстрее и быстрее. Маркел шёл сбоку и присматривал, чтобы Баба не свалилась. Ермола, шедший рядом, усмехался, а потом спросил: – Что в самом деле никого там не было? – Никого, – сказал Маркел. – но место там гиблое, конечно. Всякая чертовщина мерещится. Как будто дурных грибов нажрался. – Тебе ещё свезло, – сказал Ермола. – А были бы там самоеды, они тебя сразу сожрали бы. На том щовале прикоптили, а после… И не договорил, перекрестился. Маркел молчал. Зато Ермола продолжил: – Я тоже раньше в них не верил. Думал, брехня это. А потом поверил. Лысого шамана помнишь? А черепа на его мольбище? Маркел только вздохнул. – Вот то-то же, – сказал Ермола. – Зря мы сюда полезли, прости, Господи, и как теперь вылезать? Я бы бросил эту деревяшку, чёрт с ней, да после что говорить? Воевода спросит, где она, мы промолчим, а ты же молчать не будешь! Ты же сразу ляпнешь. Ты же опять будешь говорить, что ты на службе, что тебе нельзя кривить. Так, может, нам тебя здесь сразу… И замолчал, и усмехнулся. Маркел тоже усмехнулся и сказал: – Это уже как Бог решит, кому отсюда выйти, а кому нет. – Ну-ну! – насмешливо сказал Ермола. – Бог! Вот кого стал вспоминать! А сам с нечистыми стакнулся! – Я не стакнулся, – ответил Маркел, – а я здесь по государеву делу. А ты у меня на службе. Будешь язык распускать, я тебе его вырву. Без ножа! И он показал свою руку! Растопырил пальцы, как его учил Ефрем Могучий, лучший на Москве палач! Ермола сразу присмирел, сказал: – Но-но! Выискался! Тоже мне! И замолчал, прошёл вперёд, и весь оставшийся день шёл впереди и к Маркелу больше не вязался. Также и Маркел шёл молча, никого не цеплял, помалкивал, вспоминал про самоедов, хмурился и порой даже оглядывался. Но никого нигде видно не было. Они шли по бугру воль берега, справа был откос к реке, слева откос к болоту. Как только начало смеркаться, Ермола объявил привал, они остановились. Одни стрельцы взялись обустраивать табор, другие пошли на реку за рыбой, а Маркел сидел на нартах, возле Бабы, и думал о всяком. Потом его позвали есть, подали миску. Ушица была жидкая, без ничего, зато горячая. Маркел хлебал с удовольствием. И нет-нет да и поглядывал на Бабу. К ней никто не подходил. Оробели, подумал Маркел, и это хорошо, не будут лезть куда не надо, и весело хмыкнул. Но тут Ермола спросил, что он будет делать дальше. – Как что?! – сказал Маркел. – Домой пойду. В Москву, через Берёзов. Придём в Берёзов и сочтёмся. Пятьдесят рублей за мной. Стрельцы, услыхав такое, оживились. Один Ермола с недоверием сказал: – Так ведь было тридцать пять. – А стало пятьдесят! – сказал Маркел. – Или не рады? Стрельцы засмеялись. Ермола усмехнулся. А Маркел прибавил: – Если бы вы только знали, братцы, чего я только там не насмотрелся! Оттого и увернул её, и не смотрю теперь, и также и вам не советую. И замолчал. И все молчали. Маркел отставил миску, отдал ложку, ещё раз повернулся к Бабе и сказал: – В Москву приеду, сразу в церковь и свечку поставлю. И сделаю вклад! О, – спохватился он, – а долго ли меня здесь не было? – Да нет, как будто бы, – сказал Ермола. – Вчера ушёл, сегодня возвратился. – Вот! – нараспев сказал Маркел. – А я там как будто три года промучился! Но! – перебил он сам себя. – Обо всём этом ещё рано рассказывать. Это же дело государево, его сперва надо в Москве доложить. – И он замолчал. Потом спросил: – Сколько здесь по реке до Берёзова? Ермола сосчитал в уме, ответил: – За неделю, думаю, дойдём. – И хорошо, – сказал Маркел. – Скорей бы! И опять невольно обернулся, посмотрел на Бабу. Баба была как баба, вся плотно замотана. Маркел тяжко вздохнул, перекрестился. Ему дали ещё ухи. Пока он ел, Егор взялся рассказывать про то, как у них дома, в Костроме, поймали ведьму и как она от них сбежала. – У нас не сбежит, – сказал Маркел. Егор сказал, что он же не для этого. Ему велели помолчать, и он молчал. После ещё немного посидели, поговорили о всяких мелочах и разошлись по шалашам. В ту ночь Маркел спал плохо, то и дело просыпался, выглядывал наружу и смотрел, на месте ли нарты и не стряслось ли чего с Бабой. Всё, слава богу, было тихо.Глава 54
Утром Маркел встал раньше всех, подошёл к нартам, проверил ремни, задрал угол шкуры, постучал пальцем по золоту, задумался. Из шалашей выходили стрельцы, разожгли костёр, начали готовить перекус. Никто ни о чём не спрашивал, но все нет-нет да косились на Бабу. А поели, собрались, Ермола сказал выступать, и пошли. Маркел шёл рядом с нартами. Баба молчала. Но недолго Маркел шёл спокойно. Вскоре к нему подошёл Ермола. Даже как бы и не подошёл, а вначале он шёл впереди, да после будто засмотрелся и отстал, его оттёрли нартами, вот он и пристроился рядом с Маркелом. Так они прошли шагов, может, три сотни, и уже только потом Ермола вдруг тихо сказал: – Зря мы связались с этой Бабой. Добра нам от неё не будет. Маркел на это даже головы не повернул. Но Ермола всё равно продолжил, и уже со злостью: – Когда мы были ещё в Куновате, не хотел я с тобой идти! Сон же мне тогда дурной приснился, и надо было сказать нет, а я, дурень, не сказал. А теперь что? Теперь поздно! Мне сегодня тот же сон опять приснился. Опять самоед с ножом стоял, смеялся! Маркел глянул на Ермолу и пожал плечами. – Чего молчишь? – спросил Ермола очень злобным голосом. – А чего тут говорить, – сказал Маркел. – Мало ли что кому приснится. – Э! – сказал Ермола. – Мало ли! А вот и немало! Сны нам не зря даются. Так мне и этот самоед уже тогда вдруг дался, когда я ещё и думать не думал про эти места. И так и теперь: ты только от Бабы вернулся, только сказал, что никого там не было, и мне он опять является – сторож её, с ножом! Маркел усмехнулся и сказал: – Смешно тебя слушать. То ты говорил, что лысый шаман – это сторож Золотой Бабы, а теперь ты говоришь, что нет, не лысый шаман, а самоед её сторож. А потом ты ещё про кого-нибудь скажешь, а на самом деле… – А что на самом деле? – перебил его Ермола. – А на самом деле так оно и есть, что и лысый шаман её сторож, и самоеды – её сторожа, и также и все здешние люди и звери, и рыбы, и птицы, и земли, и воды – всё это её сторожа, и не дадут они тебе её забрать, ты только себя убьёшь и нас погубишь, а ничего ты с ней не сделаешь! Да что я тебе толкую! Ты сам всё это даже лучше меня знаешь! Ведьма она! Надо её убить! – Убить! – сказал Маркел. – А как ты идола убьёшь? Она же деревянная! – Ну так поджечь её! – с ожесточением сказал Ермола. – И пусть горит, пока не поздно, а самим тикать! Маркел очень внимательно посмотрел на Ермолу, потом строго спросил: – Чего это с тобой такое? – Не со мной одним! – сказал Ермола, и при этом кивнул на стрельцов, и прибавил: – Да и ты, что, ночью ничего не слышал? – Нет, ничего, – сказал Маркел. – А что? – Ну так послушай этой ночью! Если мы до неё доживём! Сказав это, Ермола злобно засверкал глазами и ушёл вперёд. А Маркел шёл, думал, что вот как оно повернулось: ведьма от него отстала, взялась за стрельцов. Или кривит Ермола? Ну да недолго осталось гадать, ночью всё станет понятно, если, конечно, доживём до ночи. И худо-бедно дожили. День тогда был пасмурный, пуржило, идти по бугру было не очень ловко, зато, видел Маркел, стрельцы стали тащить нарты всё быстрее и быстрее. И не так уж сильно они упираются, думал Маркел, не так часто меняются, как раньше, и больше переговариваются между собой, и даже одни над другими подшучивают. Маркел удивлялся, но молчал и ни о чём не спрашивал. Так же когда остановились на ночлег, он будто случайно, проходя мимо, толкнул Бабу плечом, и она сильно пошатнулась. Маркел помрачнел, но промолчал. Таким же мрачным он сидел за ужином, хлебал ушицу и помалкивал. А больше всех говорил тогда Мартын. Он стал вспоминать о том, как они ещё с князем Горчаковым ходили на самый низ Оби, почти что к Студёному морю, и бились там с самоедами. Самоеды, рассказывал Мартын, народ очень решительный, ни перед кем не робеют, огненного боя не боятся, никому не молятся, а кого убьют, тех жрут. А если никого не убьют, тогда жрут своих, оттого их и прозвали самоедами. «А тебя почему не сожрали?» – спросили его. «Костляв был», – ответил Мартын и засмеялся. После они ещё долго говорили о самоедах, одни других пугали, потом разошлись по шалашам. Маркел лежал у себя и думал, что на самом деле всё не так. На самом деле, как рассказывал Кузьма, самоеды – трусливый народ они боятся к другим лезть, поэтому и живут там, где никто не живёт, почти на самом краю света, на Оби Надымской. Но они и в самом деле в эту пору любят приходить в наши места и пригонять своих оленей. У них же там сейчас, в их тундре, пурга на пурге, а тут и тихо, и снега немного, а под снегом ягель. Олени сами по себе пасутся, а самоеды или спят по целым дням, или охотятся. А охотятся они так – когда есть звери, тогда на зверей, а когда их нет, тогда на людей. Подумав так, Маркел перевернулся на бок и прислушался. Было совсем тихо. Маркел отодвинул заслонку, посмотрел на нарты, на Бабу. Баба сидела смирно, молча. Маркел долго смотрел на Бабу, слушал. Потом задремал. Потом он ещё раза два или три просыпался и слушал. Баба ничего не заклинала, было тихо. Поэтому когда утром вышли завтракать, Маркел сказал Ермоле, что он всю ночь слушал, но так ничего и не услышал. На что Ермола со злостью ответил, что это она нарочно затаилась. – Ладно, – сказал Маркел. – Сегодня ночью я ещё послушаю. Ну а пока был день. Они собрались и пошли. День был морозный, солнечный. Казалось бы, иди и радуйся, думал Маркел, а эти все – как волки злобные. Всё им было не так! Они то и дело переругивались, на привалах сидели надутые, шептались между собой, многозначительно хмыкали. Того и гляди, думал Маркел, зарежут его ночью сонного. Или на ходу ударят в спину, или ещё что. А с Бабой как? А с ней ещё проще! Срежут ремни, отбросят шкуры, а под ними деревяшка! И они её со зла сожгут. Вот какие были у него тогда мысли, когда они шли вдоль Оби ещё по Куноватской стороне. И на той же Куноватской стороне они остановились на ночлег. Завтра, сказал Ермола, будем переходить через Обь на Берёзовскую сторону. То есть, сказал, ещё немного, – и, если Господь позволит, будем уже почти что дома. И вот опять же радуйся, так нет! Они молча развели костёр, поставили шалаши, наловили рыбы, сварили ухи, сели ужинать. Разговоров никаких почти что не было, Карп начал было рассказывать про то, как они с отцом ловили зимой рыбу и отец провалился под лёд… Но этого слушать не стали, Карпу велели молчать, и почти сразу после этого все разошлись по шалашам. В шалаше Маркел лёг с краю, чтобы нарты были хорошо видны. Скоро все заснули, а Маркел не спал, смотрел на нарты, слушал. Ночь была почти безлунная, тёмная, Маркел всматривался в нарты, всматривался… И заснул. Ему снилось, как он утром встал, посидел у щовала, посмотрел на огонь, послушал, что тот ему говорит, а после пришли кучкупы, помогли одеться, Маркел взял колотушку, бубен, пошёл на реку и там целый день плясал и пел, крепко умаялся, пришёл в пещеру, лёг… И проснулся уже в шалаше. Было почти совсем светло, его толкали. Маркел открыл глаза, вылез на свет. Там стояли стрельцы и Ермола. – Ну что, – строго спросил Ермола, – слышал?! – Что слышал? – спросил Маркел. Ермола внимательно посмотрел на него, очень сильно покраснел, злобно сказал «Собака!» – ушёл. Маркел молчал, стоял, как столб, смотрел по сторонам. Всем сказали садиться к костру. Они сели, молча перекусили, встали, собрались и пошли дальше. Проспал Бабу, думал Маркел, какая незадача. Или это она нарочно напустила на него тот сон? Да только что теперь гадать?! Теперь нужно ждать следующей ночи и слушать и смотреть внимательно. Тут они как раз остановились, и Ермола велел сворачивать и спускаться к реке. Спуск был крутой, нарты шатались, Баба шарахалась по ним то в одну сторону, то в другую, но всё же удержалась, не свалилась, и стрельцы спустили нарты, вместе с Бабой, с берега на лёд. Потом они шли по Оби. Шли очень долго, крепко притомились, и, когда вышли к Берёзовскому берегу, стрельцы хотели сделать передышку, но Ермола сердито ответил, что нужно поспешать как только можно быстрее, потому что ему сегодня приснился вещий сон, приснился в третий раз, скотина. Это он опять про самоедов, сердито подумал Маркел… А дальше подумать не успел – ему велели не мешать. Маркел отступил в сторону. Стрельцы взялись за ремни. Ермола, широко перекрестившись, стал покрикивать, а стрельцы под этот крик тянуть. Маркел смотрел на них и удивлялся. Ну, ещё бы! Стрельцы легко, почти без всякого усилия, тащили нарты, а потом также легко взволокли их на бугор. Там стрельцы остановились, усмехаясь. Маркел, поднявшись вслед за ними, подошёл к нартам, огладил шкуры, которыми была укрыта Баба… И вдруг толкнул её в плечо. Баба сильно покачнулась и чуть не упала на снег. Маркел повернулся к стрельцам и очень сердито спросил: – Что вы с ней сделали, сволочи?! Чего она теперь такая лёгкая?! – Ну, – сказал Карп, – мы тоже думали. И оглянулся на Ермолу. Тот сказал: – Это она силы лишается. Чем дальше мы её отвозим, тем она слабей. Стрельцы сразу согласно закивали. Значит, они об этом уже много говорили, подумал Маркел и сказал: – На вас будто крестов нет. Какая у неё может быть сила?! Она идолица! – Раньше была, – сказал Ермола. – А теперь стала деревяшкой. А мы как дураки тащи её! Вот ты открой, покажи! Или, может, нам самим её открыть?! И он оглянулся на стрельцов. Те все как один усмехались, но с места пока не трогались. А так, конечно, подумал Маркел, что он один с ними сделает? Тут только на одно можно надеяться! И, мысленно перекрестившись, Маркел достал нож, подступил к нартам и начал срезать ремни и отбрасывать шкуры. Баба стала открываться. Она была такая же, какой он её видел в пещере, и даже с тем платком, который он набросил ей на плечи, только теперь платок был золотой. Да и сама Баба была без обмана золотая. Солнце вышло из-за тучи, осветило Бабу. Баба будто улыбнулась. Стрельцы стояли неподвижно, как столбы, и даже Ермола молчал. Маркел осмотрел их всех и начал: – Вот такое, братцы, было дело. Смущала она меня сильно, вот я её и увернул. А сколько у неё там было бесов! Тьма! – В пещере сидела? – спросили. – В пещере, – ответил Маркел. – Вот тут она сидит, вот тут щовал, а тут я, с Божьей помощью. – А кто в щовал дрова носил? – А он сам по себе горит. Там в земле трещина, и из трещины идёт огонь. С Нижнего Мира, они говорят. – С того света, – поправил Егор. И тут же спросил: – Так она и вправду золотая? – А ты ткни её ножом, – сказал Маркел насмешливо. – Кровь пойдёт, значит, не золотая. Егор притих. И все остальные молчали. – Ладно, – сказал Маркел. – Пока что хватит. Вечером ещё поговорим. Теперь-то уже что? Теперь таиться нечего. Расскажу всё как было. А покуда пособите. И они опять, теперь уже все вместе, обложили Золотую Бабу шкурами, обвязали ремнями и потащили нарты дальше. С одной стороны был обский берег, а с другой – замёрзшее верховое болото, в котором только кое-где виднелись островки чахлых кустов и кривых низких сосен. Так что, подумалось Маркелу, если вдруг что, то здесь нигде не спрячешься. Вот только от кого здесь прятаться? И вдруг Мартын закричал: – Самоеды!Глава 55
Маркел оглянулся. Далеко-далеко позади, почти на самом окоёме, на снегу показались маленькие чёрные пятнышки. Их было много, и бежали они быстро. Ермола посмотрел на них, грязно ругнулся и крикнул: – Гони! И первым побежал вдоль берега. За ним побежали стрельцы. Одни из них тащили нарты, другие поддерживали сидящую на нартах Бабу. Маркел бежал самым последним и видел, что чёрные пятнышки быстро приближаются, уже можно рассмотреть, что это люди и олени. Оленей было несколько упряжек, а людей, бежавших впереди и позади упряжек, несколько десятков. Люди были в широких коротких одеждах, в руках у людей были у кого луки, а у кого копья. И люди ещё что-то кричали. А ещё… Но рассматривать их было некогда. Маркел прибавил бегу и догнал стрельцов. Стрельцы уже крепко запыхались, да и сколько можно было убегать, да и куда, думал Маркел. И, наверное, о том же думал и Ермола. Он повернул к Маркелу своё красное потное лицо и прокричал: – А что?! А вот сон в руку! Ну да и ладно! И они опять бежали молча. Самоеды быстро приближались. А что им, думал Маркел, они к здешним местам привычные, и они бегут по проторенной тропе, а нам надо бежать по целине. И он ещё поддал. Догнал нарты, начал пихать Бабу в спину. – Осторожней! – крикнули ему. – Не столкни! Маркел перестал толкать. А они тем временем уже бежали по болоту к ближайшим кустам. Дурь какая, подумал Маркел, где они там все поместятся, тем более, где спрячутся… Но тут Ермола закричал стоять, и все остановились. – К стрельбе готовьсь! – крикнул Ермола. Все стали снимать пищали и вбивать в снег бердыши. – А ты чего стоишь, скотина?! – крикнул Ермола, поворачиваясь к Маркелу. – Беги! Маркел подхватил постромки, рванул нарты и побежал дальше, к кустам. Снегу было много, по колено, земля неровная, вся в кочках, нарты тяжеленные… А он бежал и бежал. – Полку сыпь! – кричал Ермола. – Заряжай, мать вашу! Но Маркел бежал, уже не оглядываясь. До кустов было ещё довольно далеко. Сзади недружно забабахали пищали. Послышались визги. Маркел на бегу оглянулся. Стрельцы перезаряжали пищали, а самоеды стреляли из луков. Один стрелец упал, после почти сразу же второй… Маркел дёрнул постромку и побежал дальше. До кустов было уже не так и далеко. Это всё лысый шаман, подумалось, это он всё, пёс, накликал! И тут начал гнуться под ногами лёд. Маркел оробел, остановился. А сзади кричали – и самоеды, и наши. Наши пошли биться бердышами. Самоеды дрогнули и побежали. Но навстречу им бежали их сородичи. Те и другие смешались, потолкались, развернулись и опять побежали на наших, но теперь уже в большем числе. И с копьями! И теперь уже дрогнули наши… А Маркел добежал до кустов, поскользнулся на льду и упал. Нарты перевернулись, и Баба медленно сползла с нарт на снег, а со снега в открывшуюся полынью. Маркел вскочил… И в него впилась стрела! В бок, в тот самый! Маркел упал, скрючился. Было чертовски больно. А там, где бились, стало тихо. Перебили всех, подумалось, и сейчас придут его добить. Дышать было тяжело, стрела туда-сюда ходила, резала… И вдруг послышались шаги. Шли двое. Маркел задержал дыхание. Эти двое подошли к Маркелу, один из них наклонился, взялся за стрелу, резко рванул её и вырвал. Маркел мотнулся, как тряпка, но молча. Один самоед что-то сказал по-своему, второй ему ответил. Первый пнул Маркела в бок ногой. Маркел опять даже не ойкнул. Первый самоед ещё что-то сказал, они засмеялись и пошли к своим обратно. А Маркел вдруг услышал: «Лежи!» Маркел осторожно обернулся. Рядом с ним валялись перевёрнутые нарты, и там же из полыньи виднелся мокрый бок Бабы. Деревянная, с радостью подумал Маркел, не утонула, а золотая утонула бы, и что бы он тогда царю показывал?! А так… И спохватился, утёр губы, стёр улыбку. Посмотрел туда, где бились. Там одни самоеды бегали, утаптывая снег, другие складывали высоченную поленницу для костра, а третьи подтаскивали туда убитых – и своих, и наших. Ермола лежал сбоку, головой к Маркелу, и как будто наблюдал за ним. Или опять хотел сказать, что сон был в руку. Маркел мысленно перекрестился, но не шевельнулся. А потом, не отводя глаз от Ермолы, подумал, что неужели те самоеды, которые его подстрелили, не заметили Бабу? Или она им просто глаза отвела? Отвела, скорей всего, подумалось, ей это пустяк, а вот как болит в боку! Маркел полез за пазуху, положил руку на свежую рану, ощупал. Стрела, получалось, прошла почти мимо – пробила кожу, скользнула по ребру и вышла наружу. Может, тоже Баба отвела, подумалось, ей и такое нетрудно, а кровища это не беда, ещё немного потечёт и перестанет. А там, где собрались самоеды, бухнул бубен. Маркел осторожно повернулся, стал смотреть. Там подожгли костёр, огонь начал понемногу разгораться, задымил, но Ермолу было видно хорошо и Карпу тоже, а вот остальным не очень. Маркел стал читать отходную, сбивался, начинал сначала. А у костра вышел шаман, начал плясать и петь. Самоеды подхватили песню, потом начали притопывать, потом пошли кругом. Небо было тёмное, солнца не видно, понемногу поднимался ветер. Будет пурга, можно будет уйти, подумал Маркел, они его оттуда не увидят, а ему что, ему идти вдоль берега, пока не дойдёшь, вот и всё. Подумав так, Маркел опять посмотрел на костёр. Тот уже сильно разгорелся, наших уже видно не было. А после… Ну что? На то они и самоеды. После у них был пурлахтын, и они ещё долго плясали, пели радостно. Потом вывели оленя и зарезали его, пили свежую оленью кровь, ещё плясали. Потом стало темнеть, да ещё поднялся ветер, запуржило, ни самоедов, ни костра не стало видно. Маркел с опаской приподнялся, вытащил из полыньи нарты, стёр с них наледь. Потом вырезал удобную жердину с крюком, зацепил ею ремни, которыми была обвязана Баба, и начал тащить на себя. Долго тащил, стало уже совсем темно, показалась луна, а он всё тащил и тащил, наконец подтащил к краю, снял рукавицы, вцепился обеими руками в Бабу и начал вытаскивать её на снег. Баба упёрлась, не лезла. Маркел совсем рассвирепел, начал костерить её по-всякому, не помогало. Тогда он опомнился и стал её просить, вымаливать, чтобы она его не погубила. Потом стал ругать совсем по-грязному, молча, конечно… И вытащил. Она тут же покрылась толстой ледяной коркой. Маркел взвалил её на нарты, оглянулся. У самоедов было тихо, только шаман что-то покрикивал да нет-нет – и бухал в бубен. Маркел, осенив себя крестным знамением, отвернулся и пошёл. И долго шёл! Луна уже зашла, а он всё шёл и шёл. Ветер стих, небо очистилось, а он всё шёл. Солнце взошло, а он шёл. По левую руку был берег, по правую – болото. Шёл, шёл, опять зашёл в кусты. Нарубил сучьев, поджёг, лёг, заснул. Проснулся от холода, подбросил в костёр веток и опять заснул. Потом опять проснулся, подбросил и уже не мог заснуть. Лежал, смотрел по сторонам, слушал, как дует ветер. Потом из темноты вышел Чухпелек, остановился. Маркел сказал ему садиться. Чухпелек сидел, грел руки, после встал и сказал собираться. «Я не могу, – сказал Маркел, – меня царь ждёт». – «А меня брат, – ответил Чухпелек и опять сказал: – Вставай». Маркел перекрестился, Чухпелек пропал. А уже начинало светать, уже была видна тропа. Маркел обрадовался, начал собираться. Собрался, взялся за постромки, потащил. Сзади вдруг послышалось: а я пожалела тебя, но в другой раз не пожалею! А потом велела: оглянись! Но Маркел не оглянулся. Тащил и тащил. И ничего ему больше уже не чудилось. Шёл, как ломовая лошадь, ничего уже почти не соображал. Шёл, не спешил. Никто за ним не гнался, никто не окликал. Шёл, шатался. Очень хотелось есть. А где еды возьмёшь, и он терпел, шёл дальше. Уже стемнело, а он шёл. Луна показалась, а он шёл. Под утро зашёл в кусты, развёл костёр, передохнул, пришёл Чухпелек, сидел, молчал, и Маркел тоже с ним не заговаривал, утром поднялся и ушёл, а Чухпелек остался. Маркел шёл ещё день и ещё ночь, Баба что-то говорила, он не слушал. Утром совсем выбился из сил, уже хотел ложиться прямо в снег и умереть… Как вдруг увидел впереди Берёзов.Глава 56
А из Берёзова увидели его – с боковой башенки. Стрелец, который там стоял, сразу замахал руками, что-то закричал. Ему ответили с надвратной башни. О чём они кричали, Маркел не расслышал. Он только понял, что его заметили, и успокоился, сел на край нарт и приготовился ждать. Теперь, он думал, только не заснуть бы, а то эта бесовка мало ли что вытворит. И он отвлекал себя тем, что вначале сосчитал до ста, потом начал считать дальше… И тут открылись ворота, из них стали выходить, а то и выбегать стрельцы. Маркел встал, поправил шапку, посмотрел на Бабу. Она была увёрнута плотно, как надо, нигде ничего не блестело. Маркел довольно усмехнулся. И тут к нему подбежали. Маркел был в шаманской шапке, но всё равно его сразу узнали, один из стрельцов удивлённо спросил: – Царский гонец, ты, что ли?! Маркел утвердительно кивнул. – А что это ты привёз? А все остальные где? – спросил второй стрелец. Маркел не ответил. Тогда первый шагнул было к нартам, но Маркел тут же прикрикнул: – Не тронь! Это царёво дело! Стрелец отступил. Маркел спросил: – Где воевода? Но теперь уже стрельцы молчали. Маркел опять спросил: – А Змеев? Они снова не ответили. Тут к ним подошли ещё стрельцы из крепости, а с ними сам Савва Клюв, полусотенный стрелецкий голова, на которого Волынский оставлял Берёзов. – Савва, – сказал ему Маркел. – Никому к нартам не лезть! Не приведи господь тебе недосмотреть!.. И зашатался, и закрыл глаза. И дальше ничего не помнил – заснул. Проснулся он уже под вечер. Он лежал на широкой лежанке, в тепле, в чистом исподнем. В окне было ещё светло, а в горенке было уже сумрачно, в углу горела лучина. За стеной шептались. – Савва! – позвал Маркел. Вошёл Савва, сел при изголовье. Маркел строго спросил: – Где мои нарты? – Здесь, – сказал Сава, – за дверью. Чуть дотащили такой вес! Маркел помолчал, подумал и спросил: – Чего это вдруг так? – А как ещё! – сказал Савва. – Наш Фрол как увидел, так сразу сказал: это Баба, надо её покрепче, под замок! А разве нет? Маркел молчал. Савва взял со столика калач и шкалик, и подал Маркелу. Маркел шкалик отстранил, а калач взял, куснул раз-другой, задумался. – Страшно было? – спросил Савва. – Трудно было, – ответил Маркел. И уже сам спросил: – А воевода где? – Пошёл на Казым, – ответил Савва. – Птица от него была такая. – А… – начал было Маркел, но вспомнил убитого Сенгепа, его слова про разбежавшихся врагов и осёкся. Нет, подумал, это бесовство, у Волынского всё будет складно. А Савва сказал: – Лёгкая она какая-то для золотой. – Бесовское золото, оно всегда такое, – ответил Маркел. – Поначалу наши тоже удивлялись. – А после? – спросил Савва. – Не могу рассказывать, – сказал Маркел. – Дал слово! Да и спешу я очень сильно. Поэтому дальше вот так: завтра с утра дашь мне стрельцов, с десяток, дашь собак, самых лучших, запасы. Да, и выправь подорожную. А пока что дай ещё поспать! Савва поклонился, вышел. Маркел лежал, покусывал калач, думал о разном. Больше всего думалось про Бабу, почему она его не убила. А ведь могла много раз! Особенно в конце, когда самоеды его подстрелили и бросили, а могли взять и отнести в костёр! Но вот вдруг не отнесли, и слава богу, конечно, но и Баба тоже могла всякое – могла им тогда нашептать, и они взяли бы его, и отнесли, и положили бы рядом с Ермолой! И он лежал бы и дымил, от шубы всегда много дыма. А она бы что? Её тогда разве ремни удержали, если бы она хотела вырваться?! Вот именно! А почему тогда сейчас не вырывается? Или правду говорил Ермола, что чем она дальше от своей пещеры, тем в ней силы меньше остаётся? А что! Вполне такое может быть. И тогда что она сейчас? Маркел затаился, прислушался… И услышал её тихий голос. Она что-то пела. Пела очень тихо. Но он же слышит! Через стену! И Ермола её слышал! А другие что, разве не слышат? Или тоже слышат, но боятся подходить? Но и Маркел тоже не решился, не вышел к ней за дверь. Он лежал и ни о чём уже не думал, а только слушал. А то, что не вставал, так, думал, только потому что болит свежая рана от стрелы. Рана и вправду сильно жгла, Маркел держал руку на ране, терпел, старался не думать о Бабе, старался вспоминать Москву, Параску, Нюську, свою службу… И заснул. Утром проснулся, вышел, его уже ждали. То есть уже и стол был накрыт, а возле стола стоял Савва со своими людьми, а это его десятники, и это Арсений их пушенный мастер, и Пётр Быков, государев дьяк, а в дальнем углу стояла Баба – какая и была, то есть увёрнутая шкурами и обвязанная сыромятными ремнями. Маркел остановился, посмотрел на Бабу и подумал, что зря они с ней так, зачем на общий вид поставили, ходят здесь всякие, глазеют… Но так ничего и не сказал, а оглянулся на Савву и спросил, готовы ли его стрельцы. Савва ответил, что готовы, десять самых лучших, и десятник. Один из десятников при этом поклонился. – Это хорошо, – сказал Маркел. – А подорожная? – Тоже готова, – сказал Савва. – Но не вся. – Как это не вся? – удивился Маркел. – Про Бабу ничего ещё не вписано, – ответил Савва. – Как это? – уже сердито спросил Маркел. – А вот так! – уже тоже сердито сказал Савва. – Что мне про неё вписывать? Я же её не видел! Может, там её и нет совсем, а я бумагу подмахну! А ты приедешь в Вымь, а то, ещё хуже, в Яренск, и там воевода проверит… – И что?! – гневно спросил Маркел. – Вот я и говорю: и что? – ответил Савва. Маркел осмотрелся. А в светлице было многолюдно, там были и стрельцы-десятники, и пушечный мастер, и государев дьяк, и просто челядь всякая… И все они смотрели на Маркела и то и дело косились на Бабу. Все они очень хотели её видеть, и их с этого было не сбить. Поэтому Маркел вновь повернулся к Савве и спросил: – Так что, вот так, что ли, при всех? – А что здесь такого, – сказал Савва. – Никакого бесовства тут нет, а есть только дело государево. Вот здесь, – он достал подорожную, – я должен буду записать: «болван», и будет он из золота, я допишу «из золота», а будет деревянный, так и напишу, что деревянный. Или здесь подвох какой-нибудь? – Без подвоха здесь, – сказал Маркел, сдвинул брови, достал нож, подошёл к Бабе и начал кромсать ремни и шкуры сбрасывать. Сбросил всё и отступил на шаг. Баба сидела к нему боком, глаза у неё был почти закрыты, а руки опять у груди. – Будто она кого-то держит, – сказал Савва. – Как младенца. – Так оно и есть, – сказал Маркел, не оборачиваясь. – А сколько в ней пудов? – спросил Арсений. – Это когда как, – сказал Маркел. – Не бывает когда как, – сказал Арсений. Маркел грозно обернулся на него. – Ладно! – сразу же сказал Арсений. – Ладно! Маркел повернулся к Савве и спросил: – Чего ещё? – Ничего, – ответил Савва. – Напишу: «очень тяжёлая». – Иди пиши, – сказал Маркел. После чего обернулся к стрельцам и велел опять закутать Бабу, и поплотнее, и живо, потому что скоро отъезжать. Стрельцы стояли на месте, крестились. – Давайте, давайте! – прикрикнул на них Маркел. – Вам её теперь до Выми караулить. Привыкайте! Стрельцы с опаской подошли к Бабе и с ещё больше опаской начали её укутывать. Маркел сел к столу, ему подали миску, ложку, он поел, встал, Баба к тому времени была уже укутана, и её потащили к двери, а там по лестнице во двор. Во дворе уже стояли нарты с десятком собак. Савва протянул Маркелу подорожную. Маркел глянул в неё, прочёл «с бесовским идолом», пожал плечами, ничего на это не сказал, а только велел открывать ворота, и они пошли – стряпчий Маркел Косой, десятник Фрол Жуков и десять стрельцов. А Баба ехала в санях, ей легче всех, думал Маркел, и это правильно, она ведь баба, баб надо жалеть.Глава 57
И так они шли и шли шесть дней, шли тяжело, иногда крепко мёрзли. Но зато на этот раз никто их нигде не подстерегал и на них не накидывался. Шли по тайге, после полем, после поднялись в гору, и на седьмой день пришли к Щугорскому острожку. Время было светлое, их заметили ещё издалека, поэтому, когда они подошли к воротам, их там ждали. И уже даже узнали Маркела. – Царёв гонец! Здоровы будем! – закричал с той стороны Тихон Волдырь, их старший, и приказал открывать. Его люди открыли ворота. Маркел выступил вперёд своих, спросил, который день. – Февраля двадцатого, – весёлым голосом ответил Волдырь. – Преподобных мучеников Валаамских. – Верно! – сказал Маркел. – Блюли себя! И они с Волдырём обнялись. После Волдырь посмотрел на Маркеловых людей, покивал головой, а после посмотрел на нарты, на здоровенный тюк на них, то есть на увёрнутую Бабу, и спросил: – А это что? – Это, – сказал Маркел, – то, зачем меня царь к вам посылал. – Там, что ли, Лугуй? – спросил Волдырь. – В цепях? – Нет, не Лугуй, – сказал Маркел. – И не в цепях. Лугуй к Сенгепу в Казым убежал, и они там затворились. А Волынский пошёл на Казым. – Вот как там весело! – сказал Волдырь. – А у нас тишь-тишина. А что в мешке? Маркел подал подорожную. Волдырь прочёл, потом ещё раз перечёл, покачал головой и сказал: – Савка подписал. Дурень последний! Кто же так бумаги пишет? Какой тут ещё идол? – С Великого Мольбища, – ответил Маркел. – Тот самый. Волдырь посмотрел на Бабу, то есть на тот узел, в который она была увёрнута, подумал и спросил: – И чего ты теперь хочешь? – Хочу её царю свезти. По царёву же велению. Волдырь посмотрел на Маркела, потом на Бабу, потом снова на Маркела и сказал: – Это, что ли, та самая, золотая? – Та самая, – ответил Маркел. – Разворачивай, – сказал Волдырь. – Будем смотреть. Это у нас закон! – сказал он уже громче. – Это у нас хоть воевода, хоть… Всех смотрим! – И махнул рукой. Маркел повернулся к своим и поднял два пальца. Двое стрельцов вышли вперёд, подступили к нартам, начали развязывать ремни. Волдырь медленно перекрестился. И он смотрел только на Бабу, глаз не отводил. Баба понемногу открывалась. А когда открылась, он зажмурился. После опять открыл глаза, поморгал, повернулся к Маркелу, спросил: – Сколько в ней весу? – Взвешивай, – сказал Маркел. Усмехнулся и прибавил: – В Берёзове не стали взвешивать. И даже писать не стали, золотая или нет. Волдырь опять посмотрел в подорожную, перечитал, где надо, по слогам, криво усмехнулся и сказал: – Вот дурень Савка! У него за это ещё спросят! Он же бумагу подписывал! Вот его подпись! А печать Волынского! Волынский тоже будет отвечать! А мне что, больше других надо?! Забирай! И сунул Маркелу подорожную. Развернулся и пошёл в ворота. На полпути остановился и сказал: – Чего стоите? Завозите. Только в дом я её не пущу. Пусть во дворе стоит, никто её здесь не тронет. Маркел кивнул своим, собаки потащили нарты, стрельцы пошли за нартами, за стрельцами закрыли ворота. А дальше было как и должно было быть – все зашли в жилую избу, Волдырь велел накрывать, накрыли. Маркел выставил три бутли передачи, сказал, это от Саввы. Савву сразу помянули добрым словом, сели за стол и посидели как следует, поговорили о том да о сём. Больше, конечно, говорили берёзовские, им же было о чём рассказать – и про Лугуя, и про Игичея. А Маркел рассказывал ещё про то, как воевода взял Куноват и как и из-за чего, правильнее, из-за кого он раздружился с Игичеем… Ну и так далее. То есть обо всём было рассказано подробно, вот только о Бабе ничего не говорили. Молчал о ней Маркел! А уж как ему подливали, и как закуски от него отпихивали, а он всё равно молчал! И так молча и заснул. Ночью проснулся, поел огурцов, вышел во двор, проверил Бабу, вернулся и спал до утра. Утром быстро собрались и вышли. Шли ещё семь дней, под конец уже просто тащились… И вышли к Выми. А там же кругом монастыри! А у них такой груз непотребный! Маркел строго-настрого велел молчать. Да у них никто ничего и не спрашивал, не ожидали такой дерзости. Они проехали к губной избе, к ним вышел было Гычев, Маркел велел Гычеву уйти, стрельцы затащили Бабу в сени, Гычев спросил, что случилось, Маркел сказал, завтра расскажет, а пока велел, пусть принесёт поесть и на всех выпить. И дал семь алтын, деньги были Саввины. Гычев взял с собой Саньку, быстро обернулся, принёс всего всякого, все сели выпивать. И выпивали на этот раз молча. Гычев спросил, где те вогулы, которых он давал Маркелу. Маркел посмотрел на потолок. Гычев перекрестился. После спросил, а что ещё случилось. Маркел сказал, что много всякого, и лучше об этом не знать. А что в сенях, спросил Гычев. – Она, – тихо ответил Маркел. Гычев стал креститься и крестился долго. Маркел снял шапку и сказал: – Вот такова моя служба! И больше не пил. Потом все полегли. Маркел всю ночь ворочался, прислушивался, но ничего недоброго не слышал. Утром они встали и ушли. Только перед самым уходом Гычев подошёл к Бабе, она тогда ещё стояла в сенях, и положил ей руку на плечо, и это всё. Потом они, через три дня, это всё на Саввиных собаках, приехали в Яренск. Там было много легче. Батищев встретил Маркела с большой радостью, говорил, не чаял уже встретить, а тут вдруг явился! И тут же спросил: – А это что? – и показал на Бабу. – Про это после расскажу, – сказал Маркел. Батищев согласно кивнул. Стрельцы потащили Бабу в воеводские хоромы. Там, в трапезной, стол был ещё не накрыт, поэтому Бабу поставили прямо на стол, Маркел махнул рукой, и её разоблачили. Батищев как увидел Бабу, тихо охнул. После походил вокруг, спросил, не золотая ли. Маркел пожал плечами. Батищев достал нож, примерился, ткнул в Бабу, посмотрел, что получилось, и сказал: – Я так и думал, деревянная. Маркел молчал. – Да ты не горюй! – сказал Батищев. – Тебе что было велено? Её привезти? Ты и везёшь. А какая она из себя, это уже не твоя забота. Верно? Маркел подумал и кивнул, что верно. Батищев снова посмотрел на Бабу, прищёлкнул языком и нараспев сказал: – Хороша! – А после, опять повернувшись к Маркелу, спросил, где тот её добыл. Маркел уклончиво ответил, что об этом долго рассказывать. – А я никуда не спешу, – сказал Батищев. И, кликнув челядь, велел подать обед. Челядины побежали накрывать на стол. Правильней, на полстола, потому что вторую его половину занимала сидящая Баба. Челядины искоса поглядывали на неё, но никто на всякий случай ничего о ней не спрашивал. Потом челядины ушли, Батищев и Маркел сели, опрокинули по шкалику, и Маркел начал рассказывать. Рассказывал долго, подробно, ничего не утаивал, только про своё житьё у Золотой Бабы ничего не сказал, пропустил, сказал только про то, как он подошёл к пещере, как на него оттуда кинулся шайтанщик, как он от него отбился, а потом сразу: – И я упал. А просыпаюсь, а шайтанщика уже нет нигде, мой кистень на полу валяется, и тут же сидит эта Баба. – В таком виде? – Да. – И это всё? – спросил Батищев, усмехаясь. – Как будто всё, – сказал Маркел. – Если меня там не околдовали, конечно. – Околдовали, околдовали! – радостно подхватил Батищев. – Такая бабища, и вдруг не околдует! – И тут же спросил: – Колдовала жарко? Маркел в ответ только шумно вздохнул. – Вот это по-нашему! – сказал Батищев. – Да и не красней ты так! Я, что ли, поп, чтобы тебя срамить?! Он снова посмотрел на Бабу и задумался, потом сказал: – Ладно, рассказывай дальше. Маркел стал рассказывать про то, как он нашёл своих стрельцов, как они тащили Бабу, как она становилась то легче, то тяжелее, а то опять легче. Потом рассказал про самоедов, и что старшим у них был старик в трёхрогом шлеме. – Это Яркома-князь, – сказал Батищев. – Очень на это дело лютый. И он тебя вдруг упустил. Как-то не верится. Или тут что-то сокрыто. Маркел, а за ним Батищев, посмотрели на Бабу. Баба им как будто усмехнулась. – Хватит! Больше пить не будем! – сказал Батищев. И первым встал из-за стола. Маркел встал за ним. Батищев спросил подорожную, посмотрел её, сказал, что так не годится, что он напишет лучше, а пока Маркелу надо отдохнуть. Маркела отвели, он лёг и спал до завтрашнего чуть ли не полудня, увидел, что уже такое время позднее, и начал быстро собираться. Пришёл Батищев, дал ему новую, от своего имени, подорожную, в которой вместо «с бесовским идолом» было записано «с потребным грузом» и чтобы давали две не простых, а обязательно больших подводы – одну для Маркела, вторую для Бабы. А берёзовских стрельцов, сказал Батищев, он ещё утром отправил обратно в Берёзов. Маркел поблагодарил Батищева, вышел во двор, там его уже ждали двое ямских саней, первые были ещё пустые, а во вторых уже сидела Баба. И они поехали. И ехали они ещё почти что три недели. Ни к кому Маркел уже не заходил, а приезжал на ямской двор, Бабу сгружали, ругались, Маркел перекусывал, ложился, рядом всегда стояла Баба – и молчала, а утром Маркел выходил, за ним вытаскивали Бабу, костерили, он ехал, опять костерили… И так дальше. Дни становились всё длинней, теплей, снег таял, он проехал Устюг, Тотьму, Вологду, Ростов, Ярославль, Переславль, Сергиев Посад…Глава 58
И ближе к полудню двадцать первого марта 1596-го, правильней, конечно, 7104 года, он приехал в Москву, въехал через Сретенские ворота. Казалось бы, вот наконец… Да вот на душе у него было гадко. А что! В боку болело нестерпимо – и от старой раны, и от новой. Но ещё больше ему было горько от того, что зря он съездил, зря столько бился, столько плутал, столько мёрз, и самого чуть не сожрали, а привёз какую-то никому не нужную деревяшку. Князь Семён разгневается страшно! А ещё ему будет перед Щелкаловым очень неловко, и он станет орать ещё громче! Хотя, тут же подумалось, а чего орать? Что они просили, то он им и привёз, правильно Батищев говорил. Так что вот вам Баба, делайте с ней что хотите, а мне… А что «мне», думал Маркел, а тебе, дружок, шиш с маслом! Что привёз, за то и получи, ещё хорошо, что не в морду, думал Маркел, проезжая по Сретенке. Вот до чего было ему тогда невесело. Даже, прямо признаться, ехать не хотелось, а хотелось… Да, вот именно. Поэтому когда Маркел подъезжал к Кремлю, к Никольским воротам, он там даже привстал в санях и посмотрел направо, на кабак и на крыльцо при нём, но что-то дёрнуло его не выходить. И он поехал дальше. У него тогда, кстати, было уже не две, а только одна подвода, вторую он давно отпустил. Не нужна стала вторая, ссохлась Баба, проклятая ведьма, бесовка, совсем в ней веса не осталось, что теперь боярину показывать, думал Маркел, а сам показал рукой вперёд, к приказам. Ямщик туда и повернул. Возле Разбойного крыльца Маркел велел остановиться, вышел. На крыльце стоял Герасим, сторож, он увидел Маркела, снял шапку. Маркел, покосившись на ямщика, велел Герасиму присматривать за, как Маркел это назвал, узлом, а сам пошёл в приказ, поднялся на второй этаж, подёргал двери, но везде было закрыто. – Что это? – спросил Маркел у рынды. – Боярин уехал по делам, – ответил рында, – и ваши сразу разбежались. Сегодня никого уже не будет. Маркел вздохнул, пошёл обратно. Когда он вышел на крыльцо, саней тоже уже видно не было, а узел просто стоял на снегу. А какой он теперь махонький, подумал Маркел, какая Баба там усохшая! Ну да что теперь поделаешь. Маркел спустился с крыльца, взвалил узел на плечи и пошёл домой. По дороге Маркел встретил Фильку. Филька тащил саночки с дровами. Маркел велел дрова выбросить, и вместо них поставил на саночки узел. – Что это? – спросил Филька. – Там увидишь! – сердито ответил Маркел. – Тащи! Филька и потащил, а Маркел пошёл рядом. Филька поглядывал на узел и помалкивал. Потом вдруг уверенно сказал: – Она! Маркел ничего не ответил. – Она, она! – продолжил Филька. – Я на неё как посмотрю, так у меня волосы под шапкой встают дыбом! Маркел опять промолчал. – Деньжищ тебе отвалял! – сказал Филька. – А я бы брал вещичками. – Я хочу дом купить, – сказал Маркел. – О, это да! – подхватил Филька. Они дошли до князя Семёнова подворья, вошли в ворота. Народ стал выбегать смотреть на них. Они шли не спеша, молчали. Завернули за угол, подошли к Маркелову крыльцу, вдвоём втащили Бабу на помост… И тут Параска им открыла! Какая же она стала толстущая, с гордостью подумал Маркел, как бы она тут при всех не разродилась! Но Бог миловал, она только всплеснула руками, прошептала что-то быстро-быстро и отступила назад, в сени. Маркел с Филькой затолкали узел в дом, поставили на стол. Маркел кивнул, Филька начал развязывать. В дверях было уже полно народу, все молча ждали. Баба раскрывалась медленно, то один бок оголит, а то второй, то засверкает, то погаснет. Народ смотрел, тихо охал. Когда Баба заголилась полностью, Параска сказала: – Срам какой! Накрывайте её, хватит. Филька с большего накрыл. – Вот, – сказал Маркел, осматриваясь по сторонам, – это и есть та бесовская баба. Филька, – строго продолжил Маркел, – беги в Бараши и веди оттуда князя Агая, пусть он посмотрит и под крестом подтвердит, ту бабу я привёз или не ту. Он же её сам видел, говорил. Иди! Филька вздохнул и вышел. И также вышли и все остальные, потому что Маркел вдруг сказал, что это дело государево, кто не уйдёт, того запишут в послухи и будут допрашивать, так по закону. Все конечно же сразу ушли. Когда Маркел и Параска остались вдвоём, Маркел осторожно обнял Параску, и они ещё долго так стояли, один к другому прислушивались. А после явился Котька, Разбойный подьячий. Он сказал, что Герасим ему передал, что приходил Маркел… И тут Котька увидел Бабу. Она была наполовину укрыта, а наполовину нет. Котька стоял как околдованный. Потом спросил: – Нашёл? Маркел утвердительно кивнул и сел к столу, рядом с Бабой. Показал, и Котька тоже сел. Маркел повернулся к Параске и сделал вот так рукой. Параска пошла накрывать на стол. Котька сидел, смотрел на Бабу. Маркел встал, достал из-за икон перо, бумагу и чернильницу, и всё это дал Котьке. Параска подала по шкалику, они молча, как на службе, выпили, и Маркел начал наговаривать: – Божиею милостью государь царь и великий князь Федор Иванович… – Э! – сказал Котька. – Я такое не буду! – Пиши, пиши, – сказал Маркел, – это подлинная грамота, я её в своих руках держал, на ней царская перстнёвая печать с той стороны. – Ты что, её в Сибири видел? – спросил Котька. – Да, – сказал Маркел. – И я её на память выучил. Грамоту писали одному, а выдали другому. Другого убили, а первый сбежал. Чья теперь грамота и чья земля? Котька молчал. – Пиши! – сказал Маркел и стал наговаривать дальше, а сам при этом вспоминать Лугуя с Чухпелеком и про их вражду, и про лысого шамана, про Волынского, и про Аньянгу, и про… Да и ещё мало ли про кого! И так крепко вспоминал, что даже два раза сбился. Параска подала свекольника, они ещё по разу выпили, Маркел начал рассказывать, но тоже сбивчиво. Приходил Мартын Оглобля, князев дворский, смотрел на Бабу, качал головой, сказал, чтобы смотрели в оба, это же боярские палаты, боярин завтра приедет, и если что – убьёт. А сам остался слушать. Потом пришёл Филька, сказал, что он был в Барашах, и там сказали, что старый Агай месяц тому назад помер. Говорили, что ещё за неделю до этого он начал заговариваться, говорить, что его ждут, что у них там, на Великом мольбище, будет великий пурлахтын, ему нужно обязательно туда приехать… А потом вдруг утром встал и сказал «поздно»! И упал, и умер. Маркел тяжело вздохнул, перекрестился и начал рассказывать, какие у тамошних народов дикие поверья бывают, как они собираются в одной пещере и пьют, и едят на кошме, как татары, и эта кошма как река, а потом из-за стены вдруг выплывает лодка, в ней сидит тамошний шаман с веслом и начинает им всех бить, и убивает. А ещё… Но тут встала с лежанки Параска и сказала, что ей такое нельзя слушать, она на сносях, ей надо… Ну и что? И все ушли. Остались только Маркел да Параска, а Нюська ночевала за стеной. Ночь была лунная, луна такая же непраздная, сказал Маркел и тихо засмеялся. А Параска сказала, чтобы он пошёл и укрыл Бабу, чужая Баба в доме – это грех, и Маркел пошёл. Вернулся, и они скоро заснули. Маркел спал крепко, ничего не слышал. Потом Параска опять начала его будить. Была самая тёмная ночь, ещё даже первые петухи не пели, а Параска уже треплет Маркела за плечо и шепчет: – А мы не угорим, Маркел? Вон же дух какой тяжёлый. И пахнет палёным! Маркел принюхался – не пахнет, и хотел уже опять ложиться. Как вдруг видит: огоньки искрятся! Там, где Баба! И как будто дымком потянуло. Дымок сладкий, голову кружит, на сон клонит… Но Маркел не дурень! Вскочил, и к столу, и к Бабе! А она уже горит! Пылает! Маркел за неё хвататься, а она горячая! Она же позолоченная вся, и раскалилось золото, его не взять! – Параска! – заорал Маркел. – Мои рукавицы! Живо! И, пока те рукавицы, схватил Бабу, поднял… А она огнём плюётся! Искры от неё так и летят во все стороны, сейчас всё вокруг загорится. И Маркел, как был в одном исподнем, прижал Бабу к груди и кинулся вон, в сени, через сени и через крыльцо, через перила сиганул в сугроб – и покатился, зарывает Бабу в снег, думает, она сейчас погаснет, а ей хоть бы хны! Она ещё ярче горит! Тогда Маркел навалился на неё, придавил всем весом, а она и так горит, и Маркел уже сам загорелся! Народ повыскакивал, «Пожар!», «Караул!» кричат – и все к Маркелу, засыпают его снегом и песком, заливают холодной водой, а он всё равно горит! И горит Баба! Параска кричит: «Куда ты?! Брось её, проклятую!» Но Маркел не из тех, чтоб бросать, – держит Бабу, придавил коленом, она извивается, кричит, огнём обжигает… Но только всё меньше и меньше, и тише и тише… Пока совсем не догорела. Прибежали пожарные сторожа, «Где?», «Кто?» кричат, а уже нет ничего, так, только немного пепла на снегу, и ещё стоит Маркел в нижних портах и в обгорелой на брюхе рубахе. – Что такое?! – гневаются сторожа. – Почему небрежение огня?! Кто виноват?! Мартын, дворский, выбежал вперёд, и зачастил: – Ребятки! Ребятки! Выпил человек, бегал с огнём, кричал, но мы его быстро уняли, он нам за всё заплатит!.. И так далее. И увёл пожарных сторожей, а Илья, который был при нём, сделал всем грозный знак расходиться. И все разошлись, Маркел и Параска тоже. Пришли в дом. Параска достала из печи тёплой воды, Маркел разделся и умылся с большего, они легли, затаились. Маркел задумался. Думы были невесёлые, потому что получалось, что теперь вообще ничего от Маркеловой поездки не осталось, одни уголья. Что делать?! И Параска как услышала! Встала, сходила к поставцу, налила чарку можжевеловки и поднесла Маркелу. Маркел выпил, сказал, что сразу сильно полегчало, они опять легли, и Параска опять быстро заснула, а Маркел так и пролежал всю ночь с открытыми глазами, думал.Глава 59
А утром вернулся князь Семён. Маркел как раз завтракал, когда вошёл Илья и сказал, что его зовут к князю. Маркел поперхнулся, чуть откашлялся, встал, широко перекрестился на Николу, взял шапку в руку и пошёл. Князь Семён сидел в приказе, у себя в ответной. Когда Маркел шёл по сеням, приказные все из своей двери смотрели. А Маркел вошёл в боярскую и поклонился, и даже помёл по полу шапкой. – Ну что? – спросил князь Семён. Маркел виновато молчал. – Показывай, – сказал князь Семён. – Что показывать? – спросил Маркел. – За чем посылали, то и показывай, чего ещё. – Нет ничего, – сказал Маркел. – Всё вчера сгорело, государь боярин. – Нет, не всё, – сказал с усмешкой князь Семён. – Вот что нашли в сугробе. Кто-то затоптал, не знаю, не нарочно ли… С этими словами князь Семён показал у себя на ладони маленькую головешку и спросил: – Эта? – Да как сказать, – начал было Маркел… – Скажи как есть! Маркел молчал. – Котька! – громко позвал князь Семён. В дверь вошёл Котька, опять с бумагой и пером, и сел у двери к столику. – Читал я его вчерашнее писание, – сказал князь Семён уже не таким грозным голосом. – И болтовню твою вчерашнюю слушал, добрые люди передали. Но что нам те добрые люди? Мы хотим сами всё услышать и в дело подшить. Тут он кивнул Котьке. Котька заскрипел пером, записывал вроде того, что лета 7104-го от Сотворения мира, марта двадцать второго дня у нас в Разбойном приказе в ответной палате слушан был стряпчий… Или уже бывший стряпчий, подумал Маркел, нет, всё-таки пока что ещё нынешний… – Ну! – строго сказал князь Семён. – Начинай! И Маркел начал – подробно, обстоятельно, рассказывать про всё-всё-всё, и рассказывал долго, князю Семёну дважды приносили перекус, а Котька так же дважды перекладывал перо из правой руки в левую и обратно, а Маркел всё рассказывал и рассказывал, ничего не пропускал, только опять не стал рассказывать про то, как он служил шайтанщиком при Великой Богине, а сразу перескочил на то, как он вернулся к Ермоле… Ну и так далее и далее и далее. Так что если кому хочется узнать подробнее, то дальше смотри Разбойные бумаги за 7104 год, короб восьмой, связка девятая, там всё хранится в целости-сохранности, приходи и спрашивай, тебе покажут. А всем остальным просто скажем, что дальше у них было вот что: выслушав Маркела, князь Семён крепко задумался и думал долго, а после сказал, что Маркел пока свободен, но всё равно чтобы никуда не уезжал и не уходил, а всё время был бы под рукой. Маркел пришёл домой угрюмый, неразговорчивый, лёг спать… И ему приснилась Золотая Баба. Она сидела возле щовала, но это был другой щовал и другая пещера, да и сама Баба была какая-то немного не такая. Она смотрела на Маркела и молчала. Маркелу стало зябко, он проснулся, разбудил Параску, и та сразу разгадала сон: это, она сказала, ваша Баба не сгорела, а живая и здоровая вернулась к своему Студёному морю, нашла там себе новое тайное место, а на старом её не ищите, не то хуже будет, в другой раз она всю Москву спалит! Маркел задумался. Параска повернулась на другой бок и опять заснула, а Маркел ещё долго не спал, лежал и думал над её словами. На следующий день Маркела опять позвали к князю Семёну. На этот раз князь Семён был не один, а с ним сидел Щелкалов. – Ну что? – спросил князь Семён. – Надумал что-нибудь? – Я-то нет, ничего не надумал, – ответил Маркел. – А вот моя Параска надумала. И рассказал про свой сон и про то, как Параска его разгадала. Бояре переглянулись, помолчали, и князь Семён сказал: – Дурь какая! А Щелкалов прибавил: – Вот что значит слушать баб, хоть наших простых, а хоть и золотых вогульских! – Винюсь, – скромно сказал Маркел. – Но, – продолжал Щелкалов, – что нам та Баба?! Мы же не для того тебя туда посылали, чтобы ты нам оттуда баб возил, а чтобы тамошние князьки одумались и перестали раздавать ясак налево и направо. И вот тут, я чувствую, дело вскорости пойдёт на лад. Славно Волынский их прищучил! Да и кто такой Лугуй? Это же, как теперь всем известно, мы тогда не Лугую грамоту на княжение давали, а его брату Чухпелеку. А если так, то не Лугуй, а Чухпелек законный князь вогульский, а если он уже преставился, то на его место надо его старшего наследника садить, а таковым, как мы знаем, является его сын Артанзей, младенец двух лет от роду. Поэтому теперь вот что: мы даём тебе грамоту на Артанзеево имя, и ты завтра едешь в Куноват, и срочно! Маркел зажмурился. В боку опять резануло. Маркел пошатнулся. – Э! – сказал Щелкалов очень недовольным голосом. – Что это такое?! – Повернулся к князю Семёну и продолжил: – Чего это у тебя люди такие хлипкие? Ну и ладно, и не надо, своего пошлём. – И, повернувшись к Маркелу, закончил: – А ты иди, иди, без тебя разберёмся. Маркел вышел и пошёл домой. После он от Котьки слышал, что в Куноват послали другого человека, из Посольского приказа. А ещё после слышал, что остяки и вогулы выплатили в срок весь ясак, и этому другому человеку, Ваньке Куцкому, за его усердие выдали двадцать аршин камки и достакан жемчуга окатного. Вот, в сердцах думал Маркел, было бы Нюське на приданое, князь Семён ему так и сказал, да ещё и посмеялся. Одно было у Маркела радостно – двадцать пятого марта, на Благовещение, Параска разродилась сыночком. А ещё через две недели, на святого Нифонта Печёрского, они понесли его крестить. Котька был крёстным, Демьяниха крёстной. Но только сошли во двор, как вдруг от ворот бежит Илья, кричит: – Маркел! Маркел! Князь срочно зовёт к себе! Дело великое! Скорей! И что ты тут будешь делать? Маркел побежал. А что тогда было за дело, об этом в другой раз расскажем. А Золотая Баба? Нет, её больше нигде не видели. А если и подавали такие бумаги, что будто бы видели, то князь Семён грозно кривился и говорил, что такой Бабы на свете больше уже нет, сгорела, тому было много свидетелей, и мы с той поры такие дела к разбору не берём. А Щелкалов прибавлял: – И правильно!Сергей Алексеевич Булыга Персидское дело
© Булыга С.А., 2020 © ООО «Издательство «Вече», 2020Глава 1
16 апреля 1593 года, в первый день Пасхальной седмицы, Маркел проснулся злой-презлой и сразу сел на лавке и долго молчал. После встал и заходил по горнице, опять молчал. Потом так же молча завтракал. Параска извелась, на него глядючи, но тоже за всё утро ни словечка не промолвила, потому что знала, что Маркел не любит, когда в доме шумно. Потом соседкам говорила: он как чуял! А тогда вдруг прибежал Егорка, приказный посыльный, и сказал, что князь Семён велит срочно идти на службу. Маркел ещё сильнее почернел, но ничего не ответил, собрался и пошёл. Параска смотрела ему вслед, кусала губы. Да! А служил Маркел в Разбойном приказе стряпчим. Ходить на службу ему было близко – по Кремлю, от князя Семёнова подворья через Соборную площадь к Приказным палатам, а там третье крыльцо налево, на второй этаж. Ведал Разбойным приказом князь Семён Михайлович Лобанов-Ростовский, сын князя Михаила Борисовича, матёрого душегуба опричного, как он сам себя когда-то называл. А вот теперь его сын князь Семён срочно велел подать к нему Маркела. И это назавтра сразу после Пасхи, между прочим, вот какая тогда была спешность! Что у них там такое стряслось, сердито думал Маркел, идя следом за Егоркой. Егорка ничего не говорил, и поэтому они всю дорогу прошли молча. Поднявшись на второй этаж, Маркел зашёл к себе в палату, снял шапку и утёрся ею. В палате сидел один только Котька, младший подьячий. Увидев Маркела, Котька будто с удивлением спросил: – Где это тебя пчёлы покусали? – Какие пчёлы по такой весне?! – сердито ответил Маркел. – А чего ты тогда такой опухший? – уже с ухмылкой сказал Котька. – Перебрал? Вот скотина, подумал Маркел, а вслух ни слова не промолвил, прошёл, сел к своему столу и покосился на дверь. В дверь никто пока что не входил. – Говорят, – продолжил Котька, – дело какое-то большое затевается. Маркел ничего не ответил. Не любил он с Котькой языком трепать, а то с ним только заведи… Но тут в дверь вошёл Степан и поманил Маркела пальцем. Маркел встал, перекрестился и пошёл. Выйдя в сени, Маркел подошёл к двери напротив. Рында, стоявший возле той двери, открыл её. Маркел вошёл туда и поклонился великим обычаем, после распрямился и прижал шапку к груди. Напротив Маркела, на мягкой лавке с подлокотниками, сидел князь Семён, судья Разбойного приказа. Князь молча смотрел на Маркела. Маркел ещё раз поклонился, ещё ниже. – Э! – строго сказал князь Семён. – Не паясничай. Маркел молча заморгал. – Чуешь? – спросил князь Семён. Маркел пожал плечами. – Значит, чуешь, – сказал князь Семён. – И это хорошо. Да и чего тебе моргать? Дело на этот раз очень простое – съездить в Персию и привезти оттуда слона, вот и всё. – Кого? – переспросил Маркел. – Слона, – повторил князь Семён. – Это такой зверь персидский. Зверь мирный! На нём персидские девки-царевны катаются. А теперь персидский царь дарит его нашему царю. Дело обычное, цари один другому часто подарки дарят. И подарки разные бывают: бывает, дарят золото, бывает – чудеса какие-нибудь, диковины и прочую другую мелочь. А тут вдруг сразу слон, от слона много почёта. Понял? Маркел молчал. Князь Семён строго нахмурился, сказал: – И чего это я тебя уговариваю? Я тебе сказал, что надо делать, и ты теперь иди и делай. То бишь сейчас пойдёшь в Посольский приказ, там в персидском повытье сидит человек, Илья Клюев, он тебе всё расскажет. И поедешь куда будет велено! Маркел негромко вздохнул, приложил руку ко лбу, спросил: – Когда ехать? – Завтра, – ответил князь уже почти весёлым голосом. – Мы же не звери. И тут чего собираться? Это же не в Сибирь ехать, а в Персию, там круглый год тепло, кругом яблоки растут, изюм. А слонов ты видел? Маркел помотал головой, что не видел. – Вот как раз и посмотришь, – сказал князь Семён. – Слон же зверина учёная: ему, говорят, свистнешь, и он на задние ножки встаёт, гикнешь – и он ниц ложится. Так что с ним в дороге не соскучишься. А сюда вернёшься, царь тебя пожалует. Не пожалеет, мне сказали, ничего, только бы ты скорей обернулся. И чтобы всё ловко сошлось, конечно, а то одни туда поехали, взяли слона, повезли, а он сдох в дороге. – От чего сдох? – спросил Маркел. – Затосковал и сдох, – ответил князь Семён. – Ещё в прошлом году, под Саратовом. От них до нас как раз на полдороге. Потому что это же надо было только сообразить – гнать зверя в такую даль пешком! Хорошо, что не нам это тогда поручили, а посольским, и они за это и ответили. Федьку Ряпунина знаешь? Маркел опять промолчал. – И хорошо, что не знаешь, – сказал князь Семён. – Теперь этот Федька на чепи сидит, держат его в расспросе. Очень строго! А в прошлом году был иерой! Я, говорил, сведу его! И свёл. Князь замолчал. Господи, подумал Маркел, за что мне ещё это? Я разве мало, Господи… Но тут князь продолжил: – Этот Федька, может, и не виноват совсем, он же теперь говорит, что это его так персияне научили. Мы, они говорили ему, своих слонов из Индии приводим своим ходом. Так почему бы и ему так же не сделать, они говорили. – А почему бы им ему не пособить? – спросил Маркел. – Э, – усмехнулся князь Семён. – Так не в обычае. А в обычае так: посол к тебе приехал, ты его одариваешь, и он с твоими дарами сам по себе едет в своё отечество. И вот их посол приехал к нам, наш государь одарил его четырьмя кречетами, это очень дорогие птицы, сам знаешь, и они уже обученные, а это ещё дороже выйдет, а мы ему это в дар! И посол уехал, и привёз к себе, их государь был доволен и велел отдарить нам слона. И наш Федька взял и повёл. Но не довёл по глупости. Слон сдох! Вот какая незадача превеликая! Но их шах говорит: не беда, я дам ещё слона, взамен, приезжайте и берите. И мы сказали: приедем! И посудили-порядили, и решили, что лучше тебя никто с этим не справится. – А это… – начал было Маркел, но тут же замолчал, смутился. Князь Семён ещё раз усмехнулся и сказал: – Ты не робей. Я тут прикинул… Нельзя слона пешком гонять. Надо везти его сначала морем, это от них до Астрахани, а потом, уже у нас, сперва по Волге, это до Нижнего, а после на Оку свернуть, и тут по Москве-реке уже рукой подать. Маркел опять молчал. – Ну, что? – строго спросил князь Семён. Маркел ещё немного помолчал, потом сказал: – Так тяжелющие они, эти слоны. Никакой корабль их не выдержит. – Как это не выдержит?! – уже очень сердитым голосом спросил князь Семён. – Ты слонов видел когда-нибудь? – Не доводилось, – ответил Маркел. – А я спрашивал, – продолжил князь Семён. – И мне сказали, что не такая и махина этот слон. Шестипудовые мешки с зерном знаешь? Так вот: пятьдесят таких мешков – и это и есть самый матёрый слон. А в молодом слоне и сорока мешков не будет. А что такое сорок мешков для дощаника? Как пушинку повезёт! Маркел вздохнул. И князь Семён тоже вздохнул, потом таким же невесёлым голосом сказал: – Когда шах про того слона узнал, крепко обиделся. Поэтому второй слон сдохнуть никак не может. Да и ты не беспокойся! Ты же не один там будешь! Мы тебе стрельцов дадим и два струга, поедешь, заберёшь и вернёшься. И всё! И царь тебя щедро наградит, не поскупится, вот увидишь! Царь так и сказал: а пошлите к ним Косого! Косой, царь сказал, справится! Маркел подумал и спросил нетвёрдым голосом: – А что, царь про меня разве помнит? – А как же, – ответил князь Семён, отводя взгляд в сторону. – Да и дорога тут известная: сперва по Волге до Астрахани, потом по морю, потом в их стольный град Казвин, и там можно шаха не дожидаться, там же все уже предупреждены, сразу дадут запасного слона, и ты с ним как пристав поедешь. Прогонные дадим двойные, это здесь, до Нижнего, а от Нижнего уже поедешь с караваном, у тебя будет сотня стрельцов, четыре пушки, никто к вам не сунется, и так по Волге шесть недель, и ты уже в Астрахани, а там море, а сразу за морем Персия и слон. Давай, Маркел! Стрельцы уже неделю сидят в Нижнем, тебя ждут. И караван уже собран. Они двадцать пятого отходят, на преподобного Сильвестра Обнорского. – А если я к ним не успею? – спросил Маркел. – Как это не успеешь?! – удивился князь Семён. – Недели тебе будет мало, что ли? – Так до Нижнего разве неделя? Всегда было две! – А теперь будет одна, – сердито сказал князь Семён. – Иди! Клюев ждёт. Он там тебе всё растолкует! Маркел опять вздохнул, опять приложил руку ко лбу, развернулся и вышел. В сенях надел шапку и, не заходя к себе, пошёл в Посольский приказ.Глава 2
Это было рядом, через двор, напротив Архангельского собора. Посольские, чего и говорить, жили зажиточно: у них были отдельные хоромы, и платили им почти что вдвое больше, чем разбойным. Котькин старший брат служил в Посольском и много всяких чудес про них рассказывал. Иногда после таких рассказов… Ну да ладно! Маркел прошёл через площадь, подошёл к Посольскому крыльцу, поднялся по лестнице, сказал караульное слово, рынды расступились, он вошёл. В приёмных сенях было тихо. У рундука сидел стрелец. Маркел спросил про Клюева. Стрелец показал пальцем вверх. Маркел поднялся на второй этаж. Там стоял ещё один стрелец, который указал налево и сказал, что это третья дверь. Маркел прошёл по галерее, подошёл к третьей двери и постучался. Из-за двери послышалось: «Кто там?» Маркел, не отвечая, открыл дверь, вошёл, снял шапку и осмотрелся. В палате было только двое посольских – один, который постарше, сидел за столом, а второй, который помоложе, стоял рядом с ним. Стол был завален бумагами. Маркел кивнул малым обычаем и бодрым голосом сказал: – Бог в помощь. – В помощь Бог, воистину, – ответил старший, мягко улыбаясь. И это и есть Клюев, сразу же подумал Маркел, потому что ему сразу вспомнилось… Но об этом после! А пока Маркел назвал себя и прибавил, что у него дело. – Знаем, знаем, – сказал Клюев. – А как же! Садись! И он указал на ближайшую лавку, а после махнул ладошкой – и второй посольский сразу отступил к стене и так же вдоль той стены вышел. Дверь сама собой за ним закрылась. Маркел сел на лавку. Клюев снова улыбнулся и спросил: – Про слона? Маркел кивнул. – По делу всё ясно? – По делу – всё, – сказал Маркел. – А вокруг дела – нет. – А что вокруг дела? – Много чего вокруг, – сказал Маркел. – Я же ни в Персии никогда не был, ни слонов никогда не видел, ни их повадок не знаю, ни чем их кормить, ни как с ними по-персиянски говорить – ничего я этого не знаю. – А и не надо тебе всего этого знать! – сказал Клюев. – В Персию тебя свезут, а ты только сиди, по сторонам поглядывай. И слона тебе дадут. Даже, сказали, дадут на выбор. А повадка, как Ряпунин говорит, у них одна – ногами топать и в хобот дудеть. – А что такое хобот? – Длинный нос до земли. И вертлявый, как змея. Он этим хоботом тебя берёт и к себе на спину сажает. И ты ему по загривку стучишь, за уши тянешь, и он едет, куда велено. И всё. – А чем кормить? – Люди покормят. Да и слон зверь не привередливый: его в поле выпусти, он сам пасётся. А так репу ему, брюкву, капусту, морковь, и так, когда оголодает, листья с кустов. И пиво! И винишко хлебное. Но тут не напастись, он ведро зараз выпивает. Маркел утёр лоб и спросил: – А пьяный он какой? – Весёлый. – Это хорошо, – сказал Маркел, подумал и ещё спросил: – А тот, первый, как сдох? – Очень просто, – сказал Клюев. – Долго они шли, не торопились, и наступили холода, а слон – это индийский зверь, он любит, когда тепло, а тут вдруг снег. Ну, он и замёрз, стал кашлять, а после совсем издох. – А государь боярин говорил, – сказал Маркел, – что слон утомился так долго идти. – И это тоже было, – сказал Клюев. – А что Ряпунин говорит? Клюев помолчал, подумал и ответил, что Ряпунин пока на чепи, а это значит, что его дело ещё не закрыто и обсуждать его нельзя. – Так, может, подождать пока? – сказал Маркел. – Вдруг потом Ряпунин чего скажет важного? Клюев в ответ на это только хмыкнул, помолчал немного и сказал, что если ещё неделю потерять, то потом, на обратном пути, можно опять попасть в морозы, и придётся зимовать на Волге, и в Москву вернёшься только через год. – Как этот так?! – сказал Маркел. – А вот так, – ответил Клюев. – Чтобы второго слона не лишиться. Ведь тогда что? Посол приедет и спросит, где слон, а мы что ему ответим? И получится, что они к нам со всей душой, как говорится, а мы со слоном разобраться не можем! Маркел замолчал, задумался. Клюев не сдержался и заговорил: – И это ещё не всё. Вот мы здесь сейчас сидим, лясы точим, а позавчера был гонец и сказал, что из Персии идёт ещё один посол, и нам его уже скоро встречать, и как тогда быть без слона? Что о нас посол подумает? Потому что знаешь, что такое слон? Знаешь, какие у него клыки? Как сабли! А ногой вот так вот топнет, и от тебя один блин останется! Вот какое нам чудо сулят! Вот, говорят, какая между нами будет дружба, и когда станем за один, тогда крымский хан… А так что? Вот приедет персидский посол, начнёт спрашивать, где слон, что мы ему покажем? Ничего! И что тогда посол подумает? Что не понравился нам ихний слон, значит, не будет у нас с ними дружбы, развернётся и уедет! А нам он ох как нужен! А то опять придёт турка, наведёт татар, татары перейдут через Оку и, как в позапрошлом году, дойдут до Коломны и всё спалят! А то пройдут и дальше, и как, ну, ты этого уже не помнишь, сопляком был, когда они всё здесь спалили! Ничего от Москвы не осталось, одни головешки! А всё из-за этого слона, если ты его не приведёшь! А приведёшь, и шах обрадуется, соберёт несметное войско, пойдёт на Табриз, на Шемаху, на Дербент! А там, может, и на Крым! И нам сразу облегчение. Понял теперь, зачем тебя за слоном посылаем? – Понял! – сердито ответил Маркел. И ещё сердитее прибавил: – Не могли раньше послать? – А вот, значит, не могли! – так же сердито сказал Клюев. – Зима была дружная, лютая, только на той неделе лёд сошёл. Зато теперь тебе прямая открытая дорога до самойПерсии! Маркел снова приложил руку ко лбу, поморщился. А Клюев вдруг вскочил и посмотрел на дверь. Маркел тоже обернулся и увидел, как дверь будто сама по себе растворилась… И в палату вошёл – Маркел его сразу узнал – государев думный дьяк Андрей Щелкалов, он же судья Посольского приказа и старший брат Васьки Щелкалова. Маркел встал и поклонился в пояс, а сам при этом подумал: для Васьки место держит, а сам уже чуть ходит. И Клюев, наверное, тоже об этом подумал, потому что подскочил и пододвинул к Щелкалову лавку. Щелкалов сел на неё, усмехнулся и сказал с усмешкой: – Маркел, Петров сын Косой? – Он самый, – ответил Маркел. – У князя Семёна стряпчим? – спросил Щелкалов и тут же прибавил: – А в стольники ещё не собираешься? Маркел промолчал, смутился. А Щелкалов продолжал: – А государь тебя помнит, как ты в Углич езживал и тамошних злодеев сыскивал. – Так я это… – начал Маркел. – Ладно, ладно! – перебил его Щелкалов. И вдруг усмехнулся и спросил: – Ну как, подобру вчера отпраздновал? – Да, слава Богу. – Вот и славно. А теперь пора за дело браться. Это было сказано уже серьёзным голосом, даже почти сердитым. Маркел стоял, мял в руках шапку и помалкивал. А Щелкалов продолжал: – Свезло тебе, Маркел. На великое дело тебя подвигаем. На слона! И это же не просто слон! Другие же державы как? Норовят схитрить, а то и хуже того. Хуже – это когда дарят деньги, будто у нас их не хватает. Да и что такое деньги? Это когда старший платит за службу младшему. Поэтому мы денег не берём, и другие это знают, и нам их не шлют. Шлют золотую посуду, шлют кубки, самоцветы, дорогие ткани, диковинных зверей. Но зверь зверю тоже рознь! Вот, помню, цесарский посол преподнёс покойной государыне говорящую птичку в золочёной клетке. И что дальше? Птичка неделю прыгала, плевалась, ничего понятного не говорила, а после как-то исхитрилась, открыла дверцу и улетела. Так, кстати, и тот цесарский посол уехал не простившись. С тех пор птичек не берём. Коней тоже не берём, кони у нас свои. Тогда эти думают: как быть? И Лисавета, аглицкая царь-девица, придумала вот что: посулилась прислать льва. Живого! И вот мы сидим, ждём-пождём… А после приезжают её люди и привозят двух собак меделянских, и говоря, что это львы. Вот так! Тут Щелкалов тряхнул головой и задумался. Наверное, вспомнил, как всё это было. Маркел не удержался и спросил, что было дальше. – Ну как что? – в сердцах сказал Щелкалов. – Спустили на них наших волкодавов, и порвали они тех паршивых псов в мелкие клочья. Потому что это разве звери? Вот слон – это настоящий зверь, царский. У него и вид величественный, ходит как живая башня, дудит в хобот, бивнями помахивает. Это сила! И сразу понятно, что кто дарит нам слона, тот желает нам силы и мощи и готов с нами своей силой и своей мощью делиться. То есть это очень хорошо, нельзя такую дружбу отвергать. И слонов нам не дарил ещё никто ни разу! Дарили скаковых коней породистых, но куда это наш царь будет скакать? Не к лицу это царю! Царь сидит на троне, в одной руке у него скипетр, в другой держава, слон приходит к нему и кланяется. Дозволь, как говорится, послужить. Вот это красота, вот это дело! Это вам не цесарский попугай и не аглицкий догус. Нельзя такой случай упускать, и хоть времени мало, Маркел, но у нас уже почти всё готово, и мы бы и кому другому это дело поручили, но у тебя лёгкая рука, да и за тебя сам царь словечко замолвил, поэтому… И тут Щелкалов поднял руку и начал, загибая пальцы, называть: – Завтра дадим тебе сундук и ключ от сундука, это раз, и также опасную грамоту, два, и царскую грамоту… Или мою? Моей им хватит, Клюев? Тот пожал плечами. – А! – ещё подумавши, сказал Щелкалов. – Напишите ему две, такую и такую, чтобы не было бесчестья. – И опять повернувшись к Маркелу, прибавил: – Не робей! Тебе же к шаху не ходить, а ты приедешь в Персию, там тебя встретит наш человек и отведёт куда надо, там у тебя возьмут сундук, а вместо него дадут слона, ты его возьмёшь и привезёшь сюда, вот и всё. – А как я найду этого нашего человека? – спросил Маркел. – Он сам тебя найдёт, – сказал Щелкалов. – А как я узнаю, что это он? – Там тебе это будет понятно. Да и это тебя не касается, тот человек сам всё сделает, ты только его слушайся. Маркел вздохнул. Щелкалов усмехнулся и прибавил: – Если молчишь – значит, тебе всё ясно. И повернувшись к Клюеву, кивнул. Клюев порылся на столе, нашёл нужную бумагу и подал Маркелу. Маркел развернул её. Это была подорожная, и в ней было так: «По Государеву Царёву и Великого Князя указу по дороге от Москвы через Новгород Низовския Земли, Казань, Самару, Саратов, Царицын, Астрахань и далее, куда будет указано, везде, не издержав ни часу, моему верному слуге Маркелу Петрову сыну Косому никому нигде препону не чинить, а служить верно и скоро, а буде надобны ему корабль и люди ратные, то давать и того и другого в достатке. Писано на Москве лета 7101 апреля в 16 день». Прочитав, Маркел свернул бумагу и задумался, потом спросил: – А если я того человека вдруг не встречу, тогда что? Щелкалов помрачнел, сказал: – Больно умён ты стал! Иди! Маркел вздохнул, поклонился поясным обычаем, развернулся и пошёл. Шёл и вздыхал задумчиво.Глава 3
Маркел пришёл домой задумчивый, молча пообедал и лёг отдохнуть. Но не отдыхалось. В голову лезла всякая дрянь! А тут ещё подошла Параска, села в головах и затаилась. Маркел долго терпел, потом не выдержал, спросил: – Чего тебе? – Так просто, – сказала Параска и заморгала быстро-быстро. Маркел аж почернел от злости, приказал: – Ты мне это брось! Параска поджала губы, встала, пошла одеваться. Одевалась долго, примерялась, одно надевала, другое снимала, сундук так и брякал крышкой. Маркел лежал, не поднимался. Наконец Параска собралась и вышла и напоследок бабахнула дверью. Ты у меня ещё добабахаешься, гневно подумал Маркел, но и не подумал вставать. А что? Теперь, когда никого в доме не было, Маркелу стало легче. Теперь он лежал как хотел и сколько хотел покряхывал, сколько хотел повздыхивал, и никто его не терзал, не спрашивал, что это с ним такое. А вот такое, и всё, думал он. А вот сейчас пойду в кабак, а вот… Но дальше мысль не шла. Да и, думалось, какой кабак, если завтра ехать в Персию имать слона. А слон – это вам не шутка! Маркел знает, что такое слон! Маркел… Ну и так далее. И далее Маркел не думал, потому что было боязно. Робость его брала, вот что! Даже себе не решался признаться, потому что… Да! Вот так. Лежал и помалкивал, только иногда повздыхивал. И ещё: Маркел всё чаще думал, что скорее бы пришла Параска. И она пришла! Сперва застучали по ступенькам каблучки, после одна дверь бухнула, вторая мягко скрипнула, вошла Параска и весёлым голосом спросила, не накрывать ли на стол. Маркел сказал, что накрывать, и тоже весело. Но, это сразу чуялось, что у неё, что у него настоящего веселья в душе не было, а было одно притворство. Ну ещё бы, подумал Маркел. А Параска кликнула Маруську, Маруська стала вынимать на стол. Маркел вышел из-за загородки, сел к столу, на своё место. А Параска на своё, после обернулась и сказала, что Маруська ей сегодня больше не нужна. Маруська обрадовалась, стащила с вешалки свою шубейку и, на ходу одеваясь, выскочила в дверь. Дверь хлопнула. А когда хлопнула вторая дверь, Параска тихо сказала: – Я всё знаю. Они тебя к кызылбашам отправили. – Не к кызылбашам, а к персиянам, – так же тихо, но строго поправил Маркел. И так же строго посмотрел. Но Параска всё равно сказала: – Они уморить тебя хотят. – Чему быть, того не миновать, – сказал Маркел. Потом прибавил: – Князь Семён сказал, что даст двойные прогоны. – А кому эти прогоны получать? Чего сам не едет, если там так сладко? – У него здесь много дел. – Ой-ой! Видали мы его дела! Знаешь, что у нас о нём болтают? – Вот то-то и оно, что болтают! – не стерпел Маркел. – А он нам даёт прогоны! А Щелкалов говорит, что сам государь про меня помнит! – Ещё бы! Как не помнить? Где ещё найти такого дурня, который… И тут Параска замолчала, чутко прислушалась, потом тихо сказала: – Кто-то по крыльцу идёт! Маркел прислушался – и точно! Кто-то шёл. Потом открылась одна дверь, потом вторая – и в горницу вошёл Филька Земля, немного выпивший, посмотрел на стол и весело сказал: – О! Как я вовремя! – А ты всегда такой! – строго ответила Параска. Она Фильку очень не любила, говорила, это он Маркела сводит. А Маркел на это обижался и покрикивал, что он свою норму сам знает! И вот опять, Маркел подумал, начинается! Но удержался и сказал: – Здоровы будем! Филька ответил, что и вам здоровы, ещё раз осмотрел накрытый стол и спросил, к чему это. – Уезжаю я, – сказал Маркел. – За это надо выпить, – сказал Филька. – У тебя только одно на уме! – со злом сказала Параска. – Почему одно? – удивился Филька. – Я и закусить не против. И не спросясь сел к столу. – Э! – строго сказал Маркел. Филька сразу поднялся. – Сиди! – сказал Маркел. Филька опять сел. Маркел вздохнул и продолжал: – К персиянам меня посылают. В Кызылбаши. – Зачем? – Слона оттуда привезти. – О! – сказал Филька. – Слона! Тяжёлая это штуковина – слон. Как бы ты с ним на надорвался! – Так я же не один, – сказал Маркел. – Мне для этого стрельцов дают. Две полсотни. – И тотчас же спросил: – А ты что, слона видел? – Не видел бы, не говорил, – ответил Филька со значением. И посмотрел на стол. Маркел кивнул Параске. Параска встала, принесла баклажку и два шкалика. Маркел налил, кивнул Фильке. – Первая – за хозяев, – сказал Филька. Они чокнулись и выпили. После чего Маркел сразу спросил: – Ну?! Филька понимающе кивнул, утёрся рукавом и начал: – Это давнишняя история. У вас на приказе тогда ещё Михаил Борисович сидел, Семёна Михаловича родитель. А великий государь сидел на царстве. И вот великому государю однажды говорят, что есть-де такой страшный зверь, называется слон, его никто не одолеет, у него зубы как сабли, ноги как столбы, нос как змея, уши как лопухи, глаза огнём горят, как на кого глянет, так того и сжёг! – Иди ты! – сказал Маркел. – Ну, не сжёг, а ослепил, – не стал спорить Филька. И утёрся. Маркел не налил. Филька недовольно хмыкнул, но продолжил: – И вот великий государь Иван Васильевич созвал бояр и говорит: где бы мне этого зверя найти? Бояре отвечают: в Кызылбашах, сиречь в Персии. Но за него много просят. Иван Васильевич в ответ: а я не постою! И коли слово сказано, тогда за ним сразу и дело: снарядил великий государь кораблик, посадил на него торгового человека Андрюшку Хозникова, дал ему пятьсот ручных пищалей, сто пушек… Сменять на слона! В Кызылбашах. Очень хотел великий государь, чтобы у него был слон! Да только Господь иначе рассудил: Андрюшка пошёл в Кызылбаши и не вернулся. Ждал его великий государь, ждал, ждал, но так и не дождался. И опять созывает бояр, говорит: что же вы… Ну, ты слышал, как он говорил. Переполошились бояре! Не знают, что делать! И вдруг один боярин говорит: а я знаю, мне мои люди сказывали, они только что с Волги вернулись, говорят, они на свои глаза видели, что у казанского царя есть слон! В Казани-городе, в тамошнем кремле, в высокой загородке. Наш великий государь сразу обрадовался, говорит: пойду на казанского царя, отниму у него слона и заодно и всё остальное его царство запишу под себя! И началось! Собрали несметное войско, пришли под Казань, обложили её со всех сторон, стали под неё подкоп копать, мину закладывать, после рванули мину, развалился тамошний Казанский кремль, наши вошли в Казань и видят: лежит посреди неё убитый слон. Вот так оно тогда в Казани было: придавило слона кирпичами, когда мина стену обрушила, когда наши Казань брали. Вот чем оно тогда кончилось: стала у великого царя Казань, а вот слона не стало. А потом и самого царя тоже не стало! Прости, Господи! Тут Филька сам взял баклажку, сам налил Маркелу и себе, сам выпил и продолжил громким голосом: – А вот теперь смотри, как всё вдруг вернулось обратно: теперь уже наш славный государь Феодор Иванович такое же затеял – завести себе слона, народ потешить. Теперь у нас будет свой слон! А слон – это такая махина… И тут он только рукой махнул. Маркел не удержался и спросил: – Так ты его видел? – Если б видел, он бы меня сжёг, – ответил Филька. – Вот какой у него взгляд был пронзительный. Налей! Маркел налил, и они выпили. Но когда Филька начал закусывать, Маркел сделал вот так рукой. Но Филька всё равно сперва доел кусок и только потом уже сказал почти сердитым голосом: – Зря ты, Маркел Петрович, меня прогоняешь. Я про слонов много чего знаю, могу до утра рассказывать и всё не расскажу. Маркел усмехнулся и сказал: – Вот я того и боюсь, что ты мне покоя не дашь. – А про Казань запомни! – сказал Филька. – И запомню, – ответил Маркел. Филька встал от стола, взялся за шапку, поклонился Маркелу, Параске, развернулся и пошёл из дома. Маркел сидел, смотрел на свечу (уже зажгли) и помаргивал. И долго так сидел, молчал! Потом приложил руку ко лбу, потёр лоб, тяжело вздохнул. Параска сказала с осуждением: – Что, опять перебрал? Целый день за голову хватаешься! – А! – сердито ответил Маркел. – Ещё бы не хвататься! Мне же такой гадкий сон нынче ночью приснился! Просто страх! И уже только хотел рассказать, как вдруг пришла Нюська, повертелась, примерила материнский платок бухарский – и сразу в дверь. – Куда?! – строго окликнула Параска. А та ответила: – Схожу к соседям. – Ты у меня доходишься! – строго пригрозила Параска. – Отца невесть куда посылают – может, в последний раз его видишь, – а в голове всё соседи! Постеснялась бы! Нюська села к столу, насупилась. Параска принесла ей морсу. А себе наливочки. А Маркелу освежила шкалик. Маркел выпил, сказал: – Доставай бирюльки! Достали, начали таскать на интерес. У Маркела тряслись руки, он то и дело обжигался, Нюська смеялась, щёлкала его по носу. А Параска – та, наоборот, сидела мрачная и то и дело вздыхала. Наконец Нюська натешилась, пошла к себе. Было слышно, как она легла, как под ней лежанка заскрипела. Здоровая девка, подумал Маркел, пора уже ей на приданое откладывать. А какие молодцы есть на примете! Вот даже взять того же Котьку Вислого. Это не смотри, что он дурака валяет, он может и не валять, и тогда ему цены нет! Даже сам князь Семён, бывало, говорит… И на виду всегда, у него же стол напротив. И у него брат в Посольском приказе, брат толковый, всегда пьёт с умом, не то что этот Клюев, Маркел на той неделе их обоих видел возле кабака, стояли обнявшись, и Васька Вислый был как огурчик, а Клюев пьян в лоскуты. А теперь вон как держался – как боярин. Тьфу! И опять в голове заревело, затопало. Маркел приложил руку ко лбу, поморщился. Параска, глядя на него, строго сказала: – Не жалеешь ты себя! Изведут они тебя, место твоё поделят. – Да какое место?! – сердито ответил Маркел. – Никто на моём месте не удержится. Кишка тонка! А вот… – и замолчал. – Ну, говори! – подхватила Параска. – Сон, ты сказал, тебе сегодня снился. Ну! Что было во сне? Маркел помолчал, набрался духу и ответил: – Я сегодня во сне зверя видел! Параска побелела вся, потому что сразу же учуяла, в чём дело, но всё равно спросила, что за зверь. И Маркел негромким голосом ответил: – Здоровенный серый бык с клыками и с длинным носом до самой земли. – Это он! – тихо воскликнула Параска. И спросила: – А что дальше? – Ну как что?! – сказал Маркел очень сердито. – Подошёл ко мне и говорит человеческим голосом, но не по-нашему. – По-персиянски? – спросила Параска. – Наверное, – сказал Маркел. – Но очень злобно! И давай меня клыками бить! А я за саблю! – Надо было убегать! – воскликнула Параска. – А куда?! – гневно вскричал Маркел. – Там же темно вокруг! А самое главное вот что: я же про слона тогда ещё слыхом не слыхивал, а он мне уже явился! К чему бы это? И Маркел опять взялся рукой за голову. А Параска, ничего уже не говоря, встала из-за стола, прошла за загородку, вынесла оттуда другую баклажку, стеклянную, нацедила из неё пол-шкалика и строго приказала: – Выпей! Это всегда полезно. И не дурит голову. Маркел понюхал и поморщился. – Пей! – строго сказала Параска. – Без меня и не такое пьёшь, а тут воротишь нос, боярин! Маркел выдохнул и выпил, и, уже ничуть не морщась, улыбнулся. Параска взяла его за руку. Маркел подался к Параске. Параска едва слышно прошептала: – Нюську нам не разбудить бы! И не разбудили. А потом Маркел заснул. Потом проснулся оттого, что почуял: заныло в боку. Маркел полез пощупать. Рана была старая, глубокая, ножом саданули, сволочи. И если бы не Параска, подумал Маркел, если бы не отвела она его к ведьме-шептухе, так бы и сдох тогда Маркел, как слон под Саратовом. Вот так! А так живой. И может, так же будет и с этой нынешней Персией – пронесёт, как гроза. Или что ещё проносит? Маркел хмыкнул и повеселел. И так он ещё долго лежал, вспоминал то одно, то другое, но, конечно, чаще про слона, всё то, что слышал про него за этот день, и боль в боку мало-помалу улеглась… А после вдруг опять приснился тот носатый бык с клыками, Маркел падал перед ним, а бык (конечно, слон) топал ногами и ревел, хватал Маркела хоботом и норовил ударить его оземь, но Маркел каждый раз вырывался, бежал по полю, поле было ровное, песчаное, ничего на нём не росло, а песок был вязкий, бежать по нему было очень непросто, и слон догонял Маркела и опять хватал, поднимал над собой и бросал, Маркел падал на песок, вставал…Глава 4
И утром проснулся потный, злой, руки дрожали. Параска посмотрела на него и только головой покачала. Маркел сел на лежанке и велел подать ему тёплой воды и бритву. – Что ты затеял?! – спросила Параска. – Бритву вели подать! – строго повторил Маркел. И тут же спросил, собрали его или нет. Параска с Нюськой взялись хлопотать. Маркел побрился, начал точить саблю. Обычно он ездил без сабли, с кистенём, а тут подумал: всё же Персия, посольство – и взял саблю. Потом он оделся, тоже в лучшее, ненадёванное, сел к столу, стол был уже накрыт, и один позавтракал, а Параска и Нюська стояли смотрели. Потом Маркел встал из-за стола, Параска вынесла Николу, древний образ, ещё от дяди Трофима, и, помолившись, подала Маркелу. Маркел приложился к образу, облобызал. Вошли люди, подняли узлы и понесли. Впереди людей шёл Филька и приказывал. И только они все сошли во двор, как появился Клюев. С ним были кремлёвские, стремянного полка стрельцы в белых кафтанах. Стрельцов было десять с десятником. И ещё было двое посольских, клюевских людей, эти стояли за стрельцами, и при них был кованый сундук. Маркел сразу же подумал, что это щелкаловский сундук, но Клюев ничего об этом не сказал, а сразу спросил: – Ну, как? Собрался? Маркел молча указал на своих людей с узлами. Клюев сказал, что это хорошо, и что им идти недалеко – на Москворецкую переправу, и их там давно уже ждут, поэтому надо поспешать. И они все сразу же пошли. Параска с Нюськой стояли на крыльце и не махали руками – Маркел не любил, когда машут. Дело серьёзное, думал Маркел, вон сколько стрельцов пригнали! И сундуков за ним ещё ни разу не на́шивали. А что в сундуке? А где грамоты? А где двойные прогоны? А то посулят, как обычно, а после руками разведут, скажут: не обессудь, Маркел, да и зачем они тебе, и так живёшь на всём готовом у князя Семёна на подворье, и никакой службы не служишь, ходишь в приказ когда захочешь, сядешь за стол, зеваешь, раз в год съездишь на дело, поймаешь злодея, вернёшься и опять сидишь себе и рёбра чешешь. Вот о чём Маркелу тогда думалось, когда они шли по Кремлю, а после проходили через Фроловские ворота, а там через Красную площадь и вниз, к Москворецким Китайским воротам, и там же была и переправа, а при переправе пристань и ряды. Они повернули к пристани. Торговли в рядах ещё почти что не было, но зато лодок на реке было уже достаточно. Клюев молча указал, куда сворачивать, и это получалось, что к реке, к самой воде. Они подошли туда. Народ перед ними расступался. Ну ещё бы, их же было вон сколько! И с Маркелом же тогда были стрельцы, и посольские шли с сундуком, а сундук был угловатый, кованый, поэтому они быстро прошли туда, куда им было надо, и остановились. Там у причала стояла посылка – большущая лодка, даже струг, мачта лежала ещё не поднятая, зато гребцы уже сидели по местам. Даже правильней – опять стрельцы, а не гребцы, потому что все были одеты по-стрелецки, но, правда, уже не в белых, а в простых красных кафтанах. Этих стрельцов-гребцов было с полтора десятка, все они как на подбор были плечистые, мордатые, смотрели нагло. Клюев поприветствовал этих стрельцов-молодцов всех одним разом и сказал, чтоб принимали. При этом клюевские люди выступили вперёд и поставили сундук на край причала. Ближайшие стрельцы-гребцы взяли сундук. – Полегче заноси! – прикрикнул на них Клюев. – Печать не повредите! А печать там была, конечно, красновосковая, государева, орлёная, на золотом шнуре, как и положено. Стрельцы с опаской понесли сундук к корме. Маркел посмотрел на Клюева. Клюев подал ему ключ. Ключ был большой, серебряный. Маркел зажал ключ в кулаке и уже хотел было спросить, щелкаловский ли это ключ… Но Клюев уже повернулся к Маркеловым людям и велел им подавать узлы. Узлы сложили на корме, туда, где уже стоял сундук и лежали ещё какие-то мешки, наверное с провизией. Маркел сошёл вниз, на струг, прошёл мимо бердышей и сел рядом с сундуком. Стрельцы-гребцы стали отталкиваться от берега. Филька командовал, давал советы. Кремлёвские стрельцы, стоявшие на берегу, держались вольно, щурились на солнце. Струг быстро отчалил. Рулевой, сидящий на корме, его звали Мефодий, весело сказал: – Гони, хромая! Стрельцы-гребцы навалились на вёсла. Маркел повернулся к стоящим на пристани. Филька махал ему рукой. Дурень, домашешься, сердито подумал Маркел, когда много машешь, всё размашешь! Филька как будто услышал, перестал махать. Вот так правильно, подумал Маркел, но всё равно не нравилось ему всё это, слишком много начальных людей в это дело набилось, а когда начальных много, тогда толку мало. Подумав так, Маркел снял шапку и огладил волосы. Мефодий повернулся к Маркелу и сказал: – А я тебя знаю. Ты у князя Семёна служишь. – Ну и что? – спросил Маркел. Мефодий помолчал, опять спросил: – Куда собрался? В Нижний? – Нет, дальше, – ответил Маркел. – Тогда, что ли, в Казань? – Не гадай, – сказал Маркел, – всё равно не угадаешь. – Эх! – помолчав, сказал Мефодий. – А нас дальше Нижнего никогда не посылают. Вот как государь о нас печётся. Маркел ничего не ответил, и на этом их разговор закончился. Мефодий сердито вздохнул, встал и прошёл вперёд, и приказал поднять мачту. Потом чтобы поставили парус. Ветер был попутный, свежий, стрельцы гребли справно. Синие шапки, зелёные сапоги, третий полк Василия Назарова, замоскворецкие, думал Маркел. А провожали их кремлёвские, белохребетники из первой сотни. Ну, те вообще из Кремля не выходят. И как это они на Москворецкую сподобились? Подумав так, Маркел усмехнулся и стал смотреть по сторонам, по берегам. Берега были очень знакомые, смотреть было скучно. Маркел заскучал. И так он скучал ещё неделю. А что было делать? Ветер дул ровно, река текла быстро, как она всегда весной течёт. Гребли день и ночь. Утром дошли до Коломны, остановились, московские (назаровские) стрельцы сошли – все, кроме Мефодия, – а вместо них взошли городовые, коломенские, сели на вёсла, Мефодий скомандовал – и коломенские навалились. Вскоре Москва-река закончилась и началась Ока. По Оке они сперва дошли до Переславля, и там переславские сменили коломенских, потом была Рязань, Терехов монастырь, Добрынино, Касимов, Муром… И Маркел мало-помалу повеселел. Ачто?! Дороги оставалось всего пару дней, места были тихие, погоды ясные, и даже Мефодий уже казался Маркелу не таким говорливым, а вполне даже рассудительным хозяином, который уже, может, с самой Рязани рассказывал о своих непростых домашних делах – как у него умер зять, сестра осталась вдовой, и как Мефодий её сватал, и как нашёлся добрый человек, они венчались, но как слобода того нового зятя не приняла, да тот и сам этого не очень-то хотел, мне, говорил, зачем эта стрелецкая служба, что это ещё за кабала такая, а вот он сейчас продаст дом, заберёт Мефодьеву сестру, уедет в Тверь, у него там полно родни… Ну и так далее. – Ты представляешь, – говорил Мефодий, – как мне теперь там жить? Хоть ты сам всё бросай и езжай за этим змеем в Тверь! Но у меня семья! У меня ребятёнок! Ребятёнок спит и видит, как я стану старым и он вместо меня пойдёт служить! А тут вдруг такая незадача! Маркел понимающе кивал. Так они доехали до Мурома. Муромские сменили касимовских, и когда они садились к вёслам, Маркел спросил, что у них в Муроме нового слышно. Муромские ответили, что ничего не слышно, вот только вчера добрые люди видели на том берегу Оки крымцев, и крымцы по ним даже стреляли, но ни в кого, слава богу, не попали, и сразу же скрылись куда-то. – Это их передовой разъезд, – сказал Мефодий. – Они не стреляли, а пугали. А сейчас они к своим ушли. Может, придут ещё через неделю, уже всей ордой, и ещё постреляют, чтобы наших в поле выманить. Но это не наше дело! Нам надо в Нижний! У нас ещё два дня осталось. Муромские сели по местам, Мефодий скомандовал, они стали грести. Вскоре начало темнеть. Потом стало совсем темно. Потом взошла луна. Муромские гребли споро, муромские были свежие. А на низком правом берегу ничего видно не было, там всё было в кустах, кусты были очень густые. Мефодий встал и приказал принять к нашему берегу. И тут вдруг засвистели стрелы! Мефодий закачался и упал. Маркел подхватил Мефодия и закричал стрелять. Муромские похватали пищали, открыли стрельбу. Но они стреляли наугад, конечно. Крымцы выскочили из кустов, или это так только показалось, и ускакали в степь. А Маркел приказал править к нашему берегу. На нашем берегу, в низинке, чтобы от татар видно не было, муромские развели костёр, Мефодия положили на кошму, достали из него стрелу. Мефодий начал тяжело дышать. Ему дали воды. Мефодий выпил и затих, долго лежал молчал, крови из него почти что совсем ничего не вытекло. Маркел сидел возле Мефодия, после поднялся и начал ходить взад-вперёд, смотреть на правый берег. Ничего там видно не было. Вдруг Маркела позвали к Мефодию. Маркел подошёл, сел рядом. Мефодий откашлялся, на губах у него сразу выступила кровь. Мефодий стёр её ладонью и сказал негромким голосом: – А я знаю, куда ты собрался. Тебя за слоном послали, в Персию. Так это? – Да, – сказал Маркел. – Но разве слоны на свете бывают? – Конечно. – А какие они из себя? Маркел подумал и сказал: – Слон – это самый злобный зверь. Очень прожорливый! Зубы у него как сабли, нос у него длинный, как рука, и эта рука железная, её ничем не перерубишь. Из пасти у него огонь… И замолчал. Мефодий улыбался, а потом спросил: – Как же вы его брать будете? Маркел молчал. Мефодий снова улыбнулся и сказал: – А вы бердышами его! Бердышами! – Но тут же замолчал, подумал и прибавил с сожалением: – Шкуру попортите. Жаль шкуру. Маркел ничего не говорил. Мефодий заморгал, закашлялся, на губах у него стала вздуваться кровавая пена. – Воды! – велел Маркел. Подали воды. Маркел напоил Мефодия. Тому стало легче, он заговорил: – Когда обратно вернёшься, сходи к нам в слободу, спроси дом Мефодия Грибова, и там моя вдова Ульяна и мой ребятёнок. Ульяне ничего не говори, ей и без тебя всё расскажут, а ребятёнку скажи, что вот, мол, какой у тебя родитель храбрый был – один на слона пошёл, и слон его бивнем проткнул. А про татарина не говори, что тут такого славного. Не будешь говорить? Маркел помотал головой, что не будет. Мефодий сложил руки на груди, начал читать молитву. Слов слышно не было. Потом Мефодий перестал читать. Маркел подождал немного и закрыл ему глаза. Потом велел отнести Мефодия на струг. Было ещё совсем темно, но они не стали ждать светла, отчалили. Утром они пристали к ближайшей деревне, созвали народ, Маркел сказал, что надо им похоронить по чести раба Божьего и царского слугу Мефодия, и дал на это пять алтын. Но подумал и дал ещё три. После чего они опять взошли на струг и поплыли дальше. Плыли ещё два дня, ничего больше с ними не случалось – ни худого, ни доброго.Глава 5
А после, рано утром 25 апреля, на день, как и было оговорено, преподобного Сильвестра Обнорского, на правом высоком берегу Оки показался Нижний Новгород. Сперва Маркел увидел башенки и колоколенки, а после кремль, после посады. Вода на Оке стояла высокая, так что мелей можно было не бояться. Маркел скомандовал, струг взял резко правей, потом ещё правей, вышел с Оки на Волгу и дальше пошёл уже вдоль так называемых волжских пристаней. Маркел ещё скомандовал, убрали парус, положили мачту. Кораблей вдоль берега стояло видимо-невидимо, прибиться было негде. Маркел встал на корме, внимательно поглядывал по сторонам, гребцы мало-помалу подгребали. Так они прошли саженей двести, не меньше, и только после этого приметили небольшую прореху, резко свернули и влезли в неё, даже скорее втиснулись, ткнулись носом в причал и остановились. С соседних корабликов с опаской поглядывали на них. Ну ещё бы! Полный струг стрельцов! А Маркел, осмотревшись, спросил, ни к кому особенно не обращаясь: – А чего, братцы, стоим? Говорили же, что сегодня выходим. С правого кораблика на это промолчали, зато с левого ответили: – Приказа не было. Будет приказ, пойдём, а нет приказа, мы стоим. – А почему нет приказа? Левые на этот раз смолчали. Зато ответили правые: – Стережёмся мы, вот и стоим. Говорят, сегодня ночью на бывшей Собачьей мели люди видели недобрые кораблики, вот наши и пошли туда проверить, так это или нет. – И есаул туда пошёл? – А что вам есаул? Вы кто такие? – А ты не видишь? – с вызовом спросил Маркел и кивнул на стрельцов. И теперь замолчали и правые. Но Маркел уже не стал ничего спрашивать, а знаком подозвал к себе ближайшего стрельца, Василия, и очень негромким голосом велел ему сходить и найти есаула и сказать ему, что прибыл посыльный из Москвы с обещанным. Василий сошёл на пристань и пошёл вдоль берега вперёд. А Маркел вернулся на корму, сел возле сундука и положил на него руку. Люди с соседних корабликов смотрели на Маркела и молчали. Солнце стало пригревать, Маркел расстегнул шубу. Так прошло, может, с четверть часа, потом с носа сказали, что идут. Маркел прошёл на нос. И верно, вдоль причала возвращался его муромский Василий, и с ним шли другие, не наши стрельцы, а местные, наверное, от есаула. Так оно и оказалось. Маркел сошёл на берег, подошли эти стрельцы, их было тоже десяток, Василий сказал, что это наши, есаульные, а есаул у них – Пётр Кирюхин, здешний сотник. Стрельцы закивали. – А я, – сказал Маркел, – от государя я, вот кто! – И, показавши скрученную подорожную, прибавил: —Ведите меня к есаулу. И это тоже взять, – сказал он, указав на сундук. – И также эти узлы. Кирюхинские стрельцы взяли то, что было им приказано, и понесли вдоль пристани. Маркел пошёл за ними, а за Маркелом пошли муромские. Идти пришлось далековато. Маркел то и дело поглядывал вперёд, но головы, то есть начала каравана, видно не было. Пристань тянулась и тянулась вдоль реки, на берегу толокся народ, от кораблей воняло товарами, от одних воняло хорошо, а от других очень гадко. Особенно гадко воняли свежие кожи, а тут ещё солнце взошло высоко, вонять стало ещё сильнее. Эх, думал Маркел, вот что такое скупость, вот какой у неё дух! Но, правда, подумал он, ещё хуже воняют заповедные товары, а это свинец, железо, порох, медь, сера, олово, наконечники для копий, панцири, пищали, пули, да только где их выищешь и как их вынюхать, их же эти нелюди так ловко прячут, что попробуй найти! Вот примерно с такими мыслями Маркел тогда шёл и шёл мимо стругов, дощаников, коломенок, устюжинок, насадов, каюков, учанов, паузков… И так он ещё долго шёл – может, с полверсты, а то и всю версту, – пока дошёл, куда ему было надо, то есть до есаульного струга. А есаульный струг – это не просто струг! Он же широченный и устойчивый, с так называемой избой на корме, или, правильнее, с чердаком, то есть каморками для отдыха и клетями для товаров, а также с двумя затинными, то есть настенными пищалями, одной на носу и второй на корме. И вот возле такого славного кораблика стоял, судя по кафтану, местный сотенный начальный голова. Звали его, как было уже сказано, Пётр Кирюхин. Он так и назвал себя, да и ещё прибавил, что он головной есаул. Тогда и Маркел представился, назвав себя царским слугой, после чего достал свою подорожную и протянул Кирюхину. Но тот её в руки брать нестал, а только усмехнулся и сказал: – Наслышаны. Маркел обернулся на кирюхинских стрельцов с сундуком и узлами и велел им подниматься. Кирюхинские поднялись на струг, а дальше, как Кирюхин приказал, внесли всё это в чердак. Маркел повернулся к муромским, дал Степану, старшему у них, полтину и поблагодарил всех муромских за службу. Муромские поклонились, развернулись и пошли обратно. А Маркел и Кирюхин поднялись на струг. Там почти что никого видно не было, только на корме и на носу стояли караульные, а остальные, как сказал Кирюхин, пошли прогуляться. Маркел посмотрел на корму. Там, в чердаке, одна дверь была распахнута настежь, а возле второй, затворённой, стоял стрелец с бердышом. – Это там твоё обещанное, – сказал Кирюхин. – Присматриваем. Маркел сказал, что это очень хорошо, и сразу же спросил, что слышно про лихих людей на Собачьей мели. – Никого там нет, – сказал Кирюхин. – Люди наболтали всякого. Так что завтра поутру выходим. Маркел опять сказал, что это хорошо, а после прошёл на корму, к своему чердаку, открыл дверь, залез, проверил, как стоит сундук, а потом повернул его к свету и стал осматривать замок. И тут Кирюхин сзади вдруг сказал: – Государева печать слева примята. Маркел оглянулся на Кирюхина, а потом посмотрел на печать и подумал: и верно! И ещё подумал: чёрт глазастый! А Кирюхин усмехнулся и сказал: – Ну так сколько лет при этом деле! Поневоле навостришься. – И тут же прибавил: – У меня есть человек, может поправить. – Пусть будет так, как есть, – сказал Маркел. – Входи. Кирюхин наклонился и вошёл, точнее влез, и сел. Маркел сидел напротив. В чердаке было довольно сумрачно. Кирюхин усмехнулся и сказал: – Я про тебя много чего слышал. Ты, говорят, на три аршина сквозь землю видишь. – На четыре, – ответил Маркел. – А вот печать проморгал. – Так я же говорю, у меня есть человек… – Ладно, – сказал Маркел. – Чего там. Мне ещё долго ехать. А ты докуда меня везёшь? – До самого конца, – с улыбкой ответил Кирюхин. – Но я еду в Персию, – сказал Маркел. – Значит, довезу до Персии, – сказал Кирюхин. – А ты раньше в Персии бывал? – спросил Маркел. – Конечно. Почти каждый год бываю, – ответил Кирюхин. – И как там? – Тепло. – А слоны там водятся? – А что тебе слоны? – настороженно спросил Кирюхин. – Так, ничего, просто вдруг вспомнились, – сказал Маркел. – Эх! – сказал Кирюхин. – Я так и думал, что добром это не кончится. За слоном тебя послали, да? – И так как Маркел молчал, Кирюхин сердито продолжил: – В прошлом году одного уже посылали, так он и сейчас сидит в расспросе. На чепи! Ну да чего теперь! Теперь говорить уже поздно. Как государь велел, так и будет! Ладно, пойду гляну своих, а ты тут пока что устраивайся. Кирюхин встал и боком вылез наружу. А Маркел ещё немного посидел, подумал, опять посмотрел на государеву печать, на её примятый левый бок, и подумал, что было бы это самой большой бедой, ничего он больше не хотел бы! Да и сколько можно на эту печать смотреть, когда он человек подневольный и у него полным-полно разных дел?! Подумав так, Маркел обхватил сундук и сдвинул его подальше вглубь, к глухой стене, а уже после, тоже боком, кое-как вылез из чердака, строго глянул на стрельца, стоящего на карауле, и вышел со струга на пристань. Там, рядом, стоял Кирюхин с кем-то из своих стрельцов. Маркел сказал, что у него дела в кремле, развернулся и вошёл в толпу. Пройдя через толпу, Маркел вышел к гостиному двору, а там, мимо таможенной избы и кабака, прошёл вдоль амбаров, лавок, а после опять через толпу и в горку, в кремль, а там уже в приказную избу. Возле избы было много народа, но в саму избу не всех пускали. Маркел показал подорожную, даже не саму её, а только вислую печать при ней, и его сразу впустили. На лестнице, ведущей на второй этаж, плотно стояли люди, все молчали. Маркел прошёл мимо лестницы, свернул в закуток, постучался. Ему велели подождать. Он постучал ещё, уже настойчивей. За дверью ничего не говорили. Он вошёл. Это была здоровенная хоромина, не меньше Маркеловой разбойной, но тут было много столов, может, с десяток, и за каждым сидело по двое, а то и по трое подьячих. Маркел осмотрелся. Одни читали, другие что-то записывали, а третьи, и таких было немало, совсем ничего не делали, а только смотрели на Маркела. Маркел выбрал старшего из них, подошёл к нему и молча подал подорожную. Подьячий быстро прочитал её, кивнул Маркелу, Маркел сел на лавку, а тот вместе с подорожной вышел, но уже в другую дверь. В хоромине было по-прежнему тихо, уже никто ничего не делал. Маркел ждал. Открылась дальняя дверь, в ней показался тот подьячий. Маркел прошёл к нему… А дальше он поднялся по лестнице, на которой никто не стоял, вышел в просторные светлые сени, подьячий придержал Маркела, просвиристел свистящим голосом: «Семён Филиппович, наш государев дьяк», а после рында открыл дверь… И Маркел оказался в светлой, но почти пустой хоромине, где за пустым широченным столом сидел маленький сухонький человечек, одетый очень просто и в такой же простенькой скуфейке. В руках у человечка была Маркелова подорожная. Человечек, правильней – Семён Филиппович, взял подорожную, перевернул её на оборотную сторону и начал читать вслух: – «Маркел Петров сын Косой, родиною смолянин, полных годов 34, росту средний человек, волос русый, глаза серые, нос прям, лицом чист…» И замолчал, посмотрел на Маркела. Маркел смотрел прямо. Семён Филиппович ещё раз глянул в подорожную, потом посмотрел на Маркела, смотрел он очень пристально, и лишь потом уже сказал: – В персияне едешь. За слоном, наверное. Маркел повременил немного и кивнул. Семён Филиппович продолжил: – Прошлым летом один уже ездил. Слыхал про него? Маркел кивнул, что слыхал. – Вот! – уже насмешливо сказал Семён Филиппович. – Какая гордыня! И что тебе за это посулили? Маркел негромко вздохнул. – А вот мне, – сказал Семён Филиппович, – никогда ничего не сулят. Брать надо самому, а не тогда, когда тебе дают! – Но тут же опомнился, махнул рукой, в сердцах прибавил: – Да только кому я это говорю! И положил перед собой подорожную, распрямил её ладонью, взял перо, тюкнул в чернильницу и расписался. После припечатал перстневой печатью, протянул Маркелу и сказал: – Иди! Маркел поклонился, развернулся и ушёл. Спустился вниз, в подьячью, вышел из палаты, потом из кремля, потом спускался к пристани, шёл мимо лавок. И вдруг подумалось: а что, а ведь и верно! Он же с самого утра не евший! И остановился возле лавки, купил сладкий калач, сел на завалинке, перекусил. Но брюхо ещё сильнее разыгралось. А, подумал Маркел, надо же согреться. И зашёл в кабак, а тот как раз стоял рядом, как тут было пройти мимо? В кабаке Маркел взял шкалик, сел к столу. Отпил половинку, задумался. Думалось о всяком. За столом было много народу. Ещё бы, такой день, завтра уходят же! Маркел сидел помалкивал, по привычке слушал разговоры. Разговоры были немудрящие, как это обычно бывает. Крепко пьяных ещё не было, да и нехорошая это примета, если надрызгаться перед дорогой, подумалось. Потом стало про Параску думаться, про Нюську, замуж бы её, про Котьку Вислого, который не так уже плох. Это раньше, сразу же вспомнил Маркел, думалось, что надо выдать Нюську или за купца матёрого, или за сотника, а то и бери выше, потому что а что? А вот съездит он и привезёт слона, а государь Феодор, он же не то что его грозный родитель, а он же как дитя, слона увидит, размякнет, а слон падёт перед ним на колени, хобот поднимет, затрубит, государь всплеснёт ладошками, радостно заохает… Но дальше Маркел представить не успел, ибо его вполголоса окликнули: – Маркел Петрович! Маркел опомнился и оглянулся. Возле него стоял вполне солидный человек, одетый как зажиточный посадский. Маркел молча смотрел на него. – Маркел Петрович! – продолжал тот человек с улыбкой. – Доброго вам здоровьичка и лёгкой службы. – Ты кто таков? – строго спросил Маркел, но так, чтобы другим слышно не было. А тот неизвестный человек вновь улыбнулся и сказал: – Да как это такой важный гость в таком чаду сидит? Да ещё рядом с такими пропойцами? Милости прошу, Маркел Петрович, к нам сюда, – и указал на загородку, за которой, как помнил Маркел, раньше была так называемая белая, чистая половина и Маркел там прежде сиживал, а как же. А теперь его опять туда зовут! Но кто, подумалось, зовёт? А этот человек опять заговорил: – Маркел Петрович, ты не беспокойся! Здесь тебя в обиду не дадут! И здесь всё твоё, что тебе только приглянется! А пока что милости прошу! И он даже подал руку. Но Маркел её, конечно же, не принял, но в то же время встал, взял шкалик… Тот добрый человек махнул рукой, Маркел шкалик оставил, они прошли за загородку. Там было светло и чисто. И пусто! Но стол был уже накрыт, и, так как тогда была среда, на столе была рыба. То есть много всяких разных рыб – варёных, копчёных, жареных, сквашенных… И так же стояли разные кувшинчики, баклажки, бутылочки. Прямо как у князя Семёна, подумал Маркел, садясь на лавку. А напротив сел тот добрый человек. – Ты кто таков? – опять спросил Маркел. – Второй раз тебя спрашиваю! – Не извольте гневаться, Маркел Петрович, – весело ответил этот человек. – Как же тебя люди не узнают? Земля, как говорится, слухом полнится. А кто такой я? Верный холоп твой, вот кто! – и заулыбался. – А звать меня Митька Курицын, я здешний голова кабацкий. Маркел подумал, кивнул. Курицын почтительно спросил: – Дозвольте шкалик освежить. Маркел дозволил. Курицын налил. Они чокнулись за знакомство, выпили. Водка была очень крепкая. – Горит! – быстро сказал Маркел и так же быстро стал закусывать. Курицын развёл руками и сказал: – Недосмотрели! – Но и сразу же продолжил: – А с другой стороны, сам посуди, Маркел Петрович. Люди же ко мне зачем приходят? Чтобы захмелеть. А я им негорелую подам! За, можно сказать, последнюю деньгу! Вот мы и стараемся, гоним на совесть, люди к нам приходят, радуются. И только один змей шипит! – Как змея звать? – спросил Маркел. Курицын молча усмехнулся. – Ладно, – сказал Маркел. – А что дальше? – Не даёт змей дело делать! Что ни день, приходят его люди, нюхают. Володька Нос, площадной подьячий, и Сенька Хмырь из приказной избы. И им налей, и они пробуют. И им всё не так. А почему тогда всем другим так? А эти кричат: давай книги, покажи, что покупал, на чём замешивал, сколько выдерживал, как гнал и чем чистил! А вот чем надо, тем и чистил, и как гнал, тоже моё дело, меня мой родитель так учил, почему я теперь должен всем рассказывать… Ну и так далее, – уже не с таким задором сказал Курицын. – А они пришли и вылили весь чан. Потому что, сказали, не тот гон. А как я теперь буду гнать? Чтобы гнать, надо зерна купить, и не всякое зерно пойдёт, и также и хмель не всякий, не всякое сусло. А им что! Они приходят, говорят: а дай ведро! Как это дай, я говорю… Вдруг Курицын остановился, замолчал, долго смотрел на Маркела, а после негромким голосом продолжил: – А ты, господин мой, закусывай. Здесь можно закусывать. Это на чёрной половине не дают, а здесь пожалуйста. И это правильно, что царь-государь запретил давать простым людям закусывать. Им же только дай закуску, они же отсюда выходить не будут, всё пропьют! Прав государь, воистину. А этот змей, этот Семён Филиппович, ни дна ему ни покрышки, ещё и говорит: а дай! дай этому ведёрко и дай этому, и они от тебя отстанут. – Как часто дай? – спросил Маркел. – Каждый божий месяц, – сказал Курицын. – Как первый день приходит, так и дай. – А что воевода? – Ничего, – с досадой сказал Курицын. – Воеводе что? Они ему дают, и он молчит. А я… А что мне… И тут Курицын сам замолчал, долго смотрел на Маркела, а после как бы нехотя продолжил: – Вот ты на меня смотришь, усмехаешься. Думаешь: так мне и надо, я же народ спаиваю. А без меня они бы не спаивались, да? Да сами бы гнали и дохли! А эти, которые у меня даром берут, они что, после всё это в отхожее место выливают? Или сами пьют? Но зачем им столько?! Столько им троим не выпить! Значит, тайно продают, корчемствуют. А корчма – это ого! У меня люди до креста пропиваются, да, это правда, но потом их домой гонят. А у этих, в тайной корчме, и крест снимают, и они в кабалу запись пишут, и после во все дни за ростовые служат. Разве так можно выкупиться? Нет! Это кабала до гроба. А ты не хочешь их имать! Ты Суморокова боишься! А кому он что доброго сделал? А я на храм даю! В прошлом году давал на подновление и в этом дам. И я не разбавляю, и у меня всегда долив, меры исправные. Тут Курицын вздохнул и замолчал. Маркел подумал и спросил: – А что ты от меня хотел? – Да ничего почти что, – сказал Курицын. – Хочу подать челобитную на имя государево, а ты бы, в Москву возвратившись, подал бы её. Вот и всё. Тебя в Москве, может, послушают, ты же большой человек. Маркел недовольно вздохнул. Курицын не выдержал, опять заговорил: – Смотришь на меня как на чёрта! А сам ты каков? Ездишь по державе, добрых людей хватаешь – и на дыбу их! И мучаешь! А я людей радую. Я наливаю им, они поют… – Ох, уже нарадовал! – насмешливо сказал Маркел. – Но ладно! А где челобитная? – Так я это… не ожидал! – радостно воскликнул Курицын. – Подумать надо! – Вот и подумай! Не спеши! – сказал Маркел. – А у меня пока дело. Еду в Астрахань. И я надолго туда. Только, может, на Успенье буду возвращаться и тогда возьму. – А… – начал было Курицын и замолчал. Маркел понимающе хмыкнул, сказал: – Нам божиться нельзя, мы на службе. Но если сказал, что возьму, – значит, возьму. Только бы было что брать. Маркел встал, надел шапку. – Маркел Петрович! – шёпотом воскликнул Курицын. – Ладно, – сказал Маркел, – чего там. И больше не суйся. Буду ехать обратно, зайду. И Маркел развернулся и вышел. На дворе было уже далеко за полдень. Народу на пристани ещё прибавилось. Возле таможенной избы кто-то кричал, его пытались унять. Беспорядок, подумал Маркел, распустился народ, но подходить не стал, хватит с него и Курицына. Нет, даже больше, сердито подумал Маркел, зачем совался, обещал? Вот приедет, расскажет Параске, и та так же скажет, что зачем вы, мужики, все один за одного держитесь, кто он тебе, родной брат, что ли? Эх, только и подумалось, и с этой мыслью Маркел развернулся и пошёл к своему головному есаульному стругу. Возле струга, на сходнях, сидел караульный. Маркел спросил, где Кирюхин. – Ходит по каравану, – ответил караульный, – крамолу ищет. – Это хорошо, – сказал Маркел, прошёл на корабль, залез к себе в чердак, сел, посмотрел на сундук. Сундук был надёжной работы, кованый. Маркел осторожно тронул государеву печать, её примятый левый бок, и опять подумал, что напрасно он сошёлся с Курицыным, нельзя сразу две службы делать, надо делать одну и свою. Не пойдёт он больше к Курицыну, не его это дело, да и какая птичка-невеличка этот Курицын, да он сам кому хочешь глаза выклюет! Вот с такими и другими подобными мыслями Маркел лежал у себя в чердаке и подрёмывал. Ну ещё бы! Семь дней и ночей они почти без остановок тряслись в лодке, одолели тысячу вёрст, а то, может, и больше, так что сейчас не грех и отдохнуть. Но только Маркел так подумал, как пришёл Кирюхин, а с ним ещё кто-то, они залезли к Кирюхину в чердак и начали о чём-то тихо совещаться, потом они стали говорить всё громче, потом даже заспорили, а после Кирюхин не выдержал, заглянул к Маркелу и спросил, хорошо ли он умеет считать вслух. Маркел ответил, что смотря что. – Тогда иди к нам, – сказал Кирюхин. Маркел пошёл. В чердаке у Кирюхина сидел тощий сердитый человек, одетый довольно богато. Кирюхин назвал его – это был Сидор Михайлов сын Лыков, тамошний таможенный голова. С Сидором была таможенная книга, она лежала перед ним на столике, а сам Сидор держал в руке перо, а перед ним стояла чернильница. – Сто восемнадцать кораблей, – сказал Кирюхин. – Сто четырнадцать, – поправил его Сидор. – Четверо ещё придут, – сказал Кирюхин. – Потом, что ли, всё с самого начала переписывать? И повернувшись к Маркелу, сказал, чтобы тот садился. Маркел сел. Кирюхин потянулся к Сидору, молча отнял у него перо, протянул Маркелу и показал, куда записывать. Маркел записал 114 и 4 с титлами, а чуть дальше – 118. – Э! – только и воскликнул Сидор. – Девять стругов по семь сажен, по полтора рубля, – продолжал Кирюхин. – Тринадцать с полтиной, – ответил Маркел. – Да сбор с головы по алтыну! – Семнадцать алтын! – Амбарщина пятнадцать лавок с прилавками, по три деньги за неделю, пять недель. – Один рубль двенадцать копеек и одна деньга-московка. – Да ты, как государева таможенная сажень, считаешь! – с уважением сказал Кирюхин и задумался. Потом передал Маркелу таможенную книгу и сказал, что он будет зачитывать, а Маркел записывать, сколько получится. – А мне что делать? – спросил Сидор. – А ты вели своим, чтобы принесли горячего, – сказал Кирюхин. – А горелого чтобы пока что не носили. Сидор ушёл, а Маркел и Кирюхин продолжали пролистывать книгу и пересчитывать там, где было много помарок и исправлений. Сидор пришёл с людьми. Люди принесли горячего, скоромного. Перекусили, после посидели ещё с час, наверное, не меньше, и набрали лишку пять с двугривенным. Кирюхин был очень доволен! Лыков молча гневался. А у Маркела голова шла кругом. Да и уже начало темнеть! Маркел поднялся и ушёл к себе. Ему принесли овчин и постелили. Маркел снял шапку и разулся, лёг и очень быстро задремал, а там и заснул. Но руку с сундука не убирал, а так и пролежал всю ночь на одном боку. Спать было не совсем удобно, но зато надёжно. Утром, только начало светать, все стали разом подниматься. А Кирюхин уже ходил взад-вперёд возле струга по пристани, к нему подходили какие-то люди и о чём-то спрашивали, Кирюхин одних успокаивал, а на других покрикивал. Потом с разных сторон зашумели: – Идут! Идут! – и стали разбегаться по своим местам. На площадь перед пристанью вышли стрельцы, у них начали бить в бубны. Потом как-то сразу из-за стрельцов вышел матёрый боярин в матёрой же шапке, бородатый, длинноусый, на вид очень грозный, а рядом с ним семенил Сумороков. За Сумороковым шёл поп. Потом боярин – воевода Хлопов, конечно, Тимофей Андреевич – и Сумороков расступились, поп с причтом выступил вперёд и начал службу. Все поснимали шапки, начали креститься и отвешивать поклоны. Поп махал кадилом, пели службу. Потом служба закончилась, хор отступил, Хлопов махнул рукой, на горе в кремле заиграли колокола, и все мало-помалу начали отчаливать – но по порядку.Глава 6
А порядок был такой – впереди шёл головной есаульный струг, а на нём Кирюхин и Маркел, и сорок стрельцов на вёслах, и корабельщики, трое, потом шли корабли с товарами, их было, как вчера было посчитано, сто восемнадцать, а ещё в хвосте, на всякий случай, шёл ещё один есаульный струг со стрельцами, так называемый хвостовой есаульный струг под началом полусотенного головы Елизара Смыкова, подъесаула. То есть всего тогда из Нижнего вышло ровно сто двадцать кораблей. И все сразу повернули на Казань! Вот где было тесноты да толкотни! Вот где Кирюхин накричался, наорался и наразмахивался руками! Но, как после оказалось, он не зря орал: купцы вскоре хоть и сбились в стадо, но уже не давили один другого, не ломали вёсла, а выстроились в караван, то есть впереди шли большие и быстрые, а сзади малые и неповоротливые, за которыми тянулся, а куда ему было деваться, Смыков. И так они шли восемь дней – через Василь-город, Козьмодемьянск, Чебоксары, Кокшайск и Свияжск. Скукотища была просто страшная. В чердаке было душно, Маркел уже давно снял шубу и укрыл ею царский сундук, а сам ходил в одном кафтане, даже, правильней, по целым дням сидел под парусом, а Кирюхин лежал у себя в чердаке, на корме, и дремал. Маркел посматривал на берега. Правый, горный берег был тёмный, заросший, зато левый, луговой, Маркела очень радовал. Какие там были густые травы, а какие они сочные! Эх, думал Маркел, вот бы куда скотину выпустить, да вот хотя бы слона… И смущался, отворачивался, смотрел в другую сторону, но что бы он там ни видел, ни слышал, а его мысли всё равно опять возвращались к слону. И чем ближе они подходили к Казани, тем больше Маркел думал о слоне. Ни о чём другом больше не думалось! Да и то, что думалось, была, чувствовал Маркел, такая дрянь, что лучше никому об этом не рассказывать. И он молчал, смотрел по сторонам, позёвывал, он же в Казани был уже раз десять, что ему было там высматривать? Поэтому теперь всего веселья было только то, что они с Кирюхиным, бывало, по целым дням резались в тавлеи, но и то только до той поры, пока Маркел не выиграл у Кирюхина одиннадцать рублей с полтиной – и Кирюхин сказал «хватит». И в тот же день, то есть второго мая, на перенесение мощей благоверных князей российских Бориса и Глеба, караван прибыл в Казань. И опять началась толкотня с крикотнёй. Одни разгружались, а другие загружались, одни тащили товары к амбарам, другие в лавки, третьи на перемер, четвёртые на перевзвешивание. Кирюхин ходил гоголем, под мышкой у него была казанская таможенная книга, Кирюхин что-то важно говорил, его терпеливо слушали… А Маркел пошёл в гору, к кремлю, или, по-татарски правильней, к кермену. Так он прошёл мимо гостиного двора, мимо таможенной избы, а дальше по Спасскому мосту к Спасским проездным воротам, но они были уже закрыты. Маркел подошёл к привратницкой, постучал условным стуком. Впривратницкой двери открылось небольшое окошко, Маркел сказал «Звенигород», ему ответили «Путивль», привратницкая дверь открылась, он вошёл. В кремле Маркел сперва остановился и снял шапку, повернулся в сторону соборного храма Благовещения Пресвятой Богородицы и трижды перекрестился, после прочёл «Отче наш» – и уже только после этого свернул на дьячий двор. Солнце было уже далеко за полдень, Маркел спешил. На крыльце дьячей избы стояли рынды. Маркел сказал им «Путивль». Рынды опустили бердыши и расступились. Маркел прошёл дальше. Там возле лестницы стоял стрелец, который узнал Маркела, усмехнулся и показал пальцем наверх, то есть на второй этаж. Маркел поднялся туда, повернул, где надо, сказал, как и положено, «Путивль», и его провели прямо к позолоченной двери, возле которой стоял служка в дорогих одеждах. Маркел, ничего не говоря, подал служке свою подорожную. Служка взял её, ушёл за дверь. Потом довольно быстро вышел обратно, мелко поклонился и сказал входить. Маркел вошёл. Воевода, правильнее – первый воевода на Казани, князь Иван Михайлович Воротынский, сам из себя тучный, грозный и уже в годах, сидел у стены на лавке. Перед князем на низеньком столике лежала Маркелова подорожная. Маркел, держа в обеих руках шапку, поклонился великим обычаем. Воротынский молчал. Маркел стоял согнувшись. Воротынский усмехнулся и спросил: – Князя Семёна человек, так, что ли? – Точно так, – ответил Маркел, распрямляясь. – Что, – дальше спросил Воротынский, – опять у нас что-то не ладно, коли ты приехал? – У вас всё ладно, – ответил Маркел, – а вот за морем не ладно. – А что у них не так? – спросил Воротынский. И не дожидаясь ответа, продолжил: – Я слыхал, тебя в кызылбаши послали, за слоном. Так это или нет? Маркел водил глазами по сторонам и ничего не отвечал. – Эх, ты! – безо всякого одобрения сказал Воротынский. – Ну и ладно! – И повернувшись в сторону, окликнул: —Осорин! Иди сюда! Маркел начал считать про себя. На счёт десять вошёл Осорин, или, если тоже правильней, то первый государев на Казани дьяк Осорин Иван. – Ваня, – сказал, повернувшись к нему, Воротынский, – это ты мне про персиянского слона рассказывал? Осорин кивнул, что он. – И вот человека послали, – сказал Воротынский, указывая на Маркела. Дьяк покачал головой, насупился, сказал: – Недоброе это дело. Великий Турка крепко обидится. Опять будет у нас с ним война. – Из-за слона, что ли? – спросил Воротынский. – Слон не слон, – ответил Осорин, – а Турка этого так не оставит. Опять он сюда придёт! – Когда это он приходил сюда? – удивился Воротынский. – Раньше не приходил, а вот теперь придёт! – дерзко ответил Осорин. – И кого мы против него выставим? Слона, что ли? Хотя он, надо признать, зверина страшная. – А ты что, видел его? – спросил Маркел. – Вот как тебя! – ответил Осорин. – Я тогда в Астрахани был, государь боярин посылал. Так, государь? Так, важно кивнул государь боярин, или, правильнее, Воротынский. – И какой он? – спросил Маркел. – Здоровенная зверина! – сказал Осорин. – Но очень вздорная. Если ему кто-нибудь не глянется, так он того убить готов! А что ему нас убивать? Один раз наступил, и от тебя только кучка дерьма останется. – Но-но! – строго сказал Воротынский. – Мы не в хлеву, Осорин! – Прости великодушно, государь, – сказал, смущаясь, Осорин. – Я-то ладно, – сказал Воротынский. – Я в жизни всякого наслушался. А ты бы лучше что-нибудь дельное человеку сказал. Человек, может, на смерть едет, так надоумил бы ты его на что-нибудь. – А что я? – с обидой сказал Осорин. – Я слона только один раз видел. Потом я уехал. Потом он сдох. – Тут Осорин тяжело вздохнул и прибавил: – Отпусти меня, государь боярин, мне сегодня нужно ещё три бумаги перебелить, эти же завтра уходят. – И он указал на Маркела. – Ладно, иди, – разрешил Воротынский. Осорин поклонился и вышел. Воротынский взял Маркелову подорожную, припечатал её печаткой, отдал Маркелу и сказал: – Я хотел как лучше. Но какие люди стали злые, прости Господи! И он перекрестился. Маркел перекрестился вслед за ним. Воротынский тяжело вздохнул, прибавил: – Осорин в прошлый раз рассказывал, что есть такая страна, где одни слоны живут, а людей нет совсем. И у слонов там не житьё, а рай. Вот как Осорин рассказывал. Или это не Осорин? Маркел молчал. – А! – сказал Воротынский. – Иди уже! Если вспомню, после расскажу. А пока иди! Маркел поклонился низко, потом развернулся и, не надевая шапки, вышел. Выйдя из дьячей избы, Маркел прошёл немного и остановился. Солнце висело уже низко. Нет, подумал Маркел, в кабак он больше не пойдёт, а то вдруг опять там кого-нибудь встретит. Я, он подумал дальше, лучше пойду сразу на корабль, покуда ничего ко мне не прилипло. И он уже было повернулся уходить, как вдруг почуял, что кто-то смотрит ему в спину. Маркел обернулся и увидел стоящего у тына Родиона Збруева, тамошнего, то есть казанского, губного старосту. Збруев виновато улыбался. – О! – строго сказал Маркел. – Вот кого я давно не видел! – И сразу же спросил: – Случилось что-нибудь? Вместо ответа Збруев снова улыбнулся и сказал: – Маркел Петрович! Тебя нам Бог послал! – Зачем это? – спросил Маркел. Збруев подошёл к Маркелу, осмотрелся по сторонам и продолжал уже негромким голосом: – Да вот прилетели две птички. Одна кудахчет, а другая яйца носит. Которая яйца носит, у той нос крив и бровь разбита, родиною вятская, а которая кудахчет, у той на правой руке нет мизинного пальца. Таких знаешь? – Нет, не знаю, – ответил Маркел. – Так, может, и тебе их знать не надобно? – Может, и так, – сказал Збруев. – Да и мне что? Они завтра улетят отсюда, и мне сразу меньше забот. А вот тебе забот сразу прибавится. – Хватит темнить, – сказал Маркел. – Рассказывай. А сам подумал: а вот и опять прилипло, хоть никуда и не ходил! И не ошибся! Збруев продолжал: – Я их сразу приметил. Вороватые они какие-то! Возле кабака стояли. И с ними тележка, на ней три мешка. Старший, который с кривым носом, всё по сторонам поглядывал. А честный человек поглядывать не будет! И я один раз мимо них прошёл, второй. А после подошёл и говорю: чего везёте, голуби? А они: не твоё дело, старик. А я им сразу тогда: это мы ещё посмотрим, кто старик и кого земля раньше примет! И к голенищу!.. Тут Збруев замолчал и сделал вид, будто задумался. Маркел спросил: – Так они, что ли, не здешние, если тебя не узнали? – Да, не узнали, – ответил Збруев. – Потому что служба у меня такая, чтобы меня не узнавали. И я тогда дальше говорю: а это что у вас такое? Они: а тебе какое дело, ты кто такой? Я говорю: я тот, кто надо. А они: мы все здесь те, кто надо! Я думаю… Но тут вижу, идёт Гриднев Ивашка, наш новый таможенный голова. Эти двое сразу к Гридневу. И Гриднев, слышу, говорит, что всё отмечено. Тогда эти двое за свои мешки и к кораблю! – Корабль запомнил? – спросил Маркел. – Ну а как же! – сказал Збруев. – Малая насада. Кормщик Васька Ухов. А эти записались так: Ждан Мастрюк, это хозяин, старший, и Фомка Змей, это его работник. Так мне Гриднев сказал уже после всего того, когда они заплатили и сели. А там, на той насаде, кроме них ещё сидят… Маркел нетерпеливо кашлянул. – Ладно, ладно, – сказал Збруев. – Так вот, эти пришли, сели, им их мешки сбросили, они сказали, чтобы больше не бросали, их товар воды не любит. Гриднев говорит, это конечно, развернулся и пошёл. А я за ним! И всё узнал! Маркел молчал, ждал, когда Збруев сам всё скажет. И Збруев сказал: – Они соль везут, ты представляешь? В Астрахань они её везут! – Соль в Астрахань? – с удивлением переспросил Маркел. Збруев радостно кивнул, не удержался и прибавил: – Они туда бы ещё рыбу повезли! Рыбу в Астрахань! – и засмеялся. – И что ты про это думаешь? – спросил Маркел. – Что у них там никакая не соль, – сказал Збруев. – Хоть я один их мешок щупал и он скрипел, как соль! И после рука была солёная. Но это не соль, Маркел Петрович! Кто это будет туда соль возить! Да вот тебе крест, что там не соль! – И Збруев перекрестился. Маркел помрачнел. Потом заговорил задумчиво: – Пуд соли – это семь-восемь копеек. А за три мешка, ну, полтора рубля, может, дадут. Теперь отнимаем на рогожу, на шитьё кулей, на их набивку, на таможенные сборы, на провоз до Астрахани, туда же на харчи… И получается, они ещё должны останутся! – Вот и я про то же! – сказал Збруев. – И поэтому это не соль. Маркел подумал и сказал: – Ладно, пойдём, покажешь. И наших ребят возьми. На всякий случай. Збруев негромко свистнул. Из-за угла вышли четверо здоровых молодцов в простых кафтанах. Маркел и Збруев пошли впереди, а эти четверо за ними. Солнце садилось. Они вышли из кремля, прошли мимо гостиного двора, или, правильнее, мимо Старого Бухарского базара, и спустились к Нижнему базару. Там, возле Булак-реки, вдоль пристани, стояли корабли. На кораблях ещё не спали. Корабельщики одни сидели у костров, а другие ходили к лавкам и от лавок и, как говорится, причащались. Збруев, таясь, начал показывать ту малую насаду и тех как будто бы купца с работником. Потом Збруев сказал, что в таможенной книге эти двое молодцов, как он их назвал, записались вологодскими, а едут они будто в Астрахань. А ещё на этой же насаде едет человек с двумя работниками, они везут конские шкуры. А ещё там трое везут лес. Лес, сказал Збруев, везут на Саратов, Саратов – это новый город, им надо много лесу, они строятся. Маркел слушал Збруева, кивал, а сам всё поглядывал на те мешки, прикидывал. Потом наконец решился и сказал вполголоса: – Берите! В мерную избу его! Збруев кивнул своим, они пошли за ним, взошли на ту насаду. Збруев, было видно, начал что-то говорить, размахивал руками, старший злодей поднялся, збруевские люди сразу заломили ему руки, повели с насады. Вели двое, третий нёс мешок, Збруев шёл за третьим, а ещё один остался на насаде, возле второго, младшего злодея. Младший сидел молча, не шумел. Когда Збруев проходил мимо Маркела, Маркел повернулся и пошёл за ним. Вначале никто вокруг на них внимания не обращал, и только уже потом народ стал останавливаться и смотреть на них, а то даже и спрашивать, в чём дело. – В мерную избу ведём, – ответил на ходу Маркел. – На перевес. Соль нарочно замочили, ироды! До мерной избы было близко. Когда они к ней подошли, Збруев постучал условным стуком, им открыли. Маркел первым вошёл в избу, велел засветить огонь и позвать Гриднева с книгой. Один из мерных сторожей пошёл за Гридневым, второй стал возиться со светом. Маркел осмотрелся. В красном углу, прямо под образами, висела государева таможенная сажень с государевой печатью, на полках вдоль стены лежали гири, стояли мерное ведро и посуды помельче, а в углу громоздились здоровенные хлебные весы-тереза с десятипудовыми чашками. Маркел сел на лавку, закинул ногу на ногу. Злодей, опустив голову, стоял помалкивал. Маркел спросил: – Ждан Мастрюк, нос крив и бровь разбита, родиною вятский, так? Злодей молчал. – А соль чья? – спросил Маркел. – Или, может, это и не соль совсем? Злодей вздохнул и посмотрел на Маркела. Маркел подмигнул ему, сказал: – Я, братец, про тебя всё знаю. И я сейчас всё про тебя расскажу. Я только жду, когда все сойдутся. И обернувшись, велел, чтобы ему дали воды. Воду дали быстро. Маркел пил не спеша, поглядывал поверх кубка на злодея. После поставил кубок возле себя на лавке, посмотрел на злодейский мешок, уже лежавший на столе, среди бумаг, и опять усмехнулся. Открылась дверь, вошёл рослый толстый человек в дорогущем кафтане и с книгой под мышкой, повернулся к Маркелу и поклонился ему. Маркел кивнул в ответ. Збруев шепнул, что это Гриднев. Гриднев, тут же вспомнил Маркел, таможенный голова, ага. А Гриднев, осмелев, спросил: – Случилось что-нибудь? – Пока что ещё нет, – сказал Маркел. Опять открылась дверь, вошёл Кирюхин, осмотрелся, увидел Маркела, пошёл и сел рядом с ним. Маркел встал и повернулся к Гридневу. Гриднев порылся в своей книге и прочёл, что Ждан Мастрюк, родиною вятский, и при нём один работник, везёт в Астрахань соль, три мешка, восемнадцать пудов. – Очень хорошо, – сказал Маркел. После спросил: – Вот эту соль? И посмотрел на Мастрюка. Мастрюк подумал и кивнул, что эту. Маркел хмыкнул, осмотрел мешок. Мешок был как мешок, обыкновенный, не затасканный. Маркел перевернул мешок и увидел на нём знак Соловецкого монастыря и рядом «шесть» цифирью. Это шесть пудов, подумалось. А рядом монастырский знак! Маркел меленько перекрестился, достал из-за пояса нож, осторожно надпорол у мешка один угол и посмотрел на злодея. Злодей усмехался. Маркел надпорол сильнее, просунул руку в мешок… И вытащил оттуда полную пригоршню соли! Сбоку кто-то гадко захихикал. Маркела взяла злость, он замахнулся и изо всей силы воткнул нож в самую середину мешка! И резанул так и вот так, крест-накрест! Мешок развалился, и на стол кучей шухнул порох! Чистейший! С полпуда, не меньше! Маркел убрал нож, засунул руки в порох и стал пересыпать его сквозь пальцы. Потом повернулся к злодею, спросил: – Что это? Тот, ничего не говоря, пал перед Маркелом на колени. Все молчали. – Вот так! – сказал Маркел, оглядываясь по сторонам и улыбаясь радостно. – А теперь идите все отсюда, я буду допрос снимать про государевы заповедные товары. Надо будет, позову! И все, даже Кирюхин, молча пошли к двери. В мерной хоромине остались только Маркел да Мастрюк. Маркел достал из-за пазухи целовальный крест, сунул его Мастрюку и велел поцеловать. Мастрюк поцеловал. – Я… – продолжал Маркел. – Как тебя в святом крещении? – Иван, – тихо сказал Мастрюк, но глаз не отводил. – Я, – повторил Маркел, – раб Божий Ждан Мастрюк, в святом крещении Иван, во имя Отца и Сына и Святаго Духа обещаюсь душой не кривить, а говорить только то, что было, и что я сам видел и сам слышал, и что… И так далее. Мастрюк повторял за ним. Потом, когда всё повторил, спросил: – А что ещё? – Да ты хоть бы в этом не скривил! – насмешливо сказал Маркел. – Да и куда тебе ещё кривить? И так вон какой грех на себя взял – некрещёным агарянам порох возишь! – Я некрещёным не возил! – сказал Мастрюк. – А тогда кому крещёному? Кто он был таков? – Ведать не ведаю, – сказал Мастрюк. – Но он был с крестом, и он крестился. – Может, тебе это привиделось, – сказал Маркел. – Диавол, если искусить захочет, он тебе и не такое покажет! Мастрюк молчал, поглядывал по сторонам. Мастрюк стоял на коленях, Маркел не видел его глаз и поэтому сказал: – Вставай! – Тот встал. – В глаза смотри! Мастрюк стал смотреть в глаза, но от этого легче не стало. Эх, с досадой подумал Маркел, такого крестом не проймёшь. И он ещё подумал и сказал: – Ладно, об этом после. А пока рассказывай, откуда у тебя эти мешки. Но как на духу рассказывай! Мастрюк вздохнул и начал: – Мы вологодские, я и племянник мой. Помаленьку торгуем. В прошлом году поехали на Холмогоры, за рыбьим зубом. Зуба не было. Тогда набрали мы песцовых шкурок. Шкурок было мало, просили за них дорого, по семь алтын, ну а на другое у нас и совсем деньжат не было, и мы взяли этих чёртовых песцов, привезли их к себе в Вологду, а там песцы по алтыну. А уже надо деньги отдавать, мы их и так в рост брали. И я продал по пол-алтына! А что делать? Не в кабалу же записываться. А тут ещё деверь говорит: в Устюге белка полденьги, а на Москве белка алтын! Мы поехали в Устюг, взяли там этих белок, привезли в Москву, а там белка опять пол-алтына. Ну, думаю, хоть так! Продал всех белок, посчитал деньжата, мало их! И тут один добрый человек говорит: а вот тебе ещё товар, везёшь его в Нижний, там скажу, кому продать, и он тебе за этих полмешка даст десять рублей чистыми! О, думаю, ого!.. И тут Мастрюк задумался. Маркел не удержался и спросил: – А что было в мешке? Тоже порох? – Не смотрел, – сказал Мастрюк. – Да я тогда на другое смотрел, что за две недели получил десять рублей! Мне раньше за год столько не платили! – Товар товару рознь, – строго сказал Маркел. – Есть такие товары, за которые сколько ни дают, а их лучше не брать! Но ты давай дальше рассказывай. Покуда есть чем рассказывать. Покуда язык твой не вырвали! Мастрюк вздохнул и продолжил: – И вот, три недели тому, приезжаем мы сюда с племянником, отдаём то, что нам было надобно отдать, нам дают за это семь рублей… – Кто даёт? – спросил Маркел. – Я не помню, – ответил Мастрюк и продолжил: – И вот сидим мы на постоялом дворе, это возле Старого базара, перекусываем, как вдруг подходит к нам один неприметный человечек, и говорит: а что, голуби, много мне чего о вас хорошего баяли, а не хотите ли со мной стакнуться? Я говорю: а что за дело? Ну, он и рассказал про эти три мешка. Только не сказал, что в них, да я и не спрашивал. – Почему не спрашивал? – спросил Маркел. – Чтобы сомнений не было, – сказал Мастрюк. – А дальше что? – А дальше… – И Мастрюк задумался, долго молчал, покашливал, кривился, а потом сказал: – Сошлись на двадцати рублях, и ещё нам сразу выдали залог, десять рублей. И сказали надо будет ехать до Самарской луки, а там до Ведьминой косы, и там нас тот, кто надо, встретит. Он, сказали, будет такой толстый, высокий, шапка на нём огнём горит, сабля у него турецкая, булатная, ножны в золоте да в серебре, а звать его Полуект Афанасьевич. И ещё мне было сказано, что если я этих мешков не привезу, то Полуект Афанасьевич меня и на том свете найдёт и с живого шкуру спустит. А привезу – даст ещё пять рублей. – А вот теперь на колесо пойдёшь, – строго сказал Маркел. – За что? – тихо спросил Мастрюк. – Как это за что? – удивился Маркел. – За то, что со злодеями снюхался и государевы заповедные товары им возишь. – Я не возил ещё!.. – Но собирался! – строго перебил его Маркел. – И теперь тебе за это вначале отрубят правую руку по локоть, потом левую ногу по колено, потом левую руку по локоть, потом… И так далее. Но ещё есть время откупиться. Пойдёшь со мной на Ведьмину косу злодеев брать?! Пойдёшь или не пойдёшь? – Убьют они меня! – чуть слышно прошептал Мастрюк. – Ну, – задумчиво сказал Маркел, – там ещё может всяко повернуться, а здесь будет наверняка. Это, как я уже говорил, сперва тебе отрубят правую руку, потом левую, потом… И замолчал. И посмотрел на Мастрюка. Мастрюк тоже смотрел на Маркела, медленно помаргивал. Потом всё же сказал: – Твоя взяла. Пойду! – и перекрестился. Маркел улыбнулся и постучал по столу. Вошёл Збруев. Маркел кивнул на Мастрюка, сказал: – Отведите этого обратно. И три мешка соли им дайте. Только соли! И пусть едут! Так? Мастрюк меленько кивнул, развернулся, и Збруев повёл его вон. А после и Маркел оттуда вышел. Было уже темно и тихо. Над Булаком висела луна. Маркел шёл по пристани, на душе у него было радостно. Ещё бы! Это же что получается, думал Маркел, ни Гриднев, ни Кирюхин ничего не учуяли, а они со Збруевым учуяли! И взяли! Теперь Кирюхин будет очень злой! И примерно так оно и получилось. Когда Маркел подошёл к их стругу, там возле него стоял Кирюхин. Ждёт, сразу подумал Маркел, сейчас скажет что-нибудь поганое. И только он так подумал, как Кирюхин спросил: – Ну и чем весь этот шум закончился? – Какой шум? – сказал Маркел. – Никакого шума не было. – Это для тебя его не было, – сказал Кирюхин. – А кому надо, тот всё слышал. И больше ничего уже не говоря, он стал проходить на струг. Маркел прошёл за ним следом. Они прошли на корму. Там Кирюхин сказал заходить и первым полез к себе. Следом за ним полез Маркел. В чердаке было темно, они с трудом устроились. После пришёл Гришка-служка, спросил, чего надо. Кирюхин назвал, чего, Гришка ушёл. Кирюхин усмехнулся и сказал: – Думаешь Яшку поймать? Вот так сразу? – Зачем сразу? – ответил Маркел. – Да и почему не попытаться? – Потому что разве так пытаются? – сказал Кирюхин. – Сколько вы шуму подняли! Теперь все только о вас и говорят! Теперь злодеи разве к вам полезут? А ваш этот купчик, он, думаешь, тебе правду сказывал? Да чтобы от таких правду услышать, их надо на дыбу поднимать, а так просто из него правды не вытянешь! Или совсем не нужно было его трогать. Пусть плывёт! А вы за ним поглядывайте. Вот как надо было делать по уму! А так не будет с этого добра! Маркел на это промолчал, очень сердито. А тут сразу пришёл Гришка, принёс того и сего. Они не спеша поели, выпили, всё это молча. Маркел только один раз спросил, слыхал ли Кирюхин что-нибудь про некоего Полуекта Афанасьевича, на что Кирюхин сказал, что нет, не слыхал, и на этом их беседа кончилась. Потом Кирюхин стал всё чаще и громче позёвывать. Маркелу надоело это слушать, он сказал, что пора и честь знать, поднялся и полез к себе. У себя Маркел первым делом проверил, на месте ли сундук и как там печати, потом лёг, накрылся и стал думать про здешних злодеев, что он и где о них слышал, и получалось, что почти что ничего не слышал. Надо будет это исправлять, думал Маркел, благо времени у него ещё достаточно, им же до тех мест ещё неделю плыть, не меньше. И с этой мысльюМаркел и заснул.Глава 7
Рано утром, ещё солнце только начало подниматься, ещё туман был на реке… Вдруг кто-то стал трепать Маркела за плечо и приговаривать: – Маркел Петрович! Беда! Маркел Петрович, поднимайся! Маркел открыл глаза. Рядом с ним сидел Збруев и продолжал его трепать. Маркел приподнялся на локте, спросил: – Что такое?! – Иди посмотри! И Збруев полез наружу. Маркел обулся, взял саблю и шапку, вылез вслед за Збруевым и осмотрелся. Было ещё не совсем светло. Збруев уже стоял на пристани, и там было уже достаточно народу. Рядом, возле чердака, стоял помятый Кирюхин без шапки, он хотел что-то спросить, но Маркел не стал дожидаться, а быстро сошёл на пристань. Збруев пошёл вдоль берега. Маркел нагнал его, но ничего спрашивать не стал, потому что и так было ясно, куда Збруев ведёт его. И так оно и оказалось, Маркел не ошибся – они прошли ещё немного, протолклись через толпу и подошли к уже хорошо известной им насаде, с которой они вчера ссаживали Мастрюка. – Здесь, – сказал Збруев и остановился. Маркел прошёл мимо него, поднялся на насаду. Там на носу стояли тамошние корабельщики, а дальше вдоль бортов купцы. Маркел вспомнил: Збруев говорил, что на насаде кроме пороха везут лес и шкуры. Маркел прошёл мимо купцов. На корме лежал Мастрюк. Мастрюк лежал очень неудобно, поджав ноги, запрокинув голову. В спине у Мастрюка торчала рукоять ножа. Маркел обернулся. Сразу за ним стоял невысокий крепкий человек в затёртой однорядке. – Ты кто такой? – спросил Маркел. – Ухов Василий, – сказал человек. – И это мой корабль. – А это кто? – Это Ждан, – сказал Ухов. – Он так по бумагам числится. Можно уГриднева спросить. – А где, – спросил Маркел, – Жданов племянник Фомка? – По бумагам он не племянник, а работник, – сказал Ухов. – Ты не умничай, – строго сказал Маркел, – а то сейчас на дыбе будешь умничать! Ухов сразу покраснел и уже нетвёрдым голосом сказал: – Винюсь. – И тут же продолжил: – А про его младшего я что скажу. С вечера они, когда от вас вернулись, долго ещё шушукались, потом легли. И стало тихо. Никто от нас на берег не сходил, никто к нам с берега не поднимался. А я чутко сплю! Я сразу бы услышал! А так, ещё раз говорю, всю ночь было тихо. И только когда начало светать, смотрю, а этот вот так лежит, а того нет нигде. – Вот так этот и лежал? – спросил Маркел. – Так истинно, – ответил Ухов. – А эти что? – И Маркел показал на купцов и на других корабельщиков. – Они все дрыхли! Маркел ещё раз посмотрел на этих. Они все молчали. Маркел наклонился к Мастрюку. Мастрюк лежал с закрытыми глазами. – Ты закрывал? – спросил Маркел. – Винюсь, – сказал Ухов. Маркел осторожно тронул нож, а после так же осторожно вытащил его и осмотрел. Нож был как нож, обыкновенный, вологодский. И племянник тоже был из Вологды. Но, тут же подумал Маркел, вологодские ножи дело привычное, с вологодскими ножами теперь полцарства ходит. И распрямился, и, кивнув на Мастрюка, велел, чтобы его снесли на берег. Ухов кликнул своих корабельщиков, они подхватили Мастрюка, снесли его с насады и положили на землю. Маркел вышел вслед за ними и положил нож рядом с Мастрюком. Потом ощупал Мастрюка, нашёл в поясе кошель, достал его, открыл. Там было немного серебра. Маркел осмотрелся, увидел в толпе Збруева, кивнул ему и, когда Збруев подошёл, протянул ему кошель. И нож. Збруев взял то и другое. Где-то вверху забрякали колокола. Народ задвигался и начал расходиться по своим местам. Уховские купцы и их работники тоже начали сходить с насады. – Эй, вы куда?! – грозно сказал Маркел. – С вами ещё надо будет разобраться! А вдруг это вы человека убили? Откуда я знаю! Купцы нехотя остановились, а один из них даже сказал сердито: – Так что нам, теперь здесь до зимы сидеть? – Зачем до зимы? – спросил Маркел. – Вот узнаем, кто убил, и остальных отпустим. – А корабли уйдут! – Ваш не уйдёт, – сказал Маркел. И повернувшись к Збруеву, продолжил: – А ты чего стоишь? Я за тебя буду служить, так, что ли? Так у меня есть своя служба! Колокола стали звонить настойчивей. Маркел развернулся и пошёл к себе. Пройдя шагов с полсотни, он обернулся и увидел, как Збруев машет рукой и как из-за ближайшей лавки, ещё неоткрытой, к нему выходят его люди. Маркел хмыкнул, пошёл дальше. На душе было погано. Это всё из-за меня, надо было с ними человека выставлять, никого тогда бы не зарезали, думал Маркел и морщился. На пристани уже почти что никого не оставалось, все разошлись по своим кораблям. На иных кораблях уже ставили мачты. Когда Маркел подошёл к кирюхинскому стругу, Кирюхин был ещё на берегу. Завидев подходившего Маркела, Кирюхин сразу спросил, что он там видел. – Да передрались между собой, – сказал Маркел. – После один другому саданул под бок, и насмерть. – Ну, может быть, – сказал Кирюхин недоверчиво. Маркел, больше ничего не говоря, сошёл в струг, остановился и подумал, что больше он уже ни во что встревать не будет, и для крепости перекрестился. Кирюхин приказал отчаливать. Маркел смотрел на берег, на лежащего на земле Мастрюка, на стоящего над ним Збруева, который размахивал руками, а все остальные, то есть збруевские люди, равно как и люди Ухова, пытались вытащить корабль на берег, но тот был тяжеловат и подавался медленно. Надолго их здесь собираются оставить, подумал Маркел. А колокола продолжали звонить. Потом караван повернул на Казанку, и колокола понемногу затихли. Маркел перестал оглядываться. День тогда был тёплый, солнечный, на небе было много облаков. А берега были угрюмые, густо заросшие лесом, и опять думалось только о том, что поторопился он вчера, нужно было поставить на насаду караульщика, и тогда бы никого не зарезали. А почему он торопился? Да потому, что не его это дело, оно его только отвлекало, а его дело – это слон, царь-государь его за ним послал, вот он и едет в Персию, привезёт оттуда слона, царь-государь обрадуется, скажет… Эх, тут же подумалось, да ничего царь-государь ему не скажет, не до него будет царю, а вынесут ему полштуки шёлка бухарского да пару красных сапог кызылбашских, со скрипом, да стакан жемчуга гурмызского, да что ещё? Маркел ещё сильней задумался. Но тут подошёл Кирюхин, сел рядом с Маркелом и насмешливо спросил: – Что же ты своего сотоварища бросил? Он без тебя один не справится. – Збруев мне не сотоварищ, а слуга, – строго сказал Маркел. – И у него своё дело, а у меня своё. Кирюхин помолчал, потом опять спросил: – Так это что, в самом деле правда, что тебя к ним за слоном послали? – Да, это так, – сказал Маркел. – А тебе что, разве этого не говорили? – Ну, как бы говорили, да, – уклончиво сказал Кирюхин. – Ещё зимой говорили, когда приезжали ваши к нам. Я напрямую у них спрашивал, а они отвечали: не знаем, бояре ничего ещё не говорят. А теперь я вижу, всё давно решили. – А чем тебе слоны не угодили, что ты на них так зол? – спросил Маркел. – Я на слонов не зол, – сказал Кирюхин. – Мне людей своих жаль. И корабля. Расшатает эта тварь корабль и всех нас перетопит. А по берегу его вести нельзя. По берегу, твои московские сказали, он сдохнет. Ведь говорили же тебе, что нельзя его вести по берегу? – Ну, говорили. – А я видел, как он шёл по берегу, – сказал Кирюхин. – Он легко шёл, почти что рысью. – Но потом ведь сдох! – сказал Маркел. – Обкормили его, вот и сдох. – Чем обкормили? – А откуда мне знать? – уже сердито ответил Кирюхин. – Я же его не кормил. Я его только один раз видел, и то издалека. Его тогда по берегу вели, из Астрахани на Царицын, а мы шли на стругах из Царицына на Астрахань. Далеко его вели – может, с версту от нас. Вот такой он казался, с вершок. И он ушёл, а мы уехали. А после, когда мы обратно ехали, нам говорят: а вон видите ту горку? Так это слона там закопали. – Где это? – спросил Маркел. – Будем ехать мимо, покажу, – сказал Кирюхин. Маркел задумался. Потом опять спросил: – А что такое Ведьмина коса? И где это? – А зачем она тебе? – сказал Кирюхин. – То дело всё равно уже пропало. – Ну так если пропало, то чего его теперь жалеть? – сказал Маркел. – Или не знаешь? – Как это я не знаю?! – сердито ответил Кирюхин. – Да я всё здесь знаю, по всей Волге! Каждую мель, каждый камень, каждую корягу! Да я, может, пятнадцать лет туда-сюда тут хожу! – А Яшку видел? – Ну, видеть не видел, – ответил Кирюхин с усмешкой, – а слышал, когда мы сидели в кустах, а он своим кричал, чтобы они лучше нас искали. – И что, не нашли? – Если бы тогда нашли, я здесь сейчас не сидел бы, – ответил Кирюхин. И тут же спросил: – Знаешь, почему сомы такими толстыми растут? Потому что человечиной питаются. Маркел вздохнул. А Кирюхин опять усмехнулся, сказал: – А как ты думал? Вот такая наша жизнь на матушке-Волге. Зазевался, и тебя сожрут. Они помолчали. Потом Маркел спросил уже другое: – А какая дорога до Персии? – Самая прямая до неё дорога, – ответил Кирюхин. – Как из Астрахани выйдем, так и пойдём вдоль берега до самой Гилянской пристани, а там через горы и в Казвин, это их стольный город. Так что, – сказал, усмехаясь, Кирюхин, – нам бы только в Астрахань попасть, а там уже всё будет просто. Ну да это когда ещё будет? Может, недели через три. И вот я поэтому пока пойду да полежу маленько. А будет Астрахань, свистнешь. И он поднялся и полез к себе в чердак. А Маркел сидел, поглядывал по сторонам. День, как и раньше, был погожий, а ветер попутный. Караван мало-помалу вышел к Волге, повернул на неё и пошёл по ней дальше. Широченная теперь была река. Смотри не смотри, ничего не увидишь, подумал Маркел, да и что на воду смотреть, всё равно ничего не высмотришь. Одна Волга кругом, от края и до края. А лесу по берегам становилось всё меньше и меньше, да и сам лес мельчал. Маркел долго молчал, позёвывал, потом спросил у ближайших гребцов, и они ответили, что Волга теперь всегда будет такой аж до самого Саратова. – А после будет что? – спросил Маркел. – А после берега будут совсем пустые, одна трава, – ответили гребцы. – Но это ещё что! – продолжили они. – А после, за Царицыном, пойдут солончаки. Это такая мёртвая земля, наполовину соль. И там уже совсем нет никого. А здесь ещё хоть татарин иногда проскочит, а то и стрелу метнёт. Маркел нахмурился. Стрельцы переглянулись, и один из них сказал, что за Царицыном зато не грабят, а грабят уже только возле самой Астрахани, в волжском устье, там, где много диких островов и плавней, а на них казаки, и этих казаков без счёта, и все воровские! – Но до них ещё надо доплыть, – сказали гребцы. – Так что вот как пробьёмся через Самарскую луку, только тогда можно говорить про Астрахань. А пока, прибавили стрельцы, скоро на левом берегу увидим Каму, это тоже широченная река, почти как Волга, потом справа будут наши Тетюши, это такая небольшая крепостица, а потом, дней через пять, дойдём и до Самарской луки. Лука – это когда Волга выгибается, как лук, и там на ней стоит Самара, наша новопоставленная крепость с пушками. Там можно будет остановиться, передохнуть день-другой, а после опять пойдём вдоль этой луки, только уже в другую сторону, в обратную. Но это если Яшка нас пропустит. На что Маркел, усмехнувшись, сказал: – Вижу, Яшка нагнал на вас страху. Гребцы на это промолчали. Тогда Маркела взяла злость, и он сказал, что если все они будут держаться вместе, то никакой Яшка к ним не сунется. Гребцы опять промолчали. Маркел оглянулся. Корабли, идущие за ними, сбились в кучу. Сильно робеют, подумал Маркел, ну да это не беда, робких легче караулить, потому что они не разбегаются. И Маркел ещё долго сидел у борта и поглядывал по сторонам. Но ничего приметного не виделось, ветер дул ровно, в паруса, гребцы мерно гребли. Когда начало темнеть, свернули к берегу, причалили, учредили табор, выставили караулы, развели костры и кашеварили. Ночь прошла тихо, никто к ним не лез, и утром они двинулись дальше. Прошли мимо Камы. Теперь, вместе с камской водой, Волга стала ещё шире, берега её стали уже почти совсем не видны, и Кирюхин приказал держаться высокого, правого берега. Потом, на следующий день, остановились возле Тетюшей, оставили им пять кораблей с разным добром и пошли дальше. Шли ещё четыре дня, никто к ним не цеплялся, да они никого и не видели. И только на пятый день под вечер они увидели у берега разбитый струг. Струг был разграблен начисто, а корабельщики лежали мёртвые. Кирюхин сказал, что это Яшка, это его места, потому что завтра будет поворот на Самарскую луку. Так оно и случилось – назавтра с самого утра правый берег Волги всё поднимался и поднимался, и вскоре это был уже не речной берег, а самые настоящие горы. Одни, думал Маркел, называют их Самарскими, другие – Молодецкими. Волга подступает к ним, бьётся о них и резко поворачивает влево. Это очень опасное место, там много подводных камней и водоворотов. Но и останавливаться там нельзя, потому что сразу начинается толкотня и неразбериха, корабли сшибаются между собой, а тут ещё от берега, из потайных убежищ, выскакивают быстрые вёрткие лодки, а на них полно народу, народ с саблями и пиками, лодки подплывают очень быстро… Ну, и так далее. Но Маркела это не тревожило, потому что он был уверен, что Яшка – человек рассудительный и не станет кидаться на их караван, когда увидит, сколько у них силы. Подумав так, Маркел заулыбался и ещё раз посмотрел на приближающийся каменный берег. Кирюхин тоже посмотрел туда же, потом дал отмашку. Правые гребцы стали грести в две силы, а левые, наоборот, табанили. Струг начал поворачивать вдоль берега. Маркел обернулся. Идущие за ними купцы тоже один за другим стали делать то же самое. Но кораблей было много, и поэтому первые уже давно повернули, а последние ещё даже не подошли к повороту, и где-то там же, за поворотом, последним, шёл подъесаул Смыков со своей полусотней стрельцов и двумя затинными пищалями, или, по-простому, пушками. А раз эти пушки молчат – значит, Яшка пока не высовывается, подумал Маркел и посмотрел на берег. Берег был очень крутой и высокий, густо заросший лесом. Да тут можно целое войско спрятать, невольно подумалось. И вдруг Маркел увидел брешь в горе. Гребцы уже гребли во все вёсла, брешь быстро приближалась. Маркел поднялся во весь рост, вытянул шею, и ему вдруг открылось устье небольшой реки, устье было очень узкое, ещё какое-то мгновение – и река спряталась за скалами. Струг несло дальше вдоль почти что отвесного берега, берег был ровный, как стена. Так, может быть, ему это только почудилось, растерянно подумал Маркел… Но тут же вспомнил, что недаром говорят, будто где-то здесь и в самом деле есть река и что если войти в эту реку и проплыть по ней вверх по течению всего вёрст десять, а потом перенести корабль через переволоку, а это ещё верста, то выйдешь опять к Волге, но уже ниже по течению сразу на двести вёрст! Вот о чём тогда вспомнил Маркел, а река давно уже скрылась из виду, берег был ровный как стена, караван шёл быстро, плотно сбившись, было тихо. А потом сразу послышалась стрельба, сперва из пищалей, а после два раза бабахнули из пушек. Все насторожились. Потом, было слышно, ещё раз стрельнули из пушек, и всё стихло. Кирюхин велел остановиться. Прошло ещё немного времени, и раздался ещё один выстрел, двойной, из пищали. Это означало «всё в порядке», и Кирюхин опять дал команду грести. Гребли до вечера. Вечером остановились прямо на реке, встали на якорь и стояли саженях в сорока от берега – на всякий случай. Мало-помалу подошли все купцы, а потом появился и Смыков со своими стрельцами. Кирюхин позвал Смыкова к себе, Смыков явился и сказал, что он там никого не видел, а просто велел пострелять для острастки. Стреляли по кустам, никто не отозвался. – Так, может, там никого и не было, – сказал Кирюхин. – Может, – не стал спорить Смыков. – А может, и были. Кирюхин махнул рукой. Потом, когда начало смеркаться, велел выставить двойные караулы. Ночью ничего недоброго не приключилось. Утром снова пошли дальше, а вечером Кирюхин опять велел не приближаться к берегу, а становиться на якорь посреди реки. Течение там было сильное, корабли крепко болтало, но все говорили, что так лучше. И так простояли всю ночь. Утром, когда уже стало совсем светло, пошли дальше. И в тот же день, 12 мая, на святого Епифания Кипрского, они ближе к полудню прибыли в Самару.Глава 8
Маркел никогда там раньше не бывал. Да это и неудивительно, потому что и самой Самары ещё совсем недавно и в помине не было. А потом, шесть лет тому назад, царь-государь велел – и воевода Засекин Григорий Осипович, князь, природный Рюрикович, взял с собой триста стрельцов, да ещё сорок пять плотов отборного строительного леса под Казанью, и мастеровых тоже набрал, конечно, и пошёл вниз по Волге, дошёл до этих мест, и там, где речка Самара впадает в Волгу, поставил крепость на восемь башен и шестнадцать пушек. А теперь день был погожий, солнечный, Маркел смотрел из-под руки туда, где на холме, в полуверсте от волжского берега, виднелся крепкий частокол, а за ним кресты на куполах. Потом послышались колокола. – Далековато же они построились, – сказал Маркел. – Зато надёжно, – ответил Кирюхин. И повернувшись к гребцам, приказал подналечь. Крепость быстро приближалась. Потом, было видно, открылись въездные ворота, народ стал выходить из крепости, и там, на волжском берегу, на пристани, зажгли дымы. Дымов вначале было три, но потом два огня погасили, остался один, с белым дымом. Это означало, что плывут свои. Народ от крепости шёл к берегу. Потом стало видно, это не народ, а ярославские, как их назвал Кирюхин. То есть, продолжал Кирюхин, здесь стрельцы не местные, а, как и в Казани, годовальщики, они приезжают сюда на год, а после съезжают обратно. – Здешние ещё не наросли, – сказал Кирюхин, – но бабы стараются. – И улыбаясь, прибавил: – А мы им для старания чего только не везём. Восемнадцать кораблей разных разностей! Ну и заповедных товаров, конечно. Если бы Яшка всё это увидел, подавился бы слюной, скотина! Маркел весело заусмехался. Кирюхин приказал гребцам, гребцы стали поворачивать струг влево, к пристани. Там сошлось уже достаточно народа, но больше всех было стрельцов, на всякий случай. Маркел оглянулся. Караван шёл плотно и не отставал. Кирюхин показал рукой причаливать. Бросили верёвки, с пристани их подхватили. Кирюхин, обернувшись к Маркелу, сказал, что это и в самом деле ярославские, сотня Третьяка Субботина. Субботин был тут же, на пристани, и он спросил, как дела. На что Кирюхин ответил, что дела плывут, взошёл на пристань и, повернувшись к Маркелу, представил ему Субботина. Субботин поклонился на полголовы и сказал, что воевода приказал вести гостей сразу к столу, потому что стол уже накрыт. И так и было сделано, то есть Смыков остался при караване, а Маркел и Кирюхин пошли в крепость, Субботин их сопровождал. До крепости идти было недалеко, и это всё лугом. Трава на лугу была высоченная, в пояс, густая и сочная. Маркел, глядя на неё, невольно подумал, что здесь даже слону будет раздолье. Крепость стояла на широкой горке, с одной стороны от неё текла река Самара, даже, прямо сказать, речка, а с другой стояло уже наполовину высохшее болото. Но, как сказал Субботин, это место даже в самую жару до конца не пересыхает, и тут немало всякого незваного народу утопилось. Это хорошо, сказал Маркел. На что Субботин утвердительно кивнул. Когда они повернули к крепостным воротам, опять зазвонили колокола. А когда вошли в крепость, то увидели попа с кадилом, а за ним стрельцов с пищалями «к плечу». И колокола звенели. А вот воеводы пока видно не было. Воевода, дворянин московский Вельяминов Игнатий Григорьевич, стоял на крыльце воеводских хором и улыбался, хотя сразу было видно, что дорогие гости, как он их назвал, были ему совсем не в радость. Но Вельяминов всё равно продолжил: – К столу, гости дорогие! Небось соскучились по горячей ушице? Или она вам уже колом в глотке? Маркел, ничего не говоря, только развёл руками. Вельяминов громко рассмеялся, как будто ему и в самом деле было смешно, и пригласил гостей идти за ним. Они вошли в хоромы, поднялись на второй этаж и вошли в трапезную. Стол и в самом деле был уже накрыт, правда, был он не ахти какой, но Маркел, конечно, промолчал. Да у него никто ничего и не спрашивал. И даже больше того – Вельяминов его будто бы не замечал, а, остановившись посреди трапезной, вначале поздравил Кирюхина с возвращением, а после сразу же спросил, что он им привёз на этот раз и сколько. Кирюхин начал отвечать и называть, сколько чего, Вельяминов слушал и кивал, нахваливал. Вот только котлов и топоров, сказал, больше не надо, а лучше бы ещё с десяток плотов леса, и леса покрепче. – Ну и про то, что я тебе в прошло году говорил, не забывай, – закончил Вельяминов. – Этих, – он сказал, – чем больше привезёшь, тем лучше. И только теперь Вельяминов наконец повернулся к Маркелу, посмотрел на него так, как будто в первый раз видит, притворно улыбнулся и спросил: – Ну а тебя, государь мой, какая кручина сюда занесла? Маркел подал ему подорожную. Вельяминов прочитал её, задумался, после ещё раз прочитал и уже осторожно спросил: – Так ты сперва до Астрахани едешь, а потом ещё куда-то? Маркел утвердительно кивнул. Вельяминов глянул на Кирюхина. Кирюхин усмехнулся, но смолчал. Тогда Вельяминов опять посмотрел на Маркела. А тот забрал у него подорожную и неспешным голосом ответил: – Это дело государево, и не сейчас о нём рассказывать. – Это конечно! – сказал Вельяминов. – Это даже объяснять не надо. Да и я вас не затем призвал. А вот зачем, – и указал на стол. Они прошли к столу, расселись: Вельяминов на хозяйском месте, Маркел по правую от него руку, Кирюхин по левую. Первым делом выпили за государя, после за знакомство, после за хозяина, а там и за гостей поочерёдно, и так далее. Ну и, конечно же, закусывали – сперва постным, после начали грешить. И так же разговор был всякий. Кирюхин сказал, что восемнадцать кораблей здесь остаётся, все с товарами, надо будет расписать на всех, кто будет что брать, и Кирюхин на обратном пути заберёт эти расписки. Так же было сказано про пять новоприбывших семейств, в них семеро работников, их надо где-то расселить. Вельяминов сказал: это просто, пустых изб в крепости достаточно. Это очень хорошо, сказал Кирюхин, он это тоже на обратном пути проверит. Ну и так далее. Под этот разговор тоже немного выпили и закусили. Время перевалило за полдень. В хоромах становилось жарко. Вельяминов приказал открыть окно. Пришёл человек и выставил окно совсем. Также Вельяминов приказал, и из подвала принесли холодного свежего кваса. И мёда! Кирюхин расшпилился и сказал, что хорошо здесь, так бы и сидел до завтрева. Но не успел он рот закрыть, как пришёл посыльный и сказал, что он от Смыкова и тот зовёт Кирюхина к себе на пристань, потому что люди расшумелись и их надо унимать. Кирюхин тяжело вздохнул, поправил шапку и вышел. Когда Маркел и Вельяминов остались вдвоём, Вельяминов вначале молчал, а потом ещё раз спросил у Маркела подорожную. Маркел дал. Вельяминов поставил в ней перстневую печать, ещё раз перечитал, потом спросил: – Так ты в кызылбаши едешь? – Ну, туда, – сказал Маркел, подумавши. – Опять, что ли, за слоном? – Маркел молчал. Тогда Вельяминов прибавил: – Дался же вам этот слон. В прошлом году Федька Ряпунин за ним ездил. И тоже молчал! Я у него спрашивал, а он как не слышал. А сам смотрел в пустое место и подмигивал. Вот так! И тут Вельяминов в самом деле показал, как моргал Ряпунин. Маркел настороженно спросил: – Как это? – А вот так! – ответил Вельяминов и ещё раз показал. Потом прибавил: – Ему говоришь: Феодор! А он не отзывается. – А слон что? – А слон ничего! Слона же тогда уже не было! Слон ещё под Саратовом сдох! Федьку привели сюда уже тогда, когда его наши подобрали. Он же в кустах валялся, как собака. И уже чуть дышал, между прочим. И как только его лихие люди не убили, не ограбили?! Тут же у нас злодеев знаешь сколько? Да их тут кишмя кишит, они под каждой корягой! И мне с ними бейся! А как биться? И чем? Ты сюда приехал и уехал, а я здесь сколько уже сижу? У меня сто пятьдесят стрельцов, а у него пятьсот! – Как это пятьсот? – сказал Маркел. – Да говорили, сто! – Кто говорил? – гневно спросил Вельяминов. – Ну, говорили люди, – уже со смущением сказал Маркел. – Да если бы сто! – сказал Вельяминов, криво усмехаясь. – Да я бы давно их всех передушил! А так пятьсот, и то это уже зимой. То есть пятьсот – это тех, кому зимой деваться некуда, вот они и сидят здесь по норам, а остальные кто куда расходятся, зимуют. Зимой на такого глянешь и не скажешь, кто это. Холоп холопом! А летом ему только попадись! И вот летом их на той, на горной стороне так и кишит. Их там сейчас, может, три тысячи! А у нас с тобой сколько? У меня сто пятьдесят. А у тебя? Маркел ничего не ответил. – Вот то-то и оно, – сказал, усмехаясь, Вельяминов. – И как мне с ними жить, соседствовать? А вы мне из Москвы бумаги шлёте! Вельяминов, устраши! Вельяминов, наведи порядок! Вельяминов, на дыбу их всех! А когда я прошу ещё хотя бы сотенку стрельцов, вы что мне на это отвечаете? Маркел опять молчал. Вельяминов взял бутыль, налил по чаркам, выпил. Маркел выпил следом. Вельяминов утёрся, продолжил: – Вот так и живём. Эта сторона Волги моя, а та злодейская. Я к ним не лезу, и они ко мне не лезут. Хотя как сказать! Вот даже на эту Пасху. Уже после крестного хода ко мне вдруг бегут, говорят: государь Игнат Григорьевич, как быть, эти приехали! Кто, спрашиваю. Да как кто, отвечают, эти и приехали, две лодки, лодки внизу оставили, а сами идут к крепости, ворота закрывать? Я спрашиваю: с саблями? Нет, отвечают, без сабель, так закрывать или нет? И я подумал, говорю, нет, это будет грех, не закрывайте. И они пришли. Вошли в церковь, поснимали шапки, поклонились. Отец Емельян глянул на них и как служил, так и служит. Как будто ему такие гости каждый день! А они постояли, послушали, перекрестились, поставили по свечке и ушли. И никого не тронули! Вот так. – Свечки большие ставили? – спросил Маркел. Вельяминов утвердительно кивнул. – И Яшка с ними был? Вельяминов ещё раз кивнул. – Какой он из себя? – Темно было, я не рассмотрел, – ответил Вельяминов. Маркел понимающе вздохнул, но вслух ничего не сказал. А Вельяминов продолжил: – Вот такая наша жизнь. Вот так приходится вертеться, и это не только на Пасху. Так что если хочешь мне добра, то скажи Щелкалову, что пусть возьмёт у государя ещё хотя бы три сотни стрельцов и даст мне сюда. А то вон на Терек дали же, а где тот Терек, а где я? А так было бы у меня своих сто пятьдесят да ещё триста щелкаловских, я тогда бы Яшке показал, куда Макар телят гоняет! И ты бы у меня не спрашивал, каков он из себя, а я бы привёз его в Москву в железах и сказал бы: вот он из себя каков, этот злодей Иаков Семиглазый! – А Семиглазый почему? – спросил Маркел. – Потому что он всё видит! – сказал Вельяминов. – Но только и это враньё! Ничего он не видит! Видит его бабка, зловредная Фёкла, вот эта в самом деле видит всё и всё чует, Яшка с ней всегда советуется, и как она скажет, так он и делает. Вот кого нужно на дыбу поднимать, а потом на колесо её, гадюку Жигулиху! – Кого-кого? – переспросил Маркел. – Жигулиху, – сказал Вельяминов. – Это так все её зовут: Жигулиха, и все тамошние горы называют Жигулихино ведьмино царство. – А Ведьмина коса – это тогда что такое? – спросил Маркел. – Какая у неё коса, – насмешливо ответил Вельяминов. – Она лысая! – И тут Вельяминов даже засмеялся, но почти сразу же опомнился, опять стал серьёзным и спросил: – А где ты слышал про Ведьмину косу? – Ну, – нехотя сказал Маркел, – было одно такое дело этой весной в Казани. Объявился там один человек, покупал некий товар и обещал за него щедро расплатиться, но уже не в Казани, а где-то здесь, в этих местах, на Самарской луке, на Ведьминой, он так сказал, косе. – А, – подумав, сказал Вельяминов, – понятно. И где сейчас тот человек? – Пропал, – сказал Маркел. – А те, у кого он покупал, они где? – Одного той же ночью зарезали, – сказал Маркел, – а второй как сквозь землю провалился. Вельяминов нахмурился, подумал и сказал: – Я думаю, что это Яшкины дела. И Яшкины же люди. А что был за товар? – Заповедный. – И это порох! – сказал Вельяминов. – У Яшки недостача пороха. Да и кто ещё на Ведьминой косе хозяин, как не он! Да и во всех других местах! Никого он нигде не боится! Ну, только если Порфирия Павловича. – А кто такой Порфирий Павлович? – спросил Маркел. – О, до него отсюда ещё очень далеко, – весело ответил Вельяминов. – Это нужно, уже за Саратовом, слоновью могилу миновать, и вот уже тогда начнутся Порфирия Павловича места. А места какие, прости господи, голодные! Один ковыль! Вот и лютует Порфирий Павлович, обирает проезжих людей дочиста! А кто не обирается, тех режет под корень! Ну, да и вы не с пустыми руками, – тут же прибавил Вельяминов, – у вас же четыре пушки, а пушек Порфирий Павлович ох как не любит! Так что вы про пушки не забудьте! Маркел сказал, что не забудут. И тут Вельяминов только открыл рот, чтобы ещё что-то сказать, как вдруг за окном закричали, а потом как будто успокоились. – О! – сразу сказал Вельяминов. – И верно! Чего мы здесь сидим? Пойдём, а то люди уже расшумелись. И он первым встал из-за стола. Маркел встал за ним, и они пошли из трапезной. Когда они вышли на крыльцо, то увидели, что на крепостном дворе полно народу и этот народ таскает грузы и товары. Но таскает он их не через главные, так называемые Большие Волжские ворота, а через вторые, малые, так называемые Ближние Самарские. Вот Вельяминов туда и пошёл, на ходу покрикивая, что не так несут и не туда. А Маркел, сойдя с крыльца, остановился, посмотрел на всю эту толкотню и суету, подумал, что теперь здесь и без него легко обойдутся, развернулся и пошёл к Волжским воротам. Никто его не останавливал и ни о чём не спрашивал. Выйдя из крепости, Маркел пошёл обратно полем. Теперь, когда он осматривался, ему хорошо были видны обе пристани, Волжская и Самарская, и что их караван теперь стоит, разделившись надвое. То есть те корабли, которым надо будет идти дальше, остались на Волжской пристани, а корабли с самарскими товарами поднялись вверх по Самаре и теперь стоят на ближней к городу Самарской пристани, возле них толпится и шумит народ, и где-то там, среди них, покрикивает Вельяминов. А на Волжской пристани было затишье. Подойдя к ней ещё ближе, Маркел увидел, что народ там сошёл с кораблей на берег, учредил табор и развёл костры. А Кирюхина нигде у костров видно не было. Маркел сразу пошёл к стругу. И он не ошибся. Кирюхин лежал у себя в чердаке. Увидев заглянувшего к нему Маркела, Кирюхин спросил, как в крепости дела. Маркел залез в чердак, сел на свободную лавку и ответил, что дела делаются, Вельяминов всем доволен и можно плыть дальше. На что Кирюхин сказал, что надо дать людям отдохнуть хотя бы один день, потому что дальше, до самого Саратова, отдыхать будет негде. – А кто такой Порфирий Павлович? – спросил Маркел. – Я о таких не слыхивал, – строгим голосом сказал Кирюхин. Маркел усмехнулся. Тогда Кирюхин разозлился и спросил: – Может, ты ещё про ведьму Фёклу Жигулиху спросишь? – А что? – спросил Маркел. – Про неё тоже одна брехня? – Вот когда я её увижу, тогда и поверю, а так нет! – сказал Кирюхин. – Так что давай лучше в тавлеи срежемся! – Девять рублей моих! – сразу сказал Маркел. – Даже хоть девять с полтиной! Неси доску! Маркел принёс, они сели и играли до самого темна. Маркел вначале выиграл ещё рубль с полтиной, но Кирюхин сильно разозлился, стал ругаться, и Маркел поддался на рубль, а потом ещё на два. Кирюхин как дитя обрадовался, начал выхваляться, и Маркел опять взялся играть всерьёз, но время было уже позднее, на доске ничего видно не было, и пришлось согласиться на мировую. Ночью Маркел спал неважно, ворочался, ему снилась всякая дрянь, то есть он плыл по Волге, сапоги на нём были тяжёлые и так и тянули ко дну, а до берега было ещё очень далеко, и с берега выл слон, хотя самого его видно не было, но кому другому было ещё так реветь, как гром? Утром Маркел проснулся злой, невыспавшийся, от города слышался колокольный звон, а вот сам Вельяминов провожать их не пришёл. Пришёл только тамошний государев дьяк, Степан Филонович Тюхин, и сказал, чтобы они были настороже, потому что знающие люди им сказали, что здесь, где-то здесь рядом, ходит Яшка. – Какой Яшка? – спросил Маркел. – Внук ведьмы Жигулихи, что ли? На что Тюхин разозлился и ответил, что он не знает, чей внук Яшка, а он только знает то, что им лучше близко к берегу не подплывать, а держаться стрежня. После чего Тюхин сошёл со струга, тюхинские, правильней, конечно, вельяминовские стрельцы оттолкнули их струг от причала, кирюхинские стрельцы одни сели к вёслам, другие поставили мачту и парус, и струг поплыл вниз по Волге, а за ним поплыли купеческие корабли, их теперь оставалось восемьдесят два, сказал Кирюхин, а за купцами плыл струг подъесаула Елизара Смыкова. И так они плыли полдня. Волга опять стала поворачивать направо, течение убыстрилось и сбилось к горному берегу, про который Тюхин говорил, чтобы они его опасались. Но сколько Маркел ни смотрел на тот берег, ничего опасного он в нём не видел. Берег был как берег, зелёный, заросший, и никого там, конечно, не было, думал Маркел, потому что там же сколько ни смотри, нигде листик не дрогнет, паутинка не шевельнётся, ветерок не дунет… И вдруг в чаще что-то сверкнуло, как пищальный ствол, Маркел пригнулся, грохнул одиночный выстрел, с Маркела сбило шапку, он упал, Кирюхин заорал: «Право греби, отходим!», а Маркелу приказал лежать. И Маркел ещё долго лежал, пока они как следует не отошли от берега. Только тогда Маркел поднялся, поднял шапку, засмеялся и сказал: – Чуть не попали! И уже хотел было надеть шапку обратно, как вдруг Кирюхин сказал: – А дай мне! Маркел протянул ему шапку. Кирюхин рассмотрел её и так и сяк, а после усмехнулся и сказал: – Это тебе, Маркел Петрович, Яшка Семиглазый поклон прислал. – Как это так? – спросил Маркел. – А вот смотри! – сказал Кирюхин. И показал Маркелу его шапку. В шапке было две дыры: одна прямо на лбу, вторая на затылке. Так что это, подумал Маркел, пуля через голову прошла, так, что ли? И он посмотрел на Кирюхина. Кирюхин молчал. Маркела взяла злость, и он сказал: – Да это ведьмовство какое-то! – Похоже, так оно и есть, – сказал Кирюхин. – Так что мне теперь, – в сердцах сказал Маркел, – ходить простоволосым, как холоп? И надел шапку, поправил её, посмотрел на берег и подумал, что целили в шапку – и в шапку попали, а будут целить в лоб – и наклониться не успеешь! И перекрестился.Глава 9
И больше ничего приметного в тот день не приключалось. Также и в последующие дни, то есть до самого Саратова, они тоже никого не встречали. Правда, это только днём было так тихо и пусто, а как только наступала ночь и они приставали к берегу, на другой стороне Волги становились видны чьи-то костры, слышались обрывки песен, а то даже стрельба из пищали. И ещё жара тогда стояла просто нестерпимая что днём, что ночью. Маркел почти не вылезал из своего чердака, лежал в теньке и скучал смертной скукой. Так продолжалось день за днём, ветер дул встречный, южный, стрельцы чуть гребли, и поэтому только на восьмой день, на Алексия, митрополита Московского, всея Руси чудотворца, с кораблей увидели Саратов. Саратов оказался очень похожим на Самару – тоже такой же недавно поставленный, и тоже на горе, тоже на восемь башен с пушками и обнесённый высоченным тыном, вот только он стоял не в поле, а на самом берегу, над пристанью. На пристани были видны стрельцы, Кирюхин сказал, что это костромские, сотника Свиридова, то есть тоже годовальщики, как и в Самаре. Костромские стали разжигать дымы. От города ударили в колокола. Маркел смотрел из-под руки, помаргивал. Кирюхин засмеялся и сказал, что здесь ничего не высмотришь, просто ещё одна Самара, вот и всё. Вскоре так оно и оказалось. Караван пристал к берегу, народ начал спускаться по сходням, выносить товары, если это были те корабли, которые шли до Саратова, а остальные просто чалились. Маркел и Кирюхин спустились на берег. Маркел осмотрелся и пошёл вверх, к крепости, а Кирюхин идти отказался, сказал, что у него ещё много чего надо здесь переделать. Ну ещё бы, подумал Маркел, как же это он бросит Свиридова, – и вошёл в крепостные ворота.На крепостном дворе Маркел показал подорожную, и его сразу проводили в дьячую избу. Только, сказали, дьяка нет, дьяк внизу, у воды, а государь воевода на месте. Маркел поднялся на крыльцо, прошёл через сени. Караульный стрелец стукнул в дверь. Из-за двери покашляли. Маркел вошёл и поклонился в пояс, распрямился, назвал себя, подошёл к столу и подал подорожную. Государь воевода, Лодыгин Борис Владимирович, матёрый дворянин московский, взял подорожную, нахмурился, повернулся к окну и прислушался, потом спросил: – Это твои шумят? Маркел кивнул, что его. – Великие дела затеяны! – сказал Лодыгин важным голосом. Маркел ещё раз кивнул. Лодыгин опять посмотрел в подорожную, начал читать её, долго читал, потом положил на стол, задумался. – Я еду в Персию, – сказал Маркел. Лодыгин улыбнулся. – Я за слоном, – продолжил Маркел. – Тамошний шах нашему царю слона подарил, вот меня за этим слоном и послали. – Знаем, знаем, – ответил Лодыгин, продолжая улыбаться. – В прошлом году один уже съездил. – И что? – спросил Маркел. – Не велено рассказывать, – сказал Лодыгин. – Человек ещё в расспросе. Вот кончится расспрос, тогда расскажем. – А пока что? – спросил Маркел. – А пока от вас только одна беда, – ответил Лодыгин уже без улыбки. – В тихом месте струги тонут. Народ на реку не выгнать! – Из-за чего это? – спросил Маркел. – Да из-за таких, как ты! – уже в сердцах сказал Лодыгин. – Отравили слона, и он сдох! И тот, кто отравил его, теперь в расспросе. Расспрос кончится, и расскажу. А пока… И он опять посмотрел в подорожную, потом перевернул её на другую сторону, прочитал, что там написано, посмотрел на Маркела, согласно кивнул и поставил печатку. Маркел подступил к столу и забрал подорожную. Лодыгин покосился на окно, послушал шум во дворе и спросил, много ли привезено железа и, что ещё важнее, сказал он, привезли ли кузнеца толкового. Маркел сказал, что привезли. Лодыгин этому очень обрадовался и широко перекрестился. Потом стал спрашивать и про другие товары и мастеровых, и про незамужних крепких девок тоже. Маркел ответил, что про этих тоже не забыли. Лодыгин ещё больше обрадовался и сказал, что много на свете разных добрых дел, но люди почему-то лезут добывать слонов, а другим людям тогда хоть топись. – Так ведь и топятся! – сказал он гневно. – И всё из-за таких, как ты! Ладно, пойдём, люди уже, наверное, пять раз нас заждались! Они вышли из избы. Народу на площади было полно, не меньше, чем в Самаре. А всем заправлял кирюхинский подъесаул Смыков, он был с есаульской книгой, тут же рядом с ним вертелся саратовский таможенный голова Серафим, а как он по фамилии, Маркел забыл. Лодыгин тут же подошёл к ним, начал спрашивать. Они взялись отвечать, Лодыгин слушал их внимательно, потом велел идти показывать. Они пошли к амбарам. А Маркел развернулся и пошёл обратно к пристани. Когда он туда пришёл и поднялся на струг, то увидел, что он не ошибся, а Кирюхин и Свиридов и в самом деле сидят у Кирюхина в чердаке и понемногу выпивают. Кирюхин сразу же позвал Маркела. Маркел залез к ним. – Чего ты такой невесёлый? – спросил Кирюхин. – Да вот с воеводой побеседовал, – сказал Маркел. – Небось про слона выспрашивал, – сказал Кирюхин. Маркел на это промолчал. Свиридов засмеялся и сказал: – А он про это не любит! Тут же, вы бы только знали, сколько тогда шуму было! Слон издох! Царский подарок! Ну а мы к этому каким боком были? Да никаким! Да мы того слона и не видели! Он же ещё вон где сдох! Тридцать вёрст до нас не доходя, напротив Бабьего острова. Будете вниз плыть, увидите. – А от чего он сдох? – спросил Маркел. – Да кто его знает, – ответил Свиридов. – Скотина разве скажет? Скотина молчит. Ряпунин его вёл, вот у Ряпунина и надо спрашивать. А так люди болтают всякое. Говорят, он каменной травы наелся. Резать стало в брюхе. Орал так, что даже у нас здесь было слышно. Потом сдох. Они три дня яму копали, пока выкопали. После навалили сверху камень, чтобы не вставал. – А то что? – спросил Маркел. – Он, что ли, не сдох? – Сдох не сдох, – сказал Свиридов, – а только когда стали его землёй засыпать, так он сразу глаз открыл! И заморгал вот так! Вот тогда Ряпунин и пошатнулся умом, говорят. И повели его под белы руки. Ну ещё бы! Царское дело испортил! Сейчас, наверное, на дыбе, да? – В расспросе он пока, – сказал Маркел. – О! – с пониманием сказал Свиридов. – А нам велели молчать! – А ты почему не молчишь? – спросил Маркел. – Выпил лишнего, – сказал Свиридов. – Завтра буду корить себя, а сегодня ещё нет. Да и, может, всё это брехня. Ни от какой травы слон не сдыхал! Слон сдох от тоски, я так думаю, оттого и слеза покатилась, когда его стали закапывать. Заскучал по дому, вот что! Сказав это, Свиридов замолчал, поморщился. Кирюхин ему ещё налил. Свиридов выпил и вздохнул. Тогда Маркел ещё спросил: – А отчего у вас здесь корабли переворачиваются? – Не у нас, а там, где слон сдох, – сказал Свиридов. – Это как раз напротив того места. Но это же не из-за слона, а они всегда там переворачивались, но раньше свалить было не на кого, а теперь есть на кого. Вот и валят! – А ещё, – сказал Маркел, – нам говорили, что Ряпунин сам слона убил, со злости. – Ну, я этого не знаю! – сердито ответил Свиридов. – Меня там тогда не было. А которые его оттуда привели, нам такого не рассказывали. – Это которые его в лесу подобрали? – спросил Маркел. – Какой лес! – в сердцах сказал Свиридов. – Тут за лесом в Казань ездят! Петя! – продолжил он, поворачиваясь к Кирюхину. – Налей, выпьем за грешную душу. – Какая же он грешная душа? – сказал Маркел. – Он зверь! – Ну, может, и зверь, – сказал Свиридов. – Но, говорят, они такие же люди, как мы, и у них даже есть своя держава и свой царь… – Брехня это! – строго сказал Маркел. – Ну, может, и брехня, – сказал Свиридов. – И вот за это и выпьем. И только они выпили изакусили, как пришёл посыльный от воеводы, и Свиридов ушёл в крепость. Маркел и Кирюхин, оставшись вдвоём, вначале посидели молча, а потом Кирюхин вдруг сказал: – А вот мне всё время думается, что этот слон мне дался недаром. Будет мне от него беда великая! – Да какая ещё беда?! – весёлым голосом спросил Маркел. – Самая простая, – ответил Кирюхин. – Потопит он нас, вот что! Такая же махина, говорят! – Ну какая он махина! – воскликнул Маркел. – Сорок мешков зерна, и это весь наш слон. А что такое сорок мешков? Это они лежат себе, и всё. – Вот в том-то и оно, – в сердцах сказал Кирюхин, – что это только мешки смирно лежат, а этот зверь вдруг как подскочит да как пойдёт плясать! И перевернёт наш струг как пить дать! – А чего ему плясать? – А вот из вредности! Эти же, которые Ряпунина вели, так прямо и говорили, что слон – очень злобный зверь, мстительный. Вот Ряпунин и не удержался и убил его! – Тьфу, на тебя! – сказал Маркел. – Ну, может, тьфу, – не стал спорить Кирюхин. И замолчал, и стал смотреть перед собой, как, говорят, смотрел Ряпунин, когда его вели в Москву, вспомнил Маркел, но вслух об этом говорить не стал. И так же молчал и Кирюхин. И больше в тот день ничего особенного не случалось, никто к ним из крепости не приходил. А назавтра, с самого утра, пришёл тамошний (то есть саратовский) таможенный голова, Маркел опять забыл его фамилию, и принёс Кирюхину бумаги, потом из крепости ударили колокола, караван построился и двинулся дальше по Волге. И так опять, теперь уже до самого Царицына, правильнее – до Переволоки, ничего особенного с ними не случалось. Никого они не видели и никого не слышали, берега были пустые, дикие. Только когда подходили к Слоновьему камню (а его и сейчас с воды видно), Кирюхин велел взять левее, и взяли, и обогнули, было тихо. А после будто кто-то заиграл на дудочке, но почти сразу перестал. Или ему это так только показалось, подумал Маркел и перекрестился. А Кирюхин снял шапку и так молча и сидел, задумавшись. И также и тогда, когда Маркел стал заговаривать с ним о Ряпунине и о его слоне, Кирюхин тоже ни словечка не промолвил.
Глава 10
И вот так, почти что в полной тишине, они проплыли ещё восемь дней, и только на девятый день, то есть двадцать девятого мая, на блаженного Иоанна Устюжского, они увидели Царицын. Царицын в те времена был очень похож на Саратов – у него было столько же башен, как и там, и такой же вокруг него был высоченный тын, вот только Царицын стоял не на берегу, как Саратов, а прямо посреди реки, на острове. И колокола в Царицыне уже, как и в Саратове, звонили, а на пристань выходили стрельцы. Тоже годовальщики, сказал про них Кирюхин, сотня Ильи Грушина, люди бывалые. – Да других сюда и не пошлёшь, – прибавил Кирюхин. – Рядом же переволока, и с неё, бывает, как попрут, таки не остановить ничем! – А кто прёт? – спросил Маркел. – Да все кому не лень, – ответил Кирюхин. – И воровские казаки, и татары перекопские, это оттуда, а с этой, с Заволжской стороны раньше ногаи пёрли. И ох, их, бывало, собиралось – Боже сохрани! Весной как подойдут ордой к Батрацкому перелазу, так их кибитки, сколько можно было видеть, до самого края земли стояли. А теперь они ушли за Дон и перекопским поклонились. И Великому Турку, конечно. Великий Турок их всех вот так держит! И Кирюхин показал крепко сжатый кулак. – А что казаки? – спросил Маркел. – Они много ходят? – А это уже не им решать, – сказал Кирюхин, усмехаясь. – А кому? – спросил Маркел. – Рыбке, конечно же, – сказал Кирюхин. – Потому что, пока рыбка есть, они у себя дома сидят, рыбачат, и никуда их оттуда не выгонишь. А зато как рыбки нет, так они сразу давай сюда. И так и прут! Весёлые там люди, что и говорить! Собрались всем городком и, как это у них называется, пошли за зипунами. А у нас тут, на Волге, как они говорят, зипунов всегда хватает. Или сразу идут дальше, в кызылбаши. Ну да в этом году, по всем приметам, на Дону рыбки будет навалом и казаки будут сидеть дома. Сказав это, Кирюхин замолчал и опять стал смотреть на Царицын, который быстро приближался. Впереди вода сильно рябила. – Как бы на мель не наскочить! – сказал Кирюхин. Но Господь миловал, они только чирканули днищем пару раз, струг поколдобило, но пропустило. Они повернули к пристани. Пристань была коротковатая, но и у них был уже не тот караван, что вначале, уже только половина оставалась, даже ещё меньше. Струг подошёл к первым мосткам, с борта бросили верёвку, на пристани её поймали. Кирюхин первым выступил на берег, следом за ним выступил Маркел. Кирюхин почти сразу же остановился, к нему подошли двое. Один из них был с толстой книгой под мышкой – наверное, здешний таможенный староста, а второй, одетый стрелецким сотником, это, подумал Маркел, и есть тот самый Илья Грушин, о котором только что рассказывал Кирюхин. Ну да у них, тут же подумалось, теперь свои дела, а у него свои. Маркел развернулся и пошёл к раскрытым крепостным воротам, в которые уже начали вносить грузы с прибывших кораблей. Войдя в крепость, Маркел осмотрелся и сразу увидел воеводские хоромы. Хоромы были как хоромы, здоровенные, московские. На крыльце стоял стрелец с пищалью. Маркел поднялся по крыльцу, достал подорожную, но разворачивать её перед стрельцом не стал, а только сказал, что он по важному делу, и спросил, где воевода. Стрелец молча посторонился. Маркел вошёл в хоромы, прошёл через сени, подошёл к ещё одной двери, снял шапку и постучался. Ему велели входить, он вошёл и поклонился. У него спросили: – Кто таков? Маркел распрямился, увидел сидящего перед ним немолодого уже человека в дорогущей летней шубе и ещё раз, ещё ниже поклонился и назвал себя. – Долго едешь, – сказал воевода, Бутурлин Фома Афанасьевич, тёртый калач, как его называли. – Тебя ждут, а ты куда пропал? – Винюсь, – сказал Маркел, прижимая к груди шапку. – В следующий раз… – Следующего раза ещё надо будет дождаться! – строго перебил его Бутурлин. – Тут про тебя из Астрахани пишут, обыскались тебя, говорят, а ты как в Волгу канул! – А что стряслось? – скромно спросил Маркел. – Да как что?! – гневно воскликнул Бутурлин. – Тебе было велено спешить, и ты давай спеши, а не спрашивай! Кызылбашский посол в Астрахань приехал, вот что! Едет смотреть, как мы их слона пристроили, а мы этого слона ещё в глаза не видели! Потому что ты в Саратове сидишь и пьянствуешь, а царь-государь волнуется, а кызылбашский шах… Но тут Бутурлин замолчал и задумался, так как, наверное, не знал, как лучше сказать про шаха. Тогда уже Маркел спросил, и очень смирным голосом: – Так шахский посол уже у нас? – В Астрахани он, а не у нас, – сердитым голосом поправил Бутурлин. – И слава Богу! Там его пока задержат, а ты давай скорее гони в Персию, бери этого слона и сразу гони обратно, и чтобы обогнал посла, чтобы пока этот посол… И тут он снова замолчал, задумался. Маркел тоже помалкивал, на всякий случай. Хотя, думал он, чего тут говорить, да разве можно обогнать посла, если он уже почти что здесь, а Маркелу нужно ещё сплавать в Персию, найти того слона, сплавать обратно, доплыть до Астрахани, и что? Да посол за это время давно уже будет в Москве! А слона в Москве не будет! А… И Маркел перестал думать. Просто стоял и ждал, что скажет Бутурлин. А Бутурлин молчал! Потом вдруг усмехнулся и продолжил: – Да не кручинься ты так! Астраханские того посла ещё подержат сколько надо! Да и не ими это выдумано, а это по нашему исконному обычаю они не могут сразу пропустить посла в Москву, а они должны сперва послать туда гонца, там царь гонца выслушает, и если будет на то его царская воля, то он велит пустить посла в Москву, и даст на это подорожную, гонец её возьмёт и привезёт астраханским, а астраханские передадут её послу, и вот только уже тогда, с той царской подорожной, посол сможет ехать дальше. А пока что он сидит и ждёт. А ты за это время съездишь в Персию и привезёшь слона и вперёд посла въедешь в Москву. И всё! Но чтобы завтра рано утром выступил!.. И вдруг спохватился и спросил: – А где, кстати, твоя подорожная? Маркел достал её из-за пазухи и подал. Бутурлин взял её, прочитал, посмотрел на другие отметки, покачал головой и поставил свою. И уже только он отдал подорожную Маркелу, как внизу вдруг раздался шум. Шумели во дворе, всё громче. – Что это ещё такое?! – сердито спросил Бутурлин. – Ведут кого-то, – ответил Маркел. И так оно и оказалось: открылась дверь, и стрельцы ввели чернявого, бритого наголо человека в татарском халате. Человек прижал шапку к груди и поклонился Бутурлину. – А! – настороженно воскликнул Бутурлин. – Мехметка! Ты что здесь делаешь? – Службу служу, – сказал этот человек Мехметка, правильней Мехмет. – Чужие люди на Тюрк-ор пришли и идут дальше, очень быстро. – Что за чужие? – спросил Бутурлин. – Вор Порфирка со своими людьми, – сказал Мехмет. – Сколько их? – Пять сотен, может, больше. – А другие кермены идут? – Я этого не знаю. Я только знаю проПорфирку. Я его с его керменом на свои глаза видел! Бутурлин молча смотрел на Мехмета. Мехмет медленно помаргивал. Бутурлин спросил: – А если ты кривишь, тогда что? – Я не кривлю, – сказал Мехмет сердито. – Зачем мне кривить? Разве я тебе когда кривил?! И разве у меня две головы, чтобы одну тебе отдать? Бутурлин молчал, задумавшись. Потом повернулся к Маркелу. Маркел усмехнулся. Мехмет тоже усмехнулся и прибавил: – Позавчера они прошли Паншин-кермен, а сегодня повернули к вам и дошли до Тюрк-ора. Завтра к обеду они будут здесь. Это стоит двадцать пять монет. – Завтра дам, – ответил Бутурлин. – Когда Порфирий придёт, сразу дам. Мехмет усмехнулся. Бутурлин сердито приказал: – Уведите его! Стрельцы увели Мехмета. Бутурлин громко засопел, потом сказал: – Вот, ещё только этого не хватало! Донцы на вас идут! – Почему это на нас? – спросил Маркел. – А потому что мы что? – сказал Бутурлин. – Мы за стенами. А вас бери голыми руками прямо с пристани! – А мы сегодня соберёмся и уйдём, – сказал Маркел. – Рано ещё собираться, – сказал Бутурлин. – Потому что а вдруг всё это брехня? Может, сидит Порфирка у себя на Дону, в своём кермене, и знать не знает, ведать не ведает, что Мехметка про него тут набрехал. А то и совсем наоборот, – тут же прибавил Бутурлин. – Они уже пришли сюда, затаились за Горбатым островом и ждут, когда ты их напугаешься и погребёшь скорей на Низ, и вот тут они тебя и перехватят! – Так ты что думаешь, Мехметка накривил? – спросил Маркел. – Накривил не накривил, – задумчиво ответил Бутурлин, – а ждать надо всякого. Слаб человек! Я сулил Мехметке полсотни монет, а Порфирка, может, сотню посулил. А теперь ещё моих прибавь, и получается сто пятьдесят! Кто же от такого соблазна удержится? – И как нам тогда быть? – спросил Маркел. – Отдыхай пока, – ответил Бутурлин. – Будем ждать второго человека. У меня же там не один Мехметка! Но этот второй пока молчит. – А если его порфирьевские срезали? – спросил Маркел. – Значит, такова его планида, – сказал Бутурлин. – И значит, Мехметка правду сказывал. Завтра дам ему полста монет. И дальше что? Мы-то за стенами и отсидимся, как в прошлом году отсиделись, они тогда мимо прошли, даже не останавливались. Но это мы. А вам нельзя сидеть, а надо уже начинать собираться помаленьку, чтобы потом сразу пойти на Астрахань, слышишь?! А мы тебя со стен прикроем. Пороху не пожалеем! Я же о тебе, может, больше, чем о себе, пекусь, потому что тебе что? Тебя пуля чирк – и уложила! А со мной так скоро не получится! Меня сперва свезут в Москву и там как начнут трепать, мурыжить за то, что вы слона не довезли и на весь мир царя ославили и дружбу с кызылбашами перевели в недружбу… Ну и так дальше. Но это всё после. А пока иди и собирайся, и пусть все твои собираются. Не стой! Маркел поклонился, развернулся и пошёл, шапки пока не надевая. Шапку он надел уже за дверью и подумал, что никакой беды пока что нет, но очень скоро она может быть. И почти что так оно и оказалось. Когда Маркел спустился к пристани, то увидел, что возле кирюхинского головного струга стоит сам Кирюхин, а с ним старшины из их каравана. Кирюхин что-то говорил вполголоса, старшины его внимательно слушали. Маркел подошёл к ним, старшины расступились. Кирюхин повернулся к Маркелу и спросил, что слышно. – Говорят, Порфирка выступил, – ответил Маркел. – Это мы уже слышали, – сказал Кирюхин. – А что Бутурлин говорит? – Напрямую ничего пока, – сказал Маркел. – Может, говорит, кривит Махмутка, а может, и нет. – А что ты про это думаешь? – спросил Кирюхин. – Ты же в этом понимающий. Вон как вы людей к кресту приводите и правду из них вышибаете! – Э! – только и сказал Маркел. – Правду! Да тут иной наш единоверец хоть три раза подряд побожится и тут же скривит! А что уже про инородцев говорить?! Да такому нам скривить – это только своего бога порадовать. Также и ваш Махмутка – поди угадай. Купцы молчали, хмурились. Потом Кирюхин вновь сказал: – Ладно Махмутка, а ты сам как? Что ты про Порфирку думаешь? – А что я думаю? – задиристо сказал Маркел. – Я человек маленький. Что мне Порфирка? Я же не ему, а я царю служу, и у меня есть дело, и я по этому своему делу завтра должен буду ехать в Астрахань, и это всё! – И он широко перекрестился. Все опять молчали. Потом Кирюхин нехотя сказал: – Ну что ж, братцы мои старшины. Слово сказано! Это и вправду дело государево, и куда мне от него? Я же тоже у него на службе. А вот вас я никого неволить не могу. Кто хочет, может оставаться здесь и ждать оказии, а кто хочет, тех возьму с собой. – А что Смыков? – спросили купцы. – А он что? – А это вы уже сами у него спросите, – ответил Кирюхин. – О! – вдруг воскликнул один из старшин. – А вот и он! Все обернулись. По пристани шёл Смыков. – Елизар! – окликнул Кирюхин. Тот остановился. – Елизар, поди сюда! Смыков нахмурился, но подошёл. Кирюхин спросил, куда он идёт. Смыков ответил, что в крепость. – Как в прошлый раз? – спросил Кирюхин. – Может, и так, – уклончиво ответил Смыков. – Это уже как воевода велит. – Ну, иди, – сказал Кирюхин. И Смыков ушёл. Кирюхин ещё раз осмотрел старшин и сказал: – Тогда так, государи старшины. Идите по своим артелям, созывайте артельщиков и думайте, как вам завтра быть. А после я приду и посчитаю. И старшины разошлись по пристани. А Кирюхин поднялся на струг, залез к себе в чердак, достал есаульную книгу и позвал Маркела. Пришёл Маркел, Кирюхин листал книгу, называл, Маркел считал в уме, Кирюхин проверял по книге, сколько кораблей уже прошло, сколько осталось, что везут, в какую цену, сколько чего оплачено, а сколько нет, и так далее. Потом стали подбивать остаток. Получалось, что в Царицын они привели 57 кораблей, из них 15 там же и останутся, а дальше, на Астрахань, собираются идти 42 корабля, 8 артелей. – Но это, – сказал Кирюхин, – если никто не передумает. Ну а если передумают, тогда будут сидеть здесь и ждать оказию, а её в этом году может совсем не быть. Так что лучше идти скопом. Он взял книгу и пошёл. А Маркел залез к себе в чердак, проверил сундук, печати, лёг и задумался. Надо было думать о слоне, но о слоне совсем не думалось, а думалось то о Параске, то о Нюське, то о Котьке Вислом. Вот, думал Маркел, лучше бы Котьку сюда послали, Котька ловкий, он бы и с воеводой поладил, и с Порфиркой сговорился бы, и у Мехметки выведал, правду тот говорил или неправду. Ловкий малый этот Котька, да и старший брат у него не дурак, служит в Посольском приказе, переписывает грамоты, страшно сказать, за самим царём. А там строго! Титло не там поставил – и тебя на дыбу! И тебе кнута! Эх, дальше думалось, надо было сразу идти к Котькиному брату, брат же про Нюську всё знает, всё видит, брат бы сразу посчитал, что они уже почти одна семья – и рассказал бы про Ряпунина, что там да как, а так теперь что? Теперь поди угадай, что там было, почему тот слон сдох, а если не знаешь… И Маркел заснул. И ничего ему в тот раз не снилось, он просто лежал и набирался сил. Так он лежал с час, не меньше. А потом пришёл Кирюхин, разбудил Маркела. Гришка принёс горячего, они поели. Маркел спросил, как дела, на что Кирюхин ответил, что все восемь артелей с ними едут, никто не остался. – А там люди бывалые, – сказал Кирюхин. – Так что будет нам от них подмога, если что. Но это если Порфирка придёт, а пока что ничего о нём не слышно. Вот так-то! И на этом их беседа кончилась. Они ещё немного выпили и разошлись. Маркел вернулся к себе, снова лёг, зажмурился, опять долго ничего не снилось. В глазах было темно, на пристани перекликались караульщики, и под их гиканье Маркел мало-помалу заснул. И опять ему во сне было спокойно, смирно… А потом из темноты вдруг как выскочит слон! Да как кинется к Маркелу! А Маркел как кинется бежать! А слон за ним! А вокруг поле бескрайнее, пожухлая трава, жарища! Маркел бежит, спотыкается, а слон сзади топает, земля трясётся! Пушки бабахают! Пищали ухают! Маркел вскочил…Глава 11
Было ещё темно, ещё только начало светать, а уже колокола гремели! Грохотали пушки! Люди кричали, бегали! Маркел схватил саблю, выскочил из чердака и осмотрелся. Крепостные ворота стояли открытые настежь, в них вбегали люди. Со стен стреляли пушки, было очень дымно. Кирюхин стоял на причале, размахивал руками, что-то объяснял бегущим. – Воры! – кричали с крепостной стены. – Воры! – и указывали через Волгу, на ту сторону, на Переволоку. Маркел обернулся. Там, с горного берега Волги, поспешно спускалась здоровенная толпа людей, вооружённых чем попало. Они тащили лодки, связки хвороста, плоты. – Сарынь! – кричали из толпы. – Сарынь! Руби царёвых! Руби! А те из них, кто бежал впереди, уже начали бросаться в Волгу и поплыли к крепости! А сверху, от Переволоки, валом валили всё новые и новые вооружённые люди, и казалось, им конца не будет. Маркел снова посмотрел на крепость. Там уже не стреляли, а ждали, когда нападавшие подплывут поближе. А что наши, подумал Маркел и посмотрел на пристань. Там всё было смирно и в порядке – купеческие корабли один за другим выгребали на стрежень и уходили вниз по Волге. Примерно половина кораблей уже ушла туда и скрылась за так называемым Горбатым островом, а те, что остались позади, один за другим отходили от причала и уже тоже мало-помалу выходили на большую воду. Последним за ними шёл смыковский струг, он был налегке, без пушек. Но вот он остановился посреди реки, стрельцы отложили вёсла, встали с лавок, подняли пищали и дружно стрельнули в самую гущу плывущих к крепости казаков. Казаки, те, которые остались живы, гневно закричали. Смыковские снова сели к вёслам, развернулись и пошли обратно, к крепости. А какой шум тогда стоял! Казаки с того берега реки свистели просто оглушительно, а от Царицына, от крепости, гремели колокола. Бутурлин, в епанче и в кольчуге, стоял на раскате въездной башни и, размахивая саблей, что-то указывал Кирюхину. Кирюхин вернулся на струг, осмотрелся, все купеческие корабли уже далеко отошли от пристани, и Кирюхин указал на них. Стрельцы упёрлись вёслами в причал, отчалили и сели выгребать. Кирюхинский струг быстро пошёл вслед за купцами. Смыковские, идущие кирюхинским навстречу, остановились, ещё раз стрельнули в казаков и пошли дальше, к крепости. Когда они проходили мимо кирюхинских, то закричали: «Бей вора! Царёв!» Кирюхинские им ответили: «Царёв!» – и развернулись на стрежне и тоже дружно пробабахали в казаков. Казаки уже молча плыли к крепости. Смыковские шарахнулись боком в причал, повыскакивали со струга на берег и побежали к крепостным воротам. Ворота распахнулись, смыковские забежали в них, ворота сразу затворились. А тем временем первые из казаков уже выбрались на причал, вскочили, побежали к смыковскому стругу… И не добежали – их всех перестреляли сверху, со стены. Но на смену этим казакам уже плыли их товарищи, они громко кричали «Сарынь!», взлезали на причал, бежали к стругу… Но что там было дальше, чем эта битва закончилась, Маркел не видел, так как кирюхинский струг уже повернул за Горбатый остров и казаки, равно как и пристань, и Царицынская крепость, скрылись за поворотом. Теперь можно было не спешить. Маркел снял шапку, сел на приступке своего чердака и перевёл дыхание. Стоявший рядом с Маркелом Кирюхин сказал: – Вот Бутурлин и отбился. Потому что как его теперь за стенами достанешь? А нас бери голыми руками, они думают. – Тут Кирюхин усмехнулся и прибавил: – Ничему их прошлый год не научил! – А что было в прошлом году? – спросил Маркел. – Да то, что и в этом, – ответил Кирюхин. – Обмишурился Порфирка. Сперва он думал взять Бутурлина с наскока, да ничего у него из этого не вышло. Тогда он за мной погнался. Гнал, гнал – и не догнал, развернулся и пошёл обратно. И так будет и в этом году: постоит он под Царицыном, положит половину войска и уйдёт к себе на Дон. А там его ссадят с атаманства. Потому что не лезь, если не умеешь! Дай дорогу другим, скажут. Вот, скажут, есть у нас Никита Волдырь, давайте крикнем Никиту, он ловчей. И крикнут! И на следующий год сюда придёт уже Никита, и мы будем уже с Никитой биться. – А ты что, – спросил Маркел, – этого Никиту знаешь? – Знать не знаю, а наслышан, – уклончиво ответил Кирюхин. Да и Маркел больше ничего не спрашивал, а просто по целым дням стоял, поглядывал по сторонам и то и дело головой покачивал. Места были дикие, голые, в глаза дул песок, и поэтому просто не верилось, когда Кирюхин говорил, что им только бы доплыть до устьев и тогда всё сразу переменится. – Там же кругом всё заросло и затопилось! – говорил Кирюхин. – Там же вместо одной Волги триста рукавов, и каждый течёт, куда хочет. А сколько там рыбы, сколько птиц и всякого зверья! А змей! И тут он обычно крестился. А потом смеялся, прибавлял: – Будем идти обратно, надо будет стеречься, как бы там слона не потерять. Там же такие чащи непролазные, там же камыш, как лес, пятисаженный! Маркел молчал, поглядывал по сторонам. Справа был один остров, голый, слева – другой, такой же, впереди – третий… И так дальше – караван шёл вниз по Волге, небо было чистое, солнце палило нещадно. И на второй день оно палило, и на третий, острова появлялись то слева, то справа, кирюхинский струг шёл впереди, за ним шли купеческие корабли, всего их было сорок два, потом пятнадцать из них, сказал Кирюхин, останутся в Астрахани, а остальные пойдут так – одни по морю в Терский городок и дальше сухим ходом на Шемаху, а другие по морю на Мышлак и дальше сухим ходом же в Бухарию. – А мы куда? – спросил Маркел. – Туда или туда? – А мы туда, куда у тебя в подорожной записано. – Но у меня там записано «куда будет указано»! – Вот, значит, будем ждать, куда нам укажут, – ответил Кирюхин. – А куда лучше? – спросил Маркел. – Хрен редьки не слаще, – ответил Кирюхин. – С терской стороны шамхальцы, а с мышлакской – караганцы. – А кто это ещё такие? – О них ещё рано спрашивать, – сказал Кирюхин. – Сперва надо пройти Демьяна. И вот это уже наш природный человек, крещёный, живёт в Волжском устье, в Камызячьем рукаве. У него тридцать стругов и десять сотен войска. И вот когда через него пройдём, тогда будешь про шамхальцев спрашивать. И тут Кирюхин усмехнулся, а Маркел подумал, что пока и в самом деле надо думать только о том, как бы скорее догрести до Астрахани и чтобы там кызыбашский посол… Нет, про посла тоже рано, подумал Маркел. А о чём тогда не рано? Голова шла кругом. Маркел смотрел на воду, жмурился, в воде отражалось солнце, вёсла били по нему, и оно рассыпалось. Так они плыли девять дней, а на десятый Волга разделилась в первый раз, рукав назывался Бузан, он был куда шире Оки, и берега там были зелёные, трава сочная, такую бы… Ну и так далее. А назавтра, с левой стороны, они увидели Астрахань. Было это девятого июня, на преподобного Кирилла, игумена Белоезерского.Глава 12
Астрахань Маркелу очень глянулась. Ещё бы! Это же сколько они плыли, ничего вокруг не видели, и тут вдруг такая красота: каменные стены, башни, а за ними высоченные колокольни, тоже каменные. А камень беленький и солнце яркое, а народ на пристани так и гудит, так и толчётся. И сколько же там народу – почти как в Москве! Да это и есть почти Москва, подумалось, ну или хотя бы Казань. А как густо пахнет рыбой! А как солью! Маркел нюхал воздух, ноздри раздувались. А корабли мало-помалу приближались к пристани. От кремля уже звонили колокола, народ в рядах останавливался, оглядывался на караван и опять принимался за свои дела. Да, думал Маркел, это вам не Царицын, и, улыбаясь, слушал звон колоколов. Потом оглянулся на чердак. Там уже стоял караульный с пищалью, сторожил сундук. Маркел одобрительно кивнул и снова стал смотреть на Астрахань. Потом оглянулся на купеческие корабли, они легко шли по течению. И ветер тоже был попутный, а это добрая примета, вспомнилось. И тут с берега вдруг начали кричать, наши откликнулись. На берегу приготовились. Кирюхинский, правильнее, есаульный струг первым ткнулся в мостки, с борта бросили верёвку, с берега её поймали и зачалили. Кирюхин не спеша сошёл на пристань, за ним пошли остальные, и с ними Маркел в общей куче. Потому что, а зачем лезть на рожон, подумалось, люди же бывают разные, бывают наши, а бывают и не наши, а бывает, и чёрт разберёшь, как вон тот молодчик на пристани, который на Маркела так и пялится! И так ведь оно и случилось, Маркел не ошибся, потому что только он сошёл с мостков, как тот молодчик тут же подошёл к нему, поклонился и с почтением сказал: – Маркел Петрович! Маркел глянул на молодчика, подумал и спросил: – А ты кто? – Я Филиппов, – ответил молодчик. – Филиппов, здешний губной староста. Меня к тебе приставили. Маркел помолчал, потом спросил: – А как ты меня узнал? – Так как это?! – сказал Филиппов. – Про тебя только глухие не наслышаны. Да и вас, московских, сразу видно. Маркел мрачно хмыкнул. – Пойдём, – сказал Филиппов. – Тебя у воеводы ждут. А воевода у нас знаменитый, сам знаешь. Ну ещё бы, подумал Маркел, князь Троекуров, самодур известный, и мотнул головой, и спросил: – А что слышно про посла про кызылбашского? – А! – только и сказал Филиппов и махнул рукой. Маркел понимающе кивнул, и они пошли вверх, к кремлю. В воротах их, ничего не спрашивая, сразу пропустили. Они вошли в кремль, прошли мимо строящегося храма, Маркел перекрестился, прошли мимо второго, освящённого, Маркел опять перекрестился, и повернули вдоль стены. – Срам какой! – чуть слышным голосом сказал Филиппов. – Вот это архиерейский дом, а вот здесь твоего подселили. – Посла, что ли? – спросил Маркел. – Его, – мрачно ответил Филиппов. – Некрещёного – и в кремль. И он здесь по-своему каждый день молится по десять раз! – По пять, – сказал Маркел. – По пять тоже много, – ответил Филиппов. – А где он сейчас? – спросил Маркел. – Дома сидит, как сыч, – сказал Филиппов, заворачивая за угол. – Он только иной раз вдруг скажет, что хочет кататься, и тогда ему сразу дают коня, наилучшего, индейских кровей, между прочим, и он на нём здесь по двору туда-сюда ездит, гарцует. А мы, христиане, молчи! С этими словами Филиппов опять повернул, и они подошли к здоровенным каменными хоромам с таким же здоровенным каменным крыльцом. – Откуда вы столько камня берёте? – с удивлением спросил Маркел. – Из Старого Царского города возим, – ответил Филиппов. – Из Царского татарского, конечно. Они же триста лет тут сидели, город себе огромадный построили. Ахмат-царь строил, говорят. А после пришёл царь Тимур и перебил их всех и город разорил. Теперь мы туда ездим, камни собираем. Деревьев же здесь, считай, нет никаких, одни кусты, прости Господи! И они стали подниматься по ступеням. Наверху стояли стрельцы с бердышами. Филиппов кивнул на Маркела и сказал, что это человек к ним нарочно из Москвы приехал, стрельцы расступились, и они вошли. Потом, в широченных сенях, им открыли ещё одну дверь, но Филиппов заходить в неё не стал, поэтому зашёл только один Маркел, поклонился великим обычаем и представился. Важный голос спросил подорожную. Маркел распрямился и увидел Троекурова. Князь и воевода и боярин Троекуров Фёдор Михайлович был из себя толстомясый, бровастый, решительный, в дорогущей летней шубе. Сразу видно, что боярин, с невольным почтением подумал Маркел, сделал три шага вперёд и подал Троекурову подорожную. Тот мельком просмотрел её, поставил свою печатку, потом долго смотрел на Маркела и только потом уже спросил, знает ли Маркел, что такое слоны. – А их что, не один уже? – спросил Маркел. – Э! – невесело ответил Троекуров. – Нам хотя бы с одним справиться. И он засмеялся. Маркел на всякий случай промолчал. Троекурову это очень не понравилось, он сразу стал сердитым и спросил: – Ты что, от них приехал? – От кого? – Да приезжали тут одни в прошлом году! – нехотя ответил Троекуров. – Ивашка Сицкий с Ивашкой же Пушкиным. Выскочки безродные! Ходили, смотрели. И то у меня не так, говорили, и сё. Сдавай, говорили, воеводство, вот тебе на это государева грамота с государевой печатью – и совали эту грамоту. Они думали, я оробею. А я спрашиваю: всё сдавать? Они: да, всё! И слона, я спрашиваю, тоже? А они: а какого слона? А вот такого, говорю, из Персии. Так он же сдох, они мне говорят. А я им: это первый сдох, а мы уже про другого слона договорились, скоро за ним поедем. Как это, говорят, поедем? А вот так, я говорю, и я тоже поеду, через море, в Персию. Дело же, я говорю, какое великое, как можно такое упускать?! А меня не будет, тогда надо будет ехать вам. Да и что такое слон, я говорю, невелика беда его перевезти! Перевезёте! Вон вы какие бугаи! И вижу, Сицкий Пушкина под бок! А Пушкин покраснел как рак и говорит… Но тут Троекуров замолчал, задумался. – Что Пушкин говорит? – спросил Маркел. – А твоё какое дело? – сердито сказал Троекуров. – Я здесь пятый год сижу, три раза ко мне приезжали снимать, в последний раз Пушкин. И что? Да если бы было за что, давно бы меня в железа забили – и в Москву! Я же знаю, чьи это козни. Это всё Бориска Годунов, татарин, сам безродный и за собой других таких же безродных тащит. Кто такой Сицкий? А кто Пушкин? Молчишь?! А я – двадцать второе колено по Рюрику, вот как! Я, может… И тут он опять замолчал, огладил бороду, немного унялся и продолжил: – Ну ладно. Так, говоришь, собрался за слоном? – Точно так, – сказал Маркел. – А ты слонов когда-нибудь видел? – насмешливо спросил Троекуров. На что Маркел уклончиво ответил: – Видеть не доводилось пока что, а вот слышать много слыхивал. Троекуров только головой покачал и сердито сказал: – Вот так и Ряпунин в прошлом году сказывал. Всё петушился: я! я! А на поверку что вышло? Разъярился и убил слона. А слон ведь тоже божья тварь! А он его пикой под брюхо! – Но люди говорят… – начал было Маркел. – А что мне твои люди! – перебил его Троекуров. – Я на свои глаза видел: он всегда с пикой ходил! Маркел молчал растерянно. А Троекуров тяжело вздохнул и продолжал: – Ну ладно. Я что, изувер какой-нибудь, чтобы чужому горю радоваться? Вот в прошлом году Пушкин орал: Троекуров, твою… И Троекуров замолчал, потом продолжил: – Да! Но что было, то прошло. И Пушкин с Сицким поехали несолоно хлебавши восвояси, а я тут как сидел, так и буду сидеть до самой смерти! Я же о людях пекусь. Вот как хотя бы о тебе. Я же тебе гостинец приготовил. Не веришь? Сейчас мы тебе это покажем, это здесь рядом. И тут он встал с лавки, хлопнул в ладоши и позвал: – Филиппов! Открылась дверь, и вошёл тот самый Филиппов. Троекуров сказал: – Отведи его и покажи. И расскажи, если что будет надо. А после опять сюда. И не толкитесь под чужими окнами! Филиппов кивнул Маркелу, и они оба вышли. Выйдя во двор, они опять пошли мимо посольского дома. Там, рядом с домом, никого видно не было. Также и окна все были закрыты. Филиппов посмотрел на них, сказал: – Как будто нет там никого живого. А ночью свет виден. Чего им не спится? Маркел промолчал. Филиппов опять заговорил: – Вина не пьют, кваса тоже. Одну воду дуют! Сорок человек – и одну воду! – Ну а едят хоть что? – спросил Маркел. – Баранину. Просо, – ответил Филиппов. – Ну и икру, конечно. Маркел снова обернулся на посольский дом, хотел ещё что-то спросить, но Филиппов сказал, что им мешкать некогда. Они прибавили шагу, прошли мимо церкви и перекрестились, вышли из кремля и пошли вниз, к пристани. На пристани было полно народу. Одни разгружали корабли, другие нагружали. Кирюхин прохаживал туда-сюда, у него под мышкой была есаульная книга, а рядом с ним вертелся некий низкорослый человек, и тоже с книгой, со своей. Это, наверное, здешний таможенный голова, подумал Маркел, но спросить об этом не успел, потому что они опять повернули и пошли туда, куда указал Филиппов. Но и там они прошли совсем немного, потому что пристань кончилась и началось плотбище. На плотбище стояли или ещё лежали на боку недостроенные корабли, по большей части мелкие, но было там и несколько настоящих, больших кораблей, на одном из них работали мастеровые – плотничали. Маркел хотел остановиться возле них, но Филиппов повёл его дальше. И вот уже только там, за высокой кучей досок, Маркел увидел здоровенный струг, даже, наверное, не струг, а бусу. А бусы – они же и шире, и длинней, и выше стругов, и пушек на них можно поставить больше, и чердак там просторней, и товаров можно больше загрузить, и устроить загон для скота, если надо. Подумав так, Маркел остановился. Да и если бы он этого и не хотел, то его дальше не пустили бы стрельцы, перегородившие ему дорогу. Но тут вперёд вышел Филиппов и, указав на Маркела, сказал, что это и есть тот человек, для кого всё это строится. Услышав такое, стрельцы расступились. Маркел и Филиппов прошли дальше, к самой бусе. Возле бусы стоял загорелый человек в старом азяме. – Михалыч, принимай гостей, – сказал Филиппов. Михалыч медленно снял шапку. Маркел подошёл к бусе и стал её рассматривать. Михалыч даже не смотрел в Маркелову сторону. – Михалыч, обскажи ему! – сказал Филиппов. – А что тут обсказывать, – сказал Михалыч. – Всё, как боярин велел, так и сделали. Ну и что не велел, тоже сделали, – и усмехнулся. – Потому что, – продолжал он, увлекаясь, – это же какая скотина, этот слон. Он дикий! Я его в прошлом году видел, когда он здесь лютовал, этот зверь. Двоих насмерть затоптал, между прочим! Поэтому, – и Михалыч повернулся к бусе, – возле мачты делаем загон и там вяжем цепь. Цепь третьвершковая. Слона вот тут на цепь, там выпустил – и на замок. А ключ за пазуху, а будешь в руках держать – он из рук вырвет. И вырывал в прошлом году, а как же! Было такое? Филиппов кивнул, что было. – Вот, – продолжал Михалыч, – теперь как его садить на бусу. Первым делом чалим бусу к пристани. Боком чалим! Здесь ставим сходни. И вот отсюда его гоним. Он идёт, а твои люди уже стоят на том боку, чтобы она не перевернулась. Он заходит, убираем сходни вот сюда. – Михалыч говорил и руками показывал, чтобы было понятнее. – Теперь заводите его в загон и запираете, тот бок можно распускать, и пусть те садятся, и можно уже отчаливать, а слону сразу давать что-то жевать, он тогда смирнеет. Лучше всего давать мочало, он может его три дня жевать, пока сжуёт. Но может и сразу выплюнуть, поэтому мочала надо взять с запасом. Ясно? Маркел ответил, что ясно, после чего сразу же сказал Филиппову, что это надо показать Кирюхину. Филиппов послал за Кирюхиным. Маркел опять начал рассматривать бусу, ходил вокруг неё, прикидывал, потом спросил, а не будет ли слону здесь тесно. – Не должно такого быть, – сказал Михалыч. – Прошлогодний слон был четырёх аршин роста, и это был матёрый зверь. А на этот раз, я думаю, они дадут зверя похлипче. – Почему так? – спросил Маркел. – Потому что так подумалось, – уклончиво ответил Михалыч. И тут наконец пришёл Кирюхин, стрельцы пропустили его, и Михалыч опять начал рассказывать про всё с самого начала. Кирюхин слушал внимательно, иногда сомневался и спрашивал, Михалыч ему объяснял, они спорили, и так продолжалось, может, целый час. Наконец Кирюхин почти что со всем согласился, и Михалыч остался исправлять нескладности, а Маркел, Кирюхин и Филиппов пошли обратно в кремль, к Троекурову. Когда они туда пришли, им сказали, что Троекуров ещё обедает. Они постояли в сенях, помолчали. Потом им велели заходить, но без Филиппова. Маркел и Кирюхин зашли, поклонились. Троекуров осмотрел их и спросил, глянулся ли им их новый корабль или не глянулся. Маркел смирно ответил, что глянулся. А Кирюхин, помолчав, сказал, что чего сейчас об этом говорить, сперва нужно выйти в море, и тогда… – Ладно! – перебил его Троекуров. – Тебе никогда не угодишь. Тебе чего ни дай, всё мало. А вот за это на тебе слона! – и засмеялся. Кирюхин вздохнул, таясь. – О! – сердито сказал Троекуров. – Уже закручинился. А кручиниться уже некогда! Уже приходил человек от посла и спрашивал, что это за люди к нам приехали. Я говорю: это наш караван пришёл, с хлебом. А этот человек: а люди говорят, что это царский гонец. Какие, говорю, гонцы?! А он…Ну и так дальше, – сердито продолжил Троекуров. – Уже нашептал ему кто-то! Уже измена в городе! И вы поэтому вот что: собирайтесь и езжайте дальше. Вот пусть только стемнеет, чтобы он не видел, и езжайте. В Терский городок! Сегодня же! – А караван как? А купцы? – спросил Кирюхин. – Теперь купцы – это моя забота, – сказал Троекуров. – А твоя – это он. – И Троекуров указал на Маркела. – Его нужно спешно свезти в Персию, вот за что царь с нас спросит. – И повернувшись к Маркелу, спросил: – С тобой много добра? – Один сундук и два узла, – сказал Маркел. – Вот и славно, – сказал Троекуров. – А приедешь в Персию, тебе к сундуку человека дадут. Очень толковый человек, пять лет жил там, всё про них выведал. Он тебе крепко поможет, я знаю. Но это после. А пока ступай и отдохни немного. Нынче ночью спать уже не будете, ступай! А мы с Петром ещё немного потолкуем. Маркел поклонился Троекурову, развернулся и пошёл к двери и уже за дверью надел шапку. Придя на пристань, Маркел, никуда уже не заворачивая, сразу взошёл к себе на струг. Было уже немного за полдень, стояла самая жара. Маркел залез в чердак, проверил сундук и печати, расшпилился и прилёг. Пришёл Гришка, принёс пообедать. Но есть совершенно не хотелось, Маркел только маханул два шкалика да закусил севрюжинкой, и всё. Теперь Маркел лежал и думал, но не столько о слоне и даже не о Терском городке, сколько о доме. Потом, может, через час, пришёл Кирюхин и тоже сразу прилёг. И захрапел очень громко! Маркел постучал в перегородку, Кирюхин перелёг на другой бок и теперь спал смирно. Так он спал до самых сумерек, потом вдруг быстро встал, вышел и спросил у караульного, что слышно про плотбище. На что караульный ответил, что там всё в порядке, носят последние мешки. Тогда Кирюхин окликнул Маркела. Маркел взял саблю, надел шапку, вышел и сказал, что он готов и можно забирать сундук. Двое стрельцов взяли сундук и вынесли его на пристань. Кирюхин наклонился, просмотрел печати, развернулся и пошёл на плотбище. За ним пошли все остальные, и Маркел. Быстро темнело, было уже тихо. Так же тихо было и на плотбище. Бусу уже стащили с берега, теперь она стояла на воде, причаленная. Мешки были уже на бусе, это были обычные зерновые мешки, их свалили в горку возле мачты. Там после будет стоять слон, сразу же подумал Маркел, у слонов дурной нрав, слоны звери злые, привередливые, Ряпунин не сдержался и убил слона, так говорят, если не брешут. – Маркел Петрович! – послышалось сзади. Маркел обернулся. Рядом с ним стоял Филиппов. – Маркел Петрович! – повторил Филиппов. – Ты раньше в море бывал? – Нет, а что? – сказал Маркел. – С непривычки может укачать, – сказал Филиппов. – Голову начнёт кружить, кишки наружу выворачивать, харч выметать, так ты тогда хлеба с солью, хлеба с солью, и отпустит. – Отойди! – строго сказал Филиппову Кирюхин. – Не отвлекай от дела! – А Маркелу сказал: – Заходи! Маркел взошёл по новым сходням, прошёл мимо кучи мешков, остановился. Кирюхинские все расселись по местам, взялись за вёсла. Астраханские начали отталкивать их от берега. – Чух! Навались! – велел Кирюхин. Стрельцы взялись грести. Буса, мерно поскрипывая, шла всё быстрей и быстрей. Развернули парус, он захлопал, распрямился ещё больше. – Лепота! – сказал Кирюхин радостно. – Так мы за неделю доплывём! – До Персии? – спросил Маркел. – Ага! – сказал Кирюхин. – Раскатал губу! До Терского городка за неделю! А до Персии нам хотя бы за месяц управиться.Глава 13
Они плыли всю ночь, и хоть это было в полнолуние, всё равно вокруг стояла такая чернота, что можно было только удивляться, как это они ни разу ни во что не врезались или не сели на мель. А мелких мест там было предостаточно, днище бусы то и дело скрежетало по песку, и тогда Кирюхин приказывал «Гэп!», все дружно наваливались на вёсла, и буса медленно сползала с мели. А сколько там было поворотов, сколько глухих заводей и сколько рукавов! И так они плыли до самого рассвета, а после причалили к берегу, нарубили веток и укрыли бусу и, не разжигая огня, легли отдыхать. Днём, как сказал Кирюхин, их могут заметить, так что сейчас надо как можно скорей схорониться. – Схорониться от кого? – спросил Маркел. – От Демьяна и его людей, – ответил Кирюхин. – Здешние места – их вотчина. И так они тогда и сделали: весь день просидели в схроне и только уже вечером двинулись дальше. А утром они опять причалили и схоронились, послали человека посмотреть, далеко ли ещё до моря, человек скоро вернулся и сказал, что до моря ещё полверсты всего осталось. Кирюхин задумался, потом сказал, что место здесь какое-то недоброе, надо уходить отсюда – и они отчалили. Но только проплыли, может, сто саженей к морю… Как вдруг из кустов от соседней протоки на них валом попёрли лодки! – Сарынь! – кричали с лодок. – Бей Москву! Кирюхин велел разделиться. Стрельцы одни навалились на вёсла, а другие начали стрелять в толпу, в гущу лодок. Стало дымно, ничего не видно. Стрельцы стреляли наугад, на крик, лодки начали сбиваться в кучу. Буса разгонялась всё быстрей, лодки за ней не поспевали. – Всем грести! – крикнул Кирюхин. – Налегай! И налегли, теперь уже опять все вместе. Лодки отставали всё заметнее. И вот наконецразошлись берега и буса очутилась в море. А лодки шли и шли за ней, и этих лодок становилось всё больше и больше, их было уже, может, сотня, наверное, они расплывались, будто чёрное пятно… И только одна лодка была красная, и она шла впереди, на ней было четверо гребцов, а на руле сидел высокий толстый человек, краснобородый. – Демьян! Это Демьян! Демьян Рыло! – закричали стрельцы. Демьян услышал, как они кричат, встал и замахал руками. – Стреляйте! – закричал Кирюхин. – Даю десять рублей! Стреляйте! Никто не стрелял. Демьян сел на лавку. Другие лодки обогнали его лодку, и теперь Демьяна видно уже не было. Кирюхин смотрел на Демьяново войско, молчал, а стрельцы продолжали грести. Берег всё отдалялся и отдалялся, ветер дул всё сильней, волны становились всё выше, а демьяновские воровские лодки и не думали поворачивать обратно, а всё гнали и гнали бусу дальше в море. А тут ещё и ветер поменялся на попутный, северный, парус пузырился и трещал, Кирюхин приказал снять парус, парус сняли, опустили мачту… А берега уже видно не было. Пропали и демьяновские лодки. А тут ещё снова поменялся ветер, и теперь он был уже не свежий северный, а жаркий, наверное южный. Или какой ещё? Маркел начал внимательно осматриваться по сторонам. Но он же никогда раньше не был в море, он только помнил, как Котька Вислый рассказывал, что его брат слыхал, будто есть такая маленькая деревянная коробочка, а в ней плавает тоненькая иголка из живого железа, которая всегда показывает в одну и ту же сторону. Или Котька это выдумал? Подумав так, Маркел посмотрел на Кирюхина. А Кирюхин велел не грести, долго стоял и смотрел на небо, как будто он там что-то особенное видел. Все ждали. А Кирюхин развернулся и сходил к себе в чердак, принёс оттуда две длинные палки с зарубками, начал поднимать их над собой и складывать по-разному, смотреть, какая от них тень. Все опять молча ждали, что будет. А Кирюхин убрал палки и велел одним грести, другим табанить, а после велел грести всем вместе. И так они плыли достаточно долго, но ничего не изменилось – солнце стояло высоко, ветер дул слева, в полпаруса, а берега как не было видно, так и оставалось не видно. Кирюхин опять поднял палки, проверил, какая от них тень, долго думал, а после велел взять немного правей. И они опять гребли, а после солнце село, начало темнеть. Тогда Кирюхин велел сушить вёсла и опускать парус. Потом Гришка ходил и раздавал всем воду. Потом легли спать. Было душно, болтало, в кишках стало очень гадко. – Что ты, боярин, такой белый? – спросил Гришка. – Или подать чего? – Нет-нет, – сказал Маркел. – Мне хорошо. И уже не ложился, а сидел, потому что так ему казалось легче. И так он просидел всю ночь. Зато Кирюхин крепко спал, похрапывал, наверное, как слон. Утром было хорошо, не жарко. Кирюхин опять мерил солнце, потом показал, куда грести. Поднялся попутный ветер, все повеселели. Потом ветер тоже начало крутить, потом ветер ещё усилился, буса стала не по-доброму скрипеть. Кирюхин приказал, и мешки с зерном накрыли дерюгой, а дерюгу крепко привязали сверху. И это было очень вовремя – бусу начало болтать, мешки задёргались. Волны поднимались всё выше и выше. Эх, мать моя, думал Маркел, а если б здесь был ещё слон, что тогда было бы? А ведь он скоро будет здесь, если они до этого, конечно, не утопятся. И Маркел начал читать «Отче наш». И так их болтало целый день, и унялось только к вечеру. Ночью опять болтало очень сильно, но Маркел уже немного притерпелся и даже заснул ненадолго под утро. А днём и совсем стало легче – ветер дул попутный, ровный, стрельцы гребли справно, Кирюхин ходил повеселевший, разговорчивый. И не напрасно – потому что ещё на следующий день на окоёме показался берег. Но Кирюхин, увидев его, очень рассердился и сказал, что это не тот берег, что нужно забирать круто налево, а иначе им питья скоро не хватит. Это он про питьевую воду говорит, понял Маркел, вот и ещё одна беда, подумалось. Но этой беды пока что не случилось. Они пошли вдоль берега, примерно в версте от него. Берег был пустой, песчаный, никого там видно не было. Так они прошли весь день, а вечером стали на якорь. Шестой день тоже был спокойный, никого на том берегу не было, но и делать на нём тоже было нечего. Все ждали седьмого дня. И на седьмой день, то бишь июня в шестнадцатый день, на святого Тихона, епископа Амафунтского, показался Терек. Они сразу причалили к берегу и набрали питьевой воды на всякий случай, а уже только потом пошли вверх по реке, к там называемому Терскому городку.Глава 14
Или к Терскому городу, как называют его тамошние люди. А людей там было предостаточно. Первые терские люди, которых увидел Маркел, сидели в небольшом острожке над рекой, и, как только кирюхинская буса, набрав воды, повернула вверх по Тереку, эти люди выстрелили вверх и стали кричать, спрашивая, кто это такие лезут к ним в город без спросу. Кирюхин, приказав гребцам остановиться, в ответ прокричал, что они – люди московские, едут сюда по велению его царского величества государя Фёдора Ивановича и везут терским людям гостинцы. – Не надо нам ваших гостинцев, – закричали с берега, – а сперва отдайте то, что вами ещё в прошлом году было обещано. – Есть и такое, – ответил Кирюхин. И приказал сорвать рогожу. Стрельцы её быстро сорвали, и терским людям стали видны те пятьдесят мешков с зерном, которые высокой кучей лежали возле мачты. Терские молчали. – Ну так что? – спросил Кирюхин. Но терские опять ничего не ответили. – А есть ещё и другие гостинцы, – продолжил Кирюхин. – И всё это даром! Терские ещё немного помолчали, а потом сказали: – Проезжайте! И они проехали. И там дороги было три версты, а после Терек поворачивал, и на этом повороте, у самой воды, стояла небольшая деревянная крепость с деревянными же башнями. А за деревянной крепостью, и тоже вдоль реки, стояла ещё одна крепость, уже земляная, с высоким валом, рвом и с деревянными подъёмными воротами. Кирюхин сказал, что деревянная крепость – это государева, а земляная – казачья. – Сейчас посмотрим, кого из них больше, – прибавил Кирюхин. И в самом деле, из обеих крепостей начали выходить люди, и они сходились возле пристани. Пристань здесь была одна на обе крепости, и толпа там всё увеличивалась. И ещё вот что: вперёд государевых людей из государевой же крепости вскоре вышел важный человек в высокой шапке. Кирюхин сказал, что это Иван Губин, здешний государев дьяк, а вот вперёд негосударевых казаков, так назвал их Кирюхин, не вышел никто. Потому что, как сказал Кирюхин, у них это так принято – вперёд круга не высовываться. – А где воевода? – спросил Маркел. – Скоро узнаем, – ответил Кирюхин. И так оно и получилось. Но вначале буса причалила к пристани, Кирюхин сошёл на берег и, обращаясь к Губину, спросил, как у них идут дела. Губин сказал, что идут помаленьку. После чего сразу спросил, как поживают в городе Москве и всё так ли жив и здоров царь и великий князь Фёдор Иванович. На что Кирюхин ответил, что царь великий князь жив и здоров, чего и вам желает, – и тут же прибавил: – А где благодетель ваш Пётр Михайлович? – Это он так спросил про тамошнего воеводу, князя Петра Шаховского. – Благодетель наш Пётр Михайлович, – с достоинством ответил Губин, – десять дней как ушёл на Сунжу, к Сунжинскому городку, и взял с собой людей поболее, дабы сунжинских оборонить. – То-то я вижу, что вас здесь немного, – продолжил Кирюхин и ещё спросил: – А он сказывал, когда вернётся? – Нет, не сказывал, – кратко ответил Губин. – Ладно, – сказал Кирюхин. – Тогда будем справляться сами. Да и дел у нас не так и много. – И обернувшись, велел: – Выносите! Стрельцы стали выносить с бусы мешки с зерном и складывать их на помосте на пристани. Маркел невольно считал мешки. Их получилось пятьдесят. Но потом вдруг вынесли ещё пять. А потом, Маркел ещё сильнее удивился, вынесли ещё три мешка как будто с солью, и один из них был штопаный. Маркел посмотрел на Кирюхина. Кирюхин утвердительно кивнул. Но люди на этот мешок не смотрели, а они уже смотрели на другой мешок, пусть небольшой, но крепкий, кожаный, так называемый денежный. Его нёс Гришка. И отдал его прямо Кирюхину в руки. Кирюхин сразу взял этот мешок, но говорить о нём пока не стал, а начал так: – Все вот эти пятьдесят мешков несите в государеву крепость, это государевы хлебные запасы для его верных стрельцов. А эти пять оставшихся хлебных мешков – это нашим славным вольным казакам царь жалует за просто так, берите! Но никто пока не брал своих мешков – ни государевы люди, ни вольные. Тогда Кирюхин, негромко откашлявшись, продолжил: – А эти три оставшихся мешка – это порох, и царь-государь повелел разделить его вот как: вот этих первых два мешка – это его верным стрельцам, а этот, третий – вольным казакам, – и тут он указал на тот мешок, который Маркел в Казани ножом резал. А теперь он смотрел на него и помалкивал. А все остальные смотрели на последний, денежный мешок. Кирюхин подбросил его у груди и прихлопнул. Мешок сладко чавкнул. Кирюхин усмехнулся, повернулся к Губину и спросил, сколько государев воевода выдал денег тем вольным казакам, которые пошли с ним на Сунжу. Губин сказал, что по рублю. – А сколько он сулил им выдать по приходу? – спросил Кирюхин. – Ещё раз по рублю, – ответил Губин. – Вот! – сказал Кирюхин. – Это воевода. Из своей казны. А государь царь и великий князь Фёдор Иванович, из вот этого мешка велел мне раздать всем вашим вольным казакам по полтине! Просто так раздать! От царской щедрости! – Тут Кирюхин замолчал и осмотрелся. Все молчали. Тогда Кирюхин засмеялся и прибавил: – А тем, кто из вольных казаков захочет переписаться в государевы, тем выдать ещё сейчас же по полтора рубля! С казачьей стороны толпы молчали. Потом один казак воскликнул: – И получается по два рубля всего! А у стрельцов каждый год по четыре, по пять! Почему?! – А ты запишись в стрельцы! – сказал Кирюхин. – Хочешь, езжай в Астрахань, записывайся, а хочешь, я тебя прямо здесь запишу! Мне царь-государь дал на это печатку! – И он показал её, потом прибавил: – И сразу выдам четыре рубля! Вот, я сую руку в мешок! Подходите! В толпе началось движение, но вперёд пока никто не выходил. Кирюхин засмеялся и сказал: – Смелее! Не робейте! Я же не пёс, не кусаюсь! В толпе засмеялись. А тут ещё кто-то сказал нехорошее слово, да в рифму. Засмеялись громче. Потом кто-то из казаков вышел на середину и начал с жаром говорить про то, что, когда они в прошлый раз на шамхала ходили, им ничего не выдали, а дали только писульки, и по писулькам тоже ничего не получили! – Какие писульки? – удивился Кирюхин. – Царь про писульки ничего не слыхивал! И если это правда, то царь за это посрубает кому надо головы! В толпе ещё сильнее зашумели. Это надолго, подумал Маркел, Кирюхин ловок обещать, и сошёл с бусы на пристань. – Маркел Петрович! – послышалось сбоку. Маркел повернулся и увидел стоявшего рядом с ним Губина. Губин радостно заулыбался и спросил, как ехалось. – Слава Богу, – ответил Маркел. – Вот! – подхватил Губин. – Это славно! А у нас такая замятня! Они тут каждый день орут! А скоро будут орать ещё больше! – Отчего это? – спросил Маркел. – В двух словах всего не рассказать, – важным голосом ответил Губин. И сразу спросил: – А ты к нам по какому делу? – А я не к вам, – сказал Маркел, – я в Персию. – За слоном, что ли? Опять? – удивлённо спросил Губин. Маркел утвердительно кивнул. – Эх! – сказал Губин. – Ну да ладно. И тут в толпе закричали – вперебивку, сразу в нескольких местах, а Кирюхин молчал, улыбался. – Уже в ушах звенит, – сердито сказал Губин. – Айда ко мне! И они пошли. Маркел, как обычно в таких случаях, помалкивал. Также и Губин ничего не говорил, а только время от времени поглядывал на Маркела так, как будто хотел в нём что-то особое высмотреть. И так они молча вошли в государеву крепость, молча подошли к приказной избе, караульные расступились, и Губин и Маркел вошли туда и дальше сразу в палату. Там Губин сел к столу и пригласил Маркела сесть. Маркел подал подорожную и тоже сел. Губин прочёл подорожную, потом ещё раз, и только уже после усмехнулся исказал: – Вот тут правильно написано: через Астрахань и далее, куда будет указано. И вот там и надо было через Мышлак указывать, а ты через нас указал. Зачем? – Если бы я через Мышлак указывал, – сердито ответил Маркел, – вы все остались бы без хлеба. И что бы ты сегодня людям говорил? Губин быстро глянул на Маркела, тяжело вздохнул и нехотя сказал: – Ну, может быть. Зато теперь ты будешь без слона. – Бог не допустит. – Ещё как допустит! Потому что нет теперь дороги от нас в Персию! – уже совсем в сердцах воскликнул Губин. – Как это – дороги нет? – спросил Маркел. – И никогда, что ли, не было? – Раньше была, – уже спокойнее ответил Губин. – А теперь пропала. – И подождав, спросил: – Или ты что, ничего, что ли, не знаешь? Или у вас там, в Москве, ничего про здешние дела не говорят? Так я напомню! Это раньше мы с шамхалом были в великой дружбе, а теперь пришёл Великий Турка и побил шамхала, и тот перестал склоняться к нам, а стал склоняться к Великому Турке. И также с шахом он теперь в большой недружбе, и мы об этом писали в Москву, а они опять тебя сюда прислали! А чем я тебе здесь помогу? Да только тем, что скажу, что нам теперь ездить к шаху можно только вокруг моря другим берегом, через Мышлак, налево, а вы опять взяли направо, через нас! Маркел в ответ только вздохнул. А Губин продолжил с досадой: – Нет нам здесь ходу по этому берегу! Шамхаловы люди не пропустят. У шамхала знаешь сколько войска? Двадцать тысяч одних конных! И ещё на лодках, может, тысяч десять. – А как тогда Ряпунин с ними сговорился? Он же тоже здесь ходил! – сказал Маркел. – Ходил! – насмешливо повторил Губин. – В прошлом году, когда здесь была такая замятня, что не до Ряпунина шамхалу было! Ряпунин дал двести монет, и никто ему препону не чинил. А теперь такого не получится! Теперь шамхал стал другим. Вот где теперь наш воевода? В Сунже, от шамхаловых людей отбивается. Да и что я тебе рассказываю! Ты сейчас лучше сам послушай одного человека, который ещё только вчера оттуда выбежал. – И он повернулся к двери, постучал кулаком по столу и велел: – Приведите вчерашнего бритого! За дверью послышались шаги, а потом стало тихо. Губин сидел неподвижно, смотрел мимо Маркела, молчал. Маркел считал в уме. И когда он досчитал до трёхсот, за дверью опять послышались шаги, какие-то слова, потом дверь открылась, и двое казаков ввели человека, на вид горского татарина. Казаки вышли, татарин снял шапку. Голова у него была бритая. – Это Аллага, – сказал Губин. – Наш верный человек из здешних. Аллага кивнул. – А это Маркел, человек из Москвы, – сказал Губин. – Его царь к шаху послал. Маркел хочет через вас проехать. Аллага посмотрел на Маркела и сказал: – Этого никак нельзя. – Мне очень нужно, – сказал Маркел. – И мне нужно скоро. Пока я в другую сторону пойду, моё время кончится и моё дело пропадёт. – Это очень плохо, – сказал Аллага. – А раньше было хорошо! Наш князь никого не слушал, мы жили по нашим законам, с кем хотели, с тем и воевали, а ваши люди туда-сюда ездили, наши люди смотрели на них и радовались. А теперь так нельзя. Теперь надо делать так, как говорит Великий Турка. Тут Аллага тяжко вздохнул. Маркел опять сказал: – Мне очень нужно. И я скупиться не буду. Аллага огладил бороду, посмотрел на Маркела, потом на Губина. Маркел улыбался, Губин смотрел в сторону. Аллага покачал головой и заговорил: – Это было совсем недавно, в начале этого лета. К нам приехал большой человек от Великого Турки. Князь выехал встречать его, потом мы все вместе пировали, было очень весело. Пировали восемь дней! Большой человек говорил о нашем князе только самые лучшие слова… Но как только он уехал, наш князь стал очень строг и приказал казнить кое-кого. А потом его гнев был таков, что ещё немало голов было срублено. Трудно сказать, в чём были виноваты эти люди, но теперь, я думаю, никто у нас не захочет даже смотреть в сторону неверных, не то что иметь с ними дело. Потому что кому это надо – подставлять свою шею под саблю?! – Но я не поскуплюсь! – сказал Маркел. – Голова стоит дороже, – сказал Аллага. – А я думал, ты храбрый человек! – сказал, усмехаясь, Маркел. Аллага схватился за кинжал. – Хорошо, – сказал Маркел. – Я тебе верю. А теперь скажи, что бы ты делал на моём месте, если бы тебе нужно было миновать земли вашего шамхала? – Одного шамхала в этом деле будет недостаточно, – сказал Аллага. – Великий Турка покорил много земель. Теперь отсюда, может, двадцать дней нужно идти, прежде чем дойдёшь до Персии. Поэтому я вначале нашёл бы человека, который провёл бы меня и моих людей до Тарки, потом… – Погоди-погоди! – сказал Маркел. – А сколько бы ты дал ему за это? Аллага подумал и ответил: – Сто монет. До Тарки. – Так, хорошо, – сказал Маркел. – А дальше? – А дальше, – сказал Аллага, – до Дербента ещё сто монет. Потом сто до Низабата, сто до Баку и сто до Куры. А больше не надо! Дальше уже Гилянские земли, Персидское царство. – Так сколько же это всего денег получается?! – воскликнул Губин. – Пятьсот монет, – ответил Аллага. – И обратно пятьсот? – И обратно. И половину заплатить вперёд. Маркел молчал, улыбался. Зато Губин сердито сказал: – Но это тысяча монет! – Не любишь ты своих солдат, – сказал Аллага. – Они стоят в пять раз больше, и это самая малая цена за них. – Молчи! – сердито сказал Губин. Аллага молчал. Губин посмотрел на Маркела. Маркел спросил: – Значит, ты за тысячу берёшься. Так? – Нет, не так, – ответил Аллага. – Тысяча монет – это столько денег стоит это дело. Теперь надо искать того, кто за него возьмётся. – А ты не возьмёшься? – Нет. Потому что это то же самое, что самого себя зарезать. Маркел усмехнулся, повернулся к Губину, спросил: – А ты что скажешь? – Дам триста, и всё. И не больше! Маркел посмотрел на Аллагу, потом опять на Губина, сказал: – Ладно, решайте пока без меня. А я пойду маленько отдохну с дороги. И вышел. Шёл, выходил из крепости и думал, что Аллага просто набивает себе цену, а Маркелова забота – это не деньги сберегать, а добывать слона. Когда Маркел пришёл на пристань, там почти никого уже не было. Маркел взошёл на бусу. Кирюхина, ему сказали, нет, Кирюхин ушёл к казакам. Маркел залез к себе в чердак, проверил сундук. Гришка принёс обед из крепости. Маркел поел, лёг думать. Ничего не думалось, зато крепко заснулось. Снился слон. Слон стоял, жевал мочало и помаргивал. Потом вдруг поднял хобот, задудел, и Маркел сразу проснулся. Оказалось, что это вернулся Кирюхин, и теперь он толкал Маркела в плечо и радостным голосом говорил, что он записал тридцать казаков в государево войско. – Это очень хорошо, – сказал Маркел. – А что Губин говорит? – А Губин говорит, – сказал Кирюхин, – что Аллага согласился вести нас. За семьсот монет! – В одну сторону? – спросил Маркел. – Нет, в обе, – ответил Кирюхин. – Сейчас он, говорят, пошёл деньги прятать, а уже завтра утром выступаем. Маркел ничего на это не сказал, а только подумал, какой Губин ловкий – как все дьяки! Пришёл Гришка, принёс горячего из крепости. Маркел с Кирюхиным сели ужинать. Кирюхин был весёлый, говорил громко, вспоминал свою последнюю поездку в Персию, говорил, что Маркелу там тоже понравится, а слоны, говорил, что слоны, они такие же быки, только безрогие и с хоботом. Маркел помалкивал. Тогда Кирюхин стал рассказывать про дорогу в Персию через Мышлак – какая там земля, один песок, и что там почти нет воды, а есть только она солёная в старых колодцах, и какой бойкий там живёт народ по прозванию караганцы, чуть что им скажи, они сразу за саблю хватаются, и сколько у них войска, сколько кораблей, и сколько гадов всяких ядовитых, и жара какая, и какой… Ну и так далее. Потом Кирюхин всё-таки ушёл к себе, Маркел дождался, когда тот начнёт ровно дышать, и достал клюевский ключ, приложил его к замку, прислушался. Где-то вдалеке стали кричать, потом стреляли. Это в вольной крепости, подумалось. Маркел лёг, прижался к сундуку, затих, начал считать слонов в персидском войске и заснул.Глава 15
Утром они встали рано, быстро собрались. Потом от Губина пришли ещё двое посыльных, принесли четыре охапки мочал для слона, чтобы он не голодал в дороге, а то в Персии, сказали, мочал нет. Потом пришёл Аллага, увидел мочала, удивился, но ничего не сказал. Да, и ещё вот что: стрельцы ещё с вечера переоделись, и теперь все они были в простых серых холщовых кафтанах и в бараньих шапках. Так оно, ещё на берегу сказал Кирюхин, будет лучше. А теперь он велел стрельцам грести, и они поплыли вниз по Тереку. Когда проплывали мимо давешнего острожка, им оттуда уже ничего не кричали, ни худого и ни доброго. Кирюхин тоже только головой мотнул, но промолчал. Потом они вышли в Четланскую губу, обогнули Четлан-остров, вышли в море. Ветер был полуночный, попутный, Кирюхин обрадовался, но Аллага сказал, что надо ещё взять в море, так оно будет надёжнее. Кирюхин рассердился, но не спорил. Аллага сказал ещё грести, стрельцы гребли. Вскоре Четлан-острова не стало видно. А теперь куда, насмешливо спросил Кирюхин. Аллага сказал, что теперь прямо на полудень. И так они шли прямо на полудень до самого вечера, Аллага только изредка подправлял гребцов то в одну, то в другую сторону. Ближе к вечеру ветер поменялся, Кирюхин вынес свои палки, начал мерить тени. Аллага с любопытством на это посматривал, а после сказал, что теперь надо дать правее. Кирюхин подумал и велел давать. Гребцы дали. Ну и так далее. Когда солнце начало садиться, Аллага приказал брать круто вправо, и вскоре снова показался берег, Аллага велел идти к нему. Они пошли. Солнце уже начало садиться. На берегу стояли двое конных, в бурках и в высоких шапках. Аллага сказал, что это свои люди и он должен их отблагодарить. Кирюхин велел подать чёлн. Аллага сел в чёлн, поплыл к берегу. Кирюхин велел бросить якорь и насторожиться. Стрельцы скрытно взялись за пищали. Аллага вышел на берег, конные сошли с коней, они о чём-то переговорили, очень кратко, Аллага им что-то передал, они сели на коней, уехали. А Аллага махнул рукой и прокричал, что здесь хорошее место, можно ставить табор. И они поставили. Ночь прошла тихо. На следующий день ветер переменился на противный. Они вышли в море и гребли изо всех сил, но продвигались очень медленно. А на берегу, далеко от воды, стали подниматься горы, и не такие, как на Волге, а, можно было догадаться, высоченные. Кирюхин сказал, что это Дербентские горы, и там так высоко, что на их верхушках снег даже летом не тает в самую жару. Маркел не верил, но молчал. А вечером они пристали к берегу и отдыхали. На третий день ветер был попутный, они шли быстро, горы становились выше. Потом, уже после полудня, вдруг показался город на горе. Кирюхин сказал, что это Тарки, столичный город шамхальский, и вон там на горе стоят шамхальские хоромы. Но сейчас, продолжил Кирюхин, шамхала там нет, потому что это его зимние хоромы, летом он здесь почти не бывает, а или жительствует в Кази-кумухе, а это далеко в горах, или ездит по шамхальству и собирает дань со своих подданных. Ну, или ходит на Сунжу, или на Терский городок, помахать саблей, помолодечествовать. Маркел смотрел на берег и запоминал. А вечером опять стали на якорь и учредили табор с караулами. Ночью приехали четверо конных, кони под ними были очень справные. Аллага выходил к ним из лагеря, разговаривал с ними, что-то им передавал, они брали это с удовольствием, потом уехали. На четвёртый день море опять бурлило. Аллага сказал, что это Чёрный змей балует, потому что вон какая чёрная вода, надо убрать вёсла и переждать. Причалили к берегу, выставили караулы, пережидали. На пятый день они увидели Дербент. Это очень большой город, не меньше Коломны, и каменный. И там от пристани вдруг выскочили три большие лодки и кинулись им наперехват. Кирюхин приказал грести в море. Две дербентские лодки, увидев такое, сразу перестали гнаться и повернули к берегу, а третья погналась дальше. Эта лодка была очень здоровенная, людей там было, может, с сотню. Аллага стоял на корме, смотрел в их сторону и время от времени махал им руками. Поначалу они этого как будто бы не замечали, а потом всё же одумались и тоже повернули обратно. А буса проплыла ещё с версту, а то и с две, не меньше, и только после этого стала мало-помалу сворачивать к берегу. Ну а когда они совсем свернули и причалили, то не успели даже развести костры, как из-за камней вдруг вышли люди в бурках, они были одеты очень просто, но сабли у них у всех были очень дорогие. Аллага вышел к ним, поговорил о чём-то вполголоса, и они молча ушли. На шестой день поднялся встречный ветер, их отнесло обратно почти до Дербента. На седьмой день и на восьмой они плыли хорошо, вечером восьмого дня увидели пустынный берег и на нём четыре дерева. Это, сказал Кирюхин, аул Низабат, или деревня Низовая по-нашему, потому что наши купцы дальше этого места морем не ходят, а выходят на берег и идут по горам на Шемаху, там очень богатый торг, торгуют сырым шёлком. Есть такое дерево, зовётся шелковица, продолжил Кирюхин, на нём, сказал он, живут шелковичные черви, из них выдавливают паутину и из неё сучат шёлковую нитку на продажу. Только солнце село, как приехал один конный, Аллага дал ему денег, конный их пересчитывал, гневался, но взял и уехал, ничего Кирюхину не говоря. Потом, от девятого до двенадцатого дня, они плыли вначале прямо на полдень, после круто повернули на восход, и там, ещё на одном повороте, расплатились с ещё одними конными. А когда эти люди уехали и наступила ночь, Маркел спрашивал, что это за сполохи такие в небе. А это город Баку, сказал Кирюхин, это загорелась нефтяная яма, а их очень трудно погасить. – А много ли там нефти? – спросил Маркел. – Больше, чем у нас воды, – строго ответил Кирюхин. Маркел промолчал. На тринадцатый день они плыли мимо Баку. Это тоже большой город, не меньше Дербента. Много нефти, это очень хорошо, говорил Кирюхин, у них же деревья почти не растут, дров нет, и кизяка тоже на всех не хватает, а тут вдруг нефть, чёрное земляное самородное масло, за него много денег дают. На четырнадцатый день была сильная буря. На пятнадцатый шли хорошо. Берег был низкий, плоский. На шестнадцатый день дошли до устья реки Кура. Берег там совсем низкий, болотистый, никто там не живёт, подумалось. Но тут вдруг вышел из кустов человек в папахе и в бурке и стал спрашивать, где деньги. Но Аллага ничего ему не дал, сказал, что вот когда эти его люди (и он указал на наших) вернутся после своих дел, тогда он сразу даст вдвойне, а пока что надо потерпеть. И дальше было так: Аллага остался там, с тем человеком, а Маркел, Кирюхин и все остальные поснимали с себя смирные шамхальские кафтаны, надели свои яркие, привычные – и поплыли уже прямо в Персию, или, правильнее, в Кызылбаши, к так называемой Гилянской пристани, и через четыре дня, на двадцать первый день, то есть июля в 7-й день, на преподобного Фомы, иже в Малеи, пришли в ту Гилянь на ту пристань!Глава 16
Но пришли они туда не сразу и даже не очень скоро, потому что день тогда был ясный, солнечный, а море тихое, и от этого они увидели Гилянь уже вёрст, может, за десять, не меньше. И гребцы ещё долго гребли, а Гилянь всё была далеко и далеко. Да и ничего особенного там пока что видно не было. Там же, говорил Кирюхин, место низкое, река, а от неё болота в обе стороны, и всё. А деревушка, правильней – кишлак на берегу у пристани, это пять ветхих земляных избушек, и то никто в них не живёт, и только в одной сидит сторож. А может, теперь нет уже и сторожа. Вот что тогда Кирюхин говорил, когда они подплывали к Гиляни. Маркел этим словам удивился, спросил: – Зачем мы тогда столько ехали сюда, в такую глушь? – Затем, чтобы никто нам не мешал, – сказал Кирюхин. – Потому что зачем нам зеваки? Мы же ничего не продаём и ничего не покупаем. Нам же здесь что надо? Только приехать, взять слона и поворачивать обратно, вот и всё. – Так что, слон уже на берегу стоит? – спросил Маркел. – Кто его знает, – ответил Кирюхин. – Но вряд ли. Место здесь слишком открытое, никуда слона не спрячешь. А спрятать надо обязательно, потому что мало ли какие злые люди здесь ходят? И он опять начал смотреть из-под руки на берег, а потом сказал: – Никого на пристани. Ни одного кораблика. И это славно! Потом посмотрел ещё, опять сказал: – И шаховых людей тоже не видно, и это тоже очень хорошо. Шах же со здешним ханом в великой недружбе, так все говорят. – И тут же с усмешкой прибавил: – Ну да сказать можно всякое. А как оно на самом деле? Тут только один Шестак знает! – Какой ещё Шестак? – спросил Маркел. – Да как это какой? – с удивлением переспросил Кирюхин. – Тебе что, ничего про него не говорили? – Нет. – А кто у тебя будет толмачом, когда ты за слоном поедешь? Маркел молчал. Кирюхин подождал, потом спросил: – Но тебе ведь что-то говорили же, кто будет тебя здесь встречать? – Ну, говорили, – нехотя сказал Маркел, – что меня встретит один человек. И что мне искать его не надо, а он сам меня найдёт. И он всё здесь, как мне сказали, знает, потому что он пять лет… И Маркел замолчал, потому что зачем, он подумал… Но дальше он подумать не успел, потому что Кирюхин сказал: – И он пять лет жил в Персии, и он про персиян всё знает! Говорили так?! – Ну, говорили! – ответил Маркел. – Значит, это точно он! – сказал Кирюхин. – Так что свезло тебе! Лучшего советчика и толмача тебе здесь не найти, ей-богу! И это не только я так говорю, а это когда царёво посольство сюда прибыло и царёва посла Васильчикова Григория Борисовича спросили, с кем он дальше в Персию поедет, знаешь, кого он назвал? Ваньку Шестака, пропойцу, вот так! А великому послу тогда было из кого выбирать! Знаешь, сколько нас тогда сюда приехало? Двести человек на восьмерых стругах! И там одних князей у нас было семь персон, а посол опять сказал, что только дайте Шестака и больше никого ему не надо. И так они потом отсюда и поехали – великий царёв посол Васильчиков Григорий Борисович, а с ним толмач Иван Шестак, и всё. И так и ты теперь поедешь с Шестаком, потому что нас не пустят, а пустят только Шестака, а с ним тебя. – Чего это у них так строго? – спросил Маркел. – Потому что басурмане мы для них, – сказал Кирюхин. – Кяфиры. – А кто для них Шестак? – спросил Маркел. Кирюхин помолчал, потом сказал задумчиво: – Вот-вот, и я так порой думаю. – О чём? – спросил Маркел. – Тут так просто сразу и не скажешь, – без особой охоты ответил Кирюхин. – Потому что раньше он был наш, а после мы все обратно поехали, а его здесь оставили. – Как это так? – А вот вдруг так! – сказал Кирюхин. – Потому что когда наше прошлое, васильчиковское, посольство в их стольный град ездило, Шестак персиянам очень сильно приглянулся, и они стали просить: продайте его нам, продайте, мы за него дорого дадим! Но как ты продашь христианскую душу? Вот и оставили его тут на посылке, до поры до времени. И он теперь живёт напротив шахского дворца, раз в неделю про него вспомнят, скажут, он одно письмо прочтёт, другое напишет, купца расспросит – и опять на базаре толчётся или по злачным углам. А он всё злачное ой любит! Новсё равно ему там скучно. Так что, я думаю, он сегодня здесь объявится. И ему будет с кем развеяться, а тебе будет подмога. Он про персиян всё знает! И Кирюхин снова стал смотреть на берег. Маркел тоже смотрел, но толком ничего не видел. Ну ещё бы! Он же раньше думал, что они все вместе приплывут в Гилянь, потом, опять все вместе, приедут в Казвин, персиянский стольный город, там их отведут в слоновник, там слоновий поводырь покажет им стадо слонов на выбор, а что их выбирать, когда вас целая толпа, и каково, когда вас только двое, потому что мало ли ещё каков этот Шестак… Но тут вдруг раздался шум, гребцы закричали что-то вразнобой, Маркел сразу поднял голову – и не увидел слона, а только увидел берег, до которого теперь было, может, только с полверсты, не больше. А небо, как всегда здесь, было чистое, солнце светило ярко, и на берегу было полно народу. Но что это был за народ, было пока что не разобрать. Все молча ждали, а гребли так скоро, как только могли… И вскоре стало понятно, Кирюхин сказал, что это не совсем народ, а это тюфенгчи, то есть тамошние персиянские стрельцы с пищалями. А один из них, как рассмотрел Маркел, был без пищали, но зато в чалме. Юзбаши, сразу подумалось, их сотник, и повернулся к Кирюхину. Но Кирюхин никого вокруг не замечал, а только смотрел на берег. А на берегу, и теперь это уже хорошо было видно, тюфенгчи выстроились в линию, юзбаши что-то зычно скомандовал, тюфенгчи вбили в землю сошки, запалили фитили и изготовились. Кирюхин тихо матюкнулся, а после громким голосом велел табанить. Потом сушить вёсла. А ветер опять стал попутным, бусу несло на берег, нет, даже сразу к причалу. А причал там был длиннющий, и он уходил прямо в море, саженей, может, на полсотни. А тюфенгчи продолжали целиться! А Кирюхин уже открыл рот, уже хотел было что-то скомандовать… И вдруг закричал: – Шестак! Ивашка! – и начал махать рукой, показывать. Маркел глянул туда, куда показывал Кирюхин, и увидел человека, одетого по-персиянски. Человек очень спешил – он подбежал к юзбаши и что-то сказал ему, юзбаши повернулся к тюфенгчам, указал рукой на землю, и те опустили пищали. Кирюхин скомандовал чалиться. Буса стала подгребать к причалу. Кирюхин повернулся к Маркелу и сказал: – Вот уже не думал кого встретить, а тут на! А тот человек уже поднялся на причал и быстрым шагом пошёл к бусе. – Кто это? – спросил Маркел. – Шестак Иванов, – сказал Кирюхин. – Я же говорил, что он тебя найдёт! И так по-моему и вышло! Маркел снова посмотрел на Шестака. Шестак шёл по причалу и улыбался. На Шестаке была персиянская барашковая шапка, персиянский архалук, персиянские узконосые башмаки без задников, да и сам Шестак был очень загорелый, почти чёрный. – Тебя сразу не узнать! – крикнул ему Кирюхин. Шестак засмеялся, оскалился. Зубы у него были большие, жёлтые. Кирюхин сошёл на причал. Маркел подумал и тоже сошёл. Шестак подошёл к ним и остановился, продолжая улыбаться. – Здорово живём! – сказал Кирюхин. – Здоровы и вы, – сказал Шестак. – Чего так смотрите? – А чего тут столько войска? – спросил Кирюхин. – Случилось что-нибудь? – Как не случиться, – ответил Шестак. – Здесь всё время что-нибудь случается. Но об этом после. И он обернулся к юзбаши и закричал ему что-то. Юзбаши закивал головой, крикнул своим стрельцам, правильней – тюфенгчам, и те погасили фитили, вытащили сошки, убрали пищали. – Это не на вас они пришли, – сказал Шестак вполголоса. – Забунтовали гилянские люди, вот его шахское величество и осерчал. И нарубил голов ого как! И ещё будет рубить. А вы, я чую, опять за слоном? Кирюхин, ничего не говоря, развёл руками. Шестак посмотрел на Маркела. Маркел ничего не ответил. Тогда Шестак спросил: – Маркел Петрович? От князя Семёна? Маркел кивнул, что от него. – Это дело не беда, – сказал Шестак, опять оскалившись. – Слона тебе уже нашли и приготовили. Даже три слона, на выбор. Приходи и забирай. – А приходить куда? – спросил Маркел. – Это здесь недалеко, – сказал Шестак. – Это вон за той горой. – И он указал себе за спину. – Там их главный город Казвин, и это семь ночей пути, потому что ночью ехать не так жарко, а днём ездить – это легче помереть. Ну да хватит языки чесать, а то Музафар уже сердится. Айда к нему! И Шестак, развернувшись, пошёл по причалу обратно, к тюфенгчам. Маркел и Кирюхин пошли за ним следом. И Музафар, тот самый юзбаши, тоже пошёл им навстречу, а за ним шли два тюфенгча. Так они, те и другие, прошли ещё навстречу и остановились. А дальше было так: Музафар приложил руку к сердцу, поклонился и что-то сказал, обращаясь к Маркелу. Шестак перевёл: – Он говорит, что он, верный слуга шахский, Музафар Дарьюш-ага, рад тебя видеть, о посол великого и могучего государя царя и великого князя Феодора Ивановича. – Скажи ему: я не посол, – сказал Маркел. – Скажу обязательно, – пообещал Шестак, повернулся к Кирюхину и что-то спросил у него. Кирюхин что-то ответил. Кирюхину легко, с досадой подумал Маркел, Кирюхин по-персидски знает… Но тут Музафар опять повернулся к Маркелу и что-то кратко сказал, а Шестак перевёл это вот как: – Он говорит, что он простой аскер и поэтому он может только сражаться во славу своего непобедимого и бесподобного государя, а для того, чтобы решать великие дела, у его повелителя имеются другие, более важные слуги, поэтому, он говорит, он может только оберегать тебя, а для всего остального он сегодня же пошлёт в ближайший город гонца, и тогда все твои дела будут решены одним быстрым словом. Так он сказал! И Шестак поклонился. За ним сразу поклонился Музафар. Маркел посмотрел на Кирюхина. Кирюхин утвердительно кивнул. – Пусть будет так, – сказал Маркел. Шестак быстро это перевёл. Музафар заулыбался и сказал, а Шестак перевёл это вот как: – Сейчас он пошлёт одного человека в город, а там, в городе, есть князь, которому шах доверяет, и этот князь завтра утром приедет сюда, и ты будешь с ним говорить по поводу вашего общего дела. – Но я не могу так долго ждать, – сказал Маркел. – Меня послал мой царь к вашему царю! Разве мы может делать так, чтобы цари нас ждали? Сказав это, Маркел замолчал и посмотрел на Шестака. Но и Шестак тоже молчал. – Чего ты ничего не говоришь? – спросил Маркел. – А чего мне это говорить? – сказал Шестак. – Его это не проймёт. – А ты пройми! – сказал Маркел. Шестак подумал, почесал затылок и сказал: – Ну ладно. И, повернувшись к Музафару, начал говорить. Он говорил долго и громко. При этом он то и дело размахивал руками, показывал в разные стороны, а иногда даже указывал на небо. Музафар слушал его очень внимательно. А когда Шестак наконец замолчал, Музафар ответил ему ровным и негромким голосом, и при этом не очень пространно, если даже не сказать, что коротко. Шестак на эти его речи улыбнулся и сказал: – Он говорит, что князь прибудет к нам сегодня же. И большего я из него не вытряхну. Или ты ещё чего-то хочешь? На что Маркел сказал, что больше ничего, повернулся к Музафару и кивнул ему. И Музафар кивнул ему в ответ, после чего развернулся и пошёл к своим аскерам, правильней – к тюфенгчам. Маркел, Кирюхин и Шестак молчали. Потом Кирюхин усмехнулся и сказал: – И слава Богу! Будем пока учреждаться, а там видно будет. И обернулся к бусе, и махнул рукой. Стрельцы стали сходить на берег, и Кирюхин повелел им ставить табор. А тюфенгчей, видно, уже не было. Они как ушли за кусты, так и пропали там. И Музафара тоже видно не было. – Недобрые у них дела, – сказал Шестак, осматриваясь по сторонам. – Шах со здешним ханом раздружился, пришёл и его город разорил, людей поубивал без счёта, и хан к Великому Турке сбежал. Теперь ханские люди только того и ждут, когда хан от Турки воротится с войском. А тут ещё и вы приехали! Но, – тут же продолжил Шестак, – это не наше дело, наше дело – слон. А чтобы нам дали слона, мы должны будем явить им наши грамоты. – И повернувшись к Маркелу, прибавил: – А то, может, ты никакой не гонец, а тебя гилянцы подослали! И он засмеялся. Маркела взяла злость, и он в сердцах спросил: – А сам ты кто такой?! Откуда ты вдруг выскочил?! – Кто я такой? – переспросил Шестак, усмехнулся, полез за пазуху… И вытащил оттуда ключ. Маркел аж вздрогнул. Ну ещё бы! Ведь это же был ключ от клюевского сундука с подарками! Или очень на него похожий! Маркел полез в пояс, нащупал там свой ключ, достал его и посмотрел на Шестака. Шестак подал ему свой ключ. Маркел сложил оба ключа бородками. На Маркеловом ключе одной бородкой было меньше. Маркел спросил: – Зачем это? Шестак только усмехнулся. Маркела взяла злость, и он сказал: – Айда проверим! Шестак повернулся и сказал Кирюхину: – Смотри, Пётр, в оба. А мы тут пока посидим в холодке, побеседуем. И первым пошёл обратно к бусе. Маркел пошёл за ним. На душе было очень противно, но он молчал. Так он молчал, пока они шли по причалу, и так, когда взошли на бусу и когда подошли к чердаку. Там возле двери стояли двое караульных. Шестак велел им погулять. Караульные зашли за мачту. Шестак осмотрелся. Маркел указал, куда лезть. Шестак залез первым, сразу увидел сундук, сел к нему и ощупал замок, а после вытащил сундук из угла, повернул замком к свету, осторожно тронул верхнюю печать, задумался. Потом велел закрыть глаза, Маркел закрыл. Что-то чуть слышно ширкнуло. Шестак сказал, что можно открывать, Маркел сразу открыл глаза, глянул… И увидел, что печать снята! Шестак довольно усмехнулся, велел держать печать, а сам взял Маркелов ключ (а он был на красном шёлковом шнурке), вставил в замочную скважину и провернул раз и ещё раз, замок тихо пискнул, открылся, Шестак откинул крышку сундука… И стало видно, что сундук внутри обит золочёной парчой и разделён надвое. Первое отделение, большее, было закрыто ещё на один замок, а во втором, меньшем, открытом отделении, лежали три свёрнутые в рульку грамоты с печатями. Но Шестак на них даже смотреть не стал, а, опять Маркеловым ключом, попробовал открыть первое, большее отделение, но ключ не подходил к замку. Тогда Шестак взял свой ключ, без шнурка, вставил его, провернул – замок, опять с писком, открылся… Но поднять вторую крышку Шестак не успел – Маркел придержал её рукой, сказал, что этого пока не надо. Шестак пожал плечами и закрыл замок, убрал ключ и полез во второе отделение, открытое, взял одну из грамот, поддел ногтем печать, потянул нитку, посмотрел, что внутри, затянул нитку обратно, сжал печать и с досадой сказал, что это не Маркелова печать. Также и вторая грамота оказалась не Маркелова. Только третья оказалась той, которую они искали, и Шестак отдал её Маркелу. Маркел заглянул ей внутрь. Там было персиянское письмо, всё в завитушках. Маркел спросил, что это. – Это твоя опасная грамота, так она называется, – сказал Шестак. – Тут сказано, кто ты такой, кто тебя послал и зачем, и что ты ничего худого не затеивал, и чтобы так же и к тебе никто здесь никаких злых затей не чинил и при себе бы не удерживал, а буде надо, пускал бы обратно. И этуграмоту мы убирать уже не будем, а ты её, может, уже сегодня же ему покажешь. Маркел спросил, кому это ему. – Это приедет Амиркуня-князь, я думаю, – сказал Шестак. – Это шахов верный есаул придворный. Его лучше не гневить, но и не кланяйся ему, конечно. Потому что он кто? Есаул! А ты царёв пристав! – продолжал он, закрывая сундук. – Тебя царь за своим добром послал, и добро не простое, а буйное, за это нам должны давать двойной прокорм, а они никакого не дали! Разве так можно? Когда мы в прошлый раз сюда с посольством приходили, Амиркуня ужом вился! А теперь посмотрим. Но, – тут же прибавил Шестак, – дело уже давно за полдень, а мы что, так и сиди голодными? И тут же, будто он за углом стоял, пришёл Гришка и сказал, что всё готово. Шестак велел нести. Принесли немного каши и запить немного. – Это не беда, – сказал Шестак. – Завтра уже будем персиянское хлебать. А корм у них славный, дешёвый, так что не изголодаемся. – А кормят чем? – спросил Маркел. – Сорочинской кашей с мясом, – ответил Шестак. – И с подливой, конечно. Эта каша каждый день. Мясо можно курье, можно баранье, как скажешь. Называется пилау. Ну и сладостей всяких, каких пожелаешь. И всё это руками есть! – И кашу? Шестак утвердительно кивнул. Маркел задумался, потом махнул рукой, сказал: – Была бы каша! – Вот это верно! – подхватил Шестак и засмеялся. Они доели, вылезли из чердака и сошли с бусы на берег. Стрельцы уже тоже доедали. Кирюхин был с ними. Шестак зашёл в круг и сказал, что дело их делается быстро, никогда ещё такого не было, чтобы уже в первый день по их велению отправляли гонцов в город, а тут вдруг отправили. Потом Шестак ещё сказал, что дела у здешнего царя, шаха по-здешнему, не очень хороши. Великий Турка опять собирается на него выступить! А бухарский царь уже выступил, и индейский царь, говорят, собирается, так что персиянскому царю без нашего царя никак не обойтись, поэтому они сейчас будут нас задабривать, то есть кормить в три горла, поить до упаду, веселить чем только у них найдётся, и даже поить, хоть это у них законом запрещается, но мы же не их земли люди, и нам, значит, можно. Ну, и так далее. И много ещё чего Шестак тогда наговорил, солнце начало садиться, пришёл Музафар и спрашивал, всё ли у них в порядке, Шестак ответил, что почти, Музафар заулыбался и ушёл. Солнце стало садиться всё ниже, и сразу стало легче дышать, а то жара до этого стояла просто несносная. Шестак начал рассказывать, какое здесь, у персиян, вино, какие бабы и какой табак, какой товар дёшев, какой дорог. Маркел слушал, а уши не слушали, уши так и ждали, вдруг раздастся топот, а за кустами что-нибудь мелькнёт, кони заржут… Ну и так далее. Но ничего пока что слышно не было, кроме Шестаковой трескотни. Маркел сидел, помалкивал и с очень большой досадой думал, что не глянулся ему этот Шестак, ох как не глянулся! Торопливый, наглый как блоха! А какой от блохи толк? Только весь расчешешься, а дело как стояло на месте, так и будет стоять дальше! Поэтому даже никак нельзя понять, чем этот трескун людей берёт, за что его персияне чествуют, почему его обратно к нам не гонят, а наши почему так к нему и лезут как мухи?! И вдруг…Глава 17
Раздался очень громкий рёв! Маркел не удержался и вскочил. Ну ещё бы! Ведь точно так ревел слон, когда он ему снился! А теперь ревело наяву и не так уже и далеко – на другой стороне поля, за кустами. И там ещё что-то посверкивало за листвой, слышался топот, лязгало железо. Маркел повернулся и спросил, что это значит. Шестак сказал, что это Амиркуня-князь приехал. И почти сразу так оно и оказалось – из-за кустов выехал богатый персиянин на белом коне. Конь под персиянином был как огонь, что говорится, так и гарцевал, подскакивал. Коня вёл под уздцы оруженосец (курчий), а за конём (и персиянином) ехали ещё с полсотни конных персиян, так называемых гулямов, все они были в кольчугах, с копьями, а один из них громко дудел в трубу. Труба была длиннющая, толстенная и ревела очень громко. А после она перестала реветь, и все гулямы остановились, а дальше поехал только один князь. Он был одет очень богато: на нём был малиновый бархатный плащ, чалма была из тончайшего ослепительно-белого муслина, а сапоги парчовые, стремена золочёные… Ну и так далее. Вот какой был из себя тот Амиркуня-князь, первый придворный есаул, как после узнал Маркел. А тогда Шестак просто махнул рукой Маркелу, и они вдвоём вышли из табора, пошли по полю. Там, на полдороге до кустов, стоял княжий курчий и держал лошадь под уздцы, а сам князь Амиркуня продолжал сидеть в седле. Маркел и Шестак подошли к ним и остановились. Амиркуня посмотрел на них сверху вниз и усмехнулся. Маркел повернулся к Шестаку и велел: – Скажи ему, пусть сперва слезет с лошади, а уже после будем разговаривать. Шестак что-то быстро и кратко сказал. Амиркуня сердито мотнул головой и ответил, а Шестак повернулся к Маркелу и перевёл: – Он говорит, что он тебя не знает. И что он князь в этой стране, и что он первый здешний есаул, а ты кто? – Как это кто?! – сказал Маркел и достал грамоту… – Нет, погоди! – сказал Шестак. – А ты пока просто скажи ему, что ты приехал не к нему, а к его шаху. Тебя, скажи, послал твой царь, и ты – первый царёв слуга, и ты сюда приехал не по своей воле, а тебя твой царь послал, а вот кто позвал его и что он сейчас здесь делает? Спросить так? Маркел подумал, после нехотя сказал: – Ну и спроси. Шестак обрадовался, повернулся к Амиркуне и заговорил быстро-быстро, потом так же быстро выдернул у Маркела его грамоту, поднял её и сделал вид, что сейчас порвёт её в клочья! Амиркуня не выдержал, сморщился, громко сказал что-то курчию, курчий придержал стремя, и Амиркуня сошёл с коня. Шестак радостно заулыбался и передал ему грамоту. Амиркуня взял её, сорвал печать, прочёл, свернул её и протянул Маркелу. – Та грамота? – спросил Маркел. Амиркуня улыбнулся и сказал, а Шестак перевёл вот что: – Он говорит: он, Амиркуня, здешний есаул и первый слуга посаженника шахского, от шаха же и спрашивает, всё так ли жив и здоров твой царь великий государь Феодор Иванович? Маркел ответил, что всё так же, и посмотрел на Шестака. Шестак кивнул, и он тогда спросил, здоров ли и жив княжий шах. Амиркуня сказал, что и жив, и здоров, и спросил, за чем Маркел к ним пожаловал. Маркел прямо сказал: – За слоном. – А тот, прошлогодний слон где? – спросил Амиркуня, Шестак перевёл. Маркел вздохнул и посмотрел на небо. – А! – сразу громко сказал Амиркуня. И поднял руки, сжал кулаки и стал что-то жарко рассказывать. Потом успокоился, опустил кулаки и выжидающе посмотрел на Шестака. Шестак едва заметно хмыкнул и начал переводить: – Это, он говорит, гилянцы нашего прошлогоднего слона отравили. Я, он говорит, уже тогда подумал, что добром это не кончится. И так оно и случилось: как только шах велел схватить здешнего бывшего своего посаженника хана Ахмад-хана, тот сразу сбежал к нашим врагам в Истанбул и теперь там, как шакал, ходит крадучись и Великому Турку советы даёт, как отобрать у нашего шаха Гилянь! Но наш царь, он говорит, поможет нашему шаху, и они вместе ещё покажут Турке, побьют его и сожгут его царство! – Вот что он сейчас наговорил, – сказал Шестак. – А мы ему ответим вот что: что вначале надо сделать наше первое дело, со слоном, а потом уже будем решать дело с гилянцами. Сказать так? Маркел утвердительно кивнул. Шестак опять поворотился к Амиркуне и что-то сказал. Амиркуня ответил. – Он, – перевёл Шестак, – теперь сказал вот что: что он готов отвезти нас в Казвин, и там и слон для нас, как ему сказали, уже приготовлен. Но для такого великого дела, он говорит, нужны особые подводы, а нам с тобой нужны достойные одежды. Нас же будет встречать тамошний столичный народ, и он должен видеть наше богатство, а не нашу скромность. Но я опять скажу, что мы очень спешим, и нам пока не до богатств, и мы и без богатых одежд перетерпим. А вот подводы пусть дают сейчас же. – Да, это правильно, – сказал Маркел. – Да, говори так. И Шестак, повернувшись к Амиркуне, сказал что-то, как всегда, по-персиянски. На что Амиркуня с сожалением развёл руками и так же по-персиянски ответил. Тогда Шестак опять что-то спросил, Амиркуня ответил. Шестак переспросил, Амиркуня переответил. Шестак нахмурился, сказал по-нашему: – Он говорит, у него нет подвод. Но одну подводу, он сказал, они найдут, и ехать можно будет прямо хоть сейчас. Что ты на это скажешь? – А что тут говорить? – сказал Маркел. – Мне лишь бы дело делалось. – Но подвода очень неказистая, – сказал Шестак. – Он даже прямо мне сказал, что это не подвода, а походная арба. Они же, он прямо прибавил, за приличными подводами ещё не посылали, так что если теперь ждать приличных, то это, может, неделя пройдёт, а то и все две. Что ты на это скажешь? Маркел задумался, потом сказал очень сердитым голосом: – Я же говорил уже: мне лишь бы дело делалось! Так что берём арбу! Шестак повернулся к Амиркуне, указал на Маркела и что-то сказал. Амиркуня кивнул, повернулся к своим и стал им что-то приказывать. – Собираются, – сказал Шестак. – А у нас что собирать? Один сундук! – И два узла! – сказал Маркел. – Два! – повторил Шестак. – И сундук! И сразу обернулся к табору и засвистел и быстро зашагал туда. А Маркел стоял на одном месте, смотрел по сторонам и ни о чём не думал. Он только видел, как Шестак шёл к табору, и как там началась суета, было слышно, как покрикивал Кирюхин, как Шестак смеётся. А чего смеяться, а что тут смешного, думалось, святой Никола, не оставь меня, не для себя я это всё, а ради Параски, ради Нюськи, Нюська же давно на выданье, а женихов… Ну и так далее. Маркел тяжело вздохнул, перекрестился. Мимо прошли двое с сундуком, третий с узлами. Маркел снял шапку, вытер лоб, стало не так жарко. А тут подошли Шестак с Кирюхиным. Кирюхин ничего не спрашивал, а только сказал, что надо поспешать. Пошли быстрее. И так, скорым ходом, они подошли к гулямам. А сразу за гулямами стояла подвода. Правильней – арба, конечно, потому что подвода всегда на четырёх колёсах, а арба на двух. И тут и были как раз два, и это было очень непривычно. И оглобля там была длиннющая, в неё были впряжены четыре лошади, не очень холёные на вид. А на облучке уже сидел возница, а над сиденьями был сделан соломенный теремец, чтобы в жару не очень жарило. Маркел поморщился, подумал: балаган какой-то. А Шестак уже поднялся на арбу. Ему подали сундук, он его поставил перед собой и прикрутил к арбе верёвками. Маркел проверил печати, потом поставил узлы и сел рядом с Шестаком. Кирюхин стоял внизу, вид у него был немного растерянный. Маркел спохватился и сказал, чтобы не забыли отнести мочала в реку, и пусть они там отмокают, а то вдруг слон приедет, а мочала ещё не готовы?! На что Кирюхин ответил, что он за этим обязательно присмотрит. Маркел хотел ещё что-то сказать, но тут Амиркуня закричал по-персиянски, трубач задудел в трубу, возница хлестнул лошадей, арба сдвинулась с места, поехала, за ней рысью поехали гулямы. А солнце уже почти совсем опустилось к земле. Сейчас оно зайдёт и станет не так душно, подумал Маркел, ночью же у них всегда прохладно. Так и Шестак, дальше подумалось, сегодня говорил, что все здесь всегда стараются ездить ночью. И это правильно, думал Маркел, ночью ездить много легче, чем днём, но зато мы ночью ничего вокруг не увидим и, значит, не сможем запомнить дорогу, а что в этом хорошего? Подумав так, Маркел решил не спать, а наблюдать дорогу и запоминать её. Но дорога как на грех была неровная, арбу всё время покачивало с боку на бок, поэтому Маркел не удержался и вскоре заснул.Глава 18
Спал Маркел крепко и долго, до самого утра. И он бы ещё и дальше спал, но стало уже довольно холодно, Маркел продрог и проснулся. Было уже почти совсем светло, они ехали по горной дороге. То есть впереди ехали гулямы, затем шли слуги, потом ехала Маркелова арба, за ней шли погонщики ослов с ослами, гружёнными разными мешками, а уже за ними ехали и все остальные гулямы. Да! А в самом переду ехал гулям с трубой, и он пока молчал. Но так они проехали совсем немного, поднялись на очередную гору, и этот гулям опять начал трубить – изо всей силы. Шестак сразу проснулся, поднял голову, осмотрелся и сказал, что они уж почти приехали и скоро будет привал. И почти что так оно и было, потому что вскоре впереди, с правой стороны от дороги, показалась небольшая, но довольно внушительная на вид каменная крепость. Шестак сказал, что это караван-сарай, то есть что-то вроде нашего постоялого двора, но с охраной, и здесь ничего никому не нужно платить. Здесь, продолжал Шестак, может остановиться любой путник, а вот вооружённых людей, особенно незнакомых, сюда пускать не очень любят. Как только Шестак сказал об этом, передовые гулямы повернули к караван-сараю и остановились перед его воротами. Гулям с трубой выехал вперёд и громко протрубил. От ворот что-то спросили. От гулямов им что-то ответили. От ворот ничего не сказали. Тогда от нашей стороны вперёд выехал князь Амиркуня, выхватил саблю, очень сердито замахнулся ею и при этом ещё громко выкрикнул. От ворот ударил барабан, и ворота стали понемногу открываться. Передовые гулямы двинулись к воротам, а за гулямами двинулись все остальные. Солнце жарило всё сильней и сильней, хотелось поскорее добраться до места и там укрыться в тени. Подумав так, Маркел поднял руку и утёр пот со лба, а Шестак покачал головой и сказал, что вот что бывает с теми, кто ездит без предупреждения, а так бы их сразу впустили и пригласили бы сытно пообедать, а теперь им ещё придётся ждать, когда повара справятся с приготовлением пищи для такой прорвы народа. – И хорошо ещё, – прибавил Шестак, – что, кроме нас, сегодня больше никто не приехал. И в самом деле, когда они вступили в ворота, то никого, кроме своих, там не увидели. Только потом уже к ним вышли тамошние, караван-сарайские служители и стали показывать, кому куда идти и как устраиваться. Маркел сошёл с арбы, положил одну руку на сундук, вторую на узлы с добром и начал осматриваться. Крепость изнутри была просторная, наверху, на стенах, стояли стражники с изготовленными к стрельбе луками, а внизу, на внутренней площади, тамошние служители разводили гулямов с лошадьми в одну сторону, погонщиков ослов – в другую, пеших слуг, то есть бардаров, – в третью… А к Маркелу и Шестаку подошёл сам караван-сарай-ага и, поклонившись, предложил им следовать за ним. Маркел и Шестак пошли, а их вещи понесли за ними тамошние, то есть караван-сарайские служители. Маркел внимательно смотрел по сторонам. Вначале, он видел, их провели мимо небольшого прудика с чистой водой, потом пригласили подняться по лестнице на второй этаж, потом пройти по длиннющему открытому переходу, потом их ввели в небольшую и довольно тёмную каморку с очень маленьким окошком, оставили их вещи у двери и вышли. Маркел осмотрелся и нахмурился, потому что каморка была совершенно пустая. А Шестак, наоборот, обрадовался и сказал, что это очень славное место, потому что конюшня отсюда далеко, а кухня, наоборот, близко. И то, что окно маленькое, это значит, что через него к ним никто не залезет и не обворует. И кроме того, в двери есть замок с ключом, сейчас он проверит, как этот замок работает. Но тут дверь вдруг отворилась, к ним вошёл Салман, тот самый курчий Амиркуни-князя, и сказал, что его господин велел ему их накормить. После чего он повернулся к двери и громко хлопнул в ладоши. В каморку тут же вошли тамошние (караван-сарайские) служители с большущим, свёрнутым в рульку ковром, и раскатали его по полу. А двое других служителей внесли уже горящие светильники и поставили их у стены. А откуда-то сверху вдруг заиграла душевная персиянская музыка. А в дверь уже входили новые служители, они несли различную еду и расставляли её на ковре. Ковёр был, как уже говорилось, большой, но еды было ещё больше, также и питья там было выставлено тоже немало. Шестак смотрел на это всё и, сам того не замечая, радостно потирал руки, а Салман, напротив, был очень серьёзен, он очень внимательно наблюдал за служителями и время от времени делал им негромкие замечания. Потом, когда ковёр был весь заставлен яствами и питвами, Салман сделал служителям знак выйти, после чего и сам, поклонившись, попятился было к двери… Но Шестак велел ему остановиться, а потом указал на ковёр. Салман отрицательно замотал головой. Тогда Шестак приказал ему сесть, и Салман сел. А за Салманом сели и Шестак с Маркелом, после чего Шестак велел Салману угощать их. Салман обернулся к двери и кивнул. Вошли служители с большими мисками и дали вымыть в них руки. Потом дали утереться рушниками. Потом Салман сложил руки, зажмурился и начал беззвучно шевелить губами. Маркел мысленно перекрестился и тихо вздохнул. А Салман уже опустил руки и что-то сказал, а Шестак это перевёл вот так: что никогда ещё под этой крышей не было таких величественных и благородных гостей, как сегодня. Маркел улыбнулся. А Салман, напротив, стал очень серьёзным, указал рукой на стол, правильнее – на ковёр, и опять вошедшие служители стали раскладывать перед сидящими всякие диковинные фрукты. Маркел начал их брать, смотрел, как их едят Шестак с Салманом, и повторял за ними. Потом таким же образом им принесли различных сладостей, а потом и сорочинскую кашу с мясом и приправами, и эту кашу Салман и Шестак и в самом деле ели голыми руками. Маркел тоже попробовал, и получилось очень вкусно, особенно если набить полный рот, как посоветовал ему Шестак. И Маркел набивал. А потом вошёл ещё один служитель, очень старый, с красными крашеными усами, и подал… Да! Но об этом немного позже, а пока нужно сказать, что они обедали не в полной тишине, конечно, а вначале Салман долго и очень многословно говорил о том, что у них в Персии, правильней – в Кызылбашах, все очень рады тому, какие мудрые, щедрые и мужественные гости к ним приехали, и как все хотят их посмотреть, ну и так далее. Шестак всё это терпеливо выслушивал и переводил Маркелу, а потом вдруг повернулся к Салману и спросил, почему это в караван-сарае так пусто, и разве всегда так бывает? На что Салман покачал головой и ответил, что сейчас в здешних краях наступили непростые времена, бывший шахов посаженник Ахмад-хан сбежал к их врагам в Истанбул, а его люди бунтуют и нападают на верных шаховых подданных. Услышав эти слова, Шестак усмехнулся, перевёл их Маркелу, а после опять повернулся к Салману и сказал, что он слышал совсем другое объяснение этим делам. На что Салман вдруг сразу побледнел и уже совсем без всякого желания ответил, что он знает, на что намекает Шестак. Ну и на что? – спросил Шестак. На то, сказал Салман и тяжело вздохнул, что у них в Персиянской земле вдруг нашлись такие недобрые и лживые люди, которые смеют утверждать, что вся эта великая вражда между шахом Аббасом и ханом Ахмадом началась из-за того, что их великий шах захотел женить своего старшего сына на дочери хана, а хан ему в этом отказал. – Почему это вдруг так случилось? – спросил Шестак. – Случилось это потому, – сказал Салман, – что у хана нет сыновей, а есть только одна дочь. Так что если она выйдет замуж за шахова сына, то после того, как хан умрёт, вся его земля, то есть всё Гилянское ханство, по наследству достанется шаху и шахову сыну, а хан очень не хочет этого. Вот поэтому он и сказал, что его любимая единственная дочь, бедняжка Яхан Бегум, никогда и ни при каких условиях не выйдет за этого сына шака… Но тут Салман опомнился и замолчал, осмотрелся по сторонам и прислушался. – Э! – весело сказал Шестак. – Не беспокойся! Это же не наше дело! Наше дело – получить слона и отвезти его царю. – Живым и невредимым, – прибавил Маркел. А Шестак тут же воскликнул: – И вот за это надо выпить! После чего он повернулся к Салману и что-то сказал. Салман заулыбался и кивнул, повернулся к двери и трижды хлопнул в ладоши. И сразу снова заиграла музыка – и к ним вошёл этот уже упоминаемый нами старый служитель, в руках у которого был кувшин с длинным и тонким носиком, и он налил им всем троим по небольшому стаканчику. Это была очень чистая и очень крепкая водка. Маркел пил и обжигался, но молчал. Потом этот величественный старик ещё трижды наливал так называемую добавку, после чего Салман сделал жест обеими руками и старик ушёл. Тут же снова заиграла музыка, в палату вошла юная красавица, почти что без всякой одежды, и налила всем, в новые стаканчики, горячей чёрной воды – и ушла. Маркел начал пить эту воду, в голове стало немного чище. Маркел спросил, как эта вода называется, и Шестак сказал, что это напиток, настоянный на зёрнах ягоды кофе. – И этот напиток, – продолжил Шестак, улыбаясь, – обладает очень опасными свойствами – он выбивает из нас хмель и лишает нас сна. Но мы не будем его больше пить, а мы снова призовём этого нашего мудрого старца и попросим у него ещё немного алкоголя, если я правильно это назвал. После чего Шестак снова повернулся к Салману и что-то спросил. Салман отрицательно замотал головой. Шестак разозлился, поднял руку. Салман быстро встал, поклонился и вышел. Шестак закричал ему вслед – очень гневно… Но Салман не возвращался. Вместо него опять вошли служители и начали убирать с ковра. Шестак сидел не шевелясь и громко, тяжело дышал. Служители вынесли все вина и закуски. От недавней трапезы остались только ковёр и светильники. Шестак сердито мотнул головой, встал, подошёл к входной двери, оглянулся на Маркела и сказал: – Куда этот чёрт подевался? Пойду посмотрю! И вышел из каморки, и закрыл за собой дверь. Стало совсем тихо. Вначале Маркел просто сидел и ждал, когда Шестак вернётся, потому что что ему тут делать, думалось, или куда идти? Не оставлять же сундук без присмотра. Но время шло, а Шестак всё не возвращался и не возвращался. Маркел начал злиться. Потом встал и перенёс сундук в дальний угол, проверил печати, проверил ключ от сундука, на месте ли, сел, посидел. Но не сиделось! Маркел встал и заходил по ковру взад-вперёд. Потом он подошёл к входной двери, прислушался. Ничего снаружи слышно не было, все, наверное, спят, подумал Маркел, они же этой ночью не спали, как он, и вот теперь спят. И он следующей ночью тоже спать не будет. А пока что он лёг на ковёр, положил руку на сундук и задумался. Думы у него были самые разные, временами они прерывались, и тогда Маркел спохватывался, поднимал голову, осматривался, а после опять ложился и задумывался. Потом в переходе послышались шаги, открылась дверь, вошёл Шестак и молча осмотрелся. От Шестака крепко разило, но он сделал вид, что ничего не случилось, и сказал, что в караван-сарае всё в порядке и в окрестных горах тоже тихо и нет никого подозрительного. – А то, – продолжал Шестак, – десять дней тому назад, рассказывают, тут было много стрельбы, кое-кого даже убили, но остальные успели забежать под стену, им открыли ворота, и они здесь спрятались и пересидели беду. Сказав это, Шестак опустился и сел на ковёр. Маркел подумал и спросил, слоны умеют бегать или нет. – О! – со смехом ответил Шестак. – Слон бегает быстрее лошади, если его разозлить как следует. Да он и так всегда злой! Ему только что не по нему, он сразу на тебя кидается и топчет! И это трезвый сон. А если его ещё напоить, тогда совсем беда! А сколько он за один раз может сожрать, а жрёт он всё подряд… Но тут Шестак замолчал и задумался, а потом вдруг сказал: – Не к добру это всё вдруг случилось! Не бывает здесь в такую пору так пусто! Почему никто сюда не едет? Неужели хан Ахмад вернулся? – А что мы ему? – спросил Маркел. – Да сами мы ему ничто, конечно, – ответил Шестак, – но если нас подкупить, или убить нас, или, ещё лучше, убить нашего слона, то тогда наш государь на шаха разгневается и уже не будет с ним дружбу водить, и хану сразу будет облегчение, и он скажет Великому Турке: иди, брат, сюда, давай будем вместе шаха бить, никто нам теперь мешать не будет, потому что московский царь Фёдор Иванович крепко на шаха гневен… Да! И на этом Шестак замолчал и задумался. Потом, по-прежнему задумчивый, он, даже не снимая шапки, лёг и очень быстро заснул. А Маркел опять сидел, как дурень, и сторожил сундук! Поэтому он был очень рад, когда наконец пришёл Салман и сказал, что пора собираться, уже вечереет, и он сейчас пришлёт носильщиков для сундука. И вскоре так оно и было. Маркел и Шестак спустились вниз, сели в арбу, трубач громко протрубил в трубу, открылись ворота, и караван пошёл дальше.Глава 19
Дорога шла в гору, всё выше и выше, а сбоку текла река, называется она Сефидруд, то есть Кызыл-узень. Или, ещё правильнее, Красная река, столько в ней было красной травы и такая вода была мутная, думал Маркел. А ещё у него из головы не шли гилянцы и Шестаковы речи о том, что гилянцы хотят их убить. Да как это, думал Маркел, столько проплыть, проехать, чтобы тебя здесь, на самом краю света, так слона и не узревшего, зарезали? Вот и не спалось тогда Маркелу, и он всё всматривался в темноту, а слушать даже не пытался, потому что река так шумела, что только её и было слышно. Он этого шума голова трещала и спать не хотелось. А дорога вдоль реки становилась всё уже и круче. А утром дорога вдруг расширилась, и прямо в горах, при камнях, показался ещё один караван-сарай. И их тут уже ждали! Сразу затрубили в трубы, забухали в бубны, открыли ворота, они въехали, их стали расселять кого куда и приглашать к столу. Но Маркел ел мало, только маханул три стопки крепкой водки, закусил сорочинской, правильнее – сарацинской кашей и лёг спать. А вечером они проснулись, собрались и поехали дальше. На третью ночь горы стали ещё круче, а ветер дул южный, правильней – полуденный, и очень жаркий. Но Шестак сказал, что днём здесь будет ещё жарче. Да только куда тут уже жарче, думалось. Хотя, тут же думалось, не зря в этих местах люди не селятся или если селятся, то недолго здесь живут. Ни огонька нигде ни разу видно не было! Ни камня на камне! Только уже к утру они увидели каменный столб при дороге, а на нём какие-то диковинные буковки. Шестак сказал, что это до Потопа написано и это означает, что всё, что было досюда, это Гилянь, а всё, что дальше отсюда, это Персия, или, правильнее, Кызылбаши. А потом, ещё через версту, дорога стала понемногу спускаться вниз, и впереди показался первый персиянский город, который, как сказал Шестак, называется Дамбут. И перед Дамбутом их тоже встречали – впереди ехал дамбутский есаул мурза Аслан, как опять же перевёл Шестак, а за мурзой его приказные люди, все конные, а за ними с десяток стрельцов, правильней – тюфенгчей с пищалями. Когда они все остановились, мурза Аслан приложил руку к сердцу и сказал, а Амиркуня-князь кивнул, а Шестак перевёл, что-де до них дошёл слух, что к ним идут добрые люди от великого своего государя московского к великому же государю кызылбашскому о добром деле говорить, и они его, то есть Маркела, по их, государя, приказу, встречают с великой любовью и почтивостью. Маркел на это ответил, чтобы теперь Шестак сказал им наше доброе. Шестак начал говорить. А когда он замолчал и приложил руку к сердцу, мурза Аслан махнул рукой и тюфенгчи выстрелили в небо. И все пошли дальше, в Дамбут. Когда они вошли туда, Маркел увидел, что сам город Дамбут почти такой же как Дербент, вот только дома здесь все из глины, а из камней только мечеть, да посаженниковский дворец, да базарные ряды, да бани, и всё. Маркел спросил про бани, но ему сказали, что сегодня женский день, и повезли дальше, к посаженниковскому дворцу. Выходил посаженник, Максудхан-ага, и говорил добрые слова, а Шестак их переводил. Потом их завели в гостевые покои, там накормили, и они легли. Но теперь Маркел уже не спал, как раньше, а смотрел в окно и запоминал всё, что видел. А что, думал Маркел, а вдруг Шестак сбежит и придётся одному возвращаться, а он по-персиянски не разумеет? А с ним к тому же ещё слон! А Шестак опять куда-то уходил и приходил, и снова уходил, и только усмехался, но ничего не рассказывал. Вечером поехали дальше. Но уже не с таким почётом, как раньше, потому что, как сказал Амиркуня, тут теперь пошли уже исконно персиянские места, никого тут опасаться не надо, и поэтому половину гулямов он оставляет в Дамбуте. И в самом деле, места дальше пошлине такие угрюмые, и дорога была уже не такая крутая, и горы не такие высокие. Так они проехали ещё три ночи, уже стало легко дышать. А потом, на утро четвёртого дня, а всего на седьмой день пути, а это июля в семнадцатый день, великомученицы Маргариты, они добрались почти до самого Казвина. Он же уже был виден среди скал. Но до него их сразу не пустили, а остановили в четырёх верстах, у самого села Сыман, правильнее – Новые Сыманы. Но зато встречали их с большим почётом – к ним выехал тамошний есаул, и тамошний посаженник, и двадцать конных гулямов, и сорок пеших тюфенгчей, и было сказано много утешных слов, и тюфенгчи стреляли в небо, а народ стоял поодаль и глазел. Потом их повели в село, определили им жильё, покормили и сводили в баню. Баня Маркелу очень не понравилась! Пар, как он после вспоминал, был холодный, вода вонючая и с пузырями, а купель кривая. Но тогда он ничего не говорил, помалкивал. Потом их отвели обратно, в их жильё, и там они переоделись, то есть им дали всё новое и в золотом шитье, и мягкой кожи, и тонкой пряжи, и ярких цветов. Шестак очень обрадовался и всю свою старую одежду выбросил. А Маркел велел свою прежнюю одежду отдать в стирку, а после положить ему в узлы. Потому что, сказал, он не хочет ходить в басурманском, а только сходит во дворец и сразу же переоденется обратно. – Э! – усмехаясь, ответил Шестак. – Никогда ни от чего не зарекайся! И тут же вошёл тамошний служитель и сказал, что в шахском дворце все ещё спят, так что надо ещё подождать, а потом их, когда будет надо, позовут. Сказав это, служитель ушёл. Шестак нахмурился и стал ходить из угла в угол. А Маркел сел на сундук и ждал. Потом Шестак остановился и сказал: – Нечисто здесь что-то. Пойду посмотрю. И развернулся, и вышел. Маркел разозлился, заскрипел зубами, но смолчал. Только подумал, что с такими, как Шестак, не то что каши не сваришь, но и простой воды из ведра не зачерпнёшь. А тут слона надо везти! Из Персии! Ну и так далее. Маркел сидел, помалкивал, глазами посверкивал. И вдруг вернулся Шестак. Он был очень злой на вид. Остановившись у двери, он осторожно закрыл её на щеколду и осмотрелся. Маркел спросил, что случилось. – Да ничего хорошего, – сказал Шестак. – Шаха в Казвине нет, он на войну уехал, в Хороссан, в город Ерь. А принимать нас будет его здешний посаженник Даруга. И принимать будет прямо сегодня, как только мы к ним приедем. А у нас две грамоты: одна – к Даруге от Щелкалова, а вторая – от государя Фёдора Ивановича к шаху. Так вот, чтобы ты не ошибся, мы одну грамоту берём с собой, а вторую здесь сожжём на всякий случай. – Но получается, что государеву сожжём! – сказал Маркел. – Да, получается, что так, – сказал Шестак. – А как иначе? Потому что кто такой Даруга? Холоп шахов! Поэтому мы поднесём ему щелкаловскую грамоту, и это будет ему честь по чести. А государеву кому давать? Шаха здесь сегодня нет, а что с нами самими будет завтра, кто знает? Поэтому, как говорится, от греха подальше, и чтобы ни у кого соблазна не было… Надо государеву грамоту сжечь, не читая! Или ты что, – дальше сказал Шестак, – хочешь, чтобы всякая собака знала, какие речи государь Фёдор Иванович своему брату Аббасу сказывал? Тебе что, Щелкалов не говаривал… Вставай! Маркел встал с сундука. Шестак взял у него ключ, открыл первый замок, откинул крышку и достал из сундука две грамоты, они обе были свёрнуты в рульку, стянуты парчовой ниткой и запечатаны орлёными печатями. Шестак перекрестился и распустил сперва одну грамоту, посмотрел, что в ней написано, и отложил её, а после посмотрел вторую и сказал: – Она. Теперь уже Маркел перекрестился. Шестак подумал и перекрестился тоже. Потом сунул грамоту в плошку, в огонь. Бумага начала гореть, подымливать. Маркел опять крестился. Шестак стал осторожно дуть на грамоту, огонь стал гореть веселей. Они сидели молча и смотрели на огонь. Огонь тихо потрескивал. Потом, когда вся грамота сгорела, Шестак сгрёб пепел и убрал его, закрыл сундук, потом долго молчал… и вдруг заговорил уже вот как: – Чего ты на меня так смотришь? Я и без тебя знаю, кто я такой. Да, я лентяй, я пьяница, я табак курю, на девок падкий. Ну и что? Зато если какая беда, тогда все сразу ко мне: Шестак, сделай это, Шестак, сделай то! Шестак, напиши бумагу, Шестак, завитушку выкрути, Шестак, впиши нужное словцо, а ненужное вычисти! И вычищал, был грех. А после вдруг мне говорят: Шестак, а ты по-персиянски можешь вычистить, а после, поверх, по-персиянски же вписать, да так, чтобы никто… Тут застучали в дверь. Шестак неспешно встал, сказал, что после дорасскажет, пошёл к двери и открыл. Вошёл тюфенгчский юзбаши. Шестак стал что-то объяснять ему. Юзбаши согласно закивал, обернулся и махнул рукой. Вошли двое тюфенгчей. Шестак показал им на сундук, они взяли его и понесли. Шестак пошёл за ними, а за Шестаком пошёл Маркел. Как только они вышли на крыльцо, юзбаши сразу скомандовал, и им подкатили арбу. Они залезли в неё, им подали сундук, а потом Маркеловы узлы с добром. Возница сел на облучок, трубач затрубил в трубу, и они все поехали. А ехали они тогда вот как: впереди трубач, за ним Амиркуня, за Амиркуней гулямы, за гулямами Маркел с Шестаком, а уже дальше слуги и ослы. Дорога была пыльная, но ровная. Казвин быстро приближался. Маркел смотрел на него и думал, что не может того быть, чтобы они теперь обратно повернули – и меленько, чтобы другие не заметили, крестился. Мимо них в сторону Казвина проскакал вестовой, потом ещё один. Это про нас, думал Маркел, и про слона! И улыбался. А потом они подъехали к Казвину. Это был очень большой город, не меньше Москвы, как подумал Маркел, а может, даже ещё больше. И никаких крепостных стен вокруг Казвина не было, потому что, как сказал Шестак, никто даже и не помышляет на них нападать, а если и нападёт, и сожжёт, и разграбит, то шах до того богат, что он за один год, а то и меньше, выстроит на этом же месте ещё один такой же город, даже куда краше и богаче нынешнего. Маркел, выслушав такое, только головой покачал, но вслух ничего не ответил. А дальше думать об этом было уже некогда, потому что они как раз подъехали к самому городу и остановились. Встречало их, честно сказать, не так и много народу, а поимённо это были вот кто: впереди всех, на горячем белом скакуне, восседал первый столичный есаул Уссеин Голоу-бек, как перевёл Шестак, а с ним сто тюфенгчей с пищалями и с полсотни гулямов. А ещё очень много посадских людей набилось на мостовых, хотя мостовых там и нет, а только так говорится, потому что улицы там немощёные, один песок, дует в глаза… Но после об этом! А пока что они ехали и ехали, дома, мимо которых они проезжали, все были слеплены из глины, так что смотреть Маркелу было почти нечего. Зато на него самого люди смотрели с большим любопытством. Маркел удивился и спросил, чего это они так пялятся. На что Шестак ответил, что это им сказали, что к ним от московского царя приехал знаменитый батыр в чёрной шапке (а Маркел как раз был в чёрной) и он будет со слоном бороться, после чего кто победит, тот другого убьёт. Маркел разозлился и сказал: – Это всё ты, скотина, распустил такое! Шестак засмеялся. Маркел поднял руку, но одумался и тут же опустил её. Народ громко, дружно вздохнул. Арба поехала дальше. И так она ехала ещё довольно долго и наконец доехала до шахского дворца, которого было почти не видно, потому что он стоит посреди старинного густого сада и охраняется большим числом тюфенгчей, говорят, их там пять тысяч. Да и сам шахский дворец очень большой, высокий и сложен из белого-белого и крепкого-крепкого камня, по нему из пушек сколько ни стреляй, ядра от него как гнилые яблоки отскакивают. И главная лестница в шахском дворце такая широкая, что на ней, на каждой ступеньке, могут стоять стремя в стремя сто гулямов и никого во дворец не пускать. А крыша во дворце из золота, а… Ну и так далее. Но всего этого Маркел не видел, а только слышал с шестаковских слов, потому что их сразу повезли не к главному дворцовому входу, а к запасному, боковому, даругинскому. Но и даругинский вход во дворец тоже был высокий и широкий, на каждой ступеньке лестницы стояло по десять тюфенгчей с заряженными пищалями и тлеющими фитилями. Когда Маркел, Шестак и Амиркуня и все амиркунинские люди подступили к даругинской лестнице, им навстречу вышел главный стражник шахского дворца, по-персиянски его называют назир-и-биютат, и он велел всем стоять на месте, а с собой взял только Маркела с Шестаком, и они теперь уже втроём (да, и ещё двое стражников несли сундук) пошли по лестнице наверх. Наверху, на рундуке, у Маркела отобрали нож и саблю, а у Шестака только нож, потом их провели по коврам, и стены тоже были все в коврах, и потолки, и было темно, как поздним вечером, но везде вдоль стен стояли светильники с пахучим светом. А потом им велели снять шапки и ввели в просторную хоромину, в которой было очень тихо, хоть там сидела целая толпа очень богато одетых людей. Все они сидели каждый на отдельном коврике. И только один из них, сидящий выше всех, сидел на вышитой подушке. А ещё на нём был белый муслиновый тюрбан, обкрученный вокруг высокой красной шапки, и усы у него были длинные и тоже крашенные в красный цвет, и архалук на нём был красный, туфли тоже красные. Маркел подумал, что это Даруга. Так оно потом и оказалось, но пока что этот красноусый человек сидел смирно, слуги держали над ним опахала, а сам он (Даруга) ничем не выказывал своего величия, а только благосклонно поглядывал на Маркела и улыбался. Маркел осмелел и тоже улыбнулся. Тогда Даруга вдруг что-то спросил, а Шестак перевёл: – Ты кто таков, иноземец? – Я верный слуга нашего царя Феодора Ивановича, – сказал Маркел. Шестак перевёл. Даруга покивал головой и спросил, а Шестак теперь уже Маркелу перевёл: – Как поживает твой господин, великий государь Феодор Иванович? Всё так ли он жив и здоров, каким он был раньше? – Да, всё так же, – ответил Маркел. Даруга осмотрел своих людей, потом спросил: – По добру ли тебе ехалось? Не творил ли кто тебе обиды? На что Маркел ещё уверенней ответил: – Ехалось всё время по добру и никто обиды не чинил, а только ласку. Даруге эти слова очень понравились, он даже причмокнул губами, а после спросил, и это уже опять серьёзным голосом: – С чем ты приехал? Не с пустыми ли руками? – Слуги моего царя, – с достоинством сказал Маркел, – с пустыми руками не езживают. И так и я приехал не порожний, а привёз тебе грамоту от первого царского слуги, боярина и верного советчика, государева думного дьяка Андрея Яковлевича Щелкалова. И поклонился, и достал из рукава грамоту, и подал. Шахов служитель, то есть копычей, так это у них называется, подступил к Маркелу, принял грамоту и передал её Даруге, а Даруга повертел и так и сяк, проверил целостность печати, покивал и дёрнул за парчовую нитку. Нитка удержалась. Тогда Даруга взялся за печать, с треском сломал её, развернул грамоту, широко улыбнулся и начал читать. Он читал, а все смотрели на него. Даруга читал, улыбался. А после свернул грамоту, положил её рядом с собой и спросил, а Шестак перевёл: – А что мой любезный брат Андрей Шелкан приложил к этим своим добрым словам? – А вот это, – ответил Маркел и указал на сундук, стоявший рядом с ним. – И вот это, – сразу же прибавил он, разжал ладонь и показал лежащие на ней ключи. Даруга посмотрел на своих слуг, по-персиянски копычеев. Копычеи подошли к Маркелу, забрали ключи и сундук и поднесли их Даруге. Даруга взял сундук, осмотрел наружную печать и улыбнулся, попробовал одним ключом, вторым, открыл наружную крышку, затем открыл вторую, внутреннюю… И вытащил оттуда пушистую шкуру чёрной лисы. Шкура была на удивление большая и вся совершенно чёрная, то есть от самого носа до самого кончика хвоста в ней не было ни единого светлого волоска, даже в подшёрстке. Даруга не удержался и встал во весь рост, тряхнул лисьей шкурой, она засверкала и пошла волнами. Даруга взял лисью лапку, поднял, и все увидели, что каждый коготок на лапке окован золотом, а в золото вправлена жемчужина. И так было на каждой лапке, показал Даруга. Толпа, которая до этого молчала, теперь восторженно вздохнула, а кто-то даже что-то выкрикнул. Шестак тут же перевёл: – Чёрна лиса – знак удачи. Чёрная лиса – знак победителя. – И сразу прибавил: – Теперь проси всё что хочешь, Маркелка! Не робей! Такое раз в жизни бывает! Но Маркел, как заколдованный, смотрел на лису, на её огромные белёсые глаза-жемчужины, и молчал. – Маркелка! – повторил Шестак… Даруга посмотрел на Шестака, потом опустился и сел на подушку, положил лисью шкуру в сундук, повернулся к копычеям и стал им что-то говорить и улыбаться радостно, поглаживая чёрную, переливающуюся огнём шкуру. Шестак перевёл: – Он им сказал, что их великий шах, правильнее, шахиншах Аббас Великий, очень хотел посмотреть на тебя, о славный слуга его любимого брата Феодора, но злые люди стали учинять его верным подданным великие скорби, отчего их великий грозный и всесильный государь Аббас, шах персидский, правильнее хашиншах Доулет-е Кызылбаш, был вынужден отложить вашу встречу и поехать усмирять бухарского царя, но как только он опять сюда вернётся, то сразу же напишет грамоту своему любимому брату Феодору и пошлёт с нею посла к нему. А пока посылает посылку. – Какую ещё посылку? – настороженно спросил Маркел. – Слона! – сказал Шестак. – Даруга так им и сказал, чтобы они сейчас же немедленно отвели тебя в их шахский сад и показали бы тебе всех тамошних слонов, чтобы ты выбрал из них того, который тебе больше всех других глянется. Сегодня же! Путь, говорит, шахиншахов верный и любимый брат Феодор порадуется. Поэтому чего сидишь? Вставай! Маркел встал. Даруга милостиво кивнул головой, шахские копычеи обступили Маркела и Шестака с ним в придачу и повели их из палаты в сад.Глава 20
И дальше оно было вот как: они шли по дворцу, по лестницам, вверх, вниз, с перехода на переход, от рундука к рундуку. Впереди шёл главный стражник шахова дворца, правильнее – назир-и-биютат, звали его Бахмет-хан, как сказал Шестак, а за ханом шли все остальные, то есть копычеи и Шестак с Маркелом. Все копычеи были с копьями. Зачем это им? – спросил Маркел. На всякий случай, ответил Шестак. Маркел больше ничего не спрашивал, но, также на всякий случай, широко перекрестился. И не зря, как оказалось! Но поначалу всё было тихо и мирно: они спустились покрутой потаённой лестнице, перед ними открылась такая же железная потаённая дверь – и они сразу оказались в саду. Какая это красота, думал Маркел, с любопытством поглядывая по сторонам, сколько здесь разных кустов и деревьев, а какие здесь чудесные цветы растут, какие забавные зверушки бегают, жар-птицы ходят, ручейки журчат, а какой здесь славный дух! Вот бы сюда Параску! Показать бы ей всё это, посидеть на скамеечке, да чтобы заиграла музыка, да копычеи поднесли бы по рюмашке, да… Ну и так далее. Много о чём Маркел успел тогда подумать, но сам всё время зорко поглядывал по сторонам и ждал, когда покажутся слоны. Или хотя бы, думалось, подали голос. Но пока что было тихо. Нет, конечно, птички там чирикали, водичка в ручейке журчала, букашки в траве свиристели, солнце светило, правда, уже низко, а они всё шли и шли… А после Бахмет-хан вдруг остановился, прислушался, обернулся и что-то сказал, улыбаясь. Шестак перевёл: – Они не спят ещё. Как чуяли! – Слоны? – спросил Маркел. – А кто ещё! Маркел прислушался. Свиристели букашки, чирикали птички, похрюкивали дикие свинушки… И ещё кто-то шумно дышал, или у кого-то в брюхе булькало. Неужели у слона, подумалось. А тут Бахмет-хан ещё что-то сказал, а Шестак перевёл это вот как: – Они весёлые, и это очень хорошо. Легко будет выбирать. А пока что приготовьте копья. Копычеи стали приготавливать. Маркел посмотрел на Шестака. Шестак показал рукой вперёд. Маркел пошёл по траве. Трава была высокая, почти по пояс, и уходила в кусты. Маркел пошёл по кустам, ветки ломались и трещали, ничего другого слышно не было. Но этих кустов было совсем немного, они быстро кончились, Маркел вышел на поляну и увидел большой дом, даже не дом, а хлев. Ворота в хлев были открыты, в хлеву было темно и тихо, а возле хлева, на завалинке, сидел очень загорелый человек, босой и без всякой одежды, только на чреслах у него было намотано немного тряпок. Да, и ещё: у человека были длинные торчащие усы, совсем седые. Увидев Маркела, человек заулыбался, встал и начал кивать головой. Маркел оглянулся и увидел, что за ним идёт Шестак, за Шестаком Бахмет-хан, а за ним уже все остальные. Маркел подошёл к тому странному человеку, остановился, сказал: – Здорово живём! – И улыбнулся. Шестак перевёл и приложил руку к груди. Странный человек опять заулыбался, развёл руки и опять сказал, а Шестак опять же перевёл: – Они давно тебя ждут. Говорят, хорошо, что ты приехал. Их звери нюхают воздух и радуются, когда ветер дует с севера, и они чуют тебя. – А где они? – спросил Маркел. Тот странный человек, главный слоновщик, как назвал его Шестак, повернулся к хлеву и что-то сказал. Из хлева кто-то громко, совершенно невнятно ответил. – Что они говорят? – спросил Маркел. – Я не знаю, – ответил Шестак. – Они же индейцы и по-индейски разгова… Но дальше он не договорил, потому что из хлева вдруг вышел ещё один индеец, или, правильней, индус, и тоже почти голый и босой, а за ним вышел слон. Шестак немо молчал. Также и Маркел хотел что-то сказать, да вот язык его не слушался. Он же никогда слонов не видывал, а тут вдруг это выходит и на тебя смотрит! Не моргаючи! Маркел перекрестился. Слон хмыкнул. Шестак схватил Маркела за плечо и отодвинул его в сторону. Слон прошёл мимо них и пошёл по поляне. Главный слоновщик что-то крикнул, средний слоновщик подбежал к слону, слон остановился, вытянул свой нос, хобот по-ихнему, изогнул его скамеечкой, средний слоновщик сел на хобот, слон поднял хобот и закинул среднего слоновщика себе на спину. Средний слоновщик сел слону на спину, поехал. Маркел смотрел им вслед и качал головой. Шутка ли! Такой здоровенный бык полуторасаженный, ноги как столбы и голова как бочка, а зубы как сабли, а… Ну да. Маркел смотрел вслед слону и думал, а старший слоновщик снова крикнул, из хлева выскочил третий слоновщик, за ним вышел второй слон, поджал передние ноги, ткнулся мордой в землю, третий слоновщик заскочил ему на морду, с морды перепрыгнул на спину, сел по-татарски, дёрнул слона за правое ухо – и слон повернул направо, дёрнул за левое – и слон повернул налево, хлопнул ладошкой по макушке – слон поехал прямо. Какая красота, думал Маркел, вот царь-государь будет рад! Подумав так, Маркел заулыбался, осмотрелся, увидел старшего слоновщика и подмигнул ему. Старший слоновщик сразу же что-то спросил, а Шестак перевёл, что индейцы спрашивают, какого слона будем брать. И тут Маркел вдруг брякнул: – Так говорили же, что будет три слона! Где третий? Шестак перевёл. Старший слоновщик, а его, оказывается, звали Анируддха, сразу стал серьёзным и сказал, что третьего слона смотреть не надо. – А чем он плох? – спросил Маркел. – Молод он ещё, – уклончиво ответил Анируддха. – И не всему обучен. – Молод? – переспросил Маркел. – А ну покажи его! Анируддха повернулся к хлеву и окликнул. Из хлева сперва вышел четвёртый слоновщик, а за ним уже и третий слон. Он и в самом деле был на целый аршин ниже прежних двух слонов, также и бивни у него были короче… Но и места он на бусе будет занимать намного меньше, чем его приятели, подумал Маркел, и еды-питья ему надо будет запасать не столько, и… Ну и так далее. Маркел подошёл к слону. Слон повернул голову и посмотрел на Маркела. Глаз у слона был как у зайца, смотрел косо и опасливо. – Как тебя звать? – спросил Маркел. Шестак перевёл, Анируддха ответил: – Шир. А Шестак ещё прибавил: – Это значит «лев» по-персиянски. – Шир, – повторил Маркел и усмехнулся. – Ширка! И ступил ещё вперёд, и погладил слона по щеке. Слон заурчал. Маркел обернулся и сказал: – Дайте морковку! Шестак перевёл. Вместо морковки подали какой-то кривой корень. Маркел дал его слону, слон взял его хоботом и спрятал в рот, и начал хрумкать. Анируддха что-то отрывисто сказал. Шестак засмеялся и перевёл: – Он говорит, что ты пандит. Мудрец, по-ихнему. Маркел довольно усмехнулся, подступил к слону ещё ближе и вдруг подвернул ему нижнюю губу и стал осматривать зубы. Зубов было немного, но все они были здоровые, нестёртые. И в самом деле молодой, подумал Маркел, после чего проверил слону ноги, то есть обошёл вокруг него и посмотрел, не сбиты ли копыта, нет ли на них грибка или каких наростов, но и ноги тоже оказались чистые. Маркел хмыкнул и пнул слона в бок – и бок не хлюпнул. И что было особо радостно, слон всё это время молчал. Маркел посмотрел слону в глаза. Слон медленно моргнул. – Шир! – громко сказал Маркел. Слон встряхнул головой. Маркел повернулся к Шестаку, сказал: – Теперь его надо на ходу проверить. Шестак пальцем подозвал слоновщиков. Те подошли. Шестак у них что-то спросил, но они ничего не ответили. Тогда Шестак повернулся к Бахмет-хану. Бахмет-хан грозно нахмурился и что-то отрывисто сказал слоновщикам. На что старший слоновщик усмехнулся и ответил, а Шестак перевёл это вот как: – Он говорит, что это очень опасно. Надо три года учиться, он говорит. Иначе если не удержишься и упадёшь, то можно крепко разбиться. Маркел посмотрел на слона. И слон тоже смотрел на него и жевал. Маркела взяла злость, и он сказал: – Так подсадите же! Шестак перевёл. Бахмет-хан приказал. Старший слоновщик подошёл к слону, встал перед ним и начал показывать руками. Слон опустился на коленки. Маркела подсадили на слона, и он полез. Лезть было очень неудобно, хвататься было не за что, а до ушей руки ещё не доставали. А потом достали! И он влез. Слон сразу встал с колен, встряхнулся. Маркел похолодел, вцепился в шкуру. Слон легонько вскинул задом. Маркел сел ровнее. Слон медленно, плавно пошёл. Маркел сидел, вцепившись в его шкуру и не поднимая глаз. Откуда-то снизу закричали, чтобы он слезал. Это Шестак кричит, кому ещё, подумалось Маркелу, и он поднял голову. Впереди было поле травы. Слон всё быстрее шёл туда и иногда подскакивал. Это он нарочно, думалось, это он прибить задумал, а потом затопчет! А… Ну и так далее. Но никто Маркела не топтал, слон развернулся и пошёл обратно. Маркелу сразу стало веселей, он засмеялся. Слон остановился, поднял хобот, обвязал Маркела, как верёвкой, и мягко опустил на землю. Маркел осмотрелся. Рядом стоял Шестак, тут же Бахмет-хан, тут же слоновщики и тут же копычеи. Маркел повернулся к Бахмет-хану и сказал: – Беру! Шестак перевёл. Бахмет-хан обрадовался и заговорил, потом умолк, а Шестак перевёл: – Он сказал, что это очень хорошо. Мы все видели, что это очень умный слон, такого не стыдно отсылать к такому великому и мудрому правителю, как ваш храбрый государь царь Феодор. Маркел поклонился. Бахмет-хан повернулся к слоновщикам и стал им что-то приказывать. Шестак перевёл: – Он им говорит, чтобы они готовили отобранного слона к дороге и сами к ней тоже готовились, а это неблизкий путь, он говорит, семь дней, и завтра надо будет выходить, прямо с утра. После чего Шестак прибавил уже от себя: – То есть они ведут слона только до пристани, а дальше нам уже самим его вести. А это сколько вёрст? Три тысячи?! Или, может, ещё больше? Маркел молчал. Бахмет-хан повернулся к нему и опять что-то сказал, а Шестак перевёл: – Он говорит, что теперь это твой слон. И завтра тебе выдадут на него грамоту, и дадут нам с тобой кормовых по пять туманов на день каждому, и дадут охраны пятьдесят гулямов и двести тюфенгчей. Но, он повторяет, это будет завтра, когда Даруга, первый шахский слуга и посаженник, распорядится выдать тебе грамоту, в которой всё это будет указано. А пока что, то есть пока эта грамота не написана и не скреплена большой государственной печатью, я распоряжусь поставить вас на ночлег, выдать еду и питьё и не тревожить вас до той поры, пока всё мною сказанное не будет исполнено. Ты с этим согласен? Маркел ответил, что согласен. Тогда Бахмет-хан сказал идти за ним, и Маркел и Шестак пошли. Сперва они шли прямо по траве, в которой бегали всякие мелкие зверушки и расхаживали важные жар-птицы, которые, сказал Шестак, правильно называются павлинами, потом они пошли по красной каменной дорожке, потом подступили ко дворцу, в который вела высокая красная каменная лестница, на ступенях которой стояли тюфенгчи в красных парчовых архалуках… Но Маркелу это было всё равно! Маркел ничего вокруг не видел и не слышал, а у него перед глазами стоял только слон, и ему в ухо дышал только слон, и под ногами топал слон, а слона звали Шир, Шир – это лев, лев – это царь зверей, но Маркел никогда львов не видел, а вот зато на слоне он верхом ездил, а… Ну и так далее. Солнце опускалось всё ниже, в саду становилось сумрачно, а наверху, на лестнице, было ещё светло, и они поднимались всё выше и выше. Когда они поднялись на самую верхнюю ступень этой лестницы, стоявшие на ней тюфенгчи расступились, за их спинами раскрылась железная кованая дверь, по ту сторону которой стоял важный старик в золочёных парчовых одеждах. Старик низко поклонился Бахмет-хану, а затем Маркелу и начал что-то говорить и улыбаться. Это, сказал Шестак, старший дворцовый букавул, то есть распорядитель, он приглашает их идти за ним. Маркел согласно поклонился, и они пошли за букавулом. Букавул завёл их в просторную, богато украшенную хоромину, там на полу был расстелен ковёр, очень богатый на вид. Маркел и Шестак сняли шапки. Букавул широко улыбнулся и показал рукой садиться. Маркел и Шестак сели на ковёр. Букавул трижды хлопнул в ладоши, в хоромину тут же вошли копычеи с мисками, Маркел и Шестак ополоснули в мисках руки. Тут же вошли другие копычеи и налили в чарки. Потом третьи челядины подали фрукты, четвёртые подали сладости, пятые – вина, шестые – сарацинской каши с мясом, седьмые – опять вина, восьмые – водки… А кофе не несли и не несли, и голова стала понемногу кружиться. Шутка ли! Такой сегодня день был непростой, думал Маркел, закусывал и снова выпивал, помалкивал. А Шестак, наоборот, не умолкал, рассказывал, как они все удивлялись, когда Маркел решил садиться на слона, и как все радовались, когда он сел и слон его не сбросил, и как все персияне, особенно слоновщики, глазам своим не верили, какой Маркел ловкий да цепкий… Ну и опять так далее. То есть Шестак пел как соловей. А Маркел опять молчал, только глазами позыркивал. Тогда Шестак вдруг усмехнулся и сказал: – Вот только зря ты этого недомерка выбрал. Надо было выбирать первого, самого высокого и видного! На что Маркел только сердито хмыкнул да ответил: – Нам хотя бы этого до места допереть! Шестак растерялся, не знал, что сказать. А Маркел ещё сердитее прибавил: – Его же накорми! Его же напои! И чтобы он смирный был, чтобы корабль не раскачивал, да чтобы его дерьмо… Но тут Маркел спохватился и только рукой махнул, а вслух уже ничего не говорил. Тогда Шестак задумчиво промолвил: – А, ну да… И больше ничего уже не прибавлял. Принесли двенадцатую перемену блюд, сарацинскую кашу с изюмом. Маркел кашу ел, а изюм выкладывал на край тарелки. И так же и водку не стал допивать. Шестак хлопнул в ладоши, заиграла музыка, выбежали голопузые девки, стали убирать посуду. Маркел сдвинул брови, девки убежали, пришли копычеи с мисками, Маркел и Шестак умыли руки. Копычеи убрали с ковра, смели крошки. Маркел снял шапку, лёг, повернулся на бок и сделал вид, что собирается заснуть. А сам думал о слоне! Не о Параске, не о Щелкалове, не даже о царе Феодоре, как тот его пожалует, а только о слоне! А Шестак, Маркел это спиной чуял, сидел, повздыхивал и тоже думал свою думу. Так он просидел довольно долго, а после всё-таки не удержался и негромким голосом позвал копычея. Тот быстро пришёл. Шестак сказал ему чего-то, копычей ушёл, быстро вернулся и принёс водки и немного свежих огурцов. Дух от огурцов был очень сильный, Маркел чуть улежал. А Шестак сидел себе и выпивал неспешно, закусывал и что-то мурлыкал под нос. Маркел думал про слона, что теперь главное – не как его добыть, а как доставить. И заснул.Глава 21
Проснулся Маркел рано, ещё затемно, и сразу начал думать о слоне, о том, что, может, прав Шестак и нужно было брать матёрого слона, а не этого трёхлетка, а то и в самом деле после в Москве скажут, что кого ты нам привёз, посмешище… Но тут же думалось: нет, правильно, ему ведь что велели – привезти слона, а большого или малого, не говорили, только говорили, чтобы привезти живого, а не как Федька Ряпунин – вёз, да не довёз. И где сейчас этот Федька и где его слон?! А мы так не будем! А мы… Ну и так далее. И всё равно на душе было гадко, Маркел вздыхал, ворочался и поневоле разбудил Шестака. Шестак поднялся, сел, начал зевать и говорить про то, что перед дорогой надо всегда обязательно выспаться, а не мешать один другому. И только он это сказал, как пришёл вчерашний букавул и объявил, что надо поспешать, потому что слоновья грамота уже написана. Маркел и Шестак поднялись и обулись. Пришли копычеи с мисками, они умылись, копычеи принесли еды, они поели, и букавул повёл их к Даруге. Но когда они вошли в даругинские сени, правильнее – в приёмный покой, им навстречу вышел тамошний даха-махрам, а по-нашему стольник, и сказал, что Даруга их ждал, не дождался и уехал по другим делам. Но грамота уже подписана, и вот она! И даха-махрам подал Маркелу грамоту. Маркел проверил печать и шнуры под печатью, а даха-махрам сказал, что теперь им надо идти в слоновник, потому что их там ждут, и дал им копычея в провожатые. Копычей повёл их сперва по дворцу, потом вниз по вчерашней красной лестнице, потом по саду и привёл к слоновнику. Возле слоновника было уже полно народу, то есть там был Бахмет-хан со своими стражниками, и с ними люди князя Амиркуни, а это с полсотни тюфенгчей, и примерно столько же гулямов, и там же погонщики ослов с ослами, и Маркелова арба, уже с возницей. А вот слона пока что видно не было. Но как только явились Маркел и Шестак, один из гулямов затрубил в трубу, и первым из слоновника вышел Анируддха, а за ним показался выбранный Маркелом слон. Слон был, сразу видно, старательно вымыт и вычищен, на макушке у него была надета маленькая красная шапка с завязочками, а копытца выкрашены чёрным лаком. Увидев Маркела, слон остановился, повернулся к нему и весело захлопал ушами. – Ширка! Ширка! – воскликнул Маркел, быстрым шагом подошёл к слону и подал ему большой пряник, который он припас ещё со вчерашнего застолья. Слон взял пряник и захрумкал. Маркел радостно заулыбался и почесал слона по щеке. Слон зажмурился… Но тут вдруг Анируддха что-то быстро и очень сердито сказал. Шестак нахмурился и перевёл, что у слона не должно быть двух хозяев. Вот, говорит, как они доведут нас до Гилянской пристани, тогда и указывай слону что хочешь. И только Шестак это перевёл, как Анируддха тихо свистнул, и слон отступил от Маркела и выплюнул пряник. Маркел разъярился, повернулся к Шестаку… И увидел рядом Амиркуню на коне, а возле него стоял его курчий Салман. Амиркуня кивнул головой, и Салман с поклоном отдал Маркелу его нож и саблю, а Шестаку его нож, которые у них вчера забрали. А теперь Маркел опять приладил саблю к поясу, а нож за голенище, после чего снова повернулся к Амиркуне… Но тот опять что-то велел, и все вокруг опять задвигались, потому что, перевёл Шестак, Амиркуня сказал, что пора выступать. Бахмет-хан и его люди, а также Амиркуня-князь и его люди быстро построились, после вперёд их всех поставили арбу с Маркелом и Шестаком, а впереди арбы стояли слон и Анируддха. Потом громко запела труба, и они все двинулись вперёд. То есть вначале они ехали (а некоторые шли) по мощёной дорожке, потом выехали в широко раскрытые ворота и поехали по городу. Было уже позднее утро, стояла сильная жара, но всё равно на улицах было полно людей, и почти все они смотрели на Маркела. А Маркел опять ни на кого не обращал внимания, а только неотрывно смотрел на Анируддху, стараясь приметить, как тот правит слоном и какие хитрости при этом применяет. Да только что там можно было высмотреть? Анируддха шёл самым обычным шагом и держал в руке самую обычную верёвку, второй конец которой был привязан к слоновьему бивню. Когда было надо, Анируддха дёргал за верёвку, и слон прибавлял шагу, вот и всё. И так они шли и шли, пока не вышли за городские ворота, и там проводы закончились. То есть снова запела труба, Бахмет-хан развернулся и поехал со своими людьми обратно, а Амиркуня выехал вперёд всех оставшихся и взял с собой половину людей, а вторую оставил сзади, потому что все здешние люди только и говорили о том, что гилянцы опять затевают что-то недоброе. Вот что перевёл тогда Шестак. Но Маркел, как будто ничего не слыша, быстро сошёл с арбы, прошёл вперёд, поравнялся с Анируддхой и дальше пошёл уже с ним рядом. И ничего он у Анируддхи не спрашивал, и, как говорится, не мешался у него под ногами, поэтому Анируддха больше ничего не говорил, а молча вёл слона и иногда подёргивал его за верёвку. Так они дошли до того селения, где они уже останавливались и мылись в бане. А теперь Амиркуня повернулся к Анируддхе и стал ему что-то приказывать. И он приказывал долго и сердито, а Анируддха ему очень кратко отвечал. Так они переговаривались довольно долго, Шестак сказал, что Амиркуня хочет остановиться здесь на отдых и переждать дневную жару, на что Анируддха отвечает, что слоны не любят ходить ночью, ночью они должны пастись, а ходят они только днём и Анируддха не станет нарушать этот слоновий обычай, потому что если заставлять слона делать не то, что он хочет, то слон может разгневаться и передавить всех здесь стоящих. И только Шестак это перевёл, как слон вдруг начал взбрыкивать задними ногами, размахивать бивнями и громко дудеть хоботом. Амиркуня почернел от злости, но ничего сделать не смог, кроме как приказать всем идти дальше. И они пошли, только остановились ненадолго, когда тамошние копычеи вышли к дороге и передали Маркелу его вещи, которые он там вчера после бани оставлял перестирать и высушить. Но теперь Маркелу было не до тех вещей. Теперь он шёл рядом с Анируддхой и прислушивался к тем словам, которые Анируддха время от времени прошёптывал слону, а тот в ответ хлопал ушами то громче, то тише. Так они шли довольно долго, потом Анируддха вдруг остановился и остановил слона. Амиркуня спросил, что случилось. Слон хочет пить, ответил Анируддха, после чего резко повернулся, сошёл с дороги и повёл слона вниз по склону к реке. Амиркуня велел всем стоять на месте. И Маркел тоже стоял, и Шестак. Анируддха завёл слона в реку, слон начал плескаться в воде и радостно повизгивать. А потом набрал в хобот воды и стал поливать себе спину. Маркел спросил, умеют ли слоны плавать, на что Шестак ответил, что слону Волгу переплыть – это как раз плюнуть. И тут же прибавил, что если слон начнёт плеваться – значит, он крепко разозлился и надо скорее убегать. А пока что слону было хорошо и весело. Анируддха вывел слона обратно на дорогу, и они все пошли, а кто и поехал, дальше. Так они шли весь день, жара была очень сильная, Маркел не выдержал и пересел в арбу, под теремец. – Брехня всё это, – сказал Шестак про то, что слоны не любят ходить ночью. – Просто, я думаю, – продолжил он, – что Анируддха боится гилянцев, вот и не хочет ходить в темноте, когда ничего не видно. Но так это было или нет, точно сказать было нельзя, потому что сколько Шестак ни пробовал поговорить с Анируддхой, тот на все вопросы отвечал одинаково – что он ничего не понимает. И Шестак перестал его спрашивать. Вечером они пришли к караван-сараю, где их уже ждали, и поэтому сразу обступили слона и повели его в хлев. Там, как сказали Маркелу, для слона назапасено четыре арбы свежего сена и десять вёдер воды. Маркел потом ходил и проверял, и так оно и оказалось. И кроме того, и без слов было видно, что слон всем доволен. Он стоял возле стены, смотрел в окно и время от времени притопывал задними ногами. А вот Анируддха по-прежнему был очень сердитый на вид, сидел, сложив ноги по-татарски, и играл на дудочке. Музыка, которую он играл, была очень печальная. Это он по нашему слону грустит, сказал Шестак, вот почему он такой злобный. Маркел согласился с Шестаком, и они пошли к себе наверх. Там они сели на ковёр; бардары, то есть слуги, принесли им воду вымыть руки, а после принесли питьё и яства. И Маркел опять ел, пил, помалкивал, а Шестак беспрестанно рассказывал о своей жизни в Персии и то хвалил её, а то ругал. Маркел слушал, слушал и заснул. Утром они опять проснулись очень рано, собрались и пошли и поехали. А вечером слону опять давали свежескошенное сено и какие-то полезные коренья, слон был всем доволен и приплясывал, а Анируддха сюсюкал на дудочке. Всю ночь его было слышно! Маркел плохо спал. На третий день они пришли-приехали в Дамбут, последний персиянский город, там их опять встречал тамошний шахский посаженник Максуд-хан-ага, и их опять селили во дворце, и во дворце же кормили-поили. А слона отвели на максудханскую конюшню, и с ним пошёл Анируддха, который опять всю ночь без перерыва дудел в дудку. Маркел не спал, а Шестак хоть и спал, но всё время ворочался, после не выдержал, встал и ушёл куда-то, и полночи его не было, а когда он вернулся, то сразу лёг и захрапел. Потом, на следующий день, они переехали через гилянскую границу, и Амиркуня приказал гулямам выставить копья, а тюфенгчам зарядить пищали и подготовить фитили к стрельбе. Так они и ехали весь день с тлеющими фитилями. А Маркел шёл рядом с Анируддхой и примечал, как тот правит слоном. А Анируддха уже не то что косо зверем поглядывал, а иногда даже совсем с добром. Это он, думал Маркел, уже, наверное, сообразил, что его любимого слона передают в надёжные руки. Поэтому когда они вечером завернули ещё в один караван-сарай и тамошние бардары повели слона в хлев на кормёжку, Анируддха взял Маркела за рукав, и они вместе пошли за слоном. Там, в хлеву, слон сразу подступил к яслям и начал быстро есть сено, а Анируддха сел с ним рядом, прямо на пол, и начал играть на дудочке. Маркел сел напротив Анируддхи. Анируддха играл и играл, и ничего особенного в анируддхиной музыке не было, но у Маркела закружилась голова, и она кружилась всё сильней, и уже хотелось скорей встать, да вот только ноги Маркела не слушались, и руками тоже было не пошевелить. Вертелась только шея, но зато она вертелась так сильно, что, казалось, ещё немного, и можно будет посмотреть себе за спину. Но Маркел не делал этого, потому что, думал, мало ли, вдруг голова отвалится, и смотрел на Анируддху и улыбался как дурень. А слон жевал сено, оно было свежее, похрумкивало. А Анируддха играл и играл. Потом вдруг перестал играть и стал рассказывать. Рассказывал он по-индейски, конечно, так что, подумалось, будь даже здесь Шестак, он всё равно ничего бы не понял. Поэтому Маркел просто сидел и слушал. А Анируддха говорил и говорил, иногда на разные голоса, и размахивал руками туда и сюда, и сводил и разводил брови, морщил лоб. А потом замолчал, махнул рукой… И Маркел легко встал. Анируддха ещё раз махнул – уходи! Маркел развернулся и вышел. Когда Маркел пришёл к себе, то увидел, что Шестак сидит на ковре и понемножку выпивает. Маркел сел рядом. Шестак налил Маркелу, Маркел поморщился, но выпил. Шестак ещё немного помолчал, потом спросил: – Сколько тебе за это посулили? – За что это? – спросил Маркел. – Ну, за слона за этого, – сказал Шестак. – За то, что ты привезёшь им его из Персии. И привезёшь один! – громко сказал Шестак. И так же громко продолжал: – Нас у Григория Борисовича было триста человек посольства, десять стругов, посол и три гонца, две струговых посылки, а кто у тебя? Кому они будут столько платить? Тебе, что ли, одному? Ты спрашивал? Маркел молчал. Шестак тихо сказал: – Вот дурень! Маркел открыл было рот… Но Шестак его опередил – громко засмеялся и сказал: – Я про себя это! Я дурень! Надо было сперва спрашивать, а после встревать. А я вначале встрял, а после спрашиваю. Поэтому и говорю: вот дурень! Маркел молчал. Шестак опять заговорил: – У меня в приказе, у Щелкалова, в год выходило сто двадцать рублей. А у тебя, небось, и сорока не набегает. – Набегает! – А триста рублей сразу ты когда-нибудь видал?! – Видал! – Где? – В казённой палате, в коробе. – А у себя в мешке под полом? Маркел усмехнулся. Шестак тоже усмехнулся и сказал: – А мне Григорий Борисович сулил триста рублей однажды. У него тогда вот так руки тряслись! Он говорил: «Спаси, Шесташа, меня царь-государь убьёт!» – И что? – И не убил, – сказал Шестак. – Но и мои триста рублей пропали. И он замолчал. Маркел налил ему. Шестак отодвинул чарку, усмехнулся и ещё немного помолчал, а потом не удержался и опять стал говорить: – Было это пять лет тому назад, в наше первое посольство. Только мы с Григорием Борисовичем из Астрахани в эти земли навострились, как с первого же встречного кораблика нам объявляют: а в Кызылбашах замятня великая, шаха Мухаммада скинули, а мирзу Аббаса возвели на царство, вот как! Григорий Борисович, такое услыхав, сразу почернел и говорит: «Что делать? У нас же все грамоты выписаны на Мухаммадово имя, а если шах у них теперь не Мухаммад, так мне что, обратно в Москву ехать и все бумаги переписывать? Так пока я буду туда-сюда ездить, зима настанет, море замёрзнет, и кто виноват?» Ну, и я молчу на всякий случай. А он тогда: «Чего молчишь, Шестак?! Кто грамоту писал? Чей почерк?! Ты и виноват!» Ну и я опять молчу, конечно. А мне что? Не я старого шаха скидывал, не я нового сажал! И Шестак замолчал, налил ещё по стопочке и выпил. Маркел спросил: – А дальше что? – А дальше я у него спрашиваю: «Сколько дашь?!» Он говорит: «Двести рублей!» А сам весь трясётся. И тут меня лихость взяла! Я говорю: «А триста дашь?» Он помолчал и говорит: «А когда сделаешь? Мне надо скоро!» А я говорю: «Скорей не бывает!» Вот. И он молчит. А у него бритва была. Острющая! Паутинки пополам перерезывала. Ну, я и говорю: «Давай её сюда». Он дал. Я говорю: «А теперь отвернись». Он отвернулся. Я вначале нитку вытащил… Ну, ты это видел, и там было так же… И рульку раскрутил, и бритвой осторожно вычистил, а после нашим письмом выправил, а после персиянским, а после свернул обратно в рульку, нитку затащил, печать приставил, и поехали себе как ни в чём не бывало! И грамоту, как не бывало, отдали. И новый шах нас за неё благодарил. Тут Шестак тяжко вздохнул, налил, и они оба выпили. Маркел спросил: – А что Васильчиков? – А то! – в сердцах сказал Шестак. – Когда всё это сладилось, он говорит: «Ты погоди пока, я обернусь туда-сюда и привезу то, что было обещано». И поехал обратно на Русь, ему окольничего за это славное посольское дело выписали и посадили его в Думу боярам поддакивать. – А что тебе? – спросил Маркел. – А мне, – сказал Шестак, – дали вольную волю и оставили у персиян, чтобы меньше языком трепал. Маркел подумал и сказал: – Брехня это какая-то. – Не веришь, поезжай в Москву и там спроси у Васильчикова. Маркел подумал и сказал: – Вместе поедем. – Вместе навряд ли получится, – сказал Шестак. – Почему? – спросил Маркел. – А что мне там делать? – с горечью сказал Шестак. – А что здесь? – А здесь я пять туманов в день имаю. Золотом! А как сказал «хочу на Русь», мне ещё два тумана накинули. А если хочешь, за тебя словцо замолвлю и будем служить на пару, а на пару всегда веселей. Маркел ничего не ответил. – Ну, подумай, время ещё есть, – сказал Шестак. Маркел снял шапку и начал снимать сапоги. Шестак кликнул бардара, тот пришёл и начал убирать с ковра. Маркел лёг, отвернулся к стене и подумал, что это же какой мешок нужно иметь, чтобы в него влезло триста рублей! Да у них в роду таких мешков вовек не бывало! Да они… Маркел стал представлять такой мешок и как-то быстро заснул.Глава 22
Когда Маркел утром открыл глаза, то увидел, что Шестак уже сидит на ковре и крепко о чём-то думает. – Ты что это? – спросил Маркел. – Случилось что-нибудь? – Пока что ещё нет, – сказал Шестак. – А ты давай собирайся быстрей. И обернулся, и позвал бардара. Бардар принёс миску для умывания. Маркел вымыл руки, а Шестак свои руки не мыл. Потом второй бардар принёс тарелку с кашей и посмотрел на Шестака. Шестак кивнул, и бардар поставил тарелку перед Маркелом. Тут Маркел уже не удержался, повернулся к Шестаку и спросил: – А сам ты есть не будешь, что ли? – Пока что нет, – сказал Шестак. – Мне ещё рано. Маркел пожал плечами, пододвинул к себе кашу, начал есть. Шестак смотрел на Маркела, молчал. Потом опять заговорил: – Недобрые люди недоброе дело затеяли. Хотят нашу бусу спалить и всех наших людей перерезать. Вот поэтому тебе надо спешить. А ты жуёшь и жуёшь! – А ты? – спросил Маркел. – А что я? – сказал Шестак. – У меня другая служба. – Какая? Шестак на это только усмехнулся. Маркел больше ничего не спрашивал, отставил кашу, выпил чарку, вымыл руки, поднялся и стал обуваться. Потом надел шапку, привесил саблю, обернулся на узлы. Шестак опять кликнул бардара, бардар взял узлы, и они пошли из горницы. Во дворе и в самом деле все уже собрались и построились. Маркел сошёл с крыльца и сел в арбу, а Шестак вдруг задержался на крыльце и стал там с кем-то разговаривать, наверное, по-персиянски. Маркел поднялся со скамьи, обернулся и хотел было окликнуть Шестака, но тут Амиркуня махнул саблей, трубач дунул в трубу – и они поехали в открытые ворота. Маркел ещё раз обернулся. Шестак так и стоял на крыльце, смотрел на Маркела и посмеивался. А потом даже махнул ему рукой. Чёрт вертлявый, подумал Маркел, вот кому он теперь служит! Или, вдруг подумалось, ему так Щелкалов велел? Или Васильчиков? А что! В жизни всякое случается. Одним нужно слонов возить, а другим, как Шестаку… Ну да! Маркел вздохнул, сел на скамью, задумался. Арбу трясло на ухабах, солнце поднималось всё выше и выше, в небе показалась туча, стало душно. И пылища была просто страшная. Маркел же ехал сразу за слоном, а тот сильно шаркал, Анируддха злился, приговаривал «пери ламби», «пери ламби», а слон как шаркал, так и шаркал дальше. Лентяй, думал Маркел, мальчишка, или, правильней, боад бикар, недхат ледка, как это говорится по-индейски, как он слышал. А дорога спускалась всё ниже и ниже, горы почти совсем кончились, тюфенгчи, идущие впереди слона, прибавили шагу, но Амиркуня всё равно был ими недоволен и покрикивал. Дорога уходила в лес, лес был негустой и низкорослый. Солнце уже перевалило за полдень, ветер дул с севера, правильнее, с полуночи, и от ветра пахло морем. Это, сразу же подумалось, до моря совсем близко, а Шестак сегодня говорил, что гилянцы что-то недоброе затеяли, и он, конечно, не только Маркелу, но и Амиркуне говорил, вот теперь тот и злится, кричит на тюфенгчей, потому что им нужно успеть дойти до пристани раньше гилянцев, и тогда Амиркунины люди вместе с нашими стрельцами, а это сорок пищалей, да ещё у нас есть слон… О, тут же подумалось, и в самом деле, а наш слон умеет биться? Маркел сошёл с арбы, догнал Анируддху и пошёл с ним рядом, но пока молчал, готовился. Тогда Анируддха спросил первым: – Тум кэси гу? Маркел подумал и ответил: – Хаан. – То есть «да». На что Анируддха засмеялся и сказал: – Лучше скажи: хорошо. Хороши мои дела, скажи. Маркел растерялся и спросил: – Так ты что, знаешь по-нашему? Анируддха снова засмеялся и ответил, но уже опять по-индейски. Потом показал на слона и продолжил что-то говорить и улыбаться. Потом поднял руки к лицу, сделал вид, будто он играет на дудочке – и Маркел услышал эту музыку! Но и это было ещё не всё, потому что Анируддха взял Маркела за руки и, как Маркел понял, сказал ему играть, тоже на дудочке. Маркел поднял руки, надул щёки… Но никакой музыки он от себя, конечно, не услышал. Зато где-то впереди раздался выстрел из пищали. Кто это? – подумал Маркел. Если стреляли от воды, то это стреляли наши с бусы, а если из леса, то это гилянцы. И только Маркел так подумал, как началась очень поспешная стрельба одновременно от воды и из леса! Амиркуня поднял коня на дыбы, Салман отпустил поводья, Амиркуня выхватил саблю и поскакал вперёд, гулямы поскакали за ним следом, а тюфенгчи побежали своим ходом. То есть побежали-поскакали все, один только слон по-прежнему стоял на месте. Но он был очень неспокоен! Он вертел головой и порыкивал, топал ногами и то отступал, то подступал. Потом поднял хобот и начал дудеть. Глаза у него налились кровью, он хлопал ушами и подпрыгивал. – Авааст! Авааст! – кричал Анируддха. То есть: «Стой!» Но слон и не думал стоять. Он наклонил голову и побежал вперёд, на выстрелы. – Стой! – закричал теперь уже Маркел. – Дурень, куда? Тебя убьют там! И он побежал за слоном! А слон бежал очень быстро! И он не выбирал дороги, а бежал напрямик! Бежавшие перед ним тюфенгчи с криком бросались в стороны, а слон всё бежал и бежал, ломая кусты и сбивая деревья, перепрыгивая через ямы и при этом совсем не обращая внимания на то, наступает ли он на кого-то, давит насмерть или нет. – Шир! Шир! – во весь голос кричал Анируддха. – Дааку! Разбойник! Но слон не слушал его. Слон бежал как сумасшедший – прямо, ничего перед собой не разбирая, и трубил. В него стреляли. Ему было больно, и он ревел ещё громче, Маркел сперва долго бежал за ним, потом наконец догнал и начал хватать его за бок, а потом даже за бивень, за верёвку, но слон только мотнул головой – и Маркел отлетел в сторону и упал. Но тут же поднялся… А слон повернул головой, ударил хоботом – и Маркел опять упал на землю. Но теперь у него уже не было сил подняться, и он только смотрел на то, как слон выбежал на поляну, увидел целую толпу идущих на него людей с пищалями, и это конечно же были гилянцы – и сразу кинулся на них, уже совсем ничего не соображая от криков, грома выстрелов и клубов порохового дыма, и бил, топтал и разбрасывал их. А они, эти люди, гилянцы, увидев обезумевшего слона, побросали пищали и разбежались кто куда. Да слон их и не преследовал. Он стоял на одном месте и громко, тяжело дышал. Анируддха подбежал к нему и поклонился. Слон сердито рыкнул. Анируддха опустился перед слоном на колени. Слон смотрел на Анируддху и помаргивал. Анируддха поднялся с колен и погладил слона по щеке, потом взялся за верёвку и обернулся на Маркела. Маркел с трудом встал на ноги. Анируддха подступил к Маркелу и молча передал ему верёвку. – Шир! – грозно сказал Маркел и потянул верёвку на себя. Слон нехотя поступил к Маркелу. Маркел резко дёрнул верёвку. Слон встал на дыбы. Маркел щёлкнул языком – как Анируддха. Слон сразу опять встал на землю и громко вздохнул. А тут на поляну начали выходить наши стрельцы с Кирюхиным. Кирюхин, увидав слона, остановился поражённый. Маркел тряхнул верёвкой и спросил: – Хорош зверина? – Да, – только и сказал Кирюхин и снял шапку. – Вот! – продолжал Маркел. – А Шестак говорил: не хорош! – А где Шестак? Но на это Маркел ответить не успел, потому что Анируддха вдруг начал что-то очень быстро и громко выкрикивать. – Он говорит, что слон очень сердит, – сказал Кирюхин. – Поэтому, он говорит, нам надо скорее забирать слона и увозить отсюда, пока он опять не взбесился. – А буса готова? – спросил Маркел. – Конечно! – ответил Кирюхин. – Мы тебя сегодня как раз ждали. Маркел посмотрел на Анируддху. Анируддха усмехнулся. Маркел посмотрел на слона. Слон сердито зафыркал. Маркел перекинул верёвку в левую руку, а правой перекрестился, а после опять взял верёвку и легонько дёрнул её на себя. Слон подступил на шаг. Маркел задумался. – Хайдараба, – подсказал Анируддха чуть слышно. – Хайдараба! – громко сказал Маркел. И ещё громче повторил: – Хайдараба! Хайдараба! И развернулся, и пошёл, и слон пошёл за ним. Они шли к морю, к пристани, и наши и не наши, то есть амиркунинские персияне, перед ними расступались. – Хайдараба! – покрикивал Маркел. – Хайдараба! А слон громко храпел, похрюкивал, грозно сверкал глазами, но шёл прямо и довольно быстро. А за слоном, как Маркел это видел, шли сперва Кирюхин со своими, а после Амиркуня с персиянами. А вот Анируддхи видно не было. Ну ещё бы, опечалился старик, думал Маркел, выходя от кустов к морю. А море было ровное, как столешница, никого на нём видно не было, только шагах в двадцати от берега стояла причаленная буса. И это очень хорошо, думал Маркел, никто им мешать не будет, и подошёл к мосткам, вступил на них и оглянулся. Кирюхинские стрельцы стояли к морю ближе, а Амиркунины люди чуть дальше. Эх, подумал Маркел и вздохнул, натянул верёвку и пошёл, и слон пошёл за ним. Заскрипели под слоном мостки. А после даже затрещали! Маркел остановился и перекрестился, а после снова потянул верёвку, прошёл дальше… И слон опять пошёл за ним, тихо повздыхивая. Вот же, думал Маркел, тварь какая, а тоже почуял, дай ему Господь здоровьичка! А самому ему… Ну да! И так они шли, мостки под ними, под ногами, пели и скрипели, до бусы было всё ближе и ближе, и тамошние караульные, Трофимов и Смирнов, смотрели на слона во все глаза и пятились. Да только далеко на бусе не отпятишься! Подумав так, Маркел остановился, перехватил верёвку в левую руку, осторожно сошёл в бусу – и верёвка натянулась. Теперь Маркел стоял внизу, возле скамей, а слон топтался на мостках, вверху, и не решился сходить в бусу. А за слоном уже стояли наши, ждали. – Эй! Веселей давай! – сказал Маркел. Слон даже не шелохнулся. Маркел подёргал за верёвку. Слон упёрся, мотнул головой. Маркел задумался. Сверху, с мостков, послышалось: – Ну, что? Это сказал Кирюхин. – Что, что?! Ничего! – в сердцах сказал Маркел. – Не лезьте под руку! И вдруг отбросил верёвку. Все ахнули. Маркел поднял руку. Все стихли… Слон сделал осторожный шаг. Все замерли. А слон одной ногой с опаской соступил на бусу, на скамью. А после так же соступил второй ногой, остановился… А после быстро-мягко соступил и третьей, и четвёртой! Теперь он всеми своими ногами стоял в бусе и поглядывал по сторонам. Все, кто стоял на мостках, настороженно смотрели на слона. Буса медленно покачивалась на мелкой волне. Слон осторожно смотрел себе под ноги, на воду. Вода была совсем чёрная. Маркел подступил к слону и стал гладить его по лбу. Слон быстро-быстро заморгал. Маркел осмотрел толпу, увидел в ней Кирюхина и знаком показал ему сходить. Кирюхин, миновав слона, осторожно сошёл в бусу. А все остальные остались на месте. Маркел громко сказал: – Садитесь! Чего ждёте? Но никто ничего не ответил. Тогда Маркел продолжил: – Очень смирная животина. Мяса не ест и хмельного не пьёт. Зовут Ширка. – И повернувшись к слону, приказал: – Ширка! Служить! Слон тяжело вздохнул, лёг на брюхо и отвернулся. Все молчали. Маркел разъярился и спросил: – Кирюхин! Сколько можно ждать?! Когда будем отчаливать?! Кирюхин подступил к слону, легонько тронул его пальцем и сказал: – И вправду смирный. А про вас сказать… И тут он прибавил кое-что очень обидное, и люди сразу стали сходить в бусу. А слон лежал себе, помалкивал. Стрельцы опасливо садились к вёслам. А потом к ним пришёл Амиркуня и, загибая пальцы, пересчитал их всех. Потом он смотрел, как устроили слона, недовольно качал головой, но помалкивал. Ему дали слоновью грамоту, он припечатал её и ушёл не прощаясь. Потом прибежали тюфенгчи и принесли два узла с Маркеловыми вещами. Маркел их, конечно, взял, но ещё при этом очень недовольным голосом сказал, что лучше бы принесли харчей на дорогу или хотя бы питья хоть какого. На что Кирюхин ответил, что харчей у них назапасено вдоволь, складской угол весь забит. Маркел сердито хмыкнул, промолчал. Кирюхин приказал отчаливать. Тюфенгчи стали отталкивать наших от причала, а наши как могли им помогали. А когда помогли, развернулись и гребли вначале очень осторожно, чтобы зверя не разгневать, как они между собой это назвали. И так, мало-помалу, они вышли из Сефидрудской губы и пошли дальше, прямо в море. Было тихо. И только когда уже почти что совсем не стало видно берега, оттуда вдруг послышался голос Анируддхи. Он что-то кричал. Слон услышал это и вскочил. Буса резко накренилась, зашаталась. Слон испугался, лёг. Буса ещё сильнее зашаталась. Слону стало страшно, он начал икать. Маркел сел рядом с ним и стал гладить его по лбу. Слон отмахнулся. Маркел убрал руку, сказал: – Дайте ему чего-нибудь. Дали мочало. Слон медленно жевал его, смотрел на берег и повздыхивал. А из глаз у него текли слёзы. Маркел отвернулся. А солнце садилось всё ниже и ниже, ветер дул полуночный, свежий. Кирюхин спросил, как съездилось. Маркел начал рассказывать. Рассказывал долго, подробно, не рассказал только про подчищенную царёву грамоту, потому что мало ли, а вдруг это брехня? Да и необязательно всем знать про всё. С этой мыслью Маркел и заснул. Его отнеслив его чердак и там оставили.Глава 23
Утром Маркел, как только проснулся, сразу пошёл к слону, проведать. Слон лежал на своём месте, возле мачты, и мелко дрожал. Маркел спросил у гребцов, которые сидели рядом, как слон ночевал. Гребцы ответили, что ночевал он смирно, вот только громко храпел. – А чего теперь дрожит? – спросил Маркел. – Так непривычен к морю, вот и оробел, – сказали. Маркел спросил, чем кормили. Гребцы ответили, что персиянской брюквой, и ему она в привычку – жрёт и жрёт. – А как пьёт? – спросил Маркел. На что ответили, что ничего пока не пьёт, не просит. Маркел осмотрелся. Вдалеке по левую руку был виден берег, но едва-едва. А тут вышел из своего чердака Кирюхин, посмотрел на солнце и сказал, что они прошли вёрст пятьдесят, не меньше, и скоро можно будет приставать. Маркел спросил, чей это берег. Кирюхин ответил, что гилянский. Маркел спросил, не будет ли от них чего. На что Кирюхин только отмахнулся и прошёл вперёд, на кичку, и там долго стоял, смотрел то на берег, то на солнце, а потом велел причаливать. Причаливали они долго – может, с час, потом ещё искали место, где можно было высадить слона, чтобы потом опять всадить, нашли и помогли ему сойти. В воде, на мелкоте, слону очень понравилось, он начал скакать, набирать в хобот воды и обливать всех. Маркел его чуть унял, то есть взялся за Анируддхину верёвку и повёл слона на берег. Там было пусто и сухо, а дальше росли кусты, валялись камни. Слон подошёл к кустам и стал их обдирать, обгладывать. Маркел не мешал слону, просто держал верёвку. Так они всё дальше и дальше отходили от берега, Маркел уже начал подумывать, что пора возвращаться… Как слон вдруг остановился и принюхался, потом поднял хобот и встал на дыбы… А потом как заревёт! Да как запрыгает козлом! А после вдруг как кинется вперёд, к большим камням! И оттуда побежали люди! С копьями, с пищалями, кто с чем! Они бежали молча, а слон трубил неистово! Они убегали в лес, а он их быстро нагонял! Они вбежали в лес, а он остановился перед лесом и начал рыть ногами землю и реветь, хлопать ушами, взвизгивать, вертеть хвостом!.. А после развернулся и пошёл обратно. Шёл, весело похрюкивал и пританцовывал. Подошёл к Маркелу и остановился, опять начал обгладывать ветки, жевать их и щуриться от удовольствия. Маркел стоял смирно и старался понапрасну туда-сюда не толочься, но при этом то и дело поглядывал, не крадётся ли кто от леса. От леса не крались. Так продолжалось, может, с час, после чего слон развернулся и пошёл обратно к морю. И вот уже только там, в воде, он опять стал смирный и послушный, дал завести себя на глубину по брюхо, а там встал на камень, потом перешёл на второй, потом заступил на кичку, когда все стояли на корме, а потом прошёл к мачте и лёг. Маркел громко сказал: – Слава Богу! – и перекрестился. А за ним перекрестились все остальные. И они поплыли дальше. В полдень, в самую жару, Маркел велел накрыть слона мокрым парусом. Слону это понравилось, он хрюкал. Ночью они опять пристали к берегу, Маркел выводил слона пройтись немного, попастись. Потом они долго плыли, жарились, пристали к берегу, на берегу была рыбацкая деревня, они зашли в неё, но никого там не застали, хотя во многих избах, правильнее – в саклях, стояли ещё тёплые чувалы. Это здешние слона увидели, все говорили. Маркел выгулял слона, люди набрали питьевой воды, Кирюхин замерил тень от солнца и сказал, что уже завтра они будут на Куре-реке. А там, подумал Маркел, их ждёт Аллага, который поведёт их дальше, потому что всё уже заплачено, а это значит, дело пойдёт быстро и через две недели, ну, две с половиной, они вернутся в Терский городок, на Русь. Вот как Маркелу это тогда виделось. А получилось вот что. На следующий день, двадцать девятого июля, с самого утра, небо было тёмное, в тучах, вдалеке, на окоёме, сверкали молнии и погромыхивал гром, и они, так велел Кирюхин, гребли изо всех сил. Берег быстро приближался, а вода за бортом была уже почти что совсем пресная. Это Кура, все говорили, радовались. Один только слон грыз брюкву и помалкивал. А Кирюхин ходил взад-вперёд и покрикивал, стрельцы гребли дружно, буса шла быстро, на берегу было пусто. Но всё равно, когда они подошли к берегу саженей на сто, Кирюхин велел табанить и изготовиться к стрельбе. И бросить два якоря. Бросили. Место оказалось совсем мелкое, на полсажени. Кирюхин вышел на кичку и стал размахивать платком. Аллага не отзывался. Тогда Кирюхин спрыгнул в воду, пошёл к берегу. Маркел велел взжечь фитили. Взожгли. Кирюхин шёл по воде. На берегу никого видно не было, только камни да трава. Кирюхин вышел из воды, отряхнулся. Из-за ближайшего камня вышел Аллага, одетый, как обычно, по-татарски. Они сошлись и, как можно было догадаться, поздоровались. Потом Кирюхин что-то спросил, на что Аллага кратко ответил. Кирюхин опять спросил, Аллага опять ответил, но уже пространнее. Кирюхин мотнул головой. Аллага опять заговорил, и говорил очень сердито. Потом Кирюхин спрашивал, а Аллага так же сердито отвечал. Вдруг Кирюхин развернулся и пошёл обратно. Аллага стоял на месте. Но потом Аллага что-то крикнул вслед Кирюхину и сам пошёл было за ним… Но тут из-за камней бабахнул выстрел, Аллага упал, и голова его была в кровище. Кирюхин обернулся, увидел убитого Аллагу – и сразу побежал к воде. Теперь, опять из-за камней, стали стрелять по Кирюхину. Тогда и Маркел тоже приказал стрелять, и наши стали отвечать, точнее – били по камням, на устрашение. А Кирюхин уже бежал по воде. А у нас уже выбирали якоря. Кирюхин поднял руку, за неё схватились, потянули на себя, Кирюхин перевалился через борт и упал внутрь бусы. Слон затрубил. Маркел велел выворачивать в море. Одни стрельцы сели к вёслам, а другие продолжали стрелять по камням. Потом и другие сели к вёслам. На берегу, было видно, лежал Аллага, никто к нему не подходил. Да и никто уже и не стрелял оттуда, и никого там нигде видно не было. Кирюхин приподнялся, сел, начал откашливаться от воды. Маркел спросил, что у них там приключилось. – Да ничего такого, – ответил Кирюхин. – Я вышел к нему и сказал, чтобы шёл к нам на бусу. А он вдруг говорит, что больше нас не поведёт. Потому что ему так сказали, сказал он. И что он теперь пойдёт домой, ему так тоже было сказано. И что ничего хорошего ему там не будет. Ну так и не ходи туда, сказал я, иди к нам на бусу, мы тебя не выдадим. А он на это засмеялся и сказал, что, если он не вернётся домой, шамхал велит перебить всех его родичей, а их у него четыре брата, две жены, три сына и пять дочерей, и ещё есть старый отец, и брат отца, и ещё много других родичей. Тогда я развернулся и пошёл обратно. А он закричал мне вслед, что здесь мы уже ни за что не пройдём и что нам нужно идти к Илитирь-камню, или по-туркменски это называется Бек-Даш. И тут все начали стрелять, да так часто, что больше я ничего не расслышал. Маркел подумал и сказал: – Хороший человек был Аллага. Мог нас продать, а не продал. – Да, это так, – сказал Кирюхин и прибавил: – И умер легко и быстро. – А до Бек-Даша далеко? – спросил Маркел. – Далековато, – ответил Кирюхин. – Это же уже на той стороне моря, на туркменской, а мы ещё пока что на шамхальской. Ну вот, подумал Маркел, дохитрились, сразу можно было так идти, а теперь пойдём обратно, потому что больше всё равно никак не получается. Но это он так только думал, а вслух спросил: – И теперь мы что, пойдём прямо через море? И приставать к берегу уже не будем? – Нет, не будем, – ответил Кирюхин. И оживившись, продолжил: – Ну и что? Хвалынское море, оно же простое, как огурец: сверху Астрахань, снизу Гилянь, а посерёдке с одного бока Кура, а с другого Бек-Даш, и это самое узкое место, и вот по нему… – Знаем, знаем! – перебил его Маркел. – И это восемь дней пути. А сколько у нас питьевой воды? – Её как раз на восемь дней, – сказал Кирюхин. – А со слоном? – спросил Маркел. – Н-ну-у, – потянул Кирюхин. – Это смотря какой будет ветер. Если хорошо задует, пройдём за неделю, и тогда всем воды хватит. – А если будет дуть нехорошо, тогда что? На что Кирюхин, тяжело вздохнув, ответил: – Слонов я через море не возил. И ещё сердито осмотрелся. Все молчали. Маркел заложил руки за спину и начал раскачиваться на высоких персиянских каблуках. И подумал: а чего кричать? А вот никак по-другому нельзя! А так, может, как-нибудь да выплывем. А не выплывем, никто и не узнает. Вот и славно! Маркел хмыкнул, посмотрел на берег, после на слона, а после на Кирюхина, после ещё раз хмыкнул и сказал: – Ладно, пускай будет по-твоему. Валяй. Кирюхин осмотрелся, пожевал губами, выставил вперёд руку, одни пальцы прижал, другие выставил, долго водил рукой, смотрел на солнце, примерялся, а после велел взять левее. Взяли. Потом брали ещё левее, а потом правее, ставили мачту и ловили ветер. Слону мачта очень не понравилась, он сразу подскочил и начал опираться на неё. Мачта трещала, слон не отходил, стоял, хитро поглядывал. И как ты его от мачты отгонишь? Что делать? Тогда, по совету Григория, дали слону мочало, вымоченное в водке, и только всю водку на него испортили, а он понюхал и отвернулся. Не стал жевать! Полдня туда-сюда от борта к борту шарахался. Потом стемнело, и слон лёг. Все думали, что он наконец унялся. А он повернул голову набок, засунул хобот в воду и стал поливать себя, повизгивать. То есть ему было очень хорошо, а им всем теперь воду вычерпывай. И не поучишь же его, все говорили, потому что он кто, он дурная скотина, и его не тронь, он же царёв подарок. И что было ещё противнее, никто Маркелу в глаза не смотрел! То есть это он как будто один во всём виноват, это он это придумал – возить по морю слонов! Маркел сидел возле слона, слон утомился, лёг на бок, привалился к мачте и заснул, и ненароком прищемил Маркела. Маркелу было очень неудобно, он весь скрючился, а слон знай себе похрапывал, а если начинал во сне ворочаться, то он мог и насмерть задавить, а как же! Вот какова была тогда та ночь. И такой же после был денёк, а после опять такая ночь… И так прошли первых три дня. А после ветер поменялся на попутный, крепкий, и слон уже не упирался в мачту, потому что ему было очень боязно, когда хлопал парус, а парус хлопал всё громче и чаще, и бусу гнало очень быстро. Кирюхин разрумянился и говорил, что так они могут за каких-нибудь пять дней управиться, если только сама буса выдержит. И она пока держалась. И питьевой воды, как прибавлял Кирюхин, у них тоже достаточно. Если, конечно, ветер не убавится. – А если убавится? – спросил Маркел. – Люди потерпят, – ответил Кирюхин. – Что такое людям один день? И так и было, терпели. А жара тогда была как на печи. И духота страшенная. А потом вдруг появилась туча. Вот бы, говорили, прошёл дождь! Но дождь прошёл только на следующий день, набрали воды два турсука, а потом опять подул попутный ветер. Слон оживился, встал, а то раньше два дня лежал, помалкивал, Маркел боялся, что сдохнет. Похудел тогда слон очень сильно, и уже ничего его не тешило и не злило, а он просто лежал, повздыхивал. А тут чуть удержали, так развеселился. И два последних дня они шли весело. Одного боялись, как бы Кирюхин не дал промашку, но он говорил, что не дал, палки не врут, это он о своих палках, которыми он опять мерил небо, а после смотрел на тени… И не ошибся! На седьмой день от Куры, а после того, как отчалили от гилянской пристани, на десятый, то есть августа в четвёртый день, на Семи отроков, иже во Ефесе, они причалили к так называемому Илитирь-камню, или, неправильно, к Бек-Дашу. Это есть такое место на восходней стороне моря Хвалынского. Там когда-то была небольшая крепостица, а теперь от неё осталась только куча камней, а при них стоит Алтын-Кидук, то есть Золотой колодец, или, правильнее, не колодец…Глава 24
Но лучше рассказать всё по порядку. Так вот, августа в четвёртый день они наконец увидели впереди берег и небольшую над ним гору, про которую Кирюхин сказал, что это и есть Бек-Даш. – И тут раньше, – продолжал Кирюхин, – было очень опасное место. Да оно и сейчас непростое, но у нас нет никаких ценных товаров, поэтому мы можем останавливаться здесь безо всякой опаски. Маркел смотрел на берег и молчал. Берег быстро приближался. Причал там был длинный, каменный. Да и откуда взять столько деревьев, чтобы поставить здесь деревянный причал, думал Маркел, вот люди и поставили каменный. А когда буса подплыла ещё ближе, то Маркел увидел, что по обе стороны от мостков, среди прибрежных камней, растёт тростник. Вот будет слону где разгуляться, подумал Маркел. А когда он ещё присмотрелся, то дальше вверх по камням увидел небольшую хижину, сложенную тоже из камней и с тростниковой крышей. На пороге хижины сидел человек в полосатом халате. – Это Юсуф-бабай, – сказал Кирюхин. – Правильней, просто баба, хозяин колодца. – А где колодец? – спросил Маркел. – Отсюда его не видно, – ответил Кирюхин. – Надо сперва пройти мимо бабая. И больше он ничего не сказал. Да Маркел больше ничего и не спрашивал. Да и не до этого ему было тогда, потому что слон вдруг подскочил и начал сучить ногами, поднимать хобот и громко порыкивать. Маркел кинулся к слону, ухватил его за бивень, начал унимать. Слон мало-помалу унялся. А буса тем временем причалила, одни стрельцы стали привязывать её к причалу, а другие взяли пищали на плечо, сошли на берег и там расступились. Маркел повёл слона вниз по мосткам. Сойдя на берег, слон сразу свернул к тростнику и начал его драть и рвать и поедать очень быстро. Стрельцы смотрели на него и усмехались. А Кирюхин подтолкнул Маркела в бок и глазами показал туда, где на пороге каменной хижины сидел тот самый старик в полосатом халате, или, правильней, Юсуф-бабай. – Надо поприветствовать его, – сказал Кирюхин. – Это же его земля. И они, повернув, пошли к хижине. Старик смотрел на них и хмурился. А Кирюхин, наоборот, улыбался, как будто он домой вернулся. И так же продолжая улыбаться, он остановился перед Юсуф-бабаем, взялся за шапку и громко сказал по-татарски: – Здорово живём, отец! – На всё воля Аллаха, – ответствовал Юсуф-бабай тоже, конечно, по-татарски. Потом спросил: – А почему ты вдруг заговорил на языке моих врагов? – Я приехал не один, – сказал Кирюхин, – а со своим названым братом, который не понимает ваших речей, но хотел бы звать, о чём мы с тобой беседуем. – А! – громко сказал Юсуф-бабай, осмотрел Маркела и продолжил: – Тогда это другое дело, говори дальше. Но только не виляй, как женщина. – Нам нужна вода, – сказал Кирюхин, – а у тебя её много. – Разве это много? – удивился Юсуф-бабай. – Да это ровно столько, чтобы самому не умереть от жажды. – Э! – засмеялся Кирюхин и спросил: – Это что, шутка у тебя такая? – Нет, не шутка, – ответил Юсуф-бабай, – а это я говорю про ту воду, которая моя, а про ханскую воду спрашивайте у хана. – До хана далеко, – сказал Кирюхин. На что Юсуф-бабай весело засверкал глазами и ответил: – Зато ханские уши везде. Вот мы сейчас с тобой беседуем, а хан всё слышит. Да и я не продаю ничего, а я просто смотрю, сколько ты возьмёшь воды и что ты после дашь за это. Тут он вдруг замолчал и стал смотреть Маркелу за спину. Это он смотрит на слона, подумал Маркел, но сам оглядываться не стал. И Кирюхин тоже даже головы не повернул. Юсуф-бабай громко вздохнул и продолжил: – Да! Вот так! И ты дашь столько, сколько хочешь, а хан после уже сам решит, хорошо ты дал или не хорошо. Поэтому если он посчитает одно, то он будет радоваться, а если посчитает другое, то тебе не поздоровится. – Хорошо, – сказал Кирюхин. – Это меня устраивает. Тогда по рукам? Но Юсуф-бабай его уже не слушал, а опять смотрел мимо Маркела. Маркел обернулся и увидел слона, который стоял на берегу и драл хоботом тростник, а если ему мешали камни, он ворочал их бивнями и при этом сердито похрюкивал. – Хороший зверь! – сказал Юсуф-бабай. – И очень крепкий работник. Вон сколько травы вытоптал! А сколько он пьёт? – Пять вёдер за раз, – сказал Кирюхин так, будто он сам себя расхваливал. Юсуф-бабай причмокнул языком, сказал: – О! Хан бы с удовольствием купил такого зверя! – Это не мой зверь, а его, – сказал Кирюхин и указал на Маркела. На что Маркел строго ответил: – Я везу этого зверя к своему царю. Я не могу его продать. Юсуф-бабай усмехнулся, сказал: – Сейчас не можешь, потом сможешь. Жизнь так устроена, что мы не знаем, что нас ждёт через одно мгновение. Но мы заболтались! Тут он обернулся себе за спину, громко окликнул: «Ханума!» – и дальше прибавил что-то по-туркменски. На эти слова из-за хижины вышла очень загорелая старуха в длинном распашном халате, злобно посмотрела на Маркела, зашла в хижину и плотно задёрнула за собой полог. Юсуф-бабай недовольно покачал головой и сказал: – Это быстро. И в самом деле в хижине сразу раздался шум, а потом старуха вывела оттуда худого заспанного мужчину без шапки. Мужчина растерянно осматривался по сторонам и хлопал глазами. – Это мой младший сын, – сказал Юсуф-бабай. – Он за вами присмотрит. – И вдруг спросил: – А сколько вы хотите чего дать? – Можем дать три ножа, очень острых, одну пищаль и один медный котёл, очень большой, – сказал Кирюхин. – А красных денег хочешь? – Нет, красных денег не надо, – сердито сказал Юсуф-бабай. И ещё сердитее продолжил: – Мало даёшь! Скупой стал! Хуже женщины! Но, – тут же прибавил он, – раньше ты давал много, я это тоже помню, я не злой. Поэтому пусть будет пока что так: сейчас мой сын вас отведёт. Вам всем даю воды на три дня пути. Через три дня выйдете к другому колодцу, Кум-Чинрау, и там будет другая плата и другие люди. Идите! – А сколько зверю дашь воды? – спросил Кирюхин. Юсуф-бабай подумал и сказал: – Ему дам столько, сколько он захочет, даром. Это сейчас так. И с собой на три дня тоже даром. Только смотрите не берите его воду, не пейте, а не то хан увидит, разгневается. А пока идите! – И опять обернувшись, окликнул: – Али! Это он так окликнул своего младшего сына, стоявшего рядом. Сын поклонился, запахнул халат и пошёл по тропке вверх, в гору. За Али пошёл Маркел, за ним стрельцы, с десяток, с пустыми турсуками. Солнце жарило нещадно. Когда они поднялись на самую вершину горы, Маркел оглянулся и увидел, что Юсуф-бабай уже стоит и размахивает руками, а стрельцы выносят из хижины большое медное корыто. И там же рядом стоит слон, и он очень волнуется, то есть сучит передними ногами и брыкает задними. Потом из хижины стали выносить полные турсуки воды и осторожно заливать их в корыто, а слон уже стоял рядом и просовывал хобот попить. Маркел усмехнулся, пошёл дальше. Когда они перевалили на ту сторону горы, Маркел увидел впереди, на склоне, маленькую лужицу, вокруг неё росла трава, немного поодаль стояла низкорослая ветла, а вниз от лужи, вдоль ручья, опять была видна трава, а кое-где даже кусты. И это, как понял Маркел, и был тот знаменитый колодец Алтын-кидук, или, правильней, родник, конечно. Все невольно прибавили шагу. Когда они подошли к роднику, то сперва, конечно же, напились сами и уже потом стали наполнять турсуки. И наполняли долго, вычерпали воду почти всю, а после выставили возле родника караул и пошли обратно. Теперь они шли осторожно, не спешили, да и ноша была тяжела. А когда перевалили через вершину обратно, то увидели, что оставшиеся внизу стрельцы устраивают на берегу, на старых кострищах, табор, а слон стоит в сторонке неподвижно и только иногда помахивает хоботом. Маркел обернулся на Али и спросил у него по-татарски, где его отец. На что Али ничего толком не ответил, а только широко заулыбался и развёл руками. Маркел больше ничего не спрашивал, шли молча. Когда они спустились вниз, стрельцы понесли турсуки на бусу, а Маркел спросил, теперь уже у Кирюхина, где Юсуф-бабай. Отдыхает у себя, сказал Кирюхин и, развернувшись, пошёл к табору. А Маркел пошёл к слону. Пошёл быстрым шагом! А слон встретил его равнодушно. Но зато вид у слона был хорош, он опять похлопывал ушами и самодовольно щурился. Маркел погладил слона по щеке и пошёл вслед за Кирюхиным. В таборе на кострах варили ушицу. Маркел спросил, где взяли дрова. Ему ответили, что это Юсуф-бабай приказал, и Ханума дала им полмешка кизяка. Очень со злом давала, было сказано. Но хоть и кизяк, и хоть со злом, но дух от ухи всё равно был очень сильный и заманчивый. Поэтому долго с варевом не тянули, а поскорей сели обедать. Потом легли передохнуть. Потому что это разве шутка?! Больше недели их трясло и днём, и ночью! А теперь очень хотелось отлежаться. Да и место там было удобное, среди камней, в тени, и было тихо. Маркел быстро задремал. Снилась ему весенняя Москва, когда они с Параской за неделю до отъезда ходили в ряды, покупали ей сапожки низенькие кызылбашские, потом бухарский платок, очень тёплый, потом нитку жемчуга гурмызского, потом… И вдруг Маркел очнулся и подумал: а теперь он что везёт? Ведь ничего же не купил, и даже на базаре не был, Параска что скажет? Маркел вскочил, поворочался и так и сяк, но уже не спалось, зато слышался какой-то странный звук. Маркел встал, ещё раз осмотрелся, прислушался и наконец понял, что это слон громко икает. Маркел пошёл к слону, остановился. Слон не удержался и опять икнул. Караульные сказали, что он давно так. Что это ещё за напасть, настороженно подумал Маркел, не сглазил ли его Юсуф-бабай, и приказал, чтобы никого чужого к слону не пускали, а скорее дали бы ему воды. И развернулся, и хотел уже уйти. Но тут слон опять икнул, и очень громко, и замотал хвостом – насмешливо. Маркел насупился. Слон громко хрюкнул, повернулся боком… А вышел из хижины Юсуф-бабай, слон сразу обрадовался, стал пританцовывать, скотина неблагодарная! Юсуф-бабай сошёл с крылечного камня и больше приближаться к слону не решился, а стал его издалека осматривать. Потом спросил, как этот зверь называется. Маркел ответил, что слон. Тогда Юсуф-бабай спросил, сколько ему лет, на что Маркел сказал, что сорок. Слон поднял хобот, затрубил. Маркел подошёл к слону и взял его за бивень, за верёвку. Слон притих. Маркел сказал: «Хайдараба!», и слон поклонился. – О! – только и сказал Юсуф-бабай, а потом спросил, сколько за слона заплачено. На что Маркел ответил, что нисколько, а просто они его взяли в полон и теперь везут к себе домой, в Москву. – Зачем? – спросил Юсуф-бабай. – Затем, что это очень злобный зверь, – сказал Маркел. – Он много людей убил, я его чуть одолел всем своим войском, а теперь везу в Москву, на казнь. Юсуф-бабай покивал головой, посмотрел на слона, который опять стоял смирно и иногда тихо поикивал, а после повернулся и пошёл к себе, обратно в хижину. И поначалу там было тихо, а потом оттуда вдруг запахло кизяком и дымом. А после ещё стало слышно, что там кто-то напевает бабьим голосом. Это Ханума, сказал Кирюхин, что-то стряпает. И прибавил: – Пойду гляну, что там. И пошёл к ним в хижину. И как вошёл, так и застрял, не выходил обратно. Но иногда был слышен его голос. И Юсуф-бабаев. А Маркел вначале сидел в таборе, потом опять ходил к слону, который уже не икал, и его кормили персиянской репой. Наши все были заняты делом, кто каким. Мало-помалу вечерело. Вдруг из хижины вышел Али, подошёл к Маркелу и стал ему что-то говорить, опять непонятное, и только по жестам можно было догадаться, что он зовёт Маркела в хижину. – Дастархан, – прибавлял при этом Али. – Дастархан! Это слово Маркел знал и поэтому пошёл вслед за Али. Они вошли в хижину, посреди которой, поверх напольных ковров, была расстелена большая, богато расшитая скатерть, так называемый дастархан, на котором стояли различные блюда и чаши. Юсуф-бабай, одетый в яркий праздничный халат, сидел по одну сторону дастархана, аКирюхин по другую. Юсуф-бабай сделал Маркелу знак садиться, и Маркел сел по третью сторону дастархана. Юсуф-бабай сделал ещё один жест, и Али подал Маркелу миску. Маркел умыл в ней руки. Юсуф-бабай кивнул, и Али подал Маркелу чашу питья – наверное, кумыса. Чаша была большая, но Маркел выпил её до дна и поставил обратно на скатерть. – Очень хорошо, – сказал Юсуф-бабай, после чего велел налить ещё. Али налил им всем троим, и они выпили. Кумыс был холодный и крепкий, голова приятно закружилась. Юсуф-бабай заулыбался и сказал, что ему лестно то, что такие славные люди посетили его бедную хижину. Кирюхин тут же сказал, что он хотел бы выпить за её гостеприимного хозяина. Али налил, и они снова выпили. Потом они выпили за хана, потом за царя, потом за других уважаемых людей и родичей, потом за ещё многие другие очень важные дела и так далее. Али быстро и ловко прислуживал им, а Хануме, сидевшей за перегородкой, Юсуф-бабай запретил оттуда выходить. И так прошло немало времени. А потом, когда уже совсем стемнело и Али развёл огонь в мангале, Юсуф-бабай снова вспомнил про слона и опять стал спрашивать, как его зовут, сколько ему лет и прочее, а Маркел стал терпеливо и подробно повторять ему то, что уже говорил ему днём. Юсуф-бабай слушал внимательно и согласно кивал. И так продолжалось до той поры, когда Маркел сказал, что он везёт слона к себе на Русь, в город Москву, где он убьёт слона посреди площади, на которой соберутся большие толпы любопытных. Услышав это, Юсуф-бабай покачал головой и сказал: – Зачем вам такого красивого зверя убивать? Давай я куплю его. На что Маркел опять сказал: – Нельзя мне его продавать. Я должен его живым к царю привезти. Царь хочет посмотреть, как я слона убью. Много людей придёт смотреть, как я буду это делать. Юсуф-бабай покачал головой, потом громко вздохнул и сказал: – Я бы тоже пришёл посмотреть. Но я старый, и кто мне поможет… Мой младший сын – это одна насмешка. Среднего сына злые люди убили. А старший давно здесь не показывается, отбился от рук. Мать плачет по нему каждую ночь! – прибавил Юсуф-бабай печальным голосом. – А он вон там. – И махнул рукой куда-то в сторону, потом громко сказал: – Кто мне поможет? Никто! Маркел молчал. И вдруг послышалось, как слон начал трубить. Юсуф-бабай замер, прислушался. Но как только слон замолчал, Юсуф-бабай сразу прибавил: – Отдай мне его! Отдам колодец! – Но колодец же не твой, – сказал Маркел. – Он ханский. – Ну и что?! – сказал Юсуф-бабай. – Наш хан очень добрый, и он мне простит, когда увидит, какого зверя я купил. И он ещё скажет, что я слишком скромно отблагодарил тебя, и в придачу к моему колодцу пришлёт тебе жемчуга столько, сколько ты сможешь унести, и Кирюха-бабай с тобой вместе. И повернувшись к Кирюхину, он прибавил в большой запальчивости: – Скажи ему, Кирюха-бабай, что я никогда никого не обманываю! – Да, это так, – сказал Кирюхин, – но мы с дороги, нам надо отдохнуть, а потом уже говорить о важных делах. Юсуф-бабай насупился, но возражать не стал, а указал рукой. Али подал миску, Маркел и Кирюхин умыли руки, утёрлись рушником, встали, поблагодарили Юсуф-бабая за гостеприимство и вышли из хижины. Была уже ночь, на небе горели звёзды, светила луна. Кирюхин сразу повернул к табору, а Маркел пошёл к слону. Слон полулежал, привалившись боком к скале, и смотрел на Маркела. Маркел остановился рядом, стал почёсывать слону за ухом и приговаривать: «Ширка! Ширка!» Слон заурчал, зажмурился, потом зевнул, а потом начал ровно, беззвучно дышать. Маркел перекрестил слона, велел караульным смотреть в оба, развернулся и вслед за Кирюхиным пошёл в табор. Там все уже спали. Маркел походил туда-сюда, нашёл свободное место, лёг и почти сразу же заснул. Вначале ему ничего не снилось, а потом он вдруг увидел, как из хижины вышла старуха Ханума, а на плечах она несла мешок. С кизяком, наверное, подумалось во сне Маркелу, а потом приснилось дальше, что старуха пошла в гору, взошла на самую вершину, а там высыпала из мешка кизяк и подожгла его. Кизяк быстро разгорелся сильным пламенем, а старуха Ханума повернулась к морю, опустилась на колени и стала медленно размахивать перед собой руками. Это она так молится, опять подумалось во сне Маркелу. И ещё подумалось: надо скорей проснуться! Но как Маркел ни старался, ничего у него не получилось, костёр догорел, старуха Ханума встала с колен и пошла вниз по склону. А когда она спустилась вниз, то остановилась, повернулась к табору и погрозила ему кулаком, а потом поспешно скрылась в хижине. И только тогда Маркел проснулся! Или, ему подумалось, он всё это видел наяву? Маркел встал и вышел в табор, проверил караулы, везде был порядок. Маркел вернулся, лёг и сразу же заснул. И больше в ту ночь уже не просыпался, и не снилось ему ничего. А утром они рано поднялись, и даже слон впервые сам проснулся, и они поели и попили впрок, и слон тоже пил, сколько хотел, потому что так велел Юсуф-бабай. А Ханума стояла на пороге хижины и злобно сжимала кулаки. Маркел вспомнил ночной сон, задумался. А тут ещё подошёл к нему Кирюхин и вполголоса сказал по-нашему, что не нравятся ему здешние места и им надо уходить отсюда как можно скорее. – Почему? – спросил Маркел. – Да потому что вот так чую! – сердито ответил Кирюхин. – Потому что так надо! И Маркел не стал его расспрашивать, потому что и сам чуял нечто подобное, поэтому он подошёл к Юсуф-бабаю и сказал, что ему этой ночью был вещий сон, в котором его хозяин, царь, велел ему спешить, потому что все в городе уже с нетерпением ждут, когда он вернётся и они увидят казнь слона. Вот почему, сказал Маркел, они сегодня отправятся дальше. Юсуф-бабай сильно нахмурился, но ничего в ответ на это не сказал, а только спросил, что, может, не стоит им брать с собой слона, это же очень тяжёлый зверь и они с ним к царю не успеют. – Но без слона нас там не ждут, – сказал Маркел. – Да, это верно, – подумав, ответил Юсуф-бабай. После чего, ещё немного помолчав, спросил, сколько чего надо добавить, чтобы Маркел согласился. На что Маркел сказал, что добавлять ничего не надо, потому что если он приедет к царю без слона, то царь велит отрубить ему голову, и тогда люди, собравшиеся на казнь слона, будут очень недовольны, потому что они явились на одно зрелище, а им подсунули совсем другое! На этот раз Юсуф-бабай уже никак не возражал. Тогда Маркел, Кирюхин и все остальные их люди тепло простились с Юсуф-бабаем, который с большим сожалением поглядывал на слона, взошли на бусу, погрузили на неё слона, отчалили и двинулись вперёд вдоль берега на север, то есть туда, где, как говорил Юсуф-бабай, через три дня пути они увидят колодец Кум-Чинрау. И они отплыли уже достаточно много, а Юсуф-бабай всё продолжал стоять на берегу и из-под руки смотреть им вслед. – Чёрт бы его побрал! – в сердцах сказал Кирюхин. – Не надо было нам сюда соваться! – Почему? – спросил Маркел. – Да потому, – сказал Кирюхин, – что его старший сын – Адыл-хан! А у Адыл-хана двадцать кораблей, его всё море боится, и если он узнает про слона и что отец хотел его купить, то он его у нас даром возьмёт, а нас утопит всех! – Так чего ты раньше ничего не говорил? – в сердцах спросил Маркел. – Раньше я не знал! – сказал Кирюхин. – Али только сегодня утром рассказал, похвастался. И Ханума кивала, зубы щерила! Маркел ничего на это не сказал, а только сердито сплюнул.Глава 25
И вот вышли они из Бек-Даша, ветер дул попутный, идти было просто, вдоль берега, всё время на полночь. Или, как Кирюхин говорил, на север. Вот только как бы им на камни не наскочить, прибавлял Кирюхин и держал подальше в море. А на берегу никого видно не было. Кирюхин уверенно поглядывал на небо, на солнце и приказывал, а гребцы споро гребли. Маркел спросил, куда они идут. – На Мышлак-берег, на Караганово пристанище, – ответил Кирюхин и сразу прибавил, что там тоже, как и на Бек-Даше, сидят караульные люди, и при них тоже нет никакого войска, и туда ушли из Астрахани те наши корабли, на которых купцы ехали в Хиву. И сейчас они, наверное, давно уже в Хиве, сказал Кирюхин, потому что от Караганова пристанища до Хивы пять недель ходу по пустыне. А где Адыл-хан, Юсуф-бабаев сын? – спросил Маркел. А Адыл-хан, сказал Кирюхин, не стоит на одном месте, а разъезжает по морю туда-сюда и где кого застанет, там и грабит. А какова у него сила? – спросил Маркел. А сила у него такая, ответил Кирюхин: двадцать больших кораблей и сорок малых сандалов, а когда он собирается в поход, то тогда у него набирается ещё с десяток кораблей, а то и два, и пятьдесят, а то и шестьдесят сандалов. – А далеко ли ещё до Карагана? – спросил Маркел. – Две недели, – ответил Кирюхин, – а то и все три. Услышав это, Маркел помрачнел и больше ничего в тот день не спрашивал. А вечером, как только начало темнеть, они увидели причал, причалили, сошли на берег, поставили табор. Маркел хотел пройтись и посмотреть, что там, на что Кирюхин сказал, что там ничего нет, а только два старых засохших колодца. Вода, прибавил Кирюхин, давно из них ушла, а если когда туда и возвращается, то она солоноватая и очень медленно набирается. Сказав это, Кирюхин велел своим людям ставить табор, а Маркел взял с собой провожатого стрельца и походил по берегу, нашёл те колодцы, и они оказались точно такими, как про них рассказывал Кирюхин. А когда стемнело, они выставили караул, напоили слона, пообедали и легли спать. На второй день ничего особенного не случилось. Они плыли вдоль берега, потом стемнело и они причалили, напоили слона, и слон громко икал, а так всё остальное было как и в прошлый раз. То есть Маркел опять ходил по берегу и видел старый засохший колодец, а возле него заброшенный мазар. Ну а на третий день, то есть августа седьмого дня, уже после полудня, они увидели на берегу строения. Кирюхин сказал, что это и есть колодец Кум-Чинрау, тот самый, о котором им говорил Юсуф-бабай, и что им пора причаливать. Пока гребцы выгребали к тамошней пристани, Кирюхин прибавил, что на Кум-Чинрау живут братья Усман-оглы. Они, продолжал Кирюхин, присматривают за колодцем и берут за него плату, а ещё они бьют рыбу острогой и ловят сетью. И ещё: – На вид они самые настоящие разбойники, – сказал Кирюхин, – а так очень смирные люди, приветливые. И их всего четверо. Пока Кирюхин это говорил, буса подплыла ещё ближе, и теперь ясно стало видно каменную пристань и лодки, лежащие на песчаном берегу, а дальше пустую хижину среди камней, а ещё дальше, вверх, в гору, вилась тропа на ту сторону горы. Они причалили и вывели слона, стрельцы остались со слоном, и также Кирюхин был с ними, и они начали ставить табор, а Маркел, и с ним полдесятка стрельцов, и десятник Сорока Степан с ними за толмача пошли по той тропе, перевалили через бугор, и там, как и при Алтын-Кидуке, увидели на склоне каменную стену, а из-под неё бил родник, стена давала ему тень, а дальше вода убегала в низину, там росла трава, стояла ещё одна хижина, и там же рядом паслись овцы. Маркел и его люди напились воды в роднике, спустились вниз, к той хижине, но никто к ним из неё не вышел. Они подождали и вернулись к берегу. На берегу, в таборе, Кирюхин сказал, что, скорее всего, братья ещё рыбачат, надо их подождать. И вскоре так оно и случилось – в море показалась лодка, а в ней четверо гребцов. Это и были братья Усман-оглы. Они причалили, вышли на берег, увидели слона и остановились. Кирюхин стал их успокаивать, то есть по-туркменски говорить, что это слон, он очень смирный зверь, а чтобы Кирюхину скорей поверили, Маркел подходил к слону и хлопал его по хоботу, брал за бивень, слон подпрыгивал. Братья поверили и успокоились. Тогда Кирюхин стал приглашать братьев в табор обедать, но они отказались, сказали, что у них много своей добычи. У них и вправду в лодке было полно рыбы. Тогда Кирюхин сказал, что он хочет купить у них воду. На что братья ответили, что воду в запас они не продают, так им приказано, а просто пить можно даром. Тогда наши напились сами и принесли воду слону – пять вёдер. Слон выпил и начал реветь. Ему дали ещё три ведра, он выпил их и унялся. Братья стали спрашивать, где Кирюхин взял такого зверя. Кирюхин ответил, что в Индии, но дал слово никому об этом не рассказывать, и стал прощаться. Братья уговаривали не спешить, приглашали их к себе на дастархан, но Кирюхин отказался, слона завели на бусу и отчалили. И сперва они шли прямо в море, Маркел удивлялся и спрашивал, куда это они идут, на что Кирюхин поначалу ничего не отвечал, и только потом, оглянувшись, указал на берег, на гору Чинрау, с которой начал валить чёрный дым. Это они жгут нефть, сказал Кирюхин, и о нас предупреждают. И он ещё долго правил в море, но потом повернул раз, потом ещё раз, дым оказался позади, Кирюхин радостно заусмехался и велел опять идти вдоль берега. Так они шли, покуда не стемнело, потом причалили к камням и также по камням сошли на берег, поставили табор, выставили караул и легли отдыхать. Да! А слона водили по другим камням, и он объедал с них морскую траву. А ночью ему дали мочало. А на следующий день, когда они пришли к колодцу Бурлы, то там никого не было, хижина стояла пустая, разграбленная, а колодец был засыпан. Стрельцы долго откапывали его, потом долго ждали, когда появится вода, потом пока она очистится, потом привели слона, он засунул хобот и пил долго, потом стал плеваться. Маркел почуял недоброе, убрал слона и сам попробовал воду. В воде было много соли. Тогда они раскопали ещё один старый колодец, и там вода была получше, все напились. А назавтра утром, когда оба колодца были полные, они набрали все турсуки и только после этого поплыли дальше. И так они плыли десять дней. Только при одном колодце были люди, это Аблай-Касым и его сыновья, а при остальных колодцах было пусто. И в одних колодцах они находили воду, а в других не находили. А на следующий после Аблай-Касыма день, то есть на Успение Пресвятой Богородицы, они увидели впереди на берегу высокую крутую гору, про которую Кирюхин сказал, что это и есть тот нос Тюб-Караган, от которого знающие люди сразу поворачивают прямо на полночь и ещё немного доворачивают влево – и через три дня приходят к устью Волги, вот как! А там и до Астрахани рукой подать, сказал Кирюхин. Гребцы налегли. И так они гребли ещё долго, Тюб-Караган вначале приближался, потом они гребли мимо него, потом стали загребать ещё дальше… Но буса всё равно плыла не в сторону Волги, а, наоборот, от неё. Это потому, что встречный ветер, так называемый полуночник, всё время сдувал и сдувал их обратно к Мышлак-земле. Время шло, солнце начало склоняться за полдень, гребцы крепко устали, и Кирюхин сказал, что, может, так оно и надо – сейчас повернуть к берегу, к так называемому Караганову пристанищу, и там переночевать, а уже утром, со свежими силами, опять выйти в море. Да и ветер, как сказал Кирюхин, за ночь может поменяться. Маркел подумал и сказал, что пусть Кирюхин сам решает. И Кирюхин решил оставаться, то есть велел гребцам брать правее, гребцы взяли, земля стала быстро приближаться, и вскоре стал виден низкий песчаный берег, дальше камни, а ещё дальше за ними гора, а перед горой хижины, одна высокая и толстая и две небольших. А на берегу стояли три причала. Столько причалов, сказал Кирюхин, здесь потому, что по весне и по осени тут бывает много так называемых хивинских кораблей, потому что, продолжал Кирюхин, сразу за горой начинается караванная дорога на Хиву, и там тоже сидят люди и берут деньги за проезд, а здесь берут за причал и за воду. – А кто здесь хозяин? – спросил Маркел. – В прошлом году был Старый Рахим-ага, – сказал Кирюхин. – А кто сейчас, я не знаю. Пока они об этом говорили, стало видно, что с берега их заметили и к причалу пошли трое. Один из них, идущий впереди, прихрамывал. Кирюхин очень обрадовался и сказал, что это так называемый Хромой Гассан из Бухары, здешний таможенный староста, и Кирюхин давно его знает. И так оно, наверное, и было, потому что, как только Кирюхин выступил вперёд, Хромой Гассан радостно замахал руками и стал показывать, куда лучше причаливать. С бусы бросили верёвки, подручные Хромого Гассана поймали их и закрепили с кички и с кормы. Кирюхин сошёл на мостки, Хромой Гассан радостно воскликнул, что он очень рад видеть Кирюху-бабая, и тут же спросил, всё это по-татарски, с чем к ним пожаловал такой славный и уважаемый гость. На что Кирюхин ответил, что он теперь не гость, а сам слуга, а настоящий гость сейчас выйдет. С этими словами Кирюхин отступил на шаг, так, чтобы Хромому Гассану было лучше видно, а Маркел взял слона за верёвку и потянул за собой на мостки. Слон не упирался, шёл легко. А когда вышел, отряхнулся и весело притопнул сразу всеми четырьмя ногами. Хромой Гассан молчал, молчали и его подручные. – Это слон, – сказал Кирюхин. – Это такой зверь индийский. – Это товар? – спросил Хромой Гассан. – Нет, это подарок, – ответил Кирюхин. – И везёт его мой господин Маркел-ага. Все посмотрели на слона. Слон рыкнул и переступил ногами. Ноги у него были как столбы, мостки сразу заскрипели. – А чем он харчуется? – спросил Хромой Гассан. – Сеном, листьями, брюквой, дынями, мочалом, – ответил Кирюхин. – И пьёт воды по пять вёдер за раз. Пьёт каждое утро. Хромой Гассан поджал губы, задумался, потом сказал: – Это не мне решать. Это надо у Рахим-аги спрашивать. Пойдём со мной, – продолжал он, обращаясь к Маркелу. – Рахим-ага у себя, и у него как раз гости, – прибавил он, а сам всё смотрел на слона и помаргивал. Чего это он вдруг про гостей заговорил, сердито подумал Маркел, но смолчал. А тут ещё слон вдруг начал сильно притопывать, и Маркел повёл его на берег. На берегу слон унялся, тогда вперёд вышел Хромой Гассан, ещё раз посмотрел на слона, подумал и сказал, что пусть слон остаётся здесь, и чтобы Кирюхин и все его люди тоже никуда пока не расходились, а с ним пойдёт один только хозяин слона. И спросил у Маркела, согласен ли он. Маркел ответил, что согласен, и они пошли. До ближайшей хижины было шагов двести, поэтому они быстро дошли до неё, остановились, Хромой Гассан сделал знак подождать, откинул полог и вошёл туда. Маркел прислушался, но ничего не услышал. Маркел ещё немного подождал и уже хотел было входить, как вновь откинули полог, из хижины вышел Хромой Гассан и уже не жестом, а словами пригласил входить. Маркел вошёл. В хижине на ковре сидели двое – один старик, а второй молодой, оба в туркменских халатах и в шапках. Старик – это, конечно же, Старый Рахим-ага, сразу подумал Маркел, а кто этот его молодой гость? Молодой смотрел на Маркела и улыбался. Улыбка у него была недобрая. Да и какое здесь может быть добро, подумал Маркел и тоже улыбнулся, а сказать ничего не сказал. Сказал Старый Рахим, и опять по-татарски: – Много мне про тебя рассказывали, уважаемый Маркел-ага. Вот и мой уважаемый гость о тебе много слышал. Ведь много слышал, не так ли? – спросил он, поворачиваясь к своему молодому гостю. Молодой гость утвердительно кивнул. Маркел приложил руку к груди ипоклонился. – Я вижу, ты крепко устал, – продолжал Старый Рахим. – Сейчас мои люди принесут тебе поесть и выпить. А ты пока скажи, как поживает твой господин, великий государь Феодор Иванович, и всё так ли он жив и здоров? Маркел открыл рот и замер и посмотрел на молодого гостя. А тот опять недобро улыбнулся и сказал: – Напрасно ты о таком у него спрашиваешь, уважаемый Рахим-ага, потому что этот человек приехал не из Москвы, а с другой стороны, а именно из Бек-Даша. – И повернувшись к Маркелу, спросил: – Правильно ли я сказал? – Да, правильно, – сказал Маркел. Тогда молодой гость снова повернулся к Рахим-аге и продолжил: – Там его встречал Юсуф-бабай, они долго сидели, беседовали, Маркел-ага много чего рассказывал, Юсуф-бабай его слушал. Потом Маркел-ага показывал слона. – Кто это такой? – спросил Старый Рахим-ага. – Это такой зверь, – сказал Маркел. – Очень большой. За один раз выпивает пять вёдер воды. Ноги у него как столбы, клыки как сабли, нос у него длинный как рука, называется хобот. Он этим хоботом кого хочет хватает, поднимает над собой, а после бросает об землю и убивает. А из хобота, когда он разозлится, хлещет нефть. Эту нефть можно поджечь… Маркел спохватился, замолчал и посмотрел на молодого гостя. Молодой гость хищно усмехался. Маркел тоже усмехнулся и сказал: – Я знаю, как тебя зовут – Адыл! – Э! – сказал молодой гость. – Ты ошибаешься. Это когда я был маленьким мальчиком, меня звали Адыл. А с той поры я возмужал, и меня зовут иначе: Адыл-хан. Слыхал про такого? Маркел кивнул, что слыхал, ещё раз осмотрел Адыл-хана и спросил: – А почему ты так просто одет? – Это чтобы мои аскеры мне не завидовали, – с улыбкой ответил Адыл-хан. – А почему ты здесь один? – Как это один? – удивился Адыл-хан. – Мои аскеры со мной. Просто их отсюда не видно, а на самом деле они стоят здесь, совсем недалеко, на двадцати кораблях и на сорока сандалах. Войска у меня всегда достаточно! Но не об этом я хотел с тобой поговорить, а вот о чём. Я очень примерный сын, я всегда слушаюсь своего отца и исполняю любые его желания, какими бы легкомысленными они ни казались. Поэтому продай мне своего слона. Сколько ты за него хочешь? – Я не могу его продать, – сказал Маркел. – Э-э-э! – протянул Адыл-хан, улыбаясь. – Как это вдруг такой батыр не может? Вот ты посмотри на меня! Я всё могу! А ты разве не можешь? Скажи правду! Но Маркел молчал. Тогда Адыл-хан сказал усталым голосом: – Ладно, не скажешь, за сколько продашь, возьму даром. – Попробуй, – предложил Маркел. – И попробую! – гневно воскликнул Адыл-хан. – Но вначале я посоветуюсь со своими аскерами. Сказав это, он резко поднялся и, не оглядываясь, вышел из хижины. Маркел и Старый Рахим сидели молча. За стеной хижины брякнуло железо, потом послышалось неспешное цоканье копыт, но вскоре и оно затихло. – Уехал, – тихим голосом сказал Старый Рахим. Маркел ничего на это не ответил. Старый Рахим, немного подождав, прибавил: – Его аскеры далеко. Я ещё успею угостить тебя чаем. Маркел подумал и сказал: – Да, это хорошо. Старый Рахим дважды хлопнул в ладоши. Из-за перегородки вышли два раба, один с чайником, второй с чашкой. Один налил чаю, второй подал чашку. Маркел взял чашку и принюхался, потом немного пригубил. Чай был очень горячий, и больше ничего понять было нельзя. Маркел свёл брови, сказал: – Позови мне своего человека. Старый Рахим хлопнул в ладоши – один раз. Откинулся полог, и в хижину вошёл Хромой Гассан. Маркел сказал: – Пойди и скажи моим людям, чтобы они собирались в дорогу. Хромой Гассан поклонился и вышел. Было слышно, как скрипит песок. Это Хромой Гассан шёл к берегу. Маркел сделал ещё один глоток, улыбнулся и сказал: – Очень хороший чай. – Благодарю тебя, – сказал Старый Рахим. – Это очень дорогой и редкий чай. Мне привозят его мои добрые знакомые из Бухары. А им его привозят их знакомые, но уже из Китая. Ты знаешь, что такое Китай? Маркел пожал плечами. Тогда Старый Рахим продолжил: – Китай – это очень большая страна. Другой такой большой страны нет на свете. Мой отец часто ездил в Китай. – А твой отец был купцом? – спросил Маркел. – Можно сказать и так, – ответил Старый Рахим, – но лучше будем называть его воином и ещё прибавим, что наши знакомые купцы не любили его. А потом, когда мой отец постарел и уже не мог без посторонней помощи садиться на лошадь, он приехал сюда и купил это место. Потом здесь родился я. Маркел сделал ещё один глоток и сказал: – О, это очень интересно. Расскажи мне о себе подробнее. И Старый Рахим начал рассказывать. Вначале он сказал, сколько лет было его отцу, когда тот приехал сюда. Потом – сколько у него было жён, и сколько от каждой детей, и что это были за дети, и почему отец, когда дети выросли, передал это место ему, а не кому-нибудь из его братьев. – Потому что, – продолжал Старый Рахим, – я никогда никуда не спешил, а всегда был на месте, и мог ждать, сколько было нужно, и мог отдать всё, зная, что завтра я это верну и возьму ещё столько же. Маркел одобрительно кивнул, а Старый Рахим продолжил. Теперь он стал рассказывать о том, какие он завёл порядки, когда умер его отец, и как ему вначале приходилось очень тяжело, зато теперь дела его делаются как бы сами собой, и сколько сюда приходит кораблей и в какое время года, и что они возят, и когда что лучше продавать, когда идти через пустыню, и так далее. Маркел слушал, кивал, а Старый Рахим рассказывал дальше – какие корабли приплывали к ним в этом году, и кто на них плыл, и как купцы с одного корабля, пришедшего из Астархана, рассказывали о двух важных московитах, одного зовут Маркел-ага, а второго Кирюхин-бабай, которые поплыли в Персию за слоном, и кто это такой – слон, и когда их ждать обратно. Но, честно сказал Старый Рахим, он их не ждал, потому что он думал, что у него есть много действительно важных и неотложных дел, а эту историю о слоне он посчитал за досужую выдумку. А вот Адыл-хан не посчитал, продолжал Старый Рахим, Адыл-хан простоял здесь всё лето, вот до чего он ждал слона, и теперь он хочет взять его живьём. И надо думать, возьмёт. И тут Старый Рахим наконец замолчал. Маркел прислушался. Было совсем тихо. Значит, подумал Маркел, они все уже собрались, значит, пора. И он улыбнулся и сказал: – Ждёт, говоришь? А вот и не дождётся! А за чай благодарю! И он приложил руку к груди. После чего поднялся, вышел из хижины, осмотрелся и увидел, что все его люди и слон уже стоят на причале, возле бусы, а сзади, на барханах, никого ещё не видно. Маркел развернулся и быстрым шагом пошёл к берегу. На берегу его заметили. Кирюхин что-то приказал, стрельцы начали заходить на бусу и рассаживаться по своим местам. А слон продолжал стоять на причале. Слон стоял, повернувшись к Маркелу, он поднял хобот и радостно рыкал, да ещё притопывал ногами. Рад чертяка, подумал Маркел и пошёл ещё быстрее. А потом почти что побежал. Вдруг сзади крикнули: – Качмай! Качмай! То есть «Стой! Не беги!». Маркел оглянулся. На горе, на вершине бархана, стоял человек в большой бараньей шапке, в длинном халате и с пищалью. Маркел пошёл дальше. Человек поднял пищаль и выстрелил вверх. Маркел побежал к пристани. На вершину бархана, к тому человеку, выбежали ещё такие же, похожие на него люди и тоже начали стрелять, но уже по Маркелу. Но они пока не попадали, пули со свистом пролетали мимо. Да и с бусы тоже начали стрелять по тем стреляющим, правда, это было больше для острастки, потому что пули не долетали до бархана. Зато Маркел добежал до причала. Стрельба прекратилась. На причале оставался один только слон, и он продолжал дудеть. Маркел схватил слона за бивень, потащил на бусу. Слон не упирался, шёл легко. Так они быстро прошли к мачте, Маркел приказал ложиться, и слон лёг. Тем временем одни стрельцы обрубали причальные верёвки, другие упирались вёслами в причал, отталкивались от него. Люди в бараньих шапках поспешно спускались с бархана. Кирюхин приказал грести и начал отсчитывать: «Гэп! Гэп!» Стрельцы гребли споро, широко, старались. Маркел сидел возле слона, у мачты. – Ветер попутный! – закричал Кирюхин. – Ставь парус! Парус захлопал, слон стерпел, не шелохнулся. Буса выходила прямо в море. Берег быстро отдаляется. Вот и слава тебе, Господи, подумал Маркел, домой плывём! И только хотел перекреститься, как вдруг с левой стороны, из-за горы Тюб-Караган, показались длинные чёрные, с высокими бортами лодки, их было много, и в них было много гребцов, и так же много там было аскеров с пищалями и копьями. Эти лодки быстро шли наперехват. Маркел оглянулся. Сзади, уже на самом берегу, стояли такие же аскеры с такими же пищалями и копьями. Маркел снова повернулся к морю и подумал, что большие лодки, то есть корабли, плывут очень быстро и подплывают всё ближе. То есть, получается, уже, что ли, не выскочить? И Кирюхин так, похоже, и подумал, потому что он повернулся к Маркелу и крикнул: – Что делать? Табанить? – Нет! – закричал Маркел. – Прямо держи! Они в нас стрелять не будут! – Почему это? – крикнул Кирюхин. – Они хотят Ширку взять живым! – крикнул Маркел. – Видишь? С копьями вперёд полезли! И в самом деле, на ближайших кораблях те, что с пищалями, отходили на корму, а те, что с копьями, лезли на кичку. И эти корабли всё приближались и приближались. Маркел одной рукой придерживал слона, а второй крестился и шептал: – Проскочим, Господи! Проскочим! Ведь проскочим же! Ну а пока всё было наоборот – корабли Адыл-хана всё приближались и приближались! И вот их передовой корабль уже почти поравнялся с бусой, и вот уже сам Адыл-хан, с саблей в руке, вышел на кичку и начал кричать: – Маркел-хан! Проси что хочешь, всё отдам, только отдай слона взамен! Или убью тебя! Живым зажарю! Маркел поднялся во весь рост и засмеялся. Адылхановский корабль уже почти сошёлся с бусой, затрещали вёсла… Но тут попутный порыв ветра вдруг подхватил бусу и подбросил её вверх, а вот адылхановский корабль, наоборот, притопило волной. Потом его отбросило и закачало, а буса опять поднялась на волне и мягко соскочила вниз. Слон как мёртвый лежал возле мачты, бусу повернуло боком к ветру, волна перекатилась с борта на борт, слон завизжал как резаный, но не вставал, а только дрыгал ногами. Маркел навалился на слона, обнял его за голову и приговаривал: – Ширка, свинья проклятая, не шевелись, не то всех утопишь!.. А ветер всё крепчал и крепчал, а солнце опускалось всё ниже и ниже, а наши гребли очень споро. Адылхановские корабли отставали всё больше и больше… но и не останавливались, и не поворачивали обратно. Маркел смотрел на них и думал, что Адыл-хан очень упрям, так что чем всё это кончится, ещё совсем неизвестно! А солнце тем временем мало-помалу опустилось в море, и стало темно. Потом стало совсем темно, на небе показались звёзды, Кирюхин стал смотреть на них, и он опять поднимал руки и загибал пальцы, считал пяди, а потом приказал брать левее. Поплыли левее. В море было темно, и никого рядом не было. Потом вышла луна, сразу стало лучше видно, и они увидели адылхановских, а адылхановские увидели их! И снова началась погоня, до изнеможения. Так что слава Господу, подумалось, когда небо снова затянуло тучами, потому что опять стало темно, адылхановские их не видели, и можно было хоть немного отдохнуть. А потом, когда только ещё начало светлеть, ветер опять очень усилился! Но зато он был попутный. Они плыли на север, домой, и уже никто за ними не гнался. Маркел лёг возле мачты, рядом со слоном, слон спал очень крепко, Маркел тоже. Но спал он недолго, потому что проснулся от выстрела. Он сразу вскочил и осмотрелся. Сзади опять шли адылхановские корабли, их было не меньше пяти, и они приближались. Потом с них снова началась стрельба. Вскоре убили нашего, это был Третьяк Соломин из Калязина. Его опустили в море. Потом убили Климова. Потом Смирнова. Потом снова натянуло тучу, пошёл сильный дождь, ничего не стало видно, адылхановские вновь пропали. Кирюхин смотрел в небо, ничего не видел, и буса шла наугад. А волны поднимались всё выше и выше. Зато, думал Маркел, буса идёт очень быстро, и если она только не развалится, то уже сегодня они доплывут до Волги. Но Волги всё не было и не было. Зато их болтало весь день и всю ночь. А утром началась самая настоящая буря! Бусу мотало как щепку и заливало волнами, и смывало гребцов за борт, а там топило в пене, и ревело, и туда же унесло Кирюхина, слона, потом Маркела. Маркел ничего не видел и не слышал, везде была вода, она была тёплая, противная, а одежда тянула ко дну. Маркел снял саблю, сапоги, снял архалук… А всё равно его тащило вниз. Дышать было нечем, Маркел открыл рот, изо рта стал вырываться воздух, Маркел начал пускать пузыри. Вода заливалась в горло, в грудь, эх, только и подумалось, и вот и всё…Глава 26
Или почти что всё. Потому что Маркел вдруг почуял, захлёбываясь, что это не такая вода, как всегда, а она несолёная, пресная! Но в море пресной воды не бывает, подумал Маркел, значит, это не море, а это река, это Волга! Это жизнь! Тогда чего же он тонет? И он начал барахтаться, он хотел выплыть, вынырнуть! У него ещё есть силы, думал он, а наверху есть чем дышать, и он вынырнет наверх, он сможет! И он и в самом деле начал подниматься – вначале очень медленно, потом немного быстрей, потом ещё быстрей – и вынырнул! И быстро глотнул воздуха, потом ещё! Потом его подхватила волна – и понесла! Он отплевался, а его ещё раз бросило – и он упал в грязь, в тёплую траву. Асверху его вновь ударила волна и потащила обратно, в море, но он не поддался и вцепился в корни и пополз в кусты, как можно дальше от воды… И там он пролежал довольно долго, то засыпая, а то просыпаясь. Ветер уже почти совсем утих, небо было чистое, солнце поднялось высоко, стало жарко. И ещё было очень душно, парило. Маркел поднял голову и осмотрелся. Он лежал на берегу, на жёлтеньком песочке, а дальше от берега росла трава, густая и высокая, а ещё дальше чернели кусты. И никого нигде живого не было! И сам Маркел был грязный, в тине, ничего на нём почти что не было, кроме нательного креста, рубахи да портов. А ведь мог и совсем утонуть! Подумав так, Маркел облегчённо вздохнул и перекрестился. Потом прислушался. Было очень тихо. Маркел поднялся и окликнул: – Ширка! Ширка! Слон не отзывался. И его следов на песке видно не было. И дальше от берега, в море, ни слона не было видно, ни бусы, ни адыловских кораблей, ни даже барашков на волнах. Маркел невесело вздохнул, пошёл вдоль берега. Берег был очень заросший. Сколько же здесь высоченной травищи, а сколько веток! Да что тут один слон, да тут их пригони хоть тысячу, и то до зимы всё не съедят. Размышляя таким образом, Маркел шёл по берегу, внимательно смотрел по сторонам, временами останавливался, прислушивался, ничего нужного не замечал и шёл дальше. Так он прошёл довольно много и уже почти что перестал на что-нибудь надеяться, как вдруг услышал чавканье. Кто-то чавкал очень громко! И очень громко дышал, прямо как кузнечные мехи. Маркел сразу же остановился. Чавканье не перестало. Маркел поспешно повернулся, полез в чащу. И он не ошибся! Это и в самом деле был слон! Он стоял в густой чаще высокой травы и жадно поедал её. – Ширка! Ширка! – ещё раз окликнул Маркел. Но слон даже не повернулся. Маркел стоял и смотрел на слона, и на душе было легко и радостно. А слон жрал себе и жрал траву, тяжело отдувался, порыкивал. Ну ещё бы, подумал Маркел, это же когда слон в последний раз кормился от души? Да ещё в Персии! Так пусть теперь полакомится вволю. И Маркел не торопил слона. А тот всё никак не мог насытиться. Но вскоре он стал есть всё медленней и медленней, а потом и совсем перестал. Теперь он стоял неподвижно, икал и то поднимал хобот и дудел, а то просто притоптывал ногами. Маркел зашёл к нему сбоку, погладил по щеке, сказал «Ширка, Ширка», взял за бивень и повёл. Слон не упирался, шёл послушно. Так они вышли из чащи, развернулись и опять пошли вдоль берега. Маркел шёл впереди, а слон за ним. Маркел насвистывал и думал, что если Господь слона не утопил, то это добрый знак: значит, Господь их любит. Да и чего им тут осталось, думалось, сейчас пойдут свои места, а в своих грех утопиться. Так что, ещё думал Маркел, теперь нужно держаться берега, потому что там их могут заметить с моря, а вот если залезешь в чащу, то никто тебя там не увидит. Но, правда, они пока что шли и шли и никого не замечали, и их тоже никто не замечал. А потом Маркел вдруг увидел утопленника. Утопленник лежал на самом берегу, наполовину в воде, и Маркел его сразу узнал, это был Григорий, кирюхинский служка. Он лежал навзничь, и глаза у него были открыты. Маркел наклонился и закрыл ему глаза, потом перекрестился, осмотрелся, но больше никого поблизости не заметил. Тогда Маркел переступил через Григория и пошёл дальше. Слон тоже осторожно обошёл Григория и пошёл следом за Маркелом. Утопились они все, думал Маркел, и буса утонула вместе с ними, и он теперь здесь один. Но не успел он так подумать, как увидел ещё один труп. Этот лежал весь в воде, но очень близко от берега. И он тоже лежал навзничь, вот только глаза у него были закрыты, а рот, наоборот, открыт. А как его звали, Маркел не мог вспомнить. Да и зачем это теперь? Маркел опять перекрестился, пошёл дальше. Слон шёл сразу за ним и громко и душно дышал ему в ухо. Потом слон вдруг остановился. И Маркел остановился тоже, обернулся и увидел на песке змею. Но после присмотрелся лучше и понял, что это обрывок верёвки. И она здесь лежала не так и давно! И от верёвки в сторону вела едва заметная тропа… Но Маркел не стал лезть в чащу, а пошёл дальше вдоль берега, потому что там тоже была тропка, и от неё была видна вода, много воды, по ней могут плавать корабли, подумалось. И вдруг показались мостки! Они были, конечно, низенькие и короткие, но слона они бы выдержали, подумал Маркел. Также и большой корабль может к ним пристать, хотя бы их буса. Но только что здесь бусе делать? А вот воровским демьяновским лодкам здесь очень удобно чалиться – место укромное, затишное… И тут слон вдруг затрубил! И трубил он очень громко, прямо над самой головой! Чего это он вдруг, сердито подумал Маркел и оглянулся на слона, потом глянул на воду, на море… И увидел струг! Струг был небольшой, на двадцать вёсел, он шёл под парусом, и ветер ему был попутный, кормщик стоял на корме и мерно размахивал рукой, гребцы под эти взмахи разом поднимали вёсла, заносили их как можно дальше, а после откидывались навзничь и гребли. А слон ревел как резаный! Но им никакого дела до этого не было – они гребли! А слон ревел как буря! А они всё равно его не слышали! Или слышали, но не хотели признаваться. Или, может, ещё что-нибудь? Но одно было понятно – что они сейчас ещё прибавят и уплывут вон за тот нос, и тогда будет совсем всё равно, наши они или не наши. И Маркел что было мочи закричал: – Братцы! Братцы! Вы чего! Мы наши! Мы свои! – и начал махать руками. И вот только тогда их заметили. Кормчий повернулся к ним и стал что-то кричать в ответ, но ветер относил его слова, да и это было совсем неважно, что он им кричит, а важно было то, что струг наконец повернулся к берегу и начал быстро приближаться. Маркел присмотрелся к кормщику, узнал его и закричал: – Филиппов! Сенька! Это ты?! – Я! – в крик ответил тот Филиппов, астраханский губной староста, потом немного помолчал и с превеликим недоверием спросил: – А ты – это Маркел Петрович, что ли? Маркел в ответ только развёл руками. Тогда Филиппов продолжал: – И это с тобой слон? – А кто ещё?! – в ответ крикнул Маркел и замолчал, потому что больше не кричалось, не хотелось. Молчал и Филиппов. И слон не ревел. Гребцы опять гребли ровно. Маркел отряхнул рубаху, подтянул порты. Струг быстро приближался, начал поворачиваться боком. Маркел поднялся на мостки. Босиком было неловко. Струг подошёл, ткнулся в мостки. Филиппов рукой указал всем сидеть, а сам поднялся к Маркелу. Сразу за Маркелом стоял слон. Филиппов глянул на него и с уважением сказал: – А хороша зверина! Хоть куда. За сколько взяли? – Как это за сколько? – ответил Маркел. – Нам его даром дали. – И повернувшись, велел: – Голос, Ширка! Слон лениво задудел вполсилы. Филиппов и гребцы заулыбались. Слон замолчал, и Филиппов спросил: – А где ваша буса? И где люди? Маркел, ничего не говоря, перекрестился. – Это вчера, что ли, в грозу? – опять спросил Филиппов. Маркел молча кивнул. Потом спросил: – А как у вас? – А что у нас?! – сказал Филиппов. – Сам видишь! Рыщем по морю туда-сюда, высматриваем, не прёт ли кто государевы товары не спросясь. И тут вдруг смотрим – ты на бережку стоишь. Вот нам и радость, да. Маркел помолчал, сказал: – А я вас сразу не признал. Я уже было подумал, не от Демьяна ли вы. – Э! – весело сказал Филиппов. – От Демьяна! Демьяновы ушли давно, ещё до Петрова дня. За зипунами, на Дербент, всем войском. – И как у них дела? – Да кто их знает, – ответил Филиппов. – Никто обратно не едет, не рассказывает. Так что, наверное, пока что хорошо. Да и нам без них спокойнее. Маркел усмехнулся, сказал: – То-то вы, я вижу, осмелели. Без оглядки туда-сюда шастаете. – Мы не шастаем, – строго сказал Филиппов, – а мы на службе! – Ладно, – сказал Маркел, – это я так, к слову. А что ещё у вас? – Да ничего! – сказал Филиппов. – Воевода жив-здоров, чего и всем нам желает. А господин кызылбашский посол, этот сидел, сидел, ждал, ждал, когда его позовут, не дождался и уехал так, сам по себе. – В Москву, что ли? – спросил Маркел. – Да как это без спроса в Москву? – удивился Филиппов. – Нет, он сперва только в Казань поехал, и там опять будет ждать. – А что воевода? – А воевода очень гневается, каждый день с утра сразу одно и то же спрашивает: где наш слон? А он, теперь мы видим, вот где! И Филиппов опять повернулся к слону, шагнул было вперёд… Но слон поднял хобот, рыкнул, и Филиппов сразу отступил, сказал: – Зверь он и есть зверь, это верно. Потом осмотрел Маркела и прибавил: – Приодеть надо тебя, Маркел Петрович. Маркел поморщился, сказал: – Об этом после. А сперва надо скорей к воеводе! – А как же слон? – спросил Филиппов. – Слон к нам не поместится. – Это ещё как поместится, – сказал Маркел. – Да ты у кого хочешь спроси… – Но тут же вспомнил, что теперь спрашивать не у кого, и тут же продолжил: – Ладно, сейчас буду показывать. Где сходни? На струге засуетились, из-под скамьи вытащили сходни. Маркел показал, как их ставить. Потом сказал, кому где становиться, чтобы слон их не перевесил. Потом показал, где и куда надо расступиться. Они расступились. Тогда он взвёл слона на мостки, осторожно перевёл его через борт и поставил к мачте. Потом велел ему лечь, и слон лёг, там же и Маркел сел рядом и велел отчаливать – мало-помалу, конечно, – и отчалили. Ох, руки у них тогда дрожали! Ох, зубы скрипели… Но струг понемногу плыл, а слон лежал смирно и только глазами посверкивал. Потом струг так же понемногу поворачивался, потом совсем повернулся и поплыл всё быстрей и быстрей, а слон закрыл глаза и затаился. Потом они даже подняли мачту и поймали ветер. Потом, когда слон задремал, Маркел поднялся и вышел на кичку, долго смотрел вперёд, потом спросил, сколько им ещё до Астрахани. Филиппов ответил, что дня два примерно. Маркел согласно кивнул и подумал, что у Кирюхина такого не было, у Кирюхина всё было точно, да только где теперь Кирюхин – и перекрестился. Потом вернулся к слону и сел рядом. Слон спал. К ним тут же подсел Филиппов и спросил, как слон, не буен ли. Маркел ответил, что не буен, если не дразнить. – Это хорошо, – сказал Филиппов, – а то прошлогодний был буен: чуть что, сразу на рога! Маркел не удержался и сказал, что не на рога, а на бивни. – Это да, – согласился Филиппов и тут же спросил, а как там в Персии. Но Маркелу это не понравилось, не любил он пустую болтовню и поэтому сразу сказал, что про служебные дела он крест целовал молчать. – Эх! – только и сказал Филиппов. – Беда какая! Ну да ладно! Слово надо держать, в слове сила. А то вот у нас в прошлом году… И начал длинно и нудно рассказывать про одного купца, который ездил от них, из Астрахани, на Тюб-Караган, это морем, а дальше на верблюдах через пески в Хиву, и там накупил жёлтой травы-дурмана, и как Филиппов скрытно за ним езживал, высматривал… Ну и так далее. Но Маркел заснул и дальше не запомнил. Вечером они причалили, поели, и Филиппов вновь сказал, что Маркелу надо приодеться и что у него, Филиппова, есть вот такой запасной кафтан, Маркелу будет как раз, а у Никифора Крота есть для него такие сапоги, а у Ивана Рыбы вот такая шапка, а… Ну, и опять так далее. Так что пока готовилась еда, Маркел приоделся. Теперь он был в чужом кафтане, в чужих сапогах, в чужой шапке и даже с невесть чьим чужим ножом. Неудобно ему было очень! А тут ему как раз подали в одну руку миску наваристой ушицы, во вторую чарку… И Маркел не удержался и сказал, что когда они жили в персиянском стольном городе Казвине и ходили на обед к Даруге, а это у них, у персиян, так называется главный боярин, то там перед обедом руки моют водкой. – Зачем это? – недоверчиво спросил Филиппов. – Такой обычай, – ответил Маркел. – А как у простых людей? – спросили. – А простые люди моют ключевой водой, – сказал Маркел, отставил миску с ушицей и одним махом выпил чарку. Стало жарко. Потом он много ещё чего рассказывал – и про то, как он слона выбирал, и как на слоне ездил, и как в Персии много слонов, и как ещё больше слонов в Индии, и как дальше за Индией есть такая страна, в которой живут одни слоны… Но на этом он настаивать не стал, потому что сам не видел, а вот как ездят на слоне, он показал. А потом даже давал желающим попробовать. И слон их всех, конечно, сбрасывал – под общий смех. Потом стемнело. Все легли, а Маркел ещё отвёл слона к ближним кустам и велел пастись. И слон там пасся всю ночь, а все за ним с интересом подглядывали. На второй день и на второй же вечер они тоже не скучали, но Маркел уже знал меру. Да и про само своё дело он им ни словечка не сказал же, а так, только одни байки баял. Также и слон молчал и только иногда ревел, это когда был голодный, и ему давали ведро каши. А потом, это уже на третий день пути, в воскресенье, на мученика Андрея Стратилата, они увидели Астрахань.Глава 27
И было это августа в двадцать девятый день. Погода стояла солнечная, жаркая, Волга была широкая. Маркел расстегнулся, снял шапку. Они подплывали к городу с полуденной стороны, рассмотреть их было трудно. То-то воевода удивится, когда они ближе подойдут, подумалось. Но неожиданно у них не получилось, потому что слон, как только почуял Астрахань, вдруг почему-то начал реветь как сумасшедший. Решили его унять и, по совету Филиппова, дали ему немного водки. Но слон начал орать ещё громче. Побежали к Маркелу, спросили, что делать. А что теперь, теперь только терпеть, сказал Маркел, и ждать, когда это из него выйдет. А про себя подумалось: больше ему водки не давать, дуреет. А пока что слон ревел, от города палили из пушки, а на берег мало-помалу собирался народ. Маркел крестился на купола и думал: шутка ли, три месяца крестов не видывал! Потом он стал смотреть на пристань. Воеводы среди встречающих не было. Был только, сказал Филиппов, таможенный староста Фома Ильин да ещё сотник Крюков. Ну ещё бы, подумал Маркел, будет воевода ноги бить, а как же! Зато народу навалило множество. Это же, сказал Филиппов, от народа не скроешь, народ знает, что должны везти слона, а тут его уже и слышно, и видно. И верно – слон стоял посреди струга, вместо мачты, и громко ревел, как сто быков. А струг тем временем пошёл на поворот, начал причаливать. Слон поутих, стоял как истукан, поглядывал по сторонам, хлопал ушами, щурился. Народ на пристани на всякий случай отхлынул. И вот струг причалил. Маркел вывел слона на мостки. Слон встал на дыбы, постоял, опустился, мотнул головой, зарыкал. Народ опять отхлынул, и пока молча. Маркел свёл слона с причала на пристань, на землю. Слон остановился, стал осматриваться – слава богу, молча. Люди ждали, что будет дальше… Но ничего особенного дальше не случилось. Маркел повернул слона, повёл по дороге вверх, к кремлю. За слоном шёл Филиппов, за ним его люди, с полдесятка. И тут из народной толпы вышел Крюков, очень скорым шагом, остановился посреди дороги, развёл руки и заговорил крикливым голосом: – Да вы это что, куда прётесь?! Кто позволил такую дикую скотину в кремль вводить?! – А вот в прошлом году… – начал было Филиппов. – А после сдох! – сказал Крюков. – На всё воля Божья, – ответил Филиппов и посмотрел на Маркела. Маркел легонько пнул слону под сопелку. Слон вздохнул и поклонился Крюкову. Крюков сразу подобрел, сказал: – Ну, смотрите, но я вас предупреждал! – После чего обернулся на кремль, на крышу воеводских хором, и прибавил: – Воевода не выходит. Маркел, больше ничего не говоря, повёл слона дальше, в кремль. Крюков быстрым шагом то и дело забегал впереди, приказывал, Маркел поворачивал, куда он говорил, а Филиппов со своими шёл следом. А уже за ними шла толпа. Так они дошли до воеводы. Возле крыльца воеводских хором Маркел сказал слону: – Стой здесь, никуда не ходи. – И ещё прибавил Анируддхино: – Хайдараба! Слон встал на дыбы, опустился. Филиппов остался возле слона, начал подмигивать ему, пошучивать. Маркел поднялся на крыльцо, вошёл в хоромы. Там его сразу везде пропустили. И даже больше: когда он вошёл к воеводе, тот, спиной к нему, стоял возле окна и смотрел вниз, во двор. Оттуда был слышен говор толпы. Маркел немного подождал, потом откашлялся. Воевода, а если кто забыл, то это князь и воевода и боярин Троекуров Фёдор Михайлович, неспешно отвернулся от окна и строго глянул на Маркела. Тот поклонился поясным обычаем, черканул ладошкой по ковру, назвал себя. Троекуров молча сел к столу, помолчал, потом сказал: – Государь на тебя гневается. Где, говорит, этот подлец пропал? – Ну, это… – ответил Маркел нарочито глупым голосом. Но Троекурова это не тронуло. Он грозно продолжил: – В глаза гляди! И по порядку. Где слон? – Во дворе. – Этот недомерок, что ли? – Другого не дали, – ответил Маркел. – Плохо просил! – Я не просил, я менялся. Троекуров помолчал, подумал и спросил: – А что ты дал вместо слона? – Царёв сундук. – А что было в сундуке? – Не могу знать. – Можешь, стервец! Ну, говори! Маркел вздохнул и ответил: – Там была чёрная лиса. Вот такая. Жемчуга на коготках. А взамен дали слона. Учёного! Может плясать, может ходить на задних лапах, может хвостом вертеть, может дудеть три песни, может… И он опять вздохнул. – Шаха видел? – спросил Троекуров. Маркел помотал головой – нет, не видел. Троекуров смотрел на Маркела, молчал. Маркел опять вздохнул, сказал: – Шах на войне с бухарцами, его нужно было ждать, может, ещё полгода. А главный вазир уехал на охоту… – И вы пошли к Даруге и отдали ему лису! – сказал Троекуров. – А царёву грамоту сожгли. Так было? Маркел кивнул, что так. – Ладно, – сказал Троекуров. – Что было, то было. А как там Шестак? – Твоими молитвами, так говорит. – Стервец какой! – воскликнул Троекуров, но без злости. Тогда Маркел сразу прибавил: – А ещё он говорит, что Васильчиков не отдаёт ему триста рублей, которые… – Знаю, знаю! – перебил Маркела Троекуров. – Да только что ему эти триста рублей, когда он живёт себе на всем готовом и в ус не дует. В Персии! А Васильчикову и того больше, – уже сердито продолжал Троекуров. – Его за это дело записали в окольничьи, и он теперь в Думе сидит, с боярами, с царём, в Москве… А мне, которому всё это придумал, и их, дураков, надоумил, что мне за всё это дали? Да ничего почти! У тебя, говорят, и так всё есть, ты и князь, и боярин, ты и воевода, и вотчина у тебя какая, о-го-го, сорок пять деревень… И вот дадим мы тебе ещё деревеньку! И дали. А я, дурень, взял. А там всего три двора, три пьяницы, голь перекатная, и я должен за них каждый год недоимки выплачивать. Знаешь во сколько они мне обходятся? То-то же! И я говорю: забирайте их обратно в казну. Так не берут! Потому что не дурни. А я… Да! Вот так! Так что пусть Шестак не жалуется, сидит там на всём готовом, тепло как на печи, а тут… Триста рублей! Нашёл из-за чего кручиниться! Так что Шестак? – Ничего, – равнодушно ответил Маркел. – И хорошо, – сказал Троекуров. – А что Аллага? Правда, что его убили? – Правда, – кивнул Маркел. – Сам видел. – Эх, – только и сказал Троекуров. – И говорил же я: туда не лезьте! – Как это говорил… – начал было Маркел. – А ты что, уже забыл? – сердито спросил Троекуров. – Я же говорил вам не ходить мимо шамхала! Я же говорил: идите через Караганово пристанище, а дальше на Бек-Даш, и там уже и Гилянь, и Казвин. А вы как очумелые: через шамхала, через шамхала! И вот доходились. Маркел смотрел на воеводу и кусал губу. – Ладно, – со вздохом сказал Троекуров. – Что было, того не воротишь. Да и я не злопамятный. Ну а как вы в Терский городок сходили? Хлеб передали? – Передали. – И как они? – Да так, – уклончиво ответил Маркел. – Им сколько ни дай, будет мало. – Это верно, – сказал Троекуров. – И я говорил в Москве: не надо им ничего давать, всё равно будут на нас волком смотреть. И ведь смотрят? Маркел ничего не ответил. Троекуров помолчал, сказал: – Вот и ты говоришь, смотрят. – Помолчал, потом сказал: – Ладно! Чего это я на тебя навалился? Что было, то было, надо дальше дело делать, и, может, ещё сделаем. Надо тебя дальше отправлять, в Москву. А вот на чём отправлять? Маркел молчал, смотрел в пол. – Где Кирюхин? – спросил Троекуров. Маркел медленно перекрестился. – А где буса? Где его стрельцы? – Шли от Караганского пристанища, – сказал Маркел. – А за нами Адыл-хан со всем своим войском. Ну, и мы от него в бурю. Ну, и буря потопила всех. – А ты? – А меня Господь помиловал. Меня и Ширку. Ширка – это слон, это его так звать. – А дальше? – Филиппов мимо плыл и подобрал нас. – Гм, – только и сказал Троекуров. – Неисповедимы пути твои, Господи! – и перекрестился. Маркел перекрестился следом. Троекуров ещё помолчал, потом опять заговорил: – А всё равно надо ехать. Слон же всё равно живой! И его ждут в Москве. Ждут очень сильно. А где я тебе теперь бусу возьму? – Можно и просто струг, – сказал Маркел. – Да вот хотя бы тот кирюхинский, на котором мы сюда пришли. Слон же у нас непривередливый. И я нарочно взял меньшего. – И это правильно, – сказал Троекуров задумчиво. – Мал, да удал… – И вдруг громко продолжил: – Ладно! Я тут подумал вот что: не будем мы долго мудрить, а есть тут у меня на плотбище один старый есаульный струг, он там с весны стоит. А теперь я дам его тебе! И дам в придачу стрельцов, дам две пушки, дам харчей, и идите! И идите быстро, и одни, ибо осенние купцы уже неделю как ушли назад, на Нижний, а кызылбашский посол ещё раньше. Не удержали мы его, теперь его будут в Казани перехватывать. Или уже перехватили. И, обещали, будут держать крепко. Так что ты его в Казани и нагонишь, и перегонишь! – Да какое там… – начал Маркел. – А вот такое! – сказал Троекуров. – Это государево веление! Понятно? Маркел опять промолчал. А Троекуров радостно продолжил: – Да и чего тут теперь осталось? До Царицына тебя никто не тронет, Демьян же, слава Богу, ушёл на Дербент и раньше Покрова обратно не явится, так что до Царицына тебе препон не будет. А там, в Царицыне, тебя ждёт ваш второй струг, Смыкова, и вот как ты до Смыкова дойдёшь, так сразу бери его себе, и вас станет уже двое, это сила, а мне верни моих, а сам иди дальше со Смыковым до Нижнего. Как тебе это? Маркел подумал и сказал, что Смыков – человек проверенный и он на Смыкова согласен. А вот согласится ли Смыков идти под его руку? – Как это вдруг не согласится? – удивился Троекуров. – Да очень просто, – ответил Маркел. – Я же ему кто такой? У меня все бумаги пропали. Утопились! – Когда это? – спросил Троекуров. Но тут же спохватился и сказал: – А, да, и верно. Ну да это не беда. Бумаги мы тебе выправим, это дело простое, быстрое. – И тут же обернулся и позвал: – Илья! Почти сразу же вошёл так называемый Илья, воеводский подьячий. Троекуров строго приказал ему: – Сделай вот этому гонцу, – и он указал на Маркела, – бумаги до Москвы, наипервейшей спешности, с золочёной печатью! Живо! Илья мельком глянул на Маркела и спросил: – Этот, который из Разбойного приказа, со слоном? Троекуров утвердительно кивнул. Илья ещё раз осмотрел Маркела, после поклонился Троекурову и вышел. Троекуров засмеялся, потёр руки… Но вдруг опять стал серьёзный, внимательно осмотрел Маркела и сказал: – Что-то вид у тебя какой-то не наш. Одёжка как будто с чужого плеча, висит как мешок. Ну какой из тебя царёв гонец? Как ты такой царю покажешься? Но мы и это исправим! Силантий! Пришёл, судя по одёжке, воеводский челядин. Троекуров указал ему на Маркела и сказал: – Вот сними с него мерку, с этого гонца царёва, и чтобы к вечеру всё было в наилучшем виде. Силантий пристально осмотрел Маркела, кивнул головой и ушёл. Троекуров самодовольно заусмехался и сказал: – Вот и ещё одно дело сделали. А теперь идём покажу тебе корабль. Уже неделю как готов. И кормщик наилучший! Получше Кирюхина! Аким Рыжов! Сказав это, Троекуров встал из-за стола, начал обходить вокруг него… И вдруг заорали под окном! Завизжали! Слон заревел, завыл! Народ уже немо стонал! Троекуров кинулся к окну, глянул в него и отшатнулся, закричал Маркелу: – Взбесился твой! Ух, будет тебе дыба! Будет! И побежал к двери. Маркел побежал за ним. Когда они выбежали на крыльцо, во дворе творилось не расскажешь что! Слон, как очумелый, бегал туда-сюда, кидался на людей, разбрасывал! Люди метались взад-вперёд, в воротах была давка, выскочить было нельзя! Троекуров поднял руки, открыл рот и онемел… А Маркел перескочил через балясины и соскочил во двор. Слон его увидел, отвернулся. Маркел кинулся к нему и закричал: – Ширка! Ширка! Слон побежал вдоль частокола. Маркел побежал за ним, в ушах заухало. Слон добежал до угла и вдруг остановился там, развернулся… И помчался прямо на Маркела! Маркел остановился, развёл руки. Слон пробежал мимо него, опять развернулся, и встал на дыбы, и завыл! А потом опять как кинулся! Маркел отскочил, оступился, упал… А слон добежал до него, встал прямо над ним, поднял ногу, заревел как бешеный… И замер. Маркел смотрел на его ногу, на эту толстую ступню с пятью малыми копытцами, и думал, что вот сейчас слон как наступит на него – и от него только кровища во все стороны! Ну и ещё мозги, ну и дерьмо, и всё… И так Маркелу горько стало! И он громко закричал: – Хайдараба! Хайдараба, свинья! И слон убрал ногу – медленно встал на неё, и отошёл к частоколу, и начал там остервенело рвать траву. Маркел поднялся, отряхнулся, подошёл к слону и постоял немного, потом осторожно погладил его по щеке и тихо сказал: – Ширка, Ширка, что же ты наделал? Слон перестал драть траву, медленно поднял хобот и так же медленно обкрутил им Маркела. И замер. Так они стояли и не шевелились. И во дворе шум мало-помалу стих. Народ стоял вдоль стен, помалкивал. Троекуров осмотрел народ и очень громко и грозно спросил: – Кто это посмел царёву животину обидеть? Выходи вперёд! Вначале никто не выходил, а потом вышел Крюков, снял шапку и поклонился Троекурову. Троекуров с удивлением спросил: – Как это ты? – Да вот так, – ответил Крюков мрачным голосом. – Смотрю, мимо ходят люди, а тут стоит зверь нестреноженный. Ну, я и велел моим людям, чтобы они его стреножили, а он вдруг как взбесится! Вдруг как начнёт скакать! Еремеев, покажи стреногу! Стрелец – наверное, тот самый Еремеев – поднял с земли цепь, толстенную. Слон, как её увидел, опять начал рыкать. Маркел опять стал унимать его. Еремеев бросил цепь, но Троекуров тотчас же велел: – Еремеев, убери её! А вы пособите ему, что стоите?! Это он сказал уже другим стрельцам. Цепь унесли. Маркел стоял возле слона, слон весь дрожал, порыкивал. В толпе, было слышно, стали говорить, что вот как слоны цепей не любят, кто бы мог подумать, и так далее. А Троекуров сошёл вниз, во двор. Крюков стоял без шапки, ждал грозы. Но Троекуров на него даже не глянул, а подошёл к Маркелу со слоном, но слишком близко подступать не стал, и сказал: – Ладно, пойдём пока, посмотрим твой новый кораблик. И они пошли. А слон стоял в углу двора, тихо порыкивал, и никто к нему уже не подходил, робели. Так же и Маркел, когда его вели на плотбище, помалкивал. А что ему было говорить? Он же и так знал, что ему покажут. И так оно и случилось. Придя на плотбище, они почти сразу подошли к кирюхинскому стругу, там Маркела обвели вокруг него и показали, что с боков ему ещё набили досок для устойчивости, а возле мачты, чтобы не было от слона тесноты, переставили уключины. А ещё вот здесь, сказали, можно сделать для слона загончик. Услыхав про загончик, Маркел мрачно хмыкнул. А Троекуров сердито сказал, что загончика лучше не надо, а то слон опять может разгневаться. И повернувшись к Маркелу, спросил, почему тот ничего не говорит. – А что говорить, – сказал Маркел. – Струг крепкий, парус целый, вёсла новые. А люди где? – А люди на амбаре, грузятся, – ответил Троекуров. И сразу продолжил: – Потому что верно ты сказал: надо скорее выходить! Ну, так и я скажу: сегодня выйдете. А как твой слон? Готов? Маркел ответил, что готов, его только надо покормить. Троекуров удивился и сказал, что пусть Маркел велит, чтоб покормили. – Он без меня не ест, – сказал Маркел. – Ну так иди и сам корми! – в сердцах воскликнул Троекуров. Маркел развернулся и пошёл обратно. И как только он пришёл на воеводский двор, то слон сразу радостно зарыкал. Маркел подошёл к слону, потрепал его за ухо и спросил, как он, не голоден ли. Слон быстро закивал, что голоден. – Филиппов! – приказал Маркел. А Филиппов со своими был уже на месте, и с ними было много всякого: ношка травы и ведро каши, два ведра затирки, три больших ведра воды и одна связка свежего мочала. Слон начал быстро и с большой охотой есть, Маркел смотрел на него и радостно похмыкивал. А потом увидел, что к нему идут. Это был ещё один воеводский подьячий, Маркел его раньше не видел. А подьячий на ходу кричал: – Маркел Петрович! Иди к нам! Уже накрыли! Маркел опять обернулся к Филиппову, приказал емубыть за старшего, а сам пошёл к воеводским хоромам. Там его ввели в воеводскую малую трапезную, и там он сел на лавку, а не на пол, и к столу, а не к земле, и там ему дали ложку, а нож у него был свой, филипповский, и не нужно было руки мыть, а так: сразу взял и сразу ешь. Маркел ел и улыбался, ему было хорошо, а подьячий, он назвался Мишкой, сам не ел, а только сидел напротив, угощал, расспрашивал о всяких пустяках, это как водятся ли в Кызылбашах рыбы, а слоны, а пьют ли там вино и курят ли табак-траву, – и тут же наливал, подкладывал. Маркел рассказывал. После ослабил пояс и прилёг. После Мишка помог ему снять сапоги, Маркел лёг поудобнее, заложил руки за голову, задумался. Потом огладил бороду и сказал, что борода слишком запущена, нет ли у них тут брадобрея. Мишка сказал, что есть, и сразу же спросил, позвать ли. Маркел ответил, что позвать. Мишка вышел, а Маркел заснул. Проснулся он, когда уже смеркалось. Мишка сидел напротив. Маркел потрогал бороду, она была подправлена. Но Маркел не стал про это говорить, а только спросил, где Ширка. Ждёт во дворе, ответил Мишка. И прибавил, что и люди тоже ждут, на пристани. Маркел вскочил и хотел выходить, на что Мишка сказал, что царёву гонцу так негоже, и указал на небольшой сундук. Маркел запустил в него руку и достал оттуда шапку, рубаху, кафтан, сапоги, порты… Ну и так далее. И всё это были сукно, и парча, и камка всякая. Маркел переоделся, встал к свету, начал осматривать себя, дивиться. А тут Мишка ещё подал подорожную. Она и в самом деле была с позолоченной печатью! Маркел повертел её и так и сяк, но разворачивать пока не стал, а просто сунул за пазуху. Тогда Мишка подхватил его сундук, который был ещё наполовину не рассмотрен, – и они пошли к дверям. Когда они вышли на крыльцо, было уже довольно сумеречно, слон по-прежнему стоял в углу двора, сверкал глазами, а рядом с ними сидели филипповские люди. Маркел подошёл к слону, потрепал его за ухом, сказал «Айда!» и, за верёвочку, повёл его на пристань. На пристани было уже полно народу. Это, во-первых, был сам воевода, а также стрельцы, с две полусотни, и просто любопытного народу сотен с восемь. Старшим у стрельцов был сотник Авдей Рыжов, человек, как сказал Мишка, строгий. Но этот Рыжов пока молчал, а заправлял всем Троекуров. Поэтому как только слон вышел на берег, Троекуров сразу приказал не мешкать. Рыжовские стрельцы и сам Рыжов взошли на кирюхинский струг и там сели, а остальные стрельцы, то есть крюковские, взошли на мостки и там встали. И только теперь Маркел повёл слона. Слон шёл медленно, с опаской – вначале щупал впереди ногой и только после этого ступал. Всё это вначале было очень нудно, зато потом люди увидели – слон не дурак – и перестали усмехаться. А слон шёл чем дальше, тем быстрее, и наконец взошёл на струг, лёг возле мачты. Маркел встал рядом и махнул рукой, Троекуров закричал: «Отчаливай!», рыжовские подняли вёсла, крюковские оттолкнули струг от причала, он заболтался на волне, рыжовские опустили вёсла, дружно навалились – и струг мало-помалу поплыл.Глава 28
И так они плыли и плыли. Наступила ночь, светила половинная луна, ветер дул полуденный, попутный, рыжовские гребли старательно. Ну ещё бы им не стараться, думал Маркел, сидя возле слона, возле мачты, Рыжов же им сказал, и Маркел сам это слышал, что им недолго грести, а им только догнать караван, и тогда они пересадят слона на смыковский струг, а сами сразу развернутся и поплывут обратно к себе в Астрахань. Да только какая Астрахань, думал Маркел, и какой караван, когда Смыков уже пять дней тому назад как из Астрахани вышел, так что им хотя бы до Царицына его догнать! Ну и так далее, думал Маркел и помалкивал, стрельцы гребли, а Рыжов то сидел на корме, то вставал и похаживал, покашливал в кулак и хмурился. Маркел было попробовал его разговорить, начал о том, другом спрашивать, но ничего из этогоне вышло – Рыжов на все вопросы отвечал однозначно: «Да, боярин» или «Нет, боярин». – Да какой я тебе боярин?! – в сердцах сказал Маркел, не вытерпев. На что Рыжов невозмутимо ответил: – А для меня все те, кто из Москвы, бояре. Маркел махнул рукой и больше ничего не спрашивал. А когда начало светать, да и слон крепко спал, Маркел поднялся и ушёл к себе в чердак, там его быстро утрясло, и он заснул. Утром Маркел проснулся поздно, вышел и сразу проведал слона, велел дать ему воды и брюквы. Брюква слону очень понравилась, Маркел стал нарезать её ножом и совать слону под хобот. Слон порыкивал. Стрельцы с интересом поглядывали на слона, но подступать к нему робели. Ну и ладно, думалось Маркелу, меньше будут в душу лезть и под руку. И так оно в тот день и было – Маркел ни с кем не разговаривал, а только ходил туда-сюда, сидел, поглядывал по сторонам. Берега были ещё зелёные, но воздух был уже сухой, горячий, всё это вот-вот пожухнет, думалось. И ещё думалось: тоска какая, скорей бы они дошли до Царицына! Потом Маркел опять ушёл к себе в чердак. В чердаке было прохладно. Вскоре принесли туда еды и выпить. Маркел велел позвать Рыжова. Тот пришёл. Маркел наливал ему, Рыжов не отказывался, пил до дна, но не хмелел, по-прежнему помалкивал и только однажды сказал про себя – что он был в недавнем походе на луговых черемисов, а раньше бился со свеями в Ижорской земле. Тогда Маркел начал рассказывать ему про Персию – и привирал как мог. Рыжов и тут смолчал. Ну да и ладно, подумал Маркел, чего он к нему привязался? Дойдут до Царицына – и разойдутся, может, на всю жизнь. А пока они встали из-за стола, вышли из чердака и осмотрелись. Солнце садилось, на реке было тихо и пусто. Рыжов глянул на Маркела, Маркел кивнул, и Рыжов велел причаливать. Струг повернулся к берегу, они подплыли и причалили. Правда, не очень ловко это у них получилось, потому что причала там не было, а они просто выгребли на мелководье и, как Маркел учил, сбились все к правому борту, а слон переступил через левый и выскочил в реку, но и зачерпнул бортом как следует. Стрельцы потом ещё долго из струга воду вычерпывали и чертыхались. Маркел же делал вид, как будто ничего не слышит. А утром слон опять едва не утопил их, потому что опять зачерпнул, теперь уже когда садились. И вечером опять, но уже не так сильно. А следующим утром ещё меньше. Ну и так далее. То есть пока они доплыли до Царицына, то научились быстро и ловко садиться на струг и выходить из него – без причала, а если нужно, то даже и без сходен. И тут вдруг случилась незадача – пропал Смыков! То есть он, конечно, не совсем пропал, а просто когда они августа 29-го дня подошли к Царицыну, то не увидели там на пристани ни купеческого каравана, а это почти сорок кораблей и семь артелей, ни сопровождавшего их есаула Смыкова на есаульном же струге. Вместо их всех стояло там, может, с десяток рыбацких дощаников, и это всё. Маркел, глядя на дощаники, молчал и только зубами поскрипывал. А тут ещё подступил к нему Рыжов и дерзким голосом сказал, что он не видит Смыкова. – И мои люди, – он сказал, – не видят. И что теперь нам с этим зверем делать? Куда его девать? – И он кивнул на слона. – Как это куда девать? – строго спросил Маркел. – Это, может, нас с тобой куда девать, а он – это царёво существо, его не трожь! И он снова стал смотреть на берег. А Рыжов из-за спины продолжил: – Мы на это не договаривались. Мы договаривались на то, что до Царицына идём, и всё. И мы домой! – А слон? – ещё строже спросил Маркел, не поворачивая головы. – А что нам слон?! Да мы этих слонов… Маркел резко повернулся испросил: – Что-что? Рыжов надул щёки, молчал. Маркел усмехнулся и сказал: – Вот так оно лучше. И снова стал смотреть на берег. А тот был уже близко. И на нём стоял народ, а впереди народа стояли стрельцы, а впереди стрельцов стоял их сотник Илья Грушин. Грушин крикнул принимать, двое стрельцов взбежали на мостки, со струга бросили верёвки, они их ловко приняли и повязали. Но со струга никто не сходил. Тогда уже Грушин выступил вперёд, ещё раз посмотрел на струг и с удивлением спросил: – А что это у вас? Слон, что ли? – Слон, – сказал Маркел. – Царю везём. – И тут же тоже спросил: – А где Смыков? – Так он ещё позавчера ушёл, – ответил Грушин. – На Саратов. Тридцать девять кораблей повёл. Купцов, конечно. – Да как это? – спросил Маркел. – Был уговор без нас не уходить! – Ну, уговор! – сказал Грушин. – Так ведь не со мной же. У нас все уговоры вон где! – И он, повернувшись, указал на крепость… И тут же радостно продолжил: – О! А вот от воеводы к нам идут! Это как раз по Смыкову! Маркел посмотрел туда, куда показывал Грушин, и увидел, что сверху, от крепости, к ним быстро идёт подьячий и на ходу машет рукой. Вот и славно, подумал Маркел, повернулся, похлопал слона по щеке и сказал стоять на месте, а сам повернулся и пошёл. – А он не буйный? – крикнул ему вслед Грушин. – Если не донимать, то не буйный, – ответил Маркел и пошёл дальше. Подьячий ждал его. Когда Маркел с ним поравнялся, подьячий снял шапку и пропустил Маркела вперёд. Маркел на ходу спросил, что у них тут за лето приключилось нового. Не велено рассказывать, по простоте душевной ответил подьячий. Маркел хмыкнул, промолчал. Они вошли в крепостные ворота, прошли через двор, подошли к воеводским хоромам, поднялись на крыльцо, и дальше подьячий остался в сенях, а перед Маркелом отворили дверь, и он вошёл, поклонился, и только хотел назвать себя… Как вдруг послышалось: – Опять ты! Маркел распрямился. Воевода Бутурлин Фома Афанасьевич, тот самый, смотрел на него и усмехался. Маркел начал называть себя… – Знаю, знаю! – перебил его Бутурлин. Маркел замолчал. Бутурлин ещё раз усмехнулся и продолжил: – Ты, говорят, слона привёз. – Привёз, – сказал Маркел. – Ну и что? – продолжил Бутурлин. – Нам в пошлом году одного слона уже привозили, а он после сдох. – Этот не сдохнет, – ответил Маркел. – Почему? – Он жилистый. – А где он сейчас? – На пристани, – сказал Маркел. – Я же подумал, что куда его сюда тащить, ему здесь не повернуться. И потому и не повёл. – Это верно, – сказал Бутурлин, ещё раз посмотрел на Маркела, спросил: – А от меня ты чего хочешь? Маркел подал ему подорожную. Бутурлин посмотрел на золочёную печать на ней, покачал головой, усмехнулся, развернул и стал читать. Читал неспешно. Потом черканул внизу и отдал. Маркел поклонился, но не уходил. Бутурлин поморщился, спросил: – Чего ещё? Маркел вздохнул и ответил: – Мне надо скорей в Москву, а ехать не на чем. Струг, на котором я хотел идти… – Знаю, знаю! – перебил его Бутурлин. – Он ещё позавчера ушёл. Потому что не мог я тебя больше ждать! У меня тут сорок кораблей сошлось, их больше уже ставить было некуда, а вас с Кирюхиным всё нет да нет. А почему нет? А когда придёте?! А тут ещё ваш Смыков говорит… Ну, я и велел ему идти вместе с купцами, стеречь их. Потому что не одних же их пускать! Ну, и они ушли. – А как теперь я? – спросил Маркел. – Меня в Москве ждут! Со слоном! – Да, – строго сказал Бутурлин. – Незадача какая! Маркел гневно хмыкнул. Тогда Бутурлин спросил: – А как ты сюда пришёл? На чём? – Этот струг мне воевода князь боярин Троекуров дал, – сказал Маркел. – Так это его струг? – Нет, не совсем. На этом струге я весной пришёл сюда из Нижнего. Потом этот струг поменяли на бусу. Потом буса утонула в Кызылбашах, потом… – Э! – перебил Маркела Бутурлин. – Что-то очень мудрено напутано. А нам нужно просто и скоро! Тебя же в Москве ждут не дождутся! И поэтому что у тебя в царёвой подорожной сказано? Чтобы никто тебе нигде препону не чинил, а будут надобны тебе корабль и люди ратные, то давать тебе и того и другого в достатке. И вот воевода Троекуров дал тебе корабль, это очень славно, а теперь сотник, как его, Рыжов желает дать тебе ратных людей в достатке. Всех, что у него есть! Да-да! И ты сейчас иди к этому Рыжову и скажи ему: низкий тебе поклон за службу, что довёз нас до Царицына, а теперь сходи с моего струга и иди себе обратно в Астрахань, пешком, а я здесь наберу себе людей надёжных, хватких, воевода Бутурлин мне пособит и ещё по рублю всем накинет. Ну, что? Маркел молчал. – И это всё, – сказал Бутурлин, – больше я тебе ничем не пособлю. И сделал вот так рукой. Маркел вздохнул и вышел вон. За порогом надел шапку и пошёл. А вышел из хором, сошёл с крыльца, а там его ждал Рыжов. И он сразу же спросил: – Ну, что? – Сказал, никого вас никуда не отпускать, а дать всем ещё по рублю, и это всё, – сказал Маркел. – Пока не догоним Смыкова! Рыжов помолчал, потом сказал: – Ну ладно! Ты тогда покуда здесь постой, а я сейчас вернусь! И развернулся, и быстро пошёл по лестнице вверх, к воеводе. Маркел вздохнул, перекрестился и стал ждать. Ждал он недолго. Рыжов скоро вышел из двери, сошёл вниз по ступенькам и остановился. Был он красный как кумач и очень гневный, и сказал: – Скотина! – Кто? – весело спросил Маркел. – Я, кто ещё! – сказал Рыжов. – Айда! И они пошли из крепости. Маркел шёл, похмыкивал. Рыжов тяжело дышал, сверкал глазами. Так они, больше ни о чём один с другим не разговаривая, пришли на пристань. Там Рыжов сразу взошёл на струг, и его обступили стрельцы, а Маркел свернул к слону и спросил у караульного, кормили зверя или нет. Караульный сказал, что кормили. Тогда, сказал Маркел, его надо выгулять на травке. И показал, как водить, и сказал слону быть смирным. Слон начал ходить взад-вперёд, травку пощипывать, пастись. Любопытных вокруг было много, но близко никто не подходил. Маркел поправил шапку и пошёл на струг. Там все сразу замолчали. Маркел спросил, в чём дело. – Да вот люди спрашивают, – сказал Рыжов, – сколько им всего будет заплачено, а я им говорю, что по рублю накинут и на обратном пути ещё рубль. – Кто про обратный рубль сказал? – строго спросил Маркел. – Воевода, – ответил Рыжов. – Значит, так оно и будет. – А выступать когда? – спросили из толпы. – Когда харчи загрузят. А харчи уже носили, и носили много, бутурлинский дьяк присматривал, чтобы всё было донесено как следует. Вскоре это дело было сделано, и тогда слона взвели на струг, народ стоял на берегу, смотрел, с колокольни ударили время, Рыжов велел отчаливать, они поплыли.Глава 29
Плыли они тогда не очень хорошо, потому что ветер был встречный, из Москвы, как приговаривали гребцы и посмеивались. Зато Рыжов ходил мрачный как туча и то и дело покрикивал на гребцов. А слона нарочно обходил стороной, так, как будто это был не слон, а мешок понятно с чем. Ну а слону до этого и дела не было. Слон лежал на боку, высунул хобот за борт и то набирал воды, а то её разбрызгивал. Те, кто был посмелей, смеялись. Но, правда, таких было немного. А потом стало темнеть, слон задремал, Маркел ушёл к себе в чердак, сел и задумался. Пришёл Ефим и спросил, может, ему чего нужно. Маркел усмехнулся и велел позвать Рыжова. Пришёл Рыжов. Чердак у Маркела был маленький, тесный, и ещё там было темно, плошка едва светила. Маркел, помолчав, спросил, за что это Рыжов так невзлюбил слона. – А за что его любить, – сказал Рыжов сердито. – Он же несъедобный, говорят. – Ну, вот как ты сразу! – весёлым голосом сказал Маркел. – Разные вещи бывают несъедобными, а мы всё равно их любим. Да вот как вам сегодня накинули по рублику, а на обратном пути посулили ещё по полтора, это разве не любо? Рыжов в ответ только откашлялся. Тогда Маркел продолжил: – Да и, кроме денег, у нас ещё и всякие другие подарки бывают, и по службе тоже могут вспомнить. Ведь бывает же у нас такое, правда? Рыжов подумал, усмехнулся и сказал: – Так-то оно так, да только не всё, что дают, можно брать. – Это почему ещё? – спросил Маркел. – Да потому, что дела бывают разные, – сказал Рыжов. – Бывают богоугодные, а бывают и не очень. – Какие же это такие не очень? – насторожился Маркел. – Ну, – нехотя сказал Рыжов, – я человек маленький, я-то и в сотниках всего только второй год хожу. А ты из Москвы! Поэтому что я против тебя понимаю? А что мои люди? Да совсем, почитай, ничего! Вот оттого и болтают они… – И тут Рыжов остановился, помолчал, потом продолжил: – Болтают, будто никакой это не слон, а чёрт однорукий. – Так что это, – вкрадчиво спросил Маркел, – мы, получается, чёрта царю везём? – Нет, пока что мы везём слона, – сказал Рыжов. – А после мало ли что может приключиться?! В прошлом году ведь так оно и было: вначале у них был слон, а потом вдруг стал чёрт! – Брехня это! – строго сказал Маркел. – Брехня не брехня, – ответил Рыжов насмешливо, – а там раньше место было тихое, а теперь стало беспокойное. Люди там стали пропадать. Вот даже где ваш Ряпунин? – В расспросе он, в Москве! – строго сказал Маркел. – В Москве! – насмешливо повторил Рыжов. – А кто его там видел? – Кому надо, те и видели! – ответил Маркел грозным голосом. И тут же ещё грозней прибавил: – И ещё вот что я тебе скажу, Рыжов: не называй слона чёртом, а то недолго языка лишиться. А пока иди, служи. И не гневи меня! Рыжов невесело вздохнул, встал, поклонился, надел шапку и вышел. А Маркел задумался. Очень ему не понравились эти рыжовские речи! Опять, думал, вспомнили Ряпунина! Дался он им! И ряпунинский слон дался, хотя чего там непонятного? Да попробовали бы они сами с таким зверем справиться! Вот Ряпунин и не справился, разгневался, нечистый сунул ему в руки копьецо… А дальше что? Подумав так, Маркел ещё громче вздохнул и начал вспоминать о том, как он этой весной плыл из Саратова в Царицын и как на второй день пути он сперва увидел по левую руку длинный низкий берег, про который Кирюхин сказал, что это Бабий остров, а когда Маркел повернулся к другому берегу, то увидел стоящий там большой белый камень, про который Кирюхин сказал, что это Каменная Рожа. «Та самая?» – спросил Маркел. «Та самая», – ответил Кирюхин, и стрельцы продолжали грести во всю силу, а Маркел с Кирюхиным смотрели на тот камень и молчали. А вот теперь, думал Маркел, пришёл Рыжов и говорит загадками. Посмотрите на него, какой он умник! Ну да здесь легко быть умником, а вот посмотреть бы на него, когда бы это было бы в Москве! Там бы его сразу привели ко кресту, он побожился бы и стал бы отвечать как миленький, а только начал бы кривить, его сразу к Ефрему Могучему! А Ефрем Могучий – это ого, с ним шутки плохи, а он бы сразу закатал рукава… Ну и так далее. Маркел вздохнул, прислушался. Было слышно, как гребут стрельцы, как взад-вперёд ходит Рыжов, командует, хлопает парус… А слона совсем не слышно. Да что это с ним, или они что, не приведи господь… Маркел быстро поднялся, вышел. Темнотища была уже страшная! Маркел подошёл к слону, сел рядом. Слон был какой-то не такой, как обычно, глаза у него слезились, дышал он неровно, а внутри у него что-то хлюпало. Маркел велел принести слону мочало. Принесли. Маркел начал угощать слона мочалом, слон стал жевать его, развеселился, громко чавкал, сплёвывал. Потом начал задрёмывать. Потом заснул. Маркел не вставал, сидел рядом. Рыжов похаживал туда-сюда, покрикивал грести то левей, то правей и нет-нет да и поглядывал то на слона, то на Маркела. Потом не удержался и сказал: – Шёл бы ты, боярин, почивать. Всё равно здесь ничего не высмотришь. Маркел подумал: а и верно, встал и пошёл к себе. На душе у него было легко, слон был жив и здоров, ветер дул попутный, гребцы гребли справно, до Москвы теперь было уже не так и далеко, то есть чего ещё желать? Придя к себе, Маркел разулся, лёг, увернулся в овчины, четыре раза прочёл «Отче наш» и заснул как младенец. А утром снова проверил слона, а потом, когда они поплыли дальше, на реке нигде не виделось ни лодки, ни кораблика, а на берегу ни шалашика. Пусто было, как всегда! А вечером они пристали к берегу, учредили табор, выставили караул на всякий случай, но случай тоже не случился, утром они проснулись рано, собрались и двинулись дальше. Ветер дул то встречный, то попутный, они то ставили парус, то убирали его, мешали слону, и он злился. Ему опять дали мочало, он его жевал с остервенением и успокоился. А по берегам было пусто и тихо, и по реке тоже никто не плыл ни в эту, ни в другую сторону. Также и назавтра они никого не увидели, и напослезавтра, и так далее. И с каждым днём, думал Маркел, они всё ближе и ближе подплывают к тому месту, где теперь уже по правую руку, так как они плыли с другой стороны, им откроется Бабий остров, а слева, на берегу, на широкой песчаной косе, будет стоять белый камень Каменная Рожа, так его раньше называли, а теперь это Слоновий камень, и до того камня, как каждый раз прикидывал Маркел, оставалось ещё семь дней пути, потом шесть, потом пять, потом три… А потом, однажды утром, Маркел вдруг подумал, что уже завтра к полудню они должны увидеть это место, но ничего об этом никому не сказал. Также и Рыжов молчал, похаживал между скамьями, покрикивал, стрельцы молча гребли, и даже слон помалкивал и держался очень смирно. Ну разве только головой вертел больше обычного. Также и вечером у них ничего такого особенного не приключилось. Солнце начало садиться, они причалили к берегу, спустили подмости, а сами перешли на другой борт, слон сошёл на берег, за ним сошли все остальные, учредили табор, поели, никаких особо любопытных разговоров не вели. Потом стало темнеть, Маркел проведал слона, велел дать ему мочала, и побольше, и ушёл к себе, лёг и накрылся потеплей… Но не спалось! Маркел закрывал глаза и сразу видел тот камень. Потом видел слона возле камня. Потом представлял, какая на том камне рожа. А потом и того больше – а что будет, если его слон и в самом деле одичает и так же, как и ряпунинский слон, начнёт кидаться на всех? Что тогда Маркелу делать? Ряпунин заколол слона, так говорят. А другие говорят, что Ряпунин здесь совсем ни при чём, а это слон объелся каменной травы и сдох. А третьи говорят, что слон сбежал… Ну и так далее, думал Маркел. Много о чём он тогда успел подумать и передумать! Уже тихо было в таборе, все спали, даже слона было почти не слышно, Маркел мало-помалу стал подрёмывать… И вдруг к нему постучался Рыжов и сказал, что он по спешному делу. Маркел велел ему входить. Рыжов снял шапку и залез в чердак. – Случилось что-нибудь? – спросил Маркел. – Пока что ещё нет, – сказал Рыжов. – Но уже вот-вот случится! – Это почему ещё? – спросил Маркел. – Да потому, – сказал Рыжов, – что завтра мы дойдём до того места, где в прошлом году ряпунинский слон взбесился. А теперь и наш хочет взбеситься! – Да что ты такое говоришь! – А ты сам послушай! Маркел прислушался. В таборе было тихо, только было слышно, как слон негромко похрюкивал. – Ну и что? – сказал Маркел. – Так, ничего, – сказал Рыжов. – Да только вот так же и ряпунинский слон сперва просто похрюкивал, потом стал подвывать, а потом вдруг как завыл – и взбесился! И передавил половину стрельцов, покуда Ряпунин не опомнился и не заколол его! И было это всё у Каменной Рожи. Вот какое это место недоброе! Вот почему твой слон вдруг стал похрюкивать! А после уже будет подвывать! А после взбесится и станет нас топтать! Так, может, убить его, пока не поздно? – А ты знаешь, что ты говоришь?! – тихим строгим голосом сказал Маркел. – Ты знаешь, что это не слон, а заповедный царёв зверь? Да мне за него сразу голову отрубят! И также и тебе! И всем твоим стрельцам! – Так что нам тогда делать?! – воскликнул Рыжов. Маркел опять прислушался. В таборе опять было тихо, а слон опять похрюкивал. Но уже громче! Чёрт бы его побрал, в сердцах подумал Маркел, а вслух усмехнулся и сказал вот что: – Ну это когда ещё задавит! – Как только к камню подойдём, так и задавит, – ответил Рыжов. – И вот тогда я его и убью! – строго сказал Маркел. – А пока что не дури мене голову! Иди! Рыжов молча развернулся и ушёл. Маркел подпёр щёку рукой, задумался. Ну ещё бы ему было не задумываться, потому что это же какую они чертовщину затеяли! Слона надо убить, ого! А вы все в Москве сидите, ждите, и царь-государь тоже жди. Очень весело! Подумав так, Маркел ещё раз вздохнул и прислушался. В таборе было тихо, все спали, один только слон не спал, жевал мочало и громко похрюкивал. Эх, только и подумал Маркел и вздохнул, а после зарылся в овчины и крепко зажмурился. Вначале ничего ему не виделось, а потом вдруг привиделся Анируддха. Анируддха сидел в шахском саду возле слоновника и играл на дудочке, очень душевно. У них там тоже была ночь и горел костёр, никого там больше не было, а Анируддха играл и играл, и до того жалостно, что прямо сердце разрывалось. Маркел перекрестился, лёг на правый бок, начал читать: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй – и заснул.Глава 30
Утром Маркел проснулся и прислушался. Никакого воя ниоткуда слышно не было, только слон вполголоса похрюкивал. Вот и хорошо, подумал он, а то ведь придумают же! Он вышел в табор, сел к костру и начал хлебать кашу. Но не удержался и опять прислушался. И опять никто не выл нигде. Маркел съел всё, встал и утёрся. К Маркелу подошёл Рыжов, спросил, что будем делать. – А что, – спросил Маркел, – а разве воет кто-нибудь? – Нет пока что, – ответил Рыжов. – Тогда чего гадать, – сказал Маркел. – Поехали! А будет выть, тогда как я и обещал. Рыжов тяжко вздохнул, пошёл к воде. Там он приказал толкать струг в воду. Начали толкать, но струг почти не двигался. Тогда Маркел обернулся и кликнул слона. Слон подошёл, стрельцы подвинулись. Слон навалился боком, громко засопел. Струг медленно сдвинулся в воду. – Вот так! – сказал Маркел. – А говорили: чёрт. А сами кто? Никто ему ничего не ответил. Рыжов похаживал туда-сюда, приказывал. Стрельцы собирали табор, сносили барахло на струг. Потом поставили сходни. Слон взошёл по ним, встал возле мачты. Стрельцы начали отталкиваться вёслами от дна, струг мало-помалу отходил от берега. И опять никто не выл. Вот то-то же, думал Маркел, осматриваясь по сторонам, а то придумают всякое. И он пошёл к себе, а там сел возле чердака на приступочку и стал опять туда-сюда поглядывать на всякий случай. Но на реке, как всегда, никого видно не было. И было тихо, конечно. А то затеяли, опять думал Маркел, да ты только дай страху волю, никто на Волгу выходить не будет. А так порядок! И Маркел посмотрел на слона. Слон лежал на брюхе возле мачты и молчал, только поглядывал по сторонам. Потом поднял хобот и принюхался. Потом сунул хобот через борт в реку, набрал воды и полил на себя. Стрелец, сидевший рядом, чертыхнулся, а его соседи засмеялись, но негромко. А слон опять поднял хобот и стал ворочать им туда-сюда и нюхать воздух. Маркел, глядя на слона, поморщился, потому что сразу же подумал, что слон что-то вынюхал, да пока ещё не знает, что. Так что, подумалось, не приведи господь, как говорится. И Маркел перекрестился. Рыжов глянул на него, но промолчал и пошёл между скамьями дальше. На струге всё было пока что тихо и в порядке. И так было ещё долго. День был не жаркий, ветреный, греблось легко. Стрельцы даже начали пошучивать. Рыжов похаживал между скамьями, сердито покашливал. А по берегам, как всегда, было пусто, и также на самой реке, и это тоже как всегда, никого нигде не было. Но и не выл никто! И вдруг справа показался низкий длинный остров, поросший тростником. Тростник стоял очень густо и был весь жёлтый, пожухлый. Маркел посмотрел на Рыжова. Рыжов утвердительно кивнул. Значит, это и есть Бабий остров, подумал Маркел, да он и так его помнил по тому, каким его показывал Кирюхин, когда они шли в Персию. Подумав так, Маркел повернулся налево и посмотрел на высокий, так называемый горный берег. Там, под обрывами, далеко вперёд тянулась песчаная отмель, на которой было совсем пусто. Но Маркел знал, что это не так, потому что они проплывут ещё совсем немного и увидят большой белый камень. А пока что его видно не было. Маркел не удержался, встал и начал смотреть налево, на отмель. Гребцы споро гребли, ветер был ровный, попутный. Эх, только и сказал Рыжов, стоявший рядом. Маркел посмотрел на Рыжова. Рыжов указал на берег далеко вперёд. Маркел посмотрел туда и увидел белое пятно. Это и была, понял Маркел, та Каменная Рожа, под которой, как рассказывают люди, в прошлом году закопали слона, которого убил Ряпунин. А потом, когда Ряпунин тоже помер, его прикопали там же, в той же яме. Но так говорят одни, а другие говорят совсем другое. Так, к примеру, иные говорят, что никакого Ряпунина в могиле нет, потому что Ряпунин сбежал, а иные говорят, что не только Ряпунина, но и слона там тоже нет, а они сбежали вместе. И вот теперь бы, думалось, велеть остановиться и сойти на берег, и отваливши камень, раскопать под ним яму и проверить, есть там кто-нибудь или нет никого, потому что никого в прошлом году за слоном не посылали, и тот слон, которого сейчас везёт Маркел, он первый… И что тогда? Маркел стоял возле самого борта, смотрел вперёд и видел там, на берегу, на песке, большой белый камень. Это была большая голова, а под ней маленькие тоненькие ручки. Голова была очень похожа на Анируддхину, и до неё было совсем близко, только переступи через борт, а там совсем близко… Но тут Рыжов схватил Маркела за руку и удержал его. Маркел опомнился. До Каменной Рожи, как она раньше называлась, или же до Слоновьего Камня, как это теперь все называют, было ещё саженей двести, а то и все триста. Маркел мотнул головой. – Воет? – спросил Рыжов. Но Маркел ничего не ответил. Гребцы гребли ещё быстрей, струг уже почти что поравнялся с камнем. – Бывает всякое! – сказал Рыжов. – Вон как твой зверь напугался! Маркел посмотрел на слона. Слон стоял возле мачты, задрал хобот и дудел, но ничего слышно пока что не было. – Ширка! – громко воскликнул Маркел. – Не дури, Ширка! Не надо! И быстрым шагом подошёл к слону, обнял его за голову и стал поглаживать и ещё что-то, уже по-индейски, приговаривать. Слон захрипел и успокоится, и сел, а после лёг. Маркел сел рядом, посмотрел на берег и увидел, что они уже миновали Слоновий камень, он уже остался сзади, и так никто ни разу не завыл, подумалось. Значит, брехня всё это, значит, слон не чёрт, и никому он никаких бед не приносит. И вдруг Рыжов громко сказал: – Маркел Петрович! – и указал на берег, на обрыв над камнем. Маркел посмотрел туда… И увидел высоко, на самой горке, конного татарина. Татарин широко размахивал руками. Откуда он взялся здесь, в сердцах подумал Маркел и посмотрел на Рыжова. А тот уже приказывал гребцам грести от берега. Маркел ещё раз посмотрел на горку. Там теперь стояли уже три татарина, а к ним подъезжали и подъезжали другие татары, их становилось всё больше и больше. Слон заворочался и поднял хобот, стал принюхиваться. Потом поднялся, повернулся к татарам и стал внимательно их рассматривать. Но он же не выл, подумалось, и, значит, он не чёрт! Маркел стоял возле слона, смотрел на татар и молчал. День был погожий, солнце светило ярко. Татары расступились, вперёд выехал ещё один татарин, и был он в позолоченной кольчуге и в таком же позолоченном, сверкающем на солнце шлеме. Это, наверное, татарский хан, подумал Маркел. А хан поднял руку, прикрыл ею глаза от солнца и стал смотреть на струг. Потом махнул рукой. Татары поскакали с горки, закричали: «Алла!» Гребцы, не дожидаясь команды, навалились на вёсла. Струг развернулся от берега, вышел на стрежень. Татары подскакали к воде, стали горячить коней, крутить на месте и при этом ещё стрелять из луков. Но струг был уже далеко, одни стрельцы широко, справно гребли, а другие, больше ради озорства, стреляли из пищалей по татарам. Татары гикали в ответ, кони под ними прыгали и ржали. И так продолжалось достаточно долго. А потом и наши, и не наши унялись. Теперь струг шёл уже не так быстро, грести было тяжело, а татары мелкой рысцой ехали вдоль берега. Их было не меньше полутысячи. Маркел не удержался и спросил, куда это они. – Как куда? Куда и мы, – сказал Рыжов. – В Саратов. Маркел вздохнул. А Рыжов повернулся к гребцам и приказал прибавить. Те прибавили.Глава 31
И так продолжалось достаточно долго, когда наши плыли по реке, а татары ехали вдоль берега и были примерно вровень с нашими. И так, думал Маркел, теперь будет до самого Саратова. Но тут Рыжов вдруг велел, и струг повернул и вышел сперва на середину Волги, а после и к её другому, так называемому луговому берегу. Теперь татар стало совсем не видно через Волгу. Зато какие открылись по правую руку луга! А какой от них шёл травный дух! Слон его ещё за версту учуял и вскочил, начал притопывать от радости, порыкивать. Маркел насилу усмирил слона, то есть дал ему сушёных кренделей и брюквы. А после начало смеркаться, Рыжов велел причаливать, они пристали к берегу, и первыми сошли Маркел и слон, сразу на луг, конечно. Там слон заревел утробным голосом и начал хватать траву, рвать и глотать её не пережёвывая. А остальные тем временем ставили табор. Потом сели есть. Маркел ел и помалкивал, а все остальные говорили только про татар, а про слона ни слова. Вот и хорошо, думал Маркел, а то не дали бы ему покоя. А про татар говорили вот что – что это перекопские татары, молодецкая орда, они вышли покуражиться, а старший над ними кто-то из младших царевичей, Казы-Гиреевых племянников, и одни говорили, что это Измаил-Гирей, а другие – Саадат-Гирей. Ну и ладно, думал Маркел, Измаил так Измаил, Саадат так Саадат, и встал, пошёл к слону, посмотрел, по-доброму ли он пасётся. Оказалось, что по-доброму. Маркел развернулся и пошёл к себе в чердак, а там лёг и заложил руки за голову, стал представлять, как он придёт в Москву и приведёт с собой слона, придёт нарочно пешком, и слона будет вести на верёвочке, а народ будет стоять по сторонам… И тут он заснул. А утром его растолкал Рыжов и сказал, что все уже на месте, даже слон. Маркел быстро собрался, вышел, слон поднял хобот, протрубил, потом подступил к стругу, навалился плечом, поднатужился, струг заскрипел и стал мало-помалу уходить на глубину. Стрельцы побежали садиться. Рыжов велел ставить сходни, слон вступил на них, взошёл на струг, встал возле мачты. Струг начал выходить на стрежень, ловить ветер. И так они шёл до самого полудня, а потом, опять на правом горном берегу, показался Саратов. Рыжов посмотрел из-под руки и сказал, что татар возле Саратова не видно. У него тут же спросили, где Смыков. Рыжов опять начал смотреть и ничего уже не говорил. Да стрельцам и так стало понятно, что он не видит Смыкова и что им нужно будет идти ещё дальше, то есть по крайней мере до Самары. А Маркел подумал: вот и славно, до Самары он уже почти дошёл, и теперь остались пустяки – после Самары Казань, Нижний – и вот вам уже и Москва! Ну и так далее. Рыжов приказывал, стрельцы гребли, Саратов быстро приближался, татар нигде видно не было. Но, правда, было пусто и на пристани, то есть там только валялось несколько рыбацких лодок, вот и всё. И ещё вот что было непривычно: они уже довольно близко подошли к городу, думал Маркел, а их никто не встречает. Им даже ворот не открывали! Маркел посмотрел на Рыжова. Рыжов обернулся, щёлкнул пальцами. Вперёд вышел стрелец с пищалью. Рыжов махнул рукой, стрелец выстрелил. Тогда и от Саратова раздался выстрел – пушечный. И начали открываться ворота, из ворот вышли стрельцы с пищалями, а впереди их шёл сотник. Маркел сразу вспомнил, что это тот самый Сидоров, с которым выпивал Кирюхин, когда они весной здесь проплывали. А теперь Кирюхин неизвестно где. Подумав так, Маркел перекрестился. А струг был уже совсем близко от берега. Саратовские стрельцы остановились и построились, взяли пищали под курок. Сидоров послал двоих принять верёвки, после чего ещё раз посмотрел на струг… И только тогда увидел, что там слон! – Маркел Петрович! – радостно закричал Сидоров. – С добычей! Это славно! – И тут же прибавил: – Но только давайте быстрее, а то у нас тут беда! И он указал куда-то в поле и дальше за ним на гору. На горе стоял конный татарин. Татарин немного подождал, потом медленно поднял руку и замер, потом резко махнул рукой вниз… И к нему стали подскакивать другие татары, и их становилось всё больше. Маркел, глядя на них, быстро сошёл со струга на мостки и свёл слона на пристань. За ними начали сходить стрельцы. Сидоров сердито закричал: – Я же говорил: бегите, дурни! Чего ждёте?! Маркел дёрнул слона за верёвку и быстрым шагом повёл его к крепости, а за слоном пошли стрельцы с пищалями наперевес. А по полю скакали татары, кричали «алла». Они скакали очень быстро. Сидоров бежал к воротам и кричал, чтобы начинали закрывать. Маркел прибавил шагу, потом побежал. Слон побежал за ним. За слоном побежали стрельцы – но с оглядкой. – Стой! – закричал Рыжов. Рыжовские стрельцы остановились. – Пли! – закричал Рыжов. Рыжовские дружно пальнули. У татар которые попадали, которые остановились. – Пли! – крикнул Сидоров. Теперь уже его стрельцы пальнули и побежали следом за рыжовскими. А по татарам уже начали стрелять со стен – из пищалей и из пушек. Татары сбились в кучу, ржали кони. И пылища была просто страшная. А Маркел уже вбежал в ворота, за ним вбежал слон, а за слоном стрельцы – те и другие, – и ворота сразу стали закрываться. Маркел остановился, оглянулся. Стрельцы поднимались на стену, хотя там и так было уже полно народу, да и там уже почти что не стреляли, потому что, как было понятно из криков, татары повернули в поле и ушли. Маркел снял шапку и утёрся ею. – Что, – весело спросил Сидоров, – в персиянах было жарче или нет? И пошёл дальше. Маркел посмотрел на слона. Слон весь дрожал. Маркел обнял его, начал поглаживать по голове. Слон мало-помалу унялся. – А! – сказал кто-то грозным голосом. – Маркел Петров! Маркел обернулся. Перед ним стоял Лодыгин, тамошний саратовский воевода, если кто это забыл. На Лодыгине был шлем, а сам он был в шубе, в кольчуге и с саблей в руке. Маркел поклонился великим обычаем, то есть до земли, и распрямился, и уже начал было доставать подорожную, но Лодыгин сразу отмахнулся и сказал насмешливо: – Астраханская бумага. Знаем, знаем! И отвернувшись, убрал саблю в ножны и стал рассматривать слона. Слон медленно помаргивал. Лодыгин строго хмыкнул и сказал: – Здоровый, чёрт! И наверное, прожорливый. – Маленько есть, – сказал Маркел. – А пьёт? – Ни боже мой! – Это хорошо, – сказал Лодыгин, оглядываясь, потому что их к тому времени уже обступили зеваки, и прибавил: – Чего о наших людях никогда не скажешь! И пошёл в толпу. Маркел пошёл следом за Лодыгиным, а за Маркелом пошёл слон. Когда они подошли к воеводским хоромам, Маркел поднял руку, слон остановился, а Маркел громко сказал, чтобы народ не гневил зверя, и следом за Лодыгиным пошёл вверх по лестнице. Когда они поднялись к воеводе, Лодыгин указал Маркелу стоять возле стола, а сам стал ходить туда-сюда, покашливать. Потом остановился и сказал: – Видал, какие у нас тут дела? Ещё вчера было тихо, но только Смыков ушёл, как эти сразу тут как тут! – Да мы их видели, – сказал Маркел. – Возле Каменной Рожи. – О! – только и сказал Лодыгин со значением. – И что? – Да ничего, – сказал Маркел. – Увязались за нами. А мы от них на тот берег! А теперь пришли сюда, а они уже здесь! – Вот-вот, – сказал Лодыгин очень нехорошим голосом. – Опять всё из-за слона! Говорят, что это чёрт – и чёрт и есть! – А наш не чёрт, – строго сказал Маркел. – Наш – царёв подарок. – Ну-ну, – недоверчиво сказал Лодыгин. – Да, конечно, – и задумался. А Маркел сразу продолжил: – Мне надо Смыкова догнать. Дай мне двадцать сменных гребцов, и мы живо Смыкова догоним! – Двадцать гребцов! – сердито повторил Лодыгин. – Как же! А с чем я тогда останусь? Видал, сколько татарвы пришло? – Видал, – сказал Маркел. – Но что поделаешь! Царь-государь велел! Вот здесь! – И он опять достал подорожную и начал её разворачивать. На что Лодыгин только отмахнулся. Маркел рассердился и сказал: – А вот приеду в Москву и так и скажу князю Семёну… – Но-но! – строго сказал Лодыгин. – Он после скажет! А ты лучше вот прямо сейчас скажи, как быть. – А и скажу, – сказал Маркел. – Дай мне двадцать гребцов, и я пойду, татары за мной кинутся… – Почему вдруг за тобой, чем ты им глянулся? – Слоном. – Зачем им слон? – Я этого пока не знаю, но я чую. Лодыгин быстро глянул на Маркела, помолчал, задумался. В дверь постучались. Лодыгин сказал, что открыто. Вошёл челядин, сказал: – От них царевич прискакал. Со своими лучшими людьми, с десяток. – Где они сейчас? – спросил Лодыгин. – За воротами, – ответил челядин. Лодыгин помрачнел, кивнул Маркелу, и они оба пошли из хором. Выйдя с воеводского двора, они прошли через толпу, повернули к Царицынским воротам, поднялись на них, вышли на раскат и увидели впереди, недалеко перед воротами, с десяток конных татар. Один из них был в золочёной кольчуге и в таком же золочёном шлеме, а остальные все были одеты просто. – Золочёный – это Саадат, ханский племянник, – шёпотом сказал стоявший рядом Свиридов. Маркел посмотрел на Саадата. Тот был ещё совсем молодой, улыбчивый. Теперь он повернулся к толмачу и что-то негромко сказал. Толмач повернулся к воротам и, глядя на Лодыгина, заговорил: – Мой господин, царевич Саадат, племянник государя нашего, хана Казы-Гирея, говорит: отдайте ему однорукого зверя, слона, и он тогда вас пощадит. А не отдадите, он тогда всех вас перебьёт, сожжёт весь город и в реке утопит! – Какой ещё однорукий слон? – притворно-озабоченно спросил Лодыгин. – Слон, это он так называется, – сказал толмач. – А на самом деле он шайтан, он к вам в крепость заскочил, мы видели. – Э! – уже насмешливо сказал Лодыгин. – Не было здесь никакого шайтана, это твоему царевичу песок глаза запорошил, вот и привиделось. А если царевич мне не верит, тогда пусть слезает с лошади, а мы ворота откроем, и вот пусть он входит к нам и сам ищет. Толмач опять повернулся к Саадату, они кратенько посовещались, и толмач ответил: – Нет! Так не годится! Царевич бы один пошёл, но одному ему шайтана не найти, шайтан может в муху превратиться. Впусти нас всем войском, тогда и поищем! – Э! – опять насмешливо сказал Лодыгин. – Впустить войско! Сколько от вас будет суеты! Да и зачем вам этот слон, чем он твоему царевичу не угодил? – Мой царевич шайтанов не любит, – ответил толмач. – А если ты шайтанов защищаешь – значит, ты и сам шайтан, и твои люди все шайтаны. Убейте однорукого шайтана, и мой царевич вас помилует, а не убьёте – всем вам будет смерть! И весь город сожжём! И затопим! Сказав это, толмач повернулся к царевичу. Царевич утвердительно кивнул, потом поднял голову, посмотрел на Лодыгина и медленно провёл рукой погорлу. На что Лодыгин засмеялся и сказал: – Бог в помощь! Царевич тоже засмеялся, развернул коня и поскакал обратно в поле. За ним поскакали его люди. Лодыгин посмотрел им вслед, сказал задумчиво: – А ведь и в самом деле, чего им дался этот слон? Маркел молчал. Свиридов тоже. Лодыгин развернулся и начал спускаться по лестнице. Маркел пошёл за ним следом, Свиридов остался. Когда Лодыгин и Маркел спустились вниз, там, возле ворот на площади, было уже много народа, и все смотрели на Лодыгина. Но Лодыгин не стал им ничего объяснять, а только сказал, что татары пришли помолодечествовать, привёл их молодой дурень-царевич, ну да он скоро опомнится и уйдёт туда, откуда пришёл. Сказав это, Лодыгин пошёл дальше. А когда он подошёл к своим хоромам, то спросил у челяди, где слон. Ему ответили, что слон за церковью, пасётся. Лодыгин рассердился и велел, чтобы слона свели к нему на задний двор и затворили там, и приставили стрельцов в охрану. И повернувшись к Маркелу, закончил: – А ты за ними присмотри. И пошёл к лестнице, к себе в хоромы. А Маркел остался при слоне. Их отвели на задний двор, и слону дали сена, и брюквы, и огурцов, и моркови, и поставили при нём стрельцов, и зевак там тоже была целая толпа. А Маркел лежал себе в углу двора, в тени, подрёмывал и, если просыпался, думал, что зачем им, в самом деле, слон, но ничего толкового не придумывалось, Маркел сердился и опять подрёмывал. Или, если приносили что-нибудь, закусывал. И так время прошло до вечера, как вдруг к Маркелу прибежали и сказали, что ему надо срочно к Лодыгину. И Маркел пришёл. Лодыгин сидел за столом, вертел в руках помятую бумажку и очень сердито покашливал. Маркел встал в дверях и поклонился. Лодыгин знаком подозвал его к себе. Маркел подошёл. Лодыгин дал ему эту бумажку. Там кривыми скачущими буквами было написано: «Эй, ты! Я знаю, кто у тебя прячется – кызылбашский шайтан! Вашему царю от персидского царя подарок в знак дружбы. Убейте слона, и я уйду! Потому что как только убьёте слона, дружбы с кызылбашами не будет. Зачем с кызылбашами дружишь? Дружи с моим дядей. Не можешь сам убить слона, дай я убью. А ты езжай к моему дяде, он тебе даст нового слона, будешь с моим дядей дружить, будешь в Истанбул кататься, подарки получать. А не убьёте слона, сожгу город и всех перебью. Царевич Саадат Гиреевич». Маркел прочёл бумажку и отдал её. – Вот чего они хотят! – строго сказал Лодыгин. – Слона убить и царёву дружбу с кызылбашами порушить! Да нам в это только влезь, сразу на дыбу вылезешь! И только головой мотнул. А Маркел подумал и сказал: – Отпусти меня, боярин, Христа ради! А то и нас убьют, и вас тоже не помилуют. А так мы, может, ещё и уйдём. Вот прямо этой ночью. Пока они опомнятся, мы будем уже вон где! – Э! – сказал Лодыгин, помолчав. – Чего заранее робеть? Пусть они себя ещё покажут! На одних конях в крепость не въедешь. Так что только бы они не подожгли нас! А то вот тогда и впрямь будет не приведи господь! И тут он опять перекрестился. Они помолчали. Было тихо, только иногда под окном слон порыкивал, люди смеялись. Смеркалось… Вдруг внизу послышались шаги. Кто-то бежал по лестнице. – Эх! – только и сказал в сердцах Лодыгин. И не ошибся. Вошёл челядин и воскликнул: – Татары на Царицынских воротах! Поджигают! Лодыгин сразу же пошёл к двери. Маркел пошёл за ним следом. Лодыгин остановился, обернулся к Маркелу и сказал: – А ты беги к слону! И чтобы там всё смирно было. Потому что если что, то будем на слона меняться! И быстро ушёл. А Маркел и челядин пошли на задний двор. Было уже довольно сумеречно. От Царицынских ворот слышались крики, валил дым, стреляли. Слон весь дрожал, похрюкивал, прядал ушами. И никого на заднем дворе не было, только Маркел да лодыгинский челядин. Маркел обнял слона и начал ему индейские присказки по-индейски приговаривать, а челядина послал за брюквой и мочалом. Челядин быстро обернулся и принёс брюквы, а так как мочала не было, то он вместо него принёс браги. Брага слону очень понравилась, куда больше брюквы, слон её быстро выпил и уже хотел было идти к Царицынским воротам, но тут начали возвращаться наши люди и рассказывать, что они отбились от татар, и те ускакали в поле, и пожар уже тоже погашен. А дальше всю ночь было тихо. Только приходил Свиридов, проверял, всё ли в порядке, потом долго стоял, рассматривал слона и наконец сказал, что прошлогодний слон был и ростом повыше, и нравом построже. – Так ты его видел? – спросил Маркел. – Нет, не видел, – ответил Свиридов. – Он же не дошёл до нас. Сдох возле Каменной Рожи. – А вот иные говорят, будто не сдох, – сказал Маркел, – а его будто Ряпунин заколол. – Брехня это! – строго сказал Свиридов. – А ты откуда знаешь, что брехня? – А я тогда у воеводы был, когда он с Ряпунина допрос снимал. И Ряпунин, крест поцеловавши, говорил, что сдох и что его под тем Диким камнем закопали. И воевода заковал Ряпунина в железа и отправил в Москву на расспрос. Вот так! А остальное всё брехня! – А почему… – начал было Маркел. Но тут прибежал стрелец, что-то шепнул Свиридову, и они вдвоём ушли. А Маркел остался один, и больше в ту ночь к нему уже никто не приходил. Маркел привалился к спящему слону, который никакой не чёрт, конечно, и быстро заснул. Утром Маркел проснулся от стрельбы. Стреляли наши от Самарской башни. А татары, сказал вчерашний челядин, туда всякий раз подскакивают и пытаются её поджечь. Маркел пошёл на поварню, поел… Нет, даже не успел поесть, как со Свято-Троицкой колокольни крикнули, что берегом идут ещё татары, сабель триста. Маркел, услышав это, гневно чертыхнулся, встал и опять пошёл к Лодыгину. Но в воеводских хоромах Лодыгина не было, а он был в зелейном амбаре, смотрел, как делят порох. Маркел дождался, когда уйдут люди, и опять сказал Лодыгину, чтобы тот его отпустил. – Мы бы, – сказал Маркел, – далеко ушли бы, к тому берегу, и кто бы нас там достал? А там дальше острова, а на островах тем более никто не сыщет. – Нет, теперь уже куда?! – сказал Лодыгин. – Теперь уже поздно! Теперь куда лезешь? А если убьют слона? Маркел молчал. Лодыгин продолжил: – Здесь теперь каждый стрелец на счету! Так что если вы останетесь, мы, может, ещё и отобьёмся. Да и сам подумай, что царю нужнее: слон или Саратов? Если ты слона ему не привезёшь, то это невелика беда для державы: дадут тебе кнута и отпустят. А если я Саратов не уберегу, тогда мне голову отрубят! Маркел на это ничего не ответил. А к Лодыгину пришли Рыжов и Свиридов, и они втроём пошли в воеводские хоромы совещаться. Маркел ходил туда-сюда по крепости, посматривал по сторонам. Везде люди готовились к приступу. Также и татары Саадат-Гирея затаились в поле и к городу пока не подступали. А с колокольни то и дело покрикивали, что второе татарское войско всё ближе и ближе. Потом это войско стало видно уже просто с башен. А после и со стен. Войско и в самом деле было небольшое, а впереди его опять ехал царевич в позолоченной кольчуге. И в чалме с пером! – Ого! – только и сказал Лодыгин. А он тогда опять был на Царицынской башне. И там же были и Маркел, и Рыжов со Свиридовым. Татарин в чалме повернулся, посмотрел на них и подстегнул коня. Конь поскакал быстрее. А после татары пропали втраве. Трава там была очень высокая, слон её очень любил, но в тот день его из крепости не выпускали. Да он и сам бы не пошёл, думал Маркел, слон не дурак, ещё бы. А приезжие татары как пропали, так больше и не показывались, наши не знали, что и думать, спрашивали у колокольщиков, что видно нового, а те отвечали, что теперь им не только нового, но и старого почти не видно, исчезло в траве. Лодыгин уже начал было думать, нет ли тут какой военной хитрости… Но тут вдруг ударили в колокола, а потом из травы показались татары, и опять с десяток, а впереди их, на очень дорогом коне, в чалме с пером, ехал новый царевич. Этот был потолще и постарше первого, и конь под ним шёл не спеша, пританцовывал. Потом этот царевич придержал коня, посмотрел вверх, на башню, увидел там Лодыгина и громко, зычным голосом, по-нашему, сказал: – Эй, ты, боярин воевода бей Лодыгин! Это к тебе пришёл я, племянник хана нашего, царевич Сефер-Гирей. Тут он приложил руку к груди и усмехнулся. – А! – громко сказал Лодыгин. – Вот ты кто! Я рад! – И тут же насмешливо спросил, по-прежнему ли жив и здоров славный Казы-Гирей, хан перекопский. – Жив и здоров, – сказал Сефер, – а как же! Чего и твоему господину, московскому князю Феодору мы все здесь желаем. А ещё вот что: мой младший брат Саадат говорит, что он вчера своими собственными глазами видел, как к вам в крепость заскочил однорукий шайтан, злой колдун кызылбашский, а наш дядя кызылбашей очень не жалует. Поэтому отдайте нам шайтана, говорит мой брат, и мы убьём его! Лодыгин глянул на Маркела. Маркел кивнул, и Лодыгин ответил: – Нет у нас никакого однорукого шайтана кызылбашского, а есть только четырёхногий буйвол с длинным носом. Сефер спросил: – Кызылбашский? – Нет, индейский, – ответил Лодыгин. – Покажи! – А ты заезжай! Один! – сказал Лодыгин и махнул рукой. Ворота стали понемногу открываться. Царевич Сефер обернулся на своих людей, потом дождался, когда ворота отворились во всю ширь, и въехал в крепость. Там, вокруг ворот, на площади, стояли свиридовские стрельцы с пищалями наизготовку. Сефер не спеша сошёл с коня. Лодыгин спустился с башни. – Давно не виделись! – сказал Сефер. – Славная тогда была потычка! – ответил Лодыгин. Они оба улыбнулись. Потом Лодыгин кивнул стрельцам, те расступились. Лодыгин повёл Сефера дальше в крепость. Свиридов велел всем стоять на месте. Все стояли. А Лодыгин, как было видно, вёл царевича к своим хоромам. Потом они поднялись по крыльцу и вошли в дверь. Потом их некоторое время видно не было. Маркел уже даже подумал, не случилось ли чего. Но тут они опять вышли на лестницу и пошли обратно вниз. Потом пошли по крепости к воротам. Лодыгин улыбался, Сефер тоже. И ещё: у Сефера шуба с правого бока была как-то странно оттопырена. О, только и подумал Маркел, но дальше думать не стал. А Лодыгин и Сефер уже вернулись к воротам. Сефер громко, чтобы всем было слышно, сказал: – Какой славный зверь индейский! А какой весёлый! Лодыгин тотчас же прибавил: – У кызылбашей такие не водятся! – Это верно! – прибавил Сефер. – Поеду, скажу брату, пусть не беспокоится. И придерживая оттопыренную полу, он сел на коня. Ворота стали открываться. Сефер выехал в ворота к своим людям, и они уже все вместе поскакали в поле. Ворота стали опять закрываться. Лодыгин посмотрел по сторонам, заулыбался и сказал: – Ну вот и всё, отвоевались. – Потом повернулся к Маркелу и сказал ему отдельно: – А ты можешь идти дальше. Вельяминову от нас поклон. И развернувшись, пошёл обратно к хоромам. Также и все стоявшие на площади начали расходиться кто куда. А к Маркелу подошёл Рыжов и сказал, что если прямо сейчас начать собираться, то уже через час можно будет выступать в дорогу. Маркел сказал собираться, и Рыжов ушёл. А Маркел ещё немного постоял, подумал, а после тоже пошёл в крепость. Там он прошёл мимо воеводских хором, подошёл к тамошнему заднему двору и постучал в ворота. Открыл их вчерашний челядин. Маркел вошёл. На заднем дворе, как всегда, было пусто, только в ближнем углу, возле колодца, стоял слон и чесался об тын. Тын скрипел. Маркел подошёл к слону, слон наклонился, Маркел начал чесать ему за ухом. Слон заурчал от удовольствия. И так они ещё долго стояли, чесались. Потом Маркел достал из-за пояса верёвку, повязал её слону на бивень и повёл слона прочь. Челядин, забежавши вперёд, придержал ворота. Маркел и слон вышли на площадь и уже повернули к пристани, как их вдруг окликнул Свиридов и сказал, что Лодыгин зовёт. Маркел велел Свиридову присмотреть за слоном, а сам без особой охоты пошёл обратно. Когда Маркел вошёл к Лодыгину, тот сидел за столом и что-то писал. Увидев Маркела, Лодыгин, не переставая писать, протянул к Маркелу свободную левую руку. Маркел вложил в неё подорожную. Лодыгин расписался в ней. Маркел забрал её, но продолжал стоять на месте. – Ещё чего-нибудь? – спросил Лодыгин. Маркел в душе перекрестился и сказал: – Ты татарину дачу поднёс. Так это или нет? Лодыгин усмехнулся и сказал: – Да, это так. А если бы не поднёс, на сколько здесь татары бы сожгли? На тысячу? А перебили скольких бы? Где мы столько баб возьмём, чтобы они столько новых нарожали? Маркел молчал, насупившись. Лодыгин снова усмехнулся и продолжил: – Знаю, знаю! Думаешь, я оробел перед ними. Поумнел я, а не оробел. Давно! А раньше такой же был, как ты, горячий. И как сейчас Вельяминов! Да-да, – уже совсем насмешливо продолжил Лодыгин. – Вельяминов – это вам огонь! Вельяминов их так бы не отпустил! Пол-Саратова бы сжёг, не пожалел бы, а с Гиреевичами бы посчитался! Или бы не посчитался, это уже как жребий бросится. Да у него жребий каждый день бросается. Ты к ним сейчас приедешь, а там война. Да там всегда война! И он только и знай гонцов в Москву гоняет, просит: царь-государь, пришли стрельцов, пришли ещё стрельцов… Вот так! – сказал Лодыгин, отложив перо. – Можно и так жить, а можно и сяк. Но когда будешь дальше идти, то если никого по дороге не встретишь, то вспомни меня. А когда встретишь, вспоминай Вельяминова. А теперь ступай, не отвлекай меня, я занят! И он опять взялся писать бумагу. Маркел поклонился и вышел. А когда он выходил из воеводских хором, то с колокольни как раз прокричали, что татары выступили на берег и теперь идут вниз по течению вдоль Волги. Значит, надо поминать Лодыгина, подумал Маркел и усмехнулся.Глава 32
Собирались они быстро. Прибежал Гаврила Меньшой, тамошний приказный дьяк, с людьми, и люди натащили всякого добра любого, и не забыли брюквы. А Свиридов поделился порохом. А таможенный голова Серафим, Маркел опять забыл его фамилию, не стал у них ничего проверять, а только махнул рукой, сказал: везите, чёрт с вами, и они отчалили. День тогда был свежий, с ветерком, но, правда, не попутным. И как заладило, так после всю неделю он такой дул – не попутный. Гребцы умаялись, часто менялись. Рыжов ходил мрачный, посвистывал. Маркел просил не свистеть, но Рыжов как не слышал. Один слон был весел! И так ведь всегда и раньше было: мачта стоит – он зол, мачту уберут – он рад. А тут целую неделю мачты не было! Слон стоял на её месте и по сторонам поглядывал, похрюкивал, совал хобот в воду, набирал воды и брызгался. Народ сердился, но молчал. Маркел тоже помалкивал. А потом, сентября в 16-й день, на великомученицу Евфимию Всехвальную, они вышли к Самарской Луке, к её Пасечному повороту, а там пошли ещё вёрст пять, это всё вдоль низкой луговой стороны, и увидели два корабля у берега – один струг, второй коломенка. Коломенка была здоровенная, длиннющая, и от неё издалека воняло рыбой с солью, а струг был обычный, есаульный. – Это они на Низ идут, – сказал Рыжов, – порожние. А зачем им тогда струг? – И на всякий случай велел брать влево, к стрежню. На кораблях сразу забегали, а со струга даже стали махать шапками. – Вроде как свои, – сказал Маркел. Рыжов тяжко вздохнул и приказал причаливать. Гребцы снова провернули к берегу. На тех кораблях пошло движение. И сколько там было людей! И все кто с пищалями, кто с пиками, а кто ещё с чем! Рыжов перекрестился и велел гребцам придерживать. И тут с коломенки крикнули: – Эй, на реке, что везёте? Маркел усмехнулся и зычно ответил: – А вы кто такие? – Как? – грозно крикнули с коломенки. – Ты что, не узнал меня, Косой? И тот, кто кричал, начал размахивать руками. В одной из них у него был топор. А на голове у крикуна была простая валяная шапка, а сам он был в серой посадской однорядке, а борода у него… О! И только тогда Маркел узнал его. И закричал в ответ: – Игнатий Григорьевич, ты, что ли? – Я! – весело ответил этот человек, и в самом деле Вельяминов Игнатий Григорьевич, воевода самарский, и тотчас же тоже спросил: – Что у тебя там вместо мачты, слон? – Слон, так и есть, – сказал Маркел, снимая шапку. – Давай подгребай сюда! Посмотрим твоего слона! – громко сказал Вельяминов. – Век не видал слонов! Ага! – и почему-то стал смеяться. А маркеловский струг тем временем всё приближался к берегу. Теперь Маркелу было уже хорошо видно, что на коломенке, равно как и на их втором корабле, на струге, черно от народа, и все они одеты кто во что, хоть по их выправке сразу понятно, что всё это стрельцы. Чего это они так вырядились, думал Маркел, подкарауливают кого-то, что ли? И повернувшись к Рыжову, велел причаливать к коломенке. Гребцы убрали вёсла, бросили верёвки, корабли сошлись. Вельяминов на своей коломенке сразу выступил вперёд, остановился возле борта, занёс ногу, чтобы перелезть к Маркелу… но посмотрел на слона и застыл. Потом оглянулся на своих. Свои молчали. Вельяминов с опаской спросил: – Так это и есть слон? – Да, это слон, – сказал Маркел. – Из Персии. – Это понятно, – сказал Вельяминов. – У нас таких зверей не водится. И перелез через борт, подошёл к слону, остановился, покосился на своих, потом кивнул на слона, на его бивни, и спросил: – Кусается? – Когда как, – уклончиво ответил Маркел. Вельяминов понимающе хмыкнул, ступил дальше, начал похлопывать слона по морде. Слон сердито рыкнул. Вельяминов убрал руку и с уважением сказал: – Серьёзный. – Есть такое, – ответил Маркел. Вельяминов, глядя на слона, задумался. Потом спросил: – Что дальше делать думаешь? – Как что я думаю? – сказал Маркел. – Мне думать некогда, я на службе. Я должен свезти его в Москву. И у меня на это есть бумага, вот она! Маркел достал троекуровскую подорожную с позолоченной печатью и показал её так, чтобы всем было видно, а потом убрал. Вельяминов тоже посмотрел по сторонам, потом спросил: – А если пускать не станут? – Буду пробиваться. – Это славно! – сказал Вельяминов и задумался. Потом так же задумчиво заговорил: – Одному тебе не пробиться. А у меня дела… Но тут же тряхнул головой и уже весёлым голосом продолжил: – Ну да ладно! Что дела?! Всех дел не переделаешь. А вот слонов я раньше никогда не видывал. Даже думал, что это брехня. А как ты этого добыл? Его для тебя в лесу поймали или как? – Нет, не в лесу, – сказал Маркел. – А у них этих слонов целый слоновник. Сказали: выбирай, – я выбрал. Сказали: садись на него, – и я сел. – Он же высокий, – сказал Вельяминов. – А я исхитрился. – Покажи! – Корабль перевернётся. Выйдем на берег, покажу. Вельяминов подумал, сказал: – Ладно, потом посмотрим. И что дальше? – Потом дали пищаль, и я стрелял с него, – сказал Маркел. – Потом скакал на нём. Потом, когда по морю плыли и наш струг начал тонуть, он меня на берег вытащил. Потом… – Ладно! – опять сказал Вельяминов. – Верю! И снова задумался. Теперь он думал много дольше прежнего, и смотрел то на слона, то на Маркела, то на Волгу, а то и вообще на её противоположный берег, на Молодецкие горы… А потом заговорил сердитым голосом: – Нет в тебе чутья, Косой. Только и умеешь, что слонов возить. А слон сам должен тебя возить. И оберегать! И разгонять врагов, и топтать их! Да и что такое один слон? Их надо, может, двадцать, может, даже сто! – Но где их столько прокормить! – сказал Маркел. – А где приплоду взять? А… – Помолчи, Косой! – строго сказал Вельяминов. – Не смей меня перебивать! И так царю и скажешь, что всё это Вельяминов придумал, а ты только передал, и ты слона привёл, тебе за это дадут сто рублей, три штуки шёлка, кызылбашские сапоги… А мне ничего этого не надо, мне только… Да! И он опять задумался. Но почти сразу со второго струга дружно закричали: – Посылка! Посылка! Маркел посмотрел туда, куда они указывали, и увидел, что по Волге, со стороны Самары, быстро идёт восьмивёсельная посылка под полным парусом. Вельяминов встал к борту и начал махать рукой. Посылка шла наискосок, от Молодецких гор. Все молча ждали. Посылка подошла к Маркелову стругу, ей бросили верёвку, и она причалила. Вестовой стрелец взошёл на струг, повернулся к Вельяминову, увидел рядом с ним слона и оробел. Вельяминову стало смешно, но он и виду не подал, а со всей серьёзностью спросил: – Чего молчишь, соколик? Вестовой осторожно кивнул на слона. – Это слон, – ответил Вельяминов. – А это стряпчий Косой из Москвы, от царя. Косому надо этого слона свезти в Москву, а злые люди его не пускают. И я Косого поведу в Москву. Ну, не в саму Москву, а на ту сторону, – и он кивнул на Волгу и на Молодецкие горы за ней, и прибавил: – Вот так. Поэтому сегодня я за Яшей не пойду. Пойду через три дня, когда этих отправлю. Так Василию и передай: через три дня воевода придёт, потерпите пока что. Ступай! И он указал на посылку. Вестовой вздохнул, перелез через борт, залез в посылку, сел на рулевое место и велел отчаливать. Его гребцы оттолкнулись вёслами от маркеловского борта. Вельяминов вдруг прибавил: – Да, и возле старого сухого колодца, Василий знает, про какой я говорю, полмешка зелейного запаса схоронено. Но пусть берёт оттуда только в крайнем случае, понятно? Вестовой кивнул, что понятно. У них хлопнул, надуваясь, парус, и они поплыли обратно. Плыли они, конечно, быстро, но уже не так, как раньше. – Василий – это Долгопятов, – сказал, глядя им вслед, Вельяминов. – Мне его этим летом из Москвы прислали. И ещё кое-кого тоже прислали, тоже славные ребятки. Ну, я и собрался брать Яшу. И уже, видишь, выступил… И тут вдруг ты! И слон! Вельяминов оглянулся на слона и подмигнул. Слон громко хмыкнул. – Зверь! – с улыбкой сказал Вельяминов. – Красавец! – И повернувшись к Маркелу, продолжил: – И ты хочешь с ним в Москву проплыть через наши места? Так ведь не проплывёшь же! Ну, или только сам проплывёшь, но без слона. Убьют его! В прошлом году уже убили одного. – Не убивали! Он сам сдох! – сказал Маркел. – Кто это сказал, что сам? Ряпунин? Или Лодыгин? – спросил Вельяминов. – Или ещё кто? Маркел открыл было рот, хотел сказать, что говорили под крестом, но передумал, промолчал. – Ладно, – сказал Вельяминов. – Что было, то было. Ряпунин за своё сам ответит, а мы будем за своё отвечать. Но вначале, пока Яша будет за Долгопятовым гоняться, я тебя по волоку перетащу! Ты это представь себе! Одну версту тащим, потом пять плывём – и мы уже вон где! Видишь ту гору? А мы сегодня вечером будем уже за ней, с той стороны! И Вельяминов показал рукой, где именно. Маркел молчал. Тогда Вельяминов опять заговорил – насмешливо: – Ну а не хочешь в гору лезть, плыви мимо неё дальше. И будешь плыть так сто вёрст, до самой Самары, а Яшкины люди будут по тебе с горы стрелять, и если вдруг не попадут, то ты доплывёшь до Самары, а там опять повернёшь и будешь плыть, теперь уже против течения, ещё сто вёрст, и по тебе опять будут стрелять, и по слону, а по слону особенно, и если опять не попадут, то ты приплывёшь за эту гору, под которой мы уже три дня будем сидеть и ждать тебя! Маркел молчал. Вельяминов усмехнулся и прибавил: – Яша со своими людьми там всегда ходит только напрямик. – Но они там только лёгкие лодки перетаскивают, – сказал Маркел. – А как нам быть со стругом? Кто его в такую высь поднимет? – А сколько у нас людей, ты посчитай! – сказал Вельяминов. – У тебя пятьдесят и у Хлебцова пятьдесят, а у меня на коломенке ещё сто двадцать. И что такое каждому по пять пудов? А то и по десять! И также слона не забывай! Он у тебя как, работящий? – Он заводчивый, – уклончиво ответил Маркел. – Как заведётся, так потом не остановишь. – Вот такие нам особенно нужны! – сказал Вельяминов. – Но это мы один мой корабль так перетащим, – сказал Маркел. – Ладно! А что будет с этими двумя твоими? – А мы их внизу пока что бросим, – сказал Вельяминов. – Останемся живы-здоровы, придём, заберём. А не останемся, тогда чего жалеть? Маркел вздохнул, посмотрел на тот берег. Высоковато там, подумалось. А Вельяминов опять заговорил: – И это же не через самую верхушку лезть, а сбоку, там пониже. Люди там уже дорогу протоптали. Или, – уже в сердцах продолжил Вельяминов, – можно ещё так: ты возвращаешься обратно в Саратов и ждёшь там оказии. Но оказии в этом году уже не будет! – А Смыков? – спросил Маркел. – А Смыков здесь ещё позавчера прошёл, а сейчас он идёт на Самару, – сказал Вельяминов. – Даже сегодня вечером уже придёт. И завтра постоит, передохнёт, а послезавтра выйдет дальше, будет идти два дня, и на третий день они прибудут как раз к Ведьминой косе. И мы там тоже уже будем стоять и ждать его! И ты с ним пойдёшь дальше, а мы с Хлебцовым повернём обратно. И тут на нас Яша! А мы с Хлебцовым Яшу в бердыши! А сбоку Щербинин! – Какой ещё Щербинин? – спросил Маркел. – Щербинин Евстафий, рыбинская сотня, и это тоже от царя, – сказал Вельяминов. – И выступим! А ты приедешь в Москву и скажешь царю, что Вельяминов не зря у него стрельцов в этом году выпрашивал, стараются стрельцы, хлеб даром не едят… Ну, что? Маркел подумал и сказал: – Показывай. – Отсюда далеко показывать, – сказал Вельяминов. – Давай сначала к тому берегу причалим. Маркел ещё подумал и сказал: – Давай. Вельяминов засмеялся и сказал: – Вот уже где Лодыгин будет гневаться! – и встал, прошёл по настилу, перелез к себе на коломенку и там начал отдавать приказы. Также и Хлебцов, это который был на втором струге, приказывал тоже. А у Маркела на струге приказывал Рыжов. Корабли отчалили, развернулись и пошли напрямик через Волгу. Вначале они плыли молча, а после Маркел спросил у Рыжова, и тот стал показывать, откуда начинается волок, от каких камней, куда поднимается, где поворачивает и где переваливает на ту сторону горы. А ещё они смотрели, нет ли каких кораблей на реке или лодок, потому что мало ли что Яшка мог затеять. Но никого подозрительного на реке видно не было, Хлебцов шёл впереди, за ним Рыжов с Маркелом и слоном, а уже за ними Вельяминов на коломенке со своими переодетыми стрельцами. Потом, когда они подошли к так называемому Молодецкому берегу (потому что сразу за ним стояли Молодецкие горы), Вельяминов причалил первым и выставил своих людей вокруг причала, а уже только за ним причалили Рыжов с Маркелом, и Маркел вывел слона. Слон держал себя очень спокойно, похаживал туда-сюда, травку пощипывал, но её там было мало. Вельяминов смотрел на слона и причмокивал. – Чего ждём? – спросил Маркел. – Знака ждём, – ответил Вельяминов. Но какого знака, он не объяснил, а подошёл к слону и стал его рассматривать. А слон по-прежнему похаживал и пасся. Было тихо. Потом откуда-то издалека, с самарской стороны, послышалась стрельба. Стреляли часто и в охотку. Вельяминов сказал, что это Яшка навалился на Долгопятова и теперь они долго не уймутся. – Теперь Яшке будет не до нас, – радостно прибавил Вельяминов, потирая руки, и велел начинать. А это означало вот что: все сразу кинулись к Маркелову стругу и начали снимать с него парус, мачту, вёсла и всё остальное, что могло сниматься, это чтобы струг стал легче, и нагрузили всё это на слона. Слон не противился. А стрельцы обступили корабельный короб, обвязали его верёвками, подсунули ему под днище брёвна-катыши, которые они нашли в ближайших кустах – и стали толкать его вверх по протоптанной дорожке. Струг мало-помалу поднимался в гору. Вельяминов шёл впереди и покрикивал, Хлебцов и Рыжов шли по бокам и тоже смотрели за порядком, а сзади всех шли Маркел со слоном. Правда, слона вначале хотели поставить вперёд и там запрячь как коренника, но Вельяминов это запретил, сказал, что у них только ещё не хватало, чтобы царёв слон надорвался до грыжи. И вот теперь слон шёл позади всех и нёс парус, мачту, рею, вёсла и всякую прочую мелочь со струга. Правда, слон порой сам, по собственному хотению, вдруг выступал вперёд, упирался плечом в корму и подталкивал струг сразу на аршин, а то и больше. Стрельцам это очень нравилось, они тогда кричали: – Ширка! Ширка! Дай ещё! И слон давал, но немного, и опять и шёл вровень с Маркелом. Так их струг мало-помалу поднимался по волоку, солнце закатилось за полдень, стрельба с самарской стороны то затихала, то опять ожесточалась. Вельяминов говорил, что им сейчас никак нельзя расслабляться: только присядешь, потом не поднимешься. Лучше, говорил Вельяминов, присядем, когда дело сделаем. И все молчали. – Тогда дайте сюда чего-нибудь! – грозно велел Вельяминов. И принесли это чего-нибудь. Люди выпили и разогрелись, и работа сразу пошла веселей. И так они разогревались раз от разу, а потом дали даже слону разогреться, и он тоже стал чаще подталкивать, потом просто толкать. Потом он даже хотел пойти вперёд, в коренники, но Вельяминов ему не позволил. Так они прошли до Васькиного поворота, а дальше уклона уже почти не было, они протолкали ещё сто саженей – и начался спуск. Зато от Самары стрельба началась просто страшная! Пороха скотины совсем не жалеют, в сердцах восклицал Вельяминов и тут же кричал, чтобы прибавили. Прибавили, а водки больше не было, и люди сразу стали спрашивать, куда она девалась. На что острословы отвечали, что всю водку выпил слон. Но это была неправда. Слон тогда, конечно, выпил, и немало, но он и тащил со всем усердием, так что на него было грех жаловаться. А тут ещё прибежали дозорные и сказали, что они уже были на реке и Яшкиных людей там нет, надо спешить! И все опять навалились, протащили ещё полверсты, тащили быстро, под горку, и дотащили до реки, правильней до речки, называется Уса. Уса-река была в том месте неширокая и неглубокая, по такой не очень-то разгонишься, но там было не до выбора, тем более что уже начало смеркаться. Короб струга столкнули в воду и сразу стали разгружать слона, то есть снимать с него и ставить на струг мачту, рею, парус, уключины, вёсла и просто забрасывать туда всякую мелочь и пожитки. Потом завели на струг слона, а он был выпивший, шатался, и струг черпал воду. Маркел заскочил на струг и усмирил слона, слон лёг, струг больше не шатало. Рыжовские стрельцы стали садиться к вёслам и осторожно подгребать, а остальные взялись за верёвки и потащили струг вниз по реке – как бурлаки. А уже начало темнеть! Видно было не очень разборчиво. Зато очень хорошо стало слышно, что долгопятовские люди отступают, и отступают прямо к волоку, так что не ровён час, говорил Вельяминов, и Яшка может прибежать сюда. Но всё это говорилось шёпотом и, конечно, не всем. А струг медленно шёл вниз по Усе, днище скрипело по камням. Люди тащили из последних сил, слон спал как убитый. Стемнело, а Уса всё не кончалась и не кончалась. Люди начинали гневаться, Вельяминов нещадно ругался, грозился всех поубивать… Ну и так далее. А потом струг сел на камни, и так крепко, что его никак не могли с них столкнуть. А было уже совсем темно и ничего не видно! Где-то совсем поблизости гремели выстрелы, кричали люди. Слон, который до этого лежал спокойно, теперь вскочил и ревел. Маркел схватил верёвку, натянул её, слон сразу притих, Маркел потащил его со струга, закричал: – Разойдись! Затопчу! Его схватили за плечо, он обернулся. Кто-то злобно велел: – Бей! Скорей! И тут же уже кто-то другой ударил Маркела железом по лбу. Маркел зашатался и упал. Покуда падал, думал, что его убили… А когда упал, то ни о чём уже не думал, а просто лежал неподвижно. И вокруг было темно и тихо.Глава 33
…И это было хорошо, Маркел был доволен. А после кто-то подошёл к нему и перевернул его ниц. И заломил ему руки за спину, и начал связывать запястья. Маркел попытался вырваться, но это у него не получилось. Тот, который его связывал, был крепкий малый. И очень злой, потому что он сразу поднялся и знатно ткнул Маркелу сапогом под рёбра. А потом ещё раз! И ещё! И на словах ещё прибавил: – Чтобы ты скорее сдох, скотина! Маркел ничего на это не ответил. Маркел лежал носом в землю, правильнее – в камень. Камень был холодный, от него разило плесенью. Маркел начал ворочать головой, чтобы его не нюхать. А тот человек опять его ударил сапогом, и опять под тот же бок. Какая скотина, подумал Маркел, но вслух ничего не сказал, а только повёл ногой, чтобы проверить, лежит ли нож за голенищем. Ножа не было. Значит, его обыскивали, подумал Маркел, и он здесь давно лежит. А как он сюда попал? Маркел начал вспоминать, но про это ничего не вспоминалось. Вспоминалось только то, как он схватил верёвку и вывел слона на берег, там было полно наших, но очень темно. И ещё там были и не наши, они кричали «Бей Москву!» и били топорами, копьями. Маркел упал и видел, или ему это так только привиделось, что слон побежал вперёд и всех топтал, как в Гиляни, и все кричали «Берегись!» и разбегались кто куда… Или Маркелу так только привиделось? Маркел опять попробовал перевернуться на спину, думал, что опять получит сапогом, но тот человек его больше не бил, а только сказал: – Чего тебе? Маркел сразу спросил: – Где слон? – Не велено рассказывать, – сказал тот человек. Ага, значит, жив, подумал Маркел. Потому что если бы убили, похвалился бы. И Вельяминов жив, и его войско не разбито, а дошло до Ведьминой косы и ждёт там. Маркелу сразу стало веселей. Но он ещё немного полежал, собрался с силами, повернул голову и спросил: – А что, уже светает, что ли? – Нет, – сказал тот человек, – а это я просто огонь развёл. Не люблю, когда темно. Маркел ещё сильнее повернул голову и увидел каменные стены и каменный же потолок, каменную лавку, а на лавке сидел человек. – Где это мы? – спросил Маркел. – Там, где надо, – ответил тот человек. – И больше не гневи меня, помалкивай! Маркел сердито хмыкнул, но смолчал. Сил ещё не было, надо пока терпеть, думал Маркел. И так он лежал ещё долго, а тот человек так же долго сидел на той же лавке. Потом Маркел не удержался и сказал: – Что-то очень тихо стало. Отчего это так? – Потому что всех буйных перебили! – весело сказал тот человек. – А вот и за тобой идут! – и тихо засмеялся. Маркел затаился и услышал, что кто-то идёт. Даже идут, подумал, четверо. И он не ошибся. Открылась дверь, и вошли четверо. Все они были в мохнатых шапках, с саблями и в лёгких летних шубах. – Как здоровьичко? – спросил самый старший из них. – Живой, как видите, – сказал тот человек. – Подними его! – продолжил самый старший. – И развяжи! Зачем связывал? – Для порядку, – проворчал тот человек. И он развязал Маркелу руки и помог подняться. Маркел встал во весь рост, его качало, голова кружилась. Те, которые пришли, приставили его к стене. – Злой ты человек, Максим, – сказал один из них. – Кому он теперь такой нужен? Максим, а так звали того человека, ничего на это не ответил, а только сверкнул глазами. Маркел стоял возле стены. За ней опять послышались шаги, но теперь вошёл уже только один. И это был очень видный детина, высокий и толстый, щёки у него были румяные, усы длиннющие, глаза навыкате. – Ну? – грозно спросил он, повернувшись к Максиму. – Что скажешь?! Максим пожал плечами. Детина глянул на Маркела, усмехнулся и сказал: – Я тебя в Казани видел, когда ты моих самых лучших товарищей в железа хватывал. Но я не злопамятный! Люди стали за тебя просить, и я им сказал: приходите, берите! Тут детина резко повернулся, открыл дверь, и к ним вошёл Хлебцов, сотник вельяминовский. Хлебцов был одет как на Пасху, во всё новое и чистое, и держал руку на сабле. Маркел кивнул Хлебцову, тот кивнул в ответ. – Этот? – спросил детина. – Этот, – ответил Хлебцов. И прибавил: – Двести пятьдесят рублей. – Чего? – насмешливо переспросил детина. – Рублей, – повторил Хлебцов. – За нашего товарища. Четыреста. На что детина только усмехнулся. Хлебцов рассердился и спросил: – А ты сколько хочешь? – А я хочу слона, – сказал детина. – Слона? – переспросил Хлебцов. Детина утвердительно кивнул. Хлебцов помолчал, сказал: – Слон – это подарок персиянский. Подарки грешно передаривать. – А мы это замолим! – ответил детина. – Пятьсот рублей, – сказал Хлебцов. – Шестьсот! – А что мне шестьсот рублей? – сказал детина. – У меня в прошлом году на именины, на Иакова-апостола, как раз столько потратилось. Так то же были именины, а тут вдруг целый царский слон! Это должно дороже стоить! И детина гордо осмотрелся. Иаков, повторил про себя Маркел, Яшка Семиглазый, самый знаменитый волжский атаман, вот кто это такой! А Яшка повторил: – Слона! – И продолжал: – Вот это была бы забава! А что такое шестьсот рублей? Или даже пусть семьсот. Или вам семьсот не потянуть? Хлебцов ещё подумал и сказал: – Семьсот, и по рукам! – Ха! По рукам! – весело воскликнул Яшка. – Нет, по рукам мне не надо, а мне надо только слон! И мы это больше не торгуем! Ведите слона! А вот ваш товарищ, можешь его сразу забирать. И это же какое дело славное – товарища от смерти вызволить! А что такое слон? Скотина бессловесная! И поэтому я скажу вот что, Вася: иди и скажи своему воеводе, что Яков Трофимович готов ждать до утра, но зато потом, как только солнце выглянет, мы этому скоту Маркелке, сыщику проклятому, который наших братьев загубил несчётно, отрубим голову! И вам подарим! И тоже чур её не передаривать! А пока давай отсюда! И он сделал рукой так, будто подталкивает в спину. Хлебцов только крякнул и вышел. За ним вышел один Яшкин человек. А сам Яшка поворотилсяк Маркелу, тяжело вздохнул, а после ещё тяжелее сказал: – Ты на меня не гневайся. Я не со зла, а так надо. Да и ты бы меня разве помиловал, если бы в Казани выследил? Маркел ничего на это не ответил. Яшка недобро усмехнулся и сказал: – Положите его и свяжите. Почему он у вас до этой поры несвязанный?! – У меня он был связанный, – сказал Максим, – а это Иванович велел. Яшка повернулся к Ивановичу и строго посмотрел на него. Иванович схватил Маркела, повалил его и начал связывать. Яшка одобрительно кивнул, заулыбался. Потом велел добавить света. Максим добавил. Яшка со своими людьми сел к столу. Стол там тоже был каменный, и лавки тоже, конечно. Открылась дверь, вошли двое людей, внесли котёл каши, миски. Яшка со своими вытащили ложки, принялись есть кашу. Им принесли выпивку, они стали выпивать, закусывать, то и другое быстро и без слов. А Маркел пока лежал в углу и думал, что Вельяминов за него слона не даст, конечно, и это понятно, и все это знают, поэтому чего его за стол усаживать, только харчи переводить. А ещё Маркел думал вот о чём: что они сейчас сидят в печоре, и, говорят, этих печор в здешних горах видимо-невидимо, потому что здесь когда-то наверху был город, и для него здесь, внизу, возле воды, копали землю и резали камень, и всё кругом изрезали, печор накопали, а между ними наделали ходов столько, что если кто чужой зайдёт туда, то обратно уже вряд ли выйдет. Так же и здесь, думал Маркел, в этой печоре, где они сейчас сидят, окон нет, есть только одна дверь, а сразу за ней темнотища, так что только в неё сунься… Ну и так далее. А Яшка со своими людьми сидел себе и пировал. Ему же спешить некуда, думал Маркел, потому что это же его, Маркела, завтра утром будут убивать, потому что кто же это согласится дать за него слона? Слон – это шахский подарок, в Москве его ждут толпы народа, а кто ждёт Маркела? Параска? И Маркел тяжко вздохнул, повёл плечами и подумал, что силы к нему мало-помалу возвращаются, и ему бы сейчас нож, а ещё лучше бы кистень, он бы тогда… Да только что теперь, поздно, подумалось. Да и дороги он не знает… И тут вдруг открылась дверь, и в эту печору вошла маленькая, сухонькая, вертлявая старушка, посмотрела на сидящих за столом и строгим голосом сказала: – Эх, Яша, Яша! Не бережёшь ты себя, дурень! – Как это я не берегу? – удивился Яшка. – А вот так! – ответила старушка. – Люди говорят, что ты опять бежал впереди всех! А если бы тебя убили? На кого бы ты меня тогда оставил? – Так не оставил же! – ответил Яшка. – В другой раз можешь оставить! – сказала старушка. – И ради чего стараешься? Ну где твой слон? – Со слоном промашка вышла, это верно, – сказал Яшка. – Не перехватили мы слона! А стрелять в него я не велел, потому что вдруг насмерть застрелят, тогда что? Кому он дохлый будет нужен? И убежал от нас слон. Зато мы вон кого добыли, посмотри! И он показал на Маркела. Маркел лежал в углу, весь связанный, и только глазами посверкивал. Старушка покачала головой, но промолчала. А Яшка продолжил: – Знаешь, кто это такой? Это Маркел Петров сын Косой, первый московский сыщик. Я его на слона поменяю. И ты не смейся! От воеводы уже прибегали, в ноги падали, предлагали тысячу рублей, а я сказал: слона давайте! А дадут слона, я отвезу его куда надо и там продам за тысячу пятьсот турецкими червонцами! А за эти тысячу пятьсот червонцами найму три тысячи землекопов, чтобы они мне через Волгу плотину поперёк насыпали и оставили бы только маленькую щёлочку, через которую только один кораблик протискивался! Мы бы там тогда стояли рядом и смотрели, кто чего везёт, и половину брали бы себе, а половину пропускали. И это разве не по правде было бы?! – и повернувшись к своим людям, спросил: – Что вы на это скажете?! Его люди, продолжая выпивать, закивали, что они согласны. Одна только старушка сказала: – Яша, Яша, как тебе не стыдно! Значит, ты уже совсем напился, если говоришь чего ни попадя. – Как это чего ни попадя! – воскликнул Яшка. – А вот мы сейчас у Москвы спросим! – И повернувшись к Маркелу, спросил: – Что, разве три тысячи землекопов для такого дела – это мало? – Мало, – сказал Маркел. – Надо хотя бы триста тысяч. – Триста тысяч! – рассерженно повторил за ним Яшка. – Это где же столько слонов наберёшься, чтобы столько наменять? И он замолчал, задумался. Его люди перестали выпивать. Они смотрели на него, молчали. Потом Яшка сказал очень сердитым голосом: – И всё равно я им слона не отдам! Как я теперь буду без слона? А ты, Москва, что про это скажешь? Маркел молчал. – Молчи, молчи! – насмешливо воскликнул Яшка. – А не приведут твои слона, мы отрубим тебе голову. Потому что надо держать слово! И тут он даже ударил кулаком по столу. Потом грозно велел, чтобы ему налили. А когда ему налили, он со своими людьми выпил. Старушка покачала головой и грустным голосом сказала: – Яша, Яша, зачем тебе слон? С ним же столько хлопот! Он же не бык и не корова, а он же из полуденной стороны, и поэтому он это ест, а этого не ест, а это пьёт, а этого не пьёт. И ему на зиму сена накоси, и в холодном хлеву он зимой жить не станет, а ему подай хоромы, постели ему перины, поднесиему… И тут она задумалась. А Яшка сразу же сказал очень сердитым голосом: – А я тогда его убью! Чтобы спору между нами не было, чтобы ты только замолчала, ведьма проклятая! Всегда всё из-за тебя! Сама на три сажени под землю видишь, а мне никогда не помогаешь! Ну да я без тебя обойдусь! Сменяю сыщика на слона, слона продам, на эти деньги куплю землекопов… и выкопаю клад! – Яша, – тихо сказала старушка, – ты уже копал однажды, обвалил половину горы, хочешь опять опозориться? – Ничего я не хочу! – гневно ответил Яшка. – А утром пойду к воеводе и разобью его войско, поймаю слона и убью! И этого тоже убью на месте! – И он указал на Маркела. Маркел усмехнулся. А Яшка сразу покраснел от гнева и сказал: – А попросишь, и сейчас убью! А что! И он, крепко шатаясь, встал из-за стола, вытащил саблю… Но передумал и обратно сел, повернулся к старушке и тихо сказал: – Налей мне чарку, бабушка. Бабушка взяла пустую чарку, налила немного, повертела так и сяк, а после встряхнула, подала. Яшка взял и начал пить… Но не допил, а опустил чарку на стол, в сам подпёр рукой голову и так и заснул. Старушка строго посмотрела на его товарищей. Они тихо встали из-за стола и так же тихо вышли в дверь. А старушка повернулась к Маркелу и сперва долго смотрела на него, потом спросила: – Как тебя зовут, касатик? Маркел назвал себя. Старушка горько улыбнулась и сказала: – А моего звали Данилка. Ты на него крепко похож. А как меня зовут, ты знаешь? – Знаю, – сказал Маркел. – Ведьма Фёкла. – Подумал и прибавил: – Жигулиха. А Яшка – твой внук. Ведьма подошла к Маркелу, остановилась перед ним, наклонилась, взялась за верёвки, они развязались. Ведьма взяла Маркела за руку. Маркел поднялся. – Яша у меня хороший, добрый, – продолжала ведьма. – Но очень обидчивый. Ох, завтра он на меня накинется! Зачем, скажет, ты злодею помогала? Да разве я помогаю? Я же только говорю: иди куда тебя ноги несут, и если вынесут, то так тому и быть, а если не вынесут, то ты сам в этом виноват! Маркел постоял, подумал, посмотрел по сторонам. После шагнул к столу, взял с него нож, засунул за голенище, ещё раз осмотрелся, подступил к печи, перекрестился и полез в неё. В печи было душно и угарно, и ещё давно золу не выгребали. Маркел пролез немного, долез до трубы, начал ощупывать её и нащупал в ней скобу. А выше ещё одну, потом ещё. Теперь он стоял во весь рост, затаился и слушал. Где-то вдалеке кричали. Маркел полез выше. И он ещё долго лез, нащупал двадцать девять скоб, а когда долез до тридцатой, труба повернула в сторону. Маркел полез по наклонной трубе, может, пять саженей – и вдруг услышал мерный шум. Это был шум воды. Маркел опять затаился. После ещё пролез, совсем немного, и увидел над головой звёзды. Маркел высунул голову наружу и стал часто глубоко дышать, а то уже в глазах стало рябить от угара. Потом он вылез из трубы и лёг на землю, стал смотреть на звёзды. Звёзды были маленькие, тусклые. Скоро начнёт светать, подумалось, эти придут, разбудят Яшку, кинутся искать Маркела, а Маркела нет нигде! Яшка разъярится и начнёт кричать… Маркел вскочил, осмотрелся. Было ещё темно и без луны, вокруг торчали кусты, внизу должна была быть Волга, но её ещё не было видно. Также и вельяминовского войска видно не было. Куда бежать? Маркел ещё раз осмотрелся, ничего не высмотрел и пошёл куда глаза глядят. Идти было неудобно, Маркел продирался очень медленно, зато небо светлело быстро, думалось. И ещё думалось, туда ли он идёт. Маркел опять остановился и стал слушать. Было тихо. А потом вдруг раздался рёв! Маркел его сразу узнал! Это ревел слон! И он ревел где-то прямо впереди – значит, Маркел шёл правильно, надо и дальше так идти! А ещё лучше бежать, пока ему не отрубили голову! И Маркел побежал! Кусты под ним затрещали! Сзади почти сразу крикнули: – Стоять! Убью! И стрельнули! Но, слава Богу, мимо. Маркел побежал ещё быстрей. Сзади по нему стреляли, и ещё кричали что-то, и свистели! А он бежал, падал, поднимался и опять бежал. Но с каждым шагом становилось всё светлее, и пули вжикали всё ближе. Но зато и слон ревел всё громче. А потом Маркел его увидел! Слон стоял на берегу, на Ведьминой косе, конечно же, и, повернув к Маркелу голову, ревел во всю силу! А вокруг него толкались вельяминовские люди, они хотели увезти его, а он не шёл на струг! Он упирался! И он уже даже начал размахивать хоботом! Да он сейчас их покалечит, думалось! И Маркел на бегу закричал: – Фу, Ширка, фу! Фу, Ширка, мать!.. Ну и так далее. И эти отступились от слона, слон опять повернулся к Маркелу и начал приплясывать, мотать ушами и реветь от радости! Маркел бежал к слону… А сзади по нему стреляли, очень густо, но Маркел на это не оглядывался, а продолжал бежать. Было уже совсем светло, солнце взошло, но его ещё не было видно за горой, а дальше, внизу на реке, было уже солнечно. Маркел выбежал на берег и упал. Сзади стреляли, он не поднимался. К Маркелу подбежали наши и стали его поднимать, а он был как тряпка, как соломенное чучело. Его держали под руки, чтобы не падал. Вельяминов подбежал к нему и закричал: – Откуда ты такой весь чёрный? – Из пекла, – ответил Маркел равнодушно. Его взяли за руки – за ноги и потащили к стругу. Возле струга стояла толпа, все с бердышами и пищалями. Фитили у пищалей дымились. А впереди всех стоял слон. Маркел встал на ноги, его ещё шатало. Маркел стоял и смотрел на слона, а слон смотрел на Маркела, и они оба молчали. Из-за горы показался верхний краешек солнца, слон прищурился. Вельяминов закричал: – Скорей садитесь! Мне ещё надо от них отбиваться! Маркел повёл слона на струг. Там все уже сидели на местах, держали вёсла, а Рыжов ходил туда-сюда между скамьями и покашливал. Маркел подвёл слона к мачте, слон сел. Вельяминов с берега сказал: – Дальше у вас места пойдут спокойные, до Казани птичкой долетите. А там уже и Москва близко! – и махнул рукой. Рыжов скомандовал отчаливать, вельяминовские оттолкнули струг, рыжовские навалились на вёсла. А на горе толпились Яшкины люди и медленно спускались вниз. Они были ещё далеко и поэтому казались маленькими муравьями, но их было очень много. Маркел подумал: «Господи, помилуй!» – и перекрестился.Глава 34
А дальше было вот что: вельяминовские люди выстроились в две линии и попеременке начали стрелять вверх, в гору, в Яшкиных людей. А Яшкины стреляли вниз, по вельяминовским. Ну а рыжовский струг, как только началась вся эта кутерьма, пошёл, всё быстрей и быстрей, к повороту. И ещё порохового дыма было очень много, ничего нельзя было рассмотреть и никуда прицелиться, но Вельяминов всё равно после рассказывал, что они положили Яшкиных людей без счёта. Также и Яшка после очень любил похвалиться, что они тогда набили государевых людей как шишек с ёлки. Но, правда, это говорилось уже после, а тогда как можно было это посчитать? Да и не до счёту тогда было, а просто постреляли и разошлись: Яшка к своим печорам, а Вельяминов и Хлебцов, теперь уже вверх по Усе, к сотнику Евстигнею Долгопятову, который стоял у начала волока и стерёг вельяминовские корабли. Вот чем для них дело тогда кончилось. А рыжовский струг тем временем уже дошёл до поворота и начал закладывать вёслами вправо. Стрельбы почти совсем не стало слышно. Маркел долго смотрел, оглядываясь, на место недавней битвы, но ничего не высмотрел. – Да и чего там смотреть? – сказал Рыжов сердито. – Силы у них примерно равные, вот и разошлись пока что. Да и не наше это уже дело. И он опять велел прибавить. Вёсла стали шлёпать чаще. На реке было пусто и тихо. Солнце поднялось высоко и даже стало немного припекать. – А чего ты такой чёрный? – вдруг спросил Рыжов. – Так я через печную трубу лез, – сказал Маркел. – А после слышу – слон ревёт, и я к слону. А там и вы все в одной куче. – В одной куче, это да, – сказал Рыжов сердитым голосом. – Это же твой зверь упёрся и не шёл! Вот мы его и толкали. – А если бы он сам пошёл, – спросил Маркел, – тогда что? – Тогда бы мы его на струг – и сразу бы ушли! – сказал Рыжов. – Ещё ночью! И сейчас были бы уже вон где! – И он указал рукой куда-то далеко вперёд. – И меня не подождали бы? – спросил Маркел. – Ни боже мой! Сказав так, Рыжов поднялся, посмотрел на солнце и велел левым гребцам прибавить. Те прибавили. А Маркел провёл ладонью по щеке, ладонь сразу стала чёрная. Эх, только и подумал Маркел и снял шапку, перегнулся через борт и умылся. Потом ушёл к себе в чердак и там открыл свой дорожный сундук, правильнее – троекуровский подарок, в котором, как Маркел и надеялся, кроме ножа и подорожной лежало много чего всякого полезного, то есть ещё два кафтана на выбор, и порты, и шуба летняя, и златотканый пояс, две пары совсем нового исподнего… Ну и так далее. Маркел переоделся, надел новую шапку с жар-птицыном пером, вышел на корабельный настил, прошёлся туда-сюда гоголем и велел позвать Ефима. Пришёл Ефим. Маркел велел сходить к нему в чердак и взять там его прежние одежды в чистку и постирку, а сам пошёл к слону. Слон встретил Маркела очень радостно, даже повизгивал. Маркел тоже был очень доволен, кормил слона брюквой, чесал ему за ухом. А с Рыжовым он в тот день больше не разговаривал. Да и в другие дни почти что тоже. Да и о чём им было разговаривать? Вельяминов же оказался прав – дальше и в самом деле места пошли спокойные. Вот только плыл струг очень медленно, потому что ветер всё время был встречный. А ещё с каждым днём становилось всё холоднее и холоднее, и вскоре слон начал покашливать. Маркел велел дать ему водки, но сказали, что она закончилась, а так как места здесь дикие, то есть никто здесь не живёт, то и водки здесь добыть будет никак нельзя. – Хоть задавись! – сказал Ефим. Маркел ничего на это не ответил. А слон кашлял всё громче и громче. Потом у него начали слезиться глаза. Потом слон стал целыми днями лежать возле мачты и ничего не есть. А если слон сдохнет, думал Маркел, что тогда делать? И неужели слона ничем другим нельзя лечить, как только водкой, в сердцах думал Маркел. А Рыжов как раньше молчал, так и дальше продолжал молчать. Только когда он проходил мимо слона, то шептал что-то неразборчивое и мелко крестится. И что, думал Маркел, сказать ему, чтобы он больше не крестился, что ли? И Маркел сам начал креститься, но молча. А слон как кашлял, так и продолжал кашлять. А когда они вечером становились табором и Маркел выводил слона попастись, тот стоял как истукан и траву не щипал. А потом начал худеть! И худел он очень быстро! Вначале у него вылезли рёбра, потом ввалились щёки, потом прогнулась спина, потом изо рта полезла пена. Потом он стал очень громко храпеть по ночам, люди пугались, не могли заснуть. Люди, сказал Рыжов, могут разбежаться кто куда, что делать? Маркел молчал. А ночью, как и все, не спал, а лежал и думал, что же делать. И утром они наконец услышали колокола. Это были Тетюши. Когда они весной шли из Казани на Самару, то в Тетюшах почти не останавливались, а только передали им пять кораблей с добром и сразу же поплыли дальше. А теперь нет! Теперь Маркел вывел слона на берег, слон стоял и кашлял, и плевался пеной, а Рыжов, так приказал ему Маркел, отправил Гаврилу-сигнальщика, правильней – махоню, на гору, в крепость, за водкой. Гаврила ушёл, долго его не было, а потом принёс-таки ведро. От ведра шёл крепкий сладкий дух. Гаврила сказал, что это сбитень, и очень хороший. – Дурень! – сказал Маркел. – Я тебя не за хорошим посылал, а за здоровьем! Дали слону сбитня. Слон выпил, не поморщился, и перестал плеваться пеной. Маркел обрадовался и послал Гаврилу за вторым ведром. Пока Гаврила ходил, Маркел спросил у тетюшинских людей на пристани, проходил ли мимо них смыковский караван из Астрахани. На что тетюшинские ответили, что ни сам Смыков, ни его караван ещё не проходили. Да и им пока не срок, тетюшинские ждут их через неделю, не раньше. Тогда Маркел повернулся к Рыжову и спросил, будут ли они ждать Смыкова. На что Рыжов без особой охоты ответил: – Нет, не будем. Потому что мы хотим сперва с тобой рассчитаться, а потом уже делать всё прочее. Так что сперва идём в Казань. – И это хорошо, – сказал Маркел, а сам подумал, что и в самом деле надо сперва дойти до Казани, а там он найдёт себе новый корабль и к нему людей поумней и посовестливей. А пока они шли на Казань. Ветер по-прежнему был встречный, сильно холодало. Слон опять начал покашливать. Проплыли Каму, Волга стала узкой, с мелями и перекатами. По берегам стояли непролазные леса. Похолодало ещё больше, с неба сыпала колючая снежная крупа. Казалось, этой дороге никогда конца не будет. А потом вдруг 29 сентября, на преподобного Кириака-отшельника, они свернули с Волги на Казанку, с неё на Булаки, двинулись вдоль пристани, высматривая свободное место причалить. Места всё не было и не было. Маркел навсякий случай предложил: – А что? Может, в Москву пойдём? Тут до Москвы уже сколько осталось? Пустяк! А заплатили бы по-царски. На что Рыжов сердитым голосом ответил: – Зачем нам по-царски? Нам и своего будет достаточно. Маркел хотел было что-то сказать, но Рыжов поспешно перебил его: – Нет, нет, боярин! Слово надо держать. Договорились идти до Казани – значит, до Казани и дошли. И хватит! Поэтому теперь только причалим, ты сразу сходишь, забираешь своего слона и дальше плыви куда хочешь! – А вы? – спросил Маркел. – А мы остаёмся здесь, в Казани, – ответил Рыжов. – Потому что куда нам одним плыть на низ? Чтобы Яшка нас перехватил? Нет, мы лучше здесь до весны отсидимся, а весной, с новым караваном, пойдём обратно в Астрахань. – И тут же продолжил: – О! А вот и наше место! Навались! После чего Рыжов вскочил и начал показывать руками, что и кому надо делать. Струг быстро причаливал. – Эй! – зычно окликнул Ефим. Маркел обернулся. Ефим подал ему троекуровский сундук. Маркел поставил сундук себе на плечо, обернулся, свистнул слону и пошёл вниз по сходням. Слон поднял хобот и пошёл вслед за Маркелом. На берегу стояла толпа и молча глазела на слона с Маркелом. Маркел остановился, начал осматриваться. Слон мерно похлопывал ушами и тоже молчал. В толпе начали шушукаться. Этих ещё только не хватало, с досадой подумал Маркел, опустил сундук на землю… И почти сразу же толпа зашевелилась, раздалась, вперёд вышел Збруев, тамошний губной староста, развёл руки и радостно воскликнул: – Маркел Петрович! Ты ли это? Как заматерел! А это что такое? Слон? – Слон, – с гордостью сказал Маркел. – Из Персии. – А… – начал было Збруев. Но Маркел нахмурился и строго посмотрел по сторонам. Збруев сразу стал сердитым, обернулся к толпе и велел всем расходиться, и ещё позвал своих ребяток. Ребятки, здоровенные детины, четверо, начали теснить толпу. Толпа мало-помалу редела. Збруев широко заулыбался и сказал: – А ты иерой, Маркел Петрович! Тебя куда ни отправят, ты везде всех проучишь! – А после едва слышно прошептал: – А мы того мальчонку разыскали всё-таки! Того, который своего дядю зарезал. Из-за пороха. Он же, скотина этакая, тогда как с той насады выскочил… – Э! – перебил Маркел. – Что вспомнилось! После расскажешь. А пока мне надо к воеводе. Очень спешно! – Сегодня к воеводе лучше не ходить, – сказал Збруев. – Он с утра зол как чёрт. На что Маркел, усмехнувшись, сказал: – А у меня бумага с золотой печатью! Поэтому пойду. А вы присмотрите пока за слоном. Он не норовистый. Но не дразнить его! Не то затопчет. Сказав это, Маркел поправил шапку (с жар-птичьим пером) и пошёл вверх к кремлю. День был погожий, но холодный, ветреный. Подойдя к кремлёвским проездным воротам, Маркел достал из-за пазухи подорожную с золочёной печатью, и стрельцы перед ним сразу расступились. Так же перед ним расступились и на крыльце воеводских хором, и в сенях, и перед медной кованой дверью, которая сама собой открылась – и Маркел вошёл в ответную палату, одной рукой снял шапку, а вторую руку, с золочёной подорожной, выставил вперёд и поклонился. В ответ очень тяжело вздохнули. Маркел распрямился и увидел перед собой князя Ивана Михайловича Воротынского, первого, то бишь главного казанского воеводу. Воротынский возлежал на мягкой лавке, и вид у него был очень недобрый. Да, и вот что ещё: рядом с Воротынским, на низеньком столике, стояла баклажка с чарочкой, а возле неё лежало несколько зубчиков чеснока. Эх, подумал Маркел, не к добру это, надо было слушать Збруева… Но было уже поздно – Воротынский ещё раз вздохнул и спросил: – По делу или так пришёл? Маркел выступил на шаг вперёд и протянул Воротынскому подорожную. Но Воротынский её брать не стал, а только нехотя окликнул: – Осорин! Маркел стоял с протянутой рукой и ждал. Наконец явился Осорин, молча взял у Маркела из руки подорожную и ушёл обратно. Воротынский подождал, когда Осорин закроет за собой дверь, и теперь спросил уже такое: – Ну так чего тебе надо? – Так Осорин… – начал было Маркел. Но Воротынский свёл брови, Маркел замолчал. Воротынский наклонился к столику, налил чарочку, медленно выпил, взял зубчик чеснока и принялся жевать его. Потом взялся рукой за щёку и замер. – А в Персии, – сказал Маркел, – жуют шафран. И как рукой снимает! – Так то в Персии, – сказал Воротынский, – а то у нас! Маркел поклонился. – Знаем мы этих персиян! – грозно продолжил Воротынский. – Насмотрелись! – И сразу же спросил: – Слона привёз? Маркел утвердительно кивнул. – Под седлом ходит? Маркел опять кивнул и прибавил: – И танцует, и в хобот дудит, и на колени падает. – Это хорошо, – сказал Воротынский. – А то в прошлом году подсунули неучёного зверя, и оттого была беда великая – сдох слон! А твой не дохнет? – Нет! Мой здоров как дуб! – сказал Маркел. – А как ему наша зима? – Так не зима ещё! – Вот-вот! – воскликнул Воротынский. – Ещё не зима, а уже смотри как морозит! А что будет дальше? Да так через неделю Волга станет и слон от холоду сдохнет! А царь-государь мне говаривал… Но тут Воротынский замолчал, схватился за щёку, поморщился. Потом взял ещё один зубчик, пережевал его и проглотил, запил чарочкой, задумался. Маркел осторожно напомнил: – Меня за слоном посылали. Слона надо срочно в Москву, а не то… – Знаю, знаю! – сердито сказал Воротынский. – Я про этого слона вот так наслышан! – Он провёл себе рукой по горлу и продолжил: – Этот посол у нас тут всё лето сидел. Каждый день царю письма писал, жаловался: и то ему не так, и это. Так же и нам все уши прозудел: пустите, говорил, в Москву, или уеду на хрен! Ну и забрали его у меня, отвезли в Ярославль, сказали, что так к царю ближе, он поверил. Но это уже не моё дело, там на то есть другие, а вот за слона я по сей день в ответе. То есть, по-простому говоря, если слон вдруг сдохнет, с меня шкуру снимут. И тут вдруг такие холода! Никогда я таких холодных осеней не помню. Поэтому я говорю: куда его сейчас везти?! Привёз ты его сюда, и хорошо. Пусть теперь посидит здесь в тепле, погреется, а то небось продрог в дороге. А пока его потащат в Ярославль или даже в Москву, он же замёрзнет насмерть! Разве не так? Маркел в ответ ничего не сказал, а только молчал, задумавшись. Воротынский выпил ещё чарку, закусил чесноком и продолжил: – Слон здесь может и год просидеть, лишь бы здоров был, а то в прошлом году один сдох, и что с тем человеком после было, знаешь? Маркел молчал. Воротынский тихо засмеялся и продолжил: – И никто до сей поры ничего о нём не знает! Так ты что, хочешь, чтобы и мне так было? Поэтому и не проси, а будем сидеть здесь и ждать, когда потеплеет. Поэтому иди и стой внизу! А как только вернётся Осорин, он слона определит в слоновник тёплый и на прокорм его поставит, не поскупится. Также и тебе место найдут. И стол, и лежанку. А пока вон с глаз моих! – А подорожная? – спросил Маркел. – После подпишу, – ответил Воротынский. – Когда потеплеет! Маркел тяжело вздохнул, развернулся и пошёл к двери. А там через сени вниз по лестнице. А там через ещё одни сени, потом по крыльцу, потом сошёл во двор, отошёл в сторонку и стал ждать Осорина. Хотя, думал Маркел, чего тут можно дождаться? Да ничего хорошего, потому что его ждут в Москве, посол туда, небось, уже приехал, и его надо встречать со слоном, чтобы всё было честь по чести… А слона нет и нет! И посол, на это глядя, развернётся и уедет в Персию, и там скажет шаху: так и так… И кто будет за всё это отвечать? Так, может, пока не поздно, ноги в руки – и бежать на пристань, нанимать порожний корабль… Но у него нет таких денег, чтобы нанять корабль, думал Маркел. Да и чем бы он слона кормил? И главное, кто он теперь такой, если он без подорожной? Он что, спросят у него, царского слона украл? И Маркел стоял возле крыльца, а время шло и шло! Колокол на колокольне отбил четверть часа, потом половину, потом полный час, потом ещё, потом ещё, у Маркела уже ноги затекли стоять… И наконец явился Осорин. Вид у него был очень строгий. Он сказал: – Ну, что? Говорили же тебе: не лезь! Нет, сунулся! Держи! И подал Маркелу подорожную. Маркел взял её, увидел золочёную печать и аж затрясся от радости. Но всё равно взялся читать и прочитал: репы на день полпуда, брюквы пуд, каши ячневой ведро, сухарей десять фунтов… И так далее. То есть и это всё было на месте. Маркел облегчённо вздохнул, перевернул бумагу на другую сторону, увидел подпись Воротынского, заулыбался и спросил: – А как воевода? – Уже много лучше, – сказал Осорин. – Вырвали ему этот проклятый зуб! С корнями! – Но тут же спохватился и прибавил: – Давай скорее! Вам же сегодня уезжать, а дел ещё вон сколько! Воевода говорит, чтобы не мешкали! И они, развернувшись, пошли спешным шагом, вышли из кремля, спустились к пристани. Там стояла здоровенная толпа и было слышно, будто кто-то громко чавкает. Осорин спросил, что там такое, и ему ответили, что слон. Осорин пошёл через толпу, все перед ним расступались, Маркел чуть поспевал за Осориным. А когда они вышли на свободное место посреди толпы, то увидели там слона, который похаживал туда-сюда и пощипывал травку. Осорин сердито хмыкнул, обернулся к Маркелу и спросил, что неужели это всё, что слон умеет. – Нет, почему же, – ответил Маркел. – Он ещё может людей давить. Насмерть. Осорин осмотрелся, увидел Збруева и показал ему рукой вот так. Збруев велел всем расходиться. Но толпа даже не шелохнулась. Тогда Збруев позвал: – Маркел Петрович! Маркел выступил вперёд и приказал слону служить. Слон топнул всеми четырьмя ногами, потом встал на дыбы, задрыгал хоботом и опять встал на землю. Толпа расступилась. Маркел взял слона за бивень и повернулся к Осорину. Тот настороженно молчал. – Чего ещё? – спросил Маркел. – Ладно, – сказал Осорин. – Некогда тут языки чесать. Вам надо скорей в Москву. Пойдём, выберем тебе корабль. И они, а это Осорин, Збруев, Маркел и слон, а за ними Иван Гриднев, казанский таможенный староста, иВаська-посыльный с Маркеловым сундуком, пошли вдоль причалов, рассматривали стоявшие при них корабли и пока что молчали. Потом Осорин вдруг остановился, посмотрел на один из кораблей и спросил, чей это. Гриднев посмотрел в свою таможенную книгу и ответил, что такого-то. Осорин велел идти дальше. И так они прошли мимо, может, полусотни кораблей, но Гриднев всё никак не мог удовольствоваться, пока они не подошли к так называемой большой насаде Петра Дьякова. Дьяков сказал, что собирается идти на ней на Ярославль, но отчаливать он думал только послезавтра, потому что до конца ещё не собрался. – А мы поможем! – сказал Осорин. – И заплатим. И велел Ваське-посыльному бежать за людьми. Васька поставил Маркелов сундук на землю и побежал, а Осорин обернулся к Гридневу, и они стали листать таможенную книгу и искать то, что было нужно. А тут как раз вернулся Васька с людьми, люди стали сновать по причалу и брать то, что было нужно Маркелу в дорогу, а Осорин за это сразу расплачивался. То есть работа быстро спорилась. Потом так же споро принесли сходни с рыжовского струга, поставили, как показал Маркел, а после уже только сам Маркел взял слона за бивень и взвёл на насаду. Насада скрипнула, но удержалась. Маркел перекрестился и сказал: – Помилуй Бог! – и сделал рукой уже вот так. Дьяковские поднялись на корабль, стали по своим местам, воротыновские оттолкнули их от причала, одни дьяковские сели к вёслам, другие расставили парус, и насада поплыла. Было это сентября 29-го дня в четыре часа пополудни, то есть было ещё светло, но не очень, и дул свежий ветер полуночник.Глава 35
И этот ветер как подул, так на неделю зарядил и не сворачивал, поэтому они, против него, плыли совсем не быстро. А если прямо говорить, то они чуть тащились. Маркел ходил туда-сюда с кормы на нос и с носа на корму, смотрел по сторонам, помалкивал. А на кого ему было кричать? На ветер? А тут ещё, на третий или на четвёртый день, проезжие рыбаки им сказали, что на луговой стороне неспокойно, черемисы пошаливают – и они стали держаться горной стороны. И людям это было всё равно, а вот слон очень крепко обиделся. И это было понятно, потому что даже человеку было сразу видно, какая на луговой стороне сочная и сытная трава и какая тощая на горной! Вот слон и гневался, брыкался, когда его запрягали… А! Да! Там же было ещё вот что: грести против течения было непросто, также и полуночный ветер тоже был им не помощник, и тогда они стали тянуть корабль бечевой. А что! Людей у Дьякова было не меньше двух десятков, и все они как на подбор были ребята крепкие, хваткие. Они как запрягались с самого утра в ремни, да как начинали вышагивать, да как запевали громко, дружно, так было любо-дорого смотреть на них! А потом к ним пристроился слон. Слон сам пришёл! Его поставили в оглобли, надели на него самодельный хомут, Маркел вышел вперёд, дал отмашку – и дело сразу пошло веселей! Они так и подошли к Чебоксарам со слоном в упряжке, народ выбежал к реке смотреть, и даже сам чебоксарский воевода, князь Борис Иванович Мезецкий, вышел к ним, осматривал слона, похлопывал его по боку и хвалил, а слон притопывал ногами и приплясывал и подвывал очень душевным голосом. Ему за это дали бочку квасу, три ведра сарацинской каши с мёдом и пять связок свежего, только что надранного мочала. И ещё: один купец подгулявший хотел купить у Маркела слона и предлагал за него много всякого, а когда Маркел начал отказываться, купчина стал кидаться на него – и купчину заперли в холодную, чтобы он там остудился. А Маркел со своими отправился дальше. И так они ещё почти неделю плыли, а когда шли бечевой, народ их встречал, смотрел на слона и помалкивал, а слон, наоборот, задирал хобот вверх и дудел. Вот так они тогда шли, плыли, опять шли и опять плыли, а потом вдруг, десятого октября, в среду, в постный день, на мучеников Евлампия и Евлампии, вдалеке, по левую руку, они увидели Нижний Новгород. Или, правильнее, Новгород Низовския земли. И там и ветер поменялся на попутный, бечеву скрутили в рульку и взялись за вёсла, а слон стоял возле мачты и тихим голосом подудывал. Дьяков слушал его, слушал, а потом сказал: – Что-то грустит скотина. Не почуял ли чего? – Водку он почуял, вот чего! – сердитым голосом сказал Маркел, нахмурившись. И ему было отчего сердиться! Разбаловали слона дьяковские людишки: чуть только Маркел сойдёт куда-нибудь или заснёт, они сразу давали слону водки, и он тогда выпьет и скачет, выпьет и скачет, и ведро не отдаёт, толкается, бьёт хоботом. Маркел его и так и сяк ругал, и срамил, и даже порой бил по сусалам, а слон только порыгивал и щерился. Эх, в тоске думал Маркел, глядя на пьяного слона, да как такого царю показывать, он же там, в царских палатах, на навощёном полу, не устоит и упадёт, вот где будет сраму! А Маркелу – пять кнутов… Вот примерно о чём Маркел тогда думал, глядя на нижегородские церковные купола, хоть слон в тот день был ещё трезв как слеза. А ещё Маркел думал о том, что вот и заканчивается их водное хождение за Персиянское, правильнее за Кызылбашское, а ещё правильнее за Хвалынское море, и дальше они уже поедут по сухому, так оно короче и легче, весной они так не пошли, ибо тогда была распутица, грязища, а теперь дорога будет ровная, сухая, да и намного короче, так что в Москве будет ещё тепло, Параска, а она всегда Маркела за неделю чует, заранее намесит теста, напечёт пирогов с вязигой… И тут как грохнули колокола, так Маркел сразу опомнился, поднял голову и увидел, что они уже подгребают к волжским пристаням. Кораблей там было не очень много, потому что корабельная страда уже закончилась: кому куда было надо, все уже съездили и вернулись. Так и Маркел вернулся, он подумал. А Дьяков выступил вперёд и начал приказывать, куда сдавать и где причаливать. Слава Тебе, Господи, подумал Маркел, наконец-таки он развяжется с этими лентяями и пьяницами, как они ему за всю дорогу надоели, нехристи, один Дьяков – совестливый и работящий, а остальные все… И Маркел не додумал до конца, а только махнул рукой, чтобы вынесли его сундук, а после обернулся к слону, хотел было сказать «Айда!», но опять почуял хмельной дух и только указал рукой идти за ним. Слон весело подмигнул красными от недосыпа глазами, Маркел дёрнул за верёвку, и они пошли вначале с корабля на причал, а после и дальше на пристань. А там уже начал собираться народ. Народу было любопытно, что это за зверина такая к ним приехала, вот они и останавливались неподалёку, но, правда, и близко никто не совался, а молча стояли и ждали, что будет дальше. А дальше было вот как: слон остановился, Маркел отпустил верёвку, обошёл вокруг слона и осмотрел ему бока, а где и легонько потрепал рукой, потом ощупал бивни, а где и поскрёб их ногтем. Слон тяжко вздохнул, но стерпел. Тогда Маркел ещё раз обошёл вокруг слона и осмотрел ему ноги, ощупал копытца, достал нож из-за голенища и счистил с копытцев грязь. И слон и это смирно вытерпел! Народ стоял как заворожённый, смотрел на эти чудеса, помалкивал. Маркел поправил шапку, взял слона за хобот. Слон поднял хобот и вполсилы рыкнул. Толпа дрогнула, но устояла. А один из них даже спросил, кто это. – Это слон, – ответил крикуну Маркел. – Кызылбашская скотина. От кызылбашского царя. В толпе осторожно засмеялись. Маркел тоже хмыкнул и продолжил: – Веду его в Москву, нашему царю в подарок. И что-то сказал слону. Слон громко ухнул и встал на дыбы, а после опустился на колени и положил ниц голову. В толпе восторженно заохали. Маркел отрывисто свистнул, слон встал, отряхнулся. Маркел хотел ещё что-то сказать, но тут из толпы вышел Сазон Герасимов, полусотенный стрелецкий голова, со своими людьми, тогда был его караул, и сказал: – Это что здесь за балаган такой? И сам ты откуда взялся?! – Я взялся из Москвы, – ответил Маркел с достоинством. – Я царёв стряпчий, из Разбойного приказа, и веду слона в Москву. А что? – А бумага у тебя на это есть? – спросил Герасимов, но уже больше для порядка. – А как без бумаги?! – ответил Маркел. – Без бумаги мы никак! – и показал из-за пазухи угол подорожной с позолоченной печатью. Герасимов молча снял шапку. А Маркел сказал слону «Айда!», и они пошли дальше вдоль пристани, к кремлю. За ними молча шла толпа: впереди Герасимов со своими людьми, и там же несли маркеловский сундук, а уже за ним шли все подряд. И так они прошли не очень много, день был жаркий, Маркел сильно употел… И вдруг он, по левую руку, увидел кабак. Возле кабака тоже стояли любопытные. Мимо этого надо скорей пройти, подумалось, а не то Ширка учует водку, и если полезет туда, тогда что? И то и дело дёргая за верёвку, Маркел потащил слона мимо кабацкого двора. А там на крыльцо вышли ещё люди, одного из них Маркел сразу узнал, это был тот самый Митька Курицын, здешний кабацкий голова, который весной просил Маркела передать государю-царю челобитную на здешнее приказное воровство, на краденые вёдра водки… И ну и что, дальше подумалось, а вот… И тут снова раскрылись кабацкие двери, и на крыльцо вышел Клюев! Да-да, вот именно тот самый Илья, правильней – Илейка Клюев, старший подьячий Персидского приказа, а здесь, в Нижнем, что он делает?! Подумав так, Маркел остановился и сглотнул слюну, и так и стоял, глядя на Клюева! Клюев был в богатой шубе и в высокой шапке, в правой руке у Клюева был посох с самоцветами. А из-за Клюева вдруг выскочил ещё один детина, тоже в шубе, но в шапке поменьше, и также и борода у него была короче, и морда не такая наглая, как у Илейки, в сердцах подумал Маркел. А Клюев уже сошёл с крыльца и поворотился к Маркелу. И тот короткобородый детина соскочил следом за Клюевым и теперь жадно смотрел на слона. А Клюев, на слона не глядючи, сразу сказал Маркелу: – А! Вот ты где! Царь-государь волнуется, ночей не спит, а ты по кабакам шастаешь! – Я не шастаю! – сказал Маркел. – Я только что из Казани, я к воеводе иду! Я только отметить подорожную. – Подорожную! – передразнил его Клюев. – Какую ещё подорожную?! Маркел полез за пазуху и опять вытащил ту свою, с позолоченной печатью, подорожную. Но Клюев на неё даже не глянул, а повернулся и крикнул: – Герасимов, такую мать, сюда! К ним подбежал Герасимов. Клюев схватил Маркела за рукав и закричал: – Этот слона украл! Вязать его! Герасимов и его люди скопом кинулись к Маркелу и повалили его. Маркел попытался вырваться от них – не получилось. Тогда Маркел стал кричать: – Ширка! Ширка! Куси их! Куси! Но слон не кусал. Слон стоял смирно и похрюкивал, а тот короткобородый стоял рядом с ним и почёсывал его за ухом. Маркел удивлённо выкрикнул: – Ты кто такой, бляжий сын? Почему он тебя не кусает?! И тот, ухмыляясь, ответил: – А я Ряпунин. И это мой слон. А ты – вор! – Нет, я не вор! – крикнул Маркел, пытаясь вырваться. – И это мой слон! А твой слон под Саратовом в яме лежит. – Тогда пойди и откопай его! – насмешливо сказал Ряпунин, потому что это он и был. И повернулся к Клюеву, дёрнул слона за верёвку, и слон поклонился Клюеву, а на Маркела он даже смотреть не стал. – Ширка! – опять крикнул Маркел. – Ширка! Ширка! А слон опять повернулся к Ряпунину. Ряпунин достал из-за пазухи фляжку, сунул слону, слон выхлестал её в один прихлёб и бросил на землю, и радостно хрюкнул. – Фряжское! – насмешливо сказал Ряпунин. – Это вам не водка! А Клюев повернулся к Герасимову, кивнул на Маркела и велел: – А этого в приказную, в подпол! Чтобы слонов больше не крал, скотина! И Маркела подняли с земли, и потащили сперва через Ивановскую башню в кремль, а там за Спасский собор и направо, и под лестницу и вниз. Маркел эту лестницу знал хорошо, видел, как по ней других таскали, а теперь и его самого туда попёрли. Вот как оно порой в жизни бывает.Глава 36
Но пока оно было ещё не очень плохо, потому что когда Маркела затащили в приказную избу, то дальше потащили не вниз, а снова, как весной, наверх. Маркел повеселел и меленько перекрестился. А вёл его Герасимов с двумя своими людьми. Поднявшись на второй этаж, они свернули за угол, Герасимов условным стуком брякнул в дверь. Из-за двери что-то ответили. Они вошли и поклонились – первым Маркел с руками за спину, а уже за ним Герасимов со своими людьми. Перед ними за столом сидел нижегородский государев дьяк Сумороков Семён Филиппович и строго глазами посверкивал. Сумороков, если кто забыл, был из себя тщедушный, сухонький. Сухонький-то сухонький, подумал, глядя на него, Маркел, а ведро водки ему каждый месяц налей да поставь! И Маркел хотел подумать ещё дальше, но тут Сумороков важно откашлялся и, обращаясь к Герасимову, спросил: – А что это, Сазонка, шум был немалый на пристани? Не беда ли какая случилась? – Нет, не беда, – ответил Герасимов. – А просто одни люди приплыли из Казани, а другие пришли из Москвы. Те, которые приплыли из Казани, привезли слона, а те, которые пришли из Москвы, забрали этого слона, вот и всё. Сумороков глянул на Маркела. Маркел не стал ничего говорить. Тогда Сумороков, опять обратившись к Герасимову, спросил уже вот что: – Кто такие были эти люди? – Одни, которые из Казани приехали, были Петька Дьяков, купец со своими людьми, они привезли слона, – сказал Герасимов. – А другие, которые из Москвы пришли и этого слона забрали, – Маркел фыркнул, – а другие – это Илья Клюев да Фёдор Ряпунин из Посольского приказа, его Персиянского повытья. И вот эти тем слона отдали и поплыли дальше, в Ярославль, порожние, и это в таможенной книге записано, а другие, и они тоже записаны, эти сказали мне посторожить слона, покуда они ненадолго отлучатся, и сами зашли в кабак, а я возле крыльца стою, задумавшись… И вдруг этот, нигде не записанный, – и тут он указал на Маркела, – вдруг как подскочил ко мне и как пошёл орать: «Отдайте слона, ироды, отдайте, сволочи!», и на меня с кулаками! А это разбой! Да я… Но дальше Маркел его слушать не стал и сам начал очень громко говорить: – Да что он верзает, боярин! Ни у кого я ничего не отнимал! Слон мой! И это я его из Казани привёз! И собирался везти дальше! И я пошёл к тебе… – Ко мне? – с удивлением перебил его Сумороков. – В первый раз тебя вижу. Ты кто такой, чтобы ко мне ходить?! – Сейчас узнаешь! – ответил Маркел и полез за пазуху, за подорожной… Да вот только сунулся туда-сюда и не нашёл её. И замер. А потом сказал: – Украли подорожную! Только что была, а вот украли! – И он ещё раз ощупал себя, но, конечно, опять ничего не нашёл, а только в сердцах прибавил: – И жар-птицыно перо с шапки упёрли нелюди! На что Герасимов противно хмыкнул. А Сумороков покачал головой и сказал как будто бы с сочувствием: – В жизни всякое случается. Ты не горюй. Я тебе, если что, могу новую подорожную выписать и новое жар-птицыно перо найти. Мне только надо знать, как тебя зовут, где и кем ты служишь и куда ты едешь, вот и всё. – Меня зовут Маркел Косой, – сказал Маркел, – я стряпчий государева Разбойного приказа, я везу царю из Персии слона, шахов подарок. Очень спешно. – О! Это важная служба! – сказал Сумороков. – А кто за тебя может поручиться? Вот прямо сейчас! – Дьяков может, – ответил Маркел. – Он меня вёз от Казани. Со слоном. Сумороков глянул на Герасимова. Герасимов сказал: – Дьяков не годится. Он в Ярославль уехал. – А тогда кто ещё? – спросил Сумороков. – Тогда Курицин! – сказал Маркел. – Кабацкий голова! Сумороков радостно засверкал глазами и сказал: – Я так и думал! И он уже здесь! – И громко окликнул: – Митька! Раскрылась дверь, вошёл Митька (Дмитрий) Курицын и низко поклонился Суморокову, а остальных как будто не заметил. Эх, только и подумал Маркел, не надо было его звать. И не ошибся! Сумороков повернулся к Курицыну, весело ему подмигнул, а потом указал на Маркела и спросил: – Ты этого человека знаешь? – В первый раз вижу! – сказал Курицын. – А что? – Так… – начал было рассказывать Сумороков. Но Маркел уже громко воскликнул: – Свинья! – И прибавил: – Свинья ты, а не курица! Кто у тебя этой весной сидел на белой половине, и ты ещё мне говорил… Но тут Маркел опомнился и замолчал. Сумороков ещё раз глянул на Курицына и подмигнул ему, потом снова оборотился к Маркелу и спросил: – Что он тебе говорил? И про что? Маркел молчал. Потом вдруг спросил: – Где слон? Но никто ему ничего не ответил. – Ладно, – сказал Маркел. – А где тогда Клюев с Ряпуниным? – На постоялом дворе, – ответил Сумороков. – Слона в дорогу кормят. Им же завтра отъезжать. Так что они тоже за тебя поручаться не станут. Плохая примета перед дорогой поручаться. – А что я тогда? – спросил Маркел. – А ты, – ответил Сумороков, – сейчас пойдёшь к себе и там немного посидишь, охолонёшься, а после мы с тобой ещё поговорим, с охолонённым. А пока, Герасимов, давай веди его на низ! – Нет! – гневно воскликнул Маркел. – Никуда я не пойду! Мне надо спешно в Москву! Где мой слон?! – Герасимов! – грозно окликнул Сумороков. Маркел повернулся к Герасимову… Но тут другой стрелец, стоявший у Маркела за спиной, вдруг саданул его по голове чем-то тяжёлым, и Маркел упал. Потом, когда Маркел очнулся, он уже лежал в каком-то подполе. Маркел присмотрелся и увидел дверь, собрался с силами и встал, начал стучать в неё и кричать что было мочи: – Эй! Открывайте, сволочи! Я царёв гонец! Мне надо спешно в Москву! Я вас всех на дыбе перевешаю! Ну и так далее. Но никто ему не открывал и даже никак не отзывался на его слова. Только когда он наконец замолчал, кто-то сказал из-за двери: – Чего орёшь? Государев дьяк всё слышит. Но государев дьяк сейчас у воеводы. Погоди немного. Маркел затаился, подумал: чёрт их знает, может, так оно и есть, сел на лежанку и принялся ждать. А ждал он так: считал до тысячи, потом до трёх тысяч, а после громким голосом спросил, ну как там. Тот голос сказал, что он сходит проверить. И ушёл. Долго ходил, Маркел весь извёлся, а после вернулся и сказал, что государев дьяк пьёт чай. Маркел опять начал кричать, бить в дверь, грозить. Голос молчал. Маркел утомился, перестал грозить, посидел немного, а потом спросил: – Тебя как звать? – Ермил, – сказал тот голос. Тогда Маркел продолжил: – Ну так скажи, Ермил, долго мне здесь ещё сидеть? На что Ермил помолчал и ответил, что государев дьяк пьёт чай, а как только допьёт, так сразу призовёт к себе и всё расскажет. – Потому что у него такой обычай, – прибавил Ермил. Маркел сел на лежанку и опять задумался. Потом начал считать, уже сразу до пяти тысяч, потому что, подумал Маркел, ночью никто с ним возиться не будет, все спят. И вообще, в сердцах подумалось, никто никакого чая по ночам не пьёт, это пустая отговорка, Ермилу надо бы за этот чай по морде надавать, вот это было бы справедливо, а пока можно поспать, ведь эти сегодня наверху говорили, что Клюев никуда сегодня не собирается, а только завтра, а завтра Маркел отсюда вырвется – и сразу к Клюеву… А пока он заснул и спал очень крепко и долго. А когда он наконец проснулся, Ермила за дверью уже не было, его сменил Пахом, и он сказал, что государев дьяк свой вчерашний чай выпил, конечно, и давно, и он сейчас у воеводы, а после сразу вернётся к себе и вот тогда и пошлёт за Маркелом. – А где слон? – спросил Маркел. – Во дворе, – сказал Пахом. – Пасётся. – А Клюев с Ряпуниным? – Таких не ведаем. Но, – тут же прибавил Пахом, – нам велено быть начеку, чтобы, как только позовут, сразу вести тебя наверх. А пока что можно подождать. Маркел задумался. И теперь он думал уже вот о чём: а почему он всем верит? Почему он думает, что так оно и есть, как они говорят? А если Клюев сразу, никого не дожидаючись, погнал слона в Москву, то он вчера целый день туда ехал и ещёполдня сегодня, и скоро в Москву приедет, а он, Маркел, сидит здесь, в подполе, вместо того, чтобы… Вот именно! И Маркел ещё подумал, потом передумал, потом опять прикинул так и сяк, а после всё-таки повернулся к двери и сказал: – А ты сходи, Пахом, наверх и там скажисвоему господину, что я вспомнил ещё одного человека, который может за меня поручиться. И ещё прибавь, что если твоему господину опять будет недосуг меня выслушать, то я скажу на него государево слово, и пусть нас тогда дыба рассудит. Иди! И замолчал. И также и Пахом молчал, он ждал, наверное, когда Маркел опять начнёт грозиться. А Маркел молчал! Тогда Пахом, было слышно, поднялся и пошёл по лестнице. А Маркел опять взялся считать, хоть, он подумал, до ста тысяч! Но получилось иначе. Не успел он досчитать до первой тысячи, как на лестнице послышались шаги, шли семеро, с огнём, первым Пахом, а после подошли к двери, Пахом открыл, они вывели Маркела и повели его наверх, всё это молча. И довели до дьяковой двери. А уже дальше Маркел вошёл сам и, не снимая шапки, поклонился. Сумороков заскрипел зубами и спросил: – Так ты что, волчья сыть, на дыбу собрался? – Я не один туда пойду, – сказал Маркел, – а мы вдвоём! – Как это так? – А очень просто! Вот ты у меня всё спрашивал, кто за меня может поручиться. Так вот, это мой господин, князь Семён Михайлович Лобанов-Ростовский, судья Разбойного приказа! – Семён Михайлович отсюда далеко, – ответил Сумороков. – Э-э-э! – потянул Маркел. – Плохо же ты нашу службу знаешь, если такое говоришь. Тогда я тебе скажу, как это наше с тобой дело будет идти дальше. Так вот, Клюев придёт в Москву и приведёт слона. А я не приду. Тогда князь Семён, мой господин, сразу спросит у Клюева, куда я подевался. Клюев ответит, что он ничего не знает. Тогда князь Семён пошлёт к вам человека. Вы тоже скажете, что ничего не знаете. Тогда наш человек пойдёт дальше в Казань. В Казани глянут в свою таможенную книгу и скажут, что я поехал с Дьяковым до вас, а дальше Дьяков пошёл сам на Ярославль. Наш человек приедет в Ярославль… Дальше рассказывать? Сумороков смотрел на Маркела, помаргивал. Маркел усмехнулся, сказал: – Жаль мне тебя, Семён Филиппович. С дураками ты связался! А теперь я скажу на тебя всё как было, а ты станешь говорить, что я кривлю, что это наговор… И нас обоих повезут в Москву и там поднимут на дыбу. И я на дыбе повторю всё как было, и Бог мне терпеть поможет! А тебе кто будет помогать?! – А в чём мне виниться? – сказал Сумороков. – В том, что я свою службу нёс исправно? Что прибежали ко мне мои люди и кричат: на пристани безумный человек безумствует, на честной народ кидается, убить грозит! Ну, я и велел тебя имать! Тебя поимали, привели ко мне, я стал спрашивать, кто ты такой, где твои бумаги, а ты что? А у тебя нет ничего и ты на всех кидаешься как зверь! Ты пьян! – Да я не пил тогда! – вскричал Маркел. – А это что?! – вдруг спросил Сумороков, открыл стоявший на столе короб с бумагами и вытащил из него… Ту самую Маркелову подорожную с позолоченной печатью! И спросил: – Что это? – Она! – чуть слышным голосом воскликнул Маркел и потянулся к подорожной. Но Сумороков тотчас же убрал её и продолжал: – Только сегодня принесли. И знаешь, где он валялась? В курицыновском кабаке под лавкой! Вот и не пил, ты говоришь! – Не пил! Подбросили! – Ага! Так и поверили! Сейчас проверим! Сумороков взял подорожную, раскрутил, перевернул на обратную сторону и, то и дело поглядывая на Маркела, начал читать: «Маркел Петров сын Косой, родиною смолянин, полных годов 34, росту средний человек, волос русый, глаза серые, нос прям, лицом чист». Прочитал, подумал и сказал: – Похож немного, – и положил подорожную на стол. Маркел тут же схватил её и поспешно засунул за пазуху. – Вот про что я скажу на дыбе, – продолжал Сумороков. – Но это когда ещё будет! А пока я тебя не держу. Маркел, помолчав, спросил: – Где Клюев? – Так они ещё вчера уехали, – ответил Сумороков. – Как только вышли из кабака, так сразу к своему обозу – и через Дмитровские ворота, и по Московской дороге айда! А сейчас, – он посмотрел в окно, – они уже сотню вёрст отмахали, не меньше. А останови их и спроси, что было у нас здесь вчера, знаешь, что они ответят? Что ты напился как свинья и потерял слона! И хорошо ещё, скажут они, что Клюев мимо шёл, вдруг видит, слон стоит один, бока ввалились, глазки красные, и травку щиплет. А тебя нигде не видно! Клюев, недолго думая, бежит к слону и начинает его успокаивать, а Ряпунин, славный слоновод, ему пособляет. А тебя опять нигде не видно! Ты же в кабаке сидел и пьянствовал! И повели они слона в Москву, бегом, чтобы успеть к послу. А ты валялся в кабаке под лавкой, вдрызг пьяный, и все это видели. Вот что ими после будет сказано, и ты от этого не отопрёшься. Да и чего тебе отпираться? Тебя царь зачем послал? – Привести ему слона. – Так вот иди и приводи! Маркел задумался, потом спросил: – Клюев на каких конях сюда приехал, на посольских или на ямских? – На посольских, – ответил Сумороков. – Тогда я на ямских его не догоню, – сказал Маркел. – Мне нужен конь такой же, как у Клюева, а то и лучше. Сумороков криво усмехнулся и сказал: – Где я тебе таких коней возьму?! – Есть у тебя такие кони! – Нет! Маркел помолчал, потом сказал: – Ладно. Тогда дай денег. Много дай! – Много денег! – сердито сказал Сумороков. – С деньгами вы все иерои! Но всё же повернулся и полез в сундук, выбрал там мешочек поменьше и подал Маркелу. Маркел взял его, пошёл к двери. Шёл и думал только про сто вёрст, которые уже проехал Клюев, а он ещё и шага не прошёл, вот так-то! И было это девятого октября, на апостола Иакова Алфеева, в полдень.Глава 37
А дальше было вот что. Выйдя из приказной избы, Маркел остановился, развязал мешочек, правильней – кошель, глянул, сколько там чего, и усмехнулся, и подумал, что на первое время и этого будет достаточно. После чего прошёл через кремлёвские ворота, вышел на посад и, не доходя до пристани, свернул на Торг. Там он первым делом взял калач со сбитнем и немного подкрепился, а после пошёл в конный ряд. И там он долго ходил, присматривался, приценивался, ворочал коням головы, смотрел им в зубы, щупал бабки, тыкал под ребро и делал ещё много чего прочего, и, наконец, взял одного. Этот конь был такой: буланый мерин шести лет, в холке больше двух аршин. Также купил конский прибор: седло высокое, попону, стремена и всё остальное прочее, чернёное. И также купил ещё одну вещицу, но сразу спрятал её в рукав так, чтобы никто не видел. А вывел коня с Торга, сразу оседлал его, взнуздал, сел и огрел камчой. Конь побежал рысцой. Так они доехали до городской заставы, а там на дорогу вышел заставный голова, глянул на Маркелову позолоченную подорожную, взялся за шапку и спросил, не его ли это люди вчера здесь со слоном проезжали. Маркел ответил, что его, после чего огрел коня, и тот поскакал во весь мах. Мах у коня был широкий, дорога ровная, Маркел смотрел по сторонам, а то и просто на дорогу, но никаких следов слона пока не замечал. А потом вдруг Маркел увидел валявшийся при обочине, как персияне это называют, слоновий горох. И этого гороху, попросту дерьма, там было много. Маркелу стало очень радостно, и он подумал, что Ширка уже где-то рядом. Но, тут же дальше подумал Маркел, коня надо пока беречь, дать ему в первый день разогреться. Вот почему Маркел тогда ехал, как ехалось, коня больше не подстёгивал, и к вечеру доехал до первого яма. Там, то есть в селе Доскино, в ямской избе, Маркел опять сказал, что он отстал от своих и теперь догоняет, на что ему ответили, что на таком славном коне за три дня можно чёрта догнать. А слон, тут же сказали Маркелу, чёрт и есть, потому что он один вчера сожрал всего столько, сколько полусотне человек не одолеть! А кто теперь за это заплатит? Маркел промолчал. И с того раза больше уже нигде не говорил, что это его слон, а только слушал про то, сколько где и чего слон сожрал и сколько выпил, кого напугал и кого чуть не задавил ненароком. Да и не до этих разговоров уже было! Теперь Маркел ехал скоро, даже с каждым днём скорее, и мало-помалу начал догонять Клюева с его людьми. Так когда они доехали до Мурома и переправились через Оку, Маркел отыграл у Клюева первых полдня. А после, до Владимира, ещё полдня. Теперь между ними оставался всего один перегон, тридцать вёрст, а до Москвы всего чуть больше сотни. И ох они тогда скакали! Давно Маркел так не гонял коней! Но всё равно, когда они, а это уже на четвёртый день, подскакали к Покрову, ямские сказали им, что Клюев уже давно уехал и уже, наверное, не меньше двадцати вёрст отмахал. Услыхав такое, Маркел только утёрся шапкой и поехал дальше. И уже не гнал коня, а дал ему отдышаться. Так они с ним не меньше версты отдыхивались, а после Маркел опять погнал, и гнал уже до самого Рогожина, большой ямской слободы, потому что думал, что клюевские остановятся там на ночлег. Но когда Маркел примчал в Рогожино, то никого там не застал. Потому что, как сказали ямщики, Клюев тогда как почуял и только дал своим перекусить, и сразу погнал дальше, на Москву. И что Маркелу оставалось? Скакать дальше. И он поскакал. До следующего стана, вспомнилось Маркелу, почти тридцать вёрст, и от него до Москвы ещё двадцать. А вокруг было хоть глаз коли! И что было дальше? Да ничего особенного, ночь выдалась ясная, лунная, Маркел, чтобы дать коню отдохнуть, слез с седла и шёл всю ночь рядом. Когда начало светать, они дошли до Нового Рогожина, но там ворота были ещё закрыты, сторож сказал, что никого у них со вчерашнего не было, ни со слоном, ни без слона не приезжали, и ушёл в избу. Маркел сошёл с коня, присмотрелся… И увидел на земле следы – слоновьи! Ах ты, скотина, подумал Маркел, да я тебя сейчас!.. Но передумал и не стал лезть через тын, а опять сел на коня и поскакал дальше, по слоновьим следам. Теперь они были ясные, хорошо заметные. А вот самого слона пока что видно не было. Да и это неудивительно, подумал Маркел, потому что дорога спускалась в низину, а там был туман. И так, в тумане, Маркел проехал вёрст пять. Потом солнце поднялось выше, туман начал развеиваться… И Маркел увидел, очень далеко, почти на самом окоёме, какие-то тёмные пятна на дороге. Они медленно ползли к Москве. И это были, Маркел присмотрелся, три телеги, а впереди их шёл слон. Маркел перехватил камчу и огрел коня изо всей силы! Конь поскакал ещё бойчее! Маркел как заворожённый смотрел вперёд. И клюевские тоже смотрели, наверное, только вперёд, а на Маркела не обращали внимания. Начинался день, впереди уже была видна Москва, слева Воронья слобода, справа Андроников монастырь. Конь скакал размашисто, легко, Клюев со своими людьми становился всё ближе и ближе. Они ехали себе неспешно, телега за телегой, а впереди их шёл слон. До него было с версту, не больше. Слон шёл игривым шагом и то и дело весело подпрыгивал. Маркел не удержался и стегнул коня. Конь прибавил. Маркел стегнул ещё, после ещё, а после встал в стременах, и ещё… И конь не удержался, оступился и упал. Маркел перелетел через него и покатился по земле, но тут же вскочил, осмотрелся. Конь лежал на боку и хрипел. А впереди, до Рогожской заставы, осталось совсем немного, может, полверсты. Маркел поправил шапку и пошёл к заставе. Потом побежал. Бежал и думал: а где слон, где Клюев? А рогожинские заставные караульщики уже вышли из сторожки, стояли на дороге и выжидающе смотрели на Маркела. И это всё. То есть ни слона, ни Клюева с Ряпуниным, ни их людей пока что нигде видно не было. Ну и ладно! Маркел с бега перешёл на шаг. Заставный голова вышел вперёд и положил руку на саблю. Маркел подошёл к нему, спросил: – Слона не видели? – Ну, видели, – без особой охоты ответил заставный голова. – А ты кто такой? Маркел полез за пазуху и вытащил оттуда свою подорожную с золочёной печатью. Заставный голова взял подорожную и осторожно осмотрел её, потом осмотрел Маркела и спросил: – Маркел Петрович, ты ли это? – Я, – кратко ответил Маркел, убирая подорожную за пазуху. Потом так же кратко прибавил: – Слон краденый. Куда они поехали? – Туда, – сказал заставный голова и указал себе за спину. Потом прибавил: – Они очень спешат, сказали. Маркел на это только хмыкнул, поправил шапку и пошёл дальше, в Москву. Но так он прошёл не больше десяти шагов, а после опять побежал. И побежал он не туда, куда поехал Клюев, то есть не к новым Таганским Скородомовским воротам, наискосок через поле, а прямо по просёлку к Яузе, к так называемому Козьему броду, потому что так было намного короче. Да и со слоном там не проскочишь, подумал Маркел, подбегая к реке, слону нужны ворота во какие! Рассуждая таким образом, Маркел развязал кошель, дал две деньги, и его перетащили на ту сторону. А дальше опять был пустырь, потом заброшенные огороды. Потом Маркел побежал напрямки, выбежал на Солянку, пошёл просто шагом, отдышался и опять побежал. Потом свернул на Варварку, а там наискосок по Красной площади, через ряды, и наконец добежал почти что до самого дома, то есть до так называемого Подстенного кабака у Никольских Кремлёвских ворот. Там, возле кабака и на его крыльце, и также дальше по улице в Кремль, стояла целая толпа народу. Маркел осмотрелся и спросил, с чего это вдруг так. – Так ведь сейчас слона будут показывать, – ответили ему. – Вот люди и сошлись на него глянуть. Люди стояли молча, ждали. Вот и хорошо, подумал Маркел, не опоздал, и полез в рукав проверить ту вещицу, которую он купил в Нижнем. Вещица была на месте, Маркел самодовольно кашлянул. И тут зашумели с площади: «Ведут! Ведут!» Маркел вытянул шею, присмотрелся и увидел слона, но пока что ещё не всего, а только его голову и спину. Всё остальное было загорожено толпой, так что ни Клюева, ни Ряпунина, ни клюевских людей Маркел пока не видел. Ну и ладно, насмотрюсь ещё, подумал он и даже зубами заскрипел. Человек, стоявший рядом, вдруг сказал: – Скорее бы! А то с самого утра стоим! – Много вас таких стоит, – ответили ему, – вот зверю и не пробиться. А и правда, подумал Маркел, теснотища какая! И опять посмотрел на слона. Слон был уже недалеко. Рядом со слоном шёл Клюев, усмехался, пёс, а за Клюевым шёл Ряпунин и вёл слона на позолоченной верёвочке, а за ним шли клюевские люди, с полдесятка, все как один мордовороты краснорожие. Многовато их, да что поделаешь! Подумав так, Маркел поднял руку, махнул рукавом, из него выскочила дудочка. Вот что тогда Маркел в Нижнем купил! А теперь он в неё задудел. Слон сразу же остановился, замахал ушами. Толпа, идущая за ним, остановилась. А Маркел, продолжая дудеть, быстро сошёл с крыльца и выступил на мостовую. Слон, как только увидел Маркела, стал радостно приплясывать, похрюкивать. Клюев схватил слона за бивень, Ряпунин что-то закричал, мордовороты кинулись к Маркелу, но он ловко от них вырвался и отскочил, и опять заиграл – ещё громче! Мордовороты снова кинулись к нему… Но тут слон мотнул головой, и они попадали как чурки. Тогда слон обкрутил Маркела хоботом, поднял его над толпой и посадил себе на спину. Маркел опять начал дудеть. Клюев снизу закричал «скотина», мордовороты кинулись к слону, но тот ещё раз мотнул головой, они шарахнулись, Ряпунин замахнулся копьецом… Но слон опередил его, ударил бивнями, и Ряпунин отлетел в толпу, вся рожа в кровище. Слон было кинулся за ним, но тут же опомнился и встал как вкопанный. А так подавил бы там тучу народу в этой тесноте, а что! А так всё само по себе обошлось. Маркел засмеялся, повернул слона, и тот пошёл через Никольские ворота в Кремль. Там Маркел ещё раз показал, куда сворачивать, и они пошли вверх по Никольской улице. Слон шёл мягко и размашисто, Маркел дудел в дудочку, смотрел по сторонам, никто за ним больше не гнался, никто не кидался, и на душе у него было радостно. А за Маркелом валила толпа. Так они дошли до Соборной площади и только там остановились, потому что дальше, от Успенского собора и до Благовещенского, стояла ещё одна толпа. Маркел перестал дудеть, но зато слон заревел во всю мощь, толпа стала раздаваться в стороны. Маркел опять начал дудеть и направил слона на толпу. Толпа совсем раздалась, и теперь Маркел увидел перед собой здоровенную пустую площадь, а посреди неё стояли два человечка: один в царских бармах и в короне, а второй в персиянских одеждах. Первого Маркел сразу узнал, это был царь и великий государь Фёдор Иванович, а второй – персиянский посол, которого, как после оказалось, звали Ази Хосров. Слава Тебе, Господи, подумал Маркел, наконец, доехали, ловко соскочил на мостовую, повернулся к слону и велел: – Ширка, пади! И слон встал на дыбы, растопырил уши, махнул хоботом, а после опустился на колени и поклонился сперва государю, три раза, а после послу, один раз. И что тут тогда сразу началось! Зазвонили колокола, ухнули пушки, закричал народ, обе толпы начали сдвигаться в одну кучу, слон испугался, заревел!.. – Эй! – закричали Маркелу тамошние караульные стрельцы. – Чего встал? Уводи его скорей, пока он тут кого-нибудь не задавил! Маркел схватил слона за бивень и потянул на себя, слон поддался. – Постерегись! – крикнул Маркел. – Ожгу! Народ снова начал расступаться. Маркел повёл слона через толпу. Слон упирался. Караульный голова покрикивал, что дело сделано и царь уже ушёл, и также и посол ушёл, они уже к столам садятся, нечего торчать у них под окнами. Да Маркел и не думал торчать и поэтому сразу спросил, куда зверя вести. В зверинец, а куда ещё, ответил караульный голова. И они так и пошли – в зверинец, а это тогда было напротив Чудова монастыря, рядом с Троицким подворьем. И тогда слоновник был такой – крепкий дубовый сруб на двенадцать венцов, и рядом амбар, рядом клеть, рядом сторожка на пять сторожей. Они как услышали шум, так сразу выскочили из сторожки, и Маркел стал им показывать, что это за зверь такой – слон, и как его кормить, и как выгуливать, как лишней воли не давать… Но тут вдруг пришёл посыльный из Дворцового приказа, а это только у них сапоги с золочёными голенищами, и спросил, где это тот, который наших посольских подьячих, Ивашку Клюева да Федьку Ряпунина, по мордам бил? Маркел, а куда ему было деваться, снял шапку и сказал, что он. – Это хорошо, что ты не запираешься, – сказал этот дворцовый посыльный. – А теперь скорей беги к себе домой, там тебя наши люди ждут. Маркел голову повесил и пошёл. Пришёл, а там во дворе никого, на крыльце никого. Маркел вошёл в дверь и видит: Параска у печи стоит и молча плачет. А возле стола стоят дворцовые подьячие, четверо, а перед ними – Маркел его сразу узнал – стоит Андрюшка Телятевский, царёв старший рында. Ого! Маркел обомлел! А Андрюшка усмехнулся во все зубы и сказал, что слон царю очень глянулся, славно он царя потешил. И также и посол был доволен, сказал, что слон его очень порадовал, он словно дома побывал. А посему царь жалует Маркелу вот что! Тут Андрюшка отступил на шаг, а его люди расступились, и Маркел увидел на столе, на здоровенном серебряном блюде, вот такого, даже ещё больше, целиком запечённого лебедя, а перед ним хрустальную бутылочку, и не пустую, и две таких же хрустальных рюмашки. – Вот! – важным голосом сказал Андрюшка. – С царского стола. А это, – и он обернулся на своих людей, – от царицы! И его люди выложили на стол три штуки шёлка – чёрного, в золотые цветочки, в каждой штуке по сотне аршин, никак не менее, подумалось. Нюська радостно вздохнула… – Вот! – ещё раз сказал Андрюшка и спросил: – Ещё что? Маркел не удержался и полюбопытствовал: – А эти как, посольские? – А эти так! – сказал Андрюшка. – Этим поделом. Петьке Клюеву дадут кнута и отправят вторым дьяком в Пустозерск, а Федьке Ряпунину тоже дадут кнута и тоже отправят, но уже не дьяком, а на поселение, в Лампожню. – А… – начал было Маркел. Но Андрюшка уже не стал слушать, а только махнул рукой, развернулся и пошёл к двери. За ним пошли его люди. Захлопнулась дверь. Маркел снял шапку, подошёл к Параске, поклонился, Параска обняла его… Ну и так далее. Да, а было это октября шестнадцатого дня. А на следующий день, семнадцатого октября, в понедельник, посол уехал. После проводов посла, за обедом, царь ни о чём другом не говорил, а только о слоне. И также вечером, когда собрали Думу, царь всё больше про слона да про слона говаривал. Спрашивал, куда его определили, сказали – в зверинец, во второй загон от входа, между белым медведем и жар-птицей, и положили ему харч на полтину в день, царь был доволен, пошёл почивать, и там тоже… Ну да! И также и назавтра, ещё до обедни, пошёл посмотреть, проверить. Всё было в порядке, слон был сыт, в слоновнике было чисто. И только царь оттуда вышел, как следом валом повалил народ! И так было целую неделю! Как только утро, все к слону! Потом мало-помалу насмотрелись, стали ходить реже. А после у царя дела, и у народа тоже. Да и что такое, говорили, слон, ну, здоровая скотина, ну, зубастая, видали мы и позубастей. И стали забывать слона. Бывало, за весь день никто не придёт посмотреть. Один Маркел слона не забывал. Как идёт на службу в приказ, обязательно завернёт, даст гостинца. Или когда едет с розыска, привезёт разных лакомств, рахат-лукумов всяких. И слон его ждал! Бывало, Маркел ещё далеко, ещё вёрст за сотню, а слон уже волнуется, ходит по слоновнику, трясёт хоботом, дудит. Бабы Параске говорят: твой едет! И точно, через день является, и по дороге, даже не заходя домой, сразу к слону. Параска злилась. А ей говорили, что а разве лучше будет, если начнёт пить? С дороги и сразу в кабак? И Параска терпела. А время текло, служба шла, и однажды… Но об этом уже в следующий раз.Элисон Уэйр Екатерина Арагонская. Истинная королева
© Е. Бутенко, перевод, 2017 © Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017 Издательство АЗБУКА®* * *
Самой лучшей, драгоценнейшей из матерей с любовью. Колесо совершает полный оборот: вот с чего все началось. Тысяча благодарностей за твою веру в меня, за безусловную любовь и поддержку. Да благословит тебя Бог!
Я назвала свою дочь в честь Екатерины Арагонской, которая была женщиной честной и принципиальной, как ты.
…с той, кто вот уж двадцать летС ним рядом, как немеркнущий алмаз,С той, кто горит к нему святой любовью,Как к праведникам ангелы. Да, с той,Кто даже под ударом грозным рокаБлагословенье слала б королю.Ну разве это все не благочестье?У. Шекспир. Король Генрих VIII.Акт 2, сцена 2 (перевод В. Томашевского)
Как остролист зеленеетИ никогда не желтеет,Так и я во все временаБыл верен любви сполна.Король Генрих VIII

Часть первая Принцесса из Испании
Глава 1 1501 год
Английский берег приближался. Стоя у балюстрады на высоком юте, Каталина сквозь мечущиеся перед лицом золотисто-рыжие локоны различала зеленые и бурые холмы, шпили церквей, а рядом – жмущиеся друг к другу дома. Далеко внизу между землей и катящимся к ней судном пенилось сизое море; при взгляде на него кружилась голова. Из Ла-Коруньи, где над теплыми синими водами высится башня Геркулеса[1], или из залива Ларедо это виделось иначе! Отныне и впредь все пойдет по-другому. Рядом с принцессой стояла Мария де Салинас, ее фрейлина и лучшая подруга. – Скоро войдем в порт, – сказала ей Каталина. – Как подумаю, сколько лет я грезила об Англии, не могу поверить, что почти до нее добралась. Благодарю Господа, Мария, что ты со мной. Не хотела бы я оказаться здесь одна. Никому другому инфанта не могла бы сделать такое признание. – И я очень рада, что с вами, ваше высочество. Мария была на два года старше Каталины, дружили они всю жизнь. Повинуясь порыву, Мария сняла головной убор и позволила ветру растрепать ее длинные волосы, волнистые и черные как ночь. Она едва не приплясывала от нетерпения, устремив взгляд сияющих глаз на землю впереди. Марию ведь тоже ждет неизвестность, вспомнила Каталина. Как и другие юные дамы из свиты инфанты, та должна была найти себе в Англии родовитого супруга. Однако если Каталина смотрела в будущее с определенной долей беспокойства, то Мария с трудом сдерживала восторг. – Скоро я увижусь с принцем Артуром, – сказала инфанта. Тысячу раз ей говорили, что ее суженый – чистое золото, красив, грациозен, наделен исключительными достоинствами, так что англичане восхваляют его и видят в нем надежду на славное будущее. – Молю Бога, чтобы я ему понравилась. «И чтобы все было хорошо», – добавила она про себя. – Судя по письмам, принцу так же не терпится увидеть ваше высочество. Какое счастье иметь любящего супруга! – Но как он может любить меня, если ни разу не видел? – Каталину давно уже мучило это сомнение, и сейчас она впервые высказала его вслух. – Его так впечатлил мой портрет? Мастер Мигель, придворный художник ее матери, добился невероятного сходства. – Но он прав в своих ожиданиях! Вы так милы. – Ему всего пятнадцать! – возразила Каталина. – Он почти на год моложе меня. Думаю, ему диктовали, что писать, так же как и мне. И… – Она закусила губу. – Боюсь, он слишком мал для своих лет. Помните, как мой отъезд перенесли на год, чтобы он созрел для женитьбы, а потом отложили еще раз? Это было странное дело, покрытое завесой тайны. Даже Марии Каталина не могла доверить своих подозрений, что с Артуром, вероятно, не все в порядке и ее приезд в Англию, уже отложенный несколько раз, стал возможен вследствие каких-то ужасных событий. Казалось, стоит высказать сомнения вслух – и они подтвердятся. – По крайней мере, это дало мне время выучить французский! – бодро добавила инфанта. Супруга короля Генриха и его мать, леди Маргарет, особенно настаивали на этом, потому что не говорили ни по-испански, ни на латыни. И еще они требовали, чтобы Каталина развила в себе привычку к вину, потому как вода в Англии была непригодна для питья. Инфанта с унынием покорилась. Каталина настроилась на то, что свыкнуться с жизнью в Англии будет непросто, придется выполнять множество подобных требований. Но кое-что среди них поставило ее в особенно большое затруднение. – Король Генрих хочет, чтобы я забыла испанский, – открылась подруге Каталина. – Он считает, я буду более счастлива, не вспоминая родной язык. Доктор де Пуэбла написал об этом королю, моему отцу. Доктор де Пуэбла был постоянным послом Испании в Англии, это он вел переговоры о браке инфанты. – Король Генрих желает вам добра, ваше высочество, я в этом уверена, – успокоила подругу Мария. – Я никогда не смогу забыть Испанию, – при воспоминании о родине у принцессы увлажнились глаза, – но намерена стать достойной англичанкой. – Она сморгнула слезы и продолжила: – Нам нужно подготовиться. – А потом, передразнивая свою дуэнью, добавила: – Я должна всегда помнить, что, едва ступив на землю Англии, перестану быть инфантой Каталиной и превращусь в леди Екатерину, принцессу Уэльскую! Каталине объяснили, что ее имя нужно изменить на английский лад, дабы порадовать будущих подданных супруга. Ведь однажды, когда король Генрих умрет, принц Артур унаследует трон и она станет королевой Англии. Мария засмеялась – Каталина так живо представила донью Эльвиру! Инфанта улыбнулась, но, спускаясь впереди Марии по крутой лестнице на нижнюю палубу, где располагались каюты – ее собственная и женщин из свиты, – она твердо решила отныне думать о себе только как о Екатерине. Каюты были тесные и скрипучие, в них едва хватало места для перин, и после четырех дней в море воздух внутри был спертый. К счастью, на этом отрезке пути все складывалось благополучно, не в пример предыдущему – из Ла-Коруньи. Трудно было поверить, что инфанта отправилась в путь больше пяти недель назад, полная восторга перед долгожданной новой жизнью, которая вот-вот должна была начаться, и одновременно убитая горем от расставания с родиной и матерью, горячо любимой и почитаемой. Четыре дня в бушующем штормовом море ослабили тоску по дому: что она значила по сравнению с опасностью пойти ко дну и непрерывными беспорядочными ударами в борт болтавших корабль волн. Каталину и ее спутниц ужасно, отвратительно тошнило. Вместо того чтобы совершенствовать свой английский, инфанта долгие часы лежала ничком, вцепившись в деревянную кровать, пока корабль то вставал на дыбы, то зарывался носом в волны, и молилась о прекращении бури. Больше всего Каталина боялась, что шторм был послан Богом в наказание за великий грех, который сделал возможным ее замужество, и что все они сгинут в пучине морской. Но Бог, похоже, оставил свою месть для другого раза. Никогда не забыть Каталине облегчения, когда капитану чудом удалось привести корабль в Ларедо. Там пришлось задержаться на целый месяц, и она была искренне благодарна за невольную передышку до окончания шторма. Снова подниматься на борт не хотелось, Каталина боялась вверять свою жизнь непредсказуемому нраву волн Бискайского залива и Ла-Манша. Благодарение Господу, они вели себя тихо, но все равно ее жутко тошнило. В самой большой каюте, предназначенной для инфанты, Каталина и Мария застали донью Эльвиру. Дуэнья происходила из старой и уважаемой кастильской семьи, была предана королеве Изабелле и решительно намеревалась исполнить свой долг в отношении ее дочери. Слово доньи Эльвиры стало законом в свите инфанты. Строгая и гордая женщина, далеко за пятьдесят лет, с презрительным взглядом и острым языком, дуэнья свято блюла свой покой, давно забыв ощущения молодости, когда жизнь внутри бьет ключом. И тем не менее, несмотря на всю суровость этой дамы и ее закоснелые взгляды, королева безоговорочно доверяла ей и велела дочери поступать так же. С трудом перемещаясь по тесной каюте, грузная донья Эльвира критически осматривала четыре платья, разложенные на кровати и дорожном сундуке: из красного с золотом дамаста, шелка, самого дорогого черного бархата и золотой парчи. Заботами Изабеллы ее дочь отправилась в Англию, одетая как подобает будущей королеве. Изрядная сумма была затрачена на приданое, призванное показать славу и величие Испании. В трюме ждали целые сундуки прекрасных платьев, сорочек, отделанных тончайшим черным кружевом, бархатных накидок с оторочкой золотой и серебряной тесьмой или жемчугом. Там имелись ночные рубашки с кружевной каймой для летнего времени и с меховой опушкой – для зимы, матерчатые чулки, долгополые киртлы – платья без рукавов на плотной подкладке, а также жесткие испанские «корзинки»[2], превращавшие юбки в подобие колоколов. Кроме того, в запертых на замки тяжелых металлических сундуках покоилась золотая и серебряная посуда, а также украшения инфанты. Екатерина восторженно вскрикивала, когда мать показывала ей роскошные ожерелья из драгоценных камней, золотые цепочки, распятия и броши, изготовленные специально для нее. Потом королева Изабелла положила на протянутые руки дочери великолепно вышитую крестильную рубашку: – Для твоих детей. Молю Бога, чтобы Он благословил тебя множеством сыновей. Я надеюсь, ты станешь для Англии источником всевозможных радостей. При воспоминании об этом Каталине захотелось расплакаться. – Вот это, – вынесла вердикт дуэнья, указывая на платье из дамаста, – если ваше высочество не возражает. – Конечно, – согласилась инфанта. Мать наказала ей во всем полагаться на суждение доньи Эльвиры. Инфанта терпеливо стояла, пока три ее фрейлины – Мария де Салинас и сестры-двойняшки Исабель и Бланш де Варгас – надевали на нее «корзинку», сорочку, киртл, а поверх него роскошное платье со шнуровкой на спине и присборенными, широкими, низко свисающими рукавами. Донья Эльвира собственноручно застегнула на шее Каталины тяжелое золотое ожерелье с буквой «К» из драгоценных камней и изображением граната – личным символом принцессы. – Гранат приносит плодородие, – говорила королева Изабелла. – Первое, что ты должна сделать для принца Артура, – это родить ему сыновей. Каталине было десять лет, когда это ожерелье изготовили. В то время заботы о продолжении королевского рода еще относились к далекому будущему. Однако сейчас инфанте хотелось бы знать больше о процессе обретения сыновей. И мать, и дуэнья говорили ей, что обязанность жены – во всем подчиняться воле мужа и что дети рождаются от его удовольствия. Мать, с многочисленными ссылками на Священное Писание, немного рассказала ей о том, как появляются дети, и тем не менее все это было окутано дымкой тайны. Очевидное смущение Изабеллы и разные околичности лишь привели девочку в замешательство и утвердили в мысли, что достойные люди о таких вещах распространяться не любят. Однако через несколько недель она выйдет замуж, тогда-то ей все и откроется. Донья Эльвира взяла в руки отрез тончайшего батиста, очень изящно отделанный по кромке. – Ее величество распорядились, чтобы ваше высочество до свадьбы носили вуаль, – вспомнила дуэнья о своих обязанностях, расчесывая длинные волосы Каталины и покрывая вуалью ее рыжую головку. Но вот принцесса появилась на главной палубе. Матросы выпрыгивали на забитую народом пристань, обматывали канатами швартовые тумбы и причаливали корабль, но всё вокруг – и Плимут, и собравшиеся приветствовать ее люди, и весело трепещущие на ветру флаги – сквозь складки вуали виделось ей как в тумане. Как только трап был установлен, стала высаживаться свита. Первым величественно сошел начальник эскорта, гранадский герой граф де Кабра. За ним следовали первый камергер двора Каталины дон Педро Манрике, муж доньи Эльвиры, второй камергер Хуан де Диеро, духовник Каталины Алессандро Джеральдини, три епископа, а дальше – стая дам, служанок, придворных и слуг, все разодетые в пух и прах, в лучших платьях и ливреях. Никто не посмел бы сказать, что отправленная в Англию дочь властителей Испании, их католических величеств короля Фердинанда и королевы Изабеллы, испытывает недостаток хоть в самой малости. Каталина сходила по трапу последней, в сопровождении внушительной доньи Эльвиры; та была в великолепном платье из зеленого дамаста и черного бархата, седые волосы дуэньи скрыты под массивным чепцом. Этого мгновения Каталина дожидалась всю жизнь – по крайней мере, сейчас ей так казалось, – но с трудом верила, что он настал. Она держалась горделиво, с подчеркнутым достоинством, ведь она представляет здесь своих родителей и Испанию, самую влиятельную силу во всем христианском мире. Впереди нарастал звук радостно-возбужденных голосов. После четырех дней качки инфанта чувствовала легкое головокружение. Ступив наконец на землю, она ощущала торжество, смешанное с благоговейным трепетом. Вот оно – королевство, правительницей которого она однажды станет. По воле Бога удостоилась она этой чести и получила в мужья незнакомого принца. Мэр Плимута и его приближенные в подбитых мехом алых мантиях ожидали инфанту, замерев в глубоких поклонах. – Добро пожаловать, ваше высочество! – прогремел мэр. – Добро пожаловать в Англию! – Благодарю вас, господа, – ответила Каталина, наклоняя голову. Она разучивала эти слова на борту корабля. По-английски инфанта говорила не слишком хорошо, с сильным акцентом, но намеревалась поработать над этим. Толпа одобрительно гудела. Некоторые с разинутыми ртами глазели на слуг-мавров из испанской свиты инфанты, но большинство толкали друг друга локтями, чтобы получше рассмотреть новую принцессу. Каталина смутилась, сделавшись предметом такого жадного любопытства, хотя и знала: по мнению ее отца, английскому королю повезло заполучить для своего сына невесту из Испании. – Эти люди не могли бы встречать ваше высочество с большей радостью, будь вы самим Спасителем! – воскликнул кто-то из свиты Каталины. Донья Эльвира нахмурилась. Мужчинам не полагалось столь бесцеремонно обращаться к принцессе. Но даже строгая дуэнья была удовлетворена тем, как приняли ее подопечную. – Его милость король шлет вам свои приветствия, моя госпожа, – сказал мэр. – Он с нетерпением ждет момента, когда вместе с принцем Артуром сможет лично приветствовать вас в Лондоне. А пока, чтобы порадовать ваше высочество, подготовлен большой праздник. Каталина была в растерянности: земля продолжала раскачиваться под ногами. Но она не могла допустить, чтобы это помешало ей произвести хорошее впечатление, а на это у нее был особый расчет. – Пожалуйста, поблагодарите от моего имени мэра, – сказала инфанта дону Педро Манрике, который немного говорил по-английски. – Для меня большая честь быть его гостьей. За спиной раздавались голоса матросов, выгружавших с корабля багаж принцессы. Граф де Кабра напряженно следил за тем, как переносили на берег железные сундуки с сотней тысяч крон – первой частью приданого Каталины. Его обязанностью было неустанно охранять эти сокровища. Сияющий и раздувшийся от важности мэр с видимым удовольствием сопровождал инфанту сквозь возбужденную, кричащую от радости толпу к месту торжества. Первые впечатления Каталины от Плимута и его обитателей были ужасны. В Испании она привыкла видеть каменные фасады домов, за которыми скрывались дворики-патио, а здесь целые улицы были застроены вплотную прочными фахверковыми домами. Некоторые, что побогаче, имели в окнах блестящие стекла ромбовидной формы. Соломенные крыши возвышались над верхними этажами и свешивались в узкие, заполненные народом переулки. Запах рыбы в этом кипящем жизнью порту проникал всюду. Каталина видела, как женщины приветствуют возвращающихся домой моряков, целуя в губы – у всех на глазах! Такого не потерпели бы в Испании, где женщины вели почти затворническую жизнь и почитали себя счастливицами, если им дозволялось ухватить краем глаза какой-нибудь отблеск мира со своего балкона. В красивом дворце дворяне и знать Девона почтительно выстроились за длинными, обильно накрытыми столами. Когда в зал вошли Каталина и сопровождавшие ее лица, все низко поклонились, затем зазвучали фанфары и была произнесена молитва. Инфанта почти не прикасалась к еде. Ее все еще подташнивало, пища выглядела странно и на вкус тоже была непривычной; к тому же вуаль мешала с должным изяществом донести пищу от тарелки до рта. Вынужденная разделять трапезу с незнакомыми мужчинами, Каталина чувствовала себя неуютно: в Испании частная жизнь высокородных дев тщательно охранялась, а здесь все свободно глазели на нее. Однако, очевидно, в Англии обычай другой, и ей нужно привыкать к этому. Юная инфанта через своего камергера отвечала на комплименты, которые ей делали, и изо всех сил старалась проявлять обходительность и дружелюбие. Она помнила: ее мать всегда стремилась вызвать расположение людей любого ранга, стараясь, чтобы им было с ней легко. К моменту прощания с добрыми жителями Плимута Каталина уже не сомневалась: они питали теплые чувства к ней самой, а не только к ее высокому статусу. Юная испанка ощущала потребность воздать хвалу Господу за благополучное прибытие в Англию. Покинув дворец, инфанта осведомилась, где она могла бы помолиться. Мэр охотно отвел ее в церковь Святого Андрея, где кругленький и сверх меры восторженный маленький священник отслужил для нее мессу. Полная возвышенных чувств, Каталина преклонила колена и молилась о том, чтобы Его гнев не обратился на нее за тайный грех, совершенный другими ради ее блага, чтобы и дальше у нее в Англии все складывалось так же хорошо, как прошло в Плимуте. На улице принцессу ожидали конные носилки, рядом был готов эскорт из лордов Девона, чтобы сопровождать гостью в Эксетер – место ночлега испанских гостей. Каталина предпочла бы остаться в Плимуте, однако мэр передал донье Эльвире письмо от доктора де Пуэблы: королю Англии не терпится увидеть инфанту, его уже и так заставили ждать достаточно долго, а потому гостье следует торопиться и как можно скорее ехать на восток, в Лондон. Принцесса забралась в носилки и удобно устроилась на расшитых шелковых подушках. Донья Эльвира, хорошо изъяснявшаяся по-английски, распорядилась задвинуть шторы: испанский этикет требовал, чтобы до свадьбы лица невесты королевского дома никто не видел.Каталина не могла уснуть. Флюгер на шпиле церкви Девы Марии и Святого Магнуса рядом с домом настоятеля Эксетерского собора скрипел и кряхтел так, что инфанта послала слугу с жалобой. Однако уснуть ей мешало не только это. Через два дня в чужой стране Каталина плакала, уткнувшись в подушку, от горячего желания оказаться дома, в Испании, возле матери. А подумав о том, что должна чувствовать сейчас сама Изабелла, Каталина зарыдала еще безутешнее, ведь от королевы уехало последнее дитя. – Madre, madre! – сквозь слезы взывала она. Сколько Каталина себя помнила, мать всегда управляла ее жизнью, несмотря на то что у королевы много времени отнимали государственные дела или войны. Не одно столетие Испанией владели мавры, жестокие и дикие, вошедшие в союз с дьяволом. Они заполонили детские ночные кошмары Каталины и страшили ее не меньше, чем Эль Роба-Чикос, о котором говорили, будто он уносит детей в мешке. С молоком кормилицы Каталина впитала истории о том, как сотни лет правители христианских королевств Пиренейского полуострова храбро сражались против мавров, постепенно, пядь за пядью, отвоевывая у них свою землю. Ей рассказывали о великом празднике, когда ее отец, король Арагона, и ее мать, королева Кастилии, поженились и объединили Испанию под своей властью. Оба рьяно стремились к освобождению страны от мавров, и в 1492 году последнее королевство мавров – Гранада – пало к ногам победоносных властителей. Каталине тогда было шесть, но она прекрасно помнила переправу на лошадях через реку Вега с родителями, братом Хуаном и сестрами. Все они благоговейно ждали, когда покажется огромный серебряный крест короля Фердинанда на сторожевой башне дворца Альгамбра, а рядом с ним водрузят королевский штандарт. Это было сигналом для вступления королевской процессии в город. Каталина никогда не забудет клича «За короляФердинанда и королеву Изабеллу!», который повторяли сотни ликующих зрителей. Или того, как отец и мать упали на колени, чтобы возблагодарить Господа за дарование им блистательной победы. Тогда еще все королевские дети были вместе. Печальная Изабелла, одетая во все черное и оплакивавшая своего мужа Альфонсо Португальского – она прожила с ним всего семь месяцев и овдовела, когда он разбился, упав с коня. Хуан, принц Астурии, обожаемый наследник престола – «мой ангел», как называла его мать. Самая красивая в семье, буйная нравом Хуана, страстно желавшая выйти замуж. Благодушная Мария – и Каталина, младшая из всех. Это были счастливые годы. После завоевания Гранады Каталина и ее сестры жили в Альгамбре. Для детей древняя крепость была волшебным местом, им нравилось исследовать старинные дворцы, отделанные разноцветными плитками, с диковинными мавританскими украшениями, павильонами и внутренними дворами, обрамленными галереями из арок, водными садами, прудами и прохладными фонтанами в туче брызг. Когда-то калифы держали там свои гаремы. Вид на горы Сьерра-Невада из дворца Хенералифе, куда на лето выезжали эмиры, был захватывающий. Принцессы-христианки покидали свой летний дом крайне редко, только если дела государственной важности требовали их присутствия. Каталина делала это неохотно. Она снова заплакала, вспомнив те долгие вольные дни в Альгамбре, когда она играла или училась в ожидании далекого будущего. Грустно сознавать, как ты был счастлив когда-то и не понимал этого. Мать, полагая, что принцессам пойдет на пользу хорошее образование, назначила в наставники Каталине благочестивого Алессандро Джеральдини. Он научил ее читать и писать, преподал основы латыни и классиков древности, а кроме того, давал ей книги религиозного содержания, чтобы развить ее ум и научить добродетели. Теперь он приехал в Англию вместе с воспитанницей в качестве ее духовника. У своей дуэньи Каталина научилась шитью и танцам, плетению кружев и сложной испанской вышивке черными нитками по белому полотну. Грехом гордыни было бы заявить, что она стала мастерицей в вышивании, но кое-чему все же научилась. Год, когда ей исполнилось семь лет, был особенным. Незадолго до падения Гранады Христофор Колумб вернулся в Испанию и доложил, что открыл за Атлантическим океаном новый мир. Королева Изабелла дала ему денег на путешествие, поэтому именно к испанскому двору Колумб доставил золото и взятых в плен дикарей. Темнокожие язычники были одеты причудливо, но выглядели испуганными и больными. Каталине больше понравились красивые птицы и растения, что показывал ей Колумб, сверкая глазами в предвкушении грядущих новых путешествий. Наставник объяснил Каталине, как важны открытия Христофора Колумба: турки держат в руках Восточное Средиземноморье, а потому жизненно важно найти новые торговые пути на Восток. Однажды отец Алессандро с мечтательным взглядом сказал, что надеется когда-нибудь посетить этот новый мир и увидеть все своими глазами. Сестры вышли замуж и покинули родной дом раньше Каталины, это было неизбежно. Ей исполнилось десять, когда Хуана спешно отбыла во Фландрию, чтобы стать супругой эрцгерцога Филиппа Красивого, герцога Бургундского; после этого жизнь стала намного тише. Инфанта Изабелла хотела уйти в монастырь и утопить свою печаль в молитвах, но у короля Фердинанда были другие планы, и она была отослана обратно в Португалию, чтобы стать супругой нового короля – Мануэля, кузена ее погибшего мужа. Через три года юная Изабелла умерла, Марию выдали замуж за Мануэля, и Каталина осталась одна. Незадолго до этого ее семью постигла величайшая трагедия. Инфанта все еще горевала о своем брате Хуане, прекрасном рыцаре: он умер четыре года назад в расцвете сил, не успев оправдать возлагавшихся на него надежд. Ему было всего-то девятнадцать лет. Потеряв своего ангела, родители Каталины были безутешны. Нежный Хуан недолго пробыл мужем юной и энергичной Маргариты Австрийской, сестры эрцгерцога Филиппа. До Каталины доходили слухи, что умер он, переусердствовав на супружеском ложе. Она не вполне понимала смысл этого выражения, но с болью в сердце сознавала, как и все остальные, что Испания лишилась наследника-мужчины и теперь наследницей стала Хуана – неуравновешенная, несчастная Хуана. Она с детства отличалась взбалмошностью, а измены мужа превратили ее жизнь в пытку. Королева Изабелла заметно постарела, ее утомили заботы, опустошила скорбь. Когда-то свежее, чистое лицо стало одутловатым, морщинистым, зелено-голубые глаза потускнели от вечной тревоги. И все же для Каталины благочестивая мать оставалась образцом христианской королевы. Есть люди, которые утверждают, мол, не женское это дело – править державой и не пристало женщине брать власть над мужчинами, но Изабелла доказала, что они ошибаются. Она верховодила в королевстве и начальствовала над армиями, не поддаваясь чисто женским слабостям. Каталине рассказывали, что мать родила Марию во время военного похода на мавров и уже через несколько дней снова была в седле. У Изабеллы не хватало времени для семьи, но она всегда любила своих детей, неустанно пеклась об их благополучии и, когда представлялась такая возможность, лично наблюдала за их образованием. Королева заботилась о своих детях, тогда как их хитромудрый, своекорыстный отец больше интересовался теми выгодами, которые отпрыски могли ему принести. Каталину приучили уважать и слушаться отца, но она не любила его так, как мать. Младшая дочь хотела во всем быть похожей на свою родительницу и решила всегда следовать ее примеру. Незадолго до расставания («Боже, не допусти, чтобы навсегда», – молила она теперь) Изабелла сказала: – Из моих детей ты, Каталина, больше всех похожа на меня. Я молюсь, чтобы твоя жизнь сложилась счастливее. В тот миг Каталина почувствовала, трепеща: так и будет, раз уж мать просила за нее Бога. Она не хотела думать о той минуте, когда они скажут друг другу слова прощания. Ее отъезд так часто откладывали, что она почти перестала в него верить. Однако в конце концов настал неотвратимый день, когда она в последний раз преклонила колена перед матерью, чтобы получить благословение, была поднята заботливыми руками и заключена в объятия. При воспоминании об этом Каталина снова заплакала в подушку, терзаемая мучительной тоской. Этой ночью дежурила фрейлина Франсиска де Касерес. Она спала на соломенном тюфяке у изножья кровати Каталины, разметав темные локоны по подушке, но сейчас приподнялась, протирая миндалевидные глаза: – Ваше высочество? Что случилось? Почему вы плачете? Каталина не любила Франсиску, ей гораздо больше нравилась Мария, но нужно было с кем-нибудь поговорить. – Думаю, я немного тоскую по дому. – Она всхлипнула, стараясь успокоиться. – Франсиска, вы скучаете по матери? – Конечно, ваше высочество. Наверное, это было бы неестественно, если бы мы не тосковали. – Вы думаете, мы когда-нибудь еще увидимся со своими матерями? – Вероятно, в ближайшее время нет, ваше высочество. Но принцу Артуру, возможно, когда-нибудь захочется посетить Испанию, или королева Изабелла приедет в Англию. И первое, и второе весьма маловероятно, мрачно подумала Каталина. На ее памяти мать ни разу не покидала Испанию. И вновь принцессу затопило желание оказаться рядом с Изабеллой. «Если я буду продолжать в том же духе, то сойду с ума», – сказала она себе. Ее бабушка лишилась рассудка. Каталина помнила визит к старой королеве Изабелле в мрачный замок Аревало: пожилая дама сказала, что ее преследуют призраки. Для юной Каталины это было страшным испытанием. Воспоминания о встрече с полоумной старухой навсегда врезались ей в память. А сейчас поползли слухи, что Хуана стала еще более неуравновешенной, устраивала истерики и набрасывалась на фламандских придворных дам, потому что Филипп заглядывался на них. «Боже Милостивый, не дай мне кончить тем же!» – взмолилась про себя Каталина. Она приучила себя к мыслям о принце Артуре. Всю жизнь инфанта думала о нем как о своем муже, хотя их брак по доверенности был заключен всего два года назад, а в прошлом году обряд провели повторно, в подтверждение нерасторжимости их союза. Теперь король Генрих намеревался устроить торжественный прием и такую великолепную свадебную церемонию, какой Англия еще не видела, хотя родители Каталины настаивали на умеренных тратах – они не хотели, чтобы из-за их дочери принимающее ее королевство несло убытки. Однако король упорствовал, и Каталина догадывалась почему. Этот брак был ему нужен, дабы узаконить свою власть, ведь он был королем только по праву завоевателя и нуждался в отблеске славы могущественной Испании. Трата целого состояния на свадебные торжества была малой платой за признание Фердинандом и Изабеллой его прав на престол. Каталина понимала: ее отца беспокоило непрочное положение английского короля. Генрих победил Ричарда в битве при Босуорте, тем не менее до Испании доходили сведения, что у прежнего монарха осталось много родственников, готовых оспорить у Генриха корону. Имелись даже претенденты, которые уже пытались лишить короля власти. И все же в прошлом году Фердинанд сказал дочери, что в Англии больше не осталось ни одной капли сомнительной королевской крови и престолу больше ничего не грозит. Инфанте было неприятно вдаваться в раздумья об истинном смысле этих слов, и она старалась отделаться от навязчивых мыслей. Но не так-то просто было отмахнуться от слухов о том, на что пошел король Генрих для достижения своих целей… Каталина снова задумалась: каков собой Артур? На портрете был изображен юнец с розовыми щеками, узкими глазами с тяжелыми нижними веками и надутыми губами, похожими на бутон розы. Он выглядел таким незрелым, по-девичьи нежным и совсем не походил на царственного героя, какими их описывают люди. «Но портреты часто лгут, – нашептывал невесте внутренний голос. – Как и люди». Она не станет никого слушать и принимать сомнения близко к сердцу. Ночью чего только не придет в голову, а утром все будет выглядеть по-другому. Флюгер, к счастью, больше не скрипел. Франсиска тихонько посапывала, и Каталина решила последовать ее примеру. Она перевернулась на спину и смежила веки, стараясь думать только о приятном.
В Догмерсфилде Каталина так иззябла, что ей никак не удавалось унять дрожь. Верхние покои во дворце епископа отапливались камином, пламя с ревом рвалось в трубу. Инфанта записывала английские фразы, сидя за столом перед камином, но пока одна сторона ее тела, ближайшая к огню, согревалась, другая промерзала до костей. Когда Каталина наконец заставила себя встать, чтобы справить нужду за ширмой в дальнем углу, зубы у нее стучали. Тепло очага не могло побороть холода каменных стен. Зима решительно вступала в свои права, и Каталина с удвоенной силой гнала от себя навалившуюся тоску по теплой Испании. Как она вынесет долгие месяцы этой кусачей, промозглой погоды? В опочивальне с жарко горящим камином было лишь немного теплее. Мария принялась готовить Каталину ко сну и только успела расшнуровать ее платье, как послышался громкий топот множества копыт по булыжной мостовой под окнами. Поднялась суматоха, потом до них донесся сердитый мужской голос. В опочивальню ворвалась донья Эльвира; ее обычно холодно-суровое лицо пылало, а осанистая фигура излучала ярость. – Король и принц Артур здесь! – хриплым голосом, тяжело дыша, провозгласила дуэнья. Каталина затрепетала – вот-вот она увидит их! – Его величество ведет себя возмутительно! – пыхтела донья Эльвира, не обращая на нее внимания. – Мы сказали ему, что ваше высочество удалились почивать, но он заявил, что хочет вас видеть. Я ответила, что вы не можете видеться ни с кем, так не положено, а он посмотрел на меня таким злобным взглядом, будто я вас похитила и прячу от него. Достаточно неприятно было услышать, что король разгневан, но еще тревожнее было другое: мнение доньи Эльвиры оказалось не таким уж непререкаемым, как привыкла считать Каталина. Основы мироздания вдруг сдвинулись с места, земля закачалась под ногами инфанты. Но принимать это в расчет не следовало, главное – не нанести обиды королю во время их первого, решающего свидания. Будущее принцессы покоилось в его руках, он был здесь полновластным правителем, и ей нужно было считаться с этим больше, чем кому бы то ни было другому. О чем только думает донья Эльвира? – Я должна пойти к его величеству, если он этого требует, – сказала инфанта. – Мария, пожалуйста, зашнуруй мое платье снова. Та начала исполнять повеление, но донья Эльвира остановила ее гневным жестом. – Ваше высочество останется здесь! – постановила дуэнья, болезненно изумленная таким внезапным и противным обычаю непослушанием. – Этот английский король – грубый, неотесанный мужлан. Ваша мать предупреждала меня, чего стоит ожидать, но он не проявляет уважения к испанским обычаям! Он потребовал от меня ответа, почему я не позволяю ему увидеться с вами, и когда я объяснила, спросил: «Что не так с принцессой? Она дурна собой или уродлива?» Ваше высочество, я бы не стала повторять его слова, но вам следует знать. Дело шло все хуже. Донья Эльвира должна была понять, что они теперь в Англии и здесь не следует так уж цепляться за испанские представления о приличиях. Заносчивость дуэньи грозила разрушить шаткое равновесие, достигнутое годами осторожных дипломатических переговоров. – Я сказала ему, – продолжила донья Эльвира, – что в Испании юная дама появляется перед мужчиной только под вуалью. Я объяснила, что вы готовитесь ко сну. И знаете, что он ответил? Сердце Каталины упало. – Он заявил, что это Англия и он увидит вас, даже если вы уже легли в постель. Какой стыд! Мы оказались среди дикарей! Это нужно было прекратить. – Донья Эльвира, – твердо сказала Каталина, – король – мой свекор, и это его страна. Мы должны слушаться его приказаний и соблюдать английские обычаи. Я умоляю вас, не думайте обо мне плохо, но я должна выполнить его повеление. Донья Эльвира посмотрела на нее так, будто у нее на глазах ягненок впервые заблеял. Последовала короткая напряженная пауза, потом дуэнья произнесла: – Я не глупа, ваше высочество. Я не осмелилась и дальше перечить королю, даже ради соблюдения приличий, а потому сказала, что вы примете его. У меня не было выбора, как вы говорите! Мария, зашнуруй платье и принеси мне вуаль. Восстановив свой авторитет, дуэнья взяла гребень и без особой нежности принялась водить им по волнистым, длиной до бедер, золотисто-рыжим волосам Каталины. Инфанта терпеливо сносила это, поглядывая на себя в зеркало. Что бы ни говорила дуэнья, если король попросит ее приподнять вуаль, она сделает это. Мать, конечно же, все узнает – донья Эльвира усердно строчила отчеты, – но Каталина верила, что Изабелла поймет ее. Она согласится с тем, что ее дочь должна была исполнить желание короля Генриха. Каталина смотрела на свое отражение, сердце ее стучало, и теперь она дрожала не только от холода. Ей оставалось лишь робко надеяться, что королю Генриху и принцу Артуру понравится ожидающее их зрелище. Милое круглое личико, решительный маленький подбородок, нежные серые глаза, мягко очерченные губы и чистый лоб. – Если он будет настаивать, чтобы вы подняли вуаль, ваше высочество, не забудьте, как нужно блюсти скромность взгляда, – внушала донья Эльвира. – Опустите глаза долу, как приличествует скромной девушке! И не поднимайте их. Каталина мигом была приведена в порядок, вуаль вернулась на место. Мария игриво улыбнулась принцессе и быстро спустилась вниз, чтобы поклониться королю и пригласить его подняться в покои своей госпожи. Один удар сердца – и Каталина окажется лицом к лицу со своей судьбой. И вот в комнату уже входит жизнерадостный граф де Кабра, угодливо кланяется; вместе с ним появляется высокий мужчина средних лет, в костюме для верховой езды, в теплой накидке и сапогах. Лицо у него угловатое, нос выдается вперед, как клюв, седеющие песочного цвета волосы рассыпаны по меховому воротнику, а проницательный взор устремлен на нее почти с жадностью. Дорогие меха и бархатная шляпа, украшенная самоцветами, – невозможно было сомневаться, что перед инфантой стоял его величество король Генрих VII Английский, первый правитель из дома Тюдоров. Инфанта опустилась на колени, свита последовала ее примеру. – Добро пожаловать в мое королевство, принцесса Кэтрин, – произнес король. Граф перевел его слова. Генрих выступил вперед, взял Каталину за руки и поднял ее. Голос у него был высокий, но мужественный, притом довольно мелодичный. Каталине говорили, что в его жилах течет валлийская кровь – от предков по отцовской линии, а валлийцы были известны своей музыкальностью. Не успела Каталина ответить, как король отпустил ее руки, приподнял вуаль – и улыбнулся. – Послы не лгали, – удовлетворенно произнес он. – Я наслышан о богатствах Испании, но здесь находится ее бесценное сокровище. Ваше высочество, мы вдвойне рады видеть вас благодаря вашей красоте и миловидному лицу. Король поднес к губам ее руки и поцеловал их, а дон Педро Манрике тем временем перевел его слова. – Благодарю вашу милость, – пролепетала Каталина, повторяя разученную недавно фразу, и улыбнулась, не обращая внимания на каменное лицо доньи Эльвиры. – Мне говорили, что вы не похожи на настоящую испанку, – сказал ей Генрих. – Судя по рыжим волосам, вы пошли в Ланкастеров, как я и Артур. По Божьей воле вы так же похожи на англичанку, как мы! Родство очевидно, потому как все мы происходим от старика Джона Гонта и короля Эдуарда Третьего! Я не мог бы найти более подходящей пары для своего сына. – Я очень горжусь своей английской королевской кровью, – произнесла по-испански Каталина. – Меня назвали в честь моей прабабки Каталины Ланкастер. – Дочери Гонта! Хорошо, хорошо. Но вы не должны позволять старику отвлекать вас от мужа! – весело воскликнул король, отходя в сторону и уступая место юноше, который в окружении нескольких лордов стоял в дверях. Поначалу Каталина испугалась, хотя сумела удержать на лице улыбку. Перед ней стоял мальчик с портрета – немного повзрослевший и все-таки другой. Принц Артур был высок и рыжеволос, как и его отец, к тому же источал уверенность в себе, свойственную рожденным на троне, однако плотная дорожная одежда не могла скрыть хрупкость его членов. Платье висело на нем. Даже при свечах инфанта заметила, что на бледных щеках юноши вместо румянца горят лихорадочные красные пятна. Каталина вновь преклонила колена. Артур неуверенно улыбнулся ей, учтиво поклонился и поднял ее. Руки у него оказались холоднее, чем у нее. Потом он наклонился и быстро коснулся губами губ своей невесты, точно так же, как у нее на глазах делали люди в Плимуте. Ей тогда объяснили, что в Англии так принято. Каталина не смела взглянуть на донью Эльвиру. Артур на латыни спросил ее, хорошо ли прошла поездка. Голос его звучал звонко и мелодично. Она заверила принца на том же языке, что все сложилось как нельзя лучше. – Повсюду в Англии меня принимали очень тепло. – Я слышал, ваше высочество чудом избежали кораблекрушения, – заметил Артур. – Мы все очень тревожились и испытали облегчение, получив известие, что вы счастливо добрались до берега. – Это было страшное испытание, – призналась Каталина, ища в его лице хоть искру тепла, какой-нибудь намек на то, что он находит ее привлекательной. – Но теперь вы здесь. Они неловко улыбнулись друг другу. Надо было сказать что-нибудь еще, но тут король пришел к ним на помощь и позвал всех выпить вина, чтобы отпраздновать эту счастливую встречу и обсудить пышные свадебные торжества, которые он планировал устроить. Артур говорил мало. Вежливо поинтересовался, удобно ли она устроилась и что думает об английской пище, произнес еще несколько любезностей в том же духе. Каталину расстроила его сдержанность. По сравнению с сердечным приемом, оказанным королем Генрихом, супруг отнесся к ее появлению довольно прохладно. Она подумала о письмах, которые он присылал, полных томительного ожидания встречи. Да он ли их сочинял? Или она разочаровала его? Она не чувствовала в Артуре никакого пыла, ни единого признака страсти, какую ее брат Хуан питал к своей невесте. Зато она заметила в принце то, что у Хуана обнаружили слишком поздно, – признаки слабого здоровья. Ее супруг выглядел неважно, она даже испугалась, не страдает ли он какой-нибудь страшной болезнью. Тем не менее этого молодого человека она была обязана полюбить как своего мужа. Мать сказала Каталине, что от нее самой зависит, покорит ли она его сердце. – Вы, наверное, утомились, пока добирались сюда, сударь, – сказала она, подумав, что латынь звучит слишком напыщенно, и решив как можно скорее выучить английский. – Здесь холодно, и земля, должно быть, застыла, так что трудно скакать на лошади. – Я промерз до костей, ваше высочество, – признался Артур. – Думаю, после Испании Англия кажется вам очень холодной страной. – Это так, но я уже начинаю любить Англию. Это была не вполне правда – во время поездки Каталина мало что успела увидеть. Лишь изредка, когда приоткрывались занавески, ей удавалось краешком глаза углядеть хоть что-нибудь. Однако то была политика, и однажды, если будет угодно Господу, ее утверждение станет правдой. – Подойдите к огню, мой господин, – пригласила она. Король с одобрением наблюдал, как они вместе идут по комнате. Артур принял бокал вина, отхлебнул из него и закашлялся. – С вашим высочеством все в порядке? – забеспокоилась Каталина. – Зимняя простуда, ничего больше, – ответил он и снова кашлянул. – Надеюсь, скоро вам станет лучше! – подбодрила его принцесса. – Ваше высочество очень добры. Простите меня, если я приветствовал вас не так тепло, как следовало бы. Меня утомили поездка в Истхэмпстед, где я встретился с моим отцом-королем, и обратный путь. Скоро я приду в себя и стану более приятным собеседником. Надеюсь. Я рад, что вы здесь. Принц вспыхнул, и Каталина ощутила к нему более теплое чувство. Она приняла усталость и, возможно, робость за безразличие. Мир ее снова обрел равновесие: даст Бог, все будет хорошо.
Разошлись все только после полуночи. Каталина была безмерно довольна собой. По просьбе короля она призвала своих музыкантов развлекать его и Артура. Под мелодичные звуки гобоев и свирелей она и ее фрейлины танцевали медленную, величавую паванилью с двумя тактами на шаг. Выпив вина и отведав засахаренных фруктов, Артур немного взбодрился и захотел присоединиться к ним, поэтому Каталина и дамы из ее свиты научили его с достоинством исполнять баху. По окончании танца все зааплодировали, а принц поцеловал руку своей суженой. Когда на следующее утро он уезжал, то выглядел немного лучше. – Прощайте, моя госпожа. Я буду с нетерпением ждать вас в Лондоне. Она сделала реверанс, он наклонился поцеловать ей руку и вышел, чтобы присоединиться к отцу и их свите. Сердце у Каталины щемило. Бедный мальчик, он сильно болен! «Боже, верни ему здоровье!» – безмолвно молилась она.
Глава 2 1501 год
Скоро они будут в Лондоне. Ближайшую ночь проведут в Кингстоне, а назавтра окажутся во дворце архиепископа Кентерберийского в Ламбете, к югу от великой реки Темзы. Кавалькада следовала вдоль русла по волнистым холмам Суррея. Зимний пейзаж был угрюм, небо сплошь затянуто облаками, а в воздухе кружились едва заметные снежинки. Каталина зябко поеживалась в своих носилках, закутанная в меха до самого подбородка, и хотела только одного – согреться. Вдалеке слышался шум приближающегося отряда всадников. Они были уже совсем рядом, и, выглядывая наружу сквозь узкий зазор между кожаными занавесками, Каталина видела целую армию красно-черных ливрей. Возглавляли процессию два человека, одетые более нарядно: молодой мужчина и мальчик. Оба держались в седлах горделиво и прямо. Подъехав вплотную, мужчина – румяный и дородный джентльмен в бархатной накидке, подбитой и окантованной собольим мехом, – сделал отряду знак остановиться. – Господа, мы ищем принцессу Уэльскую! – выкрикнул он. – Его милость король послал нас встретить ее и сопроводить вместе со свитой в Ламбет. – Я здесь, сэр. – Каталина отодвинула занавески носилок. Граф де Кабра подошел и встал рядом, чтобы исполнять роль переводчика. Мужчина и мальчик немедленно спешились, сняли украшенные перьями шляпы и встали на колени прямо на дороге. – Эдвард Стаффорд, герцог Бекингем, к вашим услугам, моя госпожа, – торжественно произнес румяный мужчина. – Имею честь представить вам принца Генриха, герцога Йоркского, второго сына короля. Каталина обратила взгляд на юношу, стоявшего на коленях рядом с герцогом: хорошо развитый для своих лет паренек с пухлыми розовыми щеками, узкими глазами и похожими на бутон розы, как у Артура, губами. Только Артур был бледным и худым, а его брат – крепким и пышущим здоровьем. Даже коленопреклоненный, он источал жизненную энергию и самоуверенность. Не приходилось сомневаться в том, что это действительно принц. Каталина попросила их подняться, отметив про себя, что накидка Генриха была великолепного алого цвета, с опушкой из горностая, и что он во весь рот улыбался ей, дерзкий бесенок! – Добро пожаловать в Англию, ваше высочество! – Голос у Генриха еще не начал ломаться, но все равно звучал внушительно. – Принц, мой брат, шлет свои приветствия и поручил мне сказать, что он в нетерпении считает дни до свадьбы. Дерзким взглядом Генрих давал понять, что сам на месте Артура считал бы их с еще большим остервенением. Сколько лет этому мальчишке? Конечно, он не мог быть на пять лет моложе Артура, хотя Каталина не сомневалась, что слышала именно это. Он вел себя так, будто ему уже шестнадцать, а не десять! – Стоит вашему высочеству удобно устроиться в носилках, и мы сопроводим вас в Кингстон, – произнес герцог Бекингем. – Темнеет быстро, и вам лучше поскорее оказаться под кровом. Если вам что-нибудь понадобится, только скажите. Каталина поблагодарила его, задвинула шторки и снова плотно закуталась в меха. Принц Генрих вызвал у нее легкое беспокойство. Он был красивым юношей, очаровательным, вне всякого сомнения, и даже в это краткое свидание успел показать, что стоит выше этикета. Артур был сдержанным и робким, и Каталина постоянно думала о том, что все могло бы пойти иначе, будь она обручена с его братом. Не принесло бы ей обручение больше радости? Волнения? Даже размышляя об этом, Каталина чувствовала себя вероломной предательницей. Как могла она лелеять такие мысли о десятилетнем ребенке? И все же было так просто увидеть в этом мальчике будущего мужчину. А осознание того, с какой легкостью мог затмить Артура младший брат, вызывало тревогу. Оставалось молить Господа, чтобы принц Генрих оказался не слишком честолюбивым!Каталина стояла спокойно, насколько ей позволяло внутреннее волнение, пока донья Эльвира и фрейлины готовили ее к торжественному въезду в Лондон. Надев на принцессу дорогие испанские сорочки, над украшением которых потрудились златошвеи и вышивальщицы, они помогли ей управиться с широкими обручами «корзинки», зашнуровали киртл так плотно, что едва оставили ей возможность дышать, потом натянули на нее тяжелое бархатное платье с рукавами в форме колоколов и длинной сборчатой юбкой. Критически оглядывая себя в зеркале, Каталина ловила взгляды Марии, а ее подруга прятала улыбку. – Из-за всего этого я выгляжу квадратной. Я слишком мала ростом для такого наряда. Почему я не могу надеть английское платье? Донья Эльвира была потрясена. – Потому что они непристойны, ваше высочество! – отрезала дуэнья. Она не таила своего ужаса перед видом английских женщин, одетых в платья, не скрывавшие очертаний фигуры, с широкими вырезами и без всяких обручей. – Кроме того, это платье выбрала для вас ваша почтенная матушка-королева. Она самое дорогое! Донья Эльвира была не в духе. Валики жира под ее подбородком ходили ходуном. Она уже проиграла битву по поводу носилок. Каталина намеревалась проехаться по Лондону на коне, чтобы люди могли ее видеть. Принцесса настояла на своем, но донья Эльвира решилась восстановить свой авторитет. – Вы должны носить и это тоже! – распорядилась она. «Это» была маленькая шляпка с плоской тульей и широкими полями, как у кардиналов. Дуэнья водрузила ее на голову подопечной поверх богато расшитого венецианского чепца и завязала золотой шнурок под подбородком. Никто, к счастью, не вспомнил о вуали. Благодарение Господу, ноябрьское небо посветлело и было не слишком холодно. Каталина постепенно привыкала к английскому климату, а потому подумала, что вытерпит поездку без накидки. Она хотела выглядеть перед горожанами как можно лучше. Это будет ее день. Король, королева и принц Артур не сыграют в нем особой роли. За огромными дверями Ламбетского дворца испанская свита Каталины – прелаты, сановники, знать и рыцари, все в ее честь обряженные в наилучшие платья, – выстроилась в процессию. Принцессу ожидала покрытая яркой попоной лошадь в пестрой сбруе, к седлу было пристроено широкое мягкое сиденье. Каталина остановилась рядом, стараясь блюсти достоинство. Вперед выступил неприятного вида человечек с сутулой спиной, редкой бородкой, крючковатым носом и в накидке из желтого дамаста. Донья Эльвира в высокомерной и пренебрежительной манере представила его как доктора де Пуэблу. Человечек низко, с большой учтивостью поклонился, и Каталина протянула ему руку для поцелуя. В качестве посла ее отца при дворе короля Генриха доктор де Пуэбла сделал очень много для того, чтобы она сегодня оказалась здесь, – насколько много, ей, вероятно, никогда не доведется узнать. Как же глубоко, наверное, замешан де Пуэбла в темных делах, которые сделали возможным ее брак! У него наверняка имеются свои секреты. Однако он ловкач, в этом сомневаться не приходилось, и ей следовало быть ему благодарной. Более того, Каталине стало жаль его, такого неказистого. Она понадеялась, что дуэнья ополчилась на него не из-за внешности. – Я буду сопровождать ваше высочество, – сказал инфанте де Пуэбла. Он заслужил эту честь. Когда Каталина уселась на лошадь, согбенный доктор не без труда взобрался на своего коня, и процессия неспешным торжественным шагом двинулась вдоль реки в Саутуарк. По пути де Пуэбла указывал на важные места Лондона. На противоположном берегу реки располагалось величественное Вестминстерское аббатство, возвышавшееся над остроконечными крышами Вестминстерского дворца. – Здесь возводят на трон английских королей, ваше высочество. А вот там, впереди, на той стороне, видите, вдоль берега – дома знати и Стрэнд, дорога, которая ведет в город. Домов было много, рядом с каждым сбегал к реке красивый сад. А за ними, как сказали Каталине, Судебные инны и прекраснейший монастырь Черных Братьев – доминиканцев. Над городскими крышами возвышался собор Святого Павла – внушительное здание с мощным шпилем, очевидно самая большая церковь в этом море стрельчатых пиков. Справа располагался еще один крупный монастырь – Сент-Мэри-Овери. Сразу за ним виднелся Лондонский мост. По обе стороны проезжей части моста стояли впритык лавки, дома и даже маленькая церквушка! Каталина почувствовала, что начинает проникаться симпатией к доктору де Пуэбле: он оказался знающим и словоохотливым провожатым, дружелюбным вопреки неприятной внешности. – Мост соединяет город с тем берегом Темзы, который называется Суррей, – объяснял доктор, пока они переезжали через него, прокладывая себе путь сквозь толпу. Огромная надвратная башня на другой стороне моста служила въездом в город. Проехав через ворота, Каталина попала наконец в Лондон. Принцессу тут же окружили толпы сгоравших от нетерпеливого любопытства горожан, которые отчаянно толкались, чтобы получше ее разглядеть. Повсюду, куда бы она ни взглянула, из окон высоких, весьма богатых по виду домов свешивались разноцветные флаги и гобелены, а уши ее едва не разрывались от бесконечного радостного перезвона колоколов. Церквей тут, похоже, были сотни. Шум приветствий оглушал, однако Каталине было обидно, что некоторые простолюдины смеялись над нарядами ее свиты и, тыча пальцами в крещеных мавров, кричали: «Вон эфиопы, они как черти из преисподней!» Продвижение вперед замедлилось из-за напора горожан. Шесть раз за время пути Каталина останавливалась, чтобы полюбоваться сложными живыми картинами, устроенными в ее честь. Этот город, должно быть, и правда не бедствовал, раз мог позволить себе такие траты: украсить площадки, где давались представления, цветастыми геральдическими щитами и нарядить в святых и мифических героев множество людей, которые громко прославляли свою будущую королеву музыкой и стихами. При виде огненного валлийского дракона, усевшегося на крышу бутафорского замка, Каталина изумленно ахнула и пришла в себя только после того, как ей сказали, что это изображение красного дракона правителя Кадваладра, полулегендарного валлийского предка короля. Петляя, процессия по Фенчёрч-стрит добралась до Корнхилла, а потом – до Чипсайда. Тут Каталина заметила короля Генриха и принца Артура: они наблюдали за ней из окон красивого дома. Король приветственно поднял руку, принц поклонился. Рядом с ними стояла полная женщина с добрым лицом, одетая в бархатный чепец с длинными наушниками, напоминавший очертаниями треугольный фронтон дома; она смотрела вниз и улыбалась Каталине. Должно быть, это королева Елизавета, догадалась та. Королева переписывалась с ее матерью, говорила, что ждет не дождется, когда Каталина станет ее дочерью, обещала заботиться о ней с любовью. Каталине тоже не терпелось познакомиться с королевой Елизаветой. Выглядела та очень мило, и, конечно, окружающие тоже так думали: многие приветствовали ее одобрительными возгласами. Кавалькада остановилась рядом с искусно выточенным каменным крестом. Лорд-мэр Лондона, возглавлявший многочисленную депутацию господ в меховых накидках и с тяжелыми золотыми цепями на шее, произнес для Каталины формальное «добро пожаловать в Лондон». Это были олдермены и шерифы города, а также представители богатых ремесленных и торговых гильдий. Лорд-мэр говорил, доктор де Пуэбла переводил. – Вашему высочеству, вероятно, любопытно будет узнать, что этот крест установлен королем Эдуардом Первым в честь его возлюбленной супруги королевы Элеоноры Кастильской, которая состоит в числе предков вашего высочества. После ее смерти король воздвиг тринадцать крестов в тех местах, где оставалось в течение ночи ее тело на пути в Вестминстерское аббатство. Мы молимся о том, чтобы брак вашего высочества с нашим принцем был таким же счастливым. Когда мэр и знатные граждане закончили выражение верноподданнических чувств, Каталина со свитой проследовала в собор Святого Павла, где через два дня должно было состояться ее бракосочетание. Здесь она преклонила колена в холодном просторном нефе, и дневные торжества увенчались великолепным благодарственным молебном. Вернувшись в Ламбет, Каталина с удовольствием приняла кубок вина и пригласила фрейлин присоединиться к ней у камина. Все были преисполнены радостного возбуждения и восторга от впечатлений дня. – Эти живые картины! – воскликнула Исабель де Варгас. – Они, наверное, обошлись королю в целое состояние. – Они были прекрасны, – согласилась Каталина, потом увидела игриво приподнятые брови Марии и расхохоталась. – Ты тоже заметила! Дамы, в одной из картин архангел Гавриил напомнил мне, что моя главная обязанность – родить детей, потому что ради этого Бог даровал людям способность к чувственным наслаждениям. А в другой человек, одетый как наш Господь, предстал передо мной и сказал: «Благословен будь плод чрева твоего; Я сделаю многочисленным твое потомство». Если я раньше и сомневалась, то теперь знаю точно, чего здесь ждут от меня. Но, ох, как горят щеки! В Испании о таких вещах никогда не сказали бы открыто!
В замке Бейнардс на Темзе в огромном зале, стены которого были увешаны гобеленами, Каталина была принята свекровью, королевой Елизаветой, окруженной фрейлинами с вышиванием в руках. – Не могу выразить, как я рада видеть вас, ваше высочество, – по-французски сказала королева, поднимая Каталину и целуя в обе щеки. От Елизаветы пахло розовой водой и амброй. – Я с нетерпением ждала встречи с вашей милостью, – ответила Каталина. Все последние дни она упорно занималась английским и теперь понимала многое из того, что говорили вокруг, но изъясняться самой было труднее. – И я тоже жаждала увидеться с вами. Пойдемте присядем и познакомимся ближе. Королева подвела Каталину к сиденью со множеством подушек, устроенному в нише под окном. Легко было заметить, что Елизавета Йоркская, золотоволосая и белокожая, когда-то была женщиной исключительной красоты. Она и сейчас выглядела прекрасно, однако лицо ее поблекло и казалось усталым. – Надеюсь, вы устроились удобно? – Да, ваша милость, благодарю вас. – Отныне вы должны считать меня своей матерью, дитя мое. – Елизавета улыбнулась ей. – Если у вас возникнет нужда в чем-нибудь или вас что-то обеспокоит, приходите ко мне, я постараюсь помочь. Король прислушивается к моему мнению. Скоро вы познакомитесь с его матерью, леди Маргарет. Она тоже ожидала вашего приезда. Ее главное желание – видеть всех наших детей счастливо устроенными и ни в чем не нуждающимися. Каталина слышала о леди Маргарет. Слава о ней как об ученой и праведной женщине докатилась даже до Испании. – Ваше высочество уже встречались с моим сыном Генрихом. – Королева снова улыбнулась. – Он плутишка! Артура, когда тот был маленьким, отправили в замок Ладлоу на границе с Уэльсом, чтобы он научился управлять графством – своим владением. Это хорошая подготовка к восшествию на престол, тем не менее расставание с ним, конечно, было тяжелым испытанием. А вот Генрих рос под моим присмотром вместе со своими сестрами. Вам понравятся Маргарита и Мария. Маргарита ненамного моложе вас, ваше высочество, она станет королевой шотландцев. – А принцесса Мария? – Ей всего пять. Мы должны подождать, а там увидим, как распорядится Господь. У меня было еще двое детей, но, увы, Богу угодно было забрать их к себе. Эдмунд ушел от нас в прошлом году. Ему был лишь год и три месяца. – Голос королевы дрогнул. «Неужели это Божья кара? – подумала Каталина. – Грехи отцов, которые пали на их детей?» Забыв об этикете, она накрыла ладонью руку королевы: – Моя мать тоже потеряла двоих детей – совсем маленьких. И когда умер мой брат Хуан, она была в большой печали. – Это, наверное, самый тяжелый крест, который нам приходится нести. Мы сами были потрясены, когда услышали эту новость. – Елизавета пожала руку Каталины. – Но сегодня давайте поговорим о более веселых вещах, ведь завтра ваша свадьба, готовятся большие торжества и будет много разных увеселений! Леди Гилдфорд говорит, что вы любите танцевать. Она была в свите короля в Догмерсфилде и видела, как вы искусны в этом. – Я люблю танцевать! – воскликнула Каталина. – Вы знаете какие-нибудь английские танцы? – Королева поднялась. – Нет, ваша милость. – Тогда я вас научу кое-чему! Хлопнув в ладоши, Елизавета велела своим фрейлинам отложить вышивание и вызвала музыкантов. Каталину очаровала ее непосредственность и теплота. Мать самой инфанты никогда не вела себя так непринужденно, даже со своими детьми. Вскоре королева и ее дамы уже водили Каталину скользящим шагом по выложенному плиткой полу, показывая ей танец бранль, и заставляли подпрыгивать, исполняя живую сальтареллу. Вечер вышел чудный. Давно Каталина не получала такого удовольствия. Когда пришла пора прощаться, королева Елизавета взяла невестку за руку: – Я знаю, вы станете хорошей женой Артуру. Будьте с ним терпеливы и добры. Он плохо себя чувствовал и сейчас сам не свой. Считает мое беспокойство напрасным, но мы все молимся о его скорейшем выздоровлении. Елизавета говорила непринужденно, однако Каталина уловила тревогу в ее голосе. – Я уверена, он поправится, – произнесла она, желая успокоить королеву. – В Догмерсфилде он говорил, что ему становится лучше. Елизавета поцеловала ее и добавила: – Благослови вас Бог за ваше доброе сердце. Каталина вернулась в Ламбетский дворец уже после полуночи и занялась последними приготовлениями ко дню свадьбы. Все должно пройти хорошо. Она встала на колени и произнесла молитвы, поблагодарив Господа и Его Святую Мать за их благоволение, а себя утешила мыслями о том, что с ней рядом будет Елизавета. Королева поможет невестке подготовиться к роли, которую та однажды начнет выполнять, и познакомит с явными и тайными сторонами жизни при английском дворе. Спала Каталина урывками, так как была слишком взволнована и не могла расслабиться. Завтра она станет замужней женщиной, ее посвятят еще в одну тайну. Перспектива торжественных церемоний и ожидание того, что за ними последует, переполняли принцессу волнением. Наконец ей стало невмоготу лежать в постели и ворочаться с боку на бок. Она встала, вновь преклонила колена у аналоя и упорно молилась о даровании ей сил справиться со всем, что ей предстоит.
В утро свадьбы, 14 ноября 1501 года от Рождества Христова, Каталина поднялась с рассветом, чтобы облачиться в наряд невесты. Подвенечное платье было из белого и золотого атласа, плиссированное, с широкой юбкой. Чудесные золотистые волосы инфанты следовало распустить в знак непорочности, а на голову ей донья Эльвира возложила усыпанный драгоценными камями венец и накинула поверх него необъятных размеров шелковую вуаль, отделанную по краю золотом, жемчугом и самоцветами. Взглянув в зеркало, Каталина увидела нечто вроде иконы в роскошном убранстве. Когда она показалась из Ламбетского дворца, раздались восхищенные возгласы ожидавших ее придворных. – Принцу Артуру действительно повезло получить такую невесту! – заметил доктор де Пуэбла, низко кланяясь. – Мы все гордимся вашим высочеством. Где-то сзади хмыкнула донья Эльвира. Каталина обернулась, но лишь мельком заметила презрительный взгляд, которым дуэнья одарила посла. Однако времени на размышления, отчего она так плохо относится к де Пуэбле, небыло: у пристани новобрачную уже ожидала целая флотилия барок, готовых доставить ее с приближенными в Тауэр, где должны были собраться члены королевской свиты. Вдоль Темзы толпились люди, они махали руками и выкрикивали приветствия. Тем не менее, когда впереди из утреннего тумана выступили очертания серой, построенной на самом берегу крепости, Каталина сделала над собой усилие, чтобы сдержать дрожь. Именно сегодня ей совсем не хотелось думать о том, что она слышала об этом месте. А потому, когда барка причалила у лестницы Королевы и принцесса вошла в Тауэр через маленькую боковую дверь, все ее внимание сосредоточилось на пылкой приветственной речи констебля – управляющего королевским замком. Он проводил Каталину на широкую турнирную площадку прямо под белой громадой главной замковой башни – башни Цезаря, потому что, по словам констебля, ее построил Юлий Цезарь. Здесь стояли король с королевой и их свита, готовясь проследовать в собор Святого Павла. Каталина сделала глубокий реверанс. Генрих и Елизавета сообща заключили ее в объятия. – Ваше высочество, вы прекрасная невеста! – воскликнула королева. Король оценивающим взглядом посмотрел на инфанту: – Лучшего мы и желать не могли. Вам все это очень к лицу! Каталина вспыхнула. Генрих и сам был великолепен: красная бархатная мантия, усыпанный алмазами, рубинами и жемчугом нагрудник, пояс тоже украшен рубинами. В собор Святого Павла Каталина ехала в открытой коляске вместе с королевой Елизаветой. Король возглавлял процессию верхом на прекрасном белом коне. Вновь вскипели ликующие толпы, улицы были украшены так же, как и два дня назад во время встречи принцессы. К удивлению Каталины, из уличных фонтанчиков для питья лилось вино: как объяснила королева, это было бесплатно, чтобы все люди тоже могли повеселиться. – Сегодня будет много веселья, а завтра – больных голов, – скривив губы, проговорила Елизавета. Давка в соборе Святого Павла была страшная, колокола звонили оглушительно. Все высадились у примыкающего к собору епископского дворца, где свадебный поезд ждала леди Маргарет. Ее фигура в черном платье и белом вдовьем вимпле выглядела мрачной, а вытянутое худое лицо казалось суровым. Но впечатление изменилось, когда при виде Каталины она расплылась в довольной улыбке. Принцесса не позволила этой почтенной женщине вставать перед ней на колени, леди Маргарет расчувствовалась, и глаза ее заблестели от слез. – Милая принцесса, это счастье, что вы с нами. – Она поцеловала Каталину. Король энергично кивал, выражая одобрение: – Пойдемте, моя почтенная матушка. Мы должны занять свои места. Он повел королеву с леди Маргарет к двери, ведущей в собор. Каталина на несколько мгновений осталась одна со своей свитой. Мария быстро взяла ее за руку, невеста глубоко вдохнула и приподняла подбородок. Тут дверь распахнулась, и вошел принц Генрих, в платье из серебристой ткани, расшитой золотыми розами; выглядел он великолепно. И снова от него дохнуло уверенностью в себе, так поразившей Каталину при первой встрече. – Я пришел проводить ваше высочество в собор. – Он припал на колено и поцеловал ее пальцы. Потом быстро поднялся и предложил Каталине руку. Принцесса была невысокая, так что они с Генрихом оказались почти одного роста; она ясно ощущала его близость и силу его руки. Это действительно был необыкновенный мальчик. Под звуки труб, гобоев и свирелей они вышли из епископского дворца. При виде Каталины люди впадали в неистовство, выкрикивали благие пожелания и шумно выражали свое одобрение. У западного входа стояла сестра королевы Сесилия Йоркская – она должна была нести шлейф невесты. За ее спиной вдоль западной стены храма выстроились английские леди – их, наверное, была целая сотня, и все в роскошных нарядах. Собор уже был полон гостей. Вдоль нефа от западного входа до перекрестья шел высокий помост, накрытый мягким ковром из красной шерсти, чтобы все могли лицезреть совершение этого брака, который принесет славу династии Тюдоров и обеспечит ее продолжение. Зазвучали трубы, принц Генрих снова предложил Каталине руку. Они поднялись по ступенькам на помост и медленно двинулись по нему. С одной стороны Каталина увидела короля и королеву: со своего места, отгороженного решеткой, они с пристрастием наблюдали за публикой – все ли внимание приковано к новобрачным. По другую сторону разместились лорд-мэр и другие отцы города. Впереди под центральным сводом была устроена высокая платформа, на которую можно было подняться со всех четырех сторон. Здесь их ждал архиепископ Кентерберийский, величественный в своих праздничных ризах и усыпанной драгоценными камнями митре. Он должен был провести обряд. За ним рядами в соответствии с рангом выстроились исполненные важности епископы, аббаты, князья Церкви; они пришли сюда, дабы увидеть, как будет заключен союз с испанцами, и освятить его. Артур тоже был там – стоял в ожидании у подножия платформы, высокий, полный достоинства, но какой-то дряблый, будто белое атласное платье на толстой подкладке было ему велико. Бледный лицом, он безучастно поклонился Каталине, когда та приблизилась. Отпустив руку Генриха, принцесса поднялась на платформу с одной стороны, тогда как Артур взошел на нее с другой. Казалось, весь мир взирал на них, когда перед лицом Господа они стали мужем и женой.
После церемонии венчания архиепископ и клир торжественно проводили Артура с Екатериной к высокому алтарю, где была отслужена главная свадебная месса. Рука об руку молодожены вернулись на платформу и преклонили колена, чтобы просить благословения у короля и королевы, которые с радостью дали его. Екатерина заметила за их спинами леди Маргарет: от избытка чувств та вновь промакивала платочком слезы. Странно было наконец почувствовать себя замужней женщиной. Все казалось нереальным. По пути с платформы в неф Екатерина покосилась на Артура. В том, как он кивал направо и налево, была тихая грация и какая-то истинно королевская невозмутимость, но, поймав на себе взгляд молодой супруги, Артур улыбнулся. За дверями собора, где их радостно приветствовала толпа, улыбка его стала шире. Они постояли, принимая поздравления, пока к ним не присоединились король и королева. Тогда по знаку отца Артур поднял руку. – Люди добрые, – провозгласил он, – да будет известно всем, что сегодня я передаю в наследство супруге, леди Екатерине, третью часть своих доходов, которыми располагаю в качестве принца Уэльского. Раздались искренние возгласы одобрения. – Король Генрих! Принц Артур! – восклицали люди. И вновь воздух огласился торжествующим ревом труб, воем гобоев и переливчатыми трелями свирелей. Именно в этот момент Екатерина случайно заметила взгляд принца Генриха, устремленный на брата: в его глазах промелькнул огонек неприкрытой зависти. Потом он погас, и Генрих вновь просиял улыбкой, стал махать и кланялся толпе, как будто приветствия предназначались только ему. Екатерина подумала, что ревновать брата, который всегда и во всем будет первенствовать, вполне естественно. И все же ее смутила столь открытая злоба в глазах этого юнца. Однако она забыла об этом сразу, как только Артур взял ее руку в свою, холодную и влажную. Его лоб блестел от пота. Принц выглядел неважно, и она забеспокоилась: каково-то ему выносить все эти пышные церемонии и шумные торжества. Ее тревожило, что Артур еще не оправился от болезни, которую десять дней назад пренебрежительно назвал всего лишь простудой. Правда, времени на переживания не было: Артур вел ее следом за принцем Генрихом, которого назначили возглавлять большую процессию на обратном пути во дворец епископа, где должен был состояться пир. Войдя в зал, Екатерина едва не столкнулась с лорд-мэром и олдерменами. Все они старательно выгибали шеи, чтобы как можно лучше ее рассмотреть. Это вызвало много смеха. Принцессу впечатлило, что не только королевская семья, но и все приглашенные ели с тарелок из чистого золота, инкрустированных жемчугом и драгоценными камнями. При свечах мириады самоцветов и тяжелых золотых цепей, которыми украсили себя благородные гости, сверкали и искрились. Как показалось Екатерине, застолье длилось много часов. Под звуки фанфар приносили все новые перемены блюд, и вино лилось нескончаемой рекой. Она сидела за столом на почетном месте справа от короля, рядом с ней разместился остроумный дон Педро де Айала. Предполагалось, что он будет исполнять должность посла ее родителей в Шотландии, но несколько лет назад он приехал в Лондон по дипломатическим делам, да тут и остался. – Мне здесь нравится, ваше высочество, – говорил он Екатерине. – Климат подходящий для здоровья, а Шотландия слишком холодна для испанца. И разумеется, мое присутствие в Лондоне в тот момент, когда решался вопрос о вашем браке, оказалось весьма полезным для короля Фердинанда и королевы Изабеллы. У Екатерины создалось впечатление, что дон Педро и не собирался возвращаться к своим обязанностям в Шотландии. Он открыто ей заявил: раз теперь она замужем, он ожидает позволения отправиться домой. Кажется, Айала пользовался популярностью среди английских придворных и был мил королю. Самой Екатерине дон Педро тоже, скорее, понравился, однако она заметила обращенный на него сердитый взгляд доктора де Пуэблы: тот сидел за столом на менее почетном месте, дальше от короля. Не требовалось большой проницательности, чтобы догадаться: Пуэбла, постоянный посол их католических величеств, чувствовал, что дон Педро потеснил его с почетного места. Король весело болтал, разглагольствуя о стоимости того или иного поданного на стол блюда, а также остроумно изумлялся способности некоторых лордов принаряжаться к празднику, запаздывая при этом с уплатой налогов. Королева в основном говорила о том, какой трогательной была церемония и как вкусна еда. Екатерина вежливо соглашалась, хотя про себя считала английскую еду пресной и даже близко не сравнимой с той разнообразной и богатой кухней, которой она наслаждалась в Испании. Тут было одно жареное мясо да пироги с толстыми корками! Принц Генрих ни о чем другом не мог говорить, кроме как о турнирах и живых картинах, которые будут устроены в ближайшие дни в честь бракосочетания. Ему не терпелось принять участие в ристаниях, так что королю наконец пришлось решительно наложить запрет: принц был слишком молод. Генрих надулся, но ненадолго: его сестра Маргарита отпустила какую-то шуточку, и он снова развеселился. Екатерине нравилась Маргарита – темно-рыжая, живая, своевольная девочка двенадцати лет, и она надеялась, что ее золовку еще не скоро отправят на север, чтобы выдать замуж за короля шотландцев. Екатерина вполне могла представить себе, как сильно будет тосковать по дочери королева Елизавета, ведь их близость бросалась в глаза. Артур говорил мало и ел неохотно. Наверное, нервничал перед грядущей брачной ночью так же, как и она. Или нет? Она свои обязанности знала, и он тоже должен бы, но все равно было страшновато. Екатерину смущала мысль, что каждый в этом переполненном зале знал, чем они с Артуром займутся позднее. – Прекрасный ужин, – произнесла Екатерина на своем неуверенном английском, пытаясь еще раз вовлечь Артура в разговор и узнать, что с ним не так. При этом она вновь с тревогой заметила пот на челе супруга. От дыма, валившего из главного очага, першило в горле, приходилось откашливаться, так что одному Небу известно, как чувствовал себя ее юный муж. – Вам не кажется, что тут жарко? – спросила она. – Именно так, моя госпожа, – согласился Артур. – Я бы многое отдал, чтобы оказаться в постели. Повисла пауза: он соображал, что сказал. Потом наконец-то улыбнулся. Напряжение спало, и Екатерина нервно засмеялась. Король с королевой потянулись вперед, желая понять, что происходит. – Думаю, пришло время немного развлечься! – Король Генрих подал знак убирать со столов. – Нас очень порадует, если принцесса и ее дамы представят нам испанские танцы. – Меня это тоже порадует, сир, – вставил слово Артур. Скатерть была убрана, столешницы сняли с козел и унесли. На верхней галерее появились музыканты. Екатерина спустилась с помоста и поманила своих фрейлин. Придерживая шлейфы, они под аккомпанемент гобоев и медленный ритмичный стук барабанов исполнили для всех присутствующих паванилью. С достоинством наклоняясь и делая размеренные шаги, Екатерина ощущала, что глаза всех гостей прикованы к ней. Не сомневалась она и в том, что на нее смотрит Артур, чувствовала на себе напряженный взгляд короля и дерзкий – принца Генриха, который едва мог усидеть на месте. По окончании танца раздались крики «браво!», а потом, чтобы сделать приятное королеве, Екатерина станцевала бранль, которому та накануне обучила ее. Елизавета хлопала в ладоши от удовольствия, а когда Екатерина вернулась на королевский помост, свекровь обняла и расцеловала ее. – Это было великолепно, моя госпожа, – похвалил ее Артур. – Артур, теперь твоя очередь, – сказал король. Тот, казалось, хотел отказаться, но послушно поднялся. Екатерина ожидала, что он пригласит ее, однако принц развернулся, поклонился фрейлине матери и взял ее за руку. У Екатерины покраснели щеки. Какой стыд, что ее так грубо отвергли! Она не рассчитывала на танцы с Артуром, когда они были всего лишь помолвлены – это было бы неприлично, но теперь они женаты, и это день их свадьбы! Она его жена, а не леди как-ее-там. Но кажется, никто не усматривал ничего странного в этом выборе партнерши, и Екатерина решила, что это один из чудны́х английских обычаев. К тому же ее унижение – а она ощущала это именно как унижение – длилось недолго. Исполнив всего один танец, Артур вернулся и сел рядом с ней. – Вы собираетесь танцевать еще, мой господин? – с надеждой спросила Екатерина. – Я чувствую слабость, – к ее разочарованию, ответил он. – Я вообще редко танцую. – Зато я танцую! – воскликнул принц Генрих. Потом подскочил к своей сестре, вытащил ее на площадку для танцев и закружил ее в живом домпе. Все хлопали в такт. Когда танец закончился, принц крикнул: «Еще!», сбросил накидку и продолжил под аплодисменты родителей и любящей его до безумия бабушки скакать по кругу с Маргаритой, исполняя сальтареллу и изо всех сил стараясь произвести впечатление. Екатерине все это казалось странным: никому, кажется, даже не приходило в голову, что Артуру следовало бы потанцевать со своей молодой женой, хотя бы в день свадьбы.
Еще до отъезда из Испании она знала, что в Англии существует так называемая постельная церемония – обычай, когда гости укладывают спать жениха и невесту и их брачное ложе благословляет священник, после чего молодых оставляют наедине. Однако она надеялась, что донья Эльвира, верная своему обычаю осуждать непристойности, воспротивится этому. Однако дуэнья хранила молчание. Когда же сама Екатерина заявила, что не хотела бы оказаться выставленной напоказ в таком деликатном деле, донья Эльвира ее удивила. – Королева, ваша матушка, одобрила это, и вы не должны ставить под сомнение ее мудрость. Она хотела проведения этой публичной церемонии, чтобы весь мир увидел вас вместе на брачном ложе как мужа и жену, дабы не осталось больше никаких сомнений. Спорить не было смысла: раз уж мать так хотела, дуэнья не выступит против ее воли. Однако принцесса хмурилась при одной мысли о предстоящем, и когда король приказал подать гиппокрас[3] и вафли, тем самым подав знак к окончанию празднества, почувствовала: момент близок. Обычно воздержанная в питье, Екатерина выпила большой кубок сладкого вина со специями, надеясь с его помощью успокоить нервы. Хихикающая Мария шепотом поделилась с ней рассказом своей замужней сестры: та утверждала, что в первый раз может быть больно… Король поднялся и приказал мертвенно-бледному, уставшему до изнеможения Артуру следовать за ним. Под взрывы смеха они удалились, сопровождаемые множеством лордов и прочих джентльменов. Королева знаком предложила Екатерине идти с ней. Донья Эльвира и фрейлины толпились позади. Наверху, в просторных покоях новобрачных, стояла огромная кровать с пухлыми подушками, застеленная тонким бельем, накрытая стеганым покрывалом с горностаевой каймой и посыпанная сухими лепестками цветов и душистыми травами. В изголовье красовался королевский герб, заново окрашенный и позолоченный. Екатерина стояла, вся дрожа, пока королева собственноручно помогала донье Эльвире снимать с новобрачной платье. – Тут нечего бояться, – с ободряющей улыбкой сказала свекровь. Донья Эльвира нахмурилась: – Принцессе объяснили, в чем состоят ее обязанности, ваше величество. Елизавета вскинула бровь: – Надеюсь, тут будет больше чем просто исполнение обязанностей. Что это за странная одежда на тебе, доченька? – Это «корзинка», – объяснила Екатерина. – Мы в Испании носим их под платьями. – Теперь ты замужем и будешь носить английские платья. – С удовольствием, – ответила Екатерина, радуясь возможности проявить послушание. Глаза доньи Эльвиры вспыхнули. Сильно дергая, она развязала ленты, поддерживавшие «корзинку», и буркнула в сторону Марии: – Подай мне ночную рубашку. Переглянувшись с Екатериной, Мария благоговейно принесла длинную сорочку из тончайшего батиста, с вышивкой черным по белому, которая шла вдоль открытого ворота и широких манжет. Донья Эльвира усердно принялась переодевать принцессу, и на какое-то время та осталась стоять голой, красная от стыда. Однако дуэнья быстро надела на нее через голову ночную рубашку. Потом она расчесала волосы Екатерины, а девушки тем временем обрызгали ее венгерской водой с запахом розмарина и тимьяна. Королева взяла невестку за руку и помогла ей забраться в постель. – Сядь повыше и обопрись спиной на подушки, – наставляла она. Сделав, как ей велели, Екатерина натянула на себя покрывало, прикрыв грудь. Донья Эльвира снова рванулась к ней и разбросала волосы новобрачной веером по плечам. Принцесса ясно видела, что дуэнья возмущена присутствием королевы и всем своим поведением дает понять: она, и только она лучше всех может подготовить свою подопечную к приходу жениха. Екатерина вздохнула про себя. Королева Изабелла настаивала на том, чтобы и после бракосочетания она держала донью Эльвиру при себе как старшую подругу и наставницу в этой чужой стране, однако принцесса начинала понимать: не так все просто. У нее никак не получалось проникнуться доверием и теплыми чувствами к своей дуэнье; при всем добронравии и внимательности той недоставало любви, и Екатерина боялась, что поладить им будет трудно. Однако сейчас было не время думать об этом. Нарастающий звук голосов и раскаты грубого хохота возвестили о приближении Артура.
Глава 3 1501 год
Екатерина едва не умерла со стыда. Жар поднялся от груди и залил лицо: до нее донесся голос принца, который похвалялся, как его распирает от любовного желания. Слова его были встречены взрывом грубого мужского смеха. – Давай, парень, двигай! – За Англию и святого Георгия! В сопровождении отца в опочивальню вошел Артур, одетый в просторную рубашку для сна, присборенную у кокетки и расшитую белыми и красными розами. Вслед за ним ввалились и другие мужчины, плотоядными взглядами обшаривая лежащую в постели невесту. Щеки Екатерины алели. Артур приподнял покрывало и, забравшись на ложе, устроился рядом с ней. Они лежали в двух футах друг от друга, одеревенелые и бездвижные, в то время как непрошеные гости воздевали кубки и делали непристойные жесты. Самым развязным из всех был принц Генрих: он явно перебрал. Королева заметила смущение невестки и поймала взгляд короля. Тот кивнул. – Пропустите его милость архиепископа Кентерберийского! – крикнул король. Мужчины неохотно расступились, давая дорогу архиепископу. Раздалось даже нечто похожее на шиканье, когда священник воздел руку в благословляющем жесте и помолился о том, чтобы Господь сделал союз принца и принцессы плодотворным. – Аминь! – произнес король. – А теперь, дамы и господа, мы должны оставить молодых наедине. Искренне желаю вам обоим приятной ночи! Взяв королеву за руку, он вывел ее из комнаты. За ним неохотно потянулась и остальная компания. Донья Эльвира, выходя последней, задула все свечи, кроме одной, выкатилась из спальни и прикрыла дверь. Екатерина лежала, и сердце у нее сильно билось. Она услышала, как Артур сглотнул. Было ясно, что он нервничает не меньше, чем она. Тишина будто сгустилась. – Вы устали, Кэтрин? – вдруг спросил он. – Немного, сэр, – ответила она, зная, что не должна подавать вида, будто избегает его ухаживаний. – Я совсем без сил. Мог бы проспать неделю. – Артур закашлялся. – Вы нездоровы, мой господин? – заботливо спросила Екатерина. – Это ничего. Застарелая простуда. – Он повернулся к ней лицом, тяжко вздохнул. – Не нужно так пугаться. – Потом протянул руку и положил ее на плечо своей суженой. – У меня это тоже впервые. Она не знала, как быть. Околичности Изабеллы не разъяснили практической стороны дела. Артур притянул Екатерину к себе. Она чувствовала его влажное дыхание у себя на щеке. Но вот он начал задирать ее ночную рубашку, при этом усиленно сопя. Затем отвернулся и откашлялся. Екатерина ощутила, как он мягко ощупывает ее груди, потом спускается к потаенному месту между ног. С пылающими щеками она лежала неподвижно, не понимая, нужно ли ей делать что-нибудь в ответ. Вдруг Артур взгромоздился на нее сверху, и она приготовилась испытать боль, которой ее пугали. Артур тыкался в нее, все больше возбуждаясь. Но этим все и ограничивалось. По описаниям Екатерина не так представляла это дело. Ей совершенно точно обещали, что должно произойти некое соединение плоти. Их взмокшие тела липли друг к другу, но не так, как нужно. Через пару минут безуспешных попыток Артур откинулся на кровать и зашелся в сильнейшем кашле. И прежде чем ее супруг опустил подол рубашки, Екатерина успела в лунном свете увидеть его приникший к бедру, обмякший член. – Простите меня. – Артур не мог отдышаться. – Я плохо себя чувствую. – Ничего страшного, – прошептала в ответ Екатерина. – Я тоже так думаю. – Артур продолжал задыхаться. – Что бы ни говорил мой отец на людях, он пока не хочет, чтобы у нас появились дети. Екатерина в изумлении повернулась к нему. Это противоречило всему, что она слышала. – Он сказал, мы должны заключить брак, но несколько лет воздерживаться от супружеской жизни, – немного отдышавшись, объяснил Артур. – Он боится, что в моем возрасте и при плохом самочувствии это может расшатать мое здоровье. Екатерина почувствовала приступ сердечной боли. – Король прав. Мой брат умер в девятнадцать лет, переусердствовав на брачном ложе. – Отец упоминал об этом. Он сильно встревожен моим недомоганием. Я твержу ему, что беспокоиться не о чем, но он непреклонен, и переживания его не утихают. Мы не можем ослушаться его. Он король. При слабых отблесках огня в камине Екатерина рассматривала силуэт лежавшего рядом Артура. Лицо принца было в тени, и она не могла понять, действительно ли принца огорчает отцовское решение. Было похоже, ее муж скорее рад предлогу не исполнять супружеский долг. Но король Генрих прав. Артур очень нездоров и явно не годен для супружеской жизни. Ясно, что ни для кого здесь это не новость. Но почему, почему же ей ничего не сказали? – Моим родителям об этом известно? – спросила Екатерина. – Конечно, и они согласны. Еще бы им не согласиться – после того несчастья, что случилось с Хуаном. – Тогда я с удовольствием покоряюсь воле короля, – произнесла Екатерина. – Мы должны изображать… супружеские отношения? – Так он распорядился. Чтобы избежать разговоров, мы должны провести несколько ночей вместе. Весь свет должен думать, будто наш брак осуществился во всех смыслах. – Артур помолчал. – По правде говоря, я рад, что этой ночью мне не удалось проявить все свои способности. Даже если бы не этот мерзкий кашель, едва ли я оправдал бы ваши надежды: я сейчас очень слаб. Это была ложь: Артур оставил свои попытки еще до приступа кашля. Теперь его скрутил новый приступ, еще более сильный и продолжительный. – Это все не имеет значения, – сказала Екатерина, когда кашель стих. – Я тоже устала. День был такой длинный, и мне хочется спать. Не известно ли вам, когда король предполагает, чтобы мы… чтобы мы… – Когда я поправлюсь и, может быть, пройдет еще некоторое время. Он считает, нам нужно подождать. Говорит, у нас впереди вся жизнь.На следующее утро Артур поднялся рано и скрылся в своей личной уборной. Там, в соседних покоях, его ожидали придворные из свиты, чтобы помочь одеться. Не желая покидать уютную теплую постель – и кто станет осуждать невесту за то, что она долго не встает наутро после свадьбы? – Екатерина слышала их голоса, хотя все слова разобрать не могла. – Уиллоуби, дайте мне кружку эля. – Это был голос Артура. – В горле у меня сегодня совсем сухо, потому что ночь я провел в самом центре Испании. Как приятно иметь жену! – несколько раз повторил он. Екатерина прекрасно поняла скрытый смысл этих слов и даже начала опасаться, не раскроют ли его блеф. Дальше послышалось хихиканье и начался обмен непристойными шуточками. Екатерина заткнула уши. Потом разговор перешел на грядущие турниры и ставки, которые будут сделаны. Вскоре наружная дверь затворилась, и все стихло. Екатерина повернулась на бок и задремала. Сегодня никаких развлечений не предполагалось; ей и Артуру предоставлялась возможность побыть вдвоем. Она лежала и вспоминала их ночной разговор, пытаясь понять свои чувства. Да, она испытала облегчение. Несмотря на краткий момент близости, между ними все равно сохранялось отчуждение. Может быть, Артур держался отстраненно, потому что плохо себя чувствовал. Или избегал сближения, понимая, что был не способен дать супруге настоящую близость. И все равно Екатерину не оставляло легкое ощущение, будто ее обманули. Ее брачная ночь, как и ее будущее, могла быть совершенно другой, окажись с ней в постели настоящий мужчина. Как все это будет выглядеть, когда пройдут месяцы, не принеся даже надежды на появление наследника? Это испортит ее репутацию. Могут подумать, будто это она плохо исполняет свой долг. Но король все поймет, Екатерина была уверена; он ведь беспокоился о здоровье сына, и оно действительно заслуживало беспокойства. Знал ли Генрих больше, чем говорил? Или просто осторожничал? Он был благоразумным и расчетливым человеком – так однажды сказал ее отец, словно отдавая должное будущему родственнику. Екатерина утешила себя этой мыслью. Если бы Артур и впрямь был опасно болен, ему бы вообще не позволили вступать в брак. Чуть позже вошли донья Эльвира с Франсиской де Касерес. – Доброе утро, ваше высочество, – сказала дуэнья. – Надеюсь, вам хорошо спалось. Франсиска, разведи огонь и помоги своей госпоже одеться, когда она будет готова. Я скоро вернусь. Екатерина села, протирая глаза. Пора ей исполнить свою роль в представлении. – Доброе утро, Франсиска! – окликнула она склонившуюся перед очагом худенькую девушку с волосами цвета воронова крыла. – Пора мне вставать. Принцесса откинула покрывало и опустила босые ступни на пол, застланный камышом. – Мою сорочку, пожалуйста, – распорядилась она и потянулась за бархатными тапочками, но тут увидела, что Франсиска таращится на постель. – Что случилось? – поинтересовалась Екатерина. – Ничего, ваше высочество. – Франсиска быстро взяла себя в руки. – Нет, что-то было не так. Вы смотрели на постель. Франсиска выглядела смущенной. – Ваше высочество, я случайно заметила, что она чиста. – Конечно она чиста, – озадаченно проговорила Екатерина. – Но так не должно быть. – Щеки Франсиски порозовели. – Моя мать говорила, что в первый раз у девушки всегда идет кровь. – Кровь? Почему? – Ваше высочество, девственность теряют с кровью. Стало понятно, почему ей обещали боль. А они с Артуром в своем невежестве упустили это обстоятельство, и теперь вся их игра под угрозой. Екатерина стала быстро соображать. Супруг сказал ей, что они должны вести себя так, будто стали единой плотью, но не запрещал говорить правду тем, кто будет ей содействовать. Скоро вернется донья Эльвира. Она замужняя женщина, и мало что могло укрыться от ее орлиного взора. Принцессе не терпелось сбросить с себя эту ношу. – Франсиска, – сказала она, слова застревали у нее в горле, – между мной и принцем Артуром ничего не произошло. Франсиска вытаращила глаза: – Ваше высочество, я… Мне так грустно слышать это. У Екатерины к глазам подступили слезы. Все должно было сложиться совсем не так! – Боюсь, принц никогда не сможет стать мне настоящим супругом, – уныло сказала она. – Он болен и слишком слаб. Франсиска продолжала пялиться на нее: – Я понимаю, ваше высочество. – Она помолчала, не зная, что сказать. – Надо сообщить донье Эльвире. – Я сама скажу ей и полагаюсь на вашу сдержанность. – Да, ваше высочество. Больше Екатерина ничего не добавила. Она боялась обсуждать эту проблему с дуэньей. У доньи Эльвиры был взрослый сын, но не получалось представить себе, каким образом она его зачала! Наконец в комнату влетела дуэнья и отослала Франсиску. – Ваше высочество, я должна спросить, – донья Эльвира сверлила принцессу взглядом, – потому как ваша матушка-королева захочет узнать. Все ли хорошо между вами и принцем Артуром? – Очень хорошо. – Я имею в виду – мне придется выразиться прямо, – ваш брак свершился? – Нет. – Екатерина покраснела. – Принц плохо себя чувствовал. Она передала приказания короля. Донья Эльвира сдвинула брови: – Можно только приветствовать любовь его величества к своему сыну и его заботу о нем.
Менее всего обрадовало Екатерину известие, принесенное возмущенной Марией. Франсиска де Касерес не тратила времени даром и все разболтала фрейлинам о несчастье принцессы: какое горе, она осталась девственницей. – Передайте ей и всем остальным от моего имени, – сказала Екатерина, вдруг ощутив уверенность в себе, ведь она теперь замужем, пускай и только на словах, – если я услышу, что хоть одна из них повторяет сказанное по секрету Франсиске, я пожалуюсь королю. Потом она взмолилась о том, чтобы никто не осмелился болтать. Ведь ей и самой лучше было держать язык за зубами.
Прошло две недели. Рыцарские турниры, пиры, живые картины, игры и танцы сменяли друг друга. Это было время, полное веселья, смеха и восторженной радости. Накануне весь двор переехал в только что отстроенный дворец в Ричмонде. Екатерина приближалась к нему по Темзе на барке, возглавлявшей целую флотилию, и перед ней вставал чертог из какой-то легенды – громада здания возвышалась над водой, как видение. Король улыбнулся, заметив, что она любуется фантастическими шпилями, башенками, которые венчали похожие на луковицы купола, целым лесом позолоченных флюгеров и огромными окнами с мелкими ромбовидными стеклами, которые отражали лучи зимнего солнца. Его величество с гордостью сообщил принцессе, что этот дворец построен по его задумке взамен прежнего, сильно пострадавшего от пожара. Он сам сопровождал ее во время прогулки, остальные члены королевской семьи держались позади. Они шли по широким дорожкам внутренних дворов, окруженных крытыми галереями, по ухоженным садам. Во дворах били фонтаны, фруктовые деревья благоухали. Повсюду виднелись ярко окрашенные символические рисунки – розы, решетки, гербы, а также золоченые фигуры фантастических животных. – Разумеется, все это должно производить впечатление, – сказал Генрих. – Люди ожидают от короля великолепия. Великолепие означает власть. Если я владею огромными дворцами, значит достаточно богат, чтобы содержать многочисленные армии! Екатерина обратила внимание, что принц Генрих с жадностью ловит каждое слово отца. – Но богатства, – заметил Артур, – могут также заключаться в уме. Нет большего сокровища, чем знание. – Именно поэтому я пригласил к своему двору стольких ученых мужей, – подхватил его мысль король. – Это впечатляет людей вдвойне! Когда они вошли внутрь дворца, Екатерина ахнула. Лазурные, как небо, потолки, усеянные эмблемами Тюдоров, прекрасные гобелены, фрески в красных и золотистых тонах, на которых самой крупной была фигура короля, великое множество портретов на стенах. Всякий, кто видел Ричмонд, не мог не испытать благоговейный трепет. На следующий день именно здесь она в печали простилась с графом де Каброй и другими испанскими сеньорами, которые сопровождали ее в Англию. – Мы отправимся домой, ваше высочество, и расскажем королю и королеве, с каким великолепием прошла ваша свадьба, – обещали они, один за другим целуя ей руку. После чего удалились, и еще одна связь с Испанией оборвалась. Удрученная расставанием и тоской по дому, Екатерина отыскала Артура. Она надеялась, вдруг он что-нибудь ей сыграет или прогуляется с ней по саду, но тот сказал, что устал и хочет отдохнуть. И тогда, отбросив свое всегдашнее беспокойство о супруге и отпустив фрейлин, Екатерина забрела в королевскую библиотеку – король разрешил невестке пользоваться ею, когда пожелает. После двух недель праздничной суеты везде было очень тихо. Свадебных развлечений хватало, чтобы излечить принцессу от меланхолии, но теперь все казалось безжизненным и печальным, и она снова ощутила тоску по родине и матери. Екатерина выбрала латинскую книгу об астрологии и села за стол читать ее. Однако сочинение не могло отогнать скуку и тревожные мысли об Артуре, ведь ему никак не становилось лучше. Екатерина видела, с каким беспокойством смотрят на него король, королева, леди Маргарет, и не сомневалась: они тоже переживают. Екатерину волновало, что супруг не очень-то стремится к ее обществу. Не присоединиться ли к фрейлинам и не заняться ли вышиванием, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей? Но ей недостало сил даже подняться с места. Внезапно принцессу накрыло волной жалости к себе. Она была приговорена провести в этом королевстве всю жизнь – изгнанница, фальшивая жена, дочь без матери. Охваченная печалью, она положила голову на руки и всхлипнула. Вдруг на ее плечо легла чья-то рука. Принцесса в испуге подняла взгляд – это был король, озабоченно взиравший на нее сверху вниз: – Что с вами, дитя мое? Екатерина попыталась встать, но король ей этого не позволил. – Скажите мне, что случилось, – потребовал он. – Разве мы плохо приняли вас? – Ну что вы! – Она заплакала. – Сир, вы приняли меня очень хорошо. Я просто скучаю по матери и по дому! К изумлению принцессы, король Генрих обнял ее за плечи: – Ах, бедняжка Кэтрин! Я, как никто другой, понимаю это. С пяти лет я был беглецом, изгнанником, разлученным с матерью на долгие годы. Думаете, я не знаю, каково это – жить среди чужих людей? Мне это хорошо известно! Но мы не в силах изменить свою судьбу. Ведь вы не хотели бы вернуться домой к отцу и матери, не оправдав их надежд, верно? Вы слеплены из более крутого теста, или я не прав? – (Екатерина кивала сквозь слезы, хорошо понимая, о чем он ведет речь.) – Меня приятно удивили ваши красота, выдержка и достойные манеры, – продолжил король. – Я знаю, что вы постараетесь исполнять свой долг, как бы тяжело это ни было. И запомните, Кэтрин, вы можете быть уверены, что нашли во мне второго отца, который всегда будет стоять на страже вашего счастья. – Благодарю вас, сир, – запинаясь, произнесла Екатерина и подумала, насколько ей все-таки легче разговаривать с королем, чем с мужем. – Простите меня. Я беспокоюсь о принце Артуре. Он болен. Рука короля крепче сжала ее плечо. – Ничего страшного. Доктора теперь говорят, что это не простуда, а малярия, она может продолжаться неделями и возвращаться снова. Вам не стоит беспокоиться. Все будет хорошо. А теперь вытрите глаза и пошлите за своими дамами, потому что у меня есть для вас сюрприз! Положившись на слова короля, Екатерина позволила себе утешиться. Пока они ждали прихода фрейлин, Генрих показал ей несколько книг из библиотеки: изысканно проиллюстрированные манускрипты, новые печатные издания с прекрасными гравюрами и крошечные молитвенники с вышитыми обложками и застежками из чеканного золота. Отвлекшись на это, принцесса успокоилась, а потом, когда привели королевского ювелира и велели ему разложить на столе сверкающие изделия, она и вовсе приободрилась. – Вы можете выбрать все, что вам понравится! – воскликнул Генрих. Глаза принцессы были полны благодарности за его доброту. Не желая показаться жадной, она выбрала из разложенных на столе сокровищ ожерелье из жемчуга и сапфиров, золотой крест с рубинами и роскошное золотое шейное украшение. Король кивком одобрил ее вкус, а потом сказал восхищенным фрейлинам, что они тоже могут взять себе в подарок что-нибудь из оставшегося. Как это люди могли считать его скупым, мысленно подивилась Екатерина? Она не раз слышала такие слова от отца во время частых споров по поводу ее приданого. Вы только подумайте, сколько потратил Генрих на ее встречу и на свадьбу! Посмотрите на его сегодняшнюю щедрость!
Двумя днями позже Екатерина начала задумываться, не был ли Фердинанд прав. К ней явился дон Педро де Айала и попросил уделить ему немного времени. Они вышли в аккуратный квадратный садик, растения в котором были тщательно укутаны от декабрьского холода. – Ваше высочество, вам следует знать: первая часть вашего приданого доставлена королю Генриху, – сказал дон Педро. – Проблема в том, что он хочет получить остальное. По совету доктора де Пуэблы он просил вашего камергера доставить золотую и серебряную утварь, а также сундучок с драгоценностями, но, как вы знаете, эта часть вашего приданого назначена к передаче через год. Екатерина знала, что ни в коем случае не должна прикасаться к драгоценностям, которые привезла из Испании, но передать королю, когда от ее отца поступит такое распоряжение. – Доктор де Пуэбла лучше других знает об этом, – сказала Екатерина. – Он сам обсуждал условия брачного договора! Я не получала никаких указаний на этот счет от короля Фердинанда. – Я тоже, – согласился дон Педро. – И ваш камергер ответил королю, что его обязанность – хранить украшения и посуду. Дело в том, что его милость король английский предпочел бы получить их стоимость монетой. Мне до крайности неприятно говорить вам то, что я должен сказать. Но боюсь, доктор де Пуэбла сговорился с ним убедить ваше высочество использовать посуду и украшения, чтобы потом, когда придет время передачи, король отказался их принять под тем предлогом, что они уже не выглядят новыми. Тогда ваш отец будет пристыжен и вынужден взамен выдать их стоимость деньгами. – Но тогда мой отец заплатит дважды! – возмутилась Екатерина. – Совершенно верно, – подтвердил дон Педро. – И доктор де Пуэбла сказал королю, что вы одобряете эту нехитрую затею. – Я? Какая ложь! Все это звучало просто ужасно. Она не могла поверить, что посол ее отца мог измыслить такой бесчестный план, не говоря уже о том, чтобы вовлекать ее. – Но почему? Ведь он действует в интересах моих родителей. Для чего он стал бы предлагать нечто столь очевидно противное их интересам и моим? – Он хочет услужить английскому королю. Поддался влиянию и забыл, кому должен хранить верность! Именно поэтому я посчитал своим долгом предупредить ваше высочество. Донья Эльвира в курсе дела. Она согласилась с тем, что вам нужно все узнать. – Донья Эльвира не любит доктора де Пуэблу. – Донья Эльвира – мудрая женщина. Она не доверяет ему, и правильно делает. – Я рада, что вы мне сказали. – Его милость хочет видеть вас, – продолжил дон Педро. – Он попросил меня передать вам, что хочет встретиться с вами незамедлительно. Дрожа от гнева и тревожных предчувствий, Екатерина пошла прямо к королю и была препровождена в его кабинет. Генриха она застала за попытками не дать ручной обезьянке разорвать счетную книгу. – Перестань, Петеркин! – скомандовал король и опустил животное на пол. – Вы знаете, Кэтрин, он уже однажды испортил мне главную книгу. Весь двор потешался над этим. Представляю, что они обо мне говорят, и, без сомнения, я это заслужил! – Улыбка короля погасла, и он сказал: – Хочу принести вам извинения. Я безмерно виноват, что попросил передать посуду и украшения. Мне было бы неприятно прослыть человеком, который требует причитающееся ему до назначенного срока. Поэтому я умоляю вас написать королю Фердинанду и королеве Изабелле и объяснить им, что я был обманут доктором де Пуэблой. Екатерина собралась с духом. Надо было проявлять осторожность, чтобы случайно не обвинить короля в том, что тот потворствует вероломству. – Сир, по словам дона Педро, доктор де Пуэбла предложил мне начать пользоваться посудой и украшениями, и тогда вы смогли бы отказаться принимать их. Я должна особо подчеркнуть, что ничего не знала об этом плане и тем более не давала на него согласия. Генрих сдвинул брови: – Я тоже, Кэтрин. – Он встал и начал ходить взад-вперед. – Это чудовищная идея! – Король помолчал. – Конечно, если бы дело обернулось таким образом, это послужило бы к моей выгоде, но было бы мошенничеством, и я никогда на такое не пойду. Меня удовлетворяют условия брачного договора. – Он присел на край стола, запахнув подбитую мехом мантию, облекавшую его сухощавое тело. – Я очень сердит на доктора де Пуэблу за совет попросить эти вещи сейчас, и королю Фердинанду следует знать, как ведет себя его посол. Но он никогда не предлагал мне подговорить вас, чтобы вы стали пользоваться этой посудой и носить украшения. Вы могли уже заметить, Кэтрин, что один пытается опорочить другого. Последуйте моему совету, не берите это в голову. Боюсь, причина всему – зависть. Не забывайте, дон Педро хотел бы быть послом здесь. Пообещав больше не думать об этом, Екатерина удалилась. Но ее не оставляло беспокойство. Не приведет ли смертельная вражда между доктором де Пуэблой и доном Педро к дальнейшим сложностям? Было ясно, что доктору де Пуэбле доверять не стоит, но могла ли она полагаться на дона Педро? И был личестен с ней сам король?
Тем вечером Екатерина отпустила горничных и пригласила донью Эльвиру посидеть с ней у камина, где и поведала дуэнье обо всем случившемся в этот день. На лбу луноликой дуэньи обозначились морщины. – Ваше высочество, я не стану говорить ничего против короля. Но доктор де Пуэбла – дурной человек, который забыл о верности сюзеренам, вашим родителям. – Но есть ли доказательства его измены? – Дон Педро был рядом, когда доктор де Пуэбла и король обсуждали свой план. Он может поручиться за это. – Король это отрицает. – Они оба лжецы – он и доктор де Пуэбла! – Донья Эльвира вспыхнула. – Вы не должны говорить таких слов о короле! А я не должна их слушать! Лицо доньи Эльвиры побагровело. – Я прошу прощения у вашего высочества, – пробормотала она тоном, в котором звучало все, что угодно, только не смирение. Екатерина решила не повторять сказанного королем о ревности между двумя послами. – Вы всегда недолюбливали доктора де Пуэблу, – сказала она вместо этого. – Почему? – Он еврей! – взыграла гордая кастильская кровь доньи Эльвиры. – Лживый converso![4] После падения Гранады его надо было изгнать из Испании вместе с остальными. Екатерина помнила издание эдикта и последовавший за ним великий исход евреев. Фердинанд и Изабелла вознамерились очистить свои владения от ереси. – Но многие приближенные моего отца выбрали крещение вместо изгнания. Доктор де Пуэбла был одним из них. – Все они лицемеры! Еврей всегда останется евреем! Они всегда возвращаются к своей ереси. А этот доктор де Пуэбла к тому же низкого рода. Больше Екатерина ничего не сказала. Глубоко укоренившиеся предубеждения заставляют донью Эльвиру все видеть в черном цвете. Некоторые евреи, несомненно, переменили веру ради корыстных соображений, но Екатерина знала и других – тех, кто принял новую религию искренне. И ни разу не замечала, чтобы доктор де Пуэбла пренебрегал христианскими обрядами. Принцесса вздохнула. Привыкать к новой жизни было достаточно трудно и тогда, когда вас не окружают интриги и борьба. Как понять, кто говорит правду, а кто лжет? В целом она больше склонялась к тому, чтобы доверять дону Педро.
Двор перебрался в Виндзорский замок – мощную крепость, воздвигнутую много столетий назад и главенствовавшую над окрестностями. От этого вида захватывало дух. Екатерине и Артуру были предоставлены комнаты в средневековых королевских покоях в верхнем ярусе – с высокими окнами, выходящими на довольно унылого вида виноградник. Зато там стояла роскошная одиннадцатифутовая квадратная кровать с шелковыми занавесками и пологом, затканным серебром и золотом. В такой постели можно было потеряться. Екатерина и чувствовала себя потерянной, проводя в ней одинокие ночи. Артуру лучше не становилось. Принцессе казалось, что принц похудел. Он еще сильнее кашлял и жаловался, что по ночам его мучает жар и он обливается по́том. И все же принц относился к своей болезни несерьезно, отказывался сдаваться ей. Во время пира в красивейшем зале Святого Георгия Екатерина заметила, с какой тревогой королева вглядывается в сына. Артур ел очень мало, но уверял мать, что его самочувствие выправляется, аппетит становится лучше и кашель проходит. Слышала ли королева лишь то, что хотела услышать? – Не следует ли вам посоветоваться с врачом? – осмелилась Екатерина спросить однажды. – Я уже советовался с врачами, слишком многими! – возразил Артур. – Со мной все в порядке! Оставьте ваши тревоги! Но Екатерина не могла их оставить. Она видела больных малярией, и ни один из них не кашлял. Артур потел, и голова у него болела, это верно, но его лихорадило постоянно, а не время от времени. Принцесса поделилась опасениями со своим врачом, доктором Алькарасом. – Так дальше продолжаться не может, – сказала она, описав ему симптомы болезни Артура. Доктор слушал мрачно. – Его высочество кажется мне слишком худым, и ваше описание внушает тревогу. Но я не могу поставить диагноз, не осмотрев принца, а мне не пристало создавать впечатление, будто я ставлю под сомнение знания и опыт английских врачей. Я осторожно понаблюдаю со стороны за его высочеством, насколько мне это удастся. – Алькарас помолчал. – Простите меня, моя госпожа, но благоразумно будет не перенапрягать его силы совместным возлежанием. – Король согласен с вами, – открылась ему Екатерина, чувствуя, как у нее загораются щеки. – Мы делаем все, как он велит. Наш брак – лишь формальность. – Очень мудро, ваше высочество, – произнес доктор Алькарас.
Однажды вечером после ужина король вызвал Екатерину в свой кабинет. Так как там находился доктор де Пуэбла, она поняла, что приглашена для обсуждения важного дела. – Садитесь, дитя мое, – предложил ей Генрих, подхватил с пола Петеркина, усадил его к себе на колени и стал поглаживать ему уши. – Вам надо знать, что принцу Артуру необходимо отправиться в Ладлоу – дальше учиться управлять Уэльсом. Это подготовит его к тому, чтобы встать во главе королевства. Екатерина была поражена. Как говорил Артур, от Лондона до Ладлоу более полутораста миль, а он это знал точно, поскольку жил там с семилетнего возраста. Она уже собралась было возразить, мол, принц недостаточно крепок для таких путешествий в разгар зимы, но, сказать по правде, юная невестка слишком трепетала перед королем и боялась показаться строптивой. Кроме того, Артур был его сыном; Генрих должен быть осведомлен о состоянии здоровья своего наследника и, конечно, оценил степень риска. Будто прочитав ее мысли, Генрих добавил: – У нас с Артуром был долгий разговор. Его возвращение в Ладлоу после свадебных торжеств было решено уже давно, однако я сказал ему, что если он неважно себя чувствует, то может подождать до весны. Тем не менее Артур непреклонен в своем решении: его долг – находиться в Ладлоу. Артур так и сказал бы, подумала Екатерина. Она уже достаточно изучила своего молодого супруга, дабы понимать: он избегал давать кому-то хоть малейший повод заподозрить, что ему не хватает сил выполнять свои обязанности. – Вопрос в том, – сказал король, – поедете ли вы с Артуром или останетесь с королевой и принцессой Маргаритой, по крайней мере на зиму. Что касается меня, я не хочу, чтобы вы уезжали. Я считаю – и мне известно, Артур говорил вам об этом, – что мой сын еще недостаточно повзрослел для исполнения обязанностей мужа и что вы должны повременить с началом супружеской жизни. Мои советники согласны с этим, учитывая нежный возраст моего сына. И мы все обеспокоены тем, как вы, приехав из Испании, перенесете зиму на границе Уэльса. Нам не хотелось бы, чтобы ваши родители, король и королева, решили, будто мы заставили вас сделать это, особенно если жизнь там скажется на вашем здоровье. Екатерина молчала. Решение в этом деле оставалось за королем. И слова Генриха звучали так, будто он уже его принял. Она должна остаться. – Тем не менее, – продолжил он, – я не хочу рисковать обидеть короля Фердинанда и королеву Изабеллу, разлучая вас и Артура, а потому посоветовался с доном Педро де Айалой и доньей Эльвирой. Оба они убеждали меня, что вы должны остаться. Честно говоря, я не знаю, что и подумать. Скажите мне, Кэтрин, каково ваше мнение? Принцесса заметила, как доктор де Пуэбла при упоминании дона Педро и доньи Эльвиры покачал головой. Потом он сказал: – Ваша милость, мой совет – принцесса должна ехать. Екатерина не удивилась – он из принципа не мог согласиться со своими противниками. Уж не втягивают ли ее в какую-то запутанную игру, смысла которой она не может понять? Будут ли родители довольны, если она примет решение самостоятельно? Могло быть и так, что королем и впрямь движет забота о ней. Хотя, учитывая, как он печется о своем сыне, скорее стоило ожидать, что он боится предоставить их обществу друг друга в отдаленном замке: вдруг молодая пара не совладает с искушением и пренебрежет его распоряжением ждать? И еще она не могла отделаться от мысли, не связано ли все это каким-то образом с ее приданым. Если король отправит ее в Ладлоу и она там по каким-то причинам начнет пользоваться утварью, ее родители могут сказать, что король принудил ее к этому. А если она поедет в Ладлоу по своей воле и сделает то же самое, зная, какие будут последствия, это посчитают ее ошибкой, не так ли? – Я буду довольна тем, что решит ваша милость, – ответила она. – Подумайте об этом, – завершил беседу Генрих. – Продолжим в другой раз. Екатерина пошла к своему духовнику отцу Алессандро и попросила у него совета. – Доктор де Пуэбла может подтвердить, – сказал священник, – король и королева, ваши родители, хотели бы, чтобы вас не разлучали с принцем Артуром. Если так случится, они будут недовольны. Разрываясь на части, она долго думала о словах отца Алессандро и молилась о подсказке. Она хотела поступить правильно, но что было правильным? Четыре дня она колебалась, не зная, что ответить королю. Потом к ней пришел принц Артур. – Отец хочет знать ваше решение. Вы очень порадуете меня, если поедете в Ладлоу вместе со мной. Наверное, ему велели сказать это. – Решение остается за его милостью, – уперлась Екатерина. – Но чего хотите вы? – Я хочу во всем радовать его и вас. Артур вздохнул и ушел. За ужином в тот вечер король со скорбным видом склонил голову к уху принцессы: – Мне больно говорить это, Кэтрин, но я решил, что вам следует отправиться в Ладлоу. Нет в мире ничего, о чем я сожалел бы сильнее. – Он грустно покачал головой. – Мы будем скучать по вас, но я должен считаться с желаниями короля и королевы, ваших родителей, даже если, разрешая вам ехать, я могу подвергнуть опасности своего сына. «С чего бы это?» – едва не выпалила Екатерина. Но разумеется, слова короля были произнесены ради тех, кто сидел рядом. Притворство должно выглядеть убедительно. – Как будет угодно вашей милости, – с улыбкой ответила Екатерина, несмотря на дурные предчувствия. И беспокойство ей внушало не одно только здоровье Артура. Ее страшила жизнь наедине с ним на этой отдаленной холодной окраине.
Разумеется, донья Эльвира устроила переполох. – К отъезду вашего высочества ничего не приготовлено, и я подозреваю, что в Ладлоу не сделано для вас запаса продуктов. Полагаю, мы должны быть благодарны королю за то, что он позволяет вашим испанским слугам сопровождать вас. – Благословляю его за это, – сказала Екатерина. – Разве что за это! – мрачно произнесла дуэнья. – Вы знаете, что сказал мне дон Педро? Его величество не дал принцу Артуру ничего для меблировки дома. Это выглядело странно. Если принц Артур собирался вернуться в Ладлоу, для чего вывезли обстановку? При дворе ему не требовалась ни мебель, ни утварь, и тем не менее, похоже, все это вернулось к королю. Донья Эльвира была вне себя: – И можете вы в такое поверить, там нет даже столового сервиза! У вашего высочества не будет иного выбора, как только начать пользоваться своей посудой! Дон Педро говорит, вам следует сейчас же отдать всю ее, и драгоценности тоже, королю, чтобы избежать упреков в будущем. – Но родители велели мне ждать, пока они прикажут сделать это, – запротестовала Екатерина. – Они дали такие распоряжения дону Педро? Донье Эльвире явно не хотелось этого говорить, но она призналась: – Нет, ваше высочество. – Тогда пусть посуду и драгоценности упакуют, – распорядилась Екатерина.
Глава 4 1501–1502 годы
Никогда в жизни своей Екатерина так не мерзла. Она все время думала, что это безумие – пускаться в столь долгую поездку посреди суровой зимы! Король потерял рассудок, если решил отправить Артура в Ладлоу в такое время! Но она не осмелилась возражать, и когда настал момент прощания, тепло обняла короля, королеву, принца Генриха, принцессу Маргариту и леди Маргарет. Королева Елизавета прильнула к Артуру и расцеловала его. – Храни тебя Господь, мой прекрасный, нежный сын! – взмолилась она, когда принц встал на колени для благословения. Потом он вскочил на коня – ему непременно нужно было, как полагается, верхом возглавлять процессию. Тем временем Екатерина, закутанная в меха и все равно дрожащая, забралась в ожидавшие ее носилки. Донья Эльвира оказалась тут как тут – плотно задвинула шторки. Декабрьский пейзаж был гол и суров. Поля посеребрила изморозь, похожие на скелеты деревья гнулись под жестоким ветром. Земля, местами изрезанная колеями, была тверда как железо, так что ехать было неудобно. Двигались они медленно, следом волочился обоз из телег с поклажей и нагруженных тюками лошадей. Если за день делали больше десяти миль, это считалось удачей. Праздник Рождества отмечали уныло, урывками, на постоялых дворах и в монастырских гостевых домах, встречавшихся по пути. Даже Мария находила мало поводов для веселья, и Екатерина чувствовала себя несчастной. Она постоянно мерзла и коченела до самых костей. Не могла дождаться завершения бесконечной поездки и боялась за Артура, сидевшего на коне и отданного на растерзание жестоким, как удары кнута, порывам ветра. Она предложила ему занять место возле себя в носилках, но он ответил ей так резко, что с тех пор она держала язык за зубами. Мейденхед, Оксфорд, Глостер, Херефорд… Отодвигая занавески, когда донья Эльвира смотрела в другую сторону или засыпала, Екатерина видела, что пейзаж изменился: теперь они ехали по дикой холмистой местности. Весной она, вероятно, была зеленой и прекрасной, но сейчас казалась унылой и неприветливой. Городки и деревни выглядели по большей части безлюдными. Несколько раз Екатерина слышала замирающий колокольный звон из церквей и часовен, мимо которых они проезжали. Кавалькада двигалась на север вдоль границы Уэльса. В этих краях распространилась страшная болезнь, сказали принцессе. Лучше поторопиться! Последнюю ночь поездки они провели в мрачном замке, и к тому времени Екатерина уже чувствовала себя несчастной в высшей степени. Одного мимолетного взгляда на Артура в момент, когда тот не следил за лицом, было достаточно, чтобы понять: его состояние значительно ухудшилось. Теперь уже недолго, твердила себе Екатерина. Еще несколько миль – и кошмар закончится. На следующий день, к невыразимому облегчению принцессы, они достигли Шропшира. Вскоре после этого впереди в утреннем тумане суровой громадой обозначился замок Ладлоу. Массивная серая крепость, как страж, возвышалась над симпатичным городком и казалась пугающе неприступной, хотя Артур, который ехал рядом с Екатериной, уверял ее, что валлийцы больше не устраивают набегов через границу. Донья Эльвира громко фыркнула, давая понять, что она думает об этом местечке, куда их заслали. Они пересекли подъемный мост, проехали сквозь расположенные под главной башней ворота. Во внутреннем дворе их встречал какой-то джентльмен. За его спиной выстроились шеренгами служилые люди в меховых накидках и слуги в ливреях. – Позвольте представить вам моего камергера – сэр Ричард Поул, – сказал Артур. Сэр Ричард низко поклонился, а его господин тем временем соскочил с коня и протянул руку для поцелуя. Екатерине камергер тоже отвесил почтительный поклон. Пока она неловко выбиралась из носилок, едва владея онемевшими членами, глаза сэра Поула одобрительно поблескивали. – Добро пожаловать, ваше высочество! Это великий день для Ладлоу. Екатерина почувствовала к нему расположение. Он был красив – бесцветно, по-английски, но сильная фигура и худое лицо, казалось, источали доброту и веселье. Первое впечатление оказалось верным: сэр Ричард Поул проявлял неизменное дружелюбие, всегда был готов прийти на помощь, не становясь при этом навязчивым, и вообще оказался очень полезным и услужливым человеком, предвосхищая все желания своего господина. Принцесса последовала за камергером, и тот повел ее через замковый двор к впечатляющему размерами дому лорда. За спиной у них началась разгрузка багажа. – Там разместится наш двор. – Артур указал на помпезные здания, выстроенные с размахом. – Главный зал и зал для приемов здесь, в центре, а наши покои – в этом помещении слева. Мои комнаты на верхнем этаже, ваши – под ними. – А что это за башня справа? – Пендовер? – И без того напряженное лицо Артура помрачнело. – Ее занимал последний принц Уэльский. Мой дядя. Расскажу вам о нем позже. Внутри замок был великолепен. Екатерина обрадовалась, увидев, что отведенные ей комнаты заботливо убрали к ее приезду гобеленами, подушками, обставили прекрасной дубовой мебелью. Но больше всего она оценила разведенный в огромном очаге и уже разгоревшийся ревущий огонь. Наконец-то она могла согреться по-настоящему. В главной комнате ее ожидала высокая белокурая женщина, скорее дурнушка, с узким плоским лицом и нежным взглядом. – Я леди Поул, ваше высочество, жена сэра Ричарда, – представилась она, грациозно присев в реверансе. – Надеюсь, вам здесь понравится. Догадываясь об истинном смысле ее слов, Екатерина с улыбкой помогла даме выпрямиться. – Благодарю вас, леди Поул. Вижу, здесь все устроено прекрасно. Женщина – ей, должно быть, было около тридцати – заметно обрадовалась. Екатерине она сразу понравилась. Похоже, в леди Поул она найдет друга, которого ей так не хватало. В комнату влетела донья Эльвира, неся в руках сундучок с драгоценностями принцессы. – Кто это, ваше высочество? – ощетинилась она. Жена камергера улыбнулась: – Я леди Поул, мадам, и нахожусь здесь, чтобы проверить, все ли сделано для удобства ее высочества. Если вам обеим понадобится что-нибудь еще, пошлите за мной. – Хм… – фыркнула дуэнья. – Я позабочусь обо всем, что нужно ее высочеству, благодарю вас, миледи. – Разумеется, – сказала Маргарет Поул. – Я только хотела удостовериться, что у вас все устроено. Донья Эльвира огляделась с таким выражением, будто не верила, что ей может быть здесь хоть сколько-нибудь хорошо. – Мы очень благодарны вам за вашу доброту и внимание, леди Поул, – попыталась исправить положение Екатерина. – Донья Эльвира заботится обо мне, но так как обе мы в Англии недавно, то будем рады воспользоваться вашими советами и помощью. – Она лучезарно улыбнулась жене камергера, надеясь, что та не обидится на неприветливость доньи Эльвиры. – Не так ли? – обратилась принцесса к дуэнье. Лицо той скривилось в неком подобии улыбки, и дуэнья выдавила из себя кислое: – Да, ваше высочество. – Оставлю вашу милость устраиваться, – тепло сказала Маргарет Поул.В тот вечер Екатерина спустилась в главный зал и заняла свое место за установленным на помосте столом рядом с Артуром. К ее удовольствию и благодарности, стол был сервирован тяжелым английским позолоченным серебром, а ее посуду не тронули. За трапезой, состоявшей из жареного мяса, Артур рассказал ей кое-что о прошлом замка. Оказавшись во главе собственного стола, он стал непривычно словоохотливым. – Это было родовое гнездо моих предков Мортимеров, а потом семьи моей матери – она из дома Йорков, – на смеси английского и латыни повествовал он. – Тридцать лет назад мой дед, король Эдуард Четвертый, послал сюда для обучения ее брата принца Эдуарда. Это он жил в башне Пендовер и там узнал о смерти своего отца. Ему было всего двенадцать, а он уже стал королем. Ему пришлось покинуть Ладлоу и отправиться на коронацию в Лондон. Но по пути принца Эдуарда пленил его дядя Ричард Глостерский и посадил в Тауэр вместе с младшим братом Ричардом, а сам вместо него стал королем. Бедного Эдуарда больше никто никогда не видел. Король Ричард убил мальчиков. – Ужасно! – вздрогнула Екатерина. – И какой это кошмар для вашей матери – потерять братьев вот так. Артур отложил нож. Бóльшая часть еды на его тарелке так и осталась нетронутой. – Да, конечно. Несколько лет назад моего отца донимал некий самозванец, заявлявший, что он принц Ричард, и моя мать прошла через страшные муки, терзаясь сомнениями: а вдруг этот негодяй действительно ее брат? Конечно, никаким принцем он не был, но на опровержение его притязаний ушло много времени. – Вы говорите о Перкине Уорбеке? – уточнила Екатерина. – Да. Отец проявил большую снисходительность. После того как Уорбек покаялся, он позволил ему жить при дворе под домашним арестом. Но тот попытался сбежать, был заточен в Тауэр, но и там продолжал строить заговоры против короля. Он сам предрешил свою судьбу. Екатерина не могла вынести мысли о том, какой конец был уготован самозванцу. Кошмарные видения уже два года неотступно преследовали ее. Отец излагал ей свою версию событий, и ее дополняли обрывочные слухи. Уорбек был не единственным пострадавшим. В Тауэре содержали еще одного узника. Им был граф Уорик, кузен королевы Елизаветы, – простодушный молодой человек, но опасный, потому что имел обоснованные притязания на престол. Если верить словам Фердинанда, как только король Генрих заполучил корону в битве при Босуорте, он тут же заточил Уорика в Тауэр и лишил его книг и всех благ земных. Для незадачливого юноши, которому не хватало ума сообразить, в чем его вина, это было равносильно погребению заживо. Но то, что в конце концов случилось с ним, было еще хуже… – Кэтрин? – Голос Артура вернул ее к реальности. – Вы витали где-то далеко отсюда. Я спросил, хотите ли вы узнать о привидении нашего замка. – Простите, я задумалась о том, как, должно быть, страдала ваша несчастная мать, – солгала Екатерина. Заговори она о судьбе Уорика, и это могло быть расценено как обвинение короля Генриха в самом страшном преступлении. Не то чтобы руки ее собственного отца не были запачканы в крови… – Я сам видел призрака, – начал рассказ Артур. – Это было поздней осенью, в сумерках. Я шел через двор, когда увидел на зубчатой стене башни Мортимера незнакомую женщину. Я спросил у стражников, кто она, и те ответили, что это призрак Марион де Лабрюйер – девушки, которая жила здесь сотни лет назад. Легенда гласит, что она влюбилась в недруга владельца замка и однажды ночью спустила с башни вниз веревку, чтобы ее избранник мог залезть наверх и повидаться с ней. Но он предал ее и оставил веревку висеть, дав своим людям возможность проникнуть в замок и овладеть им. Любовь Марион превратилась в стыд и ненависть. Она схватила меч своего любовника и заколола им изменника, а потом бросилась с башни навстречу собственной смерти. Говорят, ее появление предвещает трагедию, но я не думаю, что этому стоит верить. Сэр Ричард Поул, сидевший по правую руку от Екатерины, усмехнулся: – Простите меня, ваше высочество, но я считаю, эту сказку породил эль, что без меры пьют в караульной. – Но я видел ее, – возразил Артур. – Многие видели, – согласился сэр Ричард, – но трагедий за этим не следовало. Это старая бабья – или я должен сказать «солдатская» – сказка, ваше высочество, и я бы не воспринимал ее всерьез! Артур перевел, и Екатерина улыбнулась. Леди Поул потянулась вперед: – Мой кузен Эдуард видел призрака! – Эдуард? – удивилась Екатерина. – Последний принц Уэльский, прежний король Эдуард Пятый, – объяснил Артур. – Леди Поул нам родня, Кэтрин. Она племянница королей Эдуарда и Ричарда, дочь моего двоюродного деда, герцога Кларенса, и сестра последнего графа Уорика. Екатерина сидела как громом пораженная и ужасалась своему невежеству. Хотя откуда ей было знать, что у Уорика имелась сестра? Принцесса сильно смутилась. Удивительно, что леди Поул обращалась с ней любезно. Ведь это из-за нее, Екатерины, Уорик погиб. Однако Маргарет Поул вела себя так, будто ничего не случилось. – Видите браслет, который я ношу? – Она показала Екатерине крошечный бочонок на цепочке. – Это в память о моем отце, которого казнили, утопив в бочке с мальвазией. Моя мать умерла после родов, и он обвинил королеву в том, что та навела на нее порчу. Мой дядя король Эдуард пришел в ярость и приговорил брата к смерти. В то время мне еще не было и четырех, и я ничего не помню из этой скандальной истории. «Но в вашей жизни, – подумала Екатерина, – произошло три трагедии. Мать, отец, брат – все покойники, двое умерли насильственной смертью. Знаете ли вы, что ваш брат умер из-за меня?»
В главный зал влетела Мария с пылающим лицом, но резко остановилась, поймав на себе хмурый взгляд доньи Эльвиры. Екатерина поманила подругу к себе: ей не терпелось услышать последние сплетни, которые та всегда умудрялась выуживать из поваров и придворных. Екатерина проводила дни с доньей Эльвирой, Марией, другими фрейлинами и леди Поул. Все было бы неплохо, если бы не странности английской жизни и постоянная тоска по дому, по Испании. Очень мешала враждебность дуэньи к Маргарет Поул: наставница явно ревновала воспитанницу к жене камергера. Донья Эльвира не упускала ни малейшей возможности принизить ее. Временами Екатерина возмущалась, когда ее вынуждали выступать в утомительной роли посредника, почти миротворца, но ей очень нравилась Маргарет Поул, и она хотела как-то возместить то зло, какое причинили этой женщине, в особенности ради нее. К тому же Екатерина чувствовала, что Маргарет понимала и ценила ее старания сохранять мир. Донья Эльвира, со своей стороны, казалось, заботилась только об одном: оградить Екатерину от общества Маргарет. Мария села рядом с принцессой и взялась за вышивание, мимоходом передразнила суровый взгляд дуэньи и широко улыбнулась. Екатерина едва сдерживала смех. Общество неунывающей Марии очень ей помогало. Той тоже казались странными порядки в Ладлоу и досаждал холод. Однако жизнь для Марии была приключением, и она наслаждалась каждым новым днем. Когда Екатерина уставала от тяжелого нрава доньи Эльвиры, Мария была рядом, готовая сочувственно выслушать или пошутить. Последние несколько недель они не выпускали из рук вышивку, пели, занимались музыкой, танцевали и болтали, сколько хватало сил и позволяло знание языка. Екатерина упорно занималась английским и побуждала своих фрейлин к тому же; ее речь день ото дня становилась все более беглой. Зима потихоньку шла к концу, время заполняли молитвы в капелле Святой Марии Магдалины и веселые игры с детьми Маргарет Поул – Генрихом, Урсулой и важным малышом Реджинальдом, который только что научился ходить. Артура Екатерина видела редко. Он вернулся к занятиям со своим наставником, добродушным и ученым доктором Линакром, и несколько раз председательствовал в совете Валлийской марки[5], который собирался в охотничьем домике у ворот замка. Иногда Екатерина бывала вместе с ним там или в Тикенхилле, красивом дворце Артура неподалеку от Бьюдли, но муж бóльшую часть времени был занят. Она подозревала, что он мучит сам себя, стараясь оправдать высокие ожидания отца; здоровье его не улучшалось, но он пренебрегал этим. Иногда Екатерина замечала, что доктор Алькарас наблюдает за принцем, однако он ничего не говорил, а она боялась поинтересоваться его мнением, опасаясь услышать то, чего ей знать не хотелось. Пять раз они с Артуром для создания видимости супружества проводили ночи вместе, но, оставаясь наедине, только разговаривали, а потом погружались в сон. Среди ночи Екатерину неизменно будил кашель Артура. Гости появлялись у них редко – вокруг свирепствовала страшная болезнь, уносящая множество жизней. Наследника престола негоже подвергать опасности заразиться. Время от времени за их вечерним столом появлялся местный лорд или член совета принца, но Екатерина предпочла бы, чтобы те сидели дома. Не хватало еще, чтобы Артур подхватил заразу, какая бы она ни была; она боялась, что его организм не сможет сопротивляться болезни. Принц и без того уже походил на скелет. Руки и ноги у него были как палки. На Масленой неделе Артур еще раз предложил ей разделить с ним ложе. Ночь прошла беспокойно: принц метался во сне и был весь в поту, несмотря на февральскую стужу. Теперь они лежали в ожидании рассвета, как обычно не прикасаясь друг к другу, и обсуждали возможность летней поездки ко двору. – Ехать нужно летом, – сказала Екатерина. – Не могу представить себе, что еще раз проделаю этот путь зимой. Артур не ответил. Она повернулась посмотреть на него и увидела, что он сжимает рукой грудь и ловит ртом воздух. – Боже, как больно! – с трудом выдыхал принц. Его сотряс ужасный приступ кашля, и когда страдалец снова в изнеможении откинулся на спину, продолжая прижимать руку к груди, на подушке остались яркие пятна крови. Несколько надрывающих сердце мгновений Екатерина смотрела на них, потом выскочила из кровати, надела ночной халат и послала за доктором Алькарасом и сэром Ричардом Поулом. Когда они пришли, принцесса сидела в маленькой комнате перед спальней, Маргарет Поул держала ее за руку и с тревогой во взгляде слушала рассказ о произошедшем. Явилась донья Эльвира и замерла: как посмел кто-то, кроме нее, утешать ее принцессу! Потом, услышав, что случилось, она оттаяла. Ее суровые глаза даже наполнились слезами. Она взяла Екатерину за другую руку и сжала ее. Они ждали, почти никто ничего не говорил. Пришел отец Алессандро и помолился за Артура. Наконец из спальни с мрачным лицом появился доктор Алькарас: – Ваше высочество, крепитесь. Все так, как я и подозревал уже некоторое время. Принц очень болен. По моему скромному мнению, он в последней стадии чахотки. – О Боже милостивый, – крестясь, прошептала Екатерина; она была потрясена, хотя это известие и не стало для нее полной неожиданностью. – Бедный, бедный Артур! Он так молод… Глаза принцессы наполнились слезами. – Господь призывает к себе тех, кого больше всего любит, – пробормотал отец Алессандро, кладя руку на ее плечо. Горе, очевидно, стерло все различия: донья Эльвира и Маргарет Поул зарыдали в объятиях друг друга. По велению священника все они опустились на колени и молились о том, чтобы страдания Артура не были слишком тяжелыми или продолжительными. Яснее осознав печальное значение услышанного, Екатерина почувствовала, что печалится больше о семье Артура, чем о себе. – Это будет страшным ударом для короля Генриха и королевы Елизаветы. Они возлагали на Артура все свои надежды! – Слезы заструились по щекам Екатерины, стоило ей представить, как подействует на родителей принца это печальное известие. – Сколько ему осталось? – Недолго. Я глубоко сочувствую вам, ваше высочество. – Он знает? – Я его подготовил. – Я должна пойти к нему.
Принцесса вернулась в опочивальню. Артур был бледен как полотно. Он больше не хватал ртом воздух, хотя дышал с трудом. Принц повернулся к ней, и она снова вспомнила Хуана: кожа у того тоже была полупрозрачная, очень красивая, но безжизненная. Хуан заболел и скончался внезапно, а вот с теми, кому только что предрекли скорую кончину, шестнадцатилетней Екатерине иметь дело еще не доводилось. Однако Артур сразу дал понять, что эту тему затрагивать не стоит. – Не беспокойтесь, Кэтрин, – сказал он, силясь улыбнуться. – Мне уже легче. Не будете ли вы так добры, чтобы попросить Уиллоуби и Грифида зайти ко мне? Полагаю, мне пора вставать и идти на заседание совета. – Не лучше ли отдохнуть? – Отдохнуть я еще успею! – с горячностью ответил Артур. – Я позову ваших придворных, – ответила Екатерина, поскольку поняла, что возражать не следует, и сделала вид, что не заметила слез на его лице. Екатерина быстро прошла через приемную и начала спускаться по лестнице. Вскоре до нее донеслись голоса, и она остановилась, прислушиваясь. – Он болен, потому что спит с леди Кэтрин, – говорил Морис Сент-Джон, приближенный Артура. – Ну да, разве можно винить его? – отвечал Энтони Уиллоуби. – Если бы она была моей женой, я каждую ночь проводил бы с ней в постели. Екатерина залилась краской. Какой позор, слышать, как тебя обсуждают в таких выражениях. – Говорят, это хорошо, когда парень получает свое удовольствие, если может, – скорбным тоном заметил Грифид ап Рис. – Не могу в это поверить. Все надежды… У меня никогда не было лучшего господина. Екатерина на цыпочках поднялась обратно и послала за мужчинами пажа. Потом она удалилась в свои покои, бросилась на постель и разрыдалась.
Артур немного оправился. Он предавался своим обычным дневным занятиям, и у него хватило сил, чтобы в Великий четверг вымыть ноги пятнадцати беднякам – по одному за каждый год его жизни, но после этого всем стало ясно: отпущенное ему время истекает. В конце марта слабость приковала принца к постели. Тогда он попросил подать ему перо и пергамент, а также привести поверенного, и объявил, что намерен выразить свою последнюю волю. К тому моменту Екатерина сама разболелась: она не выходила из своих покоев, страдала от мучительных приступов озноба, боли в суставах и общего упадка сил. Голова у нее кружилась, перед глазами все плыло, и она едва держалась на ногах. Донья Эльвира и Мария, поддерживая принцессу с двух сторон, уложили ее в постель, где она и оставалась, слишком больная, чтобы вставать. И слишком слабая даже для того, чтобы вынуть руку из-под одеяла. Маргарет Поул присылала изысканные лакомства, надеясь пробудить аппетит принцессы, но та не могла есть, она была способна лишь отпивать вино мелкими глотками из подносимого к губам кубка. Бóльшую часть времени она спала, но сон был прерывистый, беспокойный. Когда она просыпалась, то неизменно спрашивала об Артуре и слышала в ответ, что с ним все благополучно. Екатерина сильно переживала, что не может быть с ним, но доктор Алькарас, поддержанный другими ее испанскими врачами, доктором де ла Саа и доктором Гуэрси, предупредили: если принц подхватит ее болезнь, это его прикончит. Однако они уверяли, что Артур пребывает в хорошем расположении духа и говорит о скором выздоровлении. Она надеялась, что это правда. Однажды после обеда, чтобы дать отдохнуть донье Эльвире, Маргарет Поул пришла посидеть с Екатериной. От ее присутствия по комнате разливалось ощущение безмятежной бодрости. Было ясно, что она не держит зла ни на Екатерину, ни на донью Эльвиру, с которой они теперь ладили. Их примирила общая забота – здоровье принцессы. Пока Екатерина дремала, Маргарет шила, когда принцесса просыпалась, та взбивала подушки и подбрасывала дрова в очаг, если возникала угроза, что огонь в нем погаснет. – Вы так добры ко мне, – проговорила Екатерина. – Пустяки, мадам! Мне доставляет удовольствие ухаживать за вами. Не хотите ли чего-нибудь перекусить? – Не могу смотреть на еду, но благодарю вас. Вы настоящий, преданный друг. Екатерина чувствовала себя больной, скучала по дому, терзалась, что не может быть с Артуром, когда тот стоит на краю смерти. Потоки слез у нее вызывали мысли о том, как недолго суждено ему прожить и как жестоко пострадала из-за своей теперешней госпожи Маргарет Поул, готовая тем не менее утешать ее и помогать ей. Держать все это в себе она не могла. Ей нужно было излить душу. – Леди Поул, простите меня, но я должна сказать, как глубоко сожалею о вашем брате Уорике. Маргарет опустила глаза, но Екатерина успела заметить: упоминание этого имени причинило ей боль. – Вы очень добры, мадам. Мой бедный брат был слишком доверчив, даже легковерен. Простая душа – не мог отличить гуся от каплуна. Увы, ему заморочил голову этот глупец Уорбек, впутал его в свой безумный заговор. – Боюсь, дело тут не только в этом. – Екатерина сглотнула. – Не только в этом? А в чем еще? – Их обоих соблазнили изменой – я в этом убеждена. Мой отец говорил, что я не поеду в Англию, пока жив хоть один человек, способный претендовать на корону. Через несколько недель пришло известие, что ваш брат и Уорбек казнены. Тогда мой отец призвал меня и сказал: посол заверил его, что в Англии не осталось ни капли сомнительной королевской крови, и поэтому я могу спокойно отправляться туда. Из этого я сделала свои выводы. И тогда, и сейчас меня приводит в ужас мысль, что я стала причиной смерти двух человек. Маргарет покачала головой: – Не вы, мадам, нет, никогда. К вам это не имело никакого отношения, и я бы не стала говорить плохо ни о вашем отце, ни о короле Генрихе. Без сомнения, они сделали то, что считали своим долгом. Я тогда удивлялась: неужели все это было правдой? Какой глупый заговор: разве могли эти двое глупцов надеяться захватить Тауэр и трон! – Я никогда не смогу возместить вам эту потерю, и Бог наказывает меня. Мой брак замешен на крови, и поэтому скоро он завершится трагедией. – Не говорите так! – укорила ее Маргарет. – Бог – наш любящий отец, и все происходит по Его воле. Он знает, что в этом деле нет вашей вины. – Хотелось бы мне в это верить, – вздохнула Екатерина. – Молитесь, просите об утешении. Если я не держу на вас зла за это, Он, конечно, тоже. – Спасибо, мой дорогой друг. – Екатерина всхлипнула. – Спасибо вам! Вы не можете представить, какое облегчение для меня слышать от вас такие слова.
Позже тем же вечером в опочивальню Екатерины пришла Мария с кувшином вина и кубком. – Прошу вас, ваше высочество, попробуйте выпить хоть немного. Она поставила кувшин и кубок у кровати и налила вина, потом поднесла кубок к губам Екатерины. – На башне Мортимера появилась какая-то странная женщина, – сказала Мария. – Я окликнула ее по дороге из кладовой, но, кажется, она меня не услышала. Она просто стояла там. – Я уже говорила слугам, что подниматься на эту крышу нельзя, – проворчала Маргарет. – Там опасно. Пойду заставлю ее спуститься. – Вскоре она вернулась и сообщила: – Там никого нет. На Екатерину навалился страх. Она не смела взглянуть на Маргарет, боясь, что та прочтет ее мысли.
Во второй день апреля Екатерина, проснувшись, обнаружила у своей постели Маргарет Поул: та перебирала четки и шептала молитвы. – Как вы себя чувствуете, ваше высочество? – Не пойму, пока не сяду. – Тогда полежите немного, – посоветовала Маргарет. Екатерина заметила, что лицо у нее осунулось. – Вы утомлены, друг мой. – Со мной все в порядке, ваше высочество, но я не спала всю ночь и теперь пришла исполнить печальную обязанность. – Она накрыла ладонью руку Екатерины. – Мне очень грустно сообщать об этом, но принц Артур скончался нынче утром, между шестью и семью часами. Екатерина ждала этого, но все равно известие обрушилось на нее ударом грома. Артур умер, а ее не было рядом. И что она теперь должна чувствовать, потеряв этого мальчика, который был ее мужем, но всегда казался ей незнакомцем? – Да упокоит Господь его душу! – наконец произнесла Екатерина, перекрестилась и постаралась сдержать слезы. – Он ушел… Он ушел спокойно? – К счастью, да. Он умер во сне, мы с Ричардом были рядом. Это была легкая смерть. Если бы только судьба подарила ему более долгую жизнь в этом мире. Если бы! Великий брачный союз, заключенный во имя мира, не продлился и полугода. Четыре жалких месяца, и она не успела стать ни женой, ни возлюбленной. Ей хотелось бы любить Артура сильнее, но мысль, что сам он не любил ее, скорее причиняла боль, чем тревожила. Сердце Екатерины сжималось от сострадания к тем, кто был более близок с Артуром и кого его смерть ранит глубже. – Надо оповестить короля, – сказала она. – Гонец уже в пути. Дай Бог, чтобы он сумел передать это известие помягче. Хотя такие новости всегда становятся жестоким ударом, в какие бы изысканные фразы их ни облекали. Ощущая слабость во всем теле, Екатерина лежала и ждала, пока Маргарет Поул позовет донью Эльвиру. Что же теперь будет с ней? Всего шестнадцати лет от роду, она уже вдова и притом девственница. У нее не было причин оставаться в Англии. Новым наследником трона становился принц Генрих, еще дитя, хоть на вид и старше своих лет. Может быть, она вернется домой, в Испанию. Самым ее горячим желанием было оказаться рядом с матерью, которую она не видела уже несколько месяцев, в теплом краю, подальше от этой промозглой, сырой, серой земли, и узнать, что уготовило ей будущее. Уже через несколько недель она может снова увидеть Испанию, а печальное воспоминание об Англии истает со временем. Мысль об этом ободрила принцессу.
Похороны Екатерина пропустила. Ее здоровье медленно улучшалось, но у нее пока не хватало сил даже спуститься в главный зал, где в торжественном покое лежало тело Артура. Сэр Ричард занимался всеми приготовлениями. Екатерина просто лежала в постели, а траурный кортеж тем временем пробивался сквозь штормовой ветер и грязь к Вустерскому аббатству, где должны были предать земле тело принца. Позже Маргарет Поул рассказала ей, как рыдали и причитали плакальщики, друзья и родственники, пока гроб опускали в новый склеп сбоку от алтаря. Надежда Англии угасла, династия понесла утрату. Об этом стоило плакать. Принц был так юн, подавал такие надежды. Без ревности Екатерина узнала, что все свои одеяния и домашнюю утварь Артур оставил сестре Маргарите. Супругу он даже не упомянул в завещании. Ее это не удивило. Принц ее не любил, как и она его. Екатерина полагала, что они вели себя по примеру многих супружеских пар – достойно, насколько позволяли обстоятельства, однако им это принесло мало пользы. Искра страсти не промелькнула между ними ни разу.
С приходом цветущего мая был получен вызов к королеве. Екатерину тронуло, что Елизавета, наверняка убитая горем, не забыла о ней. – Ее милость боится, что из-за гуляющих по стране поветрий вы оказались в нездоровом месте, – сказала донья Эльвира, поднимая глаза от письма королевы. – Она хочет, чтобы вы отправились в путь как можно скорее, и посылает эскорт, чтобы сопроводил вас в Лондон. Екатерина выслушала эти новости с облегчением. Она уже начала ненавидеть Ладлоу, связанный для нее со смертью и болезнями. Сейчас она чувствовала себя лучше, и ей надоело сидеть взаперти в своих комнатах, подернутых печалью, носить вдовий траур и монашеский плат поверх вимпла с раздражающим подбородником. Когда прибыли присланные королевой носилки, Екатерина ужаснулась: они были обтянуты черным бархатом и черным сукном, подзоры и ленты тоже черные. С сомнением оглядев этот скорбный экипаж, она повернулась к Маргарет Поул и тепло обняла ее. Сэр Ричард поклонился. – Я буду скучать по вас, милая леди Поул, и по вас, сэр Ричард. Вы были моими истинными друзьями, и я надеюсь, когда-нибудь мы еще встретимся. – Мы тожебудем скучать по вас, дорогая принцесса. – Маргарет тоже обняла ее. – Я вам напишу. Храни вас Господь. Удачной поездки. Слезы у Екатерины были всегда наготове: очутившись в мрачной глубине черных носилок, она расплакалась. Вскоре Ладлоу остался далеко позади. Екатерина совершала обратный путь по Англии – Англии, пробуждавшейся под веяниями весны. Когда донья Эльвира отворачивалась, Екатерина поглядывала в щелочку между шторами на сочные зеленые поля, леса, перелески и маленькие деревушки: деревянные домики вокруг каменных церквушек. Люди выбегали поглазеть на нее и слали благие пожелания вдогонку несчастной принцессе, которая стала вдовой в таком юном возрасте. Так она добралась до Ричмонда.
Глава 5 1502–1503 годы
Екатерина смотрела из окна на сад Кройдонского дворца. Когда она только прибыла в Ричмонд, королева Елизавета, с изменившимся от скорби лицом, предложила невестке выбрать резиденцию для проживания, пока решается ее дальнейшая судьба. Здесь, во дворце архиепископа Кентерберийского, Екатерина устроилась довольно удобно, но тосковала по дому. Родители написали ей, что им невыносимо тяжело быть в разлуке с любимой дочерью, когда та переживает трудные времена, и королева Елизавета обещала, что король сделает для нее все возможное, но окончательного решения пока нет. – Почему мы не можем вернуться в Испанию? – спросила в то утро Франсиска де Касерес. Из всех фрейлин Екатерины она больше всех скучала по родине. – По правде говоря, я не знаю. Принцесса и сама продолжала задаваться вопросом: «Что со мной будет?» Прервав ее размышления, влетела донья Эльвира, и по ее лицу было видно: она имеет сообщить нечто важное. – Их величества отправили сюда нового посла, ваше высочество. Его зовут дон Эрнан Дуке де Эстрада, он рыцарь ордена Сантьяго. Вы можете помнить его: он служил при дворе вашего брата. Дон Эрнан приедет с заданием сохранить союз с Англией и будет просить о немедленном возвращении вашего высочества и всего приданого. Лицо Екатерины засветилось, она набрала в грудь воздуха, чтобы ответить. – Но поверьте мне! – Дуэнья подняла руку. – Они всего лишь бросают наживку, чтобы поймать более крупную рыбу! Доктор де Пуэбла тоже получил указания, как говорит мне дон Эрнан. Если удастся, он должен устроить вашу помолвку с принцем Генрихом. – Но он еще ребенок! – Ему почти одиннадцать, а к четырнадцати годам он, судя по всему, будет готов к браку. Екатерина невольно подумала о живости и самоуверенности Генриха. Возможно, к четырнадцати годам он и правда будет готов к браку. Здоровье и энергия били в нем ключом, и было в нем что-то очень милое, даже привлекательное. Но… – Я больше чем на пять лет старше его, – возразила Екатерина. – Мне тогда будет уже около двадцати. – Это не имеет значения. Династический союз должен быть сохранен. Этого желают и наши государи, и король Генрих. Но есть один деликатный вопрос, который я должна обсудить с вами. Король Генрих все еще надеется, что вы родите ребенка от принца Артура. – Вы знаете, что это невозможно. – Я знаю, но мне необходимо было получить ваш ответ. Видите ли, ваше высочество, если ваш брак с принцем Артуром совершился до конца, союз с его братом будет расценен как кровосмешение. Однако король Фердинанд уверен: папа даст разрешение, если будет доказано, что брачный союз в полном смысле слова не состоялся. Ваша мать попросила дона Эрнана узнать правду. – Под маской строгости на лице доньи Эльвиры таилась улыбка. – Разумеется, приличия не позволят ему обратиться к вашему высочеству, поэтому он обиняками расспрашивал фрейлин и даже прачек. А потом этот дурак отец Алессандро заявил ему, что брак состоялся. Так что, с позволения вашего высочества, я напишу королеве и дам ей знать, что вы остались девственницей. – Очень хорошо, – ответила Екатерина, но сердце у нее упало. Значит, домой она все-таки не поедет. И должна будет скрывать тоску по солнцу, обжигающему лицо, по вкусу апельсинов и объятиям горячо любимой матери. Ее желания не имеют значения. Когда родители приказывают, ее долг – повиноваться. Вскоре после этого впавшего в немилость отца Алессандро вызвали домой, в Испанию. Донья Эльвира обиженным тоном объяснила, что его попытки отрицать девственность Екатерины в Мадриде восприняли неодобрительно. Екатерина попрощалась со священником холодно, потому что знала: он вызвал неудовольствие ее родителей. Однако ей было грустно смотреть, как он уезжает. Многие годы, прежде чем стать ее духовником, отец Алессандро был ее учителем, и она его любила. – Теперь у меня нет духовного наставника, – сетовала она, когда священник уехал. – Королева, ваша мать, распорядилась, чтобы вас исповедовал мой духовник, – сказала донья Эльвира. – Вы знаете отца Дуарте, он хороший человек и большой праведник. Екатерина его знала; это был кругленький, добродушный священник с тонзурой на седеющей голове. Он вполне подойдет.Долгие месяцы придворного траура Екатерина по большей части провела в Кройдоне, с нетерпением ожидая, будет ли разрешен ее брак с Генрихом. Ходили слухи, будто король Франции предложил в жены Генриху свою дочь. И вообразить нельзя было, что ею пренебрегут ради брачного союза с Францией, величайшим врагом Испании. Несмотря на желание когда-нибудь снова увидеть родину, Екатерина начала смотреть на брак с принцем Генрихом как на свой законный удел. При дворе Екатерина побывала всего несколько раз, притом почти как частное лицо. Завеса печали продолжала висеть над королевскими дворцами, и обычные развлечения были отменены. Летом королева Елизавета доверительно сообщила Екатерине, что ждет седьмого ребенка, который, судя по всему, был зачат вскоре после смерти Артура. – В тот ужасный вечер, когда нам сообщили новость, я сказала королю: «На все Божья воля, а мы еще достаточно молоды», – со слезами на глазах говорила королева. – Я молюсь о том, чтобы Он послал нам другого принца. Екатерина надеялась, что так и будет, хотя и тревожилась, видя свою добрую свекровь не в лучшем состоянии. Горе от потери Артура повлияло на нее не лучшим образом. Но потом Елизавета отправилась объезжать королевство, и Екатерине пришлось вернуться в Кройдон. Только в Рождество, когда король распорядился, чтобы устроили обычные празднования, принцесса снова увидела свекровь и была поражена изменениями в ее внешности: королева вся как будто усохла и выглядела нездоровой. Казалось, у нее ни на что нет сил. Екатерина раздумывала, стоит ли ей поделиться своими опасениями с королем, как вдруг тот сам вызвал ее в свой кабинет. Генрих тоже осунулся, печаль прочертила резкие линии на его лбу, но держался он превосходно. – Садитесь, Кэтрин, – сказал король, откидываясь в кресле и глядя на нее через стол, заваленный бумагами и счетными книгами. Обезьянки сегодня при нем не было. Екатерина села, разгладила черную бархатную юбку. – Я хотел поговорить о вашем браке с принцем Генрихом, – начал король. – Некоторые возражают против него. Самый яростный противник – Уильям Уорхэм, епископ Лондона. Он утверждает, что, если человек берет в супруги жену своего брата, это дело нечистое и ужасное. По этому поводу было много ожесточенных споров. – Он поморщился. – Но не бойтесь! Чего бы вам ни наговорили по поводу вашей помолвки, многие ученые богословы уверяли меня, что папа почти наверняка даст разрешение, поскольку ваш брак с Артуром, как бы это выразиться, не был настоящим браком. А даже если бы был, папа все равно обладает достаточной властью, чтобы преодолеть это препятствие. Я заставлю замолчать всех недовольных! Екатерина слушала короля со все возраставшим беспокойством, но в конце его речи испытала глубокое облегчение. – Я так благодарна вашей милости, – прочувствованно сказала она. Король посмотрел на нее долгим взглядом и кивнул. – Мой сын будет счастливым человеком, – заметил он. – Сир, – осмелилась заговорить Екатерина, – как здоровье королевы? – Она утомлена, – нахмурился Генрих, – но доктора говорят, что все пройдет благополучно. Не волнуйтесь. Он встал, давая понять, что разговор закончен, и протянул руку для поцелуя. Екатерина опустилась на колени и приложила к ней губы. Но почему, если причиной нездоровья королевы была всего лишь усталость, он выглядит таким встревоженным?
Королева Елизавета умерла. Екатерина горько расплакалась, когда однажды темным февральским утром донья Эльвира обрушила на нее эту новость. – Она скончалась ночью. Ребенок родился преждевременно, – сказала дуэнья, глядя на письмо с королевской печатью, которое затем передала Екатерине. Принцесса сквозь слезы прочла послание короля. Его возлюбленная жена намеревалась рожать в Ричмонде, но ребенок появился на свет, когда они находились в Тауэре. «Она восстанавливалась после родовых мук, но потом, совершенно внезапно, открылось обильное кровотечение, и мы послали за врачом, который уже ушел домой. Он вернулся со всей возможной поспешностью, но не мог спасти ее. Она покинула этот мир в свой тридцать седьмой день рождения». Умереть вот так! Это было ужасно, и Екатерина со всей отчетливостью ощутила, какой опасности подвергается каждая женщина, просто зачиная ребенка. То же ждет и ее, когда придет время. От этой мысли мороз бежал по коже. Как, должно быть, страдала королева! Пройти через такие муки, чтобы умереть через несколько дней, уже идя на поправку. Почему случаются такие вещи? Екатерина охотно расспросила бы об этом дуэнью, но донья Эльвира была не из тех, кому хочется довериться, тем более в таких интимных делах. Старая женщина скорбно покачала головой: – Она назвала младенца вашим именем, принцесса. – Бедная малышка, – печально проговорила Екатерина. Как обычно, донья Эльвира вспомнила о правилах этикета: – Двор снова погрузится в траур. Нужно подготовить ваше черное платье или синее, если ваше высочество предпочитает его. Екатерина была удивлена, узнав, что в Англии синий – это цвет королевского траура. Однако, облачившись во вдовий наряд, она не отправилась ко двору тотчас же, потому что пришло известие: король Генрих уединился, чтобы оплакивать кончину своей жены и последовавшего за родильницей младенца. Несчастный муж, он в одночасье понес жестокую утрату. Не было сомнений в том, что он сильно любил жену: это ясно видели все. Кто мог не любить Елизавету? А эти несчастные, оставшиеся без матери дети! Особенно Маргарита, которой предстояло вскорости уехать на север и выйти замуж за короля шотландцев, и Мария, которой еще не исполнилось и семи лет. Мягкое сердце Екатерины обливалось кровью от сострадания к ним. Она глубоко скорбела. С момента приезда в Англию королева Елизавета была для нее верным и любящим другом. Печалилась не только принцесса: из Испании пришло известие о смерти матери Марии де Салинас. Видя свою подругу убитой горем, Екатерина еще сильнее сопереживала осиротевшей королевской семье. Ужасно потерять мать, особенно в юности. Екатерина молилась, чтобы ее мать прожила еще долгие годы. Смерть королевы пришлась на напряженный момент: дон Эрнан только что составил брачный договор для Екатерины и принца Генриха и монархи в нетерпении ожидали его подписания. Все условия были обговорены и одобрены – ничего удивительного, если учесть, что переговоры о браке Екатерины с Артуром тянулись четырнадцать лет. Король Генрих оставлял себе первую часть приданого Екатерины, вторая должна быть ему передана, когда свершится ее брак с принцем Генрихом. А до этого, настаивала королева Изабелла, король должен содержать Екатерину за свой счет. Это давало ему право распорядиться устройством двора принцессы, хотя ее мать твердо настаивала на том, чтобы донья Эльвира оставалась при Екатерине в качестве дуэньи. Услышав об этом, принцесса вздохнула. Удастся ли ей когда-нибудь обрести хоть малую толику свободы? Дуэнья и теперь обращалась с ней как с ребенком! Было так трудно соблюдать строгий испанский этикет в стране, где манеры гораздо свободнее, но донья Эльвира, казалось, не понимала этого. Приезжая ко двору, Екатерина не виделась с принцем Генрихом. Да, она не отказывалась исполнить свой долг, но в то же время иногда сомневалась в разумности предполагаемого брака. Конечно, пройдут годы, прежде чем она станет настоящей женой. А она надеялась уже стать матерью. И все же Екатерина признавала: ей по-прежнему хочется стать королевой Англии, к тому же она сама воочию убедилась, что королевам в этой стране живется неплохо. Но больше всего она завидовала той свободе, которой пользовалась последняя государыня. Полумонашескую жизнь самой Екатерины заполняли молитвы, шитье, занятия английским, чтение и болтовня с фрейлинами. Донья Эльвира постановила, что, будучи вдовой, Екатерине не пристало танцевать на людях или участвовать в придворных увеселениях. Но помолвка с принцем Генрихом, надо надеяться, положит всему этому конец, и Екатерина начала рассчитывать на нее как на способ отделаться от всех досадных ограничений. После похорон королевы принцессу вызвали в Гринвич – еще один роскошный и особенно любимый королем дворец на берегу Темзы. Как и Ричмонд, он тоже был окружен прекрасными садами – будто малая копия рая. Ровные ряды огороженных цветочных клумб, позолоченные статуи геральдических королевских животных, установленные на столбах в бело-зеленую полоску, прекрасные фонтаны и пышные плодовые деревья. Принцессу проводили через обширный двор к массивной башне из красного кирпича, где находились королевские покои, и ввели в небольшой кабинет короля Генриха – изысканную маленькую комнату с яркими фресками, изображавшими жизнь святого Иоанна. Екатерине предложили сесть. Тем временем король взирал на нее с другой стороны заваленного гроссбухами стола. Закутанный в темно-синий бархат, он выглядел разбитым, иссохшее лицо походило на посмертную маску, однако Генрих через силу улыбнулся: – Я пригласил вас сюда, Кэтрин, чтобы узнать из первых уст, действительно ли вы рады помолвке с принцем Генрихом. – Пока этим довольны вы, сир, и мои родители, я счастлива. – Теперь она говорила по-английски довольно сносно и не нуждалась в переводчике. Король, закашлявшись, наклонился вперед. Екатерина уже слышала такой кашель, и этот звук заставил ее похолодеть. – Но принц – мальчик. Не предпочли бы вы в своей постели иметь мужчину? Екатерина была поражена до глубины души. Никогда ни один мужчина не говорил с ней о таких интимных вещах. Заливаясь краской гнева, она с запинкой пробормотала: – Я не думаю об этом. – А я, смею вас заверить, думаю. Здесь есть о чем поразмыслить. Если бы нашелся муж зрелых лет, а ваши отец и мать выразили бы согласие, тогда вы были бы так же довольны и счастливы? – Я повинуюсь их воле. Куда ведет этот разговор? Боже, неужели ей предпочли невесту из Франции? Она не пережила бы такого стыда. Король рассматривал ее. Его взгляд скользнул по ее груди, но тут же вернулся к лицу; это произошло так быстро, что Екатерина засомневалась, не почудилось ли ей. Однако неловко ей было, это несомненно. – Вы славная девушка, – сказал Генрих с безрадостной улыбкой и снова кашлянул. – А теперь предоставьте старого вдовца его горю и идите наслаждайтесь садами. Они прекрасны в это время года. Екатерина ушла, озадаченная. К чему все это было? Позвав с собой сестер Варгас, она пошла прогуляться по аллее, которая вела к какому-то строению, издали напоминавшему церковь. А навстречу ей шел принц Генрих, сопровождаемый учителем. Она едва узнала его – так сильно принц изменился. Он, конечно же, повзрослел, лицо его заострилось, теперь в его чертах проглядывал мужчина, каким он станет. Принц был очень печален, от его кипучей жизнерадостности не осталось и следа. И все же при виде Екатерины он, казалось, просиял, и принцесса еще раз поймала себя на мысли: какой это все-таки очаровательный и привлекательный мальчик. – Леди Кэтрин! – воскликнул принц и низко поклонился. – Ваше высочество. – Екатерина сделала реверанс. – Я была так опечалена известием о постигшем вас несчастье. – Благодарю вас. – Голубые глаза принца наполнились слезами. – Не знаю, как вынести скорбь по моей бесценной матери. Никогда не получал я более ужасного известия. Жду, когда наконец время притупит боль. Слеза сползла по щеке Генриха. Он стер ее, делая над собой усилие, чтобы совсем не расклеиться. – Время – великий целитель, – произнесла Екатерина, думая, что это звучит неутешительно, когда случилась такая трагедия. – Я потеряла брата и сестру. Мне тоже знакомы переживания, которые мучают сейчас ваше высочество. Я любила вашу мать. Екатерина протянула руку, и Генрих взял ее. Она сама испугалась собственных чувств: ее будто затопило потоком тепла. – Милая принцесса, ваша доброта – бальзам для меня, – сказал Генрих с невозмутимым видом; похоже, он ничего не заметил. – Увы, я должен научиться жить с этой болью утраты. Удел смертных – покоряться велениям Небес. Я был в монастыре францисканцев, строго соблюдающих устав, пытался смириться с Господней волей. Позднее Екатерина узнает, что в понимании этого человека Божья воля и воля Генриха Тюдора – почти одно и то же. Но сейчас не было сомнения в том, что смерть матери стала для него тяжелым ударом. – Я потерял еще двоих братьев и двух сестер. Мне невыносима мысль о болезни и смерти, особенно когда речь идет о ней… – Принц замолчал и склонил голову, стараясь, почти безуспешно, справиться со своими чувствами. – Она была такой прекрасной, такой доброй и любящей матерью! Не могло быть на свете более совершенной королевы – исполненной веры, почтенной, благочестивой, добродетельной и чадолюбивой. В ней сочеталось все это. Дорогая Кэтрин, я знаю, вы тоже восхищались ею, хотя вам не посчастливилось знать ее столько лет, сколько знал ее я. – Мое сердце скорбит вместе с вами, ваше высочество. Это большая потеря для вас, для короля и для Англии. – Благодарю вас, моя госпожа. Теперь я должен вас покинуть. Мастер Жиль пришел, чтобы отвести меня на урок французского. Принц поклонился и ушел, а Екатерина с двумя фрейлинами продолжила путь к монастырю. Там братья в сером облачении проводили ее в свою церковь, показали новые окна с витражами, которые пожертвовал сам король. Принцесса ненадолго преклонила там колени, как будто для молитвы, и попыталась разобраться во всех событиях дня. Необычное поведение короля и странный разговор, который состоялся между ними. Ее встреча с принцем Генрихом. Только сейчас она поняла: ведь сегодня они увиделись впервые с тех пор, как возникла мысль об их браке, но принц не обмолвился об этом ни словом.
В дверь постучал доктор де Пуэбла. Его впустила Мария. – Мне нужно видеть донью Эльвиру, немедленно! – воскликнул он. Дуэнья пригласила его поговорить наедине. Сердце принцессы стучало. Наверняка речь пойдет о ее браке. С чего бы иначе доктору проявлять такую настойчивость? Должно быть, произошло что-то важное. Екатерина кивком дала знак Марии оставить дверь приоткрытой, чтобы не пропустить момент, когда снова покажется дуэнья, и две девушки в молчаливой тревоге сцепили перед грудью руки. Долго ждать не пришлось. Вскоре Екатерина увидела, как посол выскользнул за дверь. Заметив, что она на него смотрит, он успел отвесить быстрый поклон, но постарался не встречаться с ней глазами. Потом в комнату ворвалась донья Эльвира – воплощенная ярость. – У меня нет слов, ваше высочество! – бурлила гневом она. – Этот король – дьявол! Тело его королевы еще не остыло в могиле, а он уже вожделеет другую. Ему нужно снова жениться и получить больше наследников, по крайней мере, он так сказал доктору де Пуэбле. И что предложил ему этот раб в обличье доктора? Удивляюсь, что всемогущий Бог не поразил его на месте… – Что он предложил? – перебила дуэнью Екатерина. – Доктор де Пуэбла, предатель этакий, предложил, чтобы король женился на вас. А ведь тот слабый и больной человек! Екатерина пришла в ужас. Король Генрих уже старик – если не по возрасту, то во всех других отношениях точно. И он нездоров; его кашель почти как у Артура. Сама идея выйти за него замуж, лечь с ним в постель отвращала ее. Особенно после встречи с принцем Генрихом, когда она впервые узнала кое-что о взаимном притяжении между мужчиной и женщиной. – Нет, – сказала Екатерина, отбрасывая покорность, которую воспитывали в ней всю жизнь. – Пусть меня лучше разорвут на части, этому не бывать, что бы ни сказали мои родители. – Будьте покойны, я поддержу ваше высочество, – заявила донья Эльвира, как генерал, собирающий силы для битвы. – Я напишу королеве Изабелле.
Екатерина и сама не знала, как пережила три недели, пока они ждали ответа матери. В эти три недели она избегала встреч с королем и отказывалась иметь какие бы то ни было дела с доктором де Пуэблой. К моменту, когда принцесса наконец получила письмо, она уже изнемогала от беспокойства. Но, прочтя послание, вздохнула с облегчением. – Донья Эльвира! – позвала она. Дуэнья прибежала, она знала о получении письма. – Меня не выдадут за короля! – сообщила ей Екатерина. – Королева, моя мать, рассержена. Она говорит, это будет злодеяние, какого прежде не видывали, и что одно упоминание об этом оскорбляет ее слух. – Я знала, что ее величество никогда не одобрит этого! – Тут есть еще кое-что. Вы будете рады услышать, что она сурово осуждает доктора де Пуэблу за вмешательство не в свое дело. – Ха! Поделом ему! – возликовала донья Эльвира. – Моя мать пишет, всем известно о болезни короля Генриха и я могла бы рассчитывать лишь на этот короткий брак, за которым последует долгое вдовство при полном отсутствии влияния. Она уверена, супружество с принцем Генрихом обеспечит мне гораздо более славное будущее. Так что, если король продолжит настаивать на своем, я должна заявить о недопустимости такого поведения. А между тем моя мать подыщет для него другую невесту. Екатерина раздумывала, что-то скажет король Генрих, когда получит эту отповедь. Однако бурного возмущения она боялась напрасно. Вскоре явился дон Эрнан и передал, что его милость не имел намерения обидеть Испанию и готов заключить соглашение о помолвке принцессы с его сыном. – Но, ваше высочество, – добавил посланник, – король Англии продолжает торговаться из-за приданого, поэтому мы согласились на то, чтобы из оставшихся ста тысяч крон шестьдесят пять были выплачены золотом, а тридцать пять – столовой утварью и украшениями из вашего имущества. Посуда и драгоценности до сих пор хранились в сундуках на запертом чердаке в Кройдоне. – Вы будете выданы за принца Генриха через два года, когда он достигнет четырнадцатилетия, – продолжал дон Эрнан. – Между тем наши государи и король Генрих обратятся к папе за разрешением, которое снимает все канонические препятствия. Его милость подпишет контракт на этой неделе. Будущее почти определилось. Если папа даст желанное разрешение, Екатерина станет принцессой Уэльской. Со временем, по соизволению Божьему, и королевой Англии.
Екатерина грациозно вступила в церковь, переполненная радостью. Не только ослепительное солнце делало этот день особенным – это был день ее помолвки. После многих недель уклончивых ответов папа Юлий наконец издал распоряжение, позволяющее Генриху и Екатерине вступить в брак, даже если она, возможно, была супругой Артура в полном смысле слова. Как приятно было снять вдовий траур, освободиться от сковывающих испанских нарядов и громоздких «корзинок». Екатерина надела платье в английском стиле из девственно-белого шелка, волосы ее были распущены в знак непорочности. У платья были висячие рукава, тяжелые юбки, которые расширялись от талии, и длинный шлейф, собранный петлей на спине, чтобы из-под него чуть выступал роскошный дамастовый киртл. Вырез платья – низкий, квадратный, был обшит мелким жемчугом, а на шее принцессы красовалось тяжелое гранатовое ожерелье с королевским «К», которое она привезла с собой из Испании. Принц Генрих, наблюдавший за ее приближением с самодовольной улыбкой, был одет не менее роскошно – в серебристый и ярко-алый бархат. С момента их последней встречи принц вырос, а его рыжие волосы были теперь длиной почти до плеч. И вновь Екатерину поразило то, что она могла описать лишь как королевские манеры, – его внутреннее достоинство и грация, с какой он ее приветствовал. Они стояли в маленькой церкви дома епископа Солсбери на Флит-стрит, обмениваясь обетами, изящная рука Екатерины лежала в крепкой ладони Генриха. Король наблюдал за церемонией с довольным видом. Екатерина с облегчением отмечала: в его манерах нет ничего, что не соответствовало бы роли будущего свекра. После церемонии все перешли в парадный зал с низким потолком, где на полированных дубовых столах были расставлены вазы с фруктами, вино и блюда с вафлями. Подняли тост за принца и принцессу Уэльских, юный Генрих галантно поднес к губам руку Екатерины и восторженно поцеловал ее. – Это как в легенде, – сказал он позже, когда они стояли у решетчатого окна и смотрели вниз, на оживленную улицу. – Ваше высочество? – вопросительно произнесла Екатерина, не понимая, что он имел в виду. – Для истинного рыцаря завоевать даму сердца – это достойная награда. Обычно приходится совершать подвиги, прежде чем она согласится принадлежать ему, но мне выпало только терпеливо ждать, сохраняя самообладание. Я мечтал об этом дне, Кэтрин. Никогда не думал, что вы станете моей. Екатерина пришлось напомнить себе: принцу всего двенадцать. Она догадывалась, что его воспитали на сказках о любви и рыцарских подвигах, и помнила тот холодный завистливый взгляд, которым Генрих смотрел на Артура в день их свадьбы. Он жаждал получить то, чем владел Артур. Вот как это представлялось ей. Титул, право наследования, а теперь и принцесса. Екатерина улыбнулась ему. Он считал себя взрослым, но в тот момент, со своим свежим, задорным лицом и возвышенными идеалами, выглядел совершенным юнцом. Не так давно принц остался без матери, вспомнила Екатерина и удивилась сама себе, невольно испытав желание взять его под крыло. Ее обязанностью в качестве невесты, а позднее – жены, было утешать его, создавать уют и покой, возможно, даже руководить им. Она почувствовала, что это будет не просто обязанность, но удовольствие. – Я очень рада нашему обручению, ваше высочество, – произнесла Екатерина, и не кривила душой. – Вы знаете, что сказал мне мой первый учитель, этот живой скелет? – обратился к ней Генрих. – Выберите себе жену. Цените ее всегда и безоговорочно. Клянусь вам, я намерен последовать его совету. Они улыбнулись друг другу, и по всему телу Екатерины разлилось тепло. Позже они завели разговор о любимых книгах. Генрих прочел большинство классических авторов: Гомера, Вергилия, Плавта, Овидия, Фукидида, Ливия, Юлия Цезаря и Плиния, по крайней мере похвалялся этим. Его очевидная любовь к учению была поразительной, и Екатерина разделяла это чувство, хотя ее образование было более традиционным и менее разносторонним. Генрих сказал, что может говорить и по-французски, и на латыни, а испанский обещал выучить специально для нее. – Я слышала, ваше высочество – музыкант, – сказала Екатерина. – Это моя валлийская кровь, и моя мать любила музыку. – Тень пробежала по его лицу. – Я исполняю и пишу песни. Я сочиню что-нибудь для вас, Кэтрин! – Его оптимизм был таким заразительным. – Вам нравятся физические упражнения? – спросил принц. – Я люблю ездить верхом и охотиться, хотя с момента приезда в Англию у меня почти не было возможностей ни для того, ни для другого. – Я люблю упражнения! – воскликнул Генрих. – Каждый день занимаюсь верховой ездой, стрельбой из лука, фехтованием, рыцарскими поединками, борьбой и игрой в теннис. Неудивительно, что он выглядел таким подтянутым и сильным. – Сколько же у вас дел! – заметила принцесса. – И все-таки хватает времени на учебу! – Я хочу преуспеть во всем! Одной жизни не хватит для того, чтобы переделать все, что я хочу. – Вы будете королем. И получите в свое распоряжение все. Тогда вы справитесь и выполните задуманное. – Я мечтаю об этом! – Генрих вздохнул. – Увы, я теперь не могу наслаждаться прежней свободой. Он метнул взгляд на отца: тот стоял на другом краю комнаты и увлеченно вел беседу, однако не сводил глаз с сына. – Я вам сочувствую, – отозвалась Екатерина. – Но вы принц Уэльский! – Это верно, – сказал Генрих, видя ее недоумение. – Со дня смерти брата все изменилось. Да, теперь я наследник своего отца, второй человек в королевстве. Но свободы у меня стало гораздо меньше. На меня давят со всех сторон. Отец беспрестанно напоминает, что он потерял двоих сыновей; лишь моя жизнь отделяет страну от гражданской войны, поэтому необходимо заботиться о моей безопасности. Это означает – оградить меня от мира. Я мог бы с тем же успехом уйти в монастырь. Я почти ни с кем не встречаюсь, кроме своих учителей, меня держат в тени. Вы знаете, что войти в мою спальню можно только через комнату отца? Я никуда не могу пойти, даже проехаться верхом по парку, без его разрешения. – Сочувствую вам, – повторила Екатерина. – Мне казалось, моя жизнь целиком подчинена этикету. Иногда я даже могла накричать на свою дуэнью: она поднимает такой шум из-за мелочей. Принцессе хотелось сказать больше, но нельзя было допустить, чтобы у Генриха сложилось впечатление, будто она осуждает короля. Без сомнения, государь имел веские причины переживать за своего единственного наследника. – Я знал, Кэтрин, что вы поймете! – Генрих взял ее руки и сжал их. Она ощутила, что наслаждается его обществом. Он был как глоток свежего воздуха в отупляющем однообразии ее жизни. И у них, оказывается, было гораздо больше общего, чем она могла подозревать. Она жалела Генриха, да, но была глубоко благодарна ему за то, что он ей доверился. Как бы там ни было, подумала Екатерина, а начало положено удачно. За следующие два года должно произойти немало таких встреч. А потом они поженятся. С бедным Артуром у них не было ничего похожего.
Глава 6 1504–1505 годы
Да можно ли чувствовать себя еще хуже? Екатерина лежала в постели в Дарем-Хаусе, мучимая лихорадкой и расстройством желудка. До этого она жила в Ричмонде, в обществе принца Генриха и короля, но с приходом осени ее отправили в Дарем-Хаус, где она разболелась пуще прежнего. Каждый день Екатерину бросало то в жар, то в холод. Бледная как смерть, она принуждала себя проглатывать пищу. Врачи продолжали уверять ее, что она скоро поправится, но принцесса им уже не верила. Хуже всего в этой болезни было то, что она разлучила Екатерину с принцем. Они так мило проводили время в Виндзоре и Ричмонде. Каждый день охотились в сопровождении придворных. Устраивались пикники под деревьями, жених и невеста вели долгие разговоры на разнообразнейшие темы – от математики и астрологии до осадных машин и ружей. На самом деле Екатерина даже подумала, что принц никогда не прекратит говорить о войне! Вошла Мария, ее милое лицо выглядело озабоченным. – Король снова прислал гонца справиться о вашем здоровье, ваше высочество. – Как и каждый день. Такая забота с его стороны. Король относится ко мне как к родной дочери. – Король еще раз предлагает посетить вас. – Мария наклонилась и мягко промокнула лоб Екатерины влажным полотенцем. Принцесса застонала. Он не хотела, чтобы король Генрих видел ее в постели или в таком прискорбном состоянии. – Нет, Мария, пожалуйста, скажи посланцу, что я благодарю его величество, но слишком больна и не могу принять его. Она откинулась на подушки, охваченная вялостью. Только письмо от Маргарет Поул побудило ее приподняться. Верная слову, Маргарет вот уже два года поддерживала связь с принцессой. Ее письма всегда ободряли Екатерину, в них было полно новостей о растущем семействе жены камергера и о жизни в Валлийской марке. Однако это сообщение было коротким и отчаянным. Умер сэр Ричард Поул. Он чувствовал себя прекрасно, судя по наружности, пока не начал испытывать боли в животе, где прощупывалась зловещая опухоль. Врачи ничем не могли ему помочь. Добродушный, светлый человек умер в муках, и Маргарет погрузилась в пучину горя. А к тому же осталась почти без средств, лишь с маленькой пенсией. Она раздумывала, не поискать ли ей прибежища в аббатстве Сион и не посвятить ли маленького Реджинальда Церкви. Предложить сына Богу означало бы накопить сокровища в Царствии Небесном, объясняла она. Кроме того, Екатерина понимала, что это освободило бы Маргарет от части затрат на содержание детей. Принцесса плакала от жалости к леди Поул и желала бы иметь средства, чтобы отдать ей, тогда маленький Реджинальд мог бы остаться с матерью. Как ужасно, если им придется расстаться.Декабрьское небо висело низко, и в комнате было сумрачно даже в разгар дня. Донья Эльвира требовала, чтобы все свечи были зажжены; в такое время она плохо видит, объясняла она, а свет нужен ей, чтобы вышивать. «А скорее, для того, чтобы видеть, не нарушаю ли я каких-нибудь правил», – думала Екатерина. Если солнце проглядывало сквозь облака, она едва не задыхалась в четырех стенах в своей жарко натопленной, переполненной людьми и залитой ослепительным светом комнате. По крайней мере, скоро настанет Рождество. Екатерина оправлялась от болезни мучительно медленно. Но когда душевные силы вернулись к ней, она еще сильнее почувствовала гнет установленных для нее строгих правил. Принцесса носила английские платья, танцевала и пела при дворе, разговаривала с придворными, каталась на лошадях и ощущала легкий вкус свободы – но что в этом такого ужасного, чтобы стоило писать королю Генриху и ее отцу Фердинанду и утверждать, будто она позорит себя? – Я могла бы с тем же успехом жить в монастыре! – жаловалась Екатерина Марии и Франсиске. – Аминь, – надув губы, произнесла Мария. – Мы все обречены жить в бедности, послушании и целомудрии! – Я обрежу волосы и буду носить платок! – пригрозила Франсиска. Екатерина через силу улыбнулась: – Из нас вышли бы ужасные монахини! Но письма доньи Эльвиры их величествам еще ухудшили ситуацию. Когда король пригласил Екатерину в Вестминстерский дворец на празднование Дня Всех Святых, он наказал ей следовать всем правилам, которые она соблюдала у себя дома. Досадно, но Екатерине пришлось проводить бóльшую часть времени в своих покоях, носить старые, давно забытые испанские платья, и, что было хуже всего, с принцем Генрихом она почти не виделась. Обращения к отцу не возымели никакого действия. Он не отвечал ни на жалобы доньи Эльвиры, ни на ее собственные, все более отчаянные письма. Приказав подать накидку, Екатерина вышла во двор Дарем-Хауса. Дул свежий, живительный ветер, тени башен резко выделялись на залитой солнцем булыжной мостовой. Таща за собой Марию – разумеется, невозможно было даже подумать о том, чтобы она осталась без сопровождения, а то вдруг еще надумает заговорить с садовником или замурлыкать песенку в присутствии конюха, – принцесса прошла через арку на спускавшуюся к Темзе лужайку. Девушки стояли на пристани над кружащей серой водой, Екатерина видела перед собой широкий простор реки. К северу – больница Савой и лондонский Сити, к югу – Вестминстер, а на берегу все пространство между ними занимали дома знати. По воде сновало множество всевозможных лодок; улицы города были узки и тесны, поэтому река стала главной артерией Лондона. – Как приятно чувствовать дуновения ветра, – сказала Екатерина. – Я не могла больше оставаться в доме. – Долго ли еще нам терпеть это существование? – спросила Мария. – Хотелось бы мне знать! – ответила Екатерина, наблюдая за парившими над водой чайками. Зловонный запах Темзы неприятно бил в нос, но это было лучше, чем спертый воздух в покоях. Принцесса все еще стояла на пристани, наслаждаясь видом на город, когда появилась донья Эльвира. – Ваше высочество, я очень прошу вас вернуться в дом. Екатерине совсем не понравилось, что дуэнья нарушает этот краткий и доставшийся не без труда момент уединения. Но тут она увидела лицо доньи Эльвиры.
Екатерина лежала на постели, уткнувшись носом в бархатное покрывало, и всхлипывала. Она не желала видеть рядом с собой никого, кроме Марии, потому что Мария знала, каково это – потерять самого дорогого человека. Даже приказала запереть дверь. За свою недолгую жизнь принцесса выдержала уже немало ударов, но этот был худшим, и она не знала, как его перенести. Умерла ее мать. Изабелла некоторое время болела, но Екатерина этого не знала. Она подозревала, что родители утаивают от нее неприятные новости, чтобы не тревожить; ведь если разобраться, какую помощь, кроме вознесения молитв, она могла бы оказать, находясь так далеко, в Англии? А к Богу Екатерина и без того взывала беспрестанно. Ничего не зная о состоянии матери, она каждый день молилась о здоровье и счастье родителей. Испания погрузилась в траур по величайшей из своих королев. Слава Изабеллы вошла в легенды; другой такой правительницы больше не будет. Екатерина не нуждалась в пустых утешениях. Это была ее мать, обожаемая и ставшая образцом для подражания. Но завоевания Изабеллы, ее достижения, ее великолепие были ничто в сравнении с любовью, которую она вдохнула в свою младшую дочь. Голова Екатерины лежала на коленях у Марии, принцесса была опустошена и не могла говорить. Она всегда представляла себе, как в один прекрасный день приедет в Испанию и встретится с Изабеллой; мечтала оказаться в материнских объятиях, услышать ее голос – но голос тот умолк навеки. Трудно было смириться с тем, что ей больше никогда не увидеть в этом мире любимого лица. Два дня принцесса не выходила из комнаты, отказывалась от пищи, проводила долгие часы на коленях – она молилась об упокоении души Изабеллы, которая, конечно, должна была оказаться на небесах, и без удержу обливалась слезами. Мария, несмотря на всю свою доброту и понимание, ничего не могла поделать с Екатериной. Она выражала сочувствие, она утешала, она корила – все напрасно. Постепенно на Екатерину снизошел покой, и появились первые проблески печального смирения. Дверь отперли. На третий день принцесса появилась, бледная, с покрасневшими глазами, облаченная в траур, который носила по Артуру. Она отвергла попытки доньи Эльвиры ее утешить, желая иметь при себе только Марию. Никто другой ей не был нужен. Повидаться с Екатериной пришел доктор де Пуэбла. Настороженная, она приняла его в своей задрапированной черным комнате. Дуэнья была начеку. Принцесса гневно взирала на маленького человечка, не в силах забыть, как тот пытался выдать ее замуж за престарелого короля. Она стояла выпрямив спину и не двигалась, пока де Пуэбла объяснял, что пришел выразить соболезнования и обсудить, какие последствия могут возникнуть в связи со смертью Изабеллы. – Испания вновь разделяется, – сказал посол с необычным для себя озадаченным видом. – Кастилией теперь управляет сестра вашего высочества королева Хуана, ближайшая наследница вашей матери, а ваш отец король Фердинанд опять стал королем Арагона. От Екатерины не ускользнул смысл сказанного. Фердинанд больше не являлся владыкой Испании, он теперь был хозяином гораздо меньшего по размерам и влиянию королевства. Какой удар это, должно быть, нанесло ее отцу, который тридцать лет правил и Кастилией тоже! Он потерял не только жену, но и корону. А Хуана – прекрасная, страстная, неуравновешенная Хуана. Хороша ли она будет на месте Изабеллы? – Вопрос в том, – говорил между тем доктор де Пуэбла, – оставит ли Филипп Бургундский, или король Филипп, как мы теперь должны его называть, оставит ли он управление Кастилией за королем Фердинандом? Екатерина увидела, как донья Эльвира недовольно выпятила губы. – Моя сестра – королева, – сказала Екатерина. – Именно она будет владычествовать там, как делала наша мать. – Это ее право, – заявила донья Эльвира, сверкая взглядом на Пуэблу. – Есть те, кто предпочел бы Филиппа. – Посол сердито глянул в ответ.
В Рождество Екатерина не поехала ко двору. Во время траура это не пристало. Но вскоре после праздника король вызвал ее в Ричмонд, и она прибыла туда в надежде, что скоро вновь увидит принца. Ей очень хотелось поговорить с ним: он тоже потерял мать и знал, каково это. Однако во время приема у короля принца нигде не было видно. – Надеюсь, вы проведете с нами некоторое время, – сказал король, когда Екатерина опустилась перед ним на колени. Она поднялась, осознавая, что его слова были продиктованы простой вежливостью: глаза монарха оставались непривычно холодными. Екатерина удалилась, немало озадаченная. Она же ничем его не обидела? Войдя в свои апартаменты, она застала там доктора де Пуэблу за перепалкой с доньей Эльвирой. Дуэнья, умелая спорщица, выглядела плачевно. – В чем дело? – спросила Екатерина. – Ваше высочество, я должна быть честна с вами. Мой муж говорит, у нас заканчиваются деньги. Король Генрих не оплачивал ваше содержание. Екатерина взглядом попросила о помощи доктора де Пуэблу. – Король утверждает, что ваше высочество ни в чем не нуждается. Он говорит, у вас есть средства, чтобы содержать свой двор. Екатерина онемела: – Но как я заплачу своим слугам, не имея денег? Они что же, должны работать, получая в награду одну только мою любовь? Это поставит меня в очень неловкое положение. А что с моими фрейлинами? Они приехали в Англию, рассчитывая удачно выйти замуж, но, не имея дохода, я не смогу обеспечить им приданое. Донья Эльвира, узнайте у дона Педро, хватает ли денег на выплату жалованья за эту четверть года. Денег не было. Екатерине стало ясно, что король снова хотел заставить ее начать использовать посуду и украшения, которые жаждал заполучить уже давно, чтобы они упали в цене, и тогда он мог бы потребовать у ее отца стоимость этого добра монетой. Небеса не допустят, чтобы она из нужды прибегла к этому! Может быть, потому предатель Пуэбла и не стремился защищать ее. – Я сама встречусь с королем! – твердо сказала Екатерина. – Нет! – запротестовала донья Эльвира и потерла глаза – такая привычка появилась унее недавно. – Это недопустимо. Вы не можете идти к нему попрошайничать. – Вы считаете, будет лучше, если мы начнем голодать? Екатерина попросила доктора де Пуэблу договориться об аудиенции. Но ей передали, что король занят. Казалось, невозможно обращаться с ней, испанской принцессой и будущей королевой Англии, более неучтиво. Очевидно, она обидела Генриха, хотя никак не могла взять в толк чем. Екатерина желала бы повидаться с принцем и заручиться его помощью, но ее держали взаперти в одних апартаментах, а его в других. Шансов столкнуться с ним случайно было мало, и строгие правила доньи Эльвиры не позволяли Екатерине самой искать встречи. Екатерина вообще не видела принца Генриха, и это ее тревожило.
Наступил апрель, за ним – май. Екатерина не сомневалась: происходит что-то очень нехорошее. От короля не было никаких известий, и ее жених тоже как будто исчез. Доктор де Пуэбла не делал ничего, только написал ее отцу. Оставалось надеяться, что король Фердинанд напомнит Генриху о его обязательствах. Вместе с Марией Екатерина сидела в своих покоях у открытого окна, но даже весеннее солнце не радовало ее. На лице принцессы запечатлелись тревога и печаль: она не могла оплатить свои расходы. Слуги наконец поняли, в каком она положении. Они любили ее и хотели служить ей бесплатно. Кроме того, куда им было податься в этой чужой стране? Здесь, при дворе, у них были кров, и стол, и общество таких же, как они сами. Екатерина не могла выразить свою благодарность, сердце ее переполняли чувства. Не в силах была она и вынести мысли о том, что это означало для ее лучшей подруги. Мария мечтала выйти замуж, но без приданого ни один мужчина с положением даже не посмотрит на нее. Екатерина не бросит Марию и не лишит ее шанса выбиться из этого жалкого существования. Принцесса даже написала отцу, умоляя короля Фердинанда снабдить ее всем необходимым, но прошло уже несколько недель, а ответа не было. – Мария, ты верно служила мне, – говорила Екатерина, ей было ужасно неловко. – Ты достойна лучшего. Мне очень стыдно. – Ваше высочество, я лучше останусь с вами, чем выйду замуж за кого попало, – бойко отвечала Мария, не скрывая своего разочарования. – Может быть, Богу неугодно мое замужество. Екатерина обняла подругу, на сердце принцессы тяжелым грузом висело чувство вины. Ей было грустно из-за Марии, она устала от постоянных просьб Франсиски де Касерес о возвращении в Испанию. Принцесса написала родителям девушки в Эстремадуру, но они хотели, чтобы их дочь осталась при ней. После этого Франсиска три дня плакала и дулась. Были и другие заботы. Платья, привезенные из Испании четыре года назад, износились, а у нее не было возможности заменить их на новые. При дворе существовали определенные правила, которые нужно было соблюдать, даже если бóльшую часть времени проводишь в своих покоях. Она не могла позорить себя и Испанию, появляясь на людях в платьях из потертого бархата и с расползающимися швами. Екатерина уже перешивала платья или разрезала одни, чтобы перелатать другие. К тому же и донья Эльвира стала видеть так плохо, что не замечала изъянов в нарядах своей подопечной, а все продолжала квохтать об этикете, приличиях и достойном поведении испанской принцессы! Это было невыносимо. Неужели дуэнья не понимала, что Екатерина занята более серьезными заботами? Наступил июнь, розы были в полном цвету, когда наконец пришел ответ от ее отца. В очень вежливых выражениях он напоминал, что обеспечивать Екатерину и ее двор – это обязанность короля Генриха. – Но мне это ничуть не поможет! – воскликнула принцесса, швыряя письмо на пол. – Я должна пойти к королю. – Нет! – рявкнула донья Эльвира. – Вы не можете открыто просить у него денег. Ужасно даже подумать об этом! – Тогда за меня это должен будет сделать доктор де Пуэбла! – Как же, от него, пожалуй, дождешься! – не унималась донья Эльвира. И Пуэбла отказался помочь. Разумеется, он не хотел портить добрые отношения с королем Генрихом. – Значит, мы должны затянуть пояса! – нападала на него Екатерина. – Чего я не могу понять, так это почему! Чем я провинилась? Чем заслужила такое отношение? – (Доктору де Пуэбле было не по себе.) – Если вы знаете, то должны сказать мне! – требовала Екатерина. – Я пребываю в таком же недоумении, как и ваше высочество. Мой совет – удовлетвориться распоряжениями короля. Через месяц принцу Генриху исполнится четырнадцать, и скоро вы поженитесь. Тогда все встанет на свои места. Это было верно. Как только сыграют свадьбу, она получит доступ к доходам Генриха как принца Уэльского – к тем, что раньше получал Артур. Король проследит за этим. Теперь уже ему нет смысла пытаться поставить ее в такие условия, когда она будет вынуждена начать использовать свою утварь, – скоро он и так все получит. Ей просто нужно потерпеть. Пора было возвращаться в Дарем-Хаус и готовиться к свадьбе.
День рождения принца наступил и остался в прошлом. Никто о нем не упоминал. Никто ничего не говорил о свадьбе. Не было приглашения ко двору. Вскоре со всей очевидностью стало ясно, что никаких приготовлений не ведется. «Почему? – снова и снова спрашивала себя принцесса. – Почему?» К осени ее финансовое положение стало отчаянным. – Пришло время вашему высочеству воспользоваться посудой и украшениями, которые лежат в хранилище, – сказала донья Эльвира. Екатерина с удивлением воззрилась на нее: – Но мы всегда были согласны в том, что я не должна к ним прикасаться. Это часть моего приданого. – Кто догадается, если несколько предметов исчезнут? А если кто-нибудь пожалуется, ваше высочество может ответить, что к этому вас вынудила необходимость. Это правда! Ваши кредиторы ропщут, желают получить свои деньги. Екатерина поразмыслила об этом. Идея была соблазнительная – и если она не предпримет каких-нибудь действий, то попадет в долговую яму. – Хорошо, – сдалась принцесса. – Но мы должны взять лишь столько, чтобы удовлетворить кредиторов. Донья Эльвира согласилась. Тем же вечером, когда все улеглись спать, они отперли сундуки. Екатерина ахнула при виде заточенных в них сокровищ – золото, серебро и без счета драгоценных камней, мерцавших в свете свечей. Чувствуя себя воровкой, она взяла золотое шейное украшение и четыре предмета из золотой столовой утвари. – Этого достаточно? – Достаточно, ваше высочество. – Донья Эльвира, казалось, была очень довольна их ночной вылазкой. Два дня спустя она сообщила Екатерине, что кредиторы удовлетворены. Но таким образом разрешилась всего одна проблема. Платить слугам все равно было нечем, и, несмотря на уговоры доньи Эльвиры, Екатерина не смела больше покушаться на свое приданое. Она не могла смотреть в глаза своим людям, боясь прочесть в них упрек. Ночи проводила без сна, прокручивая в голове: чем она настроила против себя короля Генриха, раз он так с ней обходится? Что будет с ее браком? Почему никто ничего не говорит? И почему король отказывает ей во встречах? Екатерина вновь умоляла отца заплатить ее слугам, но тщетно. Король Генрих прислал ей скромную сумму, которой хватало только на еду. И все это время доктор де Пуэбла ничего не предпринимал, а донья Эльвира целыми днями бранила его за это. Екатерина перестала слушать ее ропот, но однажды слова дуэньи привлекли внимание принцессы. – Это он виноват в том, что вас держат вдали от двора! – настаивала донья Эльвира. – Он кормит короля Фердинанда лживыми сказками, и тот даже не представляет, что вы испытываете. Нет сомнений, это именно он отравил разум Генриха и настроил его против вас, в этом и кроется причина холодности короля. – Но почему доктор это делает? – в изумлении спросила Екатерина. – Потому что он предатель, который оставил своего истинного владыку ради посулов короля Англии! – Тогда я действительно совсем одна! – воскликнула Екатерина. – Что мне делать? Донья Эльвира склонила голову набок: – Вашему высочеству нужно написать королеве Хуане и объяснить, как плохо с вами обходятся. Когда она узнает, в каких условиях вы вынуждены жить, тогда вместе с королем Филиппом принудит Генриха обращаться с вами как подобает, и вы обретете былое счастье! Не часто случалось, чтобы Екатерина испытывала теплые чувства по отношению к дуэнье, но в тот момент она готова была расцеловать ее. Такой ход действительно мог прекрасно разрешить ее сложности. – А как же мне связаться с Хуаной? – Это конфиденциально, ваше высочество, но мой брат Хуан Мануэль, который служит при дворе Филиппа и Хуаны, сообщил мне, что у них сейчас есть здесь свой человек, он прибыл для переговоров о браке между королем и вашей невесткой эрцгерцогиней Маргаритой. Я сама обращусь к нему от вашего имени. Екатерина сжала руки дуэньи: – Донья Эльвира, вы настоящий друг! Это был самый счастливый день для принцессы за долгое время. Впереди не только замаячил конец ее невзгодам, но и появилась согревающая душу перспектива того, что ее добродушная и веселая невестка станет королевой Англии! На следующий же день донья Эльвира привела в покои Екатерины Эрмана Римбре, посланника короля Филиппа. Римбре оказался учтивым, элегантно одетым фламандцем с длинными соломенного цвета волосами и теплыми голубыми глазами. Он сразу понравился Екатерине. – Донья Эльвира рассказала мне о затруднениях вашего высочества. Мне грустно слышать это, и я уверен, что смогу помочь. Королева Хуана в последнее время не раз говорила, что ей не терпится увидеться с вами. – Едва ли она жаждет увидеть меня больше, чем я – ее! – воскликнула Екатерина. – Тогда почему бы не написать ей и не договориться о встрече? – предложила донья Эльвира. – Король Генрих вряд ли откажет вам в возможности поехать повидаться с сестрой, – сказал Эрман Римбре, – и курьер как раз готов отправиться в путь с моими депешами. Он может взять и письмо вашего высочества к королеве. Я с удовольствием подожду, пока вы его напишете. – Как вы добры! – отозвалась Екатерина. – Донья Эльвира, пожалуйста, принесите мою шкатулку с письменными принадлежностями.
Не прошло и недели, как принцесса получила ответ. Королева Хуана будет счастлива встретиться с ней как можно скорее. Король Генрих тоже получил приглашение, и если он соблаговолит пересечь море и прибыть в Сент-Омер, то Филипп и Хуана с удовольствием примут его и Екатерину. «Мы устроим празднование и фейерверки, чтобы отметить это особенное событие, – обещала Хуана. – Мы с Филиппом поговорим с королем Генрихом о Вашем деле, и все устроится. С нетерпением жду встречи с Вами, дорогая сестрица». Екатерина не могла откладывать. Король Генрих должен согласиться поехать, он должен! – Донья Эльвира! Моя сестра прислала очень милое письмо! Послушайте, что она пишет… И принцесса прочла послание дуэнье. Та светилась от счастья. – Мы должны достать ваши лучшие платья и посмотреть, как их подновить. Но прежде всего вашему высочеству нужно написать королю. Мой брат слышал, что Генрих полон желания заключить союз с королем Филиппом. Думаю, его милость отнесется благосклонно к вашему предложению. Закончив письмо, Екатерина не стала его запечатывать, чтобы прочесть донье Эльвире и заручиться ее одобрением. В таком важном деле нельзя было полагаться на волю случая. Идя по коридору в поисках дуэньи, Екатерина лицом к лицу столкнулась с доктором де Пуэблой. Он покосился на письмо, нахмурив лоб. Екатерина не смогла удержаться: она должна была показать ему, что есть интриги, в которых он не участвует. – Господин посол! Я надеюсь в скором времени увидеть свою сестру. Она написала мне об этом, а я пишу королю, умоляя его снизойти к нашей просьбе. Может быть, вы хотите взглянуть на мое письмо? Она протянула ему лист. Пусть подивится ее замыслам! Пусть поймет, что, хотя он отказал ей, другие готовы помочь! Доктор де Пуэбла быстро пробежал глазами написанное. Его мерзкое лицо скривилось в гримасу. Он сглотнул и прокаркал: – Весьма похвально, ваше высочество. Она его обставила! Теперь ей стало ясно, почему говорят, что месть сладка! Более твердым тоном Пуэбла произнес: – Было бы правильнее, если бы просьба о такой встрече поступила напрямую от короля, через меня как посла королевы Хуаны. Позвольте мне передать ему ваше письмо. Опять он лезет не в свое дело! – Нет! – Екатерина выхватила у него свое послание. – Нет никаких причин, по которым я не могла бы написать королю сама, и я передам его через своих людей! И принцесса оставила доктора де Пуэблу. Донью Эльвиру она нашла в главном зале и протянула ей письмо. Дуэнья одобрительно кивнула и сказала: – Запечатайте его. Камергер ждет внизу, он доставит письмо королю в Ричмонд.
Только Екатерина села за ужин в своих покоях, как услышала за окном какую-то суматоху и громкие, разгневанные голоса. Один из них принадлежал доктору де Пуэбле. – Я должен видеть принцессу! – кричал он. – Это дело величайшей важности! – Я сказала, принцесса за столом и ее нельзя беспокоить. – Это была донья Эльвира. – Мадам, на кону судьбы Испании и Англии! Ужин может подождать! Екатерина, охваченная недобрым предчувствием, отложила нож. – Войдите, доктор де Пуэбла! – крикнула она. Дверь открылась, в комнату влетела донья Эльвира: – Ваше высочество, не слушайте его! Он предатель! – О, обвинять вы горазды! – огрызнулся Пуэбла, следовавший по пятам за дуэньей. – Ваше высочество, могу я поговорить с вами наедине? – Нет, не можете! – крикнула дуэнья. – Он явился сюда с целым ворохом лжи! В этот момент принцесса увидела лицо доктора. Это была маска гнева и страха, со следами размазанных слез и ручейками пота. Очевидно, посол сильно переживал из-за чего-то. Ей стало ясно: что бы ни сказал доктор, сам он мучился этим, и это было так не похоже на него, всем известного тонкого и коварного интригана. – Донья Эльвира, пожалуйста, оставьте нас, – попросила принцесса. – Ваше высочество, я умоляю вас о… – Прошу оставить нас! Раскрасневшаяся и разъяренная, дуэнья протопала к двери и вышла. Екатерина дождалась, пока ее шаги не стихли, потом повернулась к доктору де Пуэбле, который вытирал платком лоб. – Садитесь, – сказала она, пытаясь сохранять спокойствие. – А теперь расскажите мне о деле, которое может так сильно повлиять на отношения Англии с Испанией. Доктор де Пуэбла с благодарностью опустился на скамью. Екатерина налила ему вина, и посол быстро его выпил. – Ваше высочество, я не знаю, с чего начать… – От наплыва чувств голос его звучал сдавленно. – Пожалуйста, не сердитесь и выслушайте меня. – Говорите свободно, – подбодрила его Екатерина. – Ваше высочество, вероятно, не знает, что бургундский двор расколот на две партии, обе они жаждут определять будущее Кастилии. Хуана – королева, но как она будет управлять? Конечно не одна! Арагонскую фракцию возглавляет посол короля Фердинанда, Фуэнсалида; они хотят, чтобы король Филипп предоставил управление Кастилией вашему отцу. Они говорят, что Филипп медлителен, ленив и не особенно интересуется делами Испании, тогда как король Фердинанд имеет богатый опыт, много лет правил Кастилией вместе с королевой Изабеллой. В этом есть смысл, и для вашего высочества это наиболее предпочтительное решение, потому как, если ваш отец вернет себе власть над Кастилией, ваш прежний статус как принцессы Арагона и Кастилии будет восстановлен. Я полагаю, ваше высочество, именно понижение вашего статуса заставило короля охладеть к вам, а не какие-либо мои слова или действия. Екатерина кивнула, хотя слова посла ее не убедили и она не понимала, к чему ведут его рассуждения. – Однако при дворе Филиппа есть и другая партия, возглавляемая умелым и опасным человеком, истинным кастильцем, который ненавидит короля Фердинанда. Этот человек – Хуан Мануэль. Вижу, теперь вы кое-что понимаете. Он, как вам известно, брат доньи Эльвиры. Его ненавидят и боятся, но он обладает властью, и у него много сторонников. Его партия хочет выгнать короля Фердинанда из Кастилии и утвердить в качестве соправителей королеву Хуану и Филиппа. В данный момент Хуану Мануэлю нужен альянс между королем Филиппом и королем Генрихом, которые объединятся для изгнания арагонца. Как и многие альянсы, этот тоже должен быть скреплен браком – или двумя в нашем случае. План состоит в том, чтобы эрцгерцогиня Маргарита вышла замуж за короля Генриха, а Элеонора, дочь короля Филиппа и королевы Хуаны, стала супругой принца Генриха. – Нет! – не сдержалась Екатерина. – Выйти за принца Генриха должна я! – Этого не будет, если своего добьются Хуан Мануэль или король Генрих. Пока Филипп колеблется, Генрих готов действовать, и поэтому Хуан Мануэль нуждается во встрече, которую вы с такой охотой устроили. Екатерина потеряла дар речи. – Вы лжете! – с вызовом заявила она. – Я похож на человека, который лжет? – возразил Пуэбла. – Ваше высочество, мне известно, что донья Эльвира настроила вас против меня. Она ненавидит евреев и годами делала все возможное, чтобы подорвать мое положение. Мне не хотелось приходить сюда, где мне, я знаю, не рады. Но сегодня днем, когда вы показали мне письмо и я понял, что затевается, то прямо спросил донью Эльвиру. Я был тактичен: высказал предположение, что она не оценила, ради чего устраивается эта встреча в Сент-Омере, или не знала всех мрачных подробностей, которые ей сопутствуют. Я убедил ее, что не может быть ничего более болезненного для Испании, для короля Фердинанда и для вашего высочества. Ей это не понравилось, но она согласилась, что писать королю Генриху было ошибкой. Поэтому камергера отослали, и я вернулся домой. К счастью, я оставил своего человека на страже неподалеку от ваших ворот, и, пока сам я сидел за ужином, он примчался ко мне с сообщением, что камергер только что отправился в Ричмонд верхом. Екатерина была совершенно ошеломлена. Ее использовали, ее обманывали люди, которым она больше всего доверяла – себе во вред! Принцесса не могла сомневаться в правдивости Пуэблы – она никогда не видела его таким встревоженным и взволнованным, – как и в том, что донья Эльвира и Хуан Мануэль использовали ее самым предательским образом. Осознание этого стало для нее сильнейшим ударом. То, что донья Эльвира могла содействовать другому браку принца Генриха, который оставлял ее, Екатерину, брошенной, униженной и с разбитым сердцем, было просто ужасным, невероятным, невообразимым. Это было предательство наихудшего рода. Доктор де Пуэбла смотрел на Екатерину с сочувствием: – Ваше высочество, вы одна можете расстроить весь этот заговор. Напишите королю еще раз. Отговорите его от встречи. Это ваш долг по отношению к отцу. – Я так и сделаю. Но я чувствую себя такой дурой. До чего же я была наивна! – Вашему высочеству всего девятнадцать лет, вы еще слишком юны, чтобы знать, какой опасной может быть жизнь при дворе. Но я старый человек и видел все это – заговоры, ложь, хитроумные замыслы, врагов, что прикидываются друзьями, обманщиков… – Но обнаружить такое при своем дворе – это ужасно! – Есть еще кое-что. Ваш второй священник говорит, что часть вашей посуды и украшений пропала. Боюсь, донья Эльвира могла украсть их, чтобы поставить под угрозу выполнение условий вашего брачного договора. На Екатерину накатила жаркая волна стыда. – Я согласилась продать их, прости меня Господи! Чтобы заплатить кредиторам. Не было другого выхода. Доктор сочувственно глядел на принцессу: – Но предложила это она? – Да. – Мотивы ею двигали те же. Ваше высочество, вы должны радоваться, что ее вывели на чистую воду. Вы пригрели змею на груди. Екатерина встала. У нее подгибались колени. Она подошла к буфету и налила себе вина, пытаясь прийти в себя. Потом, пошатываясь, побрела во внутренние покои, взяла шкатулку для письма и вернулась к столу. Достав лист бумаги, чернильницу и перо, она повернулась к доктору де Пуэбле: – Продиктуйте, что я должна написать.
Когда Пуэбла отбыл в Ричмонд, Екатерина собралась с духом и позвала донью Эльвиру. Ее не радовало предстоящее объяснение, но ярость и задетая честь требовали не уклоняться от него. Праведный гнев придаст ей сил. Дуэнья вошла с вызывающим, даже нахальным видом. Екатерина не предложила ей сесть и заставила стоять, пока сама излагала то, что сказал ей доктор де Пуэбла. – Что вы можете ответить на это? – Это все ложь! – выпалила донья Эльвира. – Вы должны лучше разобраться во всем, а не верить этому увечному еврею. – Но я верю ему. Он был сам не свой и очень переживал. Нет, донья Эльвира, это вам я не верю! Вы с вашим братом плели интриги, чтобы разрушить мой брак и способствовать заключению альянса, вредного для короля Фердинанда, которому должны хранить безусловную верность! – Я ничего не должна арагонцу! – взвизгнула дуэнья. – Я кастильянка, и горжусь этим! Пока была жива ваша святая матушка, я с радостью преклоняла колени перед вашим отцом, но сейчас ее дочь правит Кастилией, а у него нет никакого права на власть там! Екатерина смотрела на дуэнью в полном недоумении. Она даже не представляла, что у доньи Эльвиры такие сильные убеждения. Принцесса сглотнула. – Своими собственными устами вы осудили себя! – произнесла она, едва сдерживая ярость. – Вы предали доверие моего отца, и вы предали меня! Какая участь ждала бы меня, если бы принц Генрих женился на Элеоноре? С позором вернуться в Испанию, отвергнутой и презираемой? Вот какую судьбу вы уготовили мне! А ведь моя мать доверила вам заботу о моем благополучии! Донья Эльвира вскинула голову: – Бог свидетель, я исполняла свои обязанности по отношению к вам, но мой первый долг – служить Кастилии и королеве. – Вы изменница! – закричала Екатерина, совершенно выходя из себя. – Вы изменили моей матери, моему отцу и мне! Если бы я могла поступать по своей воле, вы отправились бы в заточение, но у меня нет такой власти. Но что я могу сделать и сделаю, так это отошлю вас прочь. Вам придется отбыть к бургундскому двору, потому что, будьте уверены, в Испании, где длинная рука моего отца добирается до самых укромных уголков, вам никто не обрадуется. И вы с вашим братом, о котором говорить противно, сможете ввязываться в дела, которые не будут так сильно задевать ваши нежные чувства! Пухлое лицо доньи Эльвиры будто осунулось и приобрело неприятный оттенок сырого теста. – Ваше высочество, может быть, нам не стоит так торопиться… – Нам? Я приняла решение. И не пытайтесь изменить его. – Но что будет делать ваше высочество без дуэньи? Никто лучше меня не знает, как управлять вашим хозяйством. – Сама справлюсь! В моем возрасте я не нуждаюсь в дуэнье. А теперь идите и готовьтесь к отъезду. Я прикажу камергеру устроить ваш переезд во Фландрию. – Простите меня, ваше высочество! – В голосе пожилой женщины звучало отчаяние. – Я пренебрегла своими обязанностями. – Донья Эльвира, решение принято! Дуэнья открыла было рот, чтобы возразить, но передумала. – Как вы объясните мой отъезд? – кротко спросила она. – По справедливости, надо было бы всем честно объяснить его причину! Вы это заслужили. Но я не хочу выглядеть дурой в глазах всего света. – Принцесса задумалась. – Все знают, что у вас слабеет зрение. Я скажу, что вы ослепли на один глаз и что я отправляю вас во Фландрию на лечение к врачу, который помог моей покойной сестре, королеве Португалии. Думаю, в нашем случае это очень благопристойное объяснение. И вы, конечно же, не вернетесь. – Но, ваше высочество, я не хочу закончить свои дни во Фландрии! Екатерина не сдержалась: – Вы хотите закончить их на виселице в Испании? Похоже, вы даже не понимаете, как вам повезло. Если я отправлю вас к моему отцу, вы ответите за измену! – Прошу прощения, ваше высочество! – Уходите! – приказала Екатерина. Стараясь сохранять достоинство, донья Эльвира сделала реверанс и без единого слова покинула комнату. Екатерина рухнула на стул. Сердце у нее тяжело билось, по щекам лились слезы. Ей было мучительно неприятно ругаться со своей дуэньей и выгонять ее, но другого выхода не оставалось. И все же ссора вымотала ее и оставила ощущение вины. «Но что еще я могла сделать?» – спрашивала себя принцесса. В дверь постучали, вошла Мария. На ее лице, когда она увидела, как расстроена Екатерина, появилось выражение мрачного беспокойства. – Ваше высочество, как вы? – Какой ужасный был час! – произнесла Екатерина, утирая слезы. – Мы все слышали вас. Вы кричали. Я не могла поверить, что это были вы, ваше высочество. Что она сделала, чтобы заслужить такое? – Этого я не могу сказать даже тебе. Но я выгнала ее. Она ушла навсегда. – Хвала Господу! – воскликнула Мария. – Я ее всегда терпеть не могла. – Если бы ты только знала, – сказала Екатерина, поднимая и заключая в объятия свою подругу. – Ваше высочество, вы дрожите. – Знаю. – Екатерина облегченно вздохнула. И пришло понимание: наконец она стала самостоятельной женщиной.
Глава 7 1505–1507 годы
Екатерина поверила доктору де Пуэбле, когда тот поведал ей, как ее использовало семейство Мануэль, но не могла смириться с тем, что из-за разделения Испании стала не мила королю Генриху. Она подозревала: кое-что из сказанного доньей Эльвирой – правда, доктор был нечист на руку и любил легкую жизнь при английском дворе. Немалая встряска потребовалась ему, чтобы он вспомнил о той роли, которую должен был исполнять, и принцессе самой пришлось в этом убедиться. Между тем Екатерине доложили: Эрман Римбре отбыл домой во Фландрию на том же корабле, что и донья Эльвира с мужем и их слугами. Разговоров о встрече в Сент-Омере больше не было, но сама принцесса не получала известий от короля Генриха, и ее положение никак не улучшалось. В декабре – в том самом декабре, когда ей исполнилось двадцать, а она все еще была не замужем, – Екатерина вновь написала отцу, во всей полноте расписав тяжесть своего положения. Во всем виноват доктор де Пуэбла, сообщала она отцу. Посланник совершил тысячу ложных шагов против Фердинанда и сослужил ей самой очень плохую службу. Принцесса особенно подчеркнула, как тяжело ей видеть своих слуг в такой нужде и быть не в состоянии приобрести для них новую одежду. Еще два обстоятельства волновали Екатерину. Перед отъездом донья Эльвира умоляла ее найти себе новую дуэнью. Принцесса отвергла совет, но боялась, что некоторые из ее людей и доктор де Пуэбла – а все они были испанцами – посчитают попранием ее достоинства, если она сама начнет заниматься хозяйством своего двора. Они наверняка пожелают ей, по крайней мере, приобрети более опытную советчицу. И король Генрих мог держаться того же мнения. Екатерина понимала: возьми она на себя решение всех бытовых вопросов, это подорвет уважение к ней. А еще приходилось искать нового священника. Отца Дуарте донья Эльвира забрала с собой, и теперь у Екатерины не было духовника. Она приглашала в Дарем-Хаус священников из церкви Сент-Мартин и из церкви Сент-Мэри ле Стрэнд, однако боялась, что ее английский для исповеди недостаточно хорош. Но невозможно же исповедоваться на латыни, это слишком высокопарно. В итоге принцесса осталась без духовного утешения, хотя очень в этом нуждалась. Ко всем неприятностям Екатерины добавилось возвращение приступов малярии. Дня не проходило без дрожи озноба, оставлявшей смертельную усталость. Постоянные тревоги только усугубляли положение. Надо было что-то предпринять, поэтому принцесса собралась с силами и попросила совета у доктора де Пуэблы. Больше говорить было не с кем. – Я советую вашему высочеству отправиться ко двору самой и встретиться с королем Генрихом. Было ясно, что говорить от ее лица он не намерен. Неохотно принцесса собрала фрейлин и эскорт, совершенно больная, села в барку и поехала ко двору. Она чувствовала себя очень неловко, потому что вид имела жалкий, а лорд-камергер повел ее в комнату для гостей через весь дворец. Она предпочла бы пройти каким-нибудь потайным путем, но лорд, очевидно, считал, что особы ее ранга должны следовать через приемные залы и галереи, в которых полно народу, у всех на виду. Вот идет она, бедная, всеми забытая испанская принцесса. Как они ее одурачили! Екатерина понимала, что ее лучшее платье из коричневого бархата с лентами из золотой парчи давно уже пережило свои лучшие времена. Она знала, что выглядит измученной и больной. Однажды утром по пути из Королевской капеллы, куда ходила на исповедь, принцесса пришла в ужас, завидев идущего ей навстречу принца Генриха. Взволновавшись, Екатерина присела в глубоком реверансе, ожидая, что он ее поднимет, но принц только поклонился и прошел мимо, отведя глаза. Как ей удалось встать на ноги, она и сама не знала. Оказавшись в уединении своих покоев, Екатерина легла на кровать и заплакала. Она чувствовала себя такой слабой, больной и разбитой, что казалось, никогда больше не сможет подняться. В тот вечер с ней захотел повидаться доктор де Пуэбла. Принцесса ополоснула водой лицо, пригладила волосы и заставила себя принять его. – Я имел беседу с королем о делах вашего высочества, – заявил посол. – Мы пришли к соглашению. У Екатерины тут же возникли подозрения. – Но я сама должна была говорить с королем! – гневно сказала она. – Я затем сюда и приехала. Лучше бы Господь вообще не допускал, чтобы я здесь оказалась, мысленно добавила она. – Позволит ли ваше высочество мне закончить? Король считает, что подыскивать замену донье Эльвире нет необходимости. Он отпустит большинство ваших слуг и расформирует ваш двор. Таким образом будут сэкономлены средства. А вы отныне будете жить при королевском дворе. Именно этого Екатерина надеялась избегнуть. – И это наилучшим образом отвечает моим интересам? – Я полагаю, да. – Значит, вы изменник! – выкрикнула она. – Разве вы не понимаете, что король не хочет платить за содержание отдельного двора и что вы сыграли ему на руку, приняв это? Вот так соглашение! – В соответствии с условиями помолвки король имеет право распоряжаться вашим двором по своему усмотрению, – невозмутимо ответствовал доктор де Пуэбла. – Но не к моему бесчестью! – взвилась Екатерина. – Я напишу своему отцу-королю и все расскажу ему! Перо запорхало над пергаментом. Невзирая на изнеможение, она должна отправить письмо.Умоляю Ваше Величество вспомнить, что я Ваша дочь! Доктор де Пуэбла доставил мне столько неприятностей, что я почти лишилась здоровья. Два месяца меня терзали жестокие приступы малярии, из-за чего я вскоре умру.Она почти верила в это. Разве сможет ее отец отмахнуться от такой отчаянной мольбы? Она побуждала его прислать золото вместо посуды и драгоценностей, не смея упомянуть о том, что была вынуждена взять из запасов еще несколько вещей, которые были отданы в залог и не выкуплены. Если в ее сундуках появятся золотые монеты, король Англии будет доволен, и все снова станет хорошо. «Я пропаду, если не получу поддержку из Испании», – написала она. Ответа не последовало. Складывалось ощущение, что отец бросил ее. Одиночество и отчаяние вынудили ее сказать большинству слуг, что их самоотверженность оказалась напрасной и они должны возвратиться в Испанию. Ей отвратительно было делать это, горько видеть разочарование на их лицах, грустно прощаться. Она обманула их надежды, но не по своей вине – как могла постаралась объяснить им принцесса. Франсиска де Касерес оказалась среди тех, кому предстояло остаться. Как и предчувствовала Екатерина, девушка стала возражать. – Ваше высочество знает, как я хотела уехать домой! – Болезненное, оливкового цвета лицо Франсиски выражало протест. – Франсиска, я должна учитывать желания ваших родителей, к тому же мне все равно необходима помощь молодых девушек из хороших семей, таких как вы, – объяснила Екатерина. – Ваше высочество, а вы зачем здесь остаетесь?! – выпалила Франсиска. – Тут нас не ждет ничего, кроме нужды и унижения! – Идите в свою комнату, – холодно сказала Екатерина. – Вам не пристало диктовать условия королю. Когда будете готовы выказать надлежащее смирение, можете вернуться. Франсиска со слезами на глазах рухнула на колени и просила прощения. Конечно, она искренне хотела вернуться домой. И кто мог ее винить за это? Но если уж сама Екатерина терпела нужду и лишения и то же самое, не жалуясь, делали другие, значит и Франсиска должна справляться. Со своей сильно урезанной свитой Екатерина, повинуясь приказанию короля, прибыла ко двору, где ей отвели помещение в отдалении от королевских покоев. Тут было всего четыре помещения, включая ее личную комнату и спальню, в них-то и должны были как-то втиснуться сама принцесса и оставшиеся при ней слуги. Окна с ромбовидными стеклами выходили в узкий двор, гобелены на стенах висели такие старые и выцветшие, что едва удавалось разобрать рисунок. Трава на полу была вся истоптана и давно требовала замены, а такой мебелью, как стояла в этих покоях, перестали пользоваться еще в прошлом столетии. Обиженная, Екатерина попросила о встрече с королем. Потребовались уговоры и мольбы, но наконец ее допустили предстать перед его величеством. Когда принцесса вошла в его кабинет, Генрих поднял взгляд. Лицо его постарело и было изрезано глубокими морщинами. Рыжие волосы поседели и висели жидкими клочьями над меховым воротником. Трудно было поверить, что когда-то он относился к ней с добротой. – Ваше высочество хотели видеть меня, – сказал Генрих, голос его звучал оживленно, деловито. Екатерина взглянула на него с мольбой: – Ваша милость, у меня нет денег. Я нищая. Мой двор упразднен, но я не могу заплатить слугам, которые остались со мной. У меня нет средств на покупку одежды, мне нужно… – Остановитесь! – приказал король. – Мне достоверно известно, что у вас имеются необходимые средства на жизнь. – Сир, у меня их нет. И осмелюсь напомнить вашей милости, что по условиям моей помолвки… – Я знаю условия вашей помолвки. Я вас обеспечил. Вы живете при моем дворе, я плачу за ваше питание. Договор соблюдается. – Сир, этого недостаточно. Умоляю вас помочь мне! Я почти что голая, все мои платья изношены. Слуги дошли до того, что вынуждены просить милостыню. А комнаты, в которых меня поселили здесь, не подходят даже для судомоек! Это все меня очень расстроило. Я несколько месяцев была на пороге смерти! Принцесса плакала, не сдерживая слез, больше не боясь разозлить короля. – Я не виноват в ваших затруднениях! – рявкнул Генрих и закашлялся. Прижимая платок ко рту, обождал, пока не прошел приступ. Когда он снова заговорил, голос был хриплый: – Будьте довольны тем, что я для вас сделал. У меня нет никаких обязательств. Меня обманули с вашим приданым. – Как это? – Доктор де Пуэбла передал мне, что король, ваш отец, обещал выплатить его деньгами. До сих пор я не видел ни пенни. А теперь идите. И будьте благодарны, что я даю вам кров и хлеб! Глаза под тяжелыми веками были холодны, рот с плотно сжатыми губами превратился в жесткую линию. Исполненная скорби, Екатерина сделала короткий реверанс и скрылась в своих унылых покоях. Это был полный крах всех упований. Может ли быть положение хуже?
Екатерина огладила руками новое платье и выпрямила спину. Головокружение едва не валило ее с ног, но она старалась не обращать внимания. После долгих лет разлуки принцессе не терпелось встретиться со своей старшей сестрой. Хуана и Филипп попали в кораблекрушение у берегов Англии по пути из Фландрии в Испанию и пробились сквозь январские ветры в Виндзорский замок. А сейчас они должны находиться в главном зале, где на празднике, устроенном королем Генрихом, будут отмечать счастливое спасение. Сколько у них будет тем для разговоров! Как королева Кастилии, Хуана непременно поймет затруднения Екатерины и что-нибудь для нее сделает. Немного раньше тем же вечером в апартаменты принцессы доставили два новых испанских платья – подарки от короля. Екатерина была приятно удивлена этой нежданной щедростью, но потом радость омрачило понимание. Платья были присланы для того, чтобы лишить убедительности любые жалобы на плохое отношение, которые могла бы высказать Филиппу и Хуане принцесса. И все равно они были прекрасны: одно из черного бархата, второе из желтого дамаста с алыми рукавами. Екатерина выбрала черное, хотя оно и подчеркивало ее бледность. Вот только чувствовать бы себя получше. Ей потребовалась помощь Марии, чтобы выбраться из постели и одеться, а сейчас подруга шла на шаг позади, готовая, если понадобится, подхватить госпожу. Как только они вошли в главный зал, Екатерина стала искать глазами красивое лицо своей сестры. Там был король; там был, что очень порадовало, принц Генрих. С ними за высоким столом сидел ошеломительно красивый мужчина – он обернулся посмотреть, как она шествует вдоль столов, за которыми плечом к плечу сидели гости. Екатерина почувствовала, что он изучает ее с почти неприличным интересом, и поняла: это, должно быть, Филипп. Теперь Екатерина воочию убедилась, почему его прозвали Красивым. Высокий, с длинными черными волосами, полными чувственными губами и полуопущенными веками; последние две черты намекали на мощную, почти нескрываемую чувственность. Неудивительно, что Хуана ревновала! И еще в нем ощущалась холодность, отчего Екатерина почти не сомневалась, что ее зять себялюбив. Когда она дошла до стола, Филипп приветствовал ее, назвав своей дорогой сестрицей, но глаза его уже переметнулись на других женщин. Хуаны нигде не было. Екатерина немало удивилась, обнаружив, что для нее приготовлено почетное место рядом с королем Генрихом. Это лишь подтвердило ее подозрения: король намерен сделать все возможное, чтобы Филипп вернулся в Испанию с блестящим отчетом о том, как почтительно относятся при английском дворе к его свояченице. Но едва ли все это можно было посчитать знаком королевской милости. Заняв свое место, Екатерина еще раз огляделась в поисках Хуаны. – Надеюсь, моя сестра присоединится к нам? – спросила она короля. Услышав обращенный к другому вопрос, Филипп взмахнул рукой, будто отмахнулся: – Она все еще оправляется после поездки. Завтра она, несомненно, будет в лучшем расположении духа. Екатерина постаралась не выказать разочарования. Она возлагала такие надежды на эту встречу. Давя в себе желание потребовать, чтобы ее немедленно отвели к сестре, Екатерина обернулась к принцу Генриху, который сидел по другую руку от короля. По крайней мере, ей удастся поговорить с женихом. В четырнадцать лет он сильно вытянулся и уже приобретал черты мужчины. Приветствуя Екатерину, принц был, как всегда, любезен, но она отметила в нем намек на ту же сдержанность, которая так обескураживала ее в Артуре. Оттого это, что Генрих повзрослел, или то было знаком охлаждения к ней? Екатерина молилась, чтобы последнее оказалось неправдой. Когда принесли первую перемену блюд – все двадцать, – она попыталась вовлечь принца в беседу. Но его ответы были кратки, от страсти, пронизывавшей их прежние разговоры, почти ничего не осталось.
Пир закончился, и король попросил Екатерину станцевать с фрейлинами для развлечения Филиппа. Она чувствовала начало приступа озноба и головокружение, но вышла вперед ради принца Генриха; громкие аплодисменты были ей наградой. По просьбе отца своего жениха Екатерина предложила Филиппу присоединиться к танцующим, но тот отказался и продолжил увлеченно разговаривать о политике с хозяином торжества – королем. Так же все шло и дальше. Следующие недели были наполнены бесконечными переговорами и встречами, участия в которых Екатерина не принимала и даже не надеялась на это. Но что-то секретное определенно обсуждалось, и она подозревала, что это имеет отношение к ней. Когда Екатерине предложили присоединиться к свите обоих монархов, она была поражена тем, как непочтительно отзывался Филипп о ее отце. Он даже не пытался скрыть свою неприязнь к королю Фердинанду. Недоверие принцессы по отношению к прекрасному зятю только усилилось, когда ей наконец выпало счастье увидеться с Хуаной. Они встретились в шумном главном зале, под острыми взглядами, в окружении перешептывающихся придворных. Екатерина жаждала обнять сестру и поделиться с ней своими самыми глубокими тревогами, но из их первой встречи стало ясно: Хуана поглощена другими делами и глаза у нее все время на мокром месте из-за безразличия Филиппа. Прославленную красоту Хуаны избороздила морщинами печаль, а ее лицо сердечком превратилось в напряженную маску с вечно поджатыми губами. Под роскошным платьем, богато расшитым бархатным чепцом, парчовыми рукавами и шелковой гербовой мантией скрывалась глубоко несчастная женщина. За три месяца визита королевской четы Екатерине удалось всего полчаса побыть наедине с Хуаной, но этого оказалось недостаточно, чтобы отвлечь внимание сестры от ее собственных дел. Екатерина считала, что им специально не давали встречаться и это затея короля, но Хуане все равно не было дела до страданий Екатерины. Ее не интересовал никто, кроме Филиппа. Екатерина пыталась завести с ней беседу о детях, особенно о наследнике, шестилетнем эрцгерцоге Карле, но стоило поблизости появиться Филиппу – и этот разговор пошел ко дну. Хуана следила за ним постоянно, в ее глазах светились надежда, мольба, они были исполнены преданного обожания, как у комнатной собачки. Екатерина скривилась, заметив это. Где же испанская гордость Хуаны, ее королевское достоинство? Было очевидно: Хуана не такая королева, какой была их мать Изабелла. Она слишком занята собой, слишком чувствительна. Очень скоро обнаружилось, что реальная власть находится в руках ее мужа. Хуану не интересовало, о чем беседуют два короля, и она, конечно же, не имела желания обсуждать эту тему с Екатериной. В апреле принцесса попрощалась с сестрой, чувствуя не столько разочарование в своих надеждах, сколько огорчаясь за Хуану.
– Мертв?! – в ужасе эхом откликнулась Екатерина. – Это невозможно! Ему всего двадцать восемь! К тому же зять ее был красив, полон сил и неодолимо привлекателен, по крайней мере, таким она увидела его этой весной. Но Екатерине, как никому другому, былоизвестно, что смерть не обращает внимания на возраст. – Ваше высочество, по моим сведениям, эрцгерцог Филипп скончался от скоротечного брюшного тифа, – сказал доктор де Пуэбла. – Прошу вас, примите мои соболезнования. – Я была мало знакома с ним. Горюя по нему, я думаю о королеве Хуане и тех страданиях, которые причинит ей эта потеря. Сердце принцессы сжалось от боли за неуживчивую сестру. Раньше ей можно было позавидовать, но теперь это закончилось. Ее обожаемый Филипп мертв, и Хуана сойдет с ума от горя, в этом можно было не сомневаться. – Какой удар для ее величества! – произнесла Екатерина. – И ведь она ждет ребенка. Как она будет управлять Кастилией? – Король Фердинанд рядом, он поможет ей, – напомнил принцессе доктор. – Конечно. Кто лучше его знает все кастильские дела. – Екатерина легко могла представить, с какой охотой ее отец восстановит свою власть над Кастилией. – Ее величество сможет на него положиться. Теперь, когда положение Фердинанда упрочилось, то же коснулось и Екатерины. Она стала желанной гостьей в Ричмонде. Король Генрих был весь доброжелательность и радушие, а сдержанность принца, казалось, как рукой сняло. Юный Генрих теперь постоянно искал ее для танцев и прогулок в саду, и все это в лучах отцовского одобрения. Когда они беседовали с посторонними людьми, ему доставляло очевидное удовольствие ссылаться на Екатерину. Теперь это звучало так: «Что думает об этом моя жена-принцесса?» или «Моя дражайшая супруга согласится с вами, я уверен…». Ее пробирала дрожь, когда она слышала, как принц произносит эти фразы, и она упивалась тем, что снова оказалась в самом сердце королевского двора. Екатерина продала два браслета и потратила деньги на покупку нового платья из алого бархата. Теперь она могла появляться на людях в подобающем принцессе виде, и малярия наконец отступила. Зеркало подсказывало, что платье, несомненно, ей идет – выгодно оттеняет золото ее длинных волос и белизну лица и прекрасно сочетается с чепцом из того же материала. Принцесса не могла поверить, что колесо Фортуны повернулось вновь. Казалось, в который уже раз, что все сложится хорошо.
Екатерина не привыкла к тому, чтобы король откровенничал с ней. – Это деликатная история, – сказал однажды Генрих в своем кабинете. Был тусклый январский день, король откинулся в кресле и сурово поглядел на собеседницу. – Она касается одной леди, а потому я посчитал удобным спросить вашего совета. Честно говоря, я хочу жениться на королеве Хуане. Екатерина вытаращила глаза, почти забыв, что перед ней король. Генрих подхватил с пола обезьянку, усадил к себе на колени и закинул ей в рот орешек. – Я был поражен красотой королевы во время ее приезда в Англию, но тогда она, разумеется, была замужем, и, естественно, я не думал о ней каким-то особенным образом. Но теперь она одна и явно нуждается в муже, который сможет управлять для нее Кастилией. Сердце Екатерины радостно затрепетало. Хуана станет королевой Англии! Воспоминания о собственном нежелании выходить замуж за короля Генриха мигом улетучились. Тогда она была гораздо моложе, чем Хуана сейчас, и с унынием представляла себе краткое царствование и последующие долгие годы вдовства. Но Хуана уже была королевой и имела шестерых детей. Брак с Генрихом уладил бы все сложности не только Хуаны, но и Екатерины тоже: за ним непременно последовала бы ее собственная свадьба с принцем Генрихом, вторая связь между Англией и Испанией. И как было бы замечательно, если бы сестра оказалась здесь, в Англии. – Естественно, я рассчитываю, что вы одобрите эту идею, – сказал Генрих, проницательно вглядываясь в нее. – Всем сердцем одобряю, сир. – И я надеюсь, король, ваш отец, отнесется к этому так же. Видите ли, мне нужно его дозволение – и благословение. – Я не думаю, что мой отец станет возражать, сир. Дружба с Англией очень важна для него. – Да, но в настоящее время он сам управляет Кастилией и, вероятно, захочет продолжить это. Конечно же, Кастилию Генрих хотел заполучить не меньше, чем Хуану. – Формально он не вправе исполнять эту роль в Кастилии, – заметила принцесса. – Не может же он жениться на собственной дочери! – Верно замечено, – усмехаясь, произнес Генрих. – А теперь, Кэтрин, я бы хотел, чтобы вы написали своему отцу и передали ему мое предложение.
Екатерина написала и была рада получить известие, что ее отец и сам не прочь посодействовать браку. Конечно, еще слишком рано интересоваться, расположена ли Хуана к новому замужеству, но если бы такая мысль была ей не чужда, то Фердинанд не сомневался: ее избранником стал бы не кто иной, как король Англии. Принцесса заторопилась просить аудиенции у короля, и когда передала ему хорошие новости, угловатое лицо Генриха как будто округлилось. – Кэтрин, я вам глубоко признателен. Это для меня величайшая радость. С ним была его мать леди Маргарет. Выглядела она еще более слабой, чем обычно, но широко, лучисто улыбалась. – Вы послужили его милости вестником, – сказала она Екатерине, – и принесли большое счастье. Благословляю вас, дитя. Екатерина возвращалась в свои покои с легким сердцем, предвкушая славное будущее, которое наступит, когда Англию свяжут с Испанией еще более крепкие узы. Однако за дверями ее поджидал доктор де Пуэбла – лоб нахмурен, лицо угрюмое. Казалось, он никак не мог заговорить. Потом слова полились потоком. Выяснилось, что существовали опасения насчет душевного здоровья ее сестры. – Конечно, она была убита горем, но тут нечто большее. Ваше высочество, она все никак не может расстаться с телом Филиппа, не дает его похоронить. Екатерина в ужасе прикрыла рот ладонью. Промелькнуло почти забытое воспоминание о той ужасной старой женщине в Аревало, их с Хуаной бабке. – Королева ездит по Испании и повсюду возит с собой гроб, – сказал доктор де Пуэбла. – Тело забальзамировано, но я получил один отчет, где говорится, что ее величество открывает гроб, обнимает и целует тело. Она не соглашается, чтобы его предали земле. Разумеется. Наконец-то ей не приходится ни с кем делить Филиппа. Екатерина перекрестилась. Ее затошнило. Она попыталась избавиться от ужасных образов, вызванных словами доктора де Пуэбла. – Не могу поверить в это, – прошептала принцесса. – О таком невозможно говорить. Я буду молиться за нее. Хуана, должно быть, помешалась с горя. Хвала Господу и всем святителям, что их отец там и может вместо нее управлять Кастилией. Когда Екатерина в тот день села ужинать, на сердце у нее было тяжело. Должна ли она сказать что-нибудь королю Генриху? Если по совести, возможно, да, но ей так хотелось, чтобы его брак с Хуаной состоялся. Весь вечер она промучилась в нерешительности, а в шахматах проявила себя таким плохим игроком, что Мария рассердилась на нее за неспособность сосредоточиться. А потом явился придворный с вызовом к королю, и тут настроение принцессы совсем упало. По лицу Генриха она сразу поняла, что тому известно худшее. – Я получил это письмо от вашего отца. Он передал лист Екатерине, чтобы та прочла, и она увидела, что Фердинанд все ему рассказал. Теперь Генрих объявит ей о прекращении переговоров о браке. Но нет. – Когда мы поженимся, к сестрице вашей, королеве, быстро вернется рассудок, – сказал Генрих. Потом он увидел лицо Екатерины. – Меня не слишком волнует ее нездоровье, если вас тревожит это. Расстройство ума не помешает ей вынашивать детей. Екатерина была потрясена. Слова короля показали ей, как мало его заботит Хуана и ее душевное здоровье. Его интересовали лишь ее красота, плодовитость и королевство, которое он получит благодаря ей. Так относится к браку большинство мужчин. Как ей повезло иметь будущим супругом юного Генриха, который любил ее за то, какая она есть. – Я скажу вашему отцу, что буду счастлив продолжить переговоры, – заявил король, не обращая внимания на ее неодобрение.
С приближением весны Екатерина вновь начала страдать от приступов малярии, и даже сам король не раз выражал по этому поводу беспокойство. Но больше, чем болезнь, ее беспокоило новое подозрение: король намеренно отдаляет их с принцем Генрихом друг от друга. Вот уже много недель она не видела своего жениха. – Труднее всего мне выносить то, что я так редко встречаюсь с его высочеством, – доверилась она доктору де Пуэбле. – Мы живем в одном доме, и мне это представляется невероятной жестокостью. – Я поговорю с королем, – обещал посол. Полученный ответ совсем не понравился принцессе, она такого не ожидала. – Его милость сказал мне, что держит вас поодаль друг от друга для блага вашего высочества. – Какое же благо это может принести мне?! – воскликнула принцесса. – Он не пояснил, но, очевидно, имел в виду, что если вы привыкнете жить без принца, то вам будет не так больно, если помолвка расстроится. – Расстроится? – эхом отозвалась пораженная Екатерина. – Кто говорит об этом? – Простите меня, ваше высочество, я всего лишь пытаюсь предвидеть все варианты развития событий. Королю предлагали много других невест для принца Уэльского, и все с бóльшим приданым. Это мог быть и блеф, но он напугал Екатерину, и она молила своего отца уступить желаниям Генриха. «Пожалуйста, сделай так, как он хочет, не дай этим людям превратить меня в ничтожество». Денег все равно не хватало, несмотря на то что Екатерина как будто была в фаворе. Ее слуги ходили в отрепьях, и ей было очень стыдно, что они живут в такой бедности. Вновь Екатерина умоляла отца помочь им. Она сознавала, что их терпению, как и одежде, приходит конец. Но король Генрих и пальцем не пошевелит, пока не получит приданое, а Фердинанда, похоже, волновало только одно: чтобы она сохранила нетронутыми посуду и драгоценности. В это время нужды и лишений принцесса по-прежнему не имела духовника-испанца. Одним из преимуществ жизни при дворе было наличие нескольких королевских священников, но они служили своему господину и были преданы в первую очередь ему. Король Фердинанд оставался глух к мольбам Екатерины прислать монаха ордена святого Франциска, а она испытывала к этой ветви церковного древа особые пристрастие и почтение. Поэтому принцесса решила заняться поисками духовного наставника сама и написала главе ордена францисканцев в Испании, прося о помощи в подборе нового исповедника. Таким образом в апреле 1507 года в ее жизнь вошел брат Диего Эрнандес. Его представили принцессе, когда она сидела за шатким столиком в своих покоях с открытой иллюстрированной псалтырью в руках. Екатерина подняла глаза и увидела высокого молодого человека с красивым смуглым лицом и яркими черными глазами, одетого в серое облачение францисканцев. Он стоял перед ней неподвижно, и все же она чувствовала в нем телесную крепость, более естественную для человека действия, чем для священника. В монахе чувствовалась энергия и властность, что мгновенно расположило ее к нему. Принцесса протянула руку, монах опустился на колени и поцеловал ее. Прикосновение его губ напугало Екатерину. Многие мужчины выполняли по отношению к ней этот долг вежливости, но ни один, за исключением принца Генриха, не вызывал в ней такого отклика. Она почувствовала какую-то необъяснимую тягу к брату Диего и, произнося обычные слова приветствия, ощутила, что краснеет. Господи, не дай ему заметить! – Добро пожаловать, святой отец, – проговорила принцесса, предлагая ему садиться. Она поведала ему о долгих месяцах, когда была лишена духовного руководства. – Для меня это было очень тяжелое время. Я жажду, чтобы меня исповедовали, как полагается, и разрешили от моих грехов. – Я выслушаю вашу исповедь сегодня же вечером, – пообещал брат Диего и пронзил ее взглядом своих черных глаз. – Кажется, я прибыл с большим опозданием. Что ж, я все исправлю и проверю, не впал ли кто-нибудь из ваших людей в заблуждение. Ободритесь, мрачные дни позади. Брат Диего вихрем ворвался в жизнь ее тесного кружка и очаровал почти каждого силой и яркостью своей натуры. Фрейлины Екатерины моментально в него влюбились. Первая исповедь стала для принцессы откровением. Она преклонила колени, призналась в нескольких прегрешениях – Богу известно, у нее не было возможности совершить их много. Трения, возникавшие внутри ее двора, приводили к простительным оплошностям, сама она была виновна в злонравии, зависти и гордыне. Однако в отношении того, что отец Алессандро отпустил бы ей, наказав прочесть несколько раз «Богородицу», новый брат оказался неожиданно суровым. – Ваше высочество, вы должны быть примером! Все прегрешения – это оскорбление Богу, и мелкие проступки ведут к смертным грехам. Ничего не упускайте! Екатерина покопалась в памяти и вспомнила, что позволила себе за ужином взять добавку блюда из ягненка, чего, разумеется, делать не стоило, так как денег на еду было крайне мало. – Я виновна в грехе обжорства, – прошептала она. – Это весьма достойно порицания! – отчитал ее брат Диего. – В наказание завтра вы будете поститься. Пост, как и вообще любая форма самоограничения, очищает душу. Он отпустил ей грехи и благословил, и она понесла свое наказание, однако строгость брата Диего не ограничивалась исповедальней. Он не упускал случая указать Екатерине и ее приближенным на их прегрешения, когда те их совершали. Если они проявляли гневливость или нетерпение, это был грех; выпить больше того, что считал достаточным брат Диего, – грех. Даже неумеренная смешливость, как он называл это, заслуживала порицания. Екатерина не возражала, потому что с первого же дня брат Диего превратился в ее ярого сторонника. Он понимал, какую важную роль для своего отца Екатерина могла сыграть в Англии. Монах так же, как она сама, хотел, чтобы ее брак состоялся. Однажды вечером, когда они сидели за ужином, принцесса, сама не заметив, как это случилось, поделилась с ним своими страхами по поводу помолвки, рассказала, что ее отец все тянет с выплатой приданого, а ее держат вдали от принца. – Мне горько слышать все это. – Брат Диего потянулся вперед и, выражая сочувствие, положил руку на плечо Екатерины. – Это вина доктора де Пуэблы, я не сомневаюсь. Он не спешит выполнять свои обязанности. – Двуличен, как всегда, – сказала принцесса, в полную силу ощущая прикосновение монаха и взгляд его сверкающих глаз, похожих на черные пруды. – Если бы он хоть в чем-то проявлял себя мужчиной, то не потерпел бы такого небрежения по отношению ко мне. А теперь он болен, и его носят из дома во дворец. – Вашему высочеству нужно попросить короля, отца вашего, чтобы он отправил сюда нового посла. Такого, который не побоится сказать слово правды в нужное время. Монах пристально смотрел на нее; его глаза, казалось, говорили совсем другое. Екатерина почувствовала, что голос у нее задрожал. – Я уже просила его об этом несколько раз, но напишу снова. – Скажите ему, что любой новый посланник, который прибудет в Англию, ужаснется тому, что вы пережили, и испытает тревогу за ваше будущее. Екатерина встала, одновременно радуясь и огорчаясь тому, что рука брата Диего упала с ее плеча. Не было ли дерзостью с его стороны прикасаться к ней? Или это просто ободряющий жест, призванный ее успокоить? Конечно так! Он был человек Божий и видел перед собой страждущую душу, а не принцессу Уэльскую. Тем же вечером Екатерина написала отцу. Потом они с братом Диего очень мило провели час: монах передал ей некоторые новости из Испании, они обсудили взгляды Фомы Аквинского на Аристотеля. Принцесса с удовлетворением обнаружила, что ее духовник начитан и очень учен, и она со спокойным сердцем может ему довериться. Благодаря брату Диего ее положение начало улучшаться, и теперь она не чувствовала себя такой одинокой и всеми покинутой в своих бедах.
В недоумении Екатерина смотрела на письмо своего отца. Потом проглядела его вновь. Ни одна известная ей женщина в истории не получала таких почестей! Ликующая принцесса созвала всех своих придворных. – Я получила очень важные известия! – объявила она. – Король Фердинанд назначил меня своим посланником в Англии! – Это большая честь, – одобрительно заметил брат Диего, глаза его светились теплотой. – Это необычно, но король, отец мой, считает это необходимым. Он говорит, что никто другой не знает ситуацию в Англии лучше меня. Разумеется, я назначена, только пока не будет подобрана подходящая замена. А сейчас она сможет потрудиться для налаживания более тесных связей между Англией и Испанией, а также, вероятно, подвигнет своего отца и короля Генриха к пониманию того, как туго приходится ей, оказавшейся в тисках их ссоры. – Остерегайтесь греха гордыни! – предупредил брат Диего. Но принцесса не могла не чувствовать удовлетворение, замечая, что люди смотрят на нее с уважением, когда она идет по дворцу на встречу с королем. Теперь он принимал ее не в своем кабинете, а на троне в зале перед лицом стоявших на почтительном расстоянии придворных. – Пойдемте, вы должны познакомиться с моим советом, – сказал король и провел Екатерину в соседнюю комнату. Шумно заскрипели скамьи, сидевшие за длинным дубовым столом мужчины встали и поклонились. Генрих занял место во главе стола и предложил Екатерине сесть рядом. Разговор состоял из шутливых замечаний и придворных любезностей. Принцесса попыталась направить его на тему своего брака, но вскоре поняла, что всякий раз ее усилия ловко сводят на нет. Она оставила свою затею, не желая вызвать неудовольствие во время первой встречи. Вернувшись в свою комнату, Екатерина в досаде скинула чепец и сердито пробурчала: – Они воображают, что во мне нет ничего, кроме наружности! – Это потому, что ваше высочество – женщина, – заметила Франсиска. – Ну так они узнают, что я не та женщина, с которой можно только шутки шутить!
Екатерина решила взяться за свои обязанности всерьез. Она заставила себя ходить ко двору и разговаривать с влиятельными людьми. Наладила курьерскую доставку своей корреспонденции в Испанию. Вынудила отца согласиться на использование особого шифра для секретных сведений и тратила немало времени на кодирование и дешифровку сообщений. Ей нравилось погружаться в дела и иметь слово при решении важных вопросов. Но превыше всего было то, что Екатерина знала: ее брак зависит от сохранения прочных связей между Англией и Испанией, и она много работала для их поддержания. Но для этого требовалось терпение святого. Чем ближе она знакомилась с королем и его советниками, тем более уверенной становилась. Многое причиняло ей досаду. Устав от уклончивой тактики, принцесса вскоре решила дать открытое сражение. – Ваша милость, мы должны обсудить мое замужество, – сказала она однажды утром, как только было покончено с положенными любезностями. – Мой отец не обязан выплачивать вторую часть приданого, пока мой союз с принцем не будет заключен. Король Генрих от такой дерзости приподнял свои тонкие брови: – Я вижу это дело иначе. Король Фердинанд несколько раз обещал выплатить приданое, значит он со всей очевидностью считает это своей обязанностью. – Он сделал это, чтобы порадовать вашу милость, но ничто его к этому не обязывает. – Еще как обязывает! – Не могли бы мы вместе взглянуть на соглашение о помолвке? – Ваше высочество мне не верит? – Я никогда не поставлю под сомнение честность или мудрость вашей милости, но мне необходимо процитировать документ моему отцу. – Я пошлю за ним. Но уверяю вас, выплата приданого обязательна, и пока его не будет здесь, брак не состоится. Когда принцесса через несколько дней встретилась с королем, договора не было и в помине. – Это моя оплошность, ваше высочество, – сказал он. – Прошу меня извинить. Тем не менее Екатерина почему-то была уверена, что при следующей встрече договор тоже не появится и дальше будет продолжаться в том же духе. В конце концов она настойчиво попросила отца назначить вместо нее нового посла. – Я ничего не могу добиться, – сказала она брату Диего. – У этих людей нет совести. Я пыталась играть по их правилам, но у меня плохо получается. Обидно было думать, что она потерпела фиаско, однако принцесса утешила себя мыслью о коварном докторе де Пуэбле: он тоже не мог играть на равных с королем Генрихом. Пуэбла оставался в Англии и показывался при дворе, когда подагра позволяла ему. Принцесса досадовала, слыша, что он сохраняет дружественные отношения с королем и предпринимает активные действия от лица Испании. Она печалилась, что ее дни в качестве посла оказались столь краткими: ей нравилось исполнять эту роль. Когда у Екатерины появился новый интерес в жизни, да еще статус, который обеспечивало ей положение посла, и в придачу – поддержка брата Диего, все это сотворило чудеса с ее здоровьем. Принцессу больше не лихорадило, на щеках заиграл здоровый румянец.
Теперь Екатерина немало времени проводила при дворе, содействуя делам Испании, но редко встречалась с принцем Генрихом. Однако в июне была обрадована приглашением на турнир, который устраивали в честь его шестнадцатилетия. – Может быть, он попросит вас надеть его ленту! – фантазировала Мария, радуясь за свою госпожу. Она и другие фрейлины судачили о храбрых рыцарях, которые примут участие в турнире. – По крайней мере, я увижу его! – Екатерина вздохнула, не смея надеяться на большее. Наступил день турнира. Принцесса надела алое бархатное платье, распустила волосы и заняла место в королевской ложе вместе с королем Генрихом, леди Маргарет и принцессой Марией – милой рыжеволосой девочкой одиннадцати лет, которая не могла усидеть на месте в ожидании начала состязаний. – Я только что видела нашего дорогого мальчика; ему не терпится ввязаться в драку! – сказала леди Маргарет, не скрывая гордости за внука. – У вас есть наследник, которым можно гордиться, сын мой. На свете нет более красивого юноши. – О да, – согласился король. – А вот и он! Екатерина потянулась вперед, чтобы увидеть Генриха; сидя на коне, накрытом попоной в цветах Тюдоров – зелено-белой, он въезжал на арену для турниров во главе красочной процессии рыцарей, облаченный в украшенные гравировкой серебряные доспехи и с непокрытой головой. Его шлем был в руках оруженосца, ведущего под уздцы коня своего господина. Длинные золотисто-рыжие волосы Генриха развевались на ветру. Он остановился перед королем и, не спускаясь с седла, поклонился ему. Потом повернулся к Екатерине. Она смотрела на него как завороженная. Ее жених больше не был мальчиком, но стал почти мужем, наделенным красотой, какая только может быть у мужчины. Глаза пылали голубым огнем, губы были полные и красные, щеки горели юношеским румянцем. И как же принц вырос! Руки и ноги у него были гигантские, плечи широкие. Настоящий рыцарь Марса! – Моя госпожа! – крикнул он каким-то странным, ломающимся голосом, высоким и в то же время вполне мужским. – Мой господин! – с улыбкой отозвалась исполненная чувств Екатерина. – Я желаю вам удачи! Генрих ускакал готовиться к состязаниям, не попросив ее носить его ленту. Но это не имело значения; она этого и не ждала, его глаза сказали принцессе все, что ей нужно было знать. Она не могла унять разбушевавшиеся мысли. Любовалась принцем, наблюдая за тем, как он показывает удаль на турнирных площадках, завоевывая в честных поединках свою долю призов. Принц показал себя умелым наездником и отважным турнирным бойцом, однако всякий раз, как противник приближался к Генриху, сердце принцессы трепетало от страха. И всякий раз, когда он умело парировал удары, тоже. Зрители ревом выражали одобрение, и Екатерина видела, как принц кланяется, принимая восторги то одного, то другого, независимо от ранга. Было ясно, что он умел ладить с людьми, это качество досталось ему от матери. Но наибольшее удовольствие принцу, казалось, доставляли ее, Екатерины, аплодисменты. Он снова и снова отвешивал поклоны в ее сторону и широко улыбался, наслаждаясь как ее радостью, так и собственным триумфом. Отец взирал на все это милостиво. Не мог же он не видеть, что они, принц и принцесса, созданы Богом друг для друга? После турнира были поданы закуски в шелковом шатре, и принцесса еще раз повстречалась с принцем лицом к лицу. – Сир, вы были восхитительны! – сказала она и вспыхнула. Он нежно глянул на нее с высоты своего роста: – Я очень счастлив, Кэтрин! Вы знаете, я мечтаю о войне и рыцарских подвигах. Хочу добыть славу на поле брани, а турнир ближе всего к битве, это одна из лучших вещей на свете! – Ваше высочество мечтает о войне? – О победах, Кэтрин, над Францией, нашим общим врагом. Я выиграл бы битву при Азенкуре еще раз, будь я вторым Генрихом Пятым. – Всему свое время, всему свое время, – сказал король, подходя к ним. – Я еще не умер! – Он тонко усмехнулся. – Если ее высочество извинит нас, я хотел бы представить принцу венецианского посланника. Король поклонился и увел сына. Генрих один раз обернулся и посмотрел на нее с обнадеживающей улыбкой. Больше Екатерина его не видела, но в свои покои вернулась, лелея в душе новое чувство. Ей стало совершенно ясно: она влюблена.
Глава 8 1507–1509 годы
Из-за отсутствия прочной власти дела в Кастилии шли все хуже. Чем больше вестей доходило об этом до Екатерины, тем больше она тревожилась. И тем сильнее было ее облегчение от новости, что король Фердинанд не упустил свой шанс. Несмотря на протесты неспособной к правлению Хуаны, он заставил ее передать ему власть в Кастилии. Это стало наилучшим выходом для всех. Екатерина обрадовалась. Теперь, когда Фердинанд снова возвысился и обладал тем же весом в мире, как и при жизни ее матери, он, конечно, рад будет помочь своей дочери выпутаться из всех затруднений. Ловя благоприятный момент, она написала ему, прося устранить несправедливость в отношении ее слуг, которые продолжали терпеть нужду. К ее радости, по осени отец наконец прислал ей немного денег. Сумма была небольшая, но ее хватило рассчитаться с кое-какими долгами. – Не знаю, кого удовлетворять в первую очередь! – сказала Екатерина Хуану де Диеро, который заменил дона Педро Манрике в должности главного камергера. – Заплатить кредиторам, отдать долги слугам или купить новую одежду? Статус принцессы заметно поднялся вместе с возвышением Фердинанда. При следующей встрече с королем Генрихом – ведь до сих пор не последовало никаких распоряжений насчет нового посла, – Екатерина отпустила колкость. – Мой отец прислал мне немного денег, – многозначительно сказала она ему. – Я была в такой нужде. Однако король в очередной раз изменил свой душевный настрой. – Кэтрин, – сказал он, – я так люблю вас, что не могу вынести саму мысль о том, что вы бедствуете. Я дам вам столько денег, сколько требуется на уплату слугам и на собственные расходы. Екатерина подумала, что ослышалась. Но нет, Генрих повторил свои слова, тогда она уверилась и наконец испытала облегчение. – Я благодарю вашу милость. Она не собиралась изливаться в восторгах. Содержать ее – это его обязанность, и до сих пор он пренебрегал ею самым прискорбным образом. Генрих пообещал, что деньги будут выплачены тотчас же, потом умолк. – Это дело насчет брака с королевой Хуаной доставило мне массу хлопот, – сказал он после долгой паузы. – Я могу поискать жену в другом месте, учитывая произошедшее. «То есть вам, похоже, не удастся отобрать Кастилию у моего родителя», – подумала Екатерина. – Я должен просить вас немного надавить на отца, – закончил Генрих. – Я сделаю все, что в моих силах, – пообещала Екатерина. Если бы ей удалось склонить Фердинанда к согласию на этот брак, доверие между ней и Генрихом поднялось бы на новую высоту. Она воззвала к Хуане, говоря о великой любви короля к ней. Она обратилась к Фердинанду, который обещал постепенно склонить Хуану к согласию. Но ответа от Хуаны не последовало. Тем не менее король Генрих относился к Екатерине со все большей симпатией и уважением, и она надеялась, что дело о ее браке с принцем Генрихом сдвинется с места, если только отец отдаст ее приданое. Екатерина старательно выполняла распоряжение Фердинанда и всегда говорила о своей свадьбе как о твердо решенном деле. Однако к осени истекли шесть месяцев отсрочки, которые дал Фердинанду король Генрих, а приданое так и не поступило. Фердинанд оправдывался своим отъездом на войну в Неаполе. Екатерина готова была закричать, но король Генрих проявил великодушие. – Я продлю срок до марта, – сказал он. – Он ничего не теряет, – поделилась принцесса с братом Диего, который постепенно превратился в ее советчика во всех делах, особенно по поводу брака. – Но с другой стороны, он выигрывает. Ведь, по его собственным словам, пока вся сумма не выплачена, он полагает меня связанной обязательством, а своего сына свободным. Говорить это было больно, тоска по принцу Генриху не оставляла ее. – Вашему высочеству нужно всегда вести себя так, как будто этот брак состоится непременно, – посоветовал брат Диего. – Но это не так! – воскликнула Екатерина. Она поделилась своими страхами даже с доктором де Пуэблой. Сейчас он появлялся при дворе редко, ссылаясь на подагру, однако было ясно, что он страдает от какой-то более серьезной болезни. – Вашему высочеству нужно посмотреть правде в глаза, – сказал он ей. – Король Генрих в этот брак не верит. – Этого не может быть! – гневно ответила Екатерина, жалея, что вообще завела разговор об этом с де Пуэблой. Он всегда все видел в черном цвете, но принцесса опасалась, что на этот раз он мог оказаться прав.Проведя десять месяцев в должности испанского посла, Екатерина со смешанными чувствами встретила прибывшего ей на смену дона Гутиера Гомеса де Фуэнсалиду, коменданта крепости Мембрилья: это был румяный дородный мужчина с большим чувством собственного достоинства. Вступив в покои принцессы, посол первыми же словами оправдал ее самые лучшие надежды. – Сейчас, когда мы здесь разговариваем, король Фердинанд в Кастилии собирает деньги на выплату приданого вашего высочества, – напыщенно и слегка бесцеремонно заявил Фуэнсалида. – Я должен сообщить королю, что деньги будут доставлены еще до наступления марта под надзором синьора Франческо де Гримальди из банкирского дома Генуи. Сердце Екатерины радостно затрепетало. О Боже, ну наконец-то! – Да будет известно вашей милости, собрать такую огромную сумму нелегко, – продолжил Фуэнсалида. – Надеюсь, его величество не переоценил свои возможности. В ответ на это Екатерина раздраженно вскинула голову. Послу не пристало судить тех, кто стоит выше его. – Я уверена, его величество сдержит свое слово, – твердо сказала принцесса. Она не смела даже подумать о том, что будет в ином случае. По лицу Фуэнсалиды было видно, что он невысокого мнения об обещаниях Фердинанда. – А что насчет брака короля Генриха с Хуаной? – спросила Екатерина, обуздывая ярость. Ей нужна была поддержка этого человека, она не могла позволить себе обижать его, но манеры этого сеньора ей не нравились. – Об этом не может быть и речи, ваше высочество. Ее величество решительно нездорова. Я так и скажу королю Генриху. Начало получилось не слишком удачное. И это никак не улучшило положения дел. Екатерина терзалась все время, ожидая в приемной, пока Фуэнсалида находился у короля. Наконец тот вышел с аудиенции и посмотрел на нее так, будто не понимал, по какому случаю она здесь находится. На лице его было написано суровое предупреждение: посол теперь я. – Что сказал его милость? – спросила принцесса, решив не поддаваться устрашению. – О королеве Хуане? Ваше высочество, король не поверил! Он сказал, до него дошли вести, что король Фердинанд держит ее взаперти и распространяет слухи о ее помешательстве. Мне пришлось внести здесь полную ясность: это не слухи и о браке не может быть и речи. Екатерина подумала: интересно, сколь напористо Фуэнсалида вносил ясность? Тактичность, очевидно, не значилась в числе его добродетелей. – А что сказал король по поводу выплаты моего приданого? – Его милость находился не в самом благоприятном расположении духа… Он зол на короля Фердинанда за то, что тот до сих пор не выплатил приданое. «Это вы разозлили его», – подумала Екатерина. – Но он знает, что скоро оно будет доставлено? – Я намекнул на это, ваше высочество. – Вы оставили ему простор для сомнений? – Будьте покойны, ваше высочество, я сказал, чтобы он ожидал этого. Но кажется, король не полностью убежден в успехе. Еще бы! Слишком много пустых обещаний он уже слышал.
Король Генрих занимался устройством помолвки своей дочери, принцессы Марии, с сыном Хуаны эрцгерцогом Карлом. Дедушкой Карла был могущественный император Священной Римской империи Максимилиан, и этот новый союз, безусловно, принесет еще большее процветание. Так сказал Екатерине король Генрих во время следующей встречи, имея при этом вид весьма многозначительный. В число владений Максимилиана входили Нидерланды, с которыми Англия много лет успешно и выгодно торговала. Казалось, король считал, что больше не нуждается в ненадежной дружбе Фердинанда. Однажды поздно вечером Екатерина печально размышляла об этом, а перед самым отходом ко сну заглянула в гостиную взять книгу и обнаружила там брата Диего: тот разыскивал ее. Прижав палец к губам, монах увлек ее в кабинет. Никто их не видел. Фрейлины уже ждали в спальне. – Но мне пора идти! – шепнула Екатерина. – Ваше высочество может вставать на молитву, когда вам заблагорассудится! – пробормотал брат. – Есть кое-что важное. Сегодня я услышал разговор между двумя советниками короля. Я находился в кабинете при часовне, выбирал книги, и они наверняка думали, что в часовне никого нет. Они обсуждали переговоры короля о его возможном французском браке. – Нет! – ужаснулась Екатерина. Союз с Испанией может оказаться под угрозой. – Это еще не все, ваше высочество. Они говорили о неких тайных переговорах с императором Максимилианом о невесте для принца Генриха… – О Боже мой! – перебила своего духовника Екатерина. – Ваше высочество! – Лицо монаха было суровым. – Это грех богохульства, не стоит вам впадать в него. Позвольте мне закончить. Король размышляет, не обручить ли принца с сестрой эрцгерцога Карла Элеонорой. – Но он обручен со мной! Брат Диего нахмурился: – Вашему высочеству не хуже других известно, что помолвки расторгают. Более того, эти двое говорили, что принц и сам едва ли склонен к браку с вами. Слова монаха пронзили ее, как отравленная стрела. Этого не может быть! Нет, ведь этот прекрасный золотой юноша, ее Генрих, смотрел на нее такими глазами. Она силилась найти объяснение. – Вероятно, он говорит то, что хочет слышать от него король! – Екатерина почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Брат Диего заметил это и взял ее руки в свои. Это напомнило ей, что она с ним наедине. Не будь он ее духовником, она сочла бы это дерзостью. – Ваше высочество, я также слышал, как король Генрих выражал озабоченность по поводу того, что законность брака между вами в любом случае сомнительна. – Но папа дал на него разрешение! Монах вздохнул, не выпуская ее рук: – Этот английский король скользок как угорь, ваше высочество. Он мать свою продаст ради выгоды. Принц Генрих обязан повиноваться отцу, хотя, судя по тому, что я слышал, он теряет терпение. Вам нужно знать, что происходит. Предупрежден – значит вооружен. – Король Англии должен держать слово. Он должен! – Екатерина была вне себя. – Может быть, мне стоит поговорить с Фуэнсалидой? – Этот позёр! При дворе всем известно, что король не расположен к нему. – Это потому, что дон Гутиер слишком прямолинеен. – Он испортит все, если продолжит заниматься делами без присмотра. Тысячу раз жаль, что его назначили вместо вас. Это была правда. Ситуация только ухудшилась. И Екатерина с болью сознавала, что уважение, которым она пользовалась в качестве официального представителя своего отца, с появлением Фуэнсалиды заметно пошло на убыль. – Я не доверяю ему, – сказала она. – Он изображает, что блюдет мои интересы, но знает ли он, каковы они на самом деле? – Не говорите ему ничего! – настаивал брат Диего. Это было слишком. Екатерина не могла сдержать слез. Вдруг крепкая рука исповедника обняла ее за плечи, и, когда брат Диего наклонил голову к ее уху, она уловила винный запах его дыхания. – Не плачьте, ваше высочество. Все будет хорошо. Я все для вас сделаю, даже если мне придется задушить Фуэнсалиду своими руками! Екатерина еще никогда не слышала такой страсти в голосе монаха. Ей стало не по себе. Разве священник не должен быть невозмутим? Тут она почувствовала, как брат Диего прижимается к ней, и на мгновение, на краткий миг, она испытала забавное ощущение – какое-то приятное тепло разлилось по ее телу. Екатерина поняла, что возникло оно от соприкосновения с телом брата Диего. Пожелав духовнику спокойной ночи и тихонько закрыв за ним дверь, Екатерина опустилась на колени. Это было ужасно! Как она могла испытывать постыдное влечение к другому мужчине, помимо ее жениха, – и к тому же к священнику! Она любила Генриха и ни на кого другого даже не смотрела. Невозможно, чтобы ее влекло к кому-то иному! И все же – а Екатерина всегда старалась быть честной с собой – она не могла не обращать внимания на телесную мощь и приятную внешность монаха; они были такой же частью его существа, как исходящие от него сила и властность. И – если опять же не лукавить – внешность брата Диего нравилась ей не меньше, чем его духовные качества. Монах не раз повторял: грешить в воображении так же дурно, как на деле. И за это мгновение, за этот предательский миг, она должна понести наказание. Но исповедаться в этом грехе самому брату Диего невозможно. На следующее утро Екатерина уже смотрела на случившееся более снисходительно. Это было прегрешение невольное, и в будущем она постарается лучше владеть собой. Она немного оступилась, но это от огорчения и чувства одиночества. Как бы там ни было, Екатерина надела накидку, приспустила капюшон, чтобы скрыть лицо, и пошла в Королевскую капеллу. Там она проскользнула в исповедальню, призналась, что повинна в нечистых мыслях, и получила отпущение грехов от одного из священников короля. Когда принцесса позже встретилась с братом Диего, то испытала большое облегчение, не обнаружив в его поведении ни намека на то, что он заметил неладное.
Екатерина отчаянно хотелось разобраться, насколько серьезно ей следует относиться к известию об этих секретных брачных переговорах. Если кто-нибудь и мог, согласно своему положению, быть в курсе дела, так это Фуэнсалида. Наконец, после нескольких бессонных ночей и дней, проведенных в метаниях, Екатерина послала за ним. – Где ваше высочество услышали о таких вещах? – спросил дон Гутиер, глядя на нее так, будто она все выдумывает. – Мне сказал один доброжелатель. – Он, случайно, не монах? Мадам, я обязан сказать вам, что он плохо влияет на вас. У Екатерины кровь прилила к щекам, сильно забилось сердце. – Как такое может быть? – Люди из вашего окружения сообщают мне, что вы проводите много времени с ним наедине и что он всем здесь заправляет. – Что именно они говорили? – Они высказали те же опасения, что и я. – Никто ничего не говорил мне! Я могу сделать лишь один вывод: в корне всего этого лежит зависть. Брат Диего – хороший человек. Он принимает близко к сердцу мои интересы. И я имею право проводить время наедине со своим исповедником! – Екатерина дала волю гневу, чтобы прикрыть им стыд. – Не буду ли я права, если заключу, что мои слуги на самом деле почти ничего не сказали и вы клевещете на брата Диего, потому что знаете, какого он о вас мнения? – Ваше высочество, как вы можете такое говорить? Я ничего из сказанного не придумывал. О вас судачат при дворе. Некоторые говорят, что вы слишком близки с этим монахом и у него слишком много власти над вами. Ваше высочество, это может вызвать скандал! – Это бесстыдная ложь! Ни один из тех, кто меня знает, не усомнится в этом. И вы будете опровергать эти сплетни, где бы их ни услышали. Это приказ! А если ослушаетесь, то будете отвечать перед моим отцом. Больше к этому разговору мы не вернемся. Прошу вас сообщить мне, что вам известно о брачных переговорах с императором. – Ничего, – пробормотал Фуэнсалида. Лицо его было красным и пылало злобой. Принцесса иного и не ожидала: дон Гутиер будет все отрицать. Кто станет посвящать его в подобные секреты? Но любой посол, который недаром ест свой хлеб, должен держать ухо востро. Доктор де Пуэбла знал бы, это точно. Екатерина ощутила едва ли не симпатию к старому плуту. И снова она не спала. Ей не давали покоя слова Фуэнсалиды. Вовсе не брат Диего заслуживал его порицания; брат Диего всегда вел себя в наивысшей степени благопристойно. Дон Гутиер, наверное, завидовал его влиянию, но, давая ей хорошие советы, монах всего лишь делал то, что полагалось бы делать послу. И все равно Екатерина не могла смириться с тем, что она, всю жизнь прожив в тисках бесконечных ограничений и только однажды подумавшая о греховном, стала объектом придворных сплетен. Ей придется предупредить монаха, чтобы был настороже, и проводить меньше времени с ним наедине.
К лету для слухов нашлась гораздо более серьезная почва. – Ваше высочество, послушайте, что я скажу! – В комнату Екатерины влетела Мария и крепко притворила за собой дверь. – Говорят, король при смерти. – Похоже на правду, – проговорила принцесса и попыталась вызвать в себе хоть каплю сочувствия к человеку, который так редко проявлял его по отношению к ней. – Он в последнее время выглядел очень больным, и кашель у него усилился. Примерно такой же был у Артура шесть лет назад. Принцесса и фрейлина переглянулись с одним и тем же немым вопросом в глазах: что это означает для них обеих? Отец Екатерины в далекой Испании тоже был наслышан о плачевном состоянии здоровья Генриха. Он написал, что, раз король находится в последней стадии чахотки, негоже настаивать на свадьбе Екатерины до егосмерти. Фуэнсалида надменно сообщил принцессе, что он ищет расположения принца. – Я говорю ему о том, как его любит король Фердинанд. Уверяю, что он может во всем рассчитывать на его величество. Ваше высочество, я делаю все, что в моих силах, дабы ваш брак осуществился. Но даже благодарность не могла вызвать в душе Екатерины любви к Фуэнсалиде. И вскоре обстоятельства вынудили ее начать презирать его. Сидя за пяльцами, принцесса делала тончайшие стежки черной шелковой нитью и болтала с фрейлинами. Как вдруг раздался звук приближающихся шагов, злые голоса и неудержимый кашель. Дверь распахнулась, и появился король. Страшное, как у мертвеца, лицо налилось кровью от ярости, одной рукой он цепко держал за предплечье Фуэнсалиду, которого втащил за собой в комнату. Принцесса мигом вскочила и сделала реверанс, фрейлины скрылись с глаз, повинуясь резкому жесту короля. – Принцесса должна знать, как вы управляетесь с ее делами! – пролаял Генрих, отпуская посла. Фуэнсалида являл собой образчик поруганного достоинства. Он начал, всем своим видом выражая недовольство, оправлять рукава, но король, снова закашлявшись и брызжа слюной, приказал ему отчитаться перед принцессой. – Этот человек поставил под угрозу брак вашего высочества, потому что ему не удалось надавить на вашего отца и добиться выплаты приданого. Вместо этого он решил снискать расположение принца, но здесь все еще правлю я! – Его милость намерен получить приданое прежде, чем будет заключен брак, – обиженным тоном объяснил Фуэнсалида. Глаза Генриха сверкнули. – Это мое право, и меня больше не устраивают пустые обещания. У вашего короля на голове так много корон, но не хватает денег выплатить приданое дочери! Фуэнсалида гордо вскинул подбородок: – Мой господин не держит золото запертым в сундуках, он платит его храбрым воинам, возглавляя которых всегда одерживает победы! Екатерина задержала дыхание в ужасе от того, что Фуэнсалида посмел бросить оскорбления прямо в лицо Генриху. Всему миру было известно о его скупости, но он тоже одерживал славные победы. – Приданое уже здесь, в Англии, его охраняет синьор Гримальди, и оно будет доставлено в надлежащее время, – небрежно продолжил Фуэнсалида. Екатерина молилась, чтобы он не упомянул посуду и драгоценности. – Помните, что при определенных условиях я не обязан соблюдать свою часть договора, – сказал король зловеще тихим голосом. – Принцесса Кэтрин, всего вам хорошего. На том король удалился. – Теперь вы видите, что наделали! – взорвалась Екатерина, а Фуэнсалида глядел на нее без всякого выражения. – Вы глупец, правильно говорил брат Диего. Как вы смели оскорблять короля?! Мой отец никогда не одобрил бы такого поведения. – Все, что я говорил или делал, совершалось в интересах вашего высочества, – возразил посол. – И посмотрите, к чему это привело! Вы только что видели короля, слышали его слова. Мой брак теперь еще менее вероятен, чем когда бы то ни было! Вы разозлили короля, и он отыгрался на мне. Из-за вас он считает, что может растоптать меня. – Поверьте, ваше высочество… – Во что мне верить, я выбираю сама. Я не так проста, как кажется. А теперь идите!
Среди всех этих неурядиц кое-что все же воодушевило Екатерину: по крайней мере, теперь она знала, что ее приданое находится в Англии. Конечно, это успокоит гнев короля и побудит его выполнить свою часть договора. При мысли об этом пульс Екатерины участился. Скоро она сможет выйти замуж! А пока где ей раздобыть денег? Она не смела больше закладывать посуду, но с получением известия о доставке приданого родилась и мысль о возможном решении. Екатерина приказала подать ей письменные принадлежности и составила послание к синьору Гримальди. Она объяснила, что надеется вскоре сочетаться браком с принцем Генрихом – конечно, он, синьор Гримальди, не усомнится в этом, потому что знает о приданом, – и просила рассмотреть возможность одолжить ей небольшую сумму, которую она вернет, как только ее личные обстоятельства изменятся. Ответа не пришлось ждать долго. Синьор Гримальди почтет для себя за честь предоставить заем. Взамен он просил составить долговую расписку на основную сумму и проценты, которые должны быть выплачены в течение месяца с момента вступления принцессы в брак. Процент он запросил высокий – пятьдесят, но Екатерина решила, что у нее нет выбора, и понадеялась на понимание принца Генриха. В конце концов, надо же ей было на что-то жить!
Был колючий январский день, несколько жалких поленьев в очаге проигрывали битву с ледяными сквозняками, от которых дребезжали стекла в окнах. Екатерина отложила вышивание и поежилась. Пальцы онемели так, что не держали иглу. Ничего не изменилось, и все ее надежды пошли прахом. – Я больше не могу, – жаловалась она Марии. – Все становится хуже день ото дня. – Не плачьте, ваше высочество, – умоляла ее Мария. – Вы знаете, как мне тяжело видеть ваши страдания. Они были одни в спальне Екатерины, остальные фрейлины улеглись спать. Мария встала, налила вина и подала своей госпоже. – Но у меня столько причин для слез! – всхлипывала Екатерина. – Вот я здесь, мне уже двадцать три, я все еще не замужем, и никаких надежд на перемены. Король зол, потому что мой отец до сих пор не одобрил передачу моего приданого. Он терпеть не может Фуэнсалиду, холоден ко мне. И я не могу ничем помочь ни тебе, ни Франсиске, никому из моих слуг. Сил моих больше нет выносить это! Теперь она уже плакала навзрыд, закрыв лицо ладонями. – Ш-ш-ш… Ну-ну… Слезами горю не поможешь, – тихо утешала принцессу Мария, обнимая ее вздрагивающие плечи. – Мне всю жизнь не везет! Ох, Мария, я так несчастна. Боюсь, что я могу совершить непоправимое. – Нет! – крикнула Мария. – Не говорите так! Грешно даже думать об этом. – Я взывала к отцу, – прерывисто дыша, изливала душу Екатерина. – Говорила ему, что могу дойти до этого, если он не пришлет за мной и не позволит провести несколько последних дней жизни в служении Господу, монахиней, ведь иногда я думаю, что иного будущего у меня нет. Но он не ответил. И она снова разрыдалась. Вдруг в комнате появился брат Диего. – Что происходит? Я случайно услышал. Ее высочество чем-то огорчены? – Ее высочество в печали. – В голосе Марии звучала глубокая тревога. – Она собирается покончить с жизнью. – Чтобы я никогда больше не слышал такого! – строго сказал монах. Екатерина еще громче зашмыгала носом, она не могла остановиться. Брат Диего накрыл ладонью ее руку. Даже в этот критический момент она отвернулась, надеясь, что он ее уберет. – Нет, дочь моя, – внушительно произнес монах. – Вы не сделаете этого. Задумываться о таких вещах – это большой грех против Бога. Призывать нас к себе – в Его власти. Мы не можем отправляться к Нему по своему желанию. – Но я не знаю, куда мне деваться! – крикнула Екатерина, стряхивая его руку. – Денег нет. Я не знаю, как обеспечить себя и вас всех. Я продала все свои вещи и одежду. Теперь даже эти деньги закончились. Когда я умоляла короля Генриха помочь мне, он сказал, что не обязан снабжать меня деньгами, даже на еду. – Но он дал вам что-то, – сказала Мария. – Этого хватило, чтобы оплатить расходы на мой стол! Я чувствовала себя такой униженной. Дойти до такого состояния! Не иметь возможности платить вам жалованье. И при этом получать напоминания, что даже кормят меня из милости! – Отчаяние, как я уже говорил вам, – это тоже грех против Бога, – твердо сказал брат Диего, сверкая черными глазами. – Бедствия посылаются нам в испытание. Помните, нет другого пути в Царствие Небесное, кроме как через тернии. – Господь непременно поймет меня, если я посчитаю свои трудности невыносимыми, – возразила принцесса. – Наше положение критическое. Мы все терпим нужду. Когда я думаю о том, как верно служите мне вы, добрые люди, и что при этом у вас ничего нет и вы хотите получить вознаграждение за труды, мне становится стыдно. Это меня ранит. Тяжким грузом лежит на совести. Вспомнив, что случилось утром, принцесса снова залилась слезами. Из всех ее придворных наименее выдержанным был камергер. Она в сотый раз жаловалась ему на нехватку денег, но он резко, обвиняющим тоном ответил: – Ваше высочество, вы плохо управляете двором! Несправедливость обвинения уязвила ее, но принцесса знала, что у камергера тоже кончается терпение. И она ничего не сказала; платить ему было нечем, поэтому она не могла ни наказать, ни уволить его. Потом Фуэнсалида сообщил ей пренеприятнейшие новости из Испании. Король Фердинанд во всеуслышание объявил Хуану безумной и неспособной управлять государством. И заточил ее в монастырь в Тордесильясе. – Официально она делит власть с сыном, эрцгерцогом Карлом, который должен стать королем Кастилии. Думать об участи Хуаны было невыносимо тяжело. Да еще этот бедный малыш – он не только лишился матери, но на него еще и возложили корону, непосильную ношу в девять-то лет. Но Фуэнсалида объяснил, что дед Карла, Фердинанд, взял на себя управление Кастилией и Арагоном до совершеннолетия наследника. Успокоившись, Екатерина вняла словам брата Диего и вспомнила: те, кто, впав в отчаяние, лишают себя жизни, никогда не узрят Бога. Однако на следующее утро она чувствовала себя так, будто жизнь ее разваливается на куски и сил на борьбу не осталось. Рука монаха отвела ее от края пропасти. Исповедник был для нее настоящим благословением, принцесса не могла поверить, что однажды увидела в нем обычного человека. Но все это осталось в прошлом. Она вступила в битву и вышла из нее победителем. Теперь она будет молиться о даровании ей сил справиться со всеми напастями, покоя и терпения, к чему часто понуждал ее брат Диего. Дабы вынести все, пока дела не пойдут на лад.
С неудовольствием Екатерина отмечала, что среди ее самых испытанных слуг появляется мелкая зависть и возникают склоки. Она не могла найти в своем сердце сил осуждать приближенных, ведь они столько выстрадали. Хуже было другое: к ней самой стали относиться с меньшим уважением. Некоторые слуги не исполняли своих обязанностей должным образом, и все же она не смела призывать их к ответу, чтобы они не покинули ее. Принцесса решила не обращать внимания ни на что, в том числе и на слова Фуэнсалиды о брате Диего. Посол обвинил ее в том, что она напрашивается на скандал, но где же доказательства? Никто при дворе не смотрел на нее осуждающе; ни одна из фрейлин не прибегала с рассказом об оскорбительных слухах, а они бы ей точно сообщили, если бы что-нибудь услышали. Из всего этого Екатерина могла заключить только одно: посол завидовал влиянию монаха. – Люди говорят что-нибудь обо мне и брате Диего? – спросила она Марию. – Камергер считает, что он приобрел слишком большое влияние на ваше высочество. Говорит, вы ничего не предпринимаете без его совета и благословения. – Это все? Ничего скандального? Глаза Марии расширились. – Да что вы, ваше высочество! Почему о вас должны такое подумать? – Для этого нет никаких причин. Фуэнсалида сказал что-то подобное. Но он все неправильно понял. Брат Диего – самый лучший исповедник, какого только может иметь женщина в моем положении. Я не могу найти изъянов ни в его укладе жизни, ни в его образовании, не в его добронравии. Меня печалит то, что я слишком бедна и не способна обеспечить его так, как приличествует ему по должности, а ведь он служит мне неустанно. Но тут снова явился Фуэнсалида, неотвязный, как чума, требуя встречи с принцессой. От одного вида его напыщенной, презрительной физиономии у Екатерины волоски на шее встали дыбом. – Ваше высочество, меня встревожил беспорядок в вашем домашнем хозяйстве, и я обещал королю, отцу вашему, что изыщу средства для устранения недостатков. Екатерина встала: – Вы превышаете свои полномочия, посол. Это мой двор, и я буду управлять им так, как считаю нужным. – Как считает нужным брат Диего, подозреваю! – Ах вот оно что! – резко сказала принцесса. – Кое-кто из моих людей настроил вас против него. – Мадам, в этом не было необходимости. Я сам прекрасно вижу, что здесь нужен человек для ведения хозяйства, о чем и сообщил королю Фердинанду, так как очевидно: тут всем заправляет этот молодой монах, по моему мнению недостойный доверия, потому как он вынудил ваше высочество совершить множество ошибок. На мгновение стыд вспыхнул вновь, но ярость одержала над ним верх. – Каких ошибок? – Например, отстранение от дел доньи Эльвиры. Екатерина рассвирепела. Непроходимый дурак! – Это не имеет никакого отношения к брату Диего. Что еще? – Мне сказали, что монах каждый поступок превращает в грех. – Некоторые сказали бы, что он не дает нам уклониться от пути добродетели. Фуэнсалида сердито глянул на нее: – Ваше высочество, не играйте со мной в слова. Хорошо известно, что исток, средоточие и конец всех этих беспорядков при вашем дворе – это монах. – Ложь! – вскричала Екатерина. – Как смеете вы жаловаться королю на то, в чем совершенно ничего не понимаете! – Это моя обязанность. Мне жаль, что это огорчает ваше высочество, но я предан верховному правителю. Посол откланялся, оставив принцессу стоять на месте, дрожа от ярости.
К ней вошла Франсиска де Касерес. Разлученная с родными, она не переставала уговаривать Екатерину вернуться в Испанию. Англию, где приходилось переносить столько лишений, Франсиска ненавидела и не скрывала своей тоски по дому. Брат Диего посоветовал Екатерине не обращать на нее внимания. – Место вашего высочества здесь. Вы – будущая королева Англии. Не позволяйте глупой девчонке сбить вас. Екатерина подозревала, что Франсиска подслушала эти слова, потому что с тех пор ее отношение к монаху стало прохладным и она стала еще сильнее давить на принцессу, чтобы заставить ее покинуть Англию ради всеобщего блага. – Разве вашему высочеству не хочется домой? Представьте, как хорошо было бы оказаться в Испании. Греться на солнышке, есть апельсины когда захочется… – Мое место здесь, – отвечала Екатерина. – Я принцесса Уэльская. Я не могу уехать. Однако в последнее время, не в пример другим слугам, Франсиска пребывала в жизнерадостном настроении, готова была рассмеяться в любой момент и за работой мурлыкала себе под нос песенки. Теперь причина открылась. Франсиска нервничала, но вид у нее при этом был решительный. Екатерина отложила пяльцы и приготовилась выслушать новые жалобы, но фрейлина ее удивила. – Ваше высочество, тут есть один банкир из Генуи, в доме которого остановился посол. Его зовут Франческо де Гримальди, и с вашего дозволения мы хотели бы пожениться. При упоминании синьора Гримальди Екатерина внутренне сжалась. Она взяла у него заем и выдала расписку, но теперь не предвиделось никакой надежды вернуть ему деньги. Ее свадьба ничуть не стала ближе. Она оказалась в трудной ситуации, но долг прежде всего. – Франсиска, я не могу этого позволить. Вы из древнего рода, ваши родные никогда не простят мне, если я разрешу вам выйти замуж за простого банкира. – Но, ваше высочество, он очень богат. Это хорошая партия. – Мне очень жаль, Франсиска, но об этом не может быть и речи. – Ваше высочество, мы любим друг друга! – молила Франсиска. Она не заметила, что в комнату вошел брат Диего и встал у нее за спиной. – Вы слышали свою госпожу, – сказал он, – вы обязаны слушаться ее. – Ты! – набросилась она на монаха. – Опять ты вмешиваешься? – Вы не смеете разговаривать так с братом Диего! – сказала Екатерина. – Не забывайте об уважении, которого требует его должность. Франсиска вся кипела: – Я смею, потому что он заслужил это, ваше высочество! Брат Диего вспыхнул: – Франсиска, если вы недовольны мной в чем-то, то должны высказать свои жалобы сейчас, в присутствии ее высочества. Его стальные глаза не отрывались от лица девушки. – Мне слишком стыдно о таком говорить, – пробормотала она. – Это чудовищно! – произнес монах. – Скажу только, что такого человека, как ты, нельзя допускать в дом, где живут женщины! – Потрудитесь объяснить, что вы имеете в виду! – взорвалась пораженная до глубины души Екатерина. – Спросите его! – бросила в ответ Франсиска. – Не имею представления, о чем толкует эта женщина. – Спросите Фуэнсалиду! – с вызовом заявила фрейлина. – Так вот в чем дело! – отозвался монах. – Этот человек что угодно наговорит против меня. – Он знает, что говорят. – Значит, вы располагаете сведениями из третьих рук, – сказала Екатерина, – и они основаны на предубеждении. Франсиска, я не могу допустить, чтобы на моего исповедника, которому я доверила свою жизнь, возводили напрасные обвинения. Я понимаю, вы огорчены расстройством замужества, но нет нужды теперь отыгрываться на брате Диего. – Этот человек – отрава! – крикнула Франсиска, тыча пальцем в монаха. – Ваше высочество слишком добры, чтобы видеть это. – Думаю, я сама в силах судить о нем. Он верно служит мне уже два года. – Вы дура! – сказала Франсиска, потом поняла, с кем говорит, и зажала рот ладонью. – Ваше высочество, прошу извинить меня. Это недопустимо. – Боюсь, это правда, – сказала Екатерина, едва сдерживая слезы. Она ненавидела ссоры, но не могла позволить фрейлине так неуважительно разговаривать с собой. – Мне не нужны при дворе вздорные особы. Можете считать себя уволенной. – Ваше высочество! Я молю вас… – Нет, Франсиска. – Сердце Екатерины стучало. – Решение принято. Фрейлина выскочила за дверь. Когда она удалилась на достаточное расстояние, чтобы не слышать происходящего в комнате, Екатерина опустилась на стул и дала волю слезам. – Ваше высочество, – брат Диего положил руку ей на плечо, – уверяю вас, ее жалобы не имеют под собой никаких оснований. Я не представляю, что она имела в виду. – Это все Фуэнсалида. – Екатерина вздохнула и отстранилась. – Он решился добиться вашей отставки. Но я никогда этого не допущу.
Франсиска ушла. – Она сказала мне, что Фуэнсалида пригласил ее пока пожить у него, – сообщила Мария. – Она выходит за синьора Гримальди. – Это выглядит не слишком прилично, учитывая официальную должность посла как представителя моего отца, – недовольно сказала принцесса. Ситуация еще ухудшилась, когда перед ней предстал Фуэнсалида с синьором Гримальди, шедшим за ним по пятам. Банкир оказался пожилым человеком, и Екатерина догадалась: Франсиску привлекло его богатство. – Я прошу ваше высочество выплатить часть обещанной мне суммы, – сказал Гримальди, непримиримо глядя на нее. Принцесса подозревала, что это месть за увольнение Франсиски. – Если вы дадите мне два дня отсрочки, я сделаю это, – ответила она, решившись в отчаянии заложить еще что-нибудь из ее сократившегося запаса посуды. – Если ваше высочество не заплатит, – гадко прошипел Фуэнсалида, – вы должны будете передать мне на сохранение ваши украшения и посуду в качестве гарантии для синьора Гримальди. – Но это часть моего приданого, – запротестовала принцесса, испугавшись, что Фуэнсалида обнаружит тревожное истощение запасов хранимого. – Я не могу отдать эти вещи вам. – Тогда мы будем ждать ваших распоряжений, ваше высочество. Когда они ушли, Екатерина обдумала свое положение и нашла его ужасным. Если бы отец распорядился о передаче посуды и драгоценностей, она могла бы обратиться к синьору Гримальди за деньгами, чтобы возместить стоимость отданных в залог предметов. А теперь что прикажете ей делать? Позже в тот же день Екатерину вызвали к королю. Она не встречалась с ним уже несколько недель и была поражена его худобой и болезненным видом. Запавшие глаза Генриха пылали гневом, лицо так исхудало, что под кожей проглядывал череп. Принцесса отпрянула. – Почему ваше высочество препятствует выплате приданого? – хотел знать король. – Ваша милость, я вам клянусь, что никак не препятствую. Я только жду распоряжения отца, чтобы передать его. – Посол Фердинанда говорит, что вы отказались это сделать. Значит, теперь Фуэнсалида лгал про нее. – Нет, сир. Я сказала, что не могу вернуть долг. Это не имеет никакого отношения к выплате приданого. – Он сообщил мне другое. И еще сказал, что ваш двор находится под властью какого-то наглого монаха, который молод, легкомыслен, заносчив и провоцирует скандалы. – Сир, это неправда. Все, что вы слышали… – Фуэнсалида обеспокоен. Он настаивал на том, чтобы я поговорил с вами… Речь короля прервал приступ кашля. Несколько минут Генрих был не в силах говорить, а лишь сидел и лаял в свой платок. Екатерина не знала, на что решиться: подойти и утешить его или стоять на месте. Наконец король в изнеможении откинулся на спинку кресла, сжимая в руке испачканный кровью лоскут. Принцесса в ужасе смотрела на него. – Кэтрин, я настоятельно рекомендую вам избавиться от этого монаха. Поймите, его поведение портит вашу репутацию. Не забывайте, с кем вы обручены. Если я услышу еще хоть одну жалобу, этот человек будет изгнан. Я ясно выражаюсь? – Да, сир, – пробормотала Екатерина. – И если Фуэнсалида еще раз попросит у вас посуду и драгоценности, отдайте их ему! – Сир, если я могу… – Нет, вы не можете. Идите! Голос короля оборвался, и он снова зашелся в кашле. Екатерина выбежала из комнаты, трепеща от негодования. Как все это несправедливо! При посредничестве брата Диего принцесса продала еще несколько своих драгоценностей. Цену он получил явно заниженную, но этих денег хватило, чтобы заплатить синьору Гримальди. Екатерина вручила сундучок с золотом своему камергеру и приказала доставить драгоценную ношу в дом банкира, передать прямо в руки Гримальди и дождаться выдачи расписки в получении. Принцесса вся дрожала до тех пор, пока посланец не вернулся с бумагой.
Когда позже Фуэнсалида попросил встречи с ней, Екатерина отказалась его принять. Мария, взявшая на себя некоторые обязанности доньи Эльвиры, отослала его прочь. – Он был в ярости! – отчиталась она перед Екатериной. – Сказал, что брат Диего лишил его расположения вашего высочества и, если бы он совершил государственную измену, вы не могли бы обращаться с ним хуже. И еще передал вам, что попросит короля Фердинанда отозвать брата Диего и заменить его более пожилым и честным исповедником. Монах все это выслушал. – Я не хочу доставлять неприятности вашему высочеству. Наверное, будет лучше, если я оставлю службу у вас. – Нет! – закричала Екатерина. – Что я буду без вас делать? Вы были мне верным другом. А к кому я стану обращаться за духовным руководством? – Ваше высочество, я не могу жить спокойно, зная, что из-за меня возникают такие распри. Отпустите меня обратно в Испанию. Екатерина почувствовала, что вот-вот расплачется. – Нет, слышать об этом не хочу! Ваша поддержка – величайшее утешение в моих горестях. Я сама напишу отцу и предупрежу его, что Фуэнсалида – лжец. В отчаянии принцесса сочинила письмо с жалобой на некрасивое поведение посла.
День ото дня дела идут все хуже, и моя жизнь становится все более невыносимой. Я не могу больше терпеть этого. Ваш посол здесь – изменник. Отзовите его и воздайте ему по заслугам. Он сослужил Вам плохую службу.Той ночью Екатерина почувствовала себя очень плохо. Живот у нее вздулся, и ее три раза вырвало. – Это все из-за ваших переживаний, – сказала Мария, качая головой и накрывая таз тканью. На следующее утро, когда Екатерина заставила себя подняться с постели и пыталась съесть хоть что-нибудь за завтраком, прибыл посланник от короля с приказом готовиться к переезду со всем двором в Ричмонд. – Вы не можете ехать, – сказал брат Диего, с тревогой глядя на принцессу. – Вы нездоровы. – Мне лучше, – солгала Екатерина, понимая, что было бы безрассудством еще сильнее обижать короля. – Я хочу поехать. – Послушайте меня! – строго сказал монах. – Говорю вам, что под страхом смертного греха сегодня вы не поедете. – Он повернулся к посланнику. – Можете передать это королю. Екатерина слабо попыталась возразить: – Я достаточно хорошо чувствую себя для поездки. Не понимаю, почему переезд – это смертный грех. – Непослушание духовнику – это смертный грех, – поправил ее брат Диего. – Взгляните на себя. Вы больны. Всю ночь не спали. Я велю вам остаться для вашего же блага. Если завтра вам станет лучше, мы поедем. На следующий день Екатерина прибыла в Ричмонд, там ее уже поджидал Фуэнсалида. – Король был очень рассержен тем, что вы не приехали вчера. Он знает, что его приказание было отменено другим. – Значит, я пойду к нему и принесу извинения. – Он не примет вас. Три недели король не разговаривал с Екатериной и не присылал справиться о ее здоровье. Единственным утешением для принцессы было то, что с Фуэнсалидой Генрих тоже разругался и отказывался не только видеться с ним, но и вести какие бы то ни было дела.
Но вот пришла весть: отец отзывает посла и присылает на его место другого, Луиса Кароса. В неистовой радости Екатерина начала зачитывать письмо Фердинанда Марии. Они сидели вдвоем в обшарпанной комнате принцессы. Екатерина знала, что подруга разделит с ней этот триумф. Однако голос ее задрожал, когда она осознала смысл следующих слов. Отец отправлял Кароса в Англию, чтобы доставить ее домой, в Испанию. Он сам займется устройством ее замужества. Принцесса взглянула на Марию, не в силах вымолвить ни слова. Неужели после семи лет, проведенных в Англии, ей придется отправиться домой? Какое-то мгновение она не могла в это поверить. Не знала, как к этому относиться. Она вернется в Испанию, которая сильно изменилась с момента ее отъезда. Ее не встретит любящая мать, сестер тоже не будет, ведь все они замужем или мертвы. Там только отец, который – Екатерина не могла отделаться от этого чувства – предал ее. Но это будет прекрасно – снова увидеть родную страну. Не быть приживалкой при английском дворе. Не влачить свои дни в бедности. Не чувствовать вины за те лишения, которые испытывают ее слуги, и не страдать от бесконечных склок, без конца разгорающихся в ее бедствующем доме. Но покинуть Англию означало оставить все надежды на брак с принцем Генрихом. Она уже так давно его не видела, и все же ей никогда не забыть дней турниров и того, как он смотрел на нее. Думал ли он о ней так же часто, как она о нем? Всю жизнь Екатерина представляла себя будущей королевой Англии. Она хотела стать супругой принца Генриха, а не кого-то другого. И теперь отправиться в новую страну, привыкать к новым обычаям, языку? Английским Екатерина уже владела достаточно хорошо. Король Генрих умирал, это было ясно. Она никогда никому не желала смерти и каждый день молилась о его выздоровлении, однако в мыслях осмеливалась надеяться. Когда король оставит этот мир, принц Генрих придет, как странствующий рыцарь, чтобы предъявить свои права на нее, и они заживут счастливо, как написано во всех старых романах. Но очевидно, ее отец знал, что этого не случится. Иначе зачем он призывать ее домой? Горькая правда состояла в том, что ее желания были неосуществимы. Она понимала: не в ее власти повлиять на собственное будущее. Им распорядятся другие в своих интересах. Так всегда бывает с принцессами.
Екатерина сидела за столом в окружении своих приближенных. Никто не жаловался на дурной запах блюд: все привыкли есть залежалую рыбу с рынка. Был Великий пост, и они его соблюдали. Брат Диего следил за этим, так что никаких послаблений не допускалось, и на столе почти ничего другого не было. «Мы все равно не можем позволить себе большего», – размышляла Екатерина. Ее тошнило и знобило. – Не могу больше есть, – сказала принцесса. – Мне нужно лечь. Мария встала: – Пойдемте в постель, ваше высочество. Я вам помогу. В спальне Екатерина повалилась на кровать не раздеваясь. – Оставь меня. Просто дай мне поспать, – тихо сказала она, когда Мария попыталась возразить. Сон не решит ее проблем, но по крайней мере даст небольшую передышку. Два дня принцесса пролежала больная. Всю Пасху и еще неделю после праздника оставалась в своих покоях. Она все еще оправлялась от болезни, но уже одевалась и сидела в кресле в окружении своих фрейлин и служанок, когда прибыл Луис Карос, новый посол. – Приведите его ко мне, – распорядилась Екатерина. Карос был подтянутым мужчиной лет тридцати, с темной бородой и овальным лицом, не то чтобы особенно красивым, но приятным. Мария рассматривала его с усиленным вниманием. – Мы вас очень ждали, сеньор Карос, – сказала Екатерина. – Ваше высочество, я очень признателен. Премного наслышан о вашем трудном положении и испытываю горячее желание верно служить вам. Рад сообщить, что король Фердинанд находится в добром здравии и от всего сердца шлет вам уверения в своей любви. – А королева Хуана? Карос принял страдальческий вид: – О ней мне ничего не известно, ваше высочество. Полагаю, о ее величестве хорошо заботятся. Бедная женщина. – Вы уже виделись с королем Генрихом? – Ваше высочество, я пришел поговорить с вами именно об этом. Король слишком болен, чтобы встречаться со мной. Мне даны указания ждать, как будут развиваться события. – Значит, я не отправлюсь домой немедленно? Екатерина почувствовала, как стоявшие вокруг женщины задержали дыхание, страшась и сгорая от нетерпения узнать свое будущее.
После этого Екатерина видела короля всего раз. Она прогуливалась по дворцовому саду, наслаждаясь апрельским солнышком и весенним ветерком. Как-то случайно подняла взгляд и заметила, что он наблюдает за ней из окна. Генрих посерел и был похож на призрака, словно постарел на сотню лет. Однако, к ее изумлению, король улыбнулся и приветливо махнул рукой. Екатерина торопливо присела в реверансе и помахала ему в ответ. Видела, что он закивал, как будто одобрительно. Три дня спустя ей доложили, что король умер.
Глава 9 1509 год
– Говорят, почивший был прекрасным королем, – докладывал Луис Карос. «Может быть, и так, – подумала Екатерина, – но прекрасным человеком он не был». Вновь она облачилась в поношенное траурное одеяние, которое носила после кончины Артура и своей матери. Теперь оно болталось на ней – принцесса исхудала за годы лишений, – но надеть его еще было можно. – Мои источники сообщают, что в его сокровищнице осталось более миллиона фунтов. Ничего удивительного. Король не тратил ни пенни, если это не приносило ему прибыли. По наблюдениям Екатерины, двор не слишком сокрушался о потере. Бедная, хрупкая, стареющая леди Маргарет, конечно, была убита горем, как и принцесса Мария. Девочка любила своего отца и была им любима. Екатерина сочувствовала юной королеве Маргарите, которой предстояло услышать ужасную новость в далекой Шотландии; но в целом вокруг царила, скорее, атмосфера предвкушения, едва сдерживаемого восторга. Принцесса слышала, что почившего короля называли скупым, алчным, даже грубым. Как замечала она, эти неприятные стороны его характера стали проявляться с особенной силой после смерти королевы Елизаветы. Теперь принц Генрих станет королем – Генрихом VIII. Екатерина его так и не видела. Он будет скорбеть по отцу и заниматься делами королевства. Но несомненно, кое-что уже изменилось. Как будто вернулось то время, когда она была послом своего отца: стоило ей выйти из покоев, чтобы отправиться в церковь или на прогулку в сад, как люди почтительно кланялись ей и старались попасться на глаза. Екатерина не смела заглядывать в будущее и надеяться на перемены к лучшему.Короля похоронили рядом с королевой в великолепной часовне Богоматери, которую Генрих построил в Вестминстерском аббатстве. Екатерина на похоронах не присутствовала. Из доброты душевной она провела целый день в молитвах о душе старого скряги. Потом пришло распоряжение переезжать из Ричмонда в Гринвич, в огромный дворец из красного кирпича на берегу Темзы – прекрасную Плацентию, особенно любимую новым королем, ибо именно там он появился на свет. Здесь Екатерину разместили в великолепно обставленных покоях с большими окнами, сверкавшими на солнце ромбовидными стеклами. Из них открывался чудесный вид на танцующие фонтаны, безупречно подстриженные лужайки и цветочные клумбы, за которыми простиралась панорама Лондона и Темзы. Как не похоже все это было на тесноту унылых комнат в Ричмонде и других дворцах. Однако увидеться с ней юный король не спешил. Вскоре было доставлено письмо от короля Фердинанда. Он объяснял, что не выплачивал приданое, так как не доверял почившему монарху, который, как он полагал, не собирался выдавать Екатерину за принца Генриха. Очень уж опасался, что его сын, благодаря связям с Испанией, обретет слишком много власти. Теперь Екатерина может быть спокойна: все пойдет по-другому. «Я люблю Вас больше всех моих детей, – писал Фердинанд, – и считаю короля Англии своим сыном. Я стану его советчиком во всем, как истинный отец. Вашей обязанностью будет создать между нами взаимопонимание и добиться того, чтобы король следовал моим наставлениям в делах государства». «Все это очень хорошо, – думала Екатерина, – но где же король?»
Наступил июнь, розы распускали свои нежные лепестки и стояли в полном цвету. Уже полтора месяца, как старый король был мертв, двор все так же бурлил от возбуждения в ожидании перемен и спешно готовился к предстоящей коронации. Луис Карос выражал осторожный оптимизм – Екатерина подозревала, что он осторожен во всем, даже в любви, – а ее фрейлины пророчили ей скорое восхождение на трон. Принцессе хотелось бы в это верить. Брат Диего советовал ей запастись терпением и уповать на Господа. Но сохранять веру в лучшее было нелегко. Екатерина не могла не усматривать в столь долгом молчании Генриха зловещих признаков. Все хвалили нового короля – как мудро он вел себя, как любил добро и справедливость. Все были согласны в том, что он самый великодушный и милостивый принц на свете; смешливый и разумный, живой и веселый, он всегда разговаривал с людьми дружелюбно, с изысканной любезностью. Он не скрывал намерения отойти от тех норм экономии, которым следовал при своем правлении его отец, а также избавиться от советников, не любимых подданными. Вместе с ним ожидали прихода нового золотого века – эпохи щедрости, великолепия и славы. Екатерина собирала все слухи и похвальные речи и с трепетом узнала, что этот восьмой по счету Генрих был полон мечтаний вновь завоевать Францию. «Каким героем он себя показывает! – восторгались придворные. – Нашему королю не нужны ни золото, ни драгоценные камни, лишь добродетель и бессмертная слава!» – Все сходятся во мнении, что он производит впечатление человека благоразумного, мудрого и свободного от всякого греха, – сказал брат Диего. – Для Англии благословение иметь такого короля! Разумеется, так и было! Екатерина знала об этом лучше других; она многое могла бы рассказать о высоких идеалах Генриха и его рыцарственной натуре, образованности и вкусе к жизни. Если бы только ей удалось увидеться с ним и узнать о его намерениях на ее счет! Томительно тянулось время. Она заполняла часы молитвами, бесконечным вышиванием, чтением и прогулками по саду. Мария настаивала, чтобы Екатерина каждый день одевалась пышно – «на случай, если король заглянет». Брат Диего не уставал напоминать об опасности грехов гордыни и суетности, но Екатерина пропускала это мимо ушей – даже он не мог не понимать, что все это делается из благих побуждений. Полная надежд, она облачалась в желтый дамаст или прекрасный черный бархат. Волосы не заплетала в знак своего девства. И часто посматривала на себя в зеркало. Видно ли, что она на пять лет старше принца? Если он придет, найдет ли ее все такой же привлекательной? Однажды, когда время уже близилось к обеду, Екатерина играла с Марией в триктрак. Вдруг за дверями поднялась какая-то суматоха, после чего они открылись и перед ней предстал высокий, умопомрачительно красивый, элегантный молодой человек в наряде из черного шелка и отвесил грациознейший поклон. У Екатерины перехватило дыхание. По великой милости Божьей, это был сам король – бывший принц Генрих, повзрослевший, с точеными чертами теперь уже совершенно мужского прекрасного лица и копной сияющих рыжих волос. Глаза его пылали страстью и были полны надежды, весь облик источал нетерпение. Все это она уже видела раньше. Опомнившись, хотя и не сразу, принцесса присела в глубоком реверансе. И еще она заметила, к своему удивлению, что Генрих пришел один. Мелодичным голосом, более глубоким, чем она помнила, король с улыбкой попросил удалиться ее приближенных. Потом поднял склонившуюся Екатерину, взял ее руки, поднес к своим губам и, не отпуская, продолжал смотреть прямо на свою суженую. В этом жесте и в выражении лица короля заключалось желание обладать ею и властность, перед которыми было не устоять. Екатерина заглянула в его пронзительные голубые глаза и потерялась в них. – Кэтрин, госпожа моя, – сказал он, – нам нужно поговорить. – Он не собирался садиться, но так и стоял, держа руки Екатерины в своих. – Я очень сожалею, что не мог прийти раньше. Так много всего нужно было сделать, и мои советники так тщательно вникают во всякую мелочь. Но я четко объяснил им одну вещь: я слишком долго ждал, когда смогу сделать вас своей женой, и больше тянуть с этим не намерен. Мое сердце принадлежит и всегда принадлежало вам. – Вдруг Генрих опустился на одно колено и взглянул на Екатерину снизу вверх. – Я жажду быть вашим слугой, и мое счастье будет абсолютным, если вы согласитесь стать моей женой и королевой. Екатерина не могла говорить. Сколько долгих лет она мечтала об этом мгновении среди нужды и лишений, сколько раз воображала его! – Кэтрин, вы – моя истинная любовь! – произнес Генрих с тем же, что и прежде, неотразимым мальчишеским задором. – Мне ничего другого не нужно. Скажите «да»! Скажите, что будете моей! Да неужели это правда? Этот великолепный, пышущий здоровьем молодой человек, этот Адонис – природа действительно его не обделила – все еще хочет взять ее в жены! – Да! – произнесла Екатерина сквозь слезы радости. – Да! О да! Вместо ответа Генрих подскочил, сгреб ее в объятия и поцеловал. И поцелуй этот был так сладок, так нежен, так полон любви, что Екатерина едва не лишилась чувств от блаженства.
Чтобы не портить этот счастливый час, король остался обедать. Они так долго томились в разлуке, сказал он. Им нужно наверстывать упущенные годы. Екатерина не могла до конца поверить, что все это происходит на самом деле. Брат Диего благословил их и прочел молитву. Екатерина тут же подумала: как только она могла чувствовать влечение к этому человеку? А Мария и другие фрейлины зарделись, когда король приветственно поклонился им. Даже хмурый камергер вдруг стал чрезвычайно любезным и, отбросив чопорность, присоединился к тосту за их счастье. Это была вершина всех упований Екатерины. Бог снизошел к ее мольбам, и она была преисполнена благодарности. Этот восхитительный юноша вознес ее до положения возлюбленной его сердца и матери его наследников, она станет королевой Англии. Насмешники и те, кто пытался ее унизить, отныне будут вынуждены считаться с ней. Екатерина пыталась не упиваться мыслями об этом, но она была всего лишь женщиной. Дни нужды, к счастью, миновали. Очень скоро она станет супругой богатейшего из королей, когда-либо правивших Англией. Екатерина извинилась за скудость стола – суп, который ей до смерти надоел, черствый хлеб, сыр и тарелка вишен. – Ничего-ничего, – отмахиваясь от ее хлопотливого беспокойства, сказал Генрих. – Я люблю вишню. И с сегодняшнего дня вы не будете ни в чем терпеть нужды. И поднес ее руку к губам. Генрих сидел за столом – могучий, одетый в шелка, и комната в его присутствии казалась маленькой. Он заполнил ее собой, и все почувствовали себя легко и покойно. Король был весел, разговаривал с приближенными Екатерины дружелюбно и умно. Вскоре принцесса начала громко смеяться его шуткам. – А вот еще! – улыбаясь, говорил Генрих. – Рыцарь вернулся из одного северного графства и привез своему королю много пленников и золота. Король спросил его, что он делал. Рыцарь ответил, что он разбойничал и занимался грабежом, сжигал все поселения врагов короля на севере. Король изумился: «Но у меня нет врагов на севере!» – «Теперь есть», – ответил рыцарь. Генрих громко захохотал. Екатерина тоже засмеялась, не в силах оторвать взгляд от короля, который сидел перед ней, всем довольный, то и дело бросая выразительные взгляды в ее сторону, отчего она вспыхивала и заливалась краской до самого обшитого жемчугом выреза платья. Ее придворные не испытывали ни малейшего напряжения. Екатерина и раньше замечала эту способность Генриха легко сходиться с людьми. Оказавшись с ним рядом, никто не мог остаться равнодушным. Генрих больше походил на доброго приятеля, чем на короля. Екатерина не могла поверить, что он принадлежит ей. Все время, пока принцесса росла, ей часто говорили, что она награда для любого мужчины, но долгие годы борьбы подточили ее уверенность в себе. Ей было двадцать три; Генриху – почти восемнадцать. Не такая уж большая разница в возрасте – для него она, очевидно, не имела значения. Он пришел спасти ее от бедности, позора и унижения. Екатерина была готова отдать все свое пылкое, любящее сердце без остатка этому прекрасному юноше – ее королю, ее странствующему рыцарю, ее возлюбленному.
После обеда они сидели в затененной деревьями беседке в саду, им о многом надо было потолковать и условиться. – Мы должны пожениться немедленно! – воскликнул Генрих. – Коронация намечена на середину лета, и я хочу, милая Кэтрин, чтобы вы участвовали в ней как моя жена. Он сорвал бутон розовой розы и протянул ей. Екатерина улыбнулась, поднеся цветок к губам. Она хотела, чтобы Генрих продолжал говорить. Ей нравилось слушать его. Каждое слово, слетавшее с губ короля, было для нее перлом мудрости. – Вы должны знать: мой отец хотел, чтобы я женился на вас, – сказал Генрих. – На смертном одре он приказал мне сделать это не откладывая. Не точтобы я нуждался в особом распоряжении, я и без того уже давно готов к браку. – Он теплым взглядом посмотрел на Екатерину. – Мой совет тоже за. Все превозносят ваши добродетели, говорят, вы вылитая мать и обладаете мудростью и великодушием, которые завоюют уважение всего народа. Меня уверяют, что вы будете королевой, совершенной во всех отношениях. Но, Кэтрин, знайте одно: что бы кто ни говорил и какие бы весомые причины ни вели к нашему браку, из всех женщин в мире я желаю обладать именно вами. Я люблю вас и страстно хочу сделать своей супругой. Его рука скользнула по спинке каменной скамьи и легко опустилась на плечо принцессы. Екатерина не представляла себе, что прикосновение мужчины может настолько потрясти. Ничто в жизни не приближало ее к пониманию плотской любви. Теперь она поняла, почему поэты и менестрели придавали ей такое значение, почему люди томились от любви, готовы были умирать и убивать ради нее. Но легкое прикосновение было ничто в сравнении с тем, что ожидало их после свадьбы… Сердце принцессы забилось при мысли об этом. – Я сожалею, что мой отец так плохо обращался с вами, – продолжил Генрих, и лицо его посерьезнело. – Много раз я протестовал, но он меня не слушал. Мои слова не имели для него никакого значения. Я высматривал вас, хотя и знал, что отец намеренно держит нас вдали друг от друга. Люди говорили мне, как отважно вы противостояли трудностям. Поверьте мне, Кэтрин, если бы я мог вам помочь, я бы это сделал. Отца я ненавидел за то, как он с вами обходился. По горячему чувству в его голосе Екатерина поняла: для ненависти к отцу у него имелись и другие причины. – Но все это в прошлом, – твердо заявил Генрих. – Я не мой отец! Мы вступили в новую эпоху. В казне много денег, и это позволит мне произвести перемены. Отец мечтал о новой эре Артура, мой бедный брат должен был возвестить ее, но вместо него это сделаю я. Это будет новая эра рыцарства! Я намерен возродить давние притязания Англии на французский престол. Я обрушусь на французов с такими силами, что Азенкур покажется мелкой стычкой, и, клянусь вам, Кэтрин, однажды вы будете коронованы в Реймсе. Глаза принца засверкали в предвкушении столь славного будущего. – Мой отец поддержит вас, – заверила принцесса короля, трепеща от его слов. – Франция не друг Испании. – Англия и Испания вместе будут непобедимы! – сказал Генрих, взгляд его лихорадочно метался. – Король Фердинанд написал мне, побуждая без промедления жениться на вас. Он обещал, что ваше приданое будет выплачено целиком и в назначенный срок. Его банкир, синьор Гримальди, уже все устроил. Последние слова как иглой проткнули пузырь счастья, в котором пребывала Екатерина. Ее посуда и драгоценности! Смеет ли она сказать Генриху, как уменьшилось их количество? Принцесса задрожала, боясь, что стоит ей признаться, и Генрих может легко изменить свое решение. – С-сир, – запинаясь, произнесла она, – часть его должна быть выплачена драгоценностями и посудой. Мне пришлось продать кое-что, чтобы покупать еду и другие необходимые вещи. Генрих наклонился и поцеловал Екатерину. – Не стоит беспокоиться о таких пустяках, – успокоил он ее. – Посуда и драгоценности не имеют никакого значения. Этими несколькими словами принц снял тревогу, которая поглощала Екатерину столько лет. Никогда еще ни одна женщина не чувствовала себя такой любимой! – Я не нахожу слов, чтобы выразить вам свою благодарность за понимание, – сказала Екатерина, целуя его в ответ, – и глубоко признательна вам за то, что союз между нашими странами сохранится. – А я благодарен вам за то, что вы станете моей женой и королевой! – сказал Генрих, придвигаясь к ней и звонко целуя ее в губы. – Мне так нравится ваш милый испанский акцент. Вы самое прекрасное создание на свете. Принц снял с головы Екатерины бархатный чепец и провел рукой по ее волосам во всю их длину, а они настолько отросли, что принцесса могла на них сидеть. Потом Генрих заключил в объятия трепещущую принцессу и прижал к себе. Екатерина охотно поддавалась его поцелуям, радуясь, что деревья заслоняют их от чужих взглядов. На страже у входа в укромный садик стоял йомен из королевских гвардейцев. Всей жизни не хватило бы, чтобы выразить любовь и благодарность, которые теперь переполняли ее.
Сделать нужно было очень много, и все спешно. Целая армия ремесленников и рабочих взялась обновлять для Екатерины долго пустовавшие покои королевы. Мебель и гобелены были доставлены из королевского хранилища, художники освежали росписи, были куплены новое постельное и столовое белье, все самого высокого качества. Генрих деятельно занимался обустройством двора своей будущей супруги, зачислив в него сто шестьдесят человек. Многие из тех, кто служил его матери, были переведены в свиту Екатерины. Возглавить двор должен был новый камергер – Уильям Блаунт, лорд Маунтжой, представительный мужчина чуть за тридцать, который учился у Эразма в Париже и сейчас был известен как друг великого ученого и образованный гуманист в своем роде. Маунтжой держался с достоинством, и эта его манера внушала доверие. Екатерина не сомневалась, что этот вежливый, сведущий человек легко управится с ее двором. И ее очень порадовало известие, что Маунтжой влюбился в ее фрейлину Агнес де Ванагас и сделал ей предложение. Принцесса была очень благодарна Генриху за то, что он позволил ей оставить при себе испанских придворных, которые состояли в ее свите с момента прибытия в Англию. Принцу понравился брат Диего, и он позволил Екатерине оставить духовника при себе. Другой францисканец, преданный и кроткий Хорхе де Атека, который прежде исполнял обязанности писаря, теперь был повышен в должности до придворного священника. Доктор Алькарас по семейным обстоятельствам возвращался в Испанию, но два других врача – благородный доктор де ла Саа и по-отечески заботливый доктор Гуэрси, оставались присматривать за здоровьем Екатерины. Пребывая в полном счастье, Екатерина от души простила тех слуг, которые проявляли неуважение и непокорность, когда фортуна поворачивалась к ней спиной. Генрих с готовностью выплатил все, что им задолжали, и Екатерина попросила своего отца наказать их за дерзость, а потом простить. – Если вы не возражаете, я бы хотела оставить при себе Марию, она и сама не желает ничего иного, – попросила Екатерина. – Вы можете оставить кого хотите, дорогая, если при этом вам будут прислуживать и несколько английских леди. – Мне это будет очень приятно. – Принцесса с благодарностью поцеловала его. Екатерине понравились фрейлины, которых подобрал Генрих. Особенно ее обрадовало то, что среди них оказалась и Маргарет Поул. – Я знаю, вы к ней привязаны, – сказал Генрих, – к тому же в ней течет королевская кровь и она очень подходит для этой службы. – Вы не могли сделать лучшего выбора! – воскликнула принцесса, снова целуя короля. Маргарет Поул изменилась. Вдовство иссушило ее и без того стройную фигуру и прочертило борозды на челе. Побледневшая по сравнению с тем, какой ее помнила Екатерина, она осталась столь же доброжелательной и сердечной, как во времена их жизни в Ладлоу. Но принцесса быстро убедилась в том, что им обеим так легко и приятно друг с другом, будто они расстались не семь лет назад, а всего неделю. Три другие фрейлины происходили из королевского дома Плантагенетов. Элизабет, леди Фицуолтер, и Анна, леди Гастингс, были сестрами дальнего родственника Генриха, могущественного, горделивого и напыщенного герцога Бекингема. Жизнерадостная графиня Суррей – Элизабет Стаффорд, которую Екатерина обожала, приходилась ему дочерью. Все три, как знатные дамы, должны были служить при ее дворе вместе с графинями Саффолк, Оксфорд, Шрусбери, Эссекс и Дерби. – Я порекомендовал бы вам также супругу моего контролера сэра Томаса Парра, – сказал Генрих. – Он и его семья отлично служили короне, и моя бабушка, леди Маргарет, очень высокого мнения о них. Мать и бабушка сэра Томаса были фрейлинами, и хотя мне известно, что придворные должности полагаются только аристократкам, думаю, она вам понравится. Так и вышло. Мод Парр оказалась очаровательной, добрейшей леди, необыкновенно образованной и начитанной. Дамы сразу привязались друг к другу и нашли, что между ними много общего. Как и Екатерине, Мод тоже повезло – она полюбила супруга, которого для нее выбрали. Это была семнадцатилетняя кудрявая дама, приятной внешности и с изящными манерами. Маргарет Поул с ней тоже поладила, несмотря на двадцать один год разницы в возрасте. Мария предпочитала общительную Мод большинству других важных придворных леди, сильно заботившихся о поддержании своего достоинства. Как только стало известно, что у королевы будет тридцать фрейлин, поднялась суматоха: самые знатные семейства страны пустились в отчаянную торговлю, пытаясь обеспечить место в свите своим дочерям. К облегчению Екатерины, Генрих позволил ей оставить своих испанских горничных. Его главное желание – доставить ей удовольствие, заявил король. Нескольких фрейлин он выбрал сам и назначил еще некоторых из приближенных покойной Елизаветы. Одна была француженка – Джейн Попинкур, миниатюрная женщина лет около тридцати, с блестящими волосами, изящными манерами и отменным вкусом в одежде. Екатерина предпочла бы не иметь француженок при своем дворе, но Генрих был высокого мнения о Джейн, которая служила и его матери, и сестре Марии. Екатерина не стала возражать, а ради него приняла эту женщину милостиво. Остальных Генрих позволил самой Екатерине выбрать из тех, кого он предлагал. Когда она беседовала с претендентками, то прежде всего обращала внимание на их красоту и добронравие, чтобы ее фрейлины при каждом появлении на людях становились бы драгоценной оправой для своей госпожи, а их примерное поведение увеличивало бы доверие к ней. Екатерина распорядилась, чтобы избранные счастливицы одевались только в белое и черное, по контрасту с глубокими тонами фиолетового, алого и темно-желтого, которые любила она сама. – Ваше благочестие имеет важнейшее значение, – говорила Екатерина представшим перед ней фрейлинам. – Ваши родные ожидают, что я найду вам хороших мужей, поэтому ни один скандал не должен вас касаться. Помните, это плохо отразится и на мне тоже. Все кивали с самым серьезным видом, явно гордые тем, что оказались в числе отобранных при таком количестве соперниц, и сознающие, как им повезло. – Как королева, вы должны придумать себе символ, – сказал Генрих Екатерине. – Это будет гранат, по-испански – granada. Моя мать сделала его своим знаком после падения Гранады как символ Реконкисты. – Это к тому же и символ плодородия, – с улыбкой заметил Генрих. – Весьма уместно, ведь я надеюсь, что у нас будет много сыновей! – Я давно мечтаю о детях, – призналась Екатерина, затрепетав от его слов. – По воле Божьей ваши молитвы скоро будут услышаны! – Генрих привлек ее к себе и поцеловал. – Чем скорее мы обеспечим Англии наследника, тем лучше! Екатерина вспыхнула. Своим девизом она выбрала слова «Скромность и преданность!», и вскоре они появились в королевских дворцах повсюду, вместе со множеством гранатов и замков, символизировавших Кастилию, а также инициалами «Г» и «Е», которые краснодеревщики, камнерезы и вышивальщицы деловито вырезали, вытачивали и изображали иглой на всех доступных поверхностях. Другая армия портных, белошвеек, вышивальщиц шелком и ювелиров взялась за работу над роскошным новым гардеробом для Екатерины. Бóльшая часть его исполнялась в английском стиле. Теперь принцесса очень редко надевала «корзинку» или испанское платье. Дни ее были заполнены выбором тканей и примерками. Каждый день прибывало новое платье, которому предстояло быть повешенным на крючки или разложенным на кровати для получения строгой оценки принцессы. Долгие годы проходив в поношенных платьях из все сокращающегося гардероба, Екатерина получала близкое к чувственному наслаждение, снова украшая себя дорогими материалами – блестящим шелком, тяжелым дамастом, пышным бархатом и королевской парчой, твердыми в тех местах, где по ткани шла вышивка золотой нитью. Генрих не жалел украшений для своей невесты. Он уже отдал ей церемониальные уборы королев Англии – те, что носили прежние супруги правителей страны; они принадлежали короне и после Екатерины когда-нибудь перейдут к жене ее сына. Среди них были старинная корона саксонской королевы Эдиты, жены святого Эдуарда Исповедника, – красивая диадема из позолоченного серебра, усыпанная гранатами, жемчугом и сапфирами. Там имелись бриллианты, ожерелья, кольца, серьги и много других изящнейших украшений. Большинство, конечно, было сделаны по старинной моде, но Екатерина их очень ценила не только за высокую стоимость и историческую значимость, но и за то, что многие из них были подарками преданных королей своим возлюбленным женам. Тут были искусно сделанные шейные украшения, которые Екатерина в последний раз видела на своей любимой свекрови королеве Елизавете. Был гранатовый крест, подаренный Эдуардом III своей обожаемой супруге королеве Филиппе, золотой реликварий, когда-то принадлежавший Элеоноре Кастильской. Ее убитый горем муж установил памятные кресты, которые Екатерина видела по дороге в Лондон много лет назад. Да, эти драгоценности действительно были невероятно ценны. Принцесса благоговейно примерила корону Эдиты. Украшения, которые преподнес ей Генрих как личный подарок, Екатерина тоже очень бережно хранила: жемчужные ожерелья, россыпь колец, бриллиантовые подвески, усыпанные драгоценными камнями кресты, броши с изображением святого Георгия – покровителя Англии или вензелем «IHS»[6]: их она гордо носила приколотыми по центру к лифу платья. Больше всего Екатерина любила подаренный Генрихом крупный крест, украшенный сапфирами и тремя висячими жемчужинами: он был изготовлен по собственному рисунку короля. Жених также передал Екатерине некоторые украшения покойной матери и ее молитвенник, внутри которого написал: «Я ваш навеки. Генрих К.». Екатерина была вне себя от радости. На этот раз не предполагалось ни звона соборных колоколов, ни толп гостей, ни пиров. Свадьба должна была состояться частным образом, потому что и Генрих, и Екатерина официально продолжали блюсти траур по почившему королю. Они вместе выбрали благоприятный день – день памяти святого Варнавы, покровителя миротворцев, потому что их брак, конечно же, принесет мир. Рано утром Екатерина вошла в туалетную комнату в Гринвиче в сопровождении лучащейся от счастья Марии и еще нескольких новых английских леди в белом. Она облачилась в только что пошитое свадебное платье – церемониальный наряд из серебристой ткани, колоколом накрывший «корзинку». Ее длинные волосы распустили и убрали под золотой обруч – свадебный подарок от будущего супруга. Генрих пришел одетый в белый флорентийский бархат с рельефной вышивкой золотой нитью, в сопровождении нескольких лордов и придворных из своей свиты. Архиепископ Уорхэм ждал у небольшого алтаря, чтобы совершить церемонию. Маленькая часовня благоухала июньскими розами – их запах всегда будет напоминать Екатерине об этой восхитительной поре ее жизни. Генрих поклонился ей. Его глаза говорили, что она выглядит великолепно. Екатерина сделала реверанс. Они вдвоем преклонили колени на роскошных подушках, архиепископ объявил их мужем и женой и благословил. Екатерину переполняли чувства – ведь вершилась ее судьба! – любовь и благодарность к юному супругу, стоявшему на коленях рядом с ней. С колен она поднялась уже королевой Англии. И Генрих взирал на нее сверху вниз с обожанием в глазах. Радостно смеясь, они возглавили немногочисленную свадебную процессию, что проследовала из дворца через сад, а потом по известняковой дорожке – к церкви монастыря францисканцев, где должна была состояться праздничная месса по случаю бракосочетания. Затем молодожены вернулись во дворец, чтобы тихо пообедать в личных покоях Генриха. Екатерина сидела рядом с ним, под нависавшим над троном балдахином с символами его власти и могущества. Бесстрастные пажи, припадая на одно колено, церемонно подавали им еду на золотых блюдах, а вокруг стояли готовые к услугам лорды и леди. Никто не заговаривал о том, чтобы прилюдно укладывать ее в постель с Генрихом, а самой Екатерине спрашивать об этом супруга не хотелось. Про себя она молилась о том, чтобы их наконец оставили вдвоем. Беспокойство было напрасно. Когда убрали скатерть, новобрачные встали, чтобы с их одежды смахнули крошки, и Генрих улыбнулся Екатерине. Как только слуги удалились на почтительное расстояние и не могли уже его слышать, он наклонился и прошептал прямо в ухо Екатерине: – Сегодня вечером я приду в ваши покои по потайной лестнице. Она ведет из моих комнат в ваши. До встречи, моя королева! Екатерина даже не догадывалась о существовании такой лестницы. – Она в углу, за гобеленом, – растолковал ей Генрих. – О нашем браке еще не объявлено. Я подумал, это очень кстати: у нас будет несколько дней уединения, время лучше узнать друг друга. Пристальный взгляд и напряженное выражение лица Генриха заставили Екатерину покраснеть. В его намерениях не приходилось сомневаться.
Он пришел, кипящий юностью и энергией, еще до наступления темноты. Вечерний воздух дышал прохладой и сладостью, сумеречный свет придавал особое очарование силуэтам деревьев в саду под окном. На Генрихе была расшитая золотом, стелившаяся по полу дамастовая накидка поверх тонкой батистовой ночной сорочки. Словно любовник, он схватил Екатерину в объятия и опрокинул на постель. – Свечи, – пробормотала она сквозь его поцелуи. – Оставим их, – сказал он, укладывая ее спиной на подушки. – Я хочу видеть вас. Екатерина ожидала, что будет смущена, но напористое нетерпение Генриха не дало ей такой возможности, и она начала целовать его в ответ, поражаясь самой себе – тому, как ее тело отзывалось на его ласки, которые становились все более смелыми. Вскоре они уже лежали рядом голые на бархатном покрывале, потерявшись в радости полного познания друг друга. – Я уже говорил, но это правда – вы самое прекрасное создание в мире, – выдохнул Генрих. Екатерина испытывала удовольствие от первого в жизни исследования мужского тела и от его растущего желания – свидетельство тому упиралось в нее твердо и настойчиво. Потом Генрих приподнялся и лег на нее, раздвинул ее бедра и нацелился между ними. Пытаясь войти, он тыкался то в одну сторону, то в другую. Это напомнило ей, как бесполезно терся об нее Артур. Но то было так давно, и Генрих не Артур. Он был тверд и готов действовать, ей только и требовалось протянуть руку и направить его в нужное место. Когда он еще раз надавил и проскользнул в нее, она ахнула от жгучей боли. Но он, казалось, ничего не заметил и весь напрягся. Возникло ощущение дрожи, и ее лоно затопила какая-то теплая липкая влага. Выйдя из нее и откинувшись на спину, тяжело дышащий Генрих выпростал руку и прижал Екатерину к себе. – Кэтрин, как я люблю вас! – прошептал он. – Моя Кэтрин! – А я люблю вас, мой Генрих, – отозвалась она, блаженствуя в кольце его рук. Наконец-то она стала женой в полном смысле слова. Отзвуки боли после соития мало что значили. Ее удивило, как быстро все произошло. Однако вскоре новобрачную ждал новый сюрприз: Генрих хотел сливаться с ней снова и снова. И вдруг, на третий раз, она почувствовала, как в ней пробуждается желание, будто распускающийся цветок, а потом – о, что за чудо! – взрыв чистейшего наслаждения, какое она только могла вообразить. Следом пришел великий покой и глубокое чувство удовлетворения. Теперь Екатерина понимала, что значит быть одной плотью. Если раньше она любила Генриха, то теперь полюбила его в тысячу раз сильнее, ведь он подарил ей такую радость. А впереди их ждала целая жизнь, чтобы дарить друг другу наслаждение. И это было самым прекрасным…
Часть вторая Королева Англии
Глава 10 1509 год
Утром Екатерина поднялась с брачного ложа и удивилась: простыни были запачканы, но пятен крови на них не наблюдалось. Однако Генрих, который лежал и оценивающе ее рассматривал, об этом не упомянул или даже ничего не заметил, так что Екатерина решила: ей повезло. Очевидно, не у каждой женщины в первый раз бывает кровотечение. Прикрыв наготу ночной рубашкой, она сидела рядом со своим новым мужем на кровати и надевала чепец. – Теперь я замужем и должна накрывать волосы, – сказала Екатерина. – Вы не обязаны это делать, – откликнулся Генрих. – Королева имеет право носить волосы распущенными, как у девственницы. Ваша девственность символична, конечно. – Он усмехнулся. – И мне приятно видеть ваши волосы. – Он снова сгреб ее в объятия. – Прекрасная это штука – брак! – шепнул он ей на ухо и потерся о нее носом. И потом, конечно, все повторилось вновь… – Кэтрин, вам нравится это? – спросил Генрих через некоторое время. – Как мне может это не нравиться? – хихикнула она. – Вы первая женщина, которую я познал, – сказал он, глядя на нее. Вот так неожиданность! – Я рада, – сказала Екатерина. – Мне казалось, женщины должны бросаться к вашим ногам! Вы ведь все-таки король. – Вы знаете, после смерти матери при дворе моего отца женщин осталось не так много. И он заставлял меня вести почти монашескую жизнь. Никаких возможностей для любовных игр. Но я всегда желал вас, Кэтрин. Во всех остальных женщинах чего-то не хватало. Теперь вы моя, по великой милости Божьей, и я действительно счастлив! – Генрих напряженно взглянул на нее. – Я должен знать. Артур когда-нибудь… – Нет, Генрих. Он был слишком болен, бедный мальчик. – Значит, все их придирки были напрасны, – пробормотал Генрих. – Какие придирки? – О, Уорхем и некоторые советники что-то там скулили, будто наш брак запрещен Писанием. – Но у нас есть разрешение папы! – воскликнула Екатерина. Ничто не должно было испортить это вновь обретенное блаженство. – И я говорил им это. Не волнуйтесь, моя дорогая. Все хорошо. Думаете, я женился бы на вас, если бы имелись хоть малейшие сомнения? Я бы не стал рисковать ни вашим будущим, ни своим. Но папа благословил нас, и теперь вы – моя жена перед Господом. И он начал утешать ее поцелуями.Еще три дня они наслаждались бесценным уединением. Екатерина была полностью поглощена новой радостью жизни и забыла о том кратком разговоре. Мысли ее были слишком полны Генрихом, тело удивляло нежданными, сладостными ощущениями, которые он пробудил в ней. Бóльшую часть времени они провели в постели, даже ели там. Когда они не предавались любовным утехам, то играли в карты, кости, триктрак или музицировали. Екатерина обнаружила, что Генрих был прекрасным музыкантом. Он мог играть почти на любом инструменте, особенно удачно получалось у него обращаться с лютней, продольной флейтой и вёрджинелом[7]. Лежа на подушках, Екатерина наблюдала, как ее супруг поет по книге, считывая мелодии с листа без всяких усилий. Сочинять музыку Генрих тоже мог, это она хорошо знала. – Помните ли вы, Кэтрин, день нашей помолвки, я тогда обещал сочинить для вас песню? – спросил он. – Как я могу забыть об этом? – Что ж, как вам нравится вот эта? – И он запел своим прекрасным тенором:
Наконец о том, что они стали мужем и женой, было объявлено во всеуслышание. Екатерина впервые появилась при дворе в качестве королевы, одетая в синее траурное платье с опущенным ниже талии золотым поясом и в роскошной мантии, подбитой горностаем. – Отныне, моя королева, вы будете рядом со мной на всех государственных и придворных церемониях, – сказал ей Генрих, и в глазах его засветилась гордость. Вечером он предупредил Екатерину, чтобы та готовилась к его приходу, поэтому она отпустила горничных и села на огромную кровать под балдахином. Муж мог появиться из-за гобелена в любой момент. Однако потом Екатерина услышала топот нескольких ног, дверь в ее спальню внезапно распахнулась, и вошел Генрих в его дамастовой накидке. Екатерина услышала, как у него за спиной закрылась наружная дверь в ее апартаменты. – Почему вы не воспользовались потайной лестницей? – Меня сопровождали стражники и двое из моих придворных. Теперь люди знают, что мы женаты, и в Англии принято, чтобы короля видели посещающим свою жену. Это дело общественной важности, понимаете ли. Чтобы никто не сомневался в законности последствий. Не волнуйтесь, мои стражники останутся за дверью, пока я не соберусь уходить. – Он усмехнулся. – Долго же им придется ждать! Они занялись любовью. Сначала Екатерине было трудно расслабиться, но она сказала себе, что должна свыкнуться с новыми обстоятельствами. Не ее это дело – обсуждать английские обычаи. Потом накатила знакомая волна блаженства, и она забыла обо всем, кроме прикосновений Генриха и его мелодичного голоса, мурлыкавшего ей на ушко слова любви.
Генрих выглядел великолепно. На нем была алая мантия, подбитая горностаем, а под ней – парчовый дублет, расшитый бриллиантами, рубинами, изумрудами, крупным жемчугом и другими драгоценными камнями. Екатерину одели в свадебное платье. Была середина лета, и они сидели на подушках в королевской барке, которая величественно рассекала воды Темзы, окруженная флотилией разукрашенных лодок. Позади остался Гринвич, впереди их ждали Лондон и Тауэр, где они проведут ближайшую ночь. Генрих объяснил, что английские монархи по традиции перед коронацией должны переночевать в Тауэре. Вдоль берега собрались толпы, люди махали руками и приветствовали молодоженов радостными криками. Генрих отвечал улыбками, кивками, вскидывал руку, а Екатерина, тронутая таким теплым приемом, кланялась, поворачивая голову, то направо, то налево. То же ждало их всю дорогу вдоль реки. – Они любят вас! – Генрих повернулся к ней. – И не только потому, что этот брак пошел на благо нашей торговле, они любят вас саму! – Мне неловко, что они так сердечно относятся ко мне, – сказала Екатерина. Молодые супруги высадились на берег и вошли в Тауэр через боковую дверь башни Байворд, где их встретил констебль и его стражники-йомены. Оттуда процессия направилась по Уотер-лейн к королевским апартаментам. Весь двор собрался в старинных залах башен Ланторн и Уордроб, где вечером король возвел в рыцари ордена Бани двадцать четыре человека. Екатерина сидела рядом с ним. Ей не нравился Тауэр. И не только потому, что она знала о несчастном графе Уорике, который был заточен здесь лет десять назад. Во всем этом месте ощущалось нечто зловещее, и Екатерина радовалась, что они проведут здесь всего одну ночь. Генрих потратил огромные средства на переустройство мрачных старых покоев. Несмотря на его старания, комнаты королевы ей пришлись не по вкусу. Июньское солнце не проникало сквозь узкие окна, и миазмы печали будто висели в воздухе. Конечно, ведь здесь умерла королева Елизавета. Неудивительно, что в этих апартаментах с дорогой новой мебелью царит гнетущий дух. Вечером Генрих и Екатерина вышли прогуляться по верху замковой стены. По ней можно было пройти из башни Вейкфилд к башне Ланторн и посмотреть сверху на внутренние дворы замка. Генрих находился в таком приподнятом настроении, что Екатерина не стала рассказывать, как мало ей здесь нравится. Но потом супруг повернулся к ней: – Сегодня, любовь моя, я не приду к вам. Перед коронацией я предамся ночному бдению в часовне Святого Иоанна. Он уже водил ее на верхний этаж массивной башни Цезаря и показывал изысканную маленькую церквушку. Сердце Екатерины упало, но она, конечно же, с улыбкой одобрила его намерение. Ей очень нравилась набожность мужа. Как и она, он слушал по пять месс каждый день и завел правило каждый вечер присутствовать вместе с ней на вечерне в ее покоях. Теология была его страстью, и он наслаждался своей славой знатока вероучения. Его вера была истовой и чистой, и Екатерина понимала, насколько важно для него соблюсти пост и провести ночь без сна. В эту ночь она выбрала из своих фрейлин Мэри Рус, чтобы та спала на соломенном тюфяке в ее опочивальне. Екатерина распорядилась, чтобы та незаметно удалилась, если паче чаяния придет король. Потом Екатерина попыталась заснуть, но судьба юного Уорика не давала ей покоя. Где его содержали? Осознавал ли он, какие могут быть последствия участия в заговоре, что ему грозит? Представив, какой ужас охватил его в тот день, когда за ним пришли, Екатерина задрожала. Затем мысли ее переключились на судьбу двух юных принцесс, которых четверть века назад сгубил в Тауэре злой король Генрих. Об этом и сейчас говорили разве что шепотом. Екатерина поежилась в своей теплой постели. Кости этих детей тоже покоились где-то здесь, но пока их никто не обнаружил… Не скоро ей удалось заснуть в эту ночь.
Проснулась Екатерина оттого, что в комнате кто-то всхлипывал. Стояла тьма. – Мэри? – тихо позвала она. Ответа не последовало, но плач не прекратился. Екатерина приподнялась. В углу на стуле, закрыв лицо руками, сидела какая-то женщина, ее плечи вздрагивали. Это была не Мэри. Платье на незнакомке, кажется, было черное, и чепец какой-то необычной формы. – Кто здесь? – спросила Екатерина, совершенно проснувшаяся и удивленная. Кому из ее фрейлин понадобилось искать убежища у нее в комнате, чтобы выплакаться? И почему? Женщина не обращала на хозяйку спальни никакого внимания и продолжала рыдать, очевидно терзаемая великим горем. Екатерина склонилась к краю кровати, думая, что Мэри, наверное, тоже проснулась, но увидела свою приближенную крепко спящей. – Кто бы вы ни были, прошу, позвольте мне вам помочь! – сказала Екатерина. И вновь женщина даже не взглянула на нее. Глаза Екатерины постепенно привыкали к темноте. Теперь она разглядела, что хотя чепец на гостье был знакомой формы, напоминавшей фронтон здания, но наушники слишком коротки – таких Екатерина никогда не видела. Лица незнакомки ей разглядеть так и не удавалось, женщина не отнимала от него рук. Было совершенно ясно, что эта особа находилась в самом ужасном состоянии. Екатерина соскользнула с постели, намереваясь мягко прикоснуться к плечу дамы и обратить на себя ее внимание, но тут случилось нечто странное. Фигура исчезла. Стула, на котором сидела незнакомка, тоже не было, и, кроме дыхания Мэри, в комнате не раздавалось ни звука. Несколько мгновений Екатерина неотрывно смотрела на то место, где сидела дама, потом забралась обратно в постель, озадаченная и немало напуганная. Может быть, ей это приснилось?
На следующее утро Екатерина испытала облегчение, выйдя из покоев королевы и услышав, как за ней закрылись двери. А снаружи, рассеивая последние остатки ночных теней, стоял Генрих, как обычно жизнерадостный, в сиянии золота и драгоценных камней, спешащий совершить свой торжественный въезд в Лондон. – Мне не терпится показать вас своим подданным! – сказал он, крепко целуя ее в щеку. Площадка для турниров в Тауэре была заполнена лордами, леди, государственными сановниками, королевскими слугами, одетыми в зеленое и белое – цвета Тюдоров, и целой толпой духовенства. Все толкались, торопясь занять свои места в огромной процессии. Генрих вскочил на коня, Екатерина забралась в носилки, обтянутые золотой парчой, которые везли две белые верховые лошади, и они двинулись вперед. Ревущие толпы сопровождали их на всем протяжении пути от холма Тауэр через Чипсайд, Темпл-Бар и Стрэнд в Вестминстерский дворец. Улицы были украшены прекрасными гобеленами, из питьевых фонтанчиков текло вино, и на каждом углу стояли священники, кадившие ладаном. Екатерине вспоминался ее торжественный въезд в Лондон около восьми лет назад. Назавтра, в день Иоанна Крестителя, была назначена коронация. В тот вечер, возбужденные предстоящим, Екатерина и Генрих удалились в просторный Расписной зал: на стенах его красовались старинные фрески с изображением сцен возведения на трон святого Эдуарда Исповедника и библейских сражений. Перед ними стояла прекрасная дубовая кровать, на ее спинке были вырезаны королевские символы, а также знаки плодородия. – Это брачное ложе моих родителей, – сказал Генрих. – Оно называется Райская постель. Кровать была украшена дорогим дамастовым пологом и роскошно убрана, но в самом зале, несмотря на теплоту июньской ночи, воздух был сырым и прохладным. От влажных испарений Темзы по стенам ползли зловещие пятна плесени, разъедавшие яркие краски, серебро и золото фресок. – Миропомазание отделяет короля от всех остальных людей. – Генрих повернулся к Екатерине. – Завтра я стану другим – помазанным, коронованным, наделенным божественной властью. Это странная и пугающая мысль. Мой отец всегда говорил, что королям дарована мудрость и прозорливость, в которой отказано простым смертным. – Но еще важнее, мой Генрих, чтобы вы правили, будучи любимы своими подданными, – отозвалась Екатерина, беря его за руку. – А вам уже этого не занимать. Весь мир ликует. Люди рады иметь такого короля. – Не говорите так, дорогая! – Генрих наклонился и поцеловал ее. – Это правда, и я не одна держусь такого мнения. Я смотрю и вижу. Народ любит вас за молодость, за красоту, за храбрость, но больше всего – за вашу открытость и простоту в общении. Этому нельзя научиться, это дар. Они знают, что вам понятны вещи, близкие им самим. Если вы будете продолжать, как начали, то сохраните их любовь и преданность на всю жизнь. – Я так и сделаю, Кэтрин! И вы должны помочь мне и поддержать меня. – Я всегда буду с вами, Генрих! – поклялась она. Он улыбнулся ей: – Вы пойдете со мной в часовню Святого Стефана для ночного бдения? – Вы не устали? Ведь вы провели в церкви прошлую ночь. – Я чувствую, что это священный долг. – Тогда пойду. Рука об руку они прошли в часовню и вместе опустились на колени перед алтарем, освещенным единственной горевшей в храме лампадой. Высокие готические окна возносились к сводам крыши, но все тонуло во тьме, и ночь была тиха. Чувства Екатерины обострились от застоявшегося запаха церковных воскурений и звуков низкого голоса Генриха, произносящего молитвы. Она и сама попыталась молиться, но сначала слова не приходили. Екатерина слишком сильно ощущала присутствие рядом коленопреклоненного супруга. Золотоволосая голова склонена, руки молитвенно сложены – он был олицетворением христианского короля.
Они легли спать в четыре, но Екатерина почти не страдала от недостатка сна, даже когда ее разбудили рано поутру. Она поднялась, чувствуя себя отдохнувшей, и вместе с Генрихом прослушала мессу. Когда она снова вставала рядом с ним на колени у алтарной преграды, то мельком увидела его лицо – вдохновенное, поглощенное величием момента. Взгляд Генриха был устремлен на статую Богоматери с Младенцем. И тогда Екатерина поняла, что он готов к великому делу – ожидавшим его впереди долгим годам царствования. Оставив ее, Генрих ушел в свои апартаменты, где лорды и прочие придворные подготовили его к церемонии. Екатерину фрейлины обрядили в прекраснейшее платье из белого атласа с золотой вышивкой. Волосы своей госпожи дамы оставили незаплетенными, и они свободно свисали вдоль спины. На голову ей возложили усыпанный восточным жемчугом и самоцветами венец, а плечи накрыли алой мантией, подбитой мехом горностая. Генрих ожидал супругу. – Вы прекрасны! – выдохнул он. – Я так горжусь вами! Проводив ее к носилкам, он занял место под балдахином, который несли пятеро баронов Пяти портов[8]. Длинная процессия двинулась вперед, придворные дамы и кавалеры Екатерины ехали следом за ней в колясках и верхом, а король замыкал шествие. Они медленно перемещались по ярко-алым дорожкам, раскатанным от дворца до огромных западных ворот Вестминстерского аббатства. Густая толпа людей с обеих сторон шумно выражала свою радость. Для Екатерины день коронации прошел как в тумане. Было столько бесценных, упоительных моментов, столько сцен, которые она будет лелеять в своих воспоминаниях. Генрих восседает на почетном коронационном троне; блеск камней в короне святого Эдуарда Исповедника, надетой на голову королю после миропомазания; приветственные выкрики собравшихся владык, духовных и светских, и почтительно склоняемые одна за другой головы. Ей никогда не забыть священного момента, когда сама она была миропомазана, и того, как архиепископ Кентерберийский благоговейно возложил на ее голову тяжелую золотую диадему, сверкавшую сапфирами, рубинами и жемчугами. Сердце Екатерины было переполнено. Она была готова посвятить всю свою жизнь Господу и служению на благо королевства своего мужа. Но вот Генрих и Екатерина рука об руку вышли из аббатства – король с королевой без всяких оговорок, освященные церковным обрядом, увенчанные коронами. Толпа обезумела. Позже им сказали, что красные дорожки были разорваны на куски горожанами, жаждущими получить что-нибудь на память. Молодые монархи двигались сквозь толпу, со всех сторон им желали счастья и благополучия. В конце концов они оказались в Вестминстер-Холле, под островерхой крышей которого должен был состояться коронационный пир. Поднявшись по ступенькам, король и королева сели за стол на помосте. В зал верхом на коне въехал сэр Роберт Даймок, защитник короля, готовый бросить вызов любому, кто усомнится в праве его господина на трон. Екатерина заволновалась. Эта часть церемонии внушала благоговение. Как объяснил Генрих, семья Даймока уже более столетия удерживает за собой должность защитников Англии. Сэр Роберт исполнил свою обязанность с блеском: широким жестом бросил на землю латную рукавицу и обвел всех собравшихся пристальным взглядом, ожидая желающих поднять ее. Никто, разумеется, не вышел, и Генрих весело вручил сэру Роберту золотой кубок в награду за службу. После этого начался пир.
За коронацией последовали дни празднества. Генрих больше всего на свете любил турниры и лично распоряжался организацией нескольких ристалищ в садах Вестминстерского дворца. Екатерина сидела рядом с ним в деревянном павильоне, увешанном гобеленами и расписанном коронами, розами и гранатами. За спиной у нее плотной стайкой расположились фрейлины. Она с истинно королевским величием наблюдала за состязаниями, а Генрих рядом с ней бурно выражал одобрение победителям, сам готовый и жаждавший вступить в бой. Однако в этот раз он снизошел к мольбам советников, убеждавших его не подвергать опасности свое королевское величество, пока не появится наследник. Екатерина страстно надеялась, что этого не придется долго ждать. Она разделяла чувства Генриха и невольно с особым нетерпением следила за его друзьями, подбадривала их – этих избранных молодых людей, которые входили в ближнее окружение короля. Заправлял там всем светловолосый хранитель королевского стула[9] Уильям Комптон. В детстве он был пажом Генриха и остался его ближайшим другом среди придворных. Еще в ближнем круге короля находился Чарльз Брэндон, один из самых красивых мужчин при дворе: его можно было принять за Генриха даже вблизи – так он походил на своего монарха. Брэндон получил должность благодаря тому, что его отец погиб, сражаясь за недавно почившего монарха в битве при Босуорте. Он был так очарователен, что Екатерина не могла не испытывать к нему симпатии. Комптон, по мнению королевы, слишком уж откровенно флиртовал с фрейлинами, а его влияние на короля вызывало у нее опасения, хотя по отношению к самой Екатерине Комптон был безупречно вежлив и обходителен. Праздник следовал за праздником, дни превратились в яркий круговорот разнообразных зрелищ, танцев, конной и соколиной охоты. Каждый раз Екатерина с Генрихом представали в новых нарядах. Казалось, казна была бездонной, как и любовь Генриха к ней. Он не переставая говорил людям о том наслаждении, которое находит в общении с супругой. – Очевидно, что его милость обожает вас, – заметил брат Диего. – А я обожаю его. – Екатерина улыбнулась. – О таком счастье я даже не мечтала. Ее приучили вести себя степенно и чинно, к тому же за последние семь лет у нее нечасто появлялись поводы для радости, зато теперь, свободная от забот и ограничений, она отдалась любви и земным удовольствиям. – Ваше высочество, вы прекрасно выглядите, как будто поздоровели, – заметил монах, одобрительно глядя на нее. – Никогда еще я не испытывала такой радости и удовлетворения, – сказала ему Екатерина. Она чувствовала себя лучше, чем когда бы то ни было. Прошли все недомогания, от уныния не осталось и следа. Однажды после обеда Екатерина, склонившись над плечом Генриха, наблюдала, как он пишет ее отцу: «Моя жена и я любим друг друга так, как только могут любить два существа. Ее добродетели день ото дня сияют все ярче и возросли до такой степени, что если бы я все еще был свободен, то отдал бы ей предпочтение при выборе жены перед всеми остальными». Екатерина поцеловала его за это. – Я никогда не встречался свашим отцом, но желаю служить ему, как своему собственному, – сказал Генрих. Екатерину это тронуло. С момента бракосочетания у нее появилось чувство, будто английское королевство стало частью владений ее отца, и она искренне желала, чтобы Фердинанд направлял Генриха и руководил им. С исполненным благодарности сердцем она сама тоже отправила письмо отцу.
Я хочу поблагодарить Вас. Вы обеспечили мне весьма удачный брак с человеком, которого я люблю гораздо больше, чем себя саму, – писала она, – и не только потому, что он супруг мой, но и по той причине, что он есть истинный сын Вашего Величества и желает выказать Вам величайшее послушание и удовольствие быть Вашим слугой, паче чем любой сын может иметь к своему отцу.«Мне радостно узнать, что вы в высшей степени любите друг друга, – отвечал Фердинанд, – и я надеюсь, вы проживете счастливо до конца ваших дней. Удачный брак – это не только благословение для мужчины и женщины, которые познают друг друга, но и для всего мира». Брак их был удачным, Екатерина это знала. Иначе и быть не могло, потому что основой ему служили любовь, уважение и крепкий политический расчет. Отец четко объяснил, что теперь, когда она замужем, ее основная роль в Англии – оберегать его интересы. Она должна стать неофициальным представителем Испании. – Мой отец – великий король, – сказала она Генриху однажды ночью, когда они лежали, запутавшись в простынях, и отдыхали после любовного труда. – Он не оставит вас мудрыми советами. Генрих заглянул ей в глаза. Его очи были пронзительно-голубыми. – Я намерен полностью предать себя в его руки, – пробормотал он, – и душевно благодарен ему за услуги! Екатерина радовалась, видя, как глубоко любит и уважает ее Генрих. Он ничего не предпринимал без ее одобрения. Часто приводил к ней своих советников и иностранных послов, говоря: «Королева должна это услышать». «Это порадует королеву», – восторгался он, спеша показать ей полученное письмо или новую книгу. Вскоре он уже не начинал никакого дела, не посоветовавшись с ней и не узнав мнения ее отца. Екатерина сама часто встречалась с Луисом Каросом и считала, его радует то влияние, каким она пользуется. Но однажды во время совместной прогулки по благоухавшему розами саду посол предупредил ее: – Англичане на своих островах живут обособленно. Они не любят, когда чужестранцы вмешиваются в их дела. Советники короля боятся вашей власти над ним. Я слышал мнения, что Англией скоро будут управлять из Испании. – Но я не делаю ничего, что противоречит интересам Англии, – запротестовала слегка задетая Екатерина. – Разумеется, нет, – успокоил ее Карос. – Вашу милость очень любят здесь, это ясно, но если о вас начнут думать, что вы ставите интересы Испании выше английских, то вызовете не меньшую ненависть к себе. – Я никогда этого не сделаю, – заверила посла Екатерина. – К тому же интересы двух стран сходятся: король Фердинанд и король Генрих жаждут видеть Францию поверженной. Она не сказала Каросу, что убедила Генриха вступить в тайное соглашение с Фердинандом с целью подорвать могущество короля Людовика в Италии, которое, как она сама была вынуждена признать, не сулило особой выгоды Генриху, зато давало солидные преимущества Фердинанду. Но как бы там ни было, Англии это не могло повредить. Не сообщила она послу и о распоряжении Фердинанда передавать ему все планы Генриха. Муж полагался на ее мнение, чтобы поступать правильно. Вернувшись к мужу и вместе с ним наблюдая, как лучшие юные рыцари Англии борются за почести, она не сомневалась, что с ее помощью интересы обоих королевств будут соблюдаться наилучшим образом.
Так прошло то прекрасное, золотое лето – бесконечный круг удовольствий, развлечений и приемов. Генрих упивался роскошью: содержал великолепный двор, который буквально сверкал драгоценными камнями, золотом и серебром. Сотни людей стекались сюда: обвешанные золотыми цепями дворяне, роскошно одетая, честолюбивая молодежь, придворные короля и королевы, раздувшиеся от сознания собственной важности личные советники, законники, церковники, послы разных земель. Большинство из них ничего не делали, кроме как искали продвижения по службе, стремясь воспользоваться преимуществами, которые открывала перед ними щедрость юного короля. Генрих готовил планы строительства новых дворцов и обновления уже существующих. Он сам точно не знал, сколько их у него. – Десятки! – говорил он. – И я все их сделаю подходящими для приема моей любимой королевы! Запах опилок и свежей краски навсегда свяжется у Екатерины с ранними годами ее брака. Испанский двор, по детским воспоминаниям Екатерины, представлялся ей очень строгим и чопорным. Однако и здесь появились невиданные прежде строгости церемониала: Генрих вознамерился сделаться еще более блистательным монархом, чем его отец. Однако он знал, когда следует отступиться от правил, и довел свое чутье в этом деле до уровня искусства. Вот что влекло к нему людей. Екатерина пришла в восторженное изумление, когда застала своего супруга играющим в кости со смотрителем винных погребов. Ее отец никогда не снизошел бы до такого. И ей никогда не забыть удивления на лицах венецианских посланников, когда, гуляя однажды с ней по саду, Генрих увидел, что они наблюдают за ним из окна, подошел, отпустил какую-то шутку, посмеялся с ними и даже сказал несколько слов по-итальянски. – Это великая честь, – говорили ему послы, явно не способные постичь, как может король быть таким свободным и легким в общении. Генрих действительно выглядел самым любезным и добродушным государем в мире. Так же непринужденно общался он со множеством ученых мужей, которых привечал при своем дворе. Многие были родом из Италии. Часто, когда они с Екатериной обедали, доктора, философы и богословы стояли вокруг стола, и разговоры при этом велись самые блестящие. – Здесь собраны все богатства и культурные сокровища мира, – благоговейно заметил Екатерине один гость из Венеции, рассматривая погруженного в беседу короля. Его окружали строго одетые господа, и вид их подчеркивал великолепие приемного зала – гобелены, золоченый потолок и резной фриз на стенах с изображением резвящихся херувимов. – Я хочу окружить себя учеными людьми, – однажды сказал Генрих, когда они вместе сидели после обеда в дворцовой библиотеке. – Я предпочту проводить время с ними, чем с кем-нибудь другим, исключая вас. «Он и сам мог бы стать ученым», – подумала она. Ее супруг любил вступать в споры и готовился к вечерним битвам умов, читая труды Фомы Аквинского и философа Габриэля Биля. Екатерина должна была проверять логику и ораторское искусство мужа, а партнером для тренировок он был прекрасным. Какие бы аргументы – пусть и достаточно резкие – ни выдвигались в процессе спора, делалось это всегда с замечательной учтивостью, притом Генрих никогда не выходил из себя. – Биль прав, утверждая, что все церковное правосудие исходит от папы, – заявил король, откладывая в сторону книгу философа. – Неужели кто-то может думать иначе? – Некоторые полагают, что власть внутри Церкви должна принадлежать Вселенскому собору. Фрэнсис Брайан сегодня вечером будет отстаивать эту точку зрения, а я намерен оппонировать ему. – Слишком многие хотят изменений. Они ставят под вопрос то, в чем не должны сомневаться. И жалуются на злоупотребления внутри Церкви. – О, злоупотребления имеются, Кэтрин, это точно. Но это не вина Церкви. За них в ответе люди, которые их творят, вот с кого нужно спрашивать. Однако это совершенно другая дискуссия! Страсть Генриха к общению с учеными людьми привлекала внимание многих. Было хорошо известно, что великий гуманист и ученый Эразм Роттердамский называл его универсальным гением. Екатерина верила, что это не просто лесть. Очевидно, что ни один монарх до Генриха не обладал большей эрудицией и рассудительностью. Он имел недюжинные способности и наблюдательность, мог мгновенно разобраться в человеке или ситуации. Екатерина не переставала удивляться широте его кругозора, – казалось, ее супруг знает что-нибудь обо всем. Он бегло изъяснялся на латыни и французском, а сейчас с ее помощью изучал испанский. Много времени на досуге Генрих уделял чтению, это удовольствие Екатерина разделяла с ним. Они часто обменивались книгами, рекомендовали их друг другу и с наслаждением обсуждали прочитанное. «Кроме того, очевидно, – снисходительно думала Екатерина, – что он высокого мнения о себе, но у него для этого есть веские основания, потому как мало кто может с ним сравниться!» Она знала это, потому что постепенно привыкала к общению с учеными гостями, которых милостиво встречали при дворе, и могла оценить их таланты. Она даже выказывала свои дарования в жарких дискуссиях, которые происходили в ее покоях. – Это совсем не похоже на двор, – такие слова услышала Екатерина от одного приезжего священника, – это, скорее, храм муз. – Сколько себя помню, мне всегда нравилось учиться, – сказал ей Генрих однажды вечером, когда она увлеченно включилась в какой-то особенно оживленный спор. – Это все благодаря моим родителям и бабушке. Я никогда не пренебрегал занятиями и не собираюсь делать этого. А теперь у меня жена – чудо образованности. Даже Эразм поет вам хвалу, Кейт! – Так он теперь называл ее наедине. – Мне повезло иметь просвещенных родителей, которые полагали, что их дочери должны получить образование. Такое благо дается немногим женщинам. – Это изменится, – заявил Генрих. – Мы будем обучать наших дочерей так же, как сыновей. Екатерина взглянула на мужа – его глаза горели верой в блестящее будущее. Пришло время раскрыть ему секрет, который она лелеяла в глубине души. Генрих издал ликующий возглас и заключил ее в объятия. – Подумай об этом, Кейт, – с восторгом сказал он, – сын, он увенчает наше счастье и продолжит мою династию! Теперь нам не будет грозить гражданская война и я смогу участвовать в турнирах!
Через несколько дней Генрих влетел в ее покои с выражением нетерпения на лице и сделал фрейлинам знак удалиться. – Кейт, сегодня утром ко мне подошел доктор де ла Саа. Он слышал, что я посещал вас в постели, и убеждал меня не делать этого, пока вы носите ребенка. Он сказал, что так поступать не подобает и что это может быть опасно. По первому порыву Екатерина хотела выбранить врача за вмешательство. Что знает этот давший обет безбрачия доктор о любви? Как смеет он встревать между нею и Генрихом? Но потом она увидела смятение в глазах мужа. – Кейт, мне грустно говорить это, но сейчас мы не можем рисковать, – обнимая супругу, сказал он. – Признаться честно, я не представляю, как смогу спать в одиночестве, но, зная, как сильно желаю вас, боюсь утратить власть над собой и навредить нашему сыну. Екатерина прижалась к нему. Это было ужасно. Генрих стал необходим ей в постели по ночам, так же как нужны ей были свет, вода и пища. Она ценила не только любовные утехи, но и уединение, возможность быть вместе без свидетелей, такая редкая в их жизни, до крайности публичной. Екатерина не знала, как сможет обойтись без всего этого. Но она уступила, как обычно. Генрих всматривался в ее лицо, моля взглядом о понимании. – Конечно, – сказала она, выжимая из себя улыбку. – Мы должны прежде всего думать о ребенке. Как она скучала по нему, как ей не хватало его крепкого тела рядом в постели, его рук, обнимающих ее в темноте, его нежного бормотания на ухо, всей полноты их физической близости. Каким бы внимательным и любящим он ни был в течение дня – а он таким был, отдадим ему должное, – это не одно и то же. Однако замужние дамы из свиты уверяли Екатерину, что в браке так и должно быть: мужья не посещают жен в постели во время беременности. Некоторые женщины даже приветствовали это… Так что Екатерину уговорили смотреть на это как на доказательство заботы Генриха о ней и об их ребенке.
По велению Генриха Екатерина неохотно согласилась в последний раз принять Фуэнсалиду. Тот принес ей тысячу глубоких извинений за то, что подвел ее, и получил формальное разрешение на отъезд в Испанию. С ним пришел и доктор де Пуэбла, старый и дряхлый, с печатью смерти на челе. Спустя несколько месяцев Екатерина узнала, что Пуэбла умер, и почувствовала необъяснимую печаль. Вероятно, все это время она неверно судила о нем, полагая, что старый дипломат предает ее. Донья Эльвира подбрасывала дров в очаг недоверия и враждебности, и смотрите, какой лживой оказалась она сама! Генрих настаивал, что доктор всегда старался ради нее. Так говорил его отец, и, вероятно, был прав. Жаль, что она не знала об этом раньше. Но отчаяние, в то время отравлявшее ей жизнь, теперь казалось давним ночным кошмаром. Люди, перенесшие вместе с ней все это, получили достойную награду, а те немногие, что покинули ее, были почти забыты. Екатерина слышала, что Франсиска де Касерес горько сожалела о том, что упустила возможность получить все выгоды от положения фрейлины при дворе королевы, но теперь ей было просто жаль бедную девушку. Генрих одобрил пребывание брата Диего на службе у Екатерины. – Надеюсь, что буду держать его при себе, сколько смогу, – сказала она супругу. – Его советы в духовных вопросах очень важны для меня. Екатерина передавала монаху содержание своих частых бесед с Каросом, очень мало о чем умалчивая, однако брат Диего казался напряженным и немного возмущенным, когда слышал об их все крепнущей дружбе. Наконец Екатерина спросила монаха, что его так тревожит. – Посол хочет избавиться от меня, – ответил он. – Вы не должны слушаться его во всем. Он уже дал вам плохой совет. Пусть вас лучше наставляет король Фердинанд. – Зачем ему избавляться от вас? – Он знает, что я говорю вам правду! А он хочет склонить вас к своей воле, а не к воле вашего отца. Екатерина вздохнула: – Брат Диего, как я могу жить благополучно, если два человека, призванные давать мне советы, враждуют между собой? Брат Диего нахмурился: – Вы должны решить, кому доверяете. – Но я не верю, что дон Луис хочет избавиться от вас. Он хороший, совестливый человек. Прошу вас, проявляйте по отношению к нему всевозможную учтивость, если вы меня любите. – Очень хорошо, ваше высочество. Я счастлив, что ошибался. Но я буду настороже. Когда духовник ушел, Екатерина вошла в свой маленький кабинет и встала на колени у аналоя. Но в голове было слишком много всего, о чем она могла бы помолиться. Брат Диего вновь оказался объектом нападок. Почему люди так его не любят? Может, завидуют его влиянию на нее? Екатерина тщательно обдумала все его действия и поведение с тех пор, как она стала королевой, но не отыскала ничего, что не шло бы ей на пользу. Так какие же причины у Луиса Кароса отвергать ее исповедника? Нет, сейчас она должна положиться на собственную рассудительность. Екатерина встала и расправила юбки. Генрих относился к монаху хорошо. Если Генриху не в чем упрекнуть брата Диего, то ее тоже все устраивает.
Глава 11 1510–1511 годы
Довольная Екатерина лежала в своих покоях в Гринвиче, накрыв одной рукой возвышавшийся холмом живот, и наблюдала, как ее фрейлины перебирают ткани, ленты и украшения для костюмов, которые наденут на праздник Двенадцатой ночи[10]. Генрих едва не лопался от радости и немедля сообщил ее отцу в письме прекрасные новости. С октября живот ее значительно вырос. Послушать мужа, так можно было подумать, что это будет первый ребенок в мире; во всяком случае, первый совершенно особенный. Рядом с Екатериной на столе лежал прекрасно иллюстрированный молитвенник – преподнесенный утром новогодний подарок Генриха. Екатерина взяла его, перелистнула страницы, нежно проводя пальцем по тонко прорисованным миниатюрам и цветочным бордюрам. Она наслаждалась мирной передышкой от всех празднеств, пользуясь возможностью набраться сил перед вечерним пиршеством. Вдруг раздались звуки музыки и смех, дверь распахнулась – и десяток мужчин в масках, скача и грохоча, ворвались в комнату. Екатерина привстала в испуганном изумлении, ребенок, потревоженный участившимся биением ее сердца, завозился внутри, а фрейлины, разинув рты, побросали свои безделки. Но потом Екатерина заметила, что буйные визитеры были одеты в одинаковые зеленые бархатные костюмы и шапочки с перьями, в руках же держали луки со стрелами. – Если угодно вашей милости, Робин Гуд и его веселые приятели готовы услужить вам! – провозгласил их предводитель, и по голосу Екатерина узнала супруга. – Мы, разбойники, страстно желаем получить удовольствие от танцев с дамами! Как по команде ввалившиеся в комнату следом за масками музыканты завели мелодию. Фрейлины, немедленно развеселившись, составили пары с разбойниками и пустились в пляс. Потом Робин Гуд низко склонился перед королевой: – Один почетный круг, мадам! Я не посмею утруждать вас в вашем положении. Под гудение гобоев и переливы труб он повел ее в медленной паване, подстраиваясь под ритмичный бой барабанов. Танец следовал за танцем, пока наконец Робин Гуд не поднял руку. – Хозяева зеленого леса, вы сегодня проявили себя храбрецами, но пришло время снимать маски, – провозгласил он и поклонился Екатерине. – Мадам, вы окажете мне эту честь? Екатерина встала и сняла личину, обнаружив за ней прекрасное, восторженное лицо Генриха в венце из спутанных волос. Она притворилась приятно удивленной и поцеловала его, вокруг раздавались визг и хохот – это дамы опознавали тех, кто скрывался под масками их партнеров. Затем подали вино, леди и джентльмены много смеялись и флиртовали. Для Екатерины вечер закончился в объятиях Генриха, она горячо благодарила его за развлечение. Как прекрасна была жизнь! И скоро они переедут в Вестминстер, где родится их сын. Ее время приближалось.Никогда Екатерина не испытывала такой боли. Но становилось еще хуже, когда схватки прекращались и давали ей отдых от мучений. Тогда подступало осознание того, что все это напрасно. Рано, слишком рано! Генрих ни мгновения не сомневался, что родится мальчик. Он месяцами планировал, как будет устроен двор принца, как пройдет крещение, какие последуют турниры, что мальчик будет носить… Но сегодня, в последний день января – о, какая жалость! – все эти планы обратились в ничто. Екатерина проснулась от тупой, тянущей боли внизу живота, которая отдавала в спину. Когда она встала, то увидела, к своему ужасу, свежую алую кровь на простыне. Тут она вскрикнула и позвала на помощь. Прибежали служанки, послали за повитухой. Когда та явилась, Екатерину уже скрутила сильная боль. Королеву уложили на соломенный тюфяк. Мучения продолжались несколько часов, пока она не почувствовала непреодолимого желания тужиться. Потом все закончилось. Екатерина в изнеможении отвела взгляд, пока повитуха возилась с чем-то у края кровати. Затем старуха передала крошечный, завернутый в ткань сверток горничной, и та быстро вышла с ним за дверь. По щекам королевы тихо потекли слезы. Екатерина была слишком утомлена, чтобы плакать. Она должна вынести испытание, которое послал ей Бог, с храбростью и терпением. – Что это было? – слабо спросила она. – Девочка, ваша милость, – ответила повитуха. – Не берите в голову. У кого в первый раз родится мертвый ребенок, часто рожают второго здоровенького. И опять все сначала!
К ней пришел Генрих, любящий и жаждущий утешить, но она точно могла сказать, что перед этим он плакал. Это противоестественно. Такому молодому сильному мужчине, как Генрих, не пристало плакать. – О, какое несчастье! – сказала она сквозь слезы. – Мне так жаль! – Кейт, вам не стоит беспокоиться, – успокаивал ее супруг, гладя по влажным волосам и отводя их со лба. – Я обманула ваши надежды! – рыдала она. – Я так хотела порадовать вас и всех подданных принцем! Екатерина содрогалась при мысли о том, какую ужасную потерю понесли она сама, Генрих, Англия. – И вы порадуете, любовь моя. – Он взял руку Екатерины и сжал ее. – У нас будут и другие дети, вот увидите. Как только вы оправитесь, мы сделаем еще одного. Екатерина отвернулась. Сердце ее переполняла печаль из-за потерянного ребенка и пошатнувшихся надежд. Она восстановилась быстро, уже через неделю после родов ей позволили сидеть. Ребеночек был крошечный, так что она не пострадала от разрывов, сказала повитуха. В следующий раз все будет хорошо. Вскоре ей разрешили вставать и отдыхать на стуле, а потом пришло время идти в церковь. Церемония прошла тихо, потому что не было ребенка, за которого следовало бы благодарить Бога. Екатерина могла возносить молитвы лишь за свое счастливое избавление от родовых мук и опасностей, связанных с деторождением. Получив благословение и очистившись, королева вернулась к повседневной жизни. Она поеживалась от сочувственных, встревоженных взглядов, которыми одаривали ее окружающие. И неудивительно: она поняла причину, стоило ей взглянуть на себя в зеркало. Лицо у нее было бледное и печальное, общий вид нездоровый. Приближенные всячески старались ее утешить. Будут еще дети, говорили они. Потерять первого – это обычное дело. – Я лишилась сына, когда ему было два месяца, – сказала Мод Парр, и ее глаза затуманились слезами. – Я знаю, как это тяжело, но ты учишься жить заново. Генрих делал все возможное, чтобы взбодрить супругу: приносил ей книги, которые, как он думал, ей понравятся, выписывал из Испании апельсины и зелень. Часами сидел с ней, забывая о государственных делах, и утешал, как только мог. Велел доставить свой переносной орган и исполнил для нее прекрасный гимн, недавно им сочиненный, «О Бог, создатель всех вещей». Теперь это произведение регулярно исполняли в королевских церквях. Он говорил, что работает над двумя мессами, в пяти частях каждая. Екатерина изо всех сил старалась не остаться глухой к этим усилиям, улыбаться, стать прежней. Но знала, что получается у нее неубедительно. Королеву переполняло чувство вины. Наверняка это из-за нее был потерян ребенок. Она без конца размышляла о том, что сделала или чего не сделала в предшествовавшие родам дни. Ответов не было. Может быть, она чем-то прогневила Господа. Стоя на коленях, Екатерина искала Его прощения и постилась, чтобы искупить вину. – Вы написали отцу? – спросил Генрих с озабоченно-мрачным лицом. – Зачем? Чтобы сообщить ему, как я подвела вас? У меня не хватает духу. – Вы не подвели меня, дорогая, – в сотый раз заверил ее Генрих. – Позвольте мне написать королю Фердинанду. – Нет! – воскликнула Екатерина. – Хорошо. Но, Кейт, он обрадуется вашему письму, я уверен. Несколько дней она размышляла об этом, потом заставила себя взять перо. Екатерина молила отца: «Прошу Вас, Ваше Величество, не гневайтесь на меня. Это не моя вина, но воля Божья. Король, супруг мой, воспринял это без особой печали, и я благодарю Господа за то, что Вы избрали для меня такого мужа». И она повторила, чтобы подчеркнуть особо: «Это воля Божья».
Настал май, и она снова понесла. – Это самая желанная для меня новость! – воскликнул Генрих и обнял ее. – Я не ожидал, что это случится так скоро. – Вы не теряли времени, – улыбнулась она, вспоминая его неистовый пыл после воссоединения супругов. – Вы нуждались в утешении, а Англии необходим наследник. На этот раз, да будет на то воля Господня, мы получим сына! – После всего случившегося я думала, что чем-то прогневила Бога и Он не соизволит даровать мне еще одного ребенка, – призналась Екатерина, – но теперь Ему угодно было стать моим целителем. Мы должны поблагодарить Его за бесконечную милость. – Я принесу ему тысячу благодарностей! – истово поклялся Генрих. – Смотрите, уже сейчас у вас выпуклый живот. Он погладил ее ниже пояса. И правда: прошло всего два месяца, а она уже ослабляла шнуровку на платье. – Надеюсь, это первый из сотни внуков моего отца! – сияя взглядом, сказала Екатерина.
– Ваша милость, могу я поговорить с вами наедине? Екатерина оторвала взгляд от пяльцев, на которых постепенно появлялся сложный черно-белый орнамент из цветов и фруктов. К ней обращалась ее фрейлина Элизабет Фицуолтер. Из двух сестер Бекингем леди Фицуолтер – полная, рассудительная и по-матерински заботливая – была любимицей Екатерины. Окинув взглядом комнату и склоненные головы занятых шитьем дам, Элизабет заметила, что ее сестры, Анны Гастингс, среди них нет. – Конечно! – Екатерина встала. – Пройдемте в мой кабинет. Она проследовала в служившую ей молельней в Гринвиче комнату, отделанную деревянными резными панелями с узором в виде складчатой материи. – Так чем я могу быть вам полезной? Элизабет Фицуолтер не находила себе места. – Мадам, я бы никогда не сказала вам то, что должна сообщить, но вы все равно узнаете, и лучше от меня, чем от кого-то другого. – Что же это? – встревожившись, спросила Екатерина. – Я беспокоюсь о репутации моей сестры и хочу спасти свою семью от скандала, поэтому доверилась ее мужу и моему брату-герцогу. «Но какое отношение все это имеет ко мне?» – задумалась озадаченная Екатерина. Неужели леди Фицуолтер беспокоится, не повредит ли дурная репутация ее сестры королеве? Что ж, она с ней поговорит. – В чем дело? – Ваша милость, простите меня, в последнее время при дворе много говорят о том, что она слишком сблизилась с сэром Уильямом Комптоном. Ах вот оно что! Беспутный, но премилый Комптон, давний друг короля. Конечно, леди Фицуолтер хочет, чтобы она поговорила с Генрихом. Но леди еще не закончила: – Говорят, эти любовные интриги затрагивают короля и сэр Уильям отвлекает на себя внимание, чтобы злые языки перестали болтать. Екатерина пришла в ярость: – Кто говорит такое? – Испанский посол, мадам. До него дошли слухи, и он беспокоится, что вы тоже можете их услышать. – Я поговорю с королем! – Екатерина была не в силах поверить услышанному. Не укладывалось в голове, что Генрих мог хотя бы посмотреть на другую женщину. В последнее время он относился к ней с такой любовью, с таким вниманием, хотя, стоило ей сообщить ему о своем состоянии, он, конечно же, стал воздерживаться от посещения ее постели. – Он уже знает, что все открылось, мадам! – со страдальческим лицом воскликнула леди Фицуолтер. – Мой брат-герцог явился в комнату Анны и потребовал объяснений, но, пока он был там, явился сэр Уильям Комптон, и произошла ужасная ссора, герцог жестоко корил его и употребил много резких слов. Сэр Уильям пожаловался королю, который был так оскорблен, что лично наказал герцога, после чего мой брат покинул двор. – Но это не доказывает, что король вовлечен в интригу, – возразила Екатерина. – Увы, мадам, когда муж прямо спросил Анну, она во всем призналась. Екатерина будто окаменела. Этого не может быть. Не с Генрихом – не с ее любимым Генрихом. – Пришлите ко мне вашу сестру, – распорядилась она. – Мадам, она уехала. Лорд Гастингс отвез ее в монастырь в шестидесяти милях отсюда. И теперь я боюсь, король начнет обвинять меня. – Дайте мне все обдумать. Идите. Оставшись одна, королева опустилась на колени у аналоя. Ее не держали ноги. Чему верить? Что предпринять? Пролежав много часов без сна, плача в подушку, она заставила себя встать с кровати и попыталась привести лицо в порядок. Явились фрейлины, чтобы подготовить королеву к выходу. Ожидался прием миланских посланников. Леди Фицуолтер среди дам не было. – Где она? – спросила Екатерина. – Ваша милость, она сейчас придет, – ответила Джейн Попинкур. Как и остальные, она выглядела необычно подавленной. Екатерина чувствовала, что все они украдкой поглядывают на нее. Ее одели, и она впервые почувствовала тошноту, свойственную ранним срокам беременности. Тут появилась Элизабет Фицуолтер, в дорожном платье и, подобно Екатерине, со следами слез на лице. – Ваша милость, я пришла попрощаться с вами, – сказала она. – Король отсылает меня и лорда Фицуолтера от двора. – Но почему? – ужаснулась Екатерина. – Его милость очень недоволен. Он призвал меня к себе сегодня утром и сказал: ему известно, что я рассказываю сказки вашей милости. Он обвинил меня в том, что я использую женщин, чтобы следить за каждым его шагом и доносить вам о его поступках. И еще добавил, что хотел бы всех их удалить от двора, но опасается, не произойдет ли от этого слишком большой скандал. – Но это неправда… – Да, мадам, это неправда. Я не использую шпионок, как думает король, я только пыталась угодить вам, рассказав то, что узнала. Теперь я должна уйти, опасаясь еще сильнее разгневать его милость промедлением. – Предоставьте это мне, – сказала Екатерина. Никогда она не осуждала Генриха и не противоречила ему. Ее воспитали в убеждении, что ее обязанность – хранить любовь и гармонию в отношениях с супругом, и до сих пор ей не на что было пожаловаться. Но взамен она ожидала верности. Подозрение об измене Генриха глубоко ранило Екатерину, и ей нужно было узнать правду. Она должна помнить, что не сделала ничего дурного. Королева послала пажа в покои короля, прося аудиенции. Вслед за этим в дверь влетел сам Генрих, махнув фрейлинам, чтобы скрылись с глаз. Выражение его лица было суровым, прекрасное лицо пылало. – Сир, почему была изгнана леди Фицуолтер? – спросила Екатерина, внутренне сжавшись, но решившись стоять на своем. – Потому что она лгунья, – сказал Генрих, сердито глядя на супругу. Екатерина собралась с духом: – Она сказала мне, что вы и леди Гастингс стали слишком близки, а сэр Уильям Комптон притворялся, что ухаживает за этой дамой, дабы отвлечь подозрения от вас. Она не хотела, чтобы я узнала об этом от кого-нибудь другого. Генрих, я должна знать: это правда? – Конечно нет! – закричал он. – Не ее дело говорить вам такие вещи. Со стороны Уильяма это был просто флирт. – Тогда почему леди Гастингс утверждает, что это были вы? – Потому что она глупая женщина, которой нравится думать, будто я влюблен в нее! Кейт, я не желаю, чтобы вы вот так меня допрашивали. – Вы мой муж, Генрих, и обязаны хранить верность мне. – Я верен! Но даже если нет, обязанность жены – не роптать. – Я не собиралась роптать! – заявила Екатерина. – Вы должны были лучше следить за тем, чтобы не давать повода для сплетен. Лицо Генриха побагровело. – Я должен был – я должен… Кто вы такая, чтобы говорить мне, что я должен, а чего не должен делать? Я оказал вам честь, взяв вас в жены, отдав вам свое тело, и ожидаю беспрекословного послушания. Вы не имеете права осуждать меня! Я король, помазанник Божий! – Именно поэтому вы должны быть вне подозрений! И не кричите – мои дамы услышат вас. – Пускай! Пускай слышат, как вы забываете о своем долге передо мной! – Генрих… – Екатерина взяла его за руку, но он оттолкнул ее. Это было ужасно. Невозможно, чтобы они так рассорились. – Генрих, пожалуйста… Я должна знать. Было что-нибудь между вами и леди Гастингс? – Нет! Я уже сказал вам. Вы ставите под сомнение слово монарха? – Нет. Гнев ее стихал, оставляя в душе неуверенность. Екатерина готова была разрыдаться. – Отлично! Тогда я оставлю вас поразмыслить о долге жены перед мужем!
Весь двор знал об их ссоре. Генрих избегал общества Екатерины, а при встречах держался холодно. Екатерина хотела верить в его невиновность, но, сказать по правде, уверения Генриха не убедили ее, и она отвечала ему такой же холодностью. А с сэром Уильямом Комптоном не разговаривала вовсе, но давала ему почувствовать свое неудовольствие. Повидаться с Екатериной пришел Луис Карос, и следом за ним – брат Диего. Наконец-то эти двое были заодно. – Ваше высочество, меня беспокоит положение дел, – сказал Карос. – Мне кажется, король старался уберечь вас от публичного унижения, и вы только ухудшаете ситуацию своим нерасположением к его другу. Боюсь, если вы продолжите вести себя так, то подвергнете опасности свое влияние на короля. – Ставки очень высоки, – вмешался брат Диего. – Мы должны иметь в виду интересы Испании. Король Фердинанд рассчитывает на вашу милость. Пренебрегать долгом по отношению к нему – великий грех. Но Екатерина чувствовала себя глубоко оскорбленной. Неужели никто не понимает, что это она обижена, а не Генрих? Но она ждала ребенка, испытывала тошноту и слабость, ей все это было не нужно. Екатерина осознала, что перед ней стоит выбор: ввязаться в битву, которую она не в силах выиграть, или с достоинством проглотить горькую пилюлю и восстановить свои позиции. – Очень хорошо, – сказала она. – Я помирюсь с его милостью. Екатерина попросила о личной встрече с Генрихом. Он пришел так быстро, что у нее возникло подозрение: вероятно, он сам желал как можно скорее покончить с этой ужасной размолвкой. Она присела в глубоком реверансе и не поднималась. – Боюсь, я огорчила вас, – тихо произнесла она, – и искренне сожалею об этом. Я не должна причинять боль тому, кого люблю больше всего на свете. Внезапно ее подняли крепкие руки, потом она взглянула в прекрасное лицо своего мужа, и он улыбнулся ей. На нее как будто сквозь пелену туч упал луч солнца. – Ничего, моя дорогая. Будем снова друзьями. Когда он наклонился поцеловать ее, Екатерина почувствовала знакомый аромат душистых трав, среди которых хранилось его белье. Внутри у нее тихонько шевельнулся ребенок – наследник, что обеспечит будущее Англии и запечатлеет любовь к ней Генриха. Только это имело значение. Теперь Екатерина знала точно: у нее хватит сил верить в крепость их брачных уз и не обращать внимания на уколы.
Восьмого октября двор переехал в Ричмонд. Округлившаяся Екатерина сидела, обложенная подушками, в кресле, а Генрих разыгрывал потешные баталии, чтобы ее развлечь. Бóльшую часть государственных дел он теперь предоставлял попечению своего олмонера[11] и казначея Томаса Уолси. Король постоянно нахваливал Уолси как способного и преданного слугу, но в грузной фигуре этого человека, в его мясистом лице и елейном голосе было нечто отталкивающее. Он всегда был любезен с королевой и брал на себя, снимая с плеч короля, многие заботы, от которых Генрих сам не прочь был отделаться. Но Екатерина не поддавалась влиянию Уолси и как могла избегала общества этого господина. – Он сын мясника! – фыркнула Мария с презрением к простолюдинам, которое унаследовала от череды своих высокородных предков. – Не подобает такому человеку давать советы королю. Екатерина была с этим согласна и не сомневалась, что ее мнение разделяет большинство знатных лордов при дворе. Они ненавидели Уолси за то, что тот был выскочкой незнатного происхождения и узурпировал их освященное вековыми традициями место главного советника короля. Лорды не делали секрета из своего враждебного отношения к казначею, если, конечно, поблизости не было Генриха. Однако Екатерина не хотела быть никоим образом причастной к осуждению короля или его фаворита. – Уолси учился в Оксфорде, – заметила она Марии. – Он умен, и сомневаться в его способностях и трудолюбии невозможно. Покойный король произвел его в капелланы. – Для священника он слишком привязан к благам земным! Любит роскошь ради нее самой. – Король нашел уместным наградить его и продвинуть по службе, он не сделал бы этого без причины, – возразила Екатерина, удивляясь, с чего это она вдруг вступилась за Уолси. По правде говоря, ее беспокоило, что олмонер втирается в доверие к Генриху и становится для него незаменимым, освобождая короля от множества государственных обязанностей, которые тот сам считал скучными. Она заметила, что в те дни, когда Генрих должен был посещать заседания совета, он часто отправлялся на охоту или на теннисный корт, а в дождливые дни играл в азартные игры или музицировал в своих покоях. – Мои советники, особенно епископ Фокс, так медленно все делают, – с досадой жаловался он в упомянутый выше день. – Так скажите им, чего вы хотите, и заставьте выполнить это, – посоветовала Екатерина, устав слышать одно и то же. – Всегда что-то мешает мне сделать то, что я хочу, – проворчал Генрих. Екатерина подозревала, что это всего лишь отговорка. Она ведь знала, чего он хочет на самом деле: проводить время за развлечениями в компании молодых щеголей из своей свиты, многие из которых выросли при дворе, бок о бок с принцем. – Советники ставят меня в положение школяра, – сетовал Генрих, досадливо кривя лицо. – Ноют, что я транжирю отцовские богатства. Называют это мотовством и все время напоминают, что он собирал их долгие годы. Обвиняют меня в пренебрежении делами государства ради «фривольностей», – Генрих очень похоже передразнил интонацию епископа Фокса, – и постоянно жаждут видеть меня на своих бесконечных собраниях, а я этого не выношу. – Но разве вы не должны присматривать за теми, кто управляет вашим королевством? – мягко спросила Екатерина. – Они знают, какова моя воля по большинству дел. Если им нужен совет, могут прийти и спросить меня или Уолси. Уолси знает все. Екатерина про себя вздохнула. Именно этого она и боялась. Уолси не доставлял королю хлопот и не жаловался. Он управлялся с делами, тихо приобретал влияние, и никто не успевал заметить, как многие дела государства оказывались в его руках. А Генриху он предоставлял полную свободу охотиться, строить планы славных кампаний, расточать свое наследство на пиры и писать любовные песни. Ничего из этого Екатерина не могла сказать вслух даже Марии. Ни с кем не могла поделиться своими опасениями, что Генрих слишком полагается на своего нового друга. Если так будет продолжаться, настанет день, когда Уолси захватит всю власть и сделается истинным правителем Англии. Позже, когда они сидели за столом с Уолси и Брэндоном, Екатерина наблюдала за Генрихом. Мужчины шутили и смеялись, и она заметила, что Генрих постоянно обращается к Уолси, интересуется его мнением, а тот с нескрываемым удовольствием высказывается. Сказать по правде, Генрих предпринимал попытки вовлечь в разговор, в котором участвовал и добродушный Брэндон, и Екатерину, но ей казалось, что Уолси предпочел бы обойтись без нее. Генрих говорил, что хочет как можно скорее вторгнуться во Францию. – Браво! – воскликнул Брэндон, улыбаясь Екатерине. – Величайшие победы достигаются в дипломатии, а не на поле брани, – заметил Уолси. – Это говорит служитель Церкви! – отозвался Генрих. – Томас, я хочу завоевать славу для Англии! По праву я – король Франции и намерен покорить ее. – Тогда я буду всеми силами содействовать вашей милости. Сидевший по другую сторону стола герцог Бекингем потянулся вперед: – Ваша милость может рассчитывать на поддержку родовитого дворянства! Между ним и Уолси не было симпатии. Но Генрих проигнорировал намек и поднял кубок в сторону Бекингема: – Мы позабавимся во Франции, а, Нед! – Это будет знаменательный день, когда вашу милость увенчают короной в Реймсе, – проговорила Екатерина в надежде, что не будут произнесены более сильные слова. – И вы будете рядом со мной, моя дорогая. – Генрих улыбнулся и поднес к губам ее руку. – Как обрадуется ваш отец! Уолси промолчал. Екатерина уже и так подозревала, что по неведомой ей причине он не любит Испанию. Может быть, она и ошибалась и на самом деле он не хотел допускать именно ее влияния. Но с ним вместе, косвенно конечно, и Испании. Она всегда чувствовала на себе его взгляд – выгадывающий, рассчитывающий, оценивающий… Этот человек мог оказаться грозным противником. Пока они разговаривали, ребенок ворочался и что было сил пинался. Екатерина положила руку мужа на свой живот, и Генрих усмехнулся: – У нас там превосходный командир, любовь моя! Это будущий принц Уэльский и, да будет на то воля Господня, дофин Франции! В последнее время король заказывал роскошное убранство для спальни сына и писал наставления о ежедневном уходе за ним. Он снова твердо верил, что родится мальчик. Екатерина даже перестала напоминать ему, что может быть и девочка. А себе запрещала вспоминать о крошечном мертвом тельце, которое вынесли из ее покоев меньше года назад. За несколько недель до появления младенца Екатерине полагалось удалиться от света. – Мой отец завел такое установление в отношении родов королевы, – сказал ей Генрих, – и я бы хотел, чтобы вы следовали примеру моей матери. В последние недели беременности ни один мужчина не должен попадаться вам на глаза, кроме меня и брата Диего. Вы должны распорядиться своими дамами так, чтобы они взяли на себя обязанности всех слуг-мужчин; они должны быть дворецкими, стольниками и пажами, и все предметы, в каких у вас возникнет нужда, следует принимать у входа в ваши покои. Екатерина сделала, как ей велели, и теперь все было готово. В комнату доставили все необходимые вещи. В буфете стояла золотая посуда, была запасена лучина для растопки, принесен переносной алтарь. В огромном сундуке у изножья ее роскошно убранной королевской кровати лежали свивальники, крошечные чепчики, послеродовые пояса и покрывало, в котором ребенка понесут крестить, а также разное льняное белье и голландское полотно, которое понадобится во время родов. Екатерина раздумывала, не приложил ли Уолси руку и к этому. Ее затворничество началось вскоре после Рождества. Прежде всего Екатерина прослушала мессу и помолилась о благополучном разрешении от бремени и здоровье ребенка. Потом, выставив вперед высокий живот, возглавила процессию из придворных в свой приемный зал, где с облегчением погрузилась в парадное кресло. Подали вино и вафли, после чего ее камергер лорд Маунтжой вышел вперед и низко поклонился королеве. – Мой господин, я прощаюсь с вами и со всеми присутствующими, – произнесла Екатерина. – Настало время мне удалиться в свои покои. Маунтжой повернулся к собравшимся вокруг придворным: – Да будем все ради королевы молить Господа о ниспослании ей благополучного разрешения от бремени! Раздались аплодисменты, зазвучали добрые пожелания. В сопровождении фрейлин Екатерина прошла в свои личные покои, а оттуда – в опочивальню. Дверь за ней закрыли и задвинули тяжелой гобеленовой портьерой. В камине пылал огонь, и в комнате было оченьтепло: гобелены закрывали и все окна, кроме одного. На шпалерах были изображены сцены из «Романа о Розе» в обрамлении множества ярких цветов. Генрих заверил Екатерину, что там не будет ни одной мрачной или страшной фигуры, которая могла бы напугать ребенка, и распорядился на этот счет особо. Следующие три недели Екатерина провела в своей опочивальне, лежа на роскошной кровати под балдахином, на подушках из серебристого дамаста, на простынях из тонкого батиста и алом бархатном покрывале с каймой из меха горностая и золотой парчи. Занавески и подзоры были из красного атласа с вышитыми на них коронами и гербом королевы. Это было спокойное и приятное время. Ее дамы музицировали или пели вместе с ней, читали вслух и развлекали ее последними сплетнями. Они с Марией потратили много часов за любовным шитьем крошечных вещичек для приданого новорожденного. Брат Диего охотно содействовал Екатерине в ее духовных нуждах, а Генрих приходил каждый день, чтобы посидеть с ней и рассказать, что происходит в мире за пределами ее покоев. Он суетился вокруг нее, умолял сказать, не нужно ли ей чего, и без конца заклинал беречь себя. – Кого мы возьмем в восприемники? – спросил Генрих однажды вечером после обеда, за которым им прислуживали фрейлины. Екатерину тронуло, что он спросил ее об этом. – Архиепископа Кентерберийского? – предложила она, вытирая салфеткой губы. – Превосходная идея! – одобрил Генрих. – Думаю, нам нужно также пригласить графа Суррея и мою тетушку графиню Девон. Екатерине нравилась графиня, сестра покойной матери Генриха и принцесса из дома Йорков; а Томас Говард, граф Суррей, был дворянином старой закалки, человеком большой честности и прекрасного воспитания. – Полагаю, мне стоит обратиться и к королю Людовику, – добавил Генрих. Екатерина напряглась. Ей было неприятно думать, что восприемником ее бесценного ребенка станет недруг отца, но она смолчала. – Может быть, нам стоит позвать и герцогиню Савойскую? – предложила она. Это была та самая Маргарита Австрийская, которая вышла замуж за ее бедного брата Хуана, а потом ненадолго стала соперницей Екатерины в борьбе за руку Генриха. – Пусть будет, как вам угодно, – согласился Генрих, светясь улыбкой. – Вы знаете, что я ни в чем не могу отказать матери моего сына.
Миновало Рождество. Для Екатерины приготовили праздничную кабанью голову и жареного павлина, пироги и свиной студень, а Генрих заходил к ней так часто, как только мог, хотя был очень занят приемом гостей, устройством пиров и прочих увеселений. Однажды поутру он принес Екатерине подарок – подвеску с крупным бриллиантом. – Я хотел, чтобы вы получили это до Нового года – на случай, если позже вам не представится возможности насладиться подарком, – сказал он, целуя ее. В ответ Екатерина преподнесла ему иллюстрированную книгу для его библиотеки, которую заказала несколько месяцев назад. Генрих тепло поблагодарил супругу и описал великолепные рождественские представления, живые картины, маскарады и пиршества, пение и танцы в главном зале, происходившие под треск святочного бревна в очаге. – В следующем году вы разделите со мной все эти радости, – сказал он ей. – Вы и наш сын. К тому времени этот брыкающийся в вашем животе малыш уже достаточно подрастет, чтобы все это заметить. От полноты чувств Екатерина заулыбалась. Она представила себе Генриха с их сыном. Это будет прекрасный отец. – Я сочинил новую песню, – сказал он, – и исполню ее для вас. Генрих принес лютню, на которой играл весьма умело, и когда запел, голос его звучал сильно и чисто.
Глава 12 1511 год
Генрих был вне себя от радости. Он стоял, держа на руках сына, и слезы текли по его щекам. – Кейт, я никогда не смогу отблагодарить вас! – повторял он. – Вы дали мне наследника для Англии! Он похож на меня, вам не кажется? Лежа на своей кровати под балдахином, вымытая, облаченная в чистую ночную сорочку и безмерно счастливая, Екатерина улыбнулась ему: – Конечно похож. У него рыжие волосы, как у вас и у меня. Генрих положил спеленутого младенца на руки Екатерине. Это была правда: ребенок – вылитый Генрих. Она с обожанием смотрела на его маленький зевающий ротик, на губы, нежные, как бутон розы, на крошечные, похожие на звездочки руки, заглядывала в молочно-синие глаза, которые сумрачно таращились на нее. Малыш был совершенством во всех смыслах. Она положила его в королевскую колыбель – просторную, обтянутую алой тканью с золотой бахромой. Он выглядел таким крошечным рядом с нарисованными на спинке кроватки гербами Англии. – Его нужно назвать моим именем, – заявил супруг Екатерине. – Генрих Девятый! – Король наклонился и поцеловал жену. – Вы доставили великую радость мне и осчастливили все королевство. Слышите перезвон церковных колоколов? Они будут исполнять «Te Deum» по всей стране. Мне доложили, что горожане развели костры по всему Лондону, и я распорядился, чтобы городские фонтаны наполнили бесплатным вином. – Хотелось бы мне увидеть это! – сказала Екатерина. – Оставайтесь здесь и приходите в себя! – распорядился Генрих. Через пять дней после рождения маленького принца понесли крестить, одев в рубашечку, которую Екатерина привезла с собой из Испании, и обернув в пурпурное бархатное крестильное покрывало с длинным шлейфом. Быстро шедшая на поправку Екатерина лежала, опираясь спиной на подушки. Мария помогла ей надеть роскошную мантию из алого бархата с горностаевой каймой и подходящий для встречи гостей после церемонии наряд. Блистательный Генрих сидел рядом с ней в золотом и зеленом – цветах, которые выгодно оттеняли рыжину его волос. – В Англии не принято, чтобы король и королева присутствовали на крестинах своего ребенка, – сообщил он Екатерине. – Это день крестных родителей. Они слышали, что процессия возвращается из церкви – до них долетали возбужденный говор и радостные восклицания. Вскоре покои королевы наполнились разодетыми гостями. Послы от папы, из Франции, Испании и Венеции низко кланялись, поздравляя Екатерину с рождением благородного отпрыска. Когда герцогиня Девонская с улыбкой передала маленького принца Генриха ей на руки, чтобы она в первый раз назвала его по имени и благословила, Екатерина была совершенно счастлива. Почтить ее пришел Луис Карос. – Ваше высочество, вечером после крестин я был в Лондоне, люди толпились на улицах и ликовали. Слышали бы вы их! Они кричали: «Долгих лет Екатерине и благородному Генриху! Долгих лет принцу!» – Англичане всегда давали мне почувствовать себя желанной гостьей, – отозвалась Екатерина, – чему стоит удивляться, ведь король говорит мне, что обычно они ненавидят чужаков!Генрих объявил, что отправляется в паломничество в Норфолк, дабы возблагодарить Господа за сына в святилище Богоматери Уолсингемской. – Она покровительница матерей и детей, – объяснил он. – Я поблагодарю ее и от вашего имени тоже, любовь моя. Отдыхайте и сосредоточьтесь на выздоровлении, чтобы скорее очиститься после родов. Я задумал большой праздник! Все должны разделить с нами радость рождения сына. Он оставил Екатерину в покое и безмятежности, исполненной благодарности за великое благословение, дарованное Господом. А когда через неделю Генрих вернулся, она уже поднялась с ложа и суетилась в своих покоях. Ей не терпелось снова вернуться к свету. – Кейт, как я рад видеть вас в добром здравии! – воскликнул Генрих, обнимая ее с вожделением и не обращая внимания на взгляды фрейлин: те явно полагали такое недопустимым для женщины, еще не прошедшей очищение. – Как я скучал по вас, любовь моя! Как восхитительно было бы стоять на коленях рядом с вами в Священном доме… Вы знаете, что он был построен ангелами по образцу дома Марии в Назарете? И последнюю милю паломничества требуется пройти босиком, оставив обувь в Башмачном доме. Я сделал это с радостью, со всеми остальными, но видели бы вы, в каком состоянии были мои ноги! Священную реликвию – бесценное молоко Мадонны – я тоже видел и поклонился ей. О Кейт, мое сердце не может успокоиться, я готов благодарить и благодарить без конца! Екатерина впитывала в себя каждое слово Генриха. – Я обязательно съезжу к ней когда-нибудь, – поклялась она. – И поблагодарю ее лично. Генрих начал перечислять, какие торжества он задумал. – Вы должны очиститься как можно скорее, чтобы мы могли уехать в Вестминстер и начать праздновать. – А принц, он поедет с нами? Генрих покачал головой: – Я не стану рисковать нашим бесценным сокровищем даже ради вас. Здесь, в Ричмонде, воздух чище и меньше всякой заразы. – Но я не вынесу разлуки с ним! Он такой крошечный! Ему нужна мать. – Екатерина почувствовала себя так, будто из нее выкачали все жизненные соки; никто, она была в этом уверена, не позаботится о младенце лучше ее. – Позвольте мне остаться здесь, Генрих, молю вас! – Дорогая, ваше место – рядом со мной. Люди будут ждать вас там. Маленький Гарри в хороших руках – ни у одного ребенка еще не было лучших или более заботливых кормилиц. Вы исполнили свой долг – теперь насладитесь аплодисментами. А когда празднования закончатся, вы сможете вернуться в Ричмонд и повидаться с ним. Это недалеко. Екатерина позволила убедить себя, хотя была едва способна вынести мысль о предстоящей разлуке. Когда момент прощания наступил, она прижала к себе малыша и поцеловала его так, будто готова была никогда не выпускать из рук. Но потом Екатерина собралась с духом, передала его на руки главной воспитательнице и позволила увезти себя обратно в Вестминстер. Но чувствовала, что сердце ее остается в Ричмонде.
– О Генрих! – выдохнула Екатерина. Прекрасный рыцарь верхом на коне остановился перед королевским балконом, где она сидела вместе со своими фрейлинами. С перил свешивались драпировки из пурпурного с золотом бархата, который король приказал расшить золотыми «Г» и «Е» в знак любви к супруге. И вот Генрих вступал на ристалище в качестве ее заступника – сэра Верное Сердце. Он был в своей стихии. Турниры вошли в его плоть и кровь, возможность самому принять участие в поединках приводила молодого короля в крайнее возбуждение, ведь теперь у него имелся наследник. – Отныне и впредь я буду устраивать турниры два раза в неделю! – сообщил он Екатерине, и глаза его при этом восторженно сияли в предвкушении удовольствия. – И в каждый Майский праздник тоже! Доспехи Генриха сверкали, накидку поверх них и конскую попону украшали «Coeur Loyal» – «Верное Сердце» и вышитые буквы «Г» и «Е». Генрих низко поклонился, сидя в седле, вытянул копье и салютовал им Екатерине. Она встала, закутанная в меха от февральского холода, и сама повязала на древко свой желтый шелковый платок. Фрейлины сделали то же своим избранникам-рыцарям. Потом Генрих послал даме сердца воздушный поцелуй и ускакал легким галопом, провожаемый радостными возгласами зрителей и восхищенными взглядами фрейлин. Всякий раз, когда ее заступник с громким топотом мчался по площадке навстречу новому сопернику, Екатерина переставала дышать. Ей не стоило беспокоиться. Тут было много молодых людей, которые, как она хорошо знала, превосходно владели приемами опасного искусства поединков, но сегодня самым заметным среди них, самым энергичным в схватках как верхом, так и спешившись и самым азартным был ее муж. Он сражался умело, сломал больше турнирных копий, чем любой другой участник состязаний, и легко превзошел всех. Он провел несколько поединков со своими любимыми партнерами Уильямом Комптоном и Чарльзом Брэндоном и выиграл их все. Нетерпеливо следившие за этим зрители были очарованы. Друзья Генриха и публика на трибунах разразились бурей одобрительных возгласов, когда Екатерина встала, чтобы наградить подъехавшего к ней Генриха. – Моя госпожа! – выкрикнул он, сверкая ослепительной улыбкой. – Мать моего сына!
В эту ночь Генрих и Екатерина впервые со дня рождения принца предавались любви. Екатерина беспокоилась, что все будет не так, как прежде, и Генрих найдет ее изменившейся: она еще не сбросила вес, набранный за время беременности, а ее груди несколько утратили упругость. Но она переживала напрасно. Генрих был в таком упоении, восстанавливая свои права на нее, что ничего не заметил. Он любил ее так сильно, что никакие недостатки не имели значения. И вновь она возблагодарила Господа за такого мужа. Лелея в душе тайну, что они снова стали любовниками, и подавляя тягостную тоску по сыну, Екатерина тем не менее находила удовольствие в сложных живых картинах, которые организовал Генрих при помощи главного устроителя празднеств. Вместе со всеми зрителями Екатерина задержала дыхание, когда толпа дикарей в звериных шкурах и гирляндах из листьев буйными скачками с воем и рычанием ворвалась в зал, а вслед за ними катилась повозка, которую тянули золотой лев и серебряная антилопа. На деревянном помосте был сооружен лес со скалами, холмами, долинами, деревьями, цветами, боярышником и травой, сделанными из бархата, шелка и дамаста; из-за укрытий появлялись танцоры, одетые, как обитатели лесов, в зеленый бархат. Посреди леса возвышался золотой замок, перед ним сидел мужчина и плел гирлянду из роз для принца. Когда помост с живой картиной остановился перед Екатериной, из замка выскочили вооруженные рыцари и вызвали весь двор на арену, чтобы устроить новый турнир. Было показано еще несколько живых картин, устроены пиры, банкеты и, конечно же, танцы, в которых Генрих проявил себя превосходно – прыгал и скакал, доказывая свою неутомимость. Он пребывал в таком воодушевлении, что приказал оставить двери в Белый зал открытыми, дабы простолюдины заходили внутрь и смотрели на торжества. Екатерина не могла оторвать глаз от мужа – он выглядел таким беззаботным и жизнерадостным. Золотые буквы «Г» и «Е» с его турнирного костюма были перешиты на пурпурный атласный дублет, чтобы он мог и теперь объявлять всему миру о своей любви к Екатерине. Луис Карос восхитился этими инициалами: – Они, конечно, не из настоящего золота, ваша милость? – Я так не думаю, – вмешался граф Суррей. – О, они золотые, уверяю вас, – сказал Генрих, – но если вы мне не верите, я докажу это! – Одним ловким прыжком он вскочил на трон, и на него обратилась сотня пар глаз. – Дамы и господа! – провозгласил Генрих. – Некоторые из присутствующих здесь сомневаются в том, что эти накладки золотые, так что сейчас мы потанцуем, и я предлагаю вам всем попытаться снять их с меня, чтобы вы сами смогли убедиться, какие они! Дайте музыку! Музыканты на галерее заиграли живую мелодию. Генрих взял Екатерину за руку и вывел ее в центр зала. Покружил, поклонился, обхватил за талию и пустился в пляс, а придворные пытались сорвать нашитые на его одежду инициалы. Но и простолюдины, решив, что щедрость короля распространяется и на них, устремились вперед и начали хватать и срывать с него что попало. Прошло совсем немного времени, и дублет Генриха был разорван, он стоял в рубашке и коротких штанах, беспомощно смеясь, а его добрые подданные теперь нацелились на лордов и разоблачали их, лишая нарядов. Екатерина нашла убежище на помосте вместе с дамами из своей свиты, где к ней поспешил присоединиться Генрих. – Не думаете ли вы, что их пора остановить? – нервно спросила она. Генрих лишь усмехнулся: – Пусть получат свое от моих щедрот в честь принца! Я прокричу это! Налетай! Разбирай! Матерь Божья, глядите! Екатерина посмотрела в ту сторону, куда указывал Генрих. Сэр Томас Найвет, канцлер казначейства, карабкался вверх по колонне, чтобы избежать хищных рук толпы, и был абсолютно гол, так что дамам открывался широкий вид на его мужские достоинства. Генрих от души веселился. – Они зашли слишком далеко, какой стыд! – возмутилась Екатерина, вставая на ноги: разохотившаяся толпа начала двигаться к помосту. У нее на глазах двое одетых в домотканое платье детин протянули лапищи к ее дамам, пытаясь ухватить бело-зеленый шелк платьев, надетых для участия в живых картинах. Генрих тоже это заметил. – Довольно! – проревел он трубным гласом и подал знак стражникам. Вооруженные пиками воины мигом оказались в центре толпы, вытолкали чернь к дверям, а потом и вон из зала, оставив короля и его оборванных придворных дивиться друг на друга. Кто-то бросил бедному Найвету рваную накидку. Генрих снова засмеялся. Повисла пауза, а потом его примеру последовали остальные и не останавливались, пока стропила не задрожали, эхом отражая раскаты хохота. – Давайте начнем банкет! – крикнул король. – В таком виде! – Он взял Екатерину за руку и повел свою веселую потрепанную свиту в зал для приемов.
Зазвучали трубы, Генрих и Екатерина возглавили процессию, которая прошествовала в главный зал. Следом за королем и королевой шли фрейлины, иностранные послы и знать. Генрих сам проводил послов к отведенным им местам, потом сел рядом с Екатериной за стол на помосте под навесом, украшенным королевскими гербами Англии. Екатерина сомневалась, сможет ли вынести еще один пир. Ей казалось, что за последние недели она ничего больше не делала, кроме как ела и пила; она чувствовала, что каждый день прибавляет в весе. Екатерина слышала, что при французском дворе идеалом считались тонкая талия и упругий зад; что ж, зад у нее был, но она сомневалась, что ее талия когда-нибудь снова постройнеет. Генрих же вовсе не заботился о своей фигуре: та оставалась подтянутой благодаря постоянным упражнениям и разнообразным занятиям. Во время пира он голодными глазами смотрел на огромные блюда, которые ему с большими церемониями подносили. Тут были разные сорта мяса, приправленные дорогими специями и соусами, пышные пироги с толстыми корками и – самое замечательное – павлин, зажаренный и снова одетый в оперение. Один дворянин поставил перед королем блюдо с мясом. – Кейт, позвольте мне обслужить вас, – любезно предложил Генрих, отхватил своим ножом самые лакомые кусочки и положил их на серебряную тарелку с позолотой, стоявшую перед Екатериной. – Вина королеве! У стола мигом появился паж с кувшином. Екатерина подняла кубок: – За вас, мой возлюбленный супруг! Генрих пожирал ее глазами. – Да будет так всегда! – заявил он. – Кейт, я написал для вас новую песню, зимнюю балладу. После обеда вы ее услышите! – Буду ждать с нетерпением. Генрих не мог долго сидеть на месте. Вскоре он уже ходил вокруг столов, разговаривал с гостями, потом на некоторое время исчез. Вернулся он одетым в турецкое платье, в сопровождении группы актеров, с которыми начал танцевать, к удовольствию собравшейся компании. Потом, раскрасневшийся от напряжения, купаясь в овациях, он присоединился к Екатерине за столом, как раз когда принесли десерт – огромную сахарную скульптуру в форме замка, при виде которой многие восхищенно ахнули. – Об это можно доблестно обломать зубы, – тихо пробормотал Генрих на ухо Екатерине и вежливо махнул рукой, чтобы угощение убрали со стола, за которым сидели самые почетные гости. После этого король безуспешно пытался скрыть веселье при виде того, как другие участники пира пытаются угоститься этой твердокаменной сластью. – По крайней мере, вид впечатляющий, – с улыбкой заметила Екатерина. Когда скатерть убрали и поставленные на козлы столешницы унесли, Генрих приказал дать ему лютню. Разговоры умолкли, и он запел чистым, красивым голосом.
Она лежала на промокшей подушке, не в силах остановить поток слез, которые лились уже много часов. – После такой великой радости… быть пораженными такой скорбью, – всхлипывала она. – Кейт, я не знаю, что сказать вам. Голос Генриха оборвался. Он все время был с ней, лежал рядом, безуспешно пытался утешить. Его руки снова крепко обхватили ее. – Он не страдал, – сказал Генрих. – Его душа сейчас у Бога среди невинных. При этих словах глаза короля наполнились слезами. – Мы молоды, у нас будут еще другие дети, – говорил он. – Я хочу вернуть своего ребенка! – рыдала Екатерина. – Мне нужен мой маленький сыночек! Я не должна была оставлять его. Я его мать, но меня не было рядом, когда он нуждался во мне. – Мы не должны подвергать сомнению премудрость Божью. Если бы вы были там, то все равно не спасли бы его. Это случай, простуда… Он был совсем малыш. – Голос короля вновь задрожал, грозя оборваться. – Пусть Бог заберет меня! – рыдала Екатерина. – Я не могу жить без него. Мне не вынести этой боли. Мой маленький мальчик… – Она не могла уняться. Пришел брат Диего и строго заговорил с ней: – Бог понимает твою печаль, дочь моя, но такое неумеренное переживание – это грех против Его воли. Разве святой Павел не говорил об усопших как об уснувших, а не как о мертвых? Твой сын почил в Боге и познаёт радости вечной жизни. Из чувства долга Екатерина попыталась видеть в случившемся благо, но руки ощущали болезненную пустоту. Отчаянно мучило неутолимое желание видеть ребенка, прикасаться к нему. Генрих был для нее единственным утешением. Скрывая свою печаль, он оставался с ней в самые черные дни скорби, поддерживал ее во время приступов бурных рыданий и пытался развлечь музыкой и играми. – Траура при дворе не будет, – распорядился он. Тем не менее в тот день, когда маленького принца погребли в Вестминстерском аббатстве, король оделся в черное и потратил на похороны огромную сумму. Вся эта помпезность – ночные бдения, свечи и факелы – предназначалась для одного крошечного младенца, но сыну короля полагалось быть упокоенным с великолепием среди своих праотцев. А мать горевала о нем и причитала, затворившись в своих покоях. Сердце ее было разбито. Приданое новорожденного пришлось убрать подальше: оно не пригодилось.
Глава 13 1513 год
Читая письмо, Екатерина хмурилась. Оно было от Франсиски де Касерес: та молила, чтобы ее вновь приняли на службу. Муж ее умер, и она не желала ничего иного, кроме как быть полезной королеве. Екатерина показала письмо брату Диего. – Вашей милости не следует соглашаться ни при каких условиях, – строго заявил он. – От нее одни беды, и мне бы не хотелось видеть ее во дворце! Екатерина посчитала такую строгость излишней. Казалось, брат Диего едва ли не боится Франсиски, и королева даже мимоходом подивилась: какие у него для этого причины и не отнеслась ли она четыре года назад слишком предвзято к словам своей фрейлины? Но обвинения в безнравственности в отношении брата Диего не могли быть правдивыми – Екатерина не допускала мысли, что ее духовник мог вести себя предосудительным образом. Он служил ей долгие годы, и за все это время не дал Екатерине ни малейшего повода усомниться в его добродетели. Потом пришло еще одно письмо от Франсиски, затем еще одно. Очевидно, эта женщина не собиралась останавливаться. Она могла стать причиной осложнений, которые плохо отразились бы на королеве. Однажды вечером Екатерина разделяла трапезу с Генрихом в своих покоях, при этом присутствовали только Уолси и Мария. Заговорили о бесчестных слугах – Уолси был вынужден прогнать одного за воровство. Екатерина упомянула о назойливости Франсиски, пересказав, что случилось несколькими годами раньше. – Я знаю брата Диего как человека добропорядочного. Она сказала неправду. Но у нее сложилось стойкое предубеждение против него, и он опасается, не предъявит ли эта женщина новых лживых обвинений. – Мы не можем этого допустить, – сказал Генрих. – То, что затрагивает его, касается и вас. Томас, что вы посоветуете? Уолси сложил руки домиком у себя под подбородком. – Почему бы не избавиться от нее, отправив за границу? – предложил он. – Если вы напишете рекомендательное письмо, место при каком-нибудь иностранном дворе ей будет обеспечено. Осмелюсь ли я дать вам совет обратиться к регенту Нидерландов? Екатерина покачала головой: – Боюсь, следовать таким курсом опасно. Франсиска участвовала в грязных интригах Фуэнсалиды и утверждала, что он открыл ей какие-то секреты брата Диего. Стоит ли подвергаться риску, что она устроит какое-нибудь безобразие за границей или станет распространять безосновательные слухи, которые плохо отразятся на мне? Регентша Маргарита была моей невесткой. Я бы не хотела отправлять к ней такую сомнительную личность. – Тогда, мадам, мы пошлем ее обратно в Испанию, – сказал Уолси. Вдруг Екатерина поняла, почему Генрих так полагался на этого человека. Ему без труда удавалось находить нужные решения и освобождать других людей от проблем. И все же, несмотря на глубокую благодарность, она не могла проникнуться к нему симпатией. Когда Екатерина сообщила брату Диего, что Франсиска будет отправлена домой, его глаза наполнились слезами облегчения и благодарности. – Эта женщина – чистый яд! – негромко сказал он. – Наконец-то и я, и ваша милость будем от нее избавлены. И вновь Екатерина посчитала его волнение преувеличенным. Неужели ему есть что скрывать?– Генрих, забудьте об этом, – говорила Екатерина, понизив голос. Они вышли в Гринвичский парк пострелять в мишень: Генрих пустил стрелу мимо цели, лук Екатерины лежал поблизости на траве. Мягкая весенняя погода вызвала массовый исход из душных дворцовых покоев, и большая толпа оживленных придворных стояла на почтительном расстоянии, наблюдая за упражнениями. – Какой позор! – кипятился ее супруг. – Если бы только ваш отец оказался на месте, когда был нужен. Проклятье! Стрела попала в самый край мишени. – Это было недопонимание, – убеждала его Екатерина, глядя, как он снова прицеливается. – Моего отца нельзя винить, обеспечение вашей армии было плохим – это факт. Екатерина не могла допустить, чтобы ответственность за совместное неудачное выступление против Франции целиком ложилась на Фердинанда. Во всем виноват Уолси! Его хваленая распорядительность на этот раз подвела. Генрих нахмурился – вторая стрела тоже попала не в яблочко. Он упражнялся ежедневно и был превосходным стрелком. Брэндон говорил, что Генрих натягивает тетиву с большей силой, чем любой другой мужчина в Англии, но сегодня король был слишком расстроен и не мог сосредоточиться. Генрих взял еще одну стрелу из ящика рядом. – Это не вина Уолси, – пробормотал он. – Мой лорд в Дорсете сказал мне, что напрасно ждал атаки вашего отца с юга. – Они вели этот разговор уже не в первый раз, и все равно позорное отступление армии продолжало вызывать досаду короля. – Он жаловался, что Фердинанд растратил попусту драгоценное время, пытаясь поддержать атаку на Наварру. Екатерина понимала: такой ход давал Фердинанду преимущество, но промолчала. Ей была невыносима мысль, что Генрих сомневается в мудрости ее отца или плохо думает о нем. – Мой отец не виноват в том, что повальная дизентерия скосила вашу армию, – сказала она. – Если бы болезнь не распространилась так быстро, он бы пришел, я в этом уверена. Но было ясно, что упущенного не наверстать. – Это было бесславное отступление, – фыркнул Генрих. – Не стоит больше об этом думать. Соберите новую армию и совершите еще одно вторжение в этом же году! Мой отец хочет того же. Вместе вы одержите победу!
Генрих прислушался к словам Екатерины. Он легко поддавался влияниям, потому что любил свою жену и жаждал видеть ее счастливой. Но до сих пор иногда замечал грусть в ее глазах, когда какие-нибудь мелочи напоминали ей об умершем сыне и боль утраты возвращалась. Но при виде того, с каким энтузиазмом ее супруг занялся приготовлениями ко второй кампании, по сердцу Екатерины разлилось тепло. – Я сам поведу своих людей к победе! – заявил он. Все разговоры Генриха вертелись вокруг Черного принца, Генриха V и прошлых триумфов Англии во Франции. Он не мог думать ни о чем другом, кроме славы на поле брани. Аудиенции у королевы попросил Луис Карос. Она сразу заметила, что посол озабочен. – Ваше величество, вам известно, что Испания так же стремится напасть на Францию, как и король Генрих, но здесь, кажется, не слишком этому рады. Олмонер любит французов и вместе с другими советниками пытается отговорить короля от войны. – Им это не удастся. Король склонен начать войну. – А вы, ваше высочество? – Я тоже за это, и думаю, он ко мне прислушается. – Хорошо. – Карос выглядел успокоенным. – Говорят, в Англии даже самые мудрые советники не могут противостоять королеве. Екатерина подыскивала удобный момент и не упустила его. Выйдя однажды в дворцовый сад, она натолкнулась на Генриха: в компании с несколькими придворными он играл в шары, а рядом стоял Уолси и наблюдал. – Господин олмонер, мне известно, что вы отговариваете короля от вторжения во Францию, – тихо произнесла Екатерина. – Я за мир, мадам, не за войну. – Уолси озадаченно посмотрел на нее. – Посол моего отца полагает, что вы благоволите к французам. – Она в упор смотрела на него, но Уолси был непроницаем. – Значит, он неправильно меня понял, мадам. Мне бы не хотелось, чтобы вы решили, будто я хоть в чем-либо враждебно настроен к Испании. Моя цель – защитить интересы Англии. Это маленькое королевство, а в христианском мире главенствуют две великие силы: Испания и Франция. – Он терпеливо объяснял ей это, как будто женщине такие вещи трудно понять. – Дружба Англии обеспечивает баланс сил и сохраняет мир, а потому если король отдает предпочтение Испании или Франции, значит у него есть на то веская причина. – Я с трудом могу представить себе, что он предпочтет Францию, когда женат на испанке. – Вполне естественно, что ваша милость придерживается такого мнения. Но история показывает, что ни один союз не вечен. – Будьте уверены, я приложу все свои силы, чтобы сохранить этот, – твердо сказала королева. Уолси лишь склонил голову, как будто уступая ей. – Похоже, Брэндон настроен на победу, – произнес он, возвращая внимание к игре. Обратно Екатерина шла под руку с Генрихом. – Не позволяйте им отговорить вас от войны с Францией, – сказала она. – Вы разговаривали с Уолси. – Он объяснял мне, как работают союзы, – скривилась Екатерина. Генрих засмеялся: – Как будто вы сами этого не знаете, любовь моя! Уолси ненавистна сама идея войны. Он переубедил бы меня, если бы мог. Но не волнуйтесь, Кейт, я не отстану от Франции, что бы он ни говорил! Екатерина ощутила себя победительницей. Наконец-то она переиграла Уолси.
Ближе к концу весны Генрих подписал соглашение с Фердинандом и их союзником императором Максимилианом, связав себя обязательством вторгнуться во Францию в текущем году. – Это будет замечательное приключение! – воскликнул он, полный воинственного духа. Екатерина знала: Генрих уже видит свое победное возвращение в лавровом венке и с короной Франции. – Более того, – добавил он, – это будет священная война, нет, Крестовый поход. – Людовик всегда был врагом Церкви, – сказала Екатерина. К французскому королю она питала лишь презрение. – Кто еще мог бы вторгнуться в личные владения папы? – Не бойтесь, – успокаивал ее Генрих. – Я не намерен ни отдыхать, ни останавливаться, пока он не будет разгромлен. Благодарю Господа за моего дорогого испанского отца. Я знаю, он поддержит меня и никогда не бросит. – Я тоже окажу вам содействие, мой Генрих. – Да, я знаю, что могу на вас рассчитывать. – Он поцеловал ее, потом стал серьезным и мрачно посмотрел на нее. – Кейт, я решил сделать вас регентом Англии. Вы будете управлять страной, пока я во Франции. Гордость переполнила сердце Екатерины. – Это большая честь, – прошептала она. – Клянусь, вы будете такой же хорошей правительницей, как ваша мать Изабелла! – Я сделаю все, что потребуется. Не подведу вас. – Уолси отправится со мной, но я оставлю здесь архиепископа Уорхэма и графа Суррея – они будут вашими советниками. К тому же приняты все меры для защиты границы на случай, если шотландцы решат воспользоваться моим отсутствием. – Они этого, разумеется, не сделают. Ваша сестра замужем за королем Яковом. – Но Шотландия – друг Франции! Якову я не доверяю. Он поддерживал самозванца Уорбека против моего отца. Будьте начеку. Вы можете положиться на Суррея. Он весьма опытен. – Генрих помолчал. – Я рад, что вы ждете ребенка, Кейт. В противном случае я бы не уехал. Екатерина погладила легкую выпуклость под распущенной шнуровкой: – Я очень надеюсь, что это снова будет сын. Именно эти слова Генрих хочет услышать от нее. По правде, она боялась надеяться на удачный исход этой третьей беременности. Они ждали достаточно долго: прошло уже больше двух лет с момента рождения бедного маленького Генриха. Екатерина все еще горевала о нем и знала: память о малютке навсегда сохранится в тайниках ее сердца. – Вы должны заботиться о своем здоровье, – сказал Генрих. Он никогда не упрекал ее за то, что новой беременности пришлось так долго ждать. – Я буду делать все, что скажет повитуха, и стану молиться каждый день, чтобы Господь даровал нам здорового малыша. – А я буду молиться о благополучном исходе родов, – сказал Генрих, ища губами ее губы. – Вы мне очень дороги. – Не знаю, как я вынесу ваше отсутствие, – промурлыкала Екатерина. – Берегите себя, мой господин! Избегайте ненужного риска!
Носилки Екатерины потряхивало – ее везли вверх по крутому склону в Дуврский замок. Впереди ехал король, а позади – его лорды, офицеры и марширующие в ногу одиннадцать тысяч солдат. Вдоль дороги на всем пути следования процессии по графству Кент выстроились толпы, люди выкрикивали благословения королю и подбадривали его храбрых воинов. Наконец они добрались до границы королевства, где на белых скалах высилась, как страж, наблюдающий за морем, огромная крепость. Над ней в ясном июньском небе кружили и пронзительно вскрикивали чайки, а внизу, в гавани, где стоял на якоре могучий флот, пенились серые волны. В главной башне древнего замка в присутствии всего двора Генрих возложил на Екатерину обязанности регента, а она дала клятву не пощадить сил в делах на благо короля и Англии. В ту ночь Генрих разделил с ней ложе. Несмотря на беременность, она лежала в кольце его крепких рук, сознавая, что он страшится момента разлуки так же, как она. Утром, услышав, как супруг напевает в умывальной комнате военные марши, она поняла: он уже покинул ее. Тем, кто уезжает, всегда легче, чем остающимся, к тому же Генрих отправлялся на войну, которой всегда желал. У него будет много дел. К счастью, на ее долю тоже выпадет немало занятий, которые заполнят ее дни. Король и королева прощались на пристани. Огромные военные корабли со скрипом качались на сердитых волнах, чайки кричали, и небо расстилалось над головой голубым пологом. – Благодарю Бога за такую могучую ратную силу! – воскликнул Генрих, простирая руку в сторону колонны хорошо вооруженных воинов, грузившихся на корабли. – Вы видели когда-нибудь нечто более прекрасное, чем этот флот? Он отвернулся от Екатерины, его ум был занят мыслями о планах кампании и грядущей славе. Екатерина решилась быть твердой, но, когда Генрих освободился из ее объятий, не смогла сдержать слез. Неожиданно рядом с ней очутился галантный Суррей и обнял за плечи, будто защищая. Так они наблюдали за королем, всходившим на флагманский корабль: вот он обернулся помахать на прощание толпе на берегу. Никогда еще Генрих – высокий и полный энергии, с развевающимися на ветру золотисто-рыжими волосами – не выглядел таким прекрасным. Якоря были подняты, суда величаво тронулись из гавани. Тут Екатерина ощутила тошноту. Она стояла бы на пристани, пока корабль с ее мужем на борту не скроется из виду, однако Суррей настоял, что пора отправляться. – Наблюдение за тем, как уезжает любимый, лишь продлевает муку разлуки, – заметил он. «Я должна быть сильной», – сказала себе Екатерина. Она была назначена хранителем королевства своего мужа и должна сберечь его для любимого. Кивнув Суррею, Екатерина отвернулась и пошла прочь от моря, высоко держа голову. По пути обратно в Ричмонд старый граф рассказывал Екатерине истории из своей юности. – Мне сейчас семьдесят, и я многое видел, – говорил он ей. Суррей не делал секрета из того, что когда-то служил королю Ричарду. – Почему бы и нет? – говорил он. – Конечно, после Босуорта я был отправлен за это в Тауэр. Почивший король спросил меня, почему я сражался за тирана, и я ответил, что он был для меня коронованным правителем и, если бы парламент водрузил корону на пень, я бы сражался за этот пень. Думаю, королю понравились мои слова, потому что вскоре меня простили и позволили служить ему. Но я был лишен права наследовать Норфолк – герцогство своего отца. – Это очень печально, – посочувствовала Екатерина, решивпоговорить с Генрихом. Столь важный и благородный лорд должен получить вознаграждение за свои заслуги. – Я не виню его милость, – продолжил Суррей. – Он всегда был расположен ко мне. Но есть и другие люди, которые меня не любят. Должен признать, наша неприязнь взаимна. Разумеется, речь шла об Уолси. Екатерина знала, что Суррей его ненавидит, так же как Бекингем и многие другие лорды. Этот сын мясника поднимался все выше и выше, оттесняя их с важных постов. Но Екатерина ничего не сказала, чтобы Суррей не подумал, будто она осуждает короля. По крайней мере, влияние мастера олмонера не распространялось на спальню! Она знала: Генрих скорее прислушается к ней, чем к Уолси. Разве не было тому подтверждений?
Вскоре Екатерина поняла, что Генрих, занятый военной кампанией, не расположен к писанию писем. Она распорядилась об устройстве эстафеты, чтобы гонцы переправляли сообщения между Лондоном и Францией, однако после нескольких дней молчания не желала уже ничего иного, кроме как узнать о здоровье короля. Особенно когда ей стало ясно, что французы продвигаются вперед. Целыми днями она стояла на коленях в своем кабинете и молила Господа не оставить ее супруга своим попечением. Екатерина не могла найти покоя, пока не получит известий. Уолси находился с армией во Франции и, конечно, знал обо всем происходящем, поэтому Екатерина написала ему, прося сообщить о короле. «Я верю, уповая на Господа, что он вскоре вернется домой с великой победой, как подобает каждому государю на свете», – завершила она свое послание. Но прошло две недели, прежде чем Екатерина дождалась ответа. За это время она едва не лишилась рассудка от беспокойства за Генриха. Как же велико было ее облегчение, когда Уолси сообщил, что все обстоит благополучно. Екатерина ответила, что была крайне встревожена сведениями о риске, которому подвергает себя король. Для ее успокоения Уолси написал, что следит за Генрихом, и, полная искренней благодарности, она выразила ему признательность. «Молю вас, добрый господин олмонер, напоминайте королю, чтобы всегда действовал осмотрительно, дабы, по милости Божией, не приключилось каких неприятностей. Если вы примете во внимание, в каком я нахожусь положении, не имея ни утешения, ни малейшей радости, пока не получу новостей, вы не будете в обиде на меня за причиненное беспокойство». В августовскую жару Екатерина со своими фрейлинами занималась шитьем штандартов, флагов и нагрудных знаков для находившейся во Франции армии. Она также изготовила новое нижнее белье, чтобы послать его Генриху. Она-то знала, как он взыскателен по части свежего белья, а получить его во время военных действий не так-то просто. Екатерина шила и шила, закатав тяжелые рукава и сняв из-за жары головной убор. Ребенок шевелился у нее под поясом. Четыре года она наблюдала за тем, как Генрих управляет Англией, и давала ему советы, впитывала в себя запутанные и нигде не записанные правила английского двора. Теперь она чувствовала себя готовой к роли регента: присутствовала на заседаниях совета, выслушивала мнения лордов и принимала во внимание их рекомендации. Большинство дел, которыми они занимались, были невероятно скучными. Она как раз обсуждала отправку сена, овса и бобов для королевских лошадей, когда в зал совета ворвался Суррей и без церемоний бросил на стол письмо: – Мадам, шотландцы готовят нападение! На мгновение воцарилась тишина. Все были ошеломлены, лорды в замешательстве переглядывались. Наконец Екатерина встала. Она поняла: настал ее час доказать свою состоятельность. Как дочь своей матери, она должна быть смелой и решительной. – Значит, мы должны их встретить. Мужайтесь, господа, нам придется вступить в битву. – Ваша милость, но не можете же вы… – Суррей умолк, не договорив. Он смотрел на высокий живот Екатерины. – Добрый Суррей, я, конечно, не намереваюсь сама вести вас в бой, но могу собрать войско и буду поддерживать вас во всем, – задорно добавила она. – Смею напомнить вам, что моя мать, королева Изабелла, ехала верхом вместе с армией до самых родов и вскоре после них снова была в седле. Но я намерена воспользоваться вашим руководством, мои лорды. Они поаплодировали ей за решительность и принялись обсуждать план защиты королевства. Казалось, лорды обрадовались возможности разобраться с шотландцами. Екатерина возблагодарила за это Господа. Конечно, Англия и Шотландия враждовали издавна; англичане были бы рады взять верх над королем Яковом. Какое коварство – вторгаться в Англию, когда ее правитель бьется за пределами страны во имя святого дела!
Когда наконец все было готово, набрали людей, старый вояка Суррей на коне возглавил армию. – Я рад, несмотря на седые волосы, снова быть полезным, – сказал он Екатерине, любезно прощаясь с ней. – Горю желанием отправиться на север и проучить шотландцев. Да дарует нам победу Господь! Екатерина смотрела вслед старому храбрецу и истово молилась о том, чтобы он вышел из битвы победителем. Вскоре пришло известие о вторжении короля Якова в Нортумберленд. – У него восьмидесятитысячное войско! – в тревоге сказала Екатерина архиепископу Уорхэму. – Надеюсь, мы сможем его одолеть. – Не бойтесь, мадам. В лице лорда Суррея мы имеем непревзойденного военачальника. И все-таки Екатерине хотелось бы, чтобы Генрих – юный, сильный, энергичный – сам был здесь и справился с этой угрозой. Через три дня из Франции была получена восхитительнейшая новость. Генрих и Максимилиан взяли город Теруан. Потом, почти сразу вслед за этим, пришло хвастливое известие от самого Генриха о еще одной великой битве, в которой он со своими союзниками разгромил французов. «Их армии хватило одного взгляда на наши превосходящие силы, чтобы обратиться в бегство, – писал король, – потому мы называем это сражение Битвой шпор». Екатерина задумалась: насколько значительны эти победы? Вымостят ли они дорогу в Реймс? Генрих наверняка сказал бы «да». Может быть, это предвестники более важных викторий. Она молила Бога, чтобы состоялся решающий триумф, как при Азенкуре. Однако Екатерина не собиралась умалять достижения своего супруга. Она поспешила написать Уолси: «Король одержал столь великолепную победу, что, думаю, таких прежде не видывали. Вся Англия и особенно я должны благодарить Бога за его успехи». Вскоре после этого Екатерина получила письмо от самого Генриха. Узнав о вторжении шотландцев, он приказывал ей со всей возможной поспешностью готовиться к защите королевства. «Мы сделали это, и даже больше, с великим усердием, – сообщила она ему. – Ваше королевство в надежных руках». Тем временем срок беременности увеличивался, ребенок становился все более активным. «Это, наверное, мальчик, – думала Екатерина, – по милости Божьей это должен быть мальчик». Она отяжелела и передвигалась с трудом, но отправилась на север в Бекингем, где хотела дожидаться новостей от Суррея. Он оставил тридцать тысяч человек резерва стоять лагерем под городом, и все они до единого радостно приветствовали Екатерину, когда она приехала повидаться с ними. Спустившись с носилок, Екатерина забралась на колоду – ей помог крепко сложенный командир – и обратилась с речью к столпившимся перед ней мужчинам. Старалась говорить громко, чтобы ее голос разносился далеко. Она помнила, что много лет назад в Испании так поступала ее мать. – Я желаю увидеть вашу победу! – выкрикнула она. – Господь Бог улыбается тем, кто встает на свою защиту, и помните, отвагой англичане превосходят все другие народы! Как они приветствовали ее! Екатерина остановилась у Эдварда Фоулера, богатого торговца, в его хорошо обставленном доме из дерева и кирпича – Касл-Хаусе. Именно туда однажды вечером, где-то в середине сентября, ей доставили письмо от Суррея. Трепеща, она сломала печать. «Ваша Милость, спешу сообщить Вам, что Господь сподобил нас одержать великую победу, – читала Екатерина. – Король шотландцев и цвет шотландской знати полегли на поле брани у Флоддена». – Благодарю Тебя, Господи! – воскликнула Екатерина и перекрестилась. Сердце ее тяжело билось, и ребенок ворочался внутри. На такое она даже не рассчитывала. Екатерина продолжила чтение. «Наши англичане сражались как герои. Произошло великое побоище, и десять тысяч шотландцев были убиты». Остановившись на этом месте, Екатерина подумала о своей золовке, королеве Маргарите. Та внезапно овдовела, а ее малолетний сын, тоже Яков, теперь станет королем вместо отца. А это означает долгое регентство. Клыки Шотландии были вырваны; погибло столько приближенных Маргариты, что пройдут годы, прежде чем страна и королева восстановят силы. Англия была в безопасности. Это действительно великая победа. Екатерина пошла в приходскую церковь Бекингема и вознесла благодарственные молитвы. За спиной у нее толпились горожане. Отдельно она помолилась за Суррея. Старый храбрец – как хорошо он выполнил свой долг! Она постарается добиться для него от короля достойной награды. На следующий день пришло еще одно письмо от Суррея с подтверждением: тело короля Якова было найдено среди мертвых. Гонец также передал ей посылку. Когда Екатерина вскрыла ее, то обнаружила внутри королевское знамя с гербом Шотландии и разорванный, окровавленный дублет Якова. Это потрясло королеву, но она не поморщилась и не отпрянула. А приказала герольду отправить знамя и дублет во Францию королю. – Передайте его милости, что теперь я возвращаюсь в Ричмонд, – распорядилась она. И там по воле Божьей родится их сын. По ее расчетам, ребенок должен был появиться на свет через несколько недель. Екатерина постоянно молилась и постилась ради того, чтобы роды прошли удачно. Что еще она могла сделать для этого?
Екатерина прекратила писать, перо замерло над пергаментом. Был ранний вечер, тишина стояла в гостевом доме аббатства Уоберн, где она остановилась, прервав поездку. Темнота теперь наступала быстро, и королева приказала подать свечи, чтобы писать Генриху.
Сир, к этому времени Вам уже должно быть известно о славной победе, которую Господь даровал Вашим подданным в Ваше отсутствие. Я считаю, эта битва послужила к великой чести Вашей Милости и всего Вашего королевства, больше даже, чем если бы Вы завоевали корону Франции.Она перечитала написанное. Не подумает ли Генрих, что она умаляет его достижения по другую сторону Ла-Манша, превознося триумф над шотландцами? Разумеется, нет! Он поймет, насколько важно это было по большому счету. Да, она оставит все как есть. Екатерина снова взялась за перо. «Ваша Милость должны увидеть, как я держу свое обещание, посылая Вам знамя и дублет Якова. Я подумывала, не отправить ли Вам его тело, но сердца англичан не выдержали бы этого». Забальзамированный труп был помещен в чулан во дворце Ричмонда. «Лорд Суррей, мой Генрих, предвидел, какое удовольствие доставят Вам похороны короля шотландцев. Молю Бога, чтобы Он послал Вас домой как можно скорее, потому что без Вас здесь всякая радость не полна». Она подумала, следует ли рассказать Генриху о том, что она собиралась предпринять. Станет ли он упрекать ее за такую дальнюю поездку на позднем сроке беременности? Или посчитает, что на такой риск пойти стоило? В итоге Екатерина решила, что Генрих одобрил бы ее. Ставки были так высоки, что она чувствовала себя обязанной поехать, несмотря на слабость, которую ощущала после стольких недель напряженной работы и переездов. Поэтому она написала: «И теперь я отправляюсь к Богородице Уолсингемской, которую обещала посетить много лет назад». Екатерина была уверена, что Богородица, сама мать короля, поймет, как нужен Англии здоровый наследник. Его появление прекрасно увенчало бы славные победы!
Екатерина босая приблизилась к святилищу и встала в очередь вслед за другими паломниками. Здесь, перед лицом Господа, все были равны. После ослепительного солнца снаружи у входа в церковь было темно. Но впереди, справа от алтаря, разливалось сияние – там стояла на постаменте небольшая статуя Богородицы Уолсингемской, сверкавшая драгоценными камнями, золотом и серебром и освещенная бесчисленными свечами. В благоговейном трепете Екатерина преклонила колена, чтобы помолиться и получить Святое причастие. Взяв от нее приношение, монах вынес фиал из хрусталя и золота с какой-то похожей на сливки жидкостью. – Святое молоко Мадонны, – тихо сказал он, поднося его к губам Екатерины для поцелуя. Она с чувством приложилась к сосуду, в сердце моля Марию благословить ее сыном. И внезапно почувствовала уверенность, что так и будет. Сердце преисполнилось благодарностью. Когда Екатерина вышла на солнечный свет, вокруг нее столпились люди. Они просили ее благословения и желали ей счастья. – У вас там мальчик, госпожа моя! – крикнула ей какая-то женщина. – Я вижу это по тому, как вы его несете. Только незнакомка произнесла эти слова, ребенок шевельнулся. «Теперь уже недолго», – подумала Екатерина, радуясь в душе словам женщины не меньше, чем обретенной в святилище уверенности. Уже почти сбылось. Только бы роды прошли удачно, а там все будет хорошо.
Генрих захватил еще один город – Турне. Суррей и Уорхэм доставили Екатерине это известие, когда она сидела в саду Ричмонда. – Это французский город, но он лежит в отдалении от других, в Бургундии, – объяснил Суррей. – Его милость творит чудеса, – сказала Екатерина. – Одержать столько побед! И выйти из битв невредимым. Бог действительно не оставляет его своим попечением. – Гонец сообщил, что король после этих усилий стал бодрее, чем был прежде. – Не знаю, как он выдерживает это, – заметил Уорхэм. – Вы знаете короля – он никогда не может сидеть тихо и спокойно, – с улыбкой проговорила Екатерина. Странно, но у нее сложилось впечатление, что ни Суррей, ни Уорхэм не радовались новостям так, как должны бы были. – Теперь он перейдет к большим делам, – добавила она. – Я начинаю верить, что он действительно завоюет Францию. – Мы все надеемся на это, мадам, – отозвался Суррей. – Но уже осень, пора военных кампаний заканчивается. Король находится в Лилле со своими союзниками. Они договариваются о том, чтобы сообща напасть на Францию не позднее следующего июня. – Еще король желает устроить брак принцессы Марии с эрцгерцогом Карлом, – добавил Уорхэм. – Это хорошие новости, – одобрила Екатерина. – Союз с сыном королевы Хуаны укрепит узы дружбы между двумя нашими народами. Она с горечью вспомнила о своей сестре: та все еще томилась в Тордесильясе, от нее не поступало никаких известий. Екатерина часто молилась, чтобы Хуана зашла в своем безумии достаточно далеко и не понимала, что с ней приключилось. Задумывалась она и о том, как относится к матери Карл, не повредила ли ему разлука с ней и ужасная кончина отца. Бедное дитя – остаться фактически сиротой так внезапно, ему ведь всего тринадцать. Ее материнское сердце сжалось от боли. Дай Бог, чтобы живая и красивая принцесса Мария принесла радость в его жизнь. – Люди одобрят этот союз, – сказала Екатерина. – Благодарю Бога, что все складывается для нас хорошо после стольких недель тревог и беспокойства. – Все это было тяжелым испытанием для вашей милости, – поддержал беседу Уорхэм. – Вы ждете ребенка, и за это мы особенно должны благодарить Бога. – Вы забыли, архиепископ, кто была моя мать! – Екатерина засмеялась. – Я чувствовала себя очень хорошо и вполне справлялась с делами, которые мне выпали.
– Король здесь! – крикнула Мария, едва переводя дух. – Я только что видела его с галереи, он въезжал через арку дома при воротах с небольшой свитой. Екатерина встала, расправила складки юбки и поправила чепец. Времени переодеваться не было. Она взяла зеркало и пощипала свои бледные щеки. Как ждала она этого часа – целых четыре месяца! И как в конце концов стала бояться его. Теперь она жалела, что не написала ему, но не было никаких гарантий, что он получит письмо на пути к дому. Да и желания писать у нее не было. А теперь слишком поздно, и он сразу все узнает… – Кейт! Кейт! Она слышала, как Генрих выкрикивает ее имя, слышала приближающиеся нетерпеливые шаги. Судя по звукам, он был не один. Но вот и он, с головы до ног – вернувшийся герой, выглядит таким возмужалым и прекрасным в костюме для верховой езды и как будто стал выше ростом. К тому же теперь его окружала незнакомая и манящая уверенность в себе. – Я примчался во весь опор! – Генрих прижал Екатерину к себе, накрыл ее губы своими, не обращая внимания ни на помощников, жадно взиравших на них, ни на усмешки Брэндона, Комптона и Болейна. – Мой господин, я так горжусь вами! – сказала она ему, когда смогла заговорить. – Глаза мои жаждали видеть вас. Прошло столько времени. Я едва могу поверить в то, что вы наконец-то здесь. – Я скучал по вас, моя дорогая. – Генрих снова поцеловал ее, а потом промурлыкал на ухо: – Не отделаться ли нам от всех этих людей, чтобы побыть наедине? – Мне бы хотелось этого больше всего на свете, – прошептала она. Пока ничто в его поведении не указывало на понимание: он нашел ее не такой, как ожидал. Однако Генрих был хорошим притворщиком. Екатерина взмолилась о том, чтобы он не стал укорять ее, когда они останутся вдвоем. Он не укорял. Вместо этого занял стул у камина и посадил ее к себе на колени, заключил в объятия и целовал, на этот раз долго и страстно. – Боюсь, я взвалил на вас слишком много, – мягко сказал он. – Мне рассказали, что случилось. Мне очень, очень жаль. – Он обнял ее крепче. Екатерина крепилась, чтобы не заплакать. Ничто не должно было омрачить их воссоединение. – Мне тоже очень жаль, Генрих. Я сожалею, что не оправдала ваших надежд. Нужно было лучше заботиться о себе, но столько всего приходилось делать, и я была счастлива заниматься этим. Нельзя допустить, чтобы муж подумал, будто она сердится на него за то, что он возложил на нее столько обязанностей. – Это воля Божья, – сказал Генрих, и лицо его напряглось, – мы не должны роптать. Он благословил нас многим другим. Больше всего меня заботит ваше здоровье. Екатерина вспомнила о долгих часах родовых мук, о боли, крови, маленьком хрупком тельце, которое отчаявшаяся повитуха встряхивала, пытаясь вызвать дыхание. Но младенец лишь тихо захныкал, а потом обмяк, восковой и безжизненный в руках бабки, когда сама родильница раскрыла рот в беззвучном крике… – Я почти пришла в себя, – солгала Екатерина. – Видеть вас, мой Генрих, – это все, что мне нужно для восстановления сил. – Благодарение Господу! Кейт, мы не должны скорбеть, потому что пришло время радости. Пойдемте, я поприветствую дам!
В эту ночь он возлежал с ней, несмотря на то что кровотечение еще не совсем прекратилось. Екатерина знала: ей надо худеть и ее груди потеряли упругость, после того как молоко пропало. Беременности сказались на ее теле. И чего ради все это? Но Генрих получал свое удовольствие с той же страстью, что и прежде, хотя и старался быть нежным, заботясь о ее чувствах. После этого он поцеловал Екатерину и затих, обнимая ее. Но Екатерина еще долго бодрствовала рядом со спящим Генрихом. Бог пожелал забрать всех троих ее детей! Эта мысль безмерно ее тревожила. Какой прекрасной была бы жизнь, если бы Он позволил ей сохранить их. Маленькому Генриху было бы сейчас три года, его сестре – на год больше, а последний младенец сейчас лежал бы в колыбели. У Англии было бы два наследника, а она была бы счастливой матерью и не страдала бы от боли утрат и страха за будущее. Она завидовала Мод Парр, у которой был здоровый сын Уильям и дочь, милая рыжеволосая крошка Кейт, крестница королевы. Благословение Божье смягчило горе Мод от потери сына. Екатерине же оставалось только оплакивать потерянных детей. Она знала, что Генрих наверняка испытывал те же чувства. Больше всего Екатерина хотела подарить ему то, в чем он так нуждался, – сына, который будет жить. Бог свидетель, она старалась как могла. Три беременности за четыре года в браке – и все же она оставалась бездетной. «Чем я прогневала Тебя?» – продолжала она вопрошать Господа. Разумеется, грех, повлекший за собой такое наказание, не мог не быть очевидным ей. Она снова и снова перекапывала глубины своей совести, но все в них было спокойно, а вот разум ее покоя обрести не мог. Екатерина положила руки на мягкую округлость недавно носившего ребенка живота и заплакала обо всех рухнувших надеждах. Она не переставая думала о том маленьком мертвом тельце, которое даже не подержала на руках, и из ее груди вырвались рыдания. Это разбудило Генриха. – Дорогая, – сказал он, мигом насторожившись. – О дорогая… – Он повернулся и обнял ее, крепко прижав к себе. – Оставьте это в прошлом, Кейт. Такие вещи случаются. Моя мать потеряла трех малолетних детей, и все равно у нее были я и Артур, и Маргарет, и Мария. – Что я сделала? – сквозь слезы вопрошала Екатерина. – Почему Бог забирает моих детей? – Вы ничего не сделали. – Генрих в утешение гладил ее по волосам. – Мы ни в чем не виноваты. – Это Божья кара! – За что? – спросил он, отстраняясь и глядя прямо на нее. – Я не знаю! Хотелось бы мне это понять. Генрих закрыл глаза. Казалось, ему было больно. И тут Екатерине пришла в голову ужасная мысль. – А что, если наш брак может быть незаконным? – произнесла она с дрожью в голосе. – Некоторые – Уорхэм, например, – считают, что он противоречит Писанию. Но папа одобрил его. У нас есть разрешение. – Это здесь ни при чем, – твердо сказал Генрих. – Не хотите ли вы представлять на суд Церкви всякую пару, потерявшую троих детей? Очередь была бы бесконечной. А что насчет моей сестры Маргариты? Господу угодно было забрать у нее пятерых детей. Дорогая, вы не должны относиться к этому так серьезно. Нет причин для беспокойства. Мы молоды, вам еще не исполнилось двадцать девять. У нас будут другие дети, я вам обещаю. А теперь постарайтесь заснуть и забудьте о своих страхах. Они поцеловали друг друга на ночь, и Екатерина стала искать забвения, впрочем напрасно. Забрезжил рассвет, но она так и не сомкнула глаз. Генрих лежал к ней спиной, и в тусклом свете, лившемся сквозь окно со средником, Екатерина заметила, что его плечи тихо подрагивают.
Глава 14 1514 год
Новые лошади были великолепны. Генрих и Екатерина восхищенно следили, как грум на конюшенном дворе в Гринвиче показывал возможности двух кобыл, подаренных маркизом Мантуи. – Браво! – крикнул Генрих, прикрывая рукой глаза от резкого июньского солнца. – А теперь, ваши милости, они покажут искусство верховой езды в испанском стиле, в качестве приветствия для ее высочества, – объявил итальянский посланник. Екатерина смотрела как завороженная. На нее нахлынули воспоминания об отце и брате – те были прекрасными наездниками. В конце показа лошади отвесили поклоны ей и Генриху. – Я послал тысячу благодарностей его милости маркизу Мантуи за этот подарок, – сказал Генрих и вместе с сестрой Марией подошел к кобылам – погладить их и дать им лакомство. – Что вы думаете, мой дорогой герцог? – спросил Генрих, оборачиваясь к одному из своих лордов-помощников. Это был француз герцог де Лонгвиль, захваченный в плен во время Битвы шпор и с тех пор состоявший при короле в качестве заложника, – красивый мужчина лет тридцати пяти, с темной лопатообразной бородой и высокими скулами, одетый в короткое платье пепельного цвета с пышными рукавами. Первые месяцы заключения герцог, по распоряжению Екатерины, провел в лондонском Тауэре, но Генрих, вернувшись осенью, вызвал де Лонгвиля ко двору, одарил благосклонностью и оставил при себе. Герцог пользовался большим уважением и наслаждался всеми преимуществами придворной жизни. Тем не менее это была для него золотая клетка, и ему приходилось оставаться в ней в ожидании огромного выкупа, назначенного Генрихом. Однако создавалось впечатление, что герцог вовсе не торопится домой: всем было очевидно, что он нашел утешение в обществе Джейн Попинкур. Екатерина нахмурилась, увидев Джейн рядом с ним: вообще-то, той полагалось сопровождать свою госпожу. Но женщина эта, по общим отзывам, сама теперь была госпожой – госпожой сердца. Екатерина сделала себе мысленную заметку: надо предупредить Джейн, что ее поведение вызывающе. Уже поползли слухи, и это отразилось на ней – королеве! – Это лучшие кони, каких я когда-либо видел, ваша милость, – сказал де Лонгвиль на прекрасном английском. Слава Богу, свободного времени для совершенствования у него было предостаточно. Однако взгляд герцога был прикован скорее к Джейн, чем к лошадям. – Ваша милость изволили сказать, что я могу обсудить с вами дела Мантуи, – произнес посланник. – Не сейчас. Поговорим в другое время. Мы уже опоздали к обеду, а потом должны быть танцы. Итальянец выглядел возмущенным. Екатерина подавила досаду: вот опять Генрих пренебрегает делами государства. И это после того, как посол проделал столь долгий путь, да к тому же с такими прекрасными подарками! Без сомнения, кончится тем, что положенные почести ему, как обычно, окажет Уолси. Они вместе вернулись во дворец. Екатерина смолчала. В тот момент у нее были другие заботы. Она беспокоилась из-за грядущей стычки с Джейн Попинкур и раздумывала, не пришла ли пора открыть Генриху собственные приятные новости, но решила не делать этого. Брэндон, Комптон и эти повесы Николас Кэри и Фрэнсис Брайан шли у них за спиной. Брэндон, как обычно, увивался за принцессой Марией, ловя каждое ее слово. Это также тяготило Екатерину. Брэндон был уже достаточно взрослый, чтобы понимать, что к чему, однако он не делал секрета из своих любовных интересов, и Мария поощряла его, несмотря на предполагаемый брак с эрцгерцогом Карлом. Екатерина хотела дать понять Генриху, как ее беспокоит Мария. Она уже дважды говорила ему о своей тревоге, но он лишь отмахивался: – Это безобидный флирт. Мария знает свой долг. По общим отзывам, эрцгерцог – серьезный юноша. Пусть она позабавится, пока может. – Но, Генрих, она любит Брэндона, это ясно как день. – Она знает, что он ей не пара. – Пожалуйста, попросите его держаться от нее подальше. Тогда Генрих терял терпение и начинал сердиться на нее. Казалось, он ни в чем не может отказать Брэндону. – Они всего лишь шутят друг с другом и смеются. Брэндон ни разу не прикоснулся к ней. Он не посмеет. – В голосе Генриха послышалось раздражение. – Кейт, вы беспокоитесь о пустяках. После пяти лет супружества Екатерина знала, когда лучше придержать язык. Она смолкла, хотя и продолжала тревожиться за эту своевольную девушку. Но Генрих не прислушается к ее словам. Потом пришла непрошеная мысль: а что, если об этом скажет Уолси? Усиливавшееся влияние Уолси продолжало беспокоить Екатерину. Он был ей несимпатичен, и она ему не доверяла. Бывший олмонер стал епископом Линкольна, затем архиепископом Йорка. Огромные доходы с епархии позволяли ему содержать роскошный двор, который соперничал по богатству с королевским, к тому же Уолси постоянно что-то строил. Особняк в Йорке – его епископская резиденция – должен был стать вторым по величине зданием в Лондоне после дворца Ламбет; рядом с ним даже королевские резиденции выглядели скромно. А теперь он взялся за возведение собственного дворца – Хэмптон-Корт на Темзе в графстве Суррей. Не подобало скромному сыну мясника и служителю Бога иметь так много собственности, думала Екатерина. И использовать для обогащения свой высокий ранг в Церкви тоже было неправильно. Он был лицемером, слишком самодовольным, слишком сладкоречивым, и ему явно недоставало смирения, столь необходимого и похвального для князя Церкви. Но хуже всего было то, что Уолси испытывал слишком сильные симпатии к французам. Может быть, лишь с целью противопоставить что-то ее собственному влиянию, хотя, конечно, сам он отрицал это. Екатерина не могла понять, почему Генрих, считая, что имеет права на французский престол, под чужим влиянием вел внешнюю политику, выгодную давнему врагу Англии. Впрочем, Испании тоже. Не стоит забывать об этом. Наверное, лучше было помалкивать, но слишком многое стояло на кону. В ту ночь, после того как Генрих закончил предаваться любви, Екатерина решила, что теперь супруг в подходящем настроении и прислушается к ее словам, как бывало всегда. Она была уверена: стоит ей поделиться с ним своей новостью – и он будет готов согласиться со всем, что она скажет. – Может быть, мой Генрих, нам не следовало сегодня любить друг друга, – проговорила Екатерина, уткнувшись в шершавую кожу его щеки. – Ммм? Дорогая, вы плохо себя чувствуете? – спросил он, улыбаясь и целуя ее в висок. – Самочувствие мое прекрасное, – она подняла на него взгляд, – какое и должно быть у женщины в моем положении! Голубые глаза Генриха расширились. – Хвала Господу, Кейт! Вы уверены? – Уже три месяца. Я не хотела говорить вам раньше. Надо было подождать. Но теперь я знаю точно, и я очень счастлива! Генрих обнял ее крепче и радостно поцеловал: – Это самая приятная новость, какую я слышал после Битвы шпор! Дорогая, я так рад! Я говорил вам, что Бог нас не забыл. На этот раз все будет хорошо – я знаю! Когда это случится? – Думаю, к Рождеству. Они лежали и разговаривали о принце, который, Генрих не сомневался в этом, находился в ее утробе. О его будущем дворе, о турнирах, которые устроят в честь его рождения. – Уолси должен стать крестным отцом, – сказал Генрих. – Я бы предпочла кого-нибудь другого, – осмелилась перечить Екатерина, зная, что сейчас можно. – Почему же нет? – Боюсь, Уолси слишком симпатизирует нашим врагам-французам. Думаю, он противится моему влиянию и, мне кажется, постоянно работает против интересов Испании. Она почувствовала, как Генрих напрягся в ее объятиях. – Я так не считаю, – помолчав, произнес он. – Он верен мне и очень прагматичен, когда дело касается внешней политики. Я бы доверил ему свою жизнь и свое королевство. – Именно это ему и нужно! Править здесь, пока вы играете роль короля. Тут же она пожалела о сказанном. – Кейт, вы действительно так думаете? – Генрих, пока вы проводите время за играми и пирами, Уолси приобретает все больше влияния и узурпирует власть, которая по праву принадлежит вам как миропомазанному королю. И так думаю не только я. Уолси вызывает недовольство у многих ваших приближенных. Генрих откинулся на подушку: – Они просто завидуют. Ни один из них не достоин носить для него свечу. – Генрих, вашими советниками должны быть ваши лорды. Они рождены для этого, происходят из древних родов со славной историей службы короне. – Кейт, с незапамятных времен церковники имели влияние в этом королевстве, так же как в Испании! – с возмущением ответил Генрих. – Разве ваша мать не опиралась на монаха Торквемаду, который заставил ее основать инквизицию? Вы не имеете права судить меня. И прежде чем вы продолжите, запомните: отныне при моем дворе ценятся способности, а не родословная. Дни могущественных вельмож миновали. Я отдаю предпочтение новым людям перед старой знатью – таким как Брэндон, Болейн, Комптон и Уолси. И я готов вознаграждать за хорошую службу, а не за длинную родословную. – Но Уолси служит вам скверно! Как можно полагаться на человека, который благосклонен к вашим врагам? И какой истинный служитель Церкви накапливает такие богатства? – Вы повторяете слова Уорхэма, который вечно скулит и ноет что-то о богатствах Уолси. Если бы он служил мне так же хорошо! А что до влияния Уолси на мою внешнюю политику – поверьте, он не симпатизирует французам, и вы должны позволить мне самому судить об этом. Это мужские дела. Он как будто дал ей пощечину. Никогда еще Генрих не разговаривал с ней так пренебрежительно. До сих пор он внимал ее советам, говорил, что ценит их, а теперь в одно мгновение заставил ее почувствовать, будто ее слова не имеют никакого значения. И во всем виноват Уолси. Этот умный, тонкий, беспринципный человек вытеснял ее из числа советчиков короля – с места, принадлежавшего ей по праву, и Генрих не хотел или не мог заметить этого. Как же она будет защищать интересы Испании, если муж не прислушивается к ее мнению? Что же теперь будет с доверием, которое сложилось между ними? – Простите, если я обидела вас, мой господин, – сказала она, поворачиваясь спиной к Генриху и накрываясь одеялом. – Вы прощены, Кейт, – добродушно ответил Генрих, как будто это она была виновата. – Я понимаю, вы сейчас склонны к капризам. Забудьте об Уолси и делах государства. У вас есть более важные дела, которые должны занимать ваши мысли, например подготовка к рождению нашего сына. – Он погладил ее по плечу, встал с постели, надел ночной халат, колпак и ночные туфли и, мягко ступая, двинулся к двери. – Спокойной ночи, Кейт.А вслед за тем к Екатерине пришло известие о болезни супруга. Врачи с вытянувшимися лицами пришли и сообщили страшное: у короля оспа. Екатерина закачалась, будто вот-вот упадет в обморок. Ее усадили, открыли окно, принесли вина и заверили, что беспокоиться не о чем. – Его милость крепок телом, – говорили ей. – Он скоро поправится. «Да, – подумала она, – но не будет ли его золотисто-рыжая мужественная красота испорчена навеки?» Она умоляла о встрече с супругом. – Об этом не может быть и речи, мадам, особенно в вашем положении. Риск заразиться слишком велик. Так что Екатерина была принуждена многие недели ждать и страдать, терзаться неизвестностью и надеяться, что от нее не утаят дурных вестей. Что происходит там, за закрытыми дверями личных покоев Генриха? Она не могла вынести мыслей о его возможной смерти. Она потеряет своего короля, своего любимого, своего защитника, Англия останется без наследника, пока не родится ребенок, которого она носила под сердцем. Может даже начаться гражданская война, потому что немало отпрысков королевской крови могут предъявить свои сомнительные притязания на престол. И Екатерина молилась, молилась и молилась о выздоровлении Генриха. И Господь внял ее мольбам. Через несколько недель король был снова на ногах и, как обычно, полон неисчерпаемой энергии. Он строил планы следующей военной кампании против Франции.
Из-за болезни Генриха Екатерина отложила разговор с Джейн Попинкур, но теперь вызвала ее и не предложила сесть. – Говорят, вы слишком сблизились с герцогом де Лонгвилем. Вам известно, что он женат? Джейн покраснела: – Да, мадам, но он несчастен в браке. Екатерина вздохнула: – Это вас не извиняет. Мои фрейлины должны быть безупречными. Меж тем ходят слухи, что вы его возлюбленная, и не только в галантном смысле. Вдруг обычно сдержанная Джейн бросилась на колени перед Екатериной: – Я люблю его, мадам! Я живу ради него. И я уверена, он отвечает мне тем же чувством. Екатерине стало жаль ее. Она знала, каково это – любить и знать, что счастье с любимым вероятно не более, чем путешествие на Луну. – Дело не только в любви, – мягко сказала она. – Речь идет о соблюдении приличий. Прожив при дворе шестнадцать лет, вы должны знать, что это значит. Джейн плакала, плечи ее вздрагивали. – Что же мне делать? – всхлипывала она. – Я не могу бросить его! Екатерина положила ладонь ей на голову: – Любовные игры и ухаживания – это одно, я не имею ничего против них. Но все, что больше этого, – грех в глазах Господа. Флиртуйте с вашим возлюбленным, наслаждайтесь его обществом, будьте беззаботны и честны, но не подвергайте риску свою репутацию. И мою тоже. Джейн схватила руки Екатерины и поцеловала их. – О, благодарю вас, я так и сделаю, так и сделаю, обещаю!
Усаживаясь рядом с Екатериной на галерее с краю теннисного корта, принцесса Мария вся сияла: рыжие волосы блестели, зеленые глаза искрились. Генрих и Брэндон, раздетые до нижних рубашек и панталон, готовы были начать игру. Мария не могла оторвать глаз от любезного ей кавалера. Мужчины обсуждали стратегию игры, цветущая, юная и восторженная Мария пыталась вставлять фразы в их разговор. Екатерина слушала, все еще опечаленная тем, что Генрих не внял ее советам, и ей казалось, будто она смотрит на все это откуда-то из-за стекла. Ее заботы и тревоги были очень далеки от того, что занимало этих троих, и рядом с ними она ощущала себя старой и степенной. А ведь ей еще не исполнилось двадцати девяти! Тем не менее Екатерина знала, что за пять лет супружества сильно прибавила в теле и на фоне Марии выглядела бледно. Благодарение Господу, но Генрих, кажется, не замечал перемен в ней. Мужчины заняли места на корте, Екатерина и Мария остались вдвоем следить за игрой. Для Екатерины это была возможностью поговорить с золовкой. Игра шла быстро и была яростной. Екатерина любила смотреть, как играет Генрих, как его белая кожа просвечивает сквозь тонкое полотно рубашки. Но сегодня голова ее была занята другими мыслями. – Сестрица, – она накрыла руку Марии своей, – я заметила, вы с Брэндоном добрые друзья. Мария вспыхнула. – Я люблю его, – прошептала она. – И он любит меня. – Вам не следует так говорить! – мягко укорила Екатерина, сожалея, что ее тревоги по поводу этой девушки оказались не напрасными. – Вы помолвлены с эрцгерцогом. У принцесс, как мы с вами, в таких делах нет выбора. – Вашей милости очень повезло, – возразила Мария. – Вы вышли за моего брата, и вы любите друг друга. Но все говорят, что эрцгерцог – мороженая рыба, человек бесчувственный. Говорят, челюсти у него такие кривые, что он не может толком закрыть рот. – Это только слухи, – с осуждением сказала Екатерина. – Я ничего такого не слышала, и он мой племянник. А если он сдержан, то заслуживает вашего сочувствия, ведь его отец умер, когда мальчику было всего шесть лет, а его мать сошла с ума и заключена в монастырь. Вашим долгом будет полюбить его и исцелить эти раны. – Да, мадам. – Весь вид Марии выражал сомнение. Она вовсе не была безнравственной девушкой, просто ее сердце склонилось не к тому мужчине. Екатерина в душе сокрушалась о ней. – Мне понятны ваши чувства, – заверила она Марию. – Но ради себя самой попытайтесь отдалиться от Брэндона и проводить меньше времени в его обществе. Иначе вам придется очень тяжело, когда настанет время отправляться в Брюссель. – Может, я никогда туда не поеду! – взорвалась Мария. – Дата не назначена. – Вскоре это случится. Я уверена. По условиям соглашения, которое заключил ваш отец, вас выдадут замуж в этом году. Король, ваш брат, уже написал Совету Фландрии, спрашивая, готовы ли они принять вас в качестве невесты эрцгерцога. Мы ждем их ответ. Мария сглотнула. – Помолитесь за меня! – прошептала она. – В этом не сомневайтесь, – пообещала Екатерина. Она встала, улыбаясь, чтобы поаплодировать Генриху, который обыграл своего друга. Король стоял на корте, воодушевленный победой, и надевал теннисную куртку из черного бархата.
С багровым от гнева лицом Генрих ворвался в покои Екатерины и одним огненным взглядом обратил в бегство ее дам. – Ваш отец обманул меня! – взревел он. – Не могу в это поверить! – воскликнула она. – Мой отец любит вас. – Ха! Вы, Кейт, сама невинность или притворяетесь таковой! Меня обвели вокруг пальца и сделали дураком в глазах всего христианского мира. Послушайте это: Фердинанд и Максимилиан, которые должны быть моими союзниками, подписали секретный договор с королем Людовиком и оставили меня воевать с Францией в одиночку. Нет, не говорите ничего, сначала выслушайте меня, а потом уж бросайтесь на защиту своего отца, потому что теперь совершенно ясно: ни один из них никогда не собирался помогать мне завоевать французскую корону. От побед, которые я одержал при Теруане и Турне, выгоду получил один только Максимилиан. А хуже всего то, что Людовик заранее договорился с ним и с вашим отцом, что мне позволят выиграть эти битвы, чтобы я отправился домой удовлетворенным и предоставил им одним преследовать свои дьявольские цели. – Но зачем они это сделали? Конечно, она знала, знала… Обманывала сама себя, позволяя надеждам затуманить разум. Но сейчас стало яснее ясного: ни один из этих монархов никогда не имел серьезного намерения помочь Генриху стать королем Франции. Зачем им делать это, когда они могли разделить страну между собой? Но если Генрих был обманут, то же самое произошло и с ней. Отец заморочил ей голову заверениями и обещаниями… От стыда Екатерина не могла говорить, но это не имело значения. Генрих, вне себя от гнева, не интересовался ее мнением. – А теперь Совет Фландрии отказывается принимать Марию в качестве невесты эрцгерцога Карла! Максимилиан нарушил соглашение, и вы, вероятно, тоже в этом замешаны, потому что ваш отец уж точно не остался в стороне. Как могли эти двое болтать чушь о совершенной любви и согласии, которые царят между нами как союзниками, когда все это время водили меня за нос! Это непостижимо! Такое ужасающее предательство, и меня-то выставили дураком. Как мог я им довериться! Больше я никому не могу верить в этом мире, кроме себя самого, и Богу это известно! Екатерина залилась слезами. Таким она Генриха никогда не видела, и ее это потрясло. И никогда он не обращался с ней так грубо. – Это вы виноваты! – кричал он. – Годами вы склоняли меня к тому, чтобы я пользовался советами вашего отца. Что ж, любуйтесь, к чему это меня привело! И вы еще имели смелость осуждать меня за то, что я прислушиваюсь к Уолси, и вы обвиняли его в том, что он благоволит к французам! Вот что, мадам, больше я вас слушать не стану. Вы должны понести ответственность за вероломство вашего отца! – Я ничего не сделала! – напоследок выкрикнула Екатерина. – Клянусь, я знала не больше, чем вы! Генрих был неумолим: – Вы старались как могли заставить меня принести интересы Англии в жертву Испании. Вы пытались сделать меня вассалом своего отца. Могу напомнить вам, что короли Англии никогда не уступали свое место никому, кроме Бога! – Вы говорили мне, что цените советы моего отца! – Я слушался вас, Екатерина, какой же я был дурак! Я следовал скорее вашим советам, чем рекомендациям Уолси. Теперь оказывается, я обвенчан с дочерью человека, который все это время был моим врагом. – Кто мой отец, не имеет никакого значения, – вслезах говорила Екатерина, теперь уже сильно задетая. – Значение имеет только любовь и доверие, которое есть между нами… – Не говорите мне о любви и доверии! – выпалил Генрих. – Они были преданы, и в будущем, мадам, я не буду прислушиваться к вашему мнению! Не сказав больше ни слова, он шумно протопал к двери, вышел и захлопнул ее за собой.
Екатерина окончательно пала духом, когда рассказала о случившемся брату Диего. – Ваше высочество, ваш долг определен, – сказал он. – Вы должны забыть Испанию и все испанское, ради того чтобы сохранить любовь короля и англичан. – Но как быть с моей верностью отцу? – в смятении спросила она. – И что будет с союзом между Англией и Испанией, сохранению которого я обязана содействовать? – Превыше всего – ваш долг перед мужем! – настаивал монах. Совершенно сбитая с толку, Екатерина послала за Луисом Каросом. Было крайне важно объяснить ему, что случилось, и описать, как сердился на нее Генрих. – Меня не должно быть здесь, ваше высочество, – сказал посол. – Король ясно дал понять мне, что мой повелитель – его враг, и лучше бы никто не видел, что я даю вам советы. – Но я молю вас, выслушайте меня и помогите! – не отставала Екатерина, снова едва не плача. – Мне необходимо вернуть доверие короля. – Ваше высочество, мой совет – поступать по желанию короля Генриха. Не вмешивайтесь в политику. Выполняйте свои церемониальные обязанности, управляйте своим двором. Пусть ему не на что будет пожаловаться. Вас всегда связывала большая любовь, и когда гнев короля уляжется, он вспомнит об этом. – Но как быть с интересами Испании? Брат Диего говорит, что я должна забыть о них. – Ваше высочество, в данный момент лучший способ для вас помочь Испании – это слушаться супруга вашего короля. Ублажая его, вы сможете как-нибудь восстановить свое влияние. На это мы все должны надеяться. «Это будет нелегко», – подумала Екатерина после ухода Кароса. Пять лет она находилась в центре событий, Генрих доверял ей и пользовался ее советами. Он уважал ее точку зрения, а теперь будет пренебрегать ею. Об этом страшно было даже подумать. Но хуже всего то, что теперь перед Уолси открылась возможность захватить ее место в королевском совете, и этого она вынести не могла. Но Екатерина понимала: Карос дал ей мудрый совет. Она должна проявить терпение и положиться на Господа, чтобы тот помог преодолеть этот ужасный разрыв между ней и Генрихом. А если она выносит королю наследника, то сможет и влияние вернуть. Вот чего не способен был сделать Уолси!
Зато Уолси мог выражать свое превосходство другими способами. Екатерина пришла в ужас, узнав, что он предложил новый альянс с французами. Разумеется, именно этого он все время и добивался и, раз уж она попала в немилость, тут же воспользовался моментом. В продолжение этих долгих, ужасных недель Генрих обращался с Екатериной с холодной любезностью. Он слушал Уолси и не принимал в расчет ее мнение. Казалось, весь двор знает о его недовольстве королевой. Екатерину мучило сознание несправедливости такого к ней отношения, тем не менее она сдерживалась и, появляясь на людях вместе с Генрихом, демонстрировала радостное оживление и грацию. Наедине дело обстояло иначе, потому что Генрих почти перестал приходить в ее покои, и ей оставалось только оплакивать его отсутствие. Немало было дней, когда Мария подставляла Екатерине свое плечо, чтобы та выплакалась; много ночей она рыдала в подушку. Возникла и еще одна неприятная сторона дела: теперь Екатерина была испанкой при дворе, где в моду входило все французское. Как ей это вынести, если англичане вслед за королем лишат ее своей любви? Наконец, когда она уже думала, что ее разбитое сердце больше не выдержит, Генрих пришел к ней, раскрасневшийся после игры в теннис. Екатерина в надежде поднялась на ноги, полная любви и готовая все простить, сделала самый глубокий реверанс из возможных. Но нет, Генрих сохранял холодность и отстраненность. – Кэтрин, я пришел сообщить вам, что принцесса Мария выйдет замуж за короля Людовика, – объявил он. Уолси потрудился на славу! Убедить Генриха сдружиться с врагом, которого он еще так недавно клялся сбросить с престола! Должно быть, это потребовало каких-нибудь особых лживых ухищрений. Хотя Генрих, обозленный предательством Максимилиана и Фердинанда, был бы рад составить мощный союз против них даже с Людовиком. Как ей удалось удержать на лице улыбку, Екатерина не знала. Бедная, бедная Мария… Потратить жизнь на этого ужасного человека, на этого французского монстра! Эрцгерцог, по крайней мере, был молод, но Людовик Французский уже давно состарился, был дряхл и слаб здоровьем. Со своей первой женой он развелся по причине ее бесплодия, а его вторая супруга недавно умерла, измученная многочисленными беременностями. Но выжили только две дочери, а так как во Франции женщины не могут наследовать трон, Людовику требуются сыновья. Утешит ли корона прекрасную девушку девятнадцати лет, которая к тому же любит другого? Генрих пристально вглядывался в Екатерину. – Это важнейший союз, – сказал он. – Никогда прежде английская принцесса не становилась королевой Франции. И все это благодаря тому, что я один действовал с чистейшей верой в то, что Господь одобряет мои замыслы. – Он посмотрел на нее. – Сир, я радуюсь вместе с вами и Марией, – ответила Екатерина под его тяжелым взглядом, стараясь, чтобы ее голос не противоречил смыслу слов. – Когда свадьба? – В октябре. Лонгвиль ведет переговоры от лица Людовика. На следующей неделе здесь, в Гринвиче, состоится свадьба по доверенности. Я надеюсь, вы в добром здравии и сможете присутствовать. – Я чувствую себя хорошо. Теперь плод уже быстро растет. – Хвала Господу! В глазах Генриха промелькнула искра тепла, и на какое-то мгновение Екатерина решила, что он отбросит холодность и хотя бы жестом выразит свою привязанность к ней. Однако супруг лишь поклонился и вышел. Но все же они свиделись. Лед был сломан, и теперь от нее зависело, сумеет ли она снова завоевать его любовь и уважение. Ей следовало подавить свою ненависть к французам, собраться с силами и терпеливо вынести все эти церемонии. Когда к ней пришла плачущая Мария – а Екатерина знала, что так будет, – она убеждала принцессу слушаться короля и быть довольной участью, какую он ей уготовил. Поведение Джейн Попинкур не вызывало у Екатерины нареканий: та показывала, что прислушалась к советам своей госпожи. Теперь она одолжила свою фрейлину Марии, чтобы та помогла принцессе совершенствовать французский. Герцог де Лонгвиль тоже был причастен к устройству этого брака, но Екатерина надеялась на осмотрительность влюбленных. Она напомнила Джейн о ее обещании. – Уверяю вас, мадам, я не сделала ничего, за что вы могли бы упрекнуть меня, – сказала девушка. Екатерина поверила, что фрейлина говорит правду. Перед самой свадьбой ничто не должно было бросить тень на репутацию Марии.
Жарким августовским днем Екатерина величаво восседала рядом с Генрихом и наблюдала за тем, как архиепископ Уорхэм соединяет священными узами брака принцессу и короля Франции, которого представлял великолепно одетый герцог де Лонгвиль. На королеве было платье пепельного цвета из переливчатого атласа, со стянутым золотыми цепочками лифом, чепец из золотой парчи. Вместе с королем и всем двором она проследовала в церемониальную опочивальню. Там Марию в свадебном платье уложили на кровать под балдахином, и рядом с ней улегся де Лонгвиль. У каждого одна нога была оголена до колена. Под всеобщими жадными взглядами Лонгвиль приложил свою обнаженную голень к голени принцессы. Джейн Попинкур при виде этого залилась краской. – Теперь мы можем считать брак заключенным, – с оттенком удовлетворения произнес Генрих. При этом он улыбался архиепископу Уолси, чье лицо сияло триумфом. Екатерина понимала: сейчас не время пытаться бросить вызов его влиянию и любая попытка принести пользу Испании лишь повредит ее собственным интересам. Так что она невозмутимо сидела на троне, улыбалась, кивала и обменивалась любезностями с окружающими, как будто в ее мире царил полный порядок. Екатерина помогла Марии составить список тех, кого золовка хотела взять в свою свиту, чтобы эти люди сопровождали ее во Францию. Его должен был одобрить Людовик. – Не будет ли возражать ваша милость, если я возьму с собой Джейн Попинкур? – спросила Мария. – Я очень полюбила ее, и она будет рада возможности вернуться во Францию. Кроме того, вместе со мной отправляется один лорд, к которому она неравнодушна. – Женатый лорд, – заметила Екатерина. – Что ж, я не стану ее удерживать. Возьмите ее, я даю свое благословение. Уолси просмотрел список и кивнул, а потом и Генрих его утвердил. Но через две недели бумага вернулась назад, и имя Джейн Попинкур было вычеркнуто рукой самого короля французов. Мария сильно опечалилась. Она очень ценила дружбу Джейн и полагалась на эту женщину, рассчитывая, что та поможет ей освоиться с этикетом и обычаями при французском дворе. – По сведениям Уолси, наш посол в Париже предостерег короля от распутства Джейн, сказав ему, что она состоит в любовной связи с де Лонгвилем, – сказал Генрих жене и сестре. – Кроме того, на свадьбе короля будет присутствовать сама мадам Лонгвиль. – И ничего нельзя сделать? – взмолилась Мария. – Нет. Людовик написал мне в очень твердых выражениях. Он утверждает, что его единственной заботой является благополучие его новой королевы. А в качестве утешения, дорогая сестрица, он прислал вам это. Генрих передал Марии серебряную шкатулку. В ней на подушечке из мягчайшего флорентийского бархата лежал самый большой бриллиант, какие Екатерина когда-либо видела. К нему была присоединена сверкающая жемчужная подвеска. Мария ахнула. Генрих жадно рассматривал украшение. – Это знаменитый бриллиант «Зерцало Неаполя», он стоит по меньшей мере шестьдесят тысяч крон! – сказал он сестре, и в голосе его слышались нотки зависти. – Ты счастливейшая из женщин! Мария обрадовалась подарку и заявила, что наденет его на свадьбу. Но тут же осеклась: вспомнила, что вскоре ей придется отправиться в чужую страну, выйти замуж за незнакомца, оставив здесь не только Брэндона, но и любимую подругу. Екатерина заметила, как Мария отвернулась, чтобы Генрих не угадал ее чувств. И она могла представить себе, что будет чувствовать Джейн Попинкур, когда потеряет своего возлюбленного, который отправится со свадебным кортежем во Францию.
Екатерина стояла рядом с супругом на продуваемой всеми ветрами пристани в Дувре. Они провожали Марию. По крайней мере на этот раз Генрих не уплывет прочь и не оставит ее одну, сказала она себе. На корабли уже погрузили бессчетное количество сундуков; офицеры и слуги были на борту, а фрейлины дрожали на ветру, ожидая, когда смогут вместе с принцессой подняться на палубу. Октябрьская погода была ужасна, и двор задержался в Дувре на целых две недели, дожидаясь, когда уляжется шторм. Екатерина молилась о том, чтобы это затишье продержалось, пока ее золовка не доберется до Франции. Ей не забыть, как сама она была напугана и как ее тошнило во время морского перехода в Англию. Мария, сосредоточенная и побледневшая, прощалась с придворными лордами и леди. Когда очередь дошла до Брэндона и тот с поклоном поцеловал ей руку, никто не догадался бы, что для них обоих это был миг наивысшей печали. Мария проявила восхитительное самообладание. Жизнь не была добра к сестрам Генриха: вот Мария принуждена покинуть любимого человека, а в Шотландии жила Маргарита, потерявшая нежно лелеемого короля Якова в кровавой битве при Флоддене. А потом, как им стало известно только месяц назад, вышла замуж вторично – за графа Ангуса и утратила опекунство над своими сыновьями. Шотландская знать была в ярости: они ненавидели нового супруга королевы и стремились не допустить его влияния на юного короля. Тут же стояла Джейн Попинкур. Она почти не пыталась скрывать свою печаль, когда герцог де Лонгвиль отвесил ей вежливый поклон и бесстрастно поцеловал руку на прощание. Как ей, должно быть, хотелось обнять его в последний раз, поцеловать в губы… Екатерина отбросила эти мысли и сказала самой себе: так будет лучше. Между тем Генрих все больше нервничал, и Екатерина догадалась: несмотря на все его речи о важности союза с Францией, он боялся расставания с сестрой. Когда для Марии настал черед прощаться с братом и попросить его благословения, у того на глазах стояли слезы. – Не грусти, брат, – сказала Мария. – Молю Бога, чтобы мы скоро снова встретились. – А я молюсь о том, чтобы Людовик оказался для тебя хорошим мужем, – с большим чувством ответил Генрих. – Хороший муж – это благословение Господне, – заметила Екатерина. Но, бросив взгляд на Генриха, испугалась: в его глазах читалось страдание. – Хочу попросить вас об одной вещи, – сказала Мария. – Молю вас оказать мне эту милость. Король Людовик – старый, больной человек, как все говорят. Если он умрет, дадите ли вы мне обещание, что следующего мужа я смогу выбрать сама? – Забавно отправляться на собственную свадьбу и думать о вдовстве, – отозвался Генрих и выдавил из себя смешок. – Очень хорошо, я обещаю. А теперь я вверяю вас воле моря и супруга вашего, короля, и да пребудет с вами Господь! Когда Мария в сопровождении своей свиты поднималась по сходням, Екатерина заметила темноволосую девочку: та держалась позади всех дам и со страхом смотрела на пенящиеся внизу воды. – Похоже, эта юная фрейлина не хочет садиться на корабль, – сказала Екатерина. – Это дочь Болейна, Мария, – ответил ей Генрих. – Она недавно при дворе. – У него ведь две дочери? – Как хорошо было снова беседовать с Генрихом. – Да. Младшая живет при дворе эрцгерцогини Маргариты в Брюсселе. Он говорит, что она очень хорошо воспитана. Екатерина не задержалась мыслями на малышке Болейн. Она вспоминала эрцгерцогиню, дочь Максимилиана, в те далекие дни, когда юная Маргарита была замужем за инфантом Хуаном. В памяти Екатерины она осталась шумной, вечно смеющейся, полной жизни девушкой. По всеобщим отзывам, Маргарита повзрослела и превратилась в грациозную и умную женщину, которая исполняла обязанности регента вместо своего отца в Нидерландах и растила племянника Екатерины, эрцгерцога Карла. Хотелось бы повидаться с ней еще раз. Мария Болейн была уже в слезах. Ее отец, выйдя вперед, резким тоном приказал ей поспешить на корабль, шикал на нее и подгонял идти вверх по сходням. Екатерина покачала головой: ей было жаль ребенка. Она знала Томаса Болейна как человека амбициозного, озабоченного своим успехом при дворе. Генрих любил его безмерно. Болейн был хорошо образован и наделен многими способностями, полезен как дипломат благодаря владению иностранными языками, к тому же слыл опытным турнирным бойцом, что обеспечивало ему благосклонность повелителя. – Она пошла, – с усмешкой заметил Генрих. – Вы можете не сомневаться в Томе Болейне, он своего добьется. Никто не сравнится с ним в искусстве убеждать. Браво, Том! – провозгласил король, когда сэр Томас подошел к нему, качая головой. – Дерзкая девчонка! – пробормотал тот. – Какой толк в дочерях, если они не делают то, что им велят? Я говорю, счастливо сбыл ее с рук, а, Гарри? Король захохотал, но Екатерина посчитала, что Болейн слишком фамильярничает. Она не любила этого человека и не доверяла ему. Даже Генрих сказал однажды, что прежде всего Болейн действует ради выгоды. Вот сэр Томас присоединился к своей жене Элизабет Говард, дочери Суррея. Легко было заметить, что когда-то эта женщина с овальным лицом, тонкими чертами и темными глазами была красавицей. Много лет назад придворный поэт Джон Скелтон посвятил ей стихи, еще не забытые при дворе. Екатерина читала их и была потрясена намеками на то, что леди Болейн не отличалась примерным поведением. Стоит ли удивляться, что она редко появлялась при дворе, если люди говорили о ней такое. Сегодня у леди Болейн была причина выглядеть несчастной, ведь она приехала проводить дочь. Тем не менее Екатерина почувствовала, что между мужем и женой существует какая-то отчужденность. Но думать об этом королеве было некогда. Корабль отчаливал, принцесса и ее фрейлины махали руками и посылали воздушные поцелуи, уносимые ветром. Джейн Попинкур рыдала на плече Исабель Варгас. Генрих поднял руку на прощание, по его щекам текли слезы. Екатерина потихоньку сплела его пальцы со своими, он не противился.
Вскоре после возвращения двора в Гринвич Луис Карос потребовал срочной аудиенции у королевы. – Он хотел бы поговорить с вами наедине, мадам, – сообщил ей лорд Маунтжой. – Очень хорошо, проводите его сюда, – приказала Екатерина. Карос, этот опытный дипломат, казалось, был в крайнем смятении. Он стоял перед Екатериной напряженный и хмурый. – Ваше высочество, мне нужно обсудить с вами одно деликатное дело. Могу я говорить свободно? – Несомненно, – ответила Екатерина, удивляясь про себя: что ее ждет? – Это касается вашего исповедника брата Диего. Он относится ко мне с большим недоверием. – Увы, он всегда считал, что вы добиваетесь его удаления от двора. Последовала пауза. – Я бы и впрямь этого хотел, ваше высочество, – сказал Карос. – Боюсь, он повредился умом. – Лучше объясните, что вы имеете в виду. – Брат Диего, что вполне естественно, имеет заметное влияние на ваше высочество, но делает все возможное, чтобы не позволить мне и другим получать аудиенции у вас. Становится все труднее видеться с вами; почти каждый раз он не пускает меня, говоря, что вы молитесь или не расположены к встрече. Ваши слуги боятся его. Они не смеют ему перечить, потому что знают: он может прогнать любого, если пожелает. Екатерина слушала посла со все возрастающим недоверием. – Превосходно, боюсь, вы так же повредились умом в отношении к брату Диего, как, очевидно, он – к вам. Мне бы хотелось, чтобы оба вы постарались примириться и стать друзьями. Дело дошло до такой точки, где я уже чувствую себя виноватой, если выкажу предпочтение одному из вас. – Ваше высочество, вы не все знаете о брате Диего, я бы постыдился говорить о таких вещах. Но я в жизни не встречал более безнравственного человека. Это было невыносимо. – Вы наслушались сплетен! – наставительно оборвала его Екатерина. – Мне известно, что послы именно этим и занимаются, но, умоляю вас, будьте рассудительны. Я знаю, люди плохо отзываются о брате Диего, но это все ложь и зависть. Уверяю вас, он хороший человек, а вовсе не безнравственный. У Кароса был такой вид, будто он ужасно хочет сказать больше, но Екатерина не собиралась и дальше выслушивать его жалобы. Монах исключительно верно служил ей и заслужил ее доверие. – Вы говорили, есть еще какое-то дело, – твердо сказала она. – Да, ваше высочество. – Последовала долгая пауза. – Ну же? – Я получил донесение от венецианского посла в Риме. Это вполне может оказаться безосновательным – вы знаете, как искажаются факты при передаче, – но в августе в папской курии распространились слухи. Думаю, вам нужно ознакомиться с этим. Он вынул из-за пазухи письмо и передал его Екатерине, потом отступил назад. Екатерина увидела печать с венецианским львом. Она быстро пробежала письмо глазами, потом перечитала еще раз – вслух и не могла поверить.
Король Англии намерен развестись со своей женой, потому что она не способна иметь детей, и жениться на дочери французского герцога де Бурбона. Говорят, он собирается аннулировать свой брак и получит от папы желаемое.Екатерина заметила, что ее трясет. Она вернулась мыслями к тому прошлогоднему разговору с Генрихом, когда высказала свои опасения по поводу законности их брака. Тогда он уверял ее, что беспокоиться не о чем. Однако Екатерину пробрала дрожь. Неужели она сама возбудила в супруге сомнения? Отчаянным усилием она постаралась сохранить спокойствие. – Этого не может быть. Ясно, что эти слухи не имеют под собой никакого основания. Задолго до августа его милость знал, что я ношу для него ребенка. Он никогда не решился бы на развод со мной, особенно притом что оба мы молимся о даровании нам сына. – Конечно нет, ваше высочество. Невозможно помыслить о том, чтобы в такой момент король затеял процесс и обратился к папе. Мы все молимся о рождении принца. Екатерина была рада отделаться от Кароса. Мысли ее были в смятении. Возможно ли, что тогда, в июне, Генрих в озлоблении наговорил что-то такое, что было воспринято как желание отделаться от нее? В таком случае Уолси, конечно, ухватился бы за эту идею. Он всегда видел в ней соперницу и вполне мог придать более серьезное значение высказываниям своего повелителя. Неужели он прощупывал почву на предмет возможности аннулирования брака? Уолси был бы рад избавиться от нее по многим причинам. Она знала: за его внешним добронравием скрывается глубокая порочность, и потому недолюбливала его, и это было ему известно. Но не только в этом состояло дело. Екатерине хотелось бы поделиться своими опасениями с Генрихом, но между ними только-только восстановилось хрупкое согласие, и она боялась все испортить. Генрих напоказ изъявлял заботу о ее благополучии, каждый день приходил к ней и справлялся о самочувствии, часто клал руку на ее живот, чтобы ощутить, как шевелится ребенок. Он снова стал оказывать ей знаки внимания и уважения как своей королеве. Однако Екатерина чувствовала, что супруг не простил ей измену отца. Бóльшую часть времени он охотился, проводя короткие ноябрьские дни в седле, а по вечерам играл, танцевал или любезничал с дамами, часто из ее свиты. Он всегда делал это, полагая флирт с фрейлинами своей рыцарской обязанностью, и Екатерина никогда не видела в этом беды. Но теперь почувствовала угрозу. На седьмом месяце беременности она не могла соперничать с молодыми женщинами, которые вились вокруг ее мужа – все грациозные лилии в полном цвету. Что ни говори, он был всего лишь мужчина, а в молодости все они охочи до чувственной любви. Устоять перед такими искушениями трудно, особенно учитывая то, что Генрих столько месяцев воздерживался от посещения ее ложа. Тем не менее давнишняя ссора из-за леди Гастингс научила ее: верность супруга сомнению лучше не подвергать, и большинство замужних фрейлин королевы придерживались мнения, что жены должны закрывать глаза на измены мужей. Так что лучше ей помалкивать и сохранять свое достоинство. До рождения ребенка еще оставалось время, и Екатерина несколько раз в день опускалась на колени и молила Бога о сыне. Если у нее на руках появится наследник, она будет прощена и все снова станет хорошо. А вот что произойдет, если и этот ребенок умрет, она не смела и думать.
Глава 15 1514–1515 годы
С уст придворных не сходило имя Бесси Блаунт. Очаровательная шестнадцатилетняя девушка, дальняя родственница лорда Маунтжоя, была одной из фрейлин королевы, и ничего удивительного, если окружающие отмечали ее красоту. В отличие от своих образованных родственников, Бесси не блистала умом, но, мягкая, добрая и покладистая, она привлекала всеобщую любовь. Как оказалось, покладистой она была даже чересчур. Екатерина невольно ловила ухом перешептывания своих фрейлин, и в доносившихся до нее отрывочных фразах имя Бесси связывалось с королем. Осознание этого так ее потрясло, что она удалилась в свою спальню и села на кровать, дожидаясь, когда успокоится разбушевавшееся сердце. Королева взяла зеркало и посмотрела на свое отражение. Полная усталая женщина с печальными глазами. Стоит ли удивляться, что Генрих поглядывает на сторону? Она пришла в такой ужас, что не способна была даже заплакать. Чем она сможет привлечь его на восьмом месяце беременности, измученная печалями и тревогами? Неужели ему не дороги воспоминания о пяти восхитительных годах, когда они были всем друг для друга? Нет, не мог он забыть, как сильно любил ее. И с Бесси Блаунт – это всего лишь флирт, мимолетная фантазия, чтобы отвлечься, пока ложе супруги для него под запретом. Екатерина и сама не знала, сколько просидела так. Вечерние тени уже удлинились, когда она наконец встала, расправила покрывало на постели и задвинула шторы, даже не замечая, что выполняет обязанности слуг. Потом, исполненная решимости не дать сломить себя этому последнему испытанию, она призвала своих дам и приказала им обрядить себя в пышное платье, ибо собиралась этим вечером почтить двор своим присутствием. Должен был состояться ужин в зале для приемов, а потом музыка и танцы. Ради этого Екатерина облачится в дерзкие оттенки красного. Она распорядилась, чтобы подготовили ванну, села в нее, застланную голландским полотном, на мягкие губки, и блаженствовала в ароматизированной травами воде, пока сестры Варгас растирали ее кастильским мылом. – Я надену платье из алого бархата, у которого рукава с разрезами. Мария, принеси, пожалуйста, мой крест с жемчужиной и ожерелье из четырехлистников. Мария настороженно посмотрела на нее: – Принести ли вашей милости брошь для корсажа? – Да, с вензелем Христа. И я хочу, чтобы волосы у меня были распушены на висках и заплетены на затылке. Принеси мою венецианскую шапочку, пожалуйста. Екатерина понимала, что слишком блюдет свое достоинство, но не могла облегчить свою ношу и довериться хотя бы Марии. Сделай она это, потом было бы не унять слез. Когда приготовления закончились, Екатерина осталась довольна своим видом. Платье имело низкий вырез и выгодно подчеркивало округлость живота. Она покусала губы, чтобы они стали краснее, слегка брызнула на себя дамасской розовой водой. Одобрительно улыбнулась дамам, которые должны были сопровождать ее, одетые в черно-белые платья.Екатерина не сомневалась, что Генрих, поднимая ее из реверанса и целуя, находился под впечатлением. – Кейт, вы прекрасно выглядите. Впервые за долгие месяцы король назвал ее Кейт, и она посмела надеяться, что наконец-то будет прощена. Они вместе сидели за столом и весело болтали. За ужином Бесси Блаунт не было, она появилась позже, когда придворные собрались в зале для приемов на танцы. Екатерина увидела ее на другой стороне зала в обществе Комптона, Элизабет Кэри и Брэндона, новоиспеченного герцога Саффолка. Они все смеялись, Саффолк явно нашел чем утешиться после разлуки с Марией. Герцогства и двух милых дев вполне хватило ему, чтобы развеять печаль. Видя, как Бесси кокетничает с ним и Комптоном, Екатерина разуверилась, что Генрих мог иметь интерес к этой девице, по крайней мере серьезный. Один раз она заметила, как Комптон поманил Генриха к ним, но тот покачал головой и повернулся к Екатерине. Он просиживал рядом с ней каждый второй танец, а в промежутках приглашал спуститься на площадку всех замужних дам по очереди, полагая это долгом приличия. Ни разу Екатерина не заметила, чтобы он хотя бы взглянул в сторону Бесси. Все в прошлом, сказала себе Екатерина. Так должно быть. Может, ничего вообще и не было.
Двумя днями позже Генрих пришел повидаться с Екатериной. – Кейт, мне необходимо обсудить с вами одно серьезное дело. Некоторые ваши придворные приходили ко мне в слезах и жаловались, что ваш исповедник блудит с женщинами. Кто-нибудь говорил вам об этом? – Брат Диего блудит? – переспросила Екатерина, отложив в сторону роскошный чепец, к которому пришивала подкладку. – Никогда в такое не поверю. Но мне известно, что некоторые из моих слуг завидуют его влиянию, и я не исключаю, что они могли все выдумать. «Или Карос», – подумала она, но упоминать его не стала, чтобы не давать Генриху повода для дальнейшего недовольства Испанией. – Не возражаете, если я сам его расспрошу? Ничто не должно затрагивать честь моей королевы. – Конечно не возражаю, – согласилась Екатерина. При этом она не сводила глаз с Бесси Блаунт: склонив светловолосую головку, та шила напрестольную пелену. – Во что бы то ни стало расспросите его. Королева кивком подозвала пажа и послала его за монахом. Когда брат Диего услышал, какую напраслину на него возводят, его смуглое лицо побагровело от гнева. – Я отрицаю это, сир! – прорычал исповедник. – Тем самым вы, верно, намекаете, что к вам плохо относятся? – уточнил Генрих. – Именно так. И если ко мне плохо относятся, то к королеве – и того хуже! У Генриха вытянулось лицо, брови нахмурились. Опасался ли ее супруг, что монах сейчас отбросит осмотрительность и обвинит короля в блуде с Бесси Блаунт? – Вам бы лучше объясниться, – сказал король, – и будьте осторожнее. Я не позволю вам бросать на кого-либо тень подозрения без достаточных причин. Брат Диего смотрел на короля почти с ненавистью: – Я имел в виду, ваша милость, что вам бы следовало получше присмотреться к моим обвинителям, прежде чем слушать их наветы. Я знаю, кто они и что они злятся на меня за отказ в отпущении грехов. Их следует удалить со службы ее милости. Одна из них клятвопреступница и изменница, у другой внебрачный сын, а третья ведет безнравственную жизнь. – Значит, ничто вас не связывает ни с Томасиной Хаверфорд, ни с Сесилией Свон? Екатерина вздрогнула от неожиданности. Король назвал имена ее прачек! Брат Диего тоже опешил. И опроверг слова короля после слишком долгой паузы, чем и воспользовался Генрих. – Ах, вы просто занимались с ними, наглец, так да или нет? – Нет, сир, я ничего не делал! – огрызнулся монах. – Я вам не верю и не допущу, чтобы честь моей королевы задевал хотя бы легкий намек на скандал. Вы уволены со службы и немедленно вернетесь в Испанию. Екатерина собралась было протестовать, но брат Диего опередил ее: – Ваша милость, это несправедливо. Девять лет я верно служил королеве. Ради нее я вынес много зла. Теперь, ваша милость, вы объявляете меня распутником. Клянусь святым Евангелием, это обвинение ложно! Никогда я не имел ничего общего ни с одной женщиной в вашем королевстве. Меня признали виновным, даже не выслушав! Оклеветавшие меня – мои враги, бесстыдные негодяи! И все же я желал бы забыть обо всех этих нападках и готов остаться в услужении у королевы, если вы хотите этого, но только при условии, что меня выслушают честные судьи. Никто и никогда, Екатерина была в этом уверена, не говорил с Генрихом в такой снисходительной манере, и неудивительно, что король побагровел от ярости. – Вы готовы? Вы желали бы забыть… Вы что же, подвергаете сомнению справедливость моих суждений? Я не честный судья? – Он едва не лопался от бешенства. – Убирайся! Во-о-он! Брат Диего поклонился: – Как будет угодно вашей милости. – Голос его дрогнул. – Где бы я ни оказался, я буду молиться, чтобы у вас родились сыновья. – Он отвесил поклон Екатерине. – Да пребудет с тобой Господь, дочь моя. После этого исповедник ушел. Генрих все еще кипел от гнева: – Этот человек лжец, да к тому же еще и бабник! – Если это правда, у вас не было другого выбора, кроме как прогнать его, – выдавила из себя Екатерина, пытаясь свыкнуться с разоблачением монаха. – Это правда, – упорствовал Генрих. – Женщины, о которых шла речь, пожаловались, что он донимает их. Он фамильярничал с ними в исповедальне, пытался соблазнить их. Я не стану вдаваться в подробности. За пределами королевской спальни Генрих стыдился обсуждать такие вещи. Екатерина вспомнила те времена, до ее замужества, когда брат Диего прикасался к ней и она принимала это просто за попытку утешить. Заключалось ли в этих жестах нечто большее? Она с трудом могла заставить себя поверить в это, однако… – Неужели я оказалась так глупа? – прошептала она после долгой паузы. – Значит, Франсиска была права и дон Луис тоже? Но я отказывалась принимать их доводы. Что же получается, я поступила с Франсиской несправедливо? – Вы слишком исполнены добродетели, чтобы видеть зло, даже когда оно перед самым вашим носом, – произнес Генрих и умолк. Думал ли он о другом зле, которого она не замечала, – об услужливой светловолосой деве? Но может быть – Екатерина надеялась на это, – она ошибается. Генрих прочистил горло. – Не корите себя, Кейт. Я предпочитаю, чтобы похоть не проникала даже в ваши мысли. Король ушел, пообещав найти Екатерине нового исповедника. На сердце у нее было неспокойно. Она чувствовала себя виноватой, что не вступилась за брата Диего, а ведь он столько лет служил ей. Она даже не задала ему вопросов сама и не настояла на том, чтобы ему дали возможность объясниться. Генрих, несомненно, прав, и монах вел себя безнравственно. Но и она в этом деле выглядит не лучшим образом. Раскаялся ли брат Диего в своих ужасных грехах? Если нет или если снова впадал в них, тогда у него мало надежд узреть Царствие Небесное. Священнику доверяют, и обманывать такое доверие – наихудший вид предательства. Но как же могла она так долго оставаться слепой к его порочности? Екатерине не давали покоя сомнения, чувство вины за то, что Генрих – и она сама – поступили с монахом не по совести. Но единственное, что она могла теперь сделать, – это дать брату Диего хорошие рекомендации к королю Фердинанду и отдать его должность Хорхе де Атеке. А еще надеяться, что отстранение послужит монаху уроком. «Он верно служил мне все то время, что провел в Англии, и намного лучше, чем некоторые другие, старавшиеся для вида», – писала Екатерина отцу, чтобы Франсиска де Касерес не начала распространять свои наветы в Испании. Екатерина не хотела, чтобы Фердинанд подумал, будто она настолько глупа и недальновидна, что держала у себя на службе человека с дурными наклонностями. И она понимала, почему Генрих так поспешно устранил монаха. Малейшее дыхание скандала могло сказаться на ней, его королеве.
Все говорили, что это был несчастливый год. В отношениях между королем и королевой сохранялась натянутость, и Екатерина начинала сомневаться, что когда-нибудь они снова смогут, как прежде, дарить друг другу радость. Ребенок, которого она носила, должен был послужить к их сближению, но она все чаще предавалась раздумьям о потерянных детях и о боли, которую ей предстоит вынести, прежде чем этот младенец появится на свет. Уолси подорвал ее влияние на мужа. Англия была прикована кандалами к Франции, но, по крайней мере, письма Марии вселяли надежду. Судя по всему, она крутила и вертела своим дряхлым мужем как хотела. Екатерина же теперь осталась без исповедника, на которого всегда полагалась. Справедливо с ним поступили или нет, но для самой Екатерины это была тяжелая потеря в такое трудное время. Об отце своей супруги, Фердинанде, Генрих упоминал не иначе как с презрением. А Фердинанд отзывался в письмах о Генрихе исключительно в уничижительном тоне. «Если кто-нибудь не наденет узду на этого жеребца, то с ним будет не сладить», – ярился он. Екатерина обнаружила, что ее преданность обоим грубо попрана. Когда Генрих пускался в яростные нападки на Фердинанда, он не прощал Екатерине ничего, и, выслушав порцию его крика вперемешку с проклятиями, она искала убежища в своей спальне и заливалась слезами. Однажды в ноябре она рыдала так долго, что из носа у нее весь вечер текла кровь. На следующее утро начались схватки. – Матерь Божья, еще слишком рано! – всхлипывала Екатерина. Ее еще даже не перевели в особые покои. Спешно вызванная акушерка строго сказала королеве: – Если вы будете продолжать в том же духе, ваша милость, это не принесет пользы ни вам, ни ребенку. Перестаньте стенать. Я приняла уйму восьмимесячных детей, которые потом росли прекрасно. Много часов Екатерина промучилась, молясь о том, чтобы все это оказалось не напрасно. Дай Бог, чтобы столь продолжительные родовые муки были свидетельством здоровья ребенка. Потом страдалица уже не могла больше рассуждать, ей показалось, что она попала в какой-то длинный темный туннель боли и ее единственной целью было избавиться от этой беспощадной пытки. Все кричали, чтобы она тужилась, но, кажется, не понимали, что она нуждается в их помощи. Пусть сделают что-нибудь, облегчат ее мучения. Только ощутив, как ее тело сильно скрутило и будто разорвало надвое, Екатерина вспомнила, что дает жизнь ребенку, и натужилась изо всех оставшихся сил. Вскоре возникло болезненно-жгучее ощущение, что-то влажное проскользнуло между ног, и младенец был извлечен. Она слышала только тишину. Мария, сидевшая рядом с ее постелью, без чепца и с засученными рукавами, крепко держала ее за руку и качала головой. – Что там? – хрипло спросила Екатерина. – Мальчик, ваша милость, – ответила акушерка, перекладывая что-то на сундук в изножье кровати. – Принц! – слабым голосом произнесла Екатерина. – Я родила принца! Потом она осознала, что не слышала крика младенца. Постаралась приподняться и увидела на пеленке крошечное окровавленное тельце. Акушерка яростно растирала грудь младенца. – Дайте мне воды, – задыхаясь, приказала она. – Это может оживить его. Воду принесли, обильно обрызгали помятое синеватое личико ребенка. Он слабо кхекнул и больше не шевелился. – Нет! – закричала Екатерина. Крик перешел в долгий отчаянный вопль.
На этот раз Генрих был раздавлен и не мог скрыть своего отчаяния. – Чем я заслужил это? – стенал он. – Чем прогневил Бога? У Екатерины не было слов, чтобы успокоить или утешить его. Довериться она могла только Марии: каждую ночь после родов та просиживала у ее постели и говорила с ней о случившемся. – Я и так уже была в немилости, – плакала Екатерина, – и теперь я знаю, что любовь короля ко мне умерла. Он продолжает считать меня виновной в предательстве моего отца, как он это называет, и я боюсь, что потерю сына он объяснит каким-нибудь изъяном во мне. Но я так ждала этого ребенка, жаждала родить его! Я так хотела, чтобы он жил! – Я уверена, его милость понимает это. Вы оба пережили тяжелый удар, – сочувствовала Мария и сама при этом выглядела обезумевшей от горя. – Бог, должно быть, любит меня, раз посылает такие страдания, – рыдала Екатерина.
Однажды поздно вечером Мария доверительно сообщила Екатерине, что влюблена в удивительного человека и тот хочет жениться на ней. – Не могу поверить, что это наконец случилось! – сказала она Екатерине, и глаза ее засияли. – И кто же этот счастливый джентльмен? – Лорд Уиллоуби. Он хочет поговорить с вашей милостью. Екатерина была немного знакома с Уиллоуби – светловолосым гигантом с приятными манерами и тысячей акров земли. Это будет достойная пара. – С нетерпением жду встречи с ним, – проговорила Екатерина, стараясь принять довольный вид. – Я так счастлива за тебя, моя милая подруга. Ты заслуживаешь счастья. Но радость Марии едва коснулась сердца Екатерины – так велико было ее собственное горе. Пройдя церковное очищение, она была готова вернуться к придворной жизни. Но, посмотрев на себя в зеркало, увидела печальный призрак. Последняя беременность обезобразила ее: плотный лиф английского киртла уже не мог обеспечить прочную опору дряблой плоти, и фрейлинам пришлось изготовить испанский корсет vasquina, чтобы надевать его под сорочку и плотно зашнуровывать. Екатерина с болью сознавала, что рядом с Генрихом, который сиял зрелой красотой и был полон жизненной силы, она выглядит бледной тенью. Теперь Екатерина начала сокрушаться: ах, напрасно она выбирала себе фрейлин, обращая внимание на внешность, а не только на благородство происхождения. Больше они не дополняли ее, а подчеркивали недостатки: на их фоне она казалась старой. Тем не менее Екатерина осознавала, что нужно набраться смелости, чтобы жить дальше. Они с Генрихом оба старались не выказывать горя и изображали счастливую пару. В Рождество Генрих устроил маскарад в Гринвиче, и Екатерина всем своим видом выражала, что ее это очень радует. Когда король привел лордов и леди в масках в ее покои, чтобы устроить танцы, показалось, будто вернулись прежние времена. Она от души поблагодарила супруга за такой усладительный вечер и даже поцеловала, удивляясь собственной смелости. Генрих тут же поцеловал ее в ответ – это был настоящий, долгий поцелуй, и все присутствующие захлопали в ладоши. В эту ночь впервые за долгие месяцы он пришел к ней в спальню и был с ней нежен, даже страстен. На всю ночь Генрих не остался, но, когда он ушел, Екатерина лежала и думала, что его визит – это добрый знак. Они начинали все заново.
Сразу после Нового года пришло известие о смерти короля Людовика. Екатерина была мыслями с Марией: та овдовела, не пробыв замужем и трех месяцев. Судя по ее письмам, Людовик был любящим и снисходительным супругом, а потому Екатерина не знала, чувствовать ей облегчение или огорчаться за нее. Задумывалась она и о том, преодолела ли Мария свое увлечение Саффолком. – Складывается впечатление, что она его заездила, – сказал Генрих. Одетые в черное сообразно случаю, они обедали с Уолси в личных покоях короля. – По общим отзывам, это был нехороший человек, – сказал Уолси, – да упокоит Господь его душу, – и перекрестился. «Вот как? Вы же были его креатурой, – подумала Екатерина, – и, может быть, даже на жалованье». – Этот новый король – кузен Людовика, Франциск Ангулемский… Что мы о нем знаем? – поинтересовался Генрих. Екатерина почувствовала в нем внутреннее напряжение. В Генрихе уже взыграла ревность к своему неизвестному юному сопернику. Чего еще от него можно было ожидать, учитывая многолетнюю вражду Англии и Франции? – Он еще не король, сир, – ответил ему Уолси. – Пока неизвестно, носит ли ребенка сестра ваша королева. Глаза Генриха засветились. – Английский король на французском троне! Это бы мне очень подошло! Она написала, что отправилась в уединение. – Ее милость должна находиться в своих покоях сорок дней, за это время станет ясно, enceintre[12] она или нет. – Дай Бог, чтобы да! – воскликнул Генрих. – Аминь, – сказала Екатерина, – покончим с этим. Но мне жаль ее. Я слышала, во Франции покои овдовевшей королевы сплошь завешаны черным, даже окна. Она должна довольствоваться лишь светом свечей, носить белый траурный наряд и ни с кем не общаться, кроме своих фрейлин. – Держу пари, мать Франциска глаз с нее не сводит, – высказал предположение Генрих. – Стремления мадамЛуизы всем хорошо известны, – заметил Уолси.
Обнаружилось, что Марией интересуется не только мадам Луиза. Вскоре Генрих начал получать от сестры все более истерические письма с жалобами на то, что и сам Франциск зачастил к ней с визитами, и она теряется в догадках, каковы его намерения. Вполне вероятно, они не слишком достойны, а если так, одному Богу известно, какая участь ее ждет, и, если ее любимый братец не пришлет посланников, которые отвезут ее домой, она не знает, что ей делать, он даже не представляет себе, в каком затруднительном положении она оказалась, боясь обидеть короля Франциска, ведь, Бог свидетель, она не беременна, а значит, он законный король, но она боится, что его замыслы окажутся пагубными для Генриха и Англии и особенно для нее, так как для него она всего лишь пешка на политической шахматной доске, поэтому пусть Генрих изыщет способ немедленно вернуть ее домой, пока не случилось что-нибудь ужасное, и если он этого не сделает… Последнее письмо Генрих смял и опустил голову на руки: – Был ли когда-нибудь человек зажат в такие тиски? Она хоть и в истерике, но рассуждает здраво, моя любимая сестрица. – И он показал Екатерине, что написала Мария. – Я бы не доверяла Франциску и французам вообще, – сказала Екатерина после долгой паузы. – Не хотела бы я оказаться на ее месте. Это, должно быть, невыносимо. – Она не останется в таком положении, – заявил Генрих, вставая. – Ясно, что Франциск намерен выдать ее замуж к своей выгоде. Ну так меня это не устраивает. Если кто-нибудь и найдет для нее мужа, так это я! Конечно, не время было напоминать Генриху о его обещании, данном Марии перед отплытием во Францию, что она может сама выбрать себе следующего супруга. Но из всех возможных кандидатов Генрих почему-то выбрал именно Саффолка и отправил его в Париж, чтобы тот препроводил Марию домой.
Екатерина думала, ей никогда не забыть гнева Генриха. При попустительстве французского короля Саффолк тайно обвенчался с Марией. Оставалось только радоваться, что ее золовка не видела этого взрыва ярости. – Но, Генрих, вы обещали, что она может сама выбрать своего следующего супруга, – увещевала мужа Екатерина, пораженная таким доселе невиданным проявлением королевского нрава Тюдоров. – Я сама это слышала. Спорить с ним было бесполезно. Раньше его недовольство супругой выражалось в холодной ярости, теперь же Генрих раскалился добела. – Кейт, вы что, дура? – взревел он. – Незамужняя Мария была для меня политическим капиталом. Она могла бы обеспечить Англии важный союз с какой-нибудь страной и дать значительные преимущества. – Они любят друг друга. Генрих фыркнул: – Много радости они получат друг от друга, когда я покончу с ними! Я любил Саффолка, он был моим добрым товарищем, я продвинул его по службе, осыпал милостями. И вот чем он отплатил мне! Самой черной неблагодарностью! – Генрих расхаживал по комнате взад-вперед. – Сын рыцаря, как бы ни гордился он своим родом и герцогством, не пара моей сестре! Сказав это однажды, Генрих повторил те же слова бессчетное количество раз, вернее, прокричал каждому, кто оказывался поблизости. Не было предела карам, которые он намеревался обрушить на несчастного Саффолка, как только тот вернется в Англию. Дошло до того, что Генрих пообещал лишить его головы, раз так… Он грозился отправить Марию в Тауэр и даже начал пинать мебель. Екатерина не спорила с ним. Он был похож на разъяренного быка, каких она видела ребенком на арене в Испании, урезонить его было невозможно. Даже Уолси держался в стороне. Но тайком работал над устройством примирения. Именно Уолси в конце концов унял Генриха и смирил разбушевавшиеся воды. Надо отдать ему должное, он добился этого очень дипломатично. Супруги Саффолк согласились выплатить баснословного размера штраф и отдали Генриху «Зерцало Неаполя». Как по волшебству Генрих пришел в доброе расположение духа и соблаговолил вернуть им свою милость. Виновникам скандала разрешили возвратиться домой.
Для Екатерины эта весна стала особенной из-за живых картин, которые Генрих устроил для венецианского посла по случаю Майского праздника. Одетая в роскошное испанское платье алого бархата, она ехала верхом рядом с королем во главе длинной свиты; они направлялись в Гринвичский парк, в котором располагалось тайное место празднества. Генрих напускал на себя все больше таинственности и, по правде говоря, едва сдерживался, но тут впереди открылось свободное пространство, и они оказались на поляне, уставленной столами с богатым угощением. – Добро пожаловать в убежище Робин Гуда, дамы и господа! – в возбуждении выкрикнул Генрих. – Мы в самом сердце Шервудского леса и будем веселиться! Это была его любимая тема, он возвращался к ней снова и снова. Вдруг как по команде звонко запели птицы – Екатерина приметила развешанные среди ветвей деревьев клетки. Мелодичные звуки гобоев, крамхорнов, лютней, свирелей, переносных органчиков, дудок и тамбуринов доносились из-под увитых листвой навесов, где играли невидимые гостям музыканты. Потом из лесу вышли Робин Гуд и его веселые друзья, одетые в знакомые зеленые костюмы из линкольновской ткани, как принято у веселых разбойников, и с луками в руках. – Милостивые государи, добро пожаловать в лес, заходите и смотрите, как живем тут мы, разбойники! – провозгласил Робин Гуд. Екатерина опознала Уильяма Корниша, человека из ближнего круга Генриха, талантливого музыканта и устроителя пиров. Оживленно переговариваясь, все расселись за столы; королю и королеве подали сочную оленину. – Наверняка настреляли без спроса в моих королевских лесах! – усмехнулся Генрих и поднял кубок с вином за хозяев праздника. После этого для развлечения иностранных гостей было устроено состязание в стрельбе из лука. Генриху, разумеется, пришлось принять в нем участие, и, само собой, он победил. Кульминацией вечерних забав стало венчание на царство Королевы Мая – милой смешливой Урсулы, дочери Маргарет Поул. Девушка сильно покраснела, когда Генрих возложил ей на голову венок из листьев. Тем и завершился этот волшебный день, пришла пора возвращаться во дворец. Целая вереница золоченых триумфальных колесниц, украшенных фигурами гигантов, дожидалась гостей, чтобы доставить их обратно. Пока участники торжества отъезжали в сопровождении королевской стражи, продолжала звучать музыка и все пели. Слух о пире в лесу распространился по округе, многие местные жители сбежались посмотреть на это представление. В последней колеснице сидели улыбавшиеся и махавшие руками Генрих и Екатерина, и по дороге к дому за ней следовала тысячная толпа. А потом вернулась Мария Тюдор, блиставшая красотой и купавшаяся в любви своего мужа. Оба супруга смиренно опустились на колени перед Генрихом, он великодушно простил их и заключил в объятия. – Забавно, что Генрих думал, будто это злодейский умысел Чарльза, – поделилась с Екатериной Мария, – но это я сама принудила его к браку. Предупредила: если он откажется, уйду в монастырь. И много плакала… – При этом воспоминании Мария лукаво улыбнулась. Через неделю состоялась еще одна свадьба – в Гринвиче, на этот раз со всеми королевскими атрибутами, как полагается. Генрих не мог допустить, чтобы его сестра была выдана замуж украдкой и все ограничилось проведенной в Париже тайной церемонией. Нет, ее полагалось провести со всем великолепием, достойным принцессы из дома Тюдоров! Ему самому хотелось покрасоваться перед всем светом в новом наряде из золотой парчи и похвалиться «Зерцалом Неаполя». С почетного места у алтаря в церкви францисканского монастыря, где когда-то отслужили брачную мессу и для нее, Екатерина наблюдала за тем, как жених и невеста дают обеты. Подумать только: прошлым летом Мария была в полном отчаянии, ожидая брака с нелюбимым. Как же круто повернулось колесо Фортуны! Теперь, когда Людовик умер, Марии удалось устроить возвращение Джейн Попинкур во Францию, и та уехала, радуясь возможности воссоединиться со своим любовником. Екатерина была очень довольна, что и Мария, и Джейн обрели счастье. Отношения Генриха с сестрой наладились.
Глава 16 1516–1517 годы
– Прекрасная здоровая девочка, ваша милость! – светясь от счастья, объявила акушерка и благоговейно положила на протянутые руки Екатерины завернутого в пеленки младенца. Опустив взгляд на маленькое личико, изумленная Екатерина обнаружила миниатюрную копию себя самой – тот же вздернутый носик, твердый подбородок, похожие на бутон розы губы и широко распахнутые глаза. Но рыжие волосы роднили девочку и с Генрихом тоже. Новорожденная была истинной Тюдор и настоящей Трастамара. И все же какое разочарование, что не сын! Малышка громко кричала и подавала все признаки того, что выживет. Потеряв четверых детей, Екатерина считала чудом, что держит на руках здорового младенца. Она не переставая благодарила Бога за бесценный дар и не могла оторвать глаз от милого маленького личика. Чудо это случилось в пятом часу темного февральского утра. Гринвичский дворец еще был погружен в тишину ночи. Но как только Екатерину вымыли, одели в чистую ночную рубашку и уложили на ложе под балдахином, человек был послан разбудить короля и передать ему, что у него родилась дочь. Не прошло и нескольких минут, как Генрих прилетел – в халате на меху и с перекошенными полами, выдававшими спешку. Не веря своим глазам, застывший Генрих смотрел на Екатерину с младенцем на руках. – Хвала Всевышнему! – воскликнул счастливый отец и бросился целовать жену. Когда он взял на руки дочь, фрейлины смотрели на него, лучась улыбками, но при этом утирали слезы. – Здоровая, крепенькая принцесса! – провозгласил Генрих исполненным чувства голосом. – Да благословит и да хранит тебя Господь во все дни твоей жизни, моя малютка! – Он посмотрел на Екатерину. – Вы справились, Кейт, и справились очень хорошо. Это прекрасная девочка. Надеюсь, с вами все в порядке? Екатерина улыбнулась, с упоением глядя, как ее супруг качает на руках ребенка. – Я устала, но очень рада, что все прошло благополучно. Я была бы совсем счастлива, если бы родила вам сына. Генрих покачал головой: – Главное, что ваши мучения позади, все окончилось хорошо и у нас есть здоровый ребенок. Мы оба молоды. Даже если на этот раз родилась дочь, по милости Божьей за ней последуют сыновья. Мы назовем ее Марией в честь Пресвятой Девы. Вас это радует? – Лучше не придумать, – радостно согласилась Екатерина. – И это в честь вашей сестры. – Мы устроим роскошные крестины в церкви францисканцев. Маргарет Поул будет восприемницей. Но мы можем обсудить это позже. А сейчас вам надо отдохнуть. Где няня? – Вперед вышла женщина, и король передал ребенка ей на руки. – Положите девочку в колыбель и качайте ее, чтобы малышка сладко спала. – Генрих встал. – Благословляю вас, Кейт! – Он наклонился еще раз поцеловать жену. – Я навещу вас, когда вы оправитесь.Когда Екатерина начала садиться после родов, в числе первых ее навестила герцогиня Саффолк, больше известная как «королева Франции». Екатерина испытывала облегчение оттого, что, пролежав несколько дней пластом, могла наконец-то сесть прямо. Еще больше обрадовалась она, увидев склоненное над собой улыбающееся лицо милой Марии. За последние месяцы они очень сблизились. – Какой прелестный младенец! – воскликнула «королева Франции», заглядывая в просторную колыбель и откидывая в сторону парчовое покрывало. Малютка Мария, спеленутая и в чепчике, сладко дремала. – Надеюсь, Господь сподобит меня произвести на свет такого же милого ребенка! Сама «королева Франции» уже была близка к тому моменту, когда ей придется удалиться в личные покои, и Екатерина быстро предложила своей гостье сесть. – Весь двор ликует, – сказала «королева Франции». – Во всей Англии радость по случаю рождения принцессы. – Нам это тоже принесло много радости, – поддержала разговор Екатерина. – Мы с Генрихом снова любим друг друга, как прежде. – Я знаю, последние два года были нелегкими, – заметила ее золовка. – Даже Людовик сочувствовал вам. Он понимал, что союз с Францией плохо на вас отразится. – Виной тому не только союз… Генрих винил меня за мнимое предательство моего отца. – Он поступал несправедливо. Мне жаль, что я ничем не могла помочь. Я знала, что для вас настали тяжелые времена, но ведь невозможно судить брата, к тому же мне хватало своих забот. Я боялась покидать Англию и все, что мне дорого, ради брака с Людовиком. Екатерина пожала руку Марии: – Но он оказался не таким уж плохим мужем. «Королева Франции» вздохнула: – Он был очень добр. Устроил столько праздников в мою честь, был щедр и проявлял любовь ко мне. Он говорил, что я его рай, можете в такое поверить? И все время извинялся за то, что здоровье не позволяет ему принимать участие во всех торжествах. К нему легко было привязаться. Я этого не ожидала. А все прочее… – Мария слегка покраснела. – Было не так уж плохо, если не считать того, что Людовик без конца похвалялся, мол, он три раза переплыл реку в нашу брачную ночь! Этого не было, но я не собиралась ничего отрицать. Конечно, я чувствовала себя неловко, но это ничто в сравнении с тем, что пришлось вынести бедной Шарлотте д'Альбре, когда она вышла за Чезаре Борджиа. За ними подсматривали в замочную скважину. И их брак совершался шесть раз! Говорят, я уморила Людовика в постели, но это очень далеко от истины. В продолжение нашего недолгого супружества бóльшую часть времени он был болен. – Бедный Людовик! Но я рада, что он был добр к вам. – Екатерине было неловко обсуждать такие интимные подробности. Лучше бы они оставались секретом тех двоих, кого касались. – Но теперь вы счастливы, – добавила она, меняя тему. – Никогда не была счастливее, – заявила «королева Франции», и глаза ее заискрились. – Главное, что Генрих по-настоящему простил нас. Мне бы хотелось чаще бывать при дворе и видеться с вами. Но вы ведь понимаете, мы не можем себе этого позволить. Екатерина знала: у Саффолков уйдут годы на то, чтобы выплатить долг Генриху. – Сейчас вы здесь, – сказала она и протянула руку, – я очень этому рада. В последние несколько дней мне все время хотелось плакать. Это глупо, когда я так счастлива, но повитуха говорит, это нормально в такое время. Генрих был восхитителен. Он приходил два раза на дню, чтобы повидаться со мной, и он обожает Марию. Вам надо увидеть его с малышкой на руках! Представив себе эту картину, Екатерина улыбнулась. И все же она чувствовала: Генрих что-то утаивает от нее. Сомнений в его радости при виде дочери не было, но Екатерина подозревала, что он таит в душе недовольство, сожалеет, что родился не сын. Она не могла винить его, ведь это было так естественно: король озабочен проблемой наследования власти, да и всякий мужчина, правитель он или йомен, хочет иметь мальчика – продолжателя рода. Однако Екатерина, дочь Изабеллы Кастильской, иногда удивлялась про себя: почему так важно, чтобы правителем был именно мужчина? Ее мать была великой королевой, и с Божьей помощью Мария унаследует способности Изабеллы, а потому сама Екатерина не видела убедительных доводов, почему ее дочь не могла бы править. Но говорить об этом Генриху пока рано. Этот разговор она отложит до удобного момента.
После вечерни Генрих вновь пришел ее навестить. Ребенок спал – такая милая крошка, и Екатерина сидела высоко, опираясь спиной на подушки. Пыталась читать молитвенник, но бóльшую часть времени глядела обожающим взглядом на колыбель. Увидев в дверях Генриха, она отложила книгу: от его присутствия комната будто осветилась. Он присел на кровать и взял Екатерину за руку: – Я надеюсь, вы сегодня чувствуете в себе больше сил, дорогая. – Да. Слава Богу, я не бросаюсь в слезы по всякому поводу. Надеюсь, скоро мне позволят встать. Не терпится вернуться к обычной жизни. Генрих улыбался одними губами, глаза не светились весельем. Вообще, он казался рассеянным. – Кейт, – начал Генрих, – есть новости, которые я не хотел передавать вам, пока вы не окрепнете достаточно, чтобы их вынести, но чувствую, что не должен и дальше утаивать их от вас. Ваш отец умер, да упокоит Господь его душу. Екатерина заплакала. Это были настоящие слезы, рожденные горем, а не женскими капризами. Невероятно грустно было потерять человека, который всю жизнь был для нее путеводной звездой, видеть такое величие обращенным в прах. Грустно, что Фердинанд ушел как раз в тот момент, когда они с Генрихом помирились. На это потребовалось много времени, но прошлой осенью гнев Генриха перегорел, и между супругами заново установилось согласие. Генрих ясно дал понять, что больше никогда не будет ходить на поводу у Фердинанда. – Я никому не позволю управлять собой, – говорил он. Но к тому моменту Екатерине хватало для счастья уже того, что двое самых дорогих для нее мужчин больше не враждовали. Восшествие на престол нового короля Франции немало этому поспособствовало. Король Франциск был на три года моложе Генриха – элегантный, получивший хорошее образование, печально известный распутством и невероятно богатый. Его двор уже стал самым блестящим во всем христианском мире, это был центр притяжения для художников, ученых и прекрасных женщин, а сам монарх в делах политических успел проявить себя столь же коварным, как и все его хитромудрые предки. Генрих завидовал, и немало. Ведь он больше не был ни самым молодым, ни самым красивым, ни самым популярным монархом в Европе. С самого начала, особенно после того, как ему сказали о попытках французского короля соблазнить его сестру, пребывавшую в трауре, Генрих проникся к Франциску недоверием и неприязнью. Ревность была взаимной, и между двумя монархами возникло острое чувство соперничества. Генрих намеревался доказать, что он – наилучший король во всех отношениях. Екатерина стала свидетельницей неловкой сцены, когда ее супруг спросил венецианского посла, действительно ли король французов так же высок, как он. – И так же крепок? Какие у него ноги? – Худые, ваша милость. – Взгляните! – торжествующим голосом провозгласил Генрих. – Какие у меня прекрасные икры! – И он радостно продемонстрировал свои ноги красивой формы и с рельефными мышцами, чем крайне сконфузил посла. Радостно предвкушая новую войну с Францией, Генрих распорядился о постройке нескольких больших кораблей для военного флота. Это был предмет особой гордости короля. Екатерина ездила с ним в Саутгемптон, и они поднимались на борт «Henry Grace à Dieu» и «Mary Rose»[13]. Генрих, одетый в матросскую куртку и короткие штаны из золотой парчи, в тот день пребывал в отличном настроении. Он радовался, как мальчишка, играющий в кормчего, свистел в свисток так громко, будто дул в трубу, оглушая всех вокруг. Это был счастливый день. Само собой разумеется, король отвернулся от Франции и вновь стал искать дружбы Испании. Екатерина была преисполнена радости, ибо Генрих снова стал любящим супругом. Теперь она сопровождала его во время праздников и пиров, пользовалась его полным вниманием, придворные доискивались ее милостей, и Бесси Блаунт робко стояла среди остальных фрейлин. Но что будет дальше?
Генрих поддерживал ее, был с ней нежен, пока она не выплакала свое горе. Она сокрушалась, что не может рассказать отцу о том, что наконец-то родила здорового ребенка. А ведь как раз собиралась написать ему и сообщить радостную весть. И вот Господь дарующий забрал, и в какое время! Он послал ей ребенка в утешение. Эта мысль успокоила Екатерину. – Что же теперь будет? – спросила она, расшнуровывая платье и откидываясь на подушки. – Ваш племянник Карл унаследовал корону всей Испании и Неаполя. В шестнадцать лет он возьмет власть в свои руки. Номинально он является соправителем Кастилии вместе с вашей сестрой Хуаной, но на самом деле будет править один. – Он получит богатое наследство. – В один прекрасный день он станет самым могущественным владыкой во всем христианском мире. Когда Максимилиан умрет, Карл получит Нидерланды и Австрию, а потом, возможно, станет императором. Слава Богу, что вы его тетка и у нас прочные торговые связи с Нидерландами, потому что нам потребуется его дружба. – Я думаю о нем как мать, раз уж Хуана не может быть для него матерью. И хотя я бы все отдала, чтобы увидеть своего отца живым, но объединение – это благо для Испании. – Это очень хорошо, – подтвердил Генрих. – Прежде я не говорил вам, что после смерти вашей матери, когда ваш отец перестал быть королем Испании и превратился всего лишь в короля Арагона, мой отец заставил меня тайно отречься от помолвки с вами, потому что рассчитывал женить меня на более именитой принцессе. Но я не отказывался от вас все эти годы, и теперь вы снова испанская принцесса. – Я этого не знала! Помню, как меня огорчала его холодность, казалось, он собирается вечно держать нас в разлуке. Теперь все ясно – и перемена вашего отца ко мне, и его требования к моему отцу. Я никогда не могла понять, почему он так недобр ко мне, хотя прежде ему не терпелось выдать меня за Артура. – После смерти матери мой отец изменился. Его сердце очерствело. – Генрих горько усмехнулся. – Надеюсь, я поправил дело, Кейт. И вот что, Кейт… – Он помолчал, потом сжал ее руку. – Я наговорил вам много резкостей о вашем отце и о вас. Теперь я очень сожалею об этом, очень. – Они забыты, – сказала Екатерина, думая о том, что горести тоже могут породить благо.
Той весной Екатерина вместе с Генрихом радостно встречала посла короля Карла в Англии. Ее супруг выглядел просто великолепно – восседал на позолоченном троне в шапочке из алого бархата, полосатом дублете из красно-белого атласа и алых шоссах. Мантия из пурпурного бархата тяжелыми складками спадала к его ногам. С широкой цепи свисал бриллиант размером с крупный лесной орех. С радостью Екатерина устраивалась рядом с мужем во главе стола на пиру в честь посланника. Правда, застолье продолжалось семь часов, и она думала, что лопнет от такого количества жирной пищи. С удовольствием она занимала место на королевском балконе во время турниров по случаю приезда ее соотечественников. Вместе с ними и «королевой Франции» любовалась, как Генрих искусно выделывает трюки верхом, от которых дух захватывало. Все пораскрывали рты от изумления, когда его боевой конь, по кличке Говернаторе, неутомимо выполнял совершенно невероятные прыжки, надолго зависая в воздухе. Потом, сменив лошадь, король, ко всеобщему удовольствию, заставил свежего скакуна прямо парить над землей. Пиры, турниры, обеды в тесном кругу в покоях королевы – Генрих оказывал ее землякам всевозможные почести. В главном зале состоялся роскошный прием. Екатерина гордо поглядывала на всех, пока Генрих со светящимся от удовольствия лицом показывал посланникам малютку Марию. Единственным облачком, омрачавшим ее небосвод, было присутствие вездесущего Уолси. В прошлом году папа сделал его кардиналом – слишком большая честь для такого заносчивого плута, погрязшего в мирских страстях. Потом Генрих назначил его лорд-канцлером, невероятно приумножив власть своего любимца. Когда Уолси важно шествовал по двору, в мантии из красного шелка, с тяжелой золотой цепью на шее, Екатерина наблюдала за этим со все растущим возмущением. Она знала, что Уолси не допустит усиления ее влияния на короля до прежнего уровня. Генрих был слишком занят развлечениями, проматывая отцовские сокровища; больше, чем когда-либо, он желал препоручить государственные дела чьим-нибудь опытным рукам. Кардинал теперь буквально правил страной, и сердце Екатерины сжималось при мысли, с какой легкостью Генрих позволяет ему делать это. Луис Карос не замедлил выразить свою озабоченность. – С его милостью теперь невозможно поговорить, – сказал он, отводя Екатерину в сторону после безуспешной попытки встретиться с королем. – О любом важном деле прежде всего надо докладывать кардиналу, а не королю. Ваше высочество, что бы вы ни делали, остерегайтесь разозлить этого человека. – Я не собираюсь злить его, – заверила посла Екатерина. У нее имелись свои способы, как сделаться незаменимой для Генриха, и, если Господь в следующем году пошлет им сына, ее позиции упрочатся. Поэтому, когда Уолси пригласил ее и Генриха осмотреть его новый дворец Хэмптон-Корт, она решила натянуть на лицо улыбку. Однако, когда его преосвященство, облаченный в яркий, безвкусный наряд, распираемый гордостью, неимоверно суетясь, показывал ей свою огромную резиденцию из красного кирпича, личные апартаменты, отделанные позолоченными резными панелями, с масштабными стенными росписями работы итальянских мастеров, с потолками, покрытыми изящной золоченой резьбой, комнаты для тысяч слуг и разные другие чудеса, Екатерина кипела от ярости – этот дом кардинала был намного роскошнее и величественнее любого королевского дворца. И Уолси легко мог позволить себе такую расточительность, потому что король проявлял к нему сказочную щедрость. Но слуге не подобало выглядеть богаче своего господина! Екатерина видела, с какой завистью Генрих смотрел на показанную им роскошь. Было похоже, что их мысли совпадают. Однако, когда их в барке везли обратно в Гринвич, король был в приподнятом настроении и не подавал виду, что хоть немного завидует Уолси. – Посещение Хэмптон-Корта заставило меня по-другому взглянуть на собственные жилища, – сказал он. – Многие из них требуют ремонта. Я намерен расширить и приукрасить Гринвич, Ричмонд и Элтем, и очень скоро они превзойдут великолепием Хэмптон-Корт. Они высадились на берег уже в сумерках и шли по саду при свете факелов, которые несли за ними слуги. Потом из вечерней темноты раздался мужской голос, который пропел очень внятно, так что, несмотря на разговоры, все услышали:
Екатерина полагала, что Генрих будет рад принять свою сестру Маргариту Тюдор, королеву шотландцев, но, судя по всему, радости это ему не доставило. Разумеется, он обставил ее приезд пышно: сам отправился в Тоттенхэм встречать беглянку, взял с собой смирную верховую лошадь, которую послала для золовки Екатерина. Генрих сопровождал сестру, процессия двигалась по столице, при этом оба благосклонно принимали восторженные приветствия глазевшей на них толпы: король в расцвете сил и красоты и бедная, перенесшая много невзгод шотландская королева, вынужденная бежать из страны, ставшей для нее второй родиной, после того как местная знать лишила ее регентства. Вернувшись в Гринвич, Генрих воссоединился с двумя своими сестрами. Глядя, как они весело пируют и рассказывают друг другу о своей жизни за последний десяток лет, никто не догадался бы, что Генрих очень сердит на Маргариту. – Ее место – рядом с мужем, – сказал он позже, когда они с Екатериной лежали в постели. – Да, я знаю, с ней плохо обходились в Шотландии, несправедливо лишили должности и отняли у нее сына-короля, – мой Бог, она беспрестанно жалуется на это. Но она сама настояла на поспешном браке с графом Ангусом. Знала, что лорды ненавидят его. Бог свидетель, это было худшее, что она могла сделать. – Ее заключили в темницу, – заметила Екатерина. – Вынудили бежать в Англию, когда ей пришло время рожать. Удивительно, что она не потеряла ребенка. – Да, и поэтому я должен оказать ей помощь, ведь нельзя же позволять им так обращаться с моей сестрой. Но я измучен ее многолетними жалобами. Вы не представляете, Кейт, что я вынес, и я не стану нагружать вас подробностями. А теперь мне придется мирить ее с шотландскими лордами. Как будто у меня своих забот мало! Екатерине стало жаль Маргариту. Она понимала, что граф Ангус оставался со своей женой лишь до тех пор, пока та не родила от него ребенка, а потом умчался обратно в Шотландию в надежде обеспечить себе регентство. Дочуркой Маргариты и ее тезкой Екатерина восхищалась. Девочку поселили в Гринвиче в королевской детской и растили вместе с принцессой Марией. Генриху племянница, которая была на пять месяцев старше его собственной обожаемой дочери, тоже полюбилась. Он ласково называл ее Маргет. Кузины были похожи друг на дружку, и Екатерине нравилось представлять себе, что они уже подружились. Много счастливых часов провела Екатерина со своими золовками – французской и шотландской королевами. У этих трех королев было много общего. Маргарита потеряла пятерых детей младенцами и прекрасно понимала, что выстрадала Екатерина. Все три познали большую любовь и недавно стали матерями. Екатерина, держа на коленях Марию, с завистью смотрела на «королеву Франции», которая с гордостью показывала всем своего новорожденного сына, названного в честь короля Генрихом. Сестринская идиллия длилась недолго. «Королева Франции» не могла позволить себе задерживаться при дворе и должна была отправиться домой, а Маргарите Генрих предоставил Скотланд-Ярд – лондонский дворец королей Шотландии. – Я не оставлю ее при дворе, чтобы она продолжала изводить меня своим нытьем! – заявил он. Мария де Салинас тоже покидала двор. Получив права подданной английского короля, она собиралась выйти замуж за лорда Уиллоуби. Мария вся сияла, она с головой ушла в любовь, и Екатерина радовалась, что ее подруга наконец-то нашла себе достойную пару. – Ох, я буду скучать по тебе, моя дорогая, – сказала она, обнимая на прощание свою наперсницу. – Ты так много пережила вместе со мной за прошедшие пятнадцать лет. – Я тоже буду скучать по вас, ваше высочество, – со слезами на глазах ответила Мария, – но мы можем навещать друг друга. Я буду приезжать ко двору как можно чаще, и надеюсь, ваша милость посетит нас в нашем новом доме в Линкольншире. Король подарил супругам на свадьбу замок Гримсторп. – Охотно! – согласилась Екатерина. – Лорд Уиллоуби! – (Крупный, представительный мужчина с добрыми глазами выступил вперед и поклонился.) – Я знаю, вас не нужно просить хорошо заботиться о моей Марии, вы и так будете это делать, но я прошу вас иногда отпускать ее ко мне. Она была моим верным другом. – Мадам, для меня будет большим удовольствием привозить Марию ко двору, когда бы вы ни пожелали этого, – ответил добряк Уиллоуби. После множества поцелуев и объятий они уехали, и Екатерина почувствовала себя брошенной. Но по крайней мере, Мария была счастлива со своим Уильямом. К счастью, у Екатерины оставались малышка Мария, которая занимала все ее мысли, а также Маргарет Поул и Мод Парр – они должны были заменить уехавшую. Мод теперь имела постоянное жилище при дворе и проводила время частью здесь, а частью – в доме мужа на Стрэнде, где следила за воспитанием детей. Генрих вернул Маргарет Поул графство Солсбери, которое было образовано стараниями ее благородных предков. С улучшением положения матери умный и весьма одаренный сын Маргарет Реджинальд был избавлен от печальной участи влачить жалкое существование в аббатстве Сион. Одаренный особым покровительством Генриха, он теперь обучался в Оксфорде за счет короля. Екатерина подозревала, что ее супруг, как и она сама, чувствует потребность загладить вину перед семейством Поул за те незаслуженные горести, которые им пришлось пережить в прошлом, хотя он никогда не признался бы в этом. Король всегда хвалил Маргарет Поул. – Она самая праведная женщина в Англии! – говорил он. – Я знаю всего нескольких леди, столь же набожных и ученых, и одна из них – вы, Кейт! Генриха не беспокоило, что новоиспеченная леди Солсбери принадлежала к древнему королевскому роду, потому что ее преданность монарху была всем известна. Екатерина любила проводить время с Маргарет за разговорами о детях. Старшая по возрасту и более опытная женщина давала советы, когда Екатерина нуждалась в них, и даже Генрих с упоением слушал ее. – Я всегда считала, что не стоит кормить грудью до двух лет, – сказала Маргарет однажды утром. На улице было холодно, осень оставила на листьях деревьев ржаво-красный налет. Они втроем стояли в королевской детской, Екатерина держала на руках Марию и целовала ее пушистую рыжую головку. – Пока вашей милости не стоит беспокоиться об этом! Но какая же милая, сладкая крошка моя крестница! – Она воистину наше благословение, – сказала Екатерина, крепко обнимая малышку. Леди Брайан, по-матерински заботливая гувернантка Марии, поймала ее взгляд и с улыбкой кивнула: – Это и правда так, ваша милость. С ней никаких хлопот – такой принцессой можно гордиться. Генрих взял Марию из рук матери и поднял ее высоко в воздух, отчего девочка радостно завизжала. – Эта малышка вчера проявила себя как нельзя лучше, – сообщил король. – Когда я показывал ее венецианскому послу и тот поцеловал ей ручку, она вела себя по-королевски. Я сказал ему, что она никогда не плачет. – Это правда, сэр, – заметила леди Брайан. – Это самый довольный ребенок, какого я когда-либо видела. – Она посмотрела на органиста и сказала: «Поп! Поп!» – поделился новостью Генрих. – Правда, моя маленькая леди? Мария засмеялась, показывая три новых жемчужных зубика. – Леди Брайан, вы воспитываете ее очень хорошо, – похвалила гувернантку Екатерина. – При таких родителях у нее наследственная грация. Радостно видеть, как она любит своего отца, – сказала наставница. – Каждый раз, завидев его милость, она подскакивает у меня на коленях. – Бог не мог послать нам лучшего ребенка, – заявил Генрих, передавая Марию Маргарет Поул, к которой маленькая девочка очень быстро привязалась. Позже, когда Генрих ушел и Екатерина прогуливалась с Маргарет по осеннему саду, та делилась с ней планами относительно замка Уорблингтон. Королева была задумчива: она размышляла обо всех своих невыживших детях. Какими бы они были? Екатерина помимо воли представила себе, как они носятся по аллеям, возятся в беседках, радуя сердце матери, здоровые и счастливые наследники английского престола. – Если Бог пошлет нам сына, я буду совершенно счастлива, – сказала она. – Ваша милость молоды. У вас еще много времени. – Вы счастливица, Маргарет. У вас было пятеро сыновей и дочь, когда вам еще не исполнилось тридцати. Мне уже тридцать, и у меня всего одна дочь. – Запаситесь терпением и молитесь, мадам. Я уверена, ваши молитвы будут услышаны. И тут у Екатерины зародилась идея. Она знала о недоверии Генриха к своим родственникам Плантагенетам. По примеру отца он рассматривал их как угрозу своей безопасности на троне, боялся заговоров с их стороны. – Некоторые из них больше всего на свете хотят восстановления дома Йорков, – однажды поведал он супруге. – Считают нас, Тюдоров, узурпаторами. Они забыли, что мой отец женился на законной наследнице дома Йорков. Говорю вам, Кейт, я не потерплю никаких притязаний на мою корону! Три года назад именно за такое преступление он казнил своего кузена Эдмунда де ла Поля, предыдущего герцога Саффолка. Тем не менее за границей скрывался отправленный в изгнание брат де ла Поля, Ричард, которому нравилось называть себя Белая Роза. Генрих был уверен, что в позапрошлом году он пытался вторгнуться в Англию из Бретани, хотя было заявлено, что целью вторжения являлась защита герцогства. – Я слежу за ним, – рычал Генрих, – и не удивлюсь, если этот лис, король Франциск, предложил ему поддержку лишь для того, чтобы подразнить меня, как делал Людовик! За прошедшие годы были обезврежены несколько других соперников короля, а их дети еще не доросли до того, чтобы представлять угрозу. Но когда они повзрослеют, то могут свернуть на ту же дорожку… Екатерина размышляла. Ей представлялось, что есть способ покончить с этим соперничеством – лучший, чем все придуманные доселе. – Маргарет, – сказала она однажды, отрываясь от вышивания, – вам не кажется, что брак Реджинальда с принцессой гармонично свяжет старую королевскую линию с новой? Это будет похоже на союз между родителями короля – объединение Ланкастеров и Йорков, а оно положило конец гражданской войне. Узы между домами Тюдоров и Плантагенетов укрепятся, и наши семьи свяжет вечная любовь. Маргарет смотрела на королеву, и на ее продолговатом бледном лице отображалось движение чувств. – Знаете, мадам, – сказала она, расплываясь в улыбке, – иногда я думаю, что лучше бы заниматься политикой предоставили нам, женщинам!
Рассвет майского дня 1517 года выдался золотисто-розовым, что предвещало прекрасную погоду. Дворцовые слуги были на ногах уже несколько часов, готовясь к дневным торжествам. Генрих выбрал место в парке Элтема, откуда открывался впечатляющий вид на Лондон, и там под деревьями были накрыты столы для королевского пикника. Неподалеку на поросшей вереском пустоши мирно паслись олени с молодым выводком; сегодня охотники их не потревожат. Екатерина сидела в мягком кресле, зажав в руке письмо лорда Уиллоуби. Она была рада за Марию, с трепетом читала, какие у нее новости, но отчаянно завидовала ей и ненавидела себя за это. Потому что Мария родила своего первого ребенка – здорового сына, которого они с Уильямом, разумеется, назвали в честь короля. Лорд Уиллоуби спросил, не соблаговолят ли их милости оказать им честь быть восприемниками дитяти. О, конечно, конечно, они соблаговолят, и Екатерина собралась отправить своего священника Хорхе де Атеку, назначенного Генрихом епископом Лландаффа, провести обряд крещения. И все же она не могла удержаться и не сравнивать себя со счастливицей Марией. Казалось несправедливым, что ее подруга с такой легкостью и так скоро родила сына, а все сыновья самой Екатерины умерли. О чем только думает Господь? Генрих повернулся к ней: – Очнитесь, Кейт! Отведайте вот этого пирога. Он восхитителен! Генрих жевал с очень довольным видом и сам наполнил тарелку Екатерины, не понимая, какие противоречивые чувства ее взволновали. Стоит ли сообщать ему новости Марии? Не хотелось портить его жизнерадостное настроение. Они только что покончили со второй переменой блюд и им заново наполнили кубки, когда Екатерина краем глаза заметила, как к ним мчится Уолси, похожий на галеон под алыми парусами. За ним по пятам семенили несколько личных помощников. – Ваша милость, – задыхаясь, возгласил кардинал, как только оказался в пределах слышимости, – в городе беспорядки! Подмастерья ополчились на иностранцев. Генрих вскочил на ноги. За миг до этого он смеялся, но сейчас его лицо стало мрачнее тучи. – Боже, как они смеют?! Годами я поощрял иностранных купцов, чтобы они селились в Лондоне, и следил, чтобы их здесь привечали. – Да, сэр, и они процветали. Многие из них – соотечественники ее милости. – Уолси коротко кивнул в сторону Екатерины. – И Англия от этого процветала, – сказал Генрих, пылая от гнева. – Как смеют эти негодяи нападать на тех, кто находится под моим покровительством! – Сэр, многие возмущены. Люди не любят иностранцев, считают, что те отнимают у них работу. Но кто бы ни был прав, мы должны действовать. Шайки подмастерьев орудуют на улицах, и я опасаюсь за безопасность наших иностранных гостей. – Я сейчас же отправлюсь в город, – заявил Генрих. – Пошлите вперед моих стражников и скажите, чтобы они усмирили бунтовщиков как можно скорее. Уолси удалился. Генрих поспешил вернуться во дворец вместе с Екатериной и придворными, а оттуда неистовым галопом умчался в Лондон. На следующий день Екатерина получила известие, что бунты подавлены и орды подмастерьев согнаны в Вестминстер-Холл, где они ожидают королевского правосудия. Ей надлежало немедленно сесть на барку и отправиться туда. По прибытии Екатерину провели на высокий помост в просторном, но переполненном людьми зале. Однажды она уже была здесь – во время коронационного пира. Генрих сидел на троне, сбоку от него с видом повелителя восседал Уолси. С суровым лицом супруг поцеловал Екатерину и пригласил ее занять место рядом с ним. Она посмотрела вниз. Перед ней стояло множество молодых мужчин, у каждого на шее была удавка. Их испуганные лица, все до одного, были с мольбой обращены к королю, имевшему вид грозный и неумолимый. Генрих склонился к Екатерине: – Мир должен увидеть, что я тверд в решимости отомстить за оскорбления, нанесенные нашим иностранным гостям, а потому намерен учинить жестокую расправу. Мне желательно ваше присутствие, Кейт, чтобы вы засвидетельствовали, как свершится правосудие, потому что некоторые жертвы – ваши земляки. Но вы можете почувствовать, что где-то позволительно проявить милосердие. – Он приподнял бровь, глядя на нее. – Я оставляю это на ваше усмотрение. Екатерина мигом сообразила, что от нее требуется. Она должна дать возможность королю умерить суровость милостью. Его слава строгого судьи не пострадает, если она будет молить его о снисхождении к кому-то. Стальным голосом Генрих обратился к пленникам: – Вы повинны в самом гнусном и постыдном преступлении против честных людей, которых я взял под защиту как гостей моего королевства. Какой иностранный купец решится рисковать своим делом и приедет в Лондон после этого ужасного майского дня? Они должны быть уверены, что Лондон – безопасное место и горожане примут их радушно. Поднявшие на них руку глумились над моим покровительством, и на их примере я покажу, что значит быть под покровительством короля. Я приговариваю всех вас к казни через повешение. На лицах подмастерьев, по большей части людей молодых, отобразился ужас. Откуда-то сзади, из глубины просторного зала, раздались жалобные рыдания и причитания. – Мы распорядились, чтобы матери и сестры виновных в преступлении явились сюда и слышали мой приговор, – провозгласил Генрих. Некоторые из подмастерьев и сами уже плакали. – О несчастные! – вздохнула Екатерина. Будучи сама матерью, она могла представить себе, что чувствовали эти женщины. Как ужасно терять сыновей, совсем юных, и таким постыдным образом! Некоторые из осужденных, казалось, еще не доросли до того,чтобы бриться. Екатерина понимала, чего ждет от нее Генрих, но она в любом случае сделала бы это, а потому встала со своего места, опустилась перед королем на колени и воздела сцепленные в мольбе руки. Из глаз ее непроизвольно полились слезы. – Сир, – умоляющим тоном произнесла Екатерина, – ради меня и ради этих несчастных женщин, которые вот-вот потеряют своих сыновей, я прошу вас, пощадите подмастерьев. К ее удивлению, Уолси тоже неуклюже преклонил колени. – Позвольте мне прибавить свою мольбу к просьбе ее милости, – обратился он к королю. Екатерина не могла отделаться от мысли, что это был обдуманный шаг, предпринятый ради повышения своей – и Генриха – популярности в народе. Создалось впечатление, что вздохи и стоны стоявших в зале несчастных вмиг выжидательно смолкли. Генрих в раздумье смотрел на двоих коленопреклоненных просителей у его ног. Екатерина молилась, чтобы он проявил человеколюбие; конечно, он не упустит возможности завоевать любовь своих подданных. Глаза короля подобрели, как только он остановил взгляд на Екатерине. – Ни в чем не могу отказать вам, – произнес он, потом повернулся к Уолси. – Ваши молитвы услышаны, мой верный советник. – Король поднялся. Его голос зазвучал колокольным звоном. – Все прощены и освобождены. Вы, молодые люди, можете благодарить королеву и кардинала за спасение ваших жизней. Раздались радостные крики, подмастерья скидывали с шей удавки, подбрасывали их в воздух и проталкивались сквозь толпу к своим родным. Раскаты смеха и возгласы ликования эхом разносились по сводчатому залу, и отовсюду слышались молитвы за добрую королеву, мягкая просьба которой возобладала над гневом короля. Екатерина слышала, что говорят люди, и была глубоко тронута. Генрих стоял подбоченясь и с широкой улыбкой наблюдал за сценой, которая разыгрывалась внизу. – Вы хорошо сделали свое дело, Кейт, – сказал он. – И вы, Томас, тоже. – Король поднял руку, отвечая на приветственные крики в свой адрес. Мало что любил он больше, чем выражение любви поданных. – Теперь все довольны, и никто не пострадал. Екатерина была вынуждена признать: в деле управления государством ее супруг достиг немалого искусства.
Вскоре после этого Екатерина с некоторым облегчением распрощалась с Маргаритой Тюдор и ее маленькой дочкой. Они уже около года жили в Скотланд-Ярде на содержании у Генриха. Муж Маргарет, граф Ангус, к огорчению супруги, отказался воссоединиться со своим семейством и обнаружил корыстные мотивы женитьбы, присвоив себе ее ренту в Шотландии. С тех пор Маргарита только и делала, что причитала и жаловалась, и даже Екатерина, сочувствуя несчастной, устала от этого. Генрих заключил новое перемирие с Шотландией, что давало Маргарите надежду на восстановление регентства и опеки над юным королем Яковом и позволяло Генриху наконец отправить ее домой. Генрих с не делающей ему чести поспешностью назначил герцога Шрусбери сопровождать королеву Маргариту на север. Прощание брата с сестрой было натянутым. Когда кавалькада удалилась по Большой северной дороге и скрылась из виду, Генрих повернулся к Екатерине и испустил долгий вздох. – Слава Богу! – тихо произнес он. – Если еще когда-нибудь пойдут разговоры о том, что она снова здесь появится, мне придется быстро спланировать кампанию во Франции!
Глава 17 1517–1518 годы
– Кейт, мы должны немедленно покинуть Лондон! – сказал Генрих, дико вращая глазами. – Я сейчас узнал, что в городе появился первый больной потницей. Екатерина сразу подумала о Марии в детской в Ричмонде. Она слышала об эпидемии потницы, которая поразила Англию в тот год, когда отец Генриха заполучил корону, но это было давно. Враги почившего короля считали это Божьей карой, ведь тогда умерли тысячи людей. Для человека храброго почти во всех отношениях Генрих чрезмерно страшился болезней и смерти. Они ужасали его и вызывали в нем отвращение. Екатерина потеряла счет случаям, когда он показывал ей какое-нибудь пятно или сыпь на своем теле и спрашивал, не думает ли она, что это симптом какого-нибудь ужасного недуга. Если он подхватывал простуду, то лечил ее как серьезное заболевание. А находиться в обществе человека, пораженного какими-нибудь язвами или болячками, и вовсе не мог. Екатерина задумалась, не внушили ли Генриху этот страх смерть Артура и последовавшая вскоре кончина матери. Она предполагала, что эта боязнь лишь усиливалась скорбным осознанием того, что в случае смерти у него не останется наследника. Но Екатерина была уверена: ее супруга приводила в панику не только возможность гражданской войны. Это было нечто гораздо более личное. Она помнила, как Генрих убегал от чумы, которая навещала Лондон почти каждое лето и процветала на грязных узких улочках. Не раз наблюдала, как он, чтобы избежать заражения, прятался в каком-нибудь удаленном доме с несколькими слугами. «Чума, – часто говаривал Генрих, – не имеет почтения к личностям, и я должен беречь себя». И все же Екатерина еще ни разу не видела своего мужа таким испуганным, как сейчас. Он рассеянно привлек ее к себе. Он дрожал. – Потница смертельна, – бормотал Генрих, – она гораздо хуже чумы. Кейт, нам повезло, что на нашем веку еще не случалось вспышек этой болезни, но я слышал о ней ужасные вещи. – Король повернулся к своим трепещущим докторам. – Доктор Чемберс знает, как она опасна. – В самом деле, ваша милость. Это отвратительное заболевание и страшное, потому что человек может быть здоров за обедом и отправляется в мир иной к ужину. – Большинство заразившихся умирают, – мрачно произнес Генрих. – К тому же болезнь крайне заразна, – добавил доктор, – и распространяется с ужасающей скоростью. Ваша милость поступает мудро, удаляясь из Лондона. – Но что происходит с теми, кто заражается? – поинтересовалась Екатерина, продолжая беспокоиться о Марии. – Мадам, болезнь начинается с оцепенения, дрожи, головной боли, иногда головокружения. Больной испытывает сильный упадок сил. Через один-три часа развивается обильное потоотделение, пульс учащается, и эти симптомы продолжают усиливаться, пока не наступает кризис. Екатерина вздрогнула: – Принцесса в безопасности? – Я распорядился, чтобы при первом же сообщении о заболевшем ближе пяти миль ее тут же перевезли в другое место, – отозвался Генрих. Он оставил Екатерину и взволнованно закричал ее фрейлинам: – Собирайтесь! Немедленно! Мы уезжаем в деревню! Екатерина поспешила написать записку Маргарет, леди Брайан, которая отвечала за детский двор Марии, приказывая ей принять строжайшие меры предосторожности. – Проследите, чтобы это отправили в Ричмонд немедленно! – велела она одному из конюших, сунув ему в руку письмо, а сама спешно вышла из своих апартаментов. На крытой галерее у входа их ожидал Уолси, чтобы попрощаться. В детстве он переболел потницей и выздоровел, поэтому был невосприимчив к болезни, а значит, мог остаться в столице и заниматься делами. – Объявите всем без исключения, чтобы ни при каких обстоятельствах ни один человек, бывший с больными потницей, не приближался к нам, – распорядился Генрих. Потом вскочил на ожидавшего его скакуна – и был таков. Екатерине показалось, что они упаковали вещи и тронулись в путь за десять минут.Через несколько часов, погоняя лошадей и выжимая из них все возможное, они прибыли во дворец Уокинг, который практически не использовался с того времени, когда им владела бабушка Генриха, леди Маргарет. Как только копыта простучали по подъемному мосту, Генрих заперся в наскоро приготовленных для него комнатах и стал придумывать профилактические средства против потницы. Он хорошо знал медицину и с удовольствием готовил для себя лекарства. Екатерина оставила его заниматься этим, ни на миг не надеясь, что придуманные им зелья помогут в борьбе с этой смертельной напастью. Голова у нее раскалывалась весь день, что вызывало немалые опасения, а потому королева удалилась в свои покои полежать и отдохнуть. Уснуть ей не удавалось. Она тревожилась за малышку Марию и хотела быть с ней. И еще молилась, чтобы утихла головная боль, но напрасно. Когда Генрих пришел в ее комнаты ужинать, она слишком плохо себя чувствовала, чтобы разделить с ним трапезу, и начинала все сильнее беспокоиться. Услышав, что супруг спешно покинул ее покои, Екатерина не удивилась. На следующий день она была бесспорно больна и оставалась в постели, кашляла до боли в груди и страшилась умереть, оставив Марию без матери. Доктор Чемберс заверил Екатерину, что это совершенно точно не потница, и прописал настой из листьев иглицы, ягод, лепестков ириса и корней окопника с медом. Вкус был мерзкий, но Екатерина послушно пила лекарство. Привезли письмо от леди Брайан: с Марией все в порядке и поблизости не было случаев потницы. Беспокойство о том, что может произойти в Ричмонде, мешало Екатерине забыться и отдохнуть, а это было необходимо для борьбы с недугом. На шестой день болезни она почувствовала себя немного лучше и тогда поняла, что уже второй раз у нее нет месячных. «О, прошу Тебя, Господь Всемогущий, пусть я буду беременна!» – молилась Екатерина. Она встала с больничного одра и провела много часов в молитве на коленях в церкви; она давала обеты Богу, она постилась. – Мадам, вы вредите себе, – увещевала ее Маргарет Поул. – Если вы ждете ребенка, нужно заботиться о себе. – Но я должна показать Господу, что достойна иметь этого ребенка, – возразила Екатерина. – Он это знает, можете не сомневаться. Пожалуйста, вернитесь в постель. Вы неважно выглядите. Позвольте мне помолиться о том, чтобы Господь благословил вас сыном. Екатерина с благодарностью утонула в подушках. Вскоре она уснула, а когда пробудилась, над ней нависало встревоженное лицо Генриха. – Как вы, Кейт? – спросил он, беря и пожимая ее руку. – Я беспокоился о вас. Чемберс запретил мне видеться с вами из-за опасности заразиться, но я все время справлялся о вас. – Мне лучше, – заверила супруга Екатерина и ответила на его рукопожатие. – И знаете, Генрих, кажется, я жду ребенка!
Екатерина снова была на ногах, и Генрих обращался с ней как с хрупким стеклянным венецианским кубком. Она вполне оправилась, и новости из Ричмонда приходили утешительные. Только по утрам ее слегка подташнивало, и она испытывала добрые предчувствия по поводу этой беременности, хотя не смела говорить о них. Мод Парр тоже снова носила ребенка, и как приятно было сидеть рядом и говорить о будущих детях, шить из тончайшего батиста и мягкой шерстяной ткани крошечные чепчики и другое приданое для новорожденных. И – радость из радостей – пришло письмо от Марии, полное новостей о ее дорогом малыше Генрихе и чу́дном Уильяме. Живой остроумный стиль письма вызвал у Екатерины воспоминания о детских годах, которые они с Марией провели вместе, а потом о том времени, когда она стала королевой, а Мария – ее наперсницей. Такие мысли всегда поднимали ей настроение. Однако сообщения о потнице заставляли нервничать. Лихорадка бушевала в Лондоне и распространилась на все окрестности. Количество смертей увеличивалось, а вместе с тем возрастал и страх Екатерины за дочь. В сентябре лорд Уиллоуби написал ей, что их с Марией сын стал жертвой потливой лихорадки. Мария восприняла это очень тяжело, и сердце Екатерины сжалось от боли за подругу. Она прекрасно поняла, что это означает. И двух недель не прошло с тех пор, как она читала об успешном развитии милого Генриха, о его шелковистых темных кудряшках и первых зубиках. Ей было известно, каково это – смотреть на любимое детское личико и видеть на нем печать смерти. Екатерине хотелось поехать к Марии, утешить ее, как делала та, когда умирали дети самой Екатерины; она рвалась увидеть свою дочку и убедиться, что с ней все в порядке. Но это было невозможно. Только сумасшедший рискнул бы отправиться в путешествие по стране, в которой свирепствовала лихорадка. Болезнь могла притаиться и поджидать жертву за любым углом. Поэтому Екатерина зажгла свечи, поминала маленького Генриха Уиллоуби, чья душа наверняка пребывала у Бога, и молилась за его скорбящих родителей. Она послала им прекрасно иллюстрированную копию книги леди Джулианы Норвич «Откровения Божественной любви» и сама плакала над словами утешения, которые в ней содержались: «Бог не говорил, что у вас не будет забот, что вы не будете поруганы, что вы не пострадаете; но Он сказал: вас не осилят». Это были любимые строки Екатерины, они приносили ей успокоение в тяжелые моменты. Когда она передала новость о смерти сына Марии Генриху, он крепко обнял ее, закрыл глаза, лицо его исказилось от боли. Он тоже почувствовал, через какие страдания проходили Уиллоуби. Но его тревожило другое. – В Суррее появились заболевшие, – нервно сказал Генрих. – Мы должны покинуть Уокинг. – Поедем в Ричмонд? – воскликнула Екатерина. – Нет, Кейт. Мария пока там в безопасности. Суррей – большое графство. Они отправились на запад, в Гемпшир. На этот раз Генрих ехал на коне впереди, а Екатерину везли следом в носилках. Была ли тому виной болтанка на изрезанной колеями дороге или последствия недавно перенесенной болезни, Екатерина сказать не могла, но, когда они прибыли в уединенный частный дом, который Генрих реквизировал у владельца, по ногам ее на пол стекала кровь…
Екатерина наблюдала, как Мария, приподняв юбки, пыталась подражать реверансу леди Брайан. – А теперь попробуйте еще раз для своей дорогой мамочки, – наставляла гувернантка. Мария закачалась, а потом со смехом повалилась в ворох юбок. Она действительно была очаровательнейшим ребенком – такая беспечная, такая резвая, такая добродушная. Стоявший рядом сэр Томас Мор весело захохотал. Этот новый личный советник короля был знаменитым ученым и прекрасным человеком. Он находился при дворе совсем недолго, однако и Екатерина, и Генрих уже успели полюбить его. Сегодня Екатерина пригласила сэра Томаса познакомиться с Марией, зная, что тот ратовал за образование женщин, и предчувствуя, что вскоре ей понадобятся его советы и содействие. – Попробуй еще раз! – сказал Мор Марии. Двухлетка встала на ножки, готовая порадовать этого добряка с кроткими глазами. – Смотри на меня, – приказала девочка и сделала прекрасный реверанс. Все зааплодировали и заулыбались, даже Мод, которая имела мало поводов для веселья. В ноябре от потницы умер ее муж, а вслед за этим она разродилась мертвым ребенком – видимо, от испытанного потрясения и глубокой печали. Они с Екатериной сблизились, разделяя общую скорбь по утратам. Дочь стала утешением для Екатерины, а потом к этому добавилось еще и ожидание нового ребенка, который шевелился у нее в животе, и ей радостно было видеть Мод немного оживившейся и проявлявшей интерес к жизни. Маргарет Поул увела Марию: девочке пора было идти гулять. Екатерина хотела, чтобы ее дочь каждый день хотя бы недолго, но дышала свежим воздухом. – Принцесса очаровательна, – сказал королеве Мор, когда они вместе прогуливались по галерее, выходившей окнами в сад Гринвича. – Я слышала, сэр Томас, что ваши дочери хорошо образованны. – Пока Екатерина говорила эти слова, ребенок у нее под сердцем ворочался и пинался. – Меня осуждали за то, что я даю им такое же образование, как сыновьям, но я не вижу оснований, почему дети не должны быть воспитаны одинаково. Девочки не менее способны к учебе, что видно и на примере вашей милости. Англии повезло иметь королевой такую благочестивую и образованную леди. – Вы мне льстите, сэр Томас! – Екатерина улыбнулась. – Скажите, как дела у леди Элис? – Моя жена отлично себя чувствует, мадам, и все так же решительна и прямолинейна, как обычно! – Мор хохотнул. – Конечно, я шучу, мадам! Я необыкновенно счастлив в семейной жизни. Несмотря на то что Элис, пренебрегая поучениями святого Павла относительно покорности мужу в доме, женщина весьма решительная и достойная соперница в спорах. – Мне не терпится познакомиться с ней, – улыбнулась Екатерина. Задержавшись у окна, Екатерина следила за Марией: та скакала по саду, сбросив на землю накидку, хотя стоял ноябрь и было холодно. Мор остановился перед висевшим на стене портретом: – Неужели это мой друг Эразм? – Он великий ученый. Король и я – мы оба очень высокого мнения о нем. – И великий гуманист. Я горжусь знакомством с ним. Как говорит Эразм, жизнь без друга – не жизнь, но смерть; наша дружба совершенно особая и длится уже много лет. В моем доме всегда готова комната для него, если он вдруг удостоит меня посещением. – При дворе ему тоже всегда рады. Ученых мужей король любит несколько больше, чем развлечения. Сэр Томас, он просил меня пригласить вас отужинать с нами сегодня. Вы придете? – Это будет для меня большая честь, мадам, – ответил Мор, поклонился и поцеловал протянутую ему руку.
Генрих задумал ужин в узком кругу в покоях Екатерины, присутствовать должны были только они втроем. Он хотел подробно поговорить о предметах, интересовавших обоих – его самого и его нового друга. Сэр Томас явился без промедления и признался, что вздохнул с облегчением, узнав об оказанном ему внимании. – Я очень обрадовался, получив приглашение в покои вашей милости, – сказал он Екатерине. – За придворной трапезой, когда все болтают без умолку, трудно вести содержательную беседу. – Добро пожаловать, Томас, – сердечно приветствовал Мора Генрих, дружески хлопая его по спине. – Садитесь. Обойдемся сегодня без церемоний. Я перечитывал вашу «Утопию», и у меня возникло много соображений, которые я хотел бы с вами обсудить. Это невероятно, каким вам видится идеальное государство. Я был бы не прочь устроить такое в Англии! – Я тоже с наслаждением прочла «Утопию», – поддержала короля Екатерина. – Для меня это двойная честь! – лучась от удовольствия, произнес Мор. Генрих сам разлил вино, и, когда подали первую перемену блюд, выложил на стол книгу Мора. В ней было несколько закладок. – Эта часть особенно поразила меня глубиной, – сказал он. – Если правитель не заботится о том, чтобы его подданные были хорошо образованными, а потом наказывает их за совершенные в неведении преступления, к какому еще можем мы прийти заключению, кроме того, что он сам взращивает воров, а потом карает их! – И король положил себе на тарелку кусок жареного каплуна. – Что приводит нас к следующему аргументу, – произнес Мор несколько свободнее. – Вместо того чтобы налагать суровые кары на тех, кто нарушает закон, гораздо эффективнее снабдить каждого человека средствами для обеспечения своего существования. – Но некоторые из них неисправимые злодеи, – заметил Генрих. – Это правда, сир, но в этом мире очень много несправедливости. Бедность и невежество – основа многих преступлений и зависти. Какая же справедливость в том, что богач, который вообще ничего не делает, живет в довольстве и роскоши, тогда как бедный человек – скажем, возчик, кузнец или пахарь, – который трудится тяжелее, чем скот, зарабатывает себе лишь на скудное пропитание и обречен влачить такое жалкое существование, что даже скотское в сравнении с ним предпочтительнее? – Томас, вы еретик! – скривился Генрих. – Кому дозволено ставить под сомнение положение, в котором он пребывает по воле Божьей? – Я последний человек, которого можно назвать еретиком, – улыбнулся Мор. – Но я не осуждаю материальные богатства. Невежество и нужда изгоняются посредством учения. Вашей милости это известно лучше, чем кому бы то ни было другому, ведь при вас расцвели все свободные искусства, вы образованнее и рассудительнее любого предыдущего монарха. В «Утопии» никто ничем не владеет, но все богаты. – Но кто-то должен пахать землю, – сказала Екатерина. – Совершенно верно, – согласился с ней Генрих. – А некоторые призваны быть королями. Томас готов всех нас уравнять! – Перед лицом Господа мы все равны, сир, но самым лучшим пахарем будет счастливый пахарь. Только не забывайте, что «Утопия» – это идеальное государство, в котором все совершенно. – И поэтому оно неосуществимо. Но нечто подобное может появиться – когда-нибудь. Это могучие идеи, Томас, все короли должны прочесть вашу книгу. Я дам ее своему сыну, когда он подрастет. Генрих улыбнулся Екатерине и гордо взглянул на ее живот. Екатерина ответила улыбкой и отхлебнула вина. – Сэр Томас, я подумала, это немного нескромно, что утопийцы показывают жениха и невесту друг другу обнаженными перед бракосочетанием. Генрих хохотнул, а Мор усмехнулся: – Ах, мадам, но они удивились бы нашему безрассудству! Если мы покупаем коня, то хотим рассмотреть его во всех подробностях, чтобы никакие сюрпризы не укрылись от нас под сбруей; а при выборе жены, от которой зависит счастье мужчины во всю оставшуюся жизнь, он должен отважиться вступить в брак наугад. Не каждый мужчина настолько мудр, чтобы выбирать жену только за ее добронравие и хорошие манеры. Милого личика бывает достаточно, чтобы подцепить на крючок муженька. – Введите этот обычай, и все женщины по всему христианскому миру побегут искать убежища в монастырях! – усмехаясь, заметил Генрих. – Многие мужчины женятся, поддаваясь очарованию милого лица, полагаю, это верное наблюдение. Тем не менее оно оправданно только в отношении бедняков, потому что у принцев нет выбора; они вынуждены брать в жены женщин, которых для них выбрали другие люди. Мне повезло. – И он поднес руку Екатерины к своим губам. – Красота может привлечь мужчину, но, чтобы удержать его, необходим характер и великодушие, – заметил Мор. – Ни одна женщина не может сравняться в этих качествах с ее милостью. Мне доставляет большое удовольствие видеть, что ваши милости так счастливы вместе. Принесли подслащенное вино, вафли и сливы в меду. – Долго же пришлось уговаривать этого парня приехать ко двору, – сказал Екатерине Генрих. – Он принял предложение с большой неохотой, и это притом что все вокруг донимают меня просьбами о повышении по службе и должностях. Мор выглядел огорченным. – Не считайте меня неблагодарным, сир. Мне не хотелось оставлять тихую домашнюю жизнь и менять ее на публичную деятельность. – А теперь вам нравится жизнь при дворе? – поинтересовалась Екатерина. – Мадам, я должен быть честен. Как я и боялся, она мне в тягость. Я чувствую себя здесь так же неуютно, как плохой наездник в седле. Однако его милость чрезвычайно любезен и добр ко всем, и оба вы сделали все возможное, чтобы я почувствовал себя желанным гостем. Для меня большая честь, что вы одариваете меня своей особой дружбой. – Я знаю, чем вы пожертвовали, дабы уважить меня, – сказал Генрих, посерьезнев. – Мне было бы неприятно думать, что мое общество хоть в чем-нибудь становится помехой вашим домашним радостям. Я просто заинтригован столь редким явлением – мужчиной, у которого нет амбиций и который довольствуется семейной жизнью, своими книгами и своими животными. – По моему мнению, сир, каждый, кто активно борется за пост на государственной службе, делается непригодным для какой бы то ни было должности вообще! – сострил Мор, и они все засмеялись. Каким интересным собеседником был этот человек! – Что ж, Томас, при дворе все же есть одна вещь, которая должна доставить вам удовольствие. Я слышал, вы интересуетесь астрономией. Сам я тоже очень ее люблю, так что сегодня вечером мы вместе поднимемся на крышу и посмотрим на звезды! – Это будет для меня одновременно и честь, и удовольствие, сир! Но когда мужчины встали и Генрих, положив руку на плечо Мора, повел его к дверям, Екатерине показалось, что в ответе сэра Томаса есть оттенок фальши. Она была уверена: он предпочел бы вернуться домой и провести остаток вечера с семьей.
– Это несносно, просто ужасно – думать, что принцесса должна стать невестой дофина! – выпалила Екатерина Томасу Мору. Завернувшись в подбитые мехом накидки, они быстрым шагом шли по зимнему парку Гринвича, держась подальше от фрейлин и немногих других людей, отважившихся выйти на улицу в такой холодный день. Екатерина не могла сдерживаться. К счастью, она знала, что может положиться на благоразумие Мора, хотя и чувствовала, что чуть-чуть предает Генриха, высказывая вслух свое недовольство. Но на самом деле Екатерина больше злилась на Уолси, чем на Генриха. Против короля она никогда не посмела бы сказать хоть слово, но чувствовала, что Мор, который тоже не был дружен с Уолси, все поймет и с уважением отнесется к ее доверию. Сэр Томас печально покачал головой и сочувственно посмотрел на Екатерину мягким и добрым взглядом. – Соглашения между принцами не высекаются на камне, – тихо произнес он. – Дай Бог, чтобы вы оказались правы! Я так надеялась, что Мария выйдет замуж за Реджинальда Поула или за самого короля Карла Кастильского… Но впустую отдать ее Франции! К тому же она так дорога мне. Такие виды на будущее для меня невыносимы, дорогой друг. – Я не могу судить политику короля, ваша милость, но понимаю ваши чувства. Екатерина внутренне сжалась, уловив неодобрительный оттенок в словах сэра Томаса. – Я сама не осмеливаюсь судить решения его милости, поэтому никогда даже не упоминала об идее брака с королем Карлом при Генрихе. Когда я заикнулась о Реджинальде Поуле, он отнесся к моим словам пренебрежительно. Сказал, что Поул не пара принцессе и что она предназначена для более великой судьбы. Но, сэр Томас, Реджинальд древних королевских кровей и, несомненно, был бы подходящим мужем для нее! – Я представляю, как сильно задевает чувства короля идея о браке его дочери с одним из Плантагенетов, – заметил Мор, криво усмехнувшись. – Так и есть. – Екатерина вспомнила потрясенное выражение лица Генриха, которое сказало ей, что вопрос закрыт. Она вздохнула и присела на низкую каменную ограду. Нерожденный ребенок деловито возился у нее в чреве. Ждать уже недолго… Екатерина пригласила Мора сесть рядом с ней. – Меня утешает только то, что дофин пока еще очень мал. Пройдут годы, пока они с Марией достигнут брачного возраста, а за это время многое может произойти. Случается, что помолвки разрывают… Вы знаете, как тяжело мне было присутствовать на празднике по случаю подписания договора, но я заставила себя улыбаться и была любезна с французскими посланниками. – Екатерина поморщилась, вспомнив о том, что в центре торжеств находился Уолси, ставший теперь папским легатом в Англии. – За этот альянс я должна благодарить кардинала! – негодовала Екатерина. – Кажется, он теперь уже руководит и королем, и всем королевством. Я помню времена, много лет назад, когда он говорил: «Вашей милости следует поступить так-то и так-то». Потом это превратилось в указание: «Нам следует сделать». А теперь – я сама несколько раз слышала, как он произносил: «Я поступлю так». Кардинал – все равно что король. Об этом говорят все, даже Луис Карос. Холод пробирался сквозь накидку. Екатерина встала и пошла обратно ко дворцу. Мор не отставал от нее. – Сам король едва ли знает, как обстоят дела в государстве, – тихо произнес он. – Всем управляет кардинал. Он умный человек. Я заметил, что он всегда говорит королю, как следует поступить, но никогда не упоминает о том, что король способен сделать. В этом он весьма дальновиден, ведь если лев узнает свою силу, им станет трудно управлять. Екатерина всмотрелась в сэра Томаса, однако искренняя озабоченность на его лице убедила ее, что эти слова не продиктованы неуважением к Генриху. Она решила не заострять на этом внимания, но эти речи ее встревожили. Намекал ли сэр Томас на то, что Уолси не позволяет Генриху полностью осознать свои возможности в качестве короля? Или – но это точно нет! – что для всех будет лучше, если он не достигнет этого осознания? – Надеюсь, если этот ребенок окажется мальчиком, я получу достаточное влияние на короля, чтобы уравновесить воздействие на него кардинала, – произнесла Екатерина. Она знала, что Генрих ни в чем не откажет матери своего сына. – От всего сердца молюсь, чтобы этот ребенок вашей милости оказался принцем. Ничто не может принести королевству большей стабильности и покоя. – Я тоже молюсь об этом что есть сил, как вы сами понимаете. Мор улыбнулся ей: – Бог наверняка прислушается к мольбам такой истинно верующей леди. «Хотелось бы мне верить в это», – подумала Екатерина. – Как дела у леди Элис? – намеренно меняя тему, спросила она. – Вы очень добры, что интересуетесь. Она здорова и счастлива. Я слышал о вашем триумфальном визите в Оксфорд; мне сказали, студенты встретили вас такими проявлениями радости и любви, как если бы вы были Юноной или Минервой. При воспоминании об этом Екатерина улыбнулась: – Я была глубоко тронута. Они приветствовали меня от всей души. Говорят, кардинал планирует основать в Оксфорде новый колледж. – Опять кардинал! – Мор задумался. Некоторое время они шли молча, потом он спросил: – Его милость говорил вам, что пригласил меня сегодня снова вместе с ним смотреть на звезды? Я надеюсь, что вы тоже придете. – Если смогу подняться по лестнице! – Екатерина засмеялась, глядя на свой огромный живот.
Она понимала, что Генрих все больше и больше досадует из-за отсутствия наследника. – Турки вторгаются в Европу с востока, – говорил он Екатерине. – Не успеем мы оглянуться, как они будут стоять у ворот Вены. Как бы мне хотелось организовать Крестовый поход против них. Увы, это невозможно! – Он вздохнул и в отчаянии стукнул кулаком по подлокотнику кресла. – Мне нельзя рисковать собой, пока не обеспечена надежная передача власти. Опасаясь очередного несчастья, они держали беременность Екатерины в секрете до тех пор, пока скрывать ее стало абсолютно невозможно. Шли месяцы, ничего плохого не происходило, и они позволили себе надеяться на лучшее. Генрих даже устроил праздник, чтобы отметить начало быстрого роста плода. Теперь время родов было близко, Екатерина вот-вот должна была отправиться в уединение в свои покои, а Генрих все отказывался отпускать ее, опасаясь, как бы чего не вышло. Он почти не давал ей двигаться, настолько боялся, что она потеряет ребенка. Поэтому Екатерина лежала и лежала без конца, и голени у нее отекли ужасно. А Генрих все кружил и кружил вокруг нее, к плохо скрываемому возмущению фрейлин, которые считали, что деторождение – дело исключительно женское. – Мне так не хочется оставлять вас, дорогая, – сказал Генрих. – Я не поеду в Лондон, пока вы благополучно не разрешитесь. – Я прекрасно себя чувствую, – ответила Екатерина. И это было правдой. – Вам очень хорошо известно, что счастливый исход не гарантирован, – строго произнес Генрих. – Помните, я очень надеюсь. Она помнила и поэтому выполняла все просьбы супруга, чтобы доставить ему удовольствие. Сама же хотела только одного: пусть пройдут роды и у нее на руках окажется сын. Екатерина удалилась в свои покои, благодаря Господа, что дошла до этого момента. И пока она пребывала там в уюте и довольстве, король, двор – и вообще все королевство – напряженно ждали новостей. А потом, к большому облегчению Екатерины, приехала Мария, чтобы королеве было с кем посплетничать до и после родов. Она повзрослела, изменилась под воздействием любви и горя утраты, располнела в сравнении с прежними временами, но все-таки это была та же самая, любимая подруга королевы. Когда она сняла дорожную накидку, вид ее, в дорогом платье из алого дамаста вместо черно-белого, которое она всегда носила как фрейлина, показался странным. Потом Мария повернулась, и Екатерина увидела, что корсаж у нее на животе расшнурован. – Моя дорогая! – воскликнула Екатерина. – Ты тоже ждешь ребенка! – Весной, ваше высочество. Этот малыш очень бойкий. Лицо Марии стало печальным. Было ясно, что она подумала о том, другом малыше, который безвозвратно потерян. – Значит, он унаследует черты своей матери, – заявила Екатерина. – Бедняжка! – Мария улыбнулась. – Как вы себя чувствуете, ваше высочество? – Гораздо лучше, благодарю тебя, хочу только одного – поскорее качать на руках свое дитя. – Глядя на вас, можно заключить, что ждать осталось недолго! Мария оказалась права. Младенец родился ночью – это была девочка, крошечное, тихо хнычущее создание с пучком золотистых волосиков. Хотя сердце Екатерины упало, когда ей сообщили пол ребенка, она взглянула на новорожденную дочь и влюбилась в нее. «Изабелла, – подумала Екатерина. – Я назову ее в честь матери, если Генрих согласится». Генрих… Королеве была невыносима мысль о его разочаровании. Она боялась встречи с ним. Как он воспримет весть о ее неудаче? Будет ли любить малышку так же, как полюбил Марию? Король пришел к ее ложу удрученный. Взял ребенка на руки и благословил его, но в глазах Генриха безошибочно читалась досада, и он пробыл в покоях королевы совсем недолго – к неудовольствию Марии, которое она почти не пыталась скрывать. Той ночью Екатерина проплакала много часов, боясь, что потеряла любовь мужа навсегда. Но и ее собственные надежды тоже были перечеркнуты. «Чем я заслужила такую злую участь?» – спрашивала она себя. – Что говорят при дворе? – строго спросила Екатерина Маргарет Поул и Марию на следующий день. Маргарет смотрела на нее печальным взглядом: – Многие разочарованы. Говорят, если бы этот ребенок родился до помолвки, принцессу не обручили бы. Теперь люди думают, что она могла бы стать наследницей здесь. Особенно боятся того, что через ее брак Англия может покориться Франции. – Они говорят так, будто я больше не смогу вынашивать детей! Но, Маргарет, у меня будут еще дети, непременно. Мне всего тридцать три. – Я знаю женщин, которые вынашивали сыновей и в более солидном возрасте. – Маргарет говорила твердым, ободряющим тоном. – Вот, например, я старше вашего величества, а посмотрите-ка на меня. – Мария похлопала себя по животу. – Тридцать три – это еще не возраст! Екатерина слабо улыбнулась: – Вы обе очень добры. – Пожалуйста, отдохните немного, дорогая мадам, – вздохнула Маргарет. – Вам нужно снова набраться сил, чтобы родить этих сыновей!
Генрих и Екатерина склонились над колыбелью, лица их были исполнены тревоги. Сердце Екатерины разрывалось. Новорожденная принцесса, двух дней от роду, слабела и угасала, а потому призвали короля. Они смотрели на малышку и молились, крошечные ручки затрепетали и безжизненно упали. Екатерина ахнула, не веря своим глазам, и сгребла в охапку обмякшее тельце. – Изабелла, моя малютка Изабелла! – в отчаянии голосила она и качала на руках ребенка, как будто это могло вернуть малышку к жизни. – Кейт, прошу вас, – успокаивал ее Генрих с бо́льшим чувством, чем она могла ожидать. – Это Господня воля. – Сколько раз вы мне уже это говорили? – рыдая, закричала она. – Кто мы такие, чтобы подвергать ее сомнениям? – беспомощно сказал Генрих, по его щекам текли слезы. – Она и мой ребенок тоже! Дайте мне подержать ее. Король забрал у Екатерины маленький сверток, сел и прижал его к груди, издавая громкие, сотрясающие все тело всхлипы. – Я не вынесу еще одной утраты! – плакала Екатерина. – За что Бог наказывает нас? – Честно сказать, я не знаю, – произнес Генрих, глядя на маленькое восковое личико. – Даже окрестить не успели! – стенала Екатерина. – Теперь ее душа в преддверии ада, она никогда не узрит Бога. – Никогда не верьте в такое! – возмутился Генрих. – Некрещеные души наслаждаются теми же блаженствами, что и все прочие. Я читал об этом. Вам следует придерживаться такой мысли, Кейт. И мы должны отпустить ее. – Голос короля дрогнул. – Я распоряжусь, чтобы ее похоронили у стены на монастырском кладбище.
Эта седьмая беременность окончательно испортила фигуру Екатерины. – Зашнуруйте меня плотнее, – приказывала она фрейлинам в день введения во храм, но толку не было. Ее тело походило на колоду, тяжелую грудь стискивал низкий квадратный вырез корсажа, лицо опухло от слез. Неужели Генрих когда-нибудь возжелает ее? И как сможет она сама, перегруженная горем утрат и неудачами, снова с радостью отдаться его объятиям? Но Генрих не подал виду, что заметил произошедшие в ней перемены. Через час после очищения он пришел в покои Екатерины и поцеловал ее с обычной страстью. – Как хорошо, Кейт, что вы снова вернулись к нам. Мы должны попытаться оставить все печали в прошлом. – Да, – ответила она, думая о том, что никогда больше не будет счастлива. Только бы ее несчастья не сказались на принцессе Марии, которую она брала с собой ко двору при каждом удобном случае! Не дай Бог, чтобы Мария когда-нибудь заподозрила, что родители любят ее не так сильно, как любили бы сына. Но это было не единственной причиной для беспокойства Екатерины. – Генрих, мы можем поговорить? – Разумеется. – Он сел у камина напротив нее, у его ног пристроилась собака. – Кое-что волнует меня, – сказала Екатерина, наливая ему вина. – Я опасаюсь, что мы теряем детей не без причины. Я долго размышляла, Генрих, и должна спросить: не гнев ли это Божий из-за того, что мой брак с Артуром был замешен на крови? – Замешен на крови? – Вы наверняка знаете о судьбе графа Уорика, брата леди Солсбери… – Что с того? – нахмурился Генрих. – Мой приезд в Англию был бы невозможен без его устранения. Мне это известно. Я слышала, как мой отец говорил об этом. Брови Генриха сдвинулись сильнее. – Мой никогда о таких вещах не упоминал. И не стал бы этого делать. Он был кривой, как гнилой сук, и все держал в тайне. Хотя я могу в это поверить. Отец всегда во всем искал выгоду. – Подумайте об этом, Генрих. Мы зачали семерых детей, и выжила одна только Мария. В глазах людей, имея одну дочь, вы все равно что бездетны. Может быть, Бог этим о чем-то говорит нам? Генрих встал, подошел к супруге, присел на корточки и взял ее за руки: – Кейт, вы переутомились. Это нелепость. Вы ни в чем не виноваты. – Вы ведь знаете, что говорят о грехах отцов! – Но, Кейт, что бы ни говорили и ни совершали ваш отец или мой, Уорик состоял в сговоре с самозванцем Уорбеком. Он совершил измену. – Маргарет говорит, он был простак и легко шел на поводу у всякого. Его очень просто было сбить с верного пути. – Это, случайно, не леди Солсбери внушила вам такие фантазии? – Нет, конечно нет! Этот вопрос тяготит мою душу долгие годы. Генрих, должна быть причина, почему наши дети умирают, или это со мной что-то не так! Я покорно смирялась со своими утратами, но чувствовать себя несостоятельной очень тяжело, и это угнетает меня. Люди скажут, что я негодная жена. Они будут говорить, что вам не следовало жениться на мне, что я для вас слишком стара. Бог знает, я это чувствую! Вы знаете, как отозвался обо мне король Франции? Я слышала это от Луиса Кароса. Франциск заявил, что у вас нет сыновей, хотя вы молоды и хороши собой, потому что у вас старая и уродливая жена. – Тише, Кейт. Я не стану слушать такое злословие. Вам не в чем упрекнуть себя. Мы все в руках Божьих. – Но это правда! – выпалила Екатерина. – Я больше непривлекательна. Моя фигура ни на что не похожа. – Чепуха! – Генрих не задумываясь отмахнулся от ее слов, и Екатерине стало легче. – Для меня вы прекрасны, и это главное, так я считаю. По всеобщему мнению, у Франциска скверный вкус в отношении женщин! – Для меня благословение иметь вас своим супругом. – Екатерина схватила руку Генриха и прижала к своей щеке. – Но скажите мне, вы никогда не задумывались, почему Бог отказывает нам в таком важнейшем даре – в сыне? – Я думаю об этом все время, но живу надеждой. Я добрый сын Церкви, веду добродетельную жизнь. Не стану притворяться, что меня не заботит отсутствие наследника. Мой трон держится на более прочном основании, чем отцовский, но все равно есть те, кто может бросить мне вызов, и я опасаюсь их дерзких притязаний, если вдруг завтра меня не станет. Может начаться гражданская война. Жизнь Марии будет в опасности, и моя династия окажется под угрозой. Это мучает меня в ночных кошмарах. Мы должны надеяться, что вскоре вы снова понесете. – Молю Бога, чтобы вы правили нами долгие годы, мой Генрих, и к тому же Мария обладает многими прекрасными качествами, она может стать достойной королевой, как моя мать. – Кейт, мы уже говорили об этом. В Англии не правят королевы. Ваша мать была исключительной женщиной, но женское превосходство над мужчинами противно природе. Сотни лет назад у одного короля была дочь Матильда, которая заявила права на престол и развязала гражданскую войну против своего кузена, короля Стефана. Она победила, но через две недели, не успела она короноваться, жители Лондона выгнали ее. Они не могли вынести ее высокомерия. Это было так неестественно для женщины. С тех пор никто не хочет иметь в Англии королеву. Екатерина знала, что спорить бесполезно. Взгляды Генриха по этому вопросу были непоколебимы.
Глава 18 1519–1520 годы
Участники представления были одеты по итальянской моде и носили шитые золотом шапочки. Тем не менее невозможно было не опознать среди них высокого широкоплечего мужчину. Генриху, казалось, никогда не надоест рядиться в разные костюмы; не удручало его и то, если его маскировку раскрывали. Он получал удовольствие, представая перед публикой в чужом обличье, хотя прекрасно знал, что этим уже давно никого не удивишь. Сегодня он изображал Троила – в паре со своей сестрой Марией в роли Крессиды. Оба они обожали пьесы старика Джеффри Чосера. Генрих был в прекрасном настроении, кланялся дамам и велеречиво приглашал их танцевать, хотя они не нуждались в особых уговорах. Двор находился в Пенсхерст-Плейсе, где герцог Бекингем с невероятной щедростью принимал и развлекал гостей. Екатерине нравилось красивое, многократно перестроенное старое здание, расположенное среди очаровательных садов зеленого графства Кент – в самом цвету июньских красок. Ее впечатлил и прекрасный зал, где резвились маски, и гостеприимство хозяина. И все же в Бекингеме было нечто лишавшее Екатерину покоя. Опытный придворный, человек с благородными манерами, почтительный к своим сюзеренам, но гордый и несдержанный на язык, он не заботился о том, кого задевают его речи, даже если мишенью для острых стрел был самвсемогущий кардинал. Герцог не делал тайны из своей враждебности к Уолси, а тот по большей части пропускал выпады мимо ушей. Посмотрите на него хотя бы сейчас: он увлечен игрой масок и оживленно беседует со своей соседкой графиней Суррей. У Екатерины уже давно сложилось ощущение, что Бекингем и Генриха недолюбливает – он как будто постоянно пытался затмить короля! И ее супруг, она это заметила, часто провожал Бекингема взглядом. Но это беспокоило Екатерину меньше всего. Больше ее тревожило другое: казалось, фрейлины что-то скрывают. Невозможно было не заметить взгляды, которые они тайком бросали на нее и друга на друга, к тому же Екатерина ощущала, что за ее спиной перешептываются. Она была уверена: все это ей не померещилось. В последние несколько дней Екатерина почувствовала осязаемую напряженность атмосферы в своих покоях, при ее появлении разговоры мигом смолкали. Она опасалась, не имеет ли это отношения к Марии: та только что сообщила в письме о благополучном рождении девочки – крестницы королевы, названной Кэт в ее честь. Однако, читая между строк, Екатерина видела: роды были очень тяжелые. Она молилась, чтобы не произошло беды ни с Марией, ни с ее ребенком. Но такие известия от нее точно не стали бы скрывать. На следующее утро во время прогулки по саду она спросила леди Солсбери: – Маргарет, что-нибудь случилось? Пожалуйста, не притворяйтесь, что ничего не происходит. Я уверена, что люди косо смотрят на меня. У Маргарет был такой вид, будто она готова провалиться на месте. – Ваша милость, вы правы, кое-что есть, и я бы предпочла, чтобы об этом вам сказал кто-нибудь другой. – Так что же это? – Екатерина присела на каменную скамью и собралась с духом. Щеки Маргарет порозовели от смущения. – Бесси Блаунт родила королю сына. Екатерина ахнула, у нее вдруг перехватило дыхание. Она почувствовала головокружение и подумала, что умирает. Люди иногда падают замертво, получая дурные известия, разве нет? Она заставила себя сохранять спокойствие и сделала несколько глубоких вдохов. – Это правда? – шепотом спросила она, с трудом выдавливая из себя слова и прекрасно зная ответ. Ведь Бесси, эта блондинка с волосами медового цвета, кроткая и застенчивая, приходила к ней в феврале и молила отпустить ее домой, чтобы побыть с больной матерью. Жалея девушку и одновременно ощущая облегчение в связи с ее отъездом, Екатерина дала согласие, и с тех пор особенно не задумывалась о причинах столь долгого отсутствия своей фрейлины. – Если судить по слухам, то правда. – Маргарет села рядом с Екатериной и взяла ее за руку. – Я стараюсь не слушать сплетен, но, кажется, это сейчас единственная тема для разговоров. «Еще бы, – подумала Екатерина, – любовница может родить сына королю, а супруга – нет». – И я узнаю об этом последней! – сокрушенно проговорила она и задышала ровнее. Однако боль, причиненная неимоверным предательством Генриха, усиливалась, разбухала и превращалась в нечто ужасное и непотребное. Хуже всего было убийственное осознание того, что сыновей у них нет по ее вине. Либо у нее имелись какие-то телесные изъяны, либо она прогневила Бога. Но разве Бесси Блаунт не согрешила куда сильнее? Так почему же ей было дано родить сына? Екатерина больше не могла обвинять Генриха за поход на сторону. Белокурая Бесси – ей не откажешь в привлекательности – была веселой девчонкой, любившей петь, танцевать и развлекаться. На ее стороне были молодость и энергия, она могла составить приятную компанию и более того… и более… Внешность самой Екатерины поблекла, а потеря шестерых детей состарила ее и сделала суровой, набожной и углубленной в себя. Она уже не та золотоволосая принцесса, на которой Генрих женился. И все же, надо отдать ему должное, король оставался для нее любящим, добрым, заботливым супругом. Он регулярно приходил в ее постель, и они любили друг друга, чего же еще ей желать. «Лучше бы мне вообще не знать о Бесси Блаунт, – подумала Екатерина, – тогда я и не догадывалась бы о том, что что-то неладно. А теперь придется справляться с этой ужасной болью и столкнуться с публичным унижением». – Что говорят люди? – спросила она. – Скажите мне правду. Маргарет вздохнула: – Очевидно, его милость отослал ее в один дом в Эссексе. У него необычное название – Иерихон. – Я знаю этот дом. Король нанимает его у монастыря и использует как охотничий домик. И очевидно, как место для тайных свиданий. Казалось, Маргарет не хотела продолжать. – Об этом доме ходит много слухов, – сказала она, потом сглотнула. – Говорят, никому не дозволено приближаться к его милости, когда он останавливается там, и слуги предупреждены не спрашивать, где он, не говорить о его занятиях или времени отхода ко сну. Это было ужасно, отвратительно. – И там родился ребенок? – Да, мадам. Мне бесконечно жаль. Должно быть, вам очень тяжело. – Благодарю вас, Маргарет. Но я хотела знать правду. Как назвали ребенка? – Генри… Генри Фицрой. Фицрой – сын короля. Генрих, который обычно проявлял такую осмотрительность, не мог более откровенно заявить миру о том, что у него наконец-то есть сын. И кто станет винить его? Все мужчины хотят иметь сыновей, особенно монархи, а Генрих был великолепным, полным сил мужчиной двадцати девяти лет. Отсутствие наследника угнетало его, умаляло достоинство и отражалось на престиже короля как мужчины. Но теперь этому конец. Скоро весь мир узнает, что Генрих Тюдор способен зачать сына. Екатерина представила себе радость Генриха, когда ему сообщили новость, момент, когда ему принесли и показали ребенка, его благодарность женщине, которая сделала это счастье возможным. Ей стало больно, что не она, а другая преподнесла королю этот дар, а кто, как не она, его жена, должна была дать супругу то, чего желало его сердце. – Есть еще кое-что, мадам, – сказала Маргарет, когда они поднялись и пошли обратно к дому. – Кардинал Уолси назначен восприемником ребенка, и он устраивает брак Бесси с лордом Тейлбойсом. Достойный брак для недостойной женщины! – припечатала Маргарет с нехарактерной для нее суровостью. Екатерина была потрясена: – Кардинал забыл о своем призвании? Как он может опускаться до такого? – Не беспокойтесь, мадам, многие возмущаются этим. Люди открыто осуждают его. Они говорят, что таким образом кардинал подталкивает молодых женщин распутничать, чтобы заполучить более высокопоставленных мужей. – Так и есть. Екатерина ощутила жгучую ненависть к обоим – и к Генриху, и к Уолси. Король день и ночь посвящал себя удовольствиям, а все дела оставлял на попечение кардинала. Этот человек управлял всем! А теперь проявил себя и в постыдной роли сводника.Что сказал бы о таких новостях ее племянник? Но жаловаться, предавая мужа, Екатерина не хотела. Да и будет ли прок? После недавней смерти Максимилиана ее девятнадцатилетний племянник стал императором Священной Римской империи и владыкой половины христианского мира, однако и он не всесилен. Тем не менее за одну ночь и положение самой Екатерины стало куда прочнее и выше. Пусть она почти бездетна, однако олицетворяет в Англии объединенную мощь и славу Испании и империи. Но чего все это стоит? Королева лежала без сна, глядя на догорающие в камине угольки. Генрих теперь дружен с королем Франциском и поглощен мыслями о встрече с ним этим летом, что делало невозможным любое сближение с Карлом. Сама она сейчас не оказывала почти никакого влияния на государственные дела, и ее роль королевы при Генрихе свелась к чисто церемониальной. Она стояла рядом с ним на приемах, встречала иностранных послов, сидела вместе с мужем во главе стола на пирах, банкетах и представлениях театра масок. В оставшееся время почти не покидала своих апартаментов. Церковные службы определяли ее дневной распорядок, и долгие часы она проводила на коленях в своей личной часовне, вымаливая у Господа сына. Несколько раз она совершала паломничества к Богородице Уолсингемской, но это не принесло пользы. Екатерина старалась как можно больше времени проводить с Марией, покрывала вышивкой бесконечные церковные ризы и алтарные пелены или шила одежду для бедных. Музицировала со своими фрейлинами, играла в карты и кости или читала молитвенники. Она чувствовала, что больше никому не нужна и потерпела неудачу во всех делах, хоть сколько-то важных.
На следующее утро от утомления, вызванного душевными муками и недостатком сна, у Екатерины кружилась голова, выглядела она измотанной. К ней зашел Генрих. Он посмотрел на нее долгим отстраненным взглядом, а потом опустил глаза. Самочувствием супруги он не поинтересовался, потому как явно не хотел услышать ответ, поцеловал ее в щеку и сел, блистая одеянием из золотой парчи: им предстоял обед с французскими посланниками. – Боже, как жутко болит голова, – буркнул Генрих. – Опять? Несмотря на собственное недомогание, Екатерина забеспокоилась. Генрих уже несколько раз за последнее время жаловался на головные боли и мигрени. Он потер лоб: – Из-за этого читать и писать трудно, боль усиливается. Екатерина подумала, не напрашивается ли он на жалость, чтобы отвлечь ее от подозрений или от злости. Генрих уставился на свои ноги, стараясь не встречаться взглядом с Екатериной. – Кейт, я пришел сказать вам, что мы с Франциском решили отложить нашу встречу до следующего года. Мы оба считаем, что не следует устраивать ее сразу после смерти императора. Екатерина закивала: ее эта новость приободрила. Если встреча отложена на год, она может вообще не состояться. – Думаю, это правильно… Она гнала прочь мысли о мальчике по имени Генрих Фицрой и о том, как из-за него изменились отношения между ней и сидящим напротив мужчиной. Тем, кого она любила, но кто теперь казался ей совсем чужим. – Но чтобы не забыть об уговоре, мы с Франциском обязались не бриться до встречи, так что я отращиваю бороду. На подбородке у Генриха уже золотилась щетина. Екатерина пришла в ужас. Она терпеть не могла небритых мужчин; к тому же, совпав по времени с его новым отцовством, борода Генриха стала символом неблагополучия их брака. – О Генрих, прошу вас! – запротестовала она, не успев остановить свой порыв. – Не отращивайте бороды! Я люблю вас таким, как вы есть. – Но я дал слово. Думаю, борода мне пойдет. Может, он считал бороду внешним проявлением той мужественности, которую доказал другим способом? – Вы знаете, мне не нравятся бороды, – настаивала Екатерина, понимая, что это бесполезно. – Вы привыкнете, Кейт, я уверен. Мне даже нравится. – Он провел рукой по подбородку. – Тем не менее я пришел говорить не об этом. Меня встревожили новости из Германии об этом смутьяне-монахе Мартине Лютере. Помните, пару лет назад он прибил гвоздями к воротам церкви в Виттенберге свои возражения против так называемых злоупотреблений в Церкви? Я решил, что он просто немного не в себе, но его идеи пробираются и сюда, его надо остановить. Не хочу, чтобы эта язва разъедала Англию. Мы не можем позволить всякому простолюдину – Тому, Дику или Гарри – разглагольствовать о церковных проблемах. Поэтому я собираюсь написать книгу, Кейт, и опровергнуть доводы этого Лютера. – Он, судя по всему, очень опасный человек. Это достойный повод не остаться в стороне. Я аплодирую вашему намерению. – Для этого нужен человек вроде меня, влиятельный в мире и добрый сын Церкви. Хотя у Лютера есть справедливые замечания насчет индульгенций. Почему люди должны платить за отпущение грехов и выкупать себя из чистилища? – Это неправильно, – согласилась Екатерина. – Стяжательство – грех. Священникам не пристало продавать отпущение грехов. – Увы, это давно вошло в обычай. Этот человек прав, выступая против него, но лучше бы ему на этом и остановиться. Прочие его утверждения опасны. Вы знаете, что он отрицает пять из семи таинств? Что ж, я намерен без устали защищать их! Христиане Европы должны сплотиться перед лицом этой угрозы. Видя Генриха таким рьяным защитником Церкви, Екатерина втайне дивилась. Как вот этот Генрих, человек твердых убеждений и высоких принципов, мог несколько лет тайком предаваться блуду с Бесси Блаунт и зачать с ней внебрачного ребенка? И как может она вот так спокойно сидеть рядом с ним и обсуждать ересь этого глупца Лютера? Почему не царапает ему лицо ногтями, не молотит кулаками в грудь? Как можно одновременно любить и ненавидеть человека?
К неудовольствию Екатерины, приготовления к встрече с французами продолжались. В мае весь двор должен был переплыть Ла-Манш, прибыть в Кале и на короткое время разместиться в принадлежавшем Генриху замке в Гине. Английский Кале был частью Англии – последним форпостом владений, которые выкроили себе предки Генриха на территории Франции. Марию оставят в Ричмонде на попечение Маргарет Поул, которая сменила Маргарет Брайан в должности главной воспитательницы дочери короля. Так захотела Екатерина, потому что никому другому не могла доверить заботу о своем ребенке. Уолси чувствовал себя как рыба в воде. Встреча монархов была его идеей, и он отвечал за все приготовления, начиная с улаживания неприятных вопросов придворного этикета и заканчивая разработкой конструкции шелковых шатров, которые будут выстроены на поле между Гином и Ардром, где короли наконец-то увидятся. Екатерина не скрывала своего недовольства этим визитом на континент. Она собрала свой совет, назначенный королем для помощи в управлении ее поместьями. – Кардинал устраивает показуху, какой свет еще не видывал, – сказала она своим советникам. – Обе стороны готовы пойти на любые траты, и чего ради? Чтобы наш двор и французский могли помериться богатством и великолепием. И какая будет польза от этого? Англия и Франция – извечные враги. Они никогда не смогут быть верными друзьями. Англии нужно искать торговые связи в землях империи. Сначала на нее смотрели с задумчивым сомнением, и она предположила, что лорды осуждают ее. Но при упоминании о торговле с Фландрией, составлявшей основу процветания Англии, в глазах советников появилось уважение, они закивали, и Екатерина пришла к заключению, что задела нужную струну. Потом распахнулась дверь – и вошел Генрих. Заскрипели скамьи, люди вставали и кланялись, Екатерина сделала реверанс. Король дал всем знак садиться и сам занял свободный стул у стола совета напротив своей жены. – У вас очень серьезный вид, господа. Могу я поинтересоваться, что вы обсуждаете? – Сэр, мы говорили о визите во Францию, – ответила Екатерина. – А-а… – Последовала пауза. – Теперь я понимаю, почему у многих вытянулись лица. – Вы можете передать его милости мои слова, – сказала Екатерина. – Сир, – начал лорд Маунтжой, – ее милость представила больше возражений против поездки, чем мы осмелились бы сделать. Он повторил аргументы Екатерины и заметно нервничал, что было для него нехарактерно. Но теперь закивал и сам Генрих, в его глазах читалось одобрение. – Я впечатлен вашим пониманием дела, мадам. Вы правы, что высказались, я очень уважаю вас за это. Надеюсь, мои советники тоже согласятся с вашими доводами. Вы дали мне почву для размышлений. Екатерина почувствовала, что заливается краской от удовольствия. Давно уже Генрих не прислушивался к ее мнению по вопросам политики. – Правда в том, – сказал он ей той же ночью в постели после очередной попытки зачать наследника для Англии, – что мое отношение к этому альянсу с французами меняется. Я не доверяю Франциску и должен признаться, что нахожу дружбу с императором более привлекательной. Слова его наполнили радостью сердце Екатерины. Она надеялась, что ее доводы помогли поколебать уверенность короля. Он слишком завяз в сетях Уолси, который испытывал чрезмерную любовь к французам и позволял этому чувству попирать все другие соображения, когда принимались политические решения. Генрих приподнялся на локте и начал крутить между пальцами локон волос Екатерины. – Карл направляется в Англию, – сказал он с усмешкой. – Мне сообщили сегодня. Екатерина обхватила супруга руками: – Это прекрасная новость! – Я не сомневался, что вы обрадуетесь, любовь моя, – промурлыкал Генрих, нежно целуя ее. – Он прибудет до того, как мы отправимся в Кале. Говорит, ему не терпится завязать дружбу с Англией. – Эта новость еще лучше! – воскликнула Екатерина, ликуя при мысли о таком удивительном обороте событий. – Мой Генрих, вы должны отменить встречу во Франции. В ней нет смысла. – Любовь моя, я сделал бы это, если бы мог, но теперь слишком поздно. Уолси уже все устроил, и я потратил слишком много средств. Кроме того, внезапную отмену уже близкой встречи Франциск воспримет как непростительную обиду. Он получит полное право считать себя оскорбленным, и к чему это нас приведет? Войны начинались и по меньшим поводам! В любом случае я хочу с ним встретиться, чтобы понять, кто мой противник. Екатерина оставила борьбу. Она слишком хорошо знала Генриха и понимала: переубедить его не удастся. Несмотря на скептицизм, много недель его воодушевляла мысль об этой поездке. Никогда Генрих не упускал возможности покрасоваться, особенно перед своим французским соперником. У Екатерины не осталось выбора, кроме как готовиться к поездке во Францию и притворяться, будто она смирилась и всем довольна. Не переставая, однако, молиться о том, чтобы какое-нибудь непредвиденное событие помешало визиту.
Был ранний вечер прекрасного майского дня 1520 года. Стоя у ворот церкви Христовой перед Кентерберийским собором, Екатерина едва могла сдержать радость: ей предстояла встреча с племянником-императором. Вокруг нее собралась большая свита из фрейлин, улицы заполонили возбужденные толпы, но самой Екатерине больше всех не терпелось увидеть приближающуюся процессию. Эта встреча Генриха с Карлом имела для нее важнейшее значение; она могла изменить соотношение сил и отодвинуть союз с французами, мысль о котором была ей крайне неприятна. В честь визита императора они с Генрихом потратили огромную сумму на обновки для себя и слуг. Для Генриха было невероятно важно предстать перед Карлом богатым и величественным монархом, который ни в чем не уступает молодому человеку, властвующему над половиной христианского мира. Екатерина, слишком хорошо понимавшая, что пора ее расцвета позади, тем не менее в наряде из золотой парчи и фиолетового бархата, расшитого розами Тюдоров, чувствовала себя по-королевски; юбка расходилась спереди, из-под нее выглядывал киртл из серебристой тафты. На голове у Екатерины был черный бархатный чепец во фламандском стиле, украшенный золотом, драгоценными камнями и жемчугом, а шею ее обрамлял жемчужный карканет, к которому был прикреплен дорогой бриллиантовый крест. Екатерина повернулась к «королеве Франции», одетой почти столь же роскошно. Какая радость, что золовка с ней, и какой стыд, что они видятся так редко! Супруги Саффолк до сих пор были обременены долгами, к тому же у Марии родилось уже трое детей, и они отнимали у нее много времени. – Я давно мечтала увидеть сына своей сестры, – сказала Екатерина, ликуя при мысли, что ее мечта осуществится. – Благодарение Господу, наконец-то мы с ним встретимся! Это будет для меня самым большим счастьем, какое я могу обрести на земле. «Королева Франции» бросила на нее пристальный взгляд. Она знала, чего хочет, но о чем не смеет упоминать Екатерина. Та рассчитывала, что Карл отговорит Генриха от встречи с Франциском. Императорская процессия приближалась. Екатерина уже видела флаги с изображением черного двуглавого имперского орла и гербов Кастилии и Арагона, и это волновало ее до глубины души. Вот и Генрих – он велел называть себя «ваше величество»: Карл принял такое титулование, и он не хотел остаться в долгу перед своим собственным королевским достоинством. Генрих ехал рядом со своим гостем во главе длинной кавалькады из лордов и сановников и как раз поднял руку, указывая на возвышающийся впереди собор. Два государя спешились. Генрих тепло обнял Карла, потом повел гостя к тому месту, где ожидала Екатерина. Она опустилась в реверансе, император поднял ее, приветствовал по-испански и, кланяясь, снял с головы широкополую шляпу. Но увидела она перед собой вовсе не такого миловидного юношу, каким рисовался ей в воображении сын Филиппа Красивого и Хуаны. У него были темные волосы, как у ее сестры, коротко остриженные надо лбом, а кроме того, тяжелый подбородок Габсбургов, такой вытянутый, что Карл не мог закрыть рот, как и утверждала много лет назад «королева Франции». Тогда Екатерина подумала, что Мария, наверное, преувеличивает, но теперь с грустью обнаружила, что ее золовка вовсе не сгущала краски. Манеры Карла были скорее отточенными, чем теплыми; с теткой он обращался изысканно-вежливо. Во время обычного обмена любезностями она хотела спросить его о матери, но передумала. До нее доходило, что Хуана продолжает жить в заточении в Тордесильясе. Она провела там уже одиннадцать лет, бог знает, каково теперь состояние ее здоровья и рассудка. Екатерина надеялась, что Карл – послушный долгу сын и навещает мать. Как и император, Генрих был чисто выбрит. Он отражал нападки Екатерины до ноября. Сэр Томас Болейн, его посланник в Париже, смирил гнев короля Франциска, объяснив, что во всем виновата королева. – Он совсем не обиделся, – сказал ей Генрих. – Франциск развеселился, и благодаря вам, Кейт, я теперь известен по всей Европе как Самсон при вас – Далиле! – По крайней мере, мир не был нарушен! – со смехом сказала Екатерина. – Я счастлива принять на себя эту вину.
Больно было смотреть, как Карл ест во время пира в его честь. Так как он не мог закрыть рот, то и пищу прожевать должным образом у него не получалось, в связи с чем, а также из-за присущей Карлу сдержанности разговор за столом не клеился. Однако после, когда они втроем удалились в покои Екатерины и был подан гиппокрас, Карл быстро перешел к главному: – Я бы предпочел, братец, чтобы вы отменили предполагаемую встречу с королем Франциском. Мы оба знаем, в какой сфере лежат ваши подлинные интересы. Зачем продолжать этот фарс, когда вы знаете, что это ни к чему не приведет? Генрих объяснил, почему встреча не может быть отменена. – Королева с вами заодно, племянник, – добавил он, – тем не менее руки у меня связаны. Но когда я разделаюсь с Францией, давайте встретимся снова во Фландрии и поставим печати под договором. – Мы сделаем это, даю вам слово. Дело приняло не совсем такой оборот, как рассчитывала Екатерина, но этого хватило, чтобы поддержать ее в грядущих тяжких испытаниях.
Прекрасным ранним июньским днем огромная свита – более пяти тысяч человек – длинной извилистой змеей вползала в Гин. Помимо воли Екатерина с благоговейным восторгом взирала на новый дворец, который выстроил здесь Уолси, – скорее чудесную иллюзию, ведь на самом деле это было временное сооружение из дерева и холста. Тем не менее Екатерина посчитала этот дворец исключительным, самым достойным королевским жилищем из всех, какие она видела. Устроенные для нее покои поражали великолепием: войдя в них, она едва не ахнула. Кабинет был отделан златотканой парчой; алтарь в молельне украшен жемчугом и драгоценными камнями, на нем стояли двенадцать золотых статуэток; даже потолок был затянут расшитой золотом и самоцветами тканью. «Королева Франции» глядела на все это в изумлении. – Превосходно! – оценила убранство покоев она. – Грустно думать, что все это разберут, когда торжества закончатся. – С содроганием думаю, сколько денег на все это потрачено! Теперь, когда у Екатерины появилось время осмотреться в обстановке этой слепящей глаза роскоши, она начала находить убранство несколько безвкусным. Чего еще ожидать от сына мясника! – Вы знаете моего брата! – со смехом отозвалась «королева Франции». – Он ничего не делает наполовину. – Я скорее склонна полагать, что это работа Уолси. – Екатерина не могла скрыть отвращение. «Королева Франции» взяла ее за руку: – Мне понятны ваши чувства, Кейт, но я многим обязана Уолси. Если бы не его вмешательство, не сносить бы моему мужу головы. А потому я испытываю симпатию к этому человеку: у него есть сердце. Он помогал нам, хотя ему самому от этого не было никакой выгоды. Екатерина сдержалась и не сказала, что Уолси, конечно, торговался со своим господином по поводу наложенного им непомерного штрафа, но при этом изрядно обогатил Генриха и обеспечил себе его преувеличенную благодарность, а кроме того, упрочил уважение короля к собственной персоне. – Да, но он слишком сильно любит французов! – Кейт, вам следует научиться скрывать свое нерасположение к Уолси. И так слишком ясно, что этот визит вам не по душе. Просто улыбайтесь и терпите. Каких-то две недели, и маскарад закончится. – Жду не дождусь этого дня! – вздохнула Екатерина. Принесли багаж. Две новые и очень услужливые горничные – сестры Марджери и Элизабет Отвелл, обеим чуть за двадцать, – начали распаковывать сундуки. Марджери вынимала и развешивала платья королевы с таким благоговением, будто это были алтарные завесы. Она поступила к Екатерине по рекомендации сэра Джона Пекча, у жены которого служила, и королева была девушкой довольна. Темно-рыжая Марджери, с открытым лицом, очерченным в форме сердца, была честна и усердна. Элизабет, блеклое подобие сестры, свои обязанности выполняла не хуже. Екатерина улыбнулась, глядя на них обеих, а потом знаком подозвала к себе госпожу Кэри. Она была замужем за дворянином из ближнего круга короля, а потому ей выпала честь сопровождать королеву в качестве фрейлины. – Будьте добры, принесите нам вина. День такой жаркий. Госпожа Кэри улыбнулась и торопливо вышла. Улыбка осветила ее бесстрастное лицо, и Екатерина вдруг вспомнила: да ведь это та самая девочка, которая когда-то плакала и боялась подниматься на борт корабля. – Я вижу, у вас при дворе Мария Болейн, – сказала «королева Франции» с едкой ноткой в голосе. – Она ведь служила вам во Франции, – припомнила Екатерина. – Да, и едва не заработала себе дурную репутацию. Ходили слухи, что с ней делил ложе сам король Франциск. Отец увез ее в деревню, пока доброе имя дочери не было окончательно загублено. – Я понимаю, что привлекло Франциска. Она очень мила. – Мила, и я полагаю – если быть честной, – что у нее не было выбора. Мне ли не знать – Франциск, этот дьявол, взял в осаду и мою добродетель! Он может быть весьма настойчивым и убедительным, к тому же он король. У маленькой мышки Болейн не было никаких шансов устоять против него. – Что ж, теперь она благополучно вышла замуж. Слава Богу, госпожа Кэри не входит в число ее постоянных фрейлин! Королеве не подобало иметь в окружении особ сомнительной добродетели. – Это ничего не доказывает! – снова засмеялась «королева Франции».
Даже землю выровняли, чтобы ни один из королей не возвышался над другим. Генрих и Франциск мирно сошлись на поле между Гином и Ардром, они клялись друг другу в вечной любви, а между тем у каждого за спиной стояла армия. Короли встретились на фоне цветных, переливающихся на солнце, как драгоценные камни, шелковых павильонов, и трудно было сказать, что великолепнее – разодетые в пух и прах монархи, их блистательные придворные или фантастический пейзаж, составленный из ярких шатров. Столько павлиньих нарядов было выставлено напоказ – роскошных платьев и удивительных украшений; костюмы придворных сверкали и переливались на солнце золотой парчой, бессчетными цепями и ожерельями, цену которых невозможно было даже предположить. Екатерина следила за тем, как Генрих с Франциском поприветствовали друг друга и обнялись. При обмене подарками она выдавила из себя улыбку и силилась не выказать отвращения, когда короли ставили подписи под новым договором о дружбе. Она молилась, чтобы Карл, когда узнает об этом, не посчитал себя задетым. Ей приятно было услышать, как Генрих говорит Франциску о своих надеждах на примирение Франции с Империей. С виду Генрих и Франциск как будто были исполнены доброжелательства. Они вели себя как братья и лучшие друзья. Однако Екатерина знала Генриха, и интуиция подсказывала ей, что Франциск тоже разыгрывает роль. Эти двое соперничали не только как короли, но как мужчины, и настоящее согласие между ними было невозможно. Екатерина знала, и Генрих сам ей об этом говорил прямо и открыто: они с Франциском от души ненавидели один другого. Как ни крути, а этот весьма дорогостоящий спектакль лишь скрепил печатью непримиримое соперничество между королями. Было очевидно, что ревность Генриха к Франциску толкала его прямиком в руки императора. Несмотря ни на что, оба короля мужественно изображали дружелюбие, наслаждались бесконечным круговоротом торжеств, турниров и пиров, устроенных, дабы отпраздновать их встречу. Дни шли за днями, развлечения, одно причудливее другого, сменяли друг друга, к вящему удовольствию обоих дворов. Все видели, как Генрих и Франциск щеголяют во все более роскошных новых нарядах, снедаемые плохо скрываемой завистью друг к другу. Вопреки ожиданиям Екатерине понравилась супруга Франциска – благочестивая, полная, нескладная, косоглазая королева Клод. Екатерине стало жаль бедняжку – она сильно хромала и вообще выглядела неважно. Рядом с сестрой Франциска, королевой Наварры, прекрасно образованной женщиной с фиалково-синими глазами, Клод выглядела жалко и вызывала сочувствие. А Франциск еще называл ее, Екатерину, старой и уродливой! Она, по крайней мере, стояла прямо и была здорова, хотя ей уже тридцать четыре и она не страдает худобой. Но в одном жизненно важном отношении Клод вызывала восхищение Екатерины и даже зависть – она рожала сыновей. – Супруга короля постоянно беременна все время замужества, – тихо проговорила «королева Франции», – и вынуждена мириться с его изменами. Неудивительно, что она так строга со своими фрейлинами! Сердце Екатерины сжалось от боли за Клод. Они быстро привязались друг к другу. Впервые вместе посетив мессу, королевы долго спорили, кому первой поцеловать Библию: каждая хотела уступить право первенства своей спутнице. В конце концов вместо святой книги они облобызали друг друга, и между ними зародилась дружба. Потом настал день, когда Генрих вызвал Франциска помериться силами в борьбе, и у Екатерины упало сердце. Ее супруг, любивший поесть, начал полнеть. Она даже слышала, как один француз назвал его толстым, что было несправедливо, но Франциск был очевидно стройнее и моложе. Во время схватки наступил пугающий момент, когда он опрокинул Генриха на пол, отчего обе королевы и все зрители в ужасе затаили дыхание. Побагровев от ярости, Генрих поднялся на ноги и набросился бы на Франциска, если бы к ним не подскочили Екатерина и Клод. Женщины вклинились между монархами и шутками разрядили обстановку. К счастью, Генрих лучше проявил себя во время турниров, и честь его была восстановлена. Екатерина с огромным удовольствием сидела на королевском балконе в испанском головном уборе. Пусть эти французы помнят, кто она такая! Вечером Екатерина проводила Генриха в Ардр, в гости к королеве Клод, сама же должна была занимать Франциска на пышном банкете в Гине. Они обменялись любезностями, насколько позволял Екатерине ее небогатый французский, пока угощались изысканно украшенными тортами, марципановыми конфетами в золотых листочках и засахаренными фруктами. По ходу беседы Екатерина оценила остроумие и обаяние Франциска, и ей стало ясно, почему женщины покорялись ему. Но это был не тот тип мужчины, который нравился ей самой. С виду король казался слишком угрюмым, имел длинный нос, как у всех Валуа, и злобно-насмешливые глаза – настоящий французский дьявол. Франциск был человеком утонченным и воспитанным, но тем не менее, казалось, считал приемлемым и допустимым разговаривать с коронованной хозяйкой торжества и в то же время кокетничать с ее фрейлинами. Позже, когда фрейлины Екатерины танцевали для него, он даже не попросил Екатерину оказать ему честь потанцевать с ним, а вместо этого пожирал плотоядным взглядом госпожу Кэри: та залилась краской и не знала, куда деть глаза. К возвращению Генриха Екатерина кипела от злости. – У меня нет слов! – фыркнула она. – Это такой турок, какого свет еще не видывал. Женщине опасно находиться рядом с ним. Генрих нахмурился: – Надеюсь, Кейт, он не вел себя непочтительно с вами? – Только до того, как перенес свое внимание с меня на ту, что больше ему приглянулась. Не сводил глаз с бедной госпожи Кэри и совсем ее сконфузил. – Уиллу Кэри это не понравится. Франциск – развратник, и ему дела нет до мнения посторонних. Говорят, в Париже его главная любовница мадам де Шатобриан верховодит всем двором и никто не считает это возмутительным. Екатерину передернуло. Бедная Клод! Слава Богу, Генрих никогда не подвергал ее саму такому публичному унижению. Он был неверен ей, но таил свои измены от света. Все последующие дни до окончания торжеств Екатерина с трудом принуждала себя соблюдать приличия и быть вежливой с Франциском. Ей надоело долгими часами сидеть у площадки, где проводились бесконечные турниры, до которых Генрих был большим охотником; до отказа набивать утробу сытной пищей во время идущих чередой пиров; давать указания фрейлинам, переодевавшим ее в новый наряд для каждого события. Сильно скучая по дочери, она предпочла бы провести это время дома, в Англии, с Марией. Думать о том, сколько все это стоит, она даже не решалась. И Уолси был тут как тут, пресмыкался перед французами, не пропускал ни одного развлечения и наслаждался падавшими и на него отблесками славы Генриха, хотя вся она должна была принадлежать одному королю. Наконец грандиозное представление завершилось – Екатерина уже не чаяла дождаться этого. Уолси отслужил мессу для обоих дворов. По завершении прощального пира все вышли на воздух, в бархатную июньскую ночь, посмотреть фейерверк. Огненная саламандра – эмблема короля Франциска – взвилась в небо, с шипением зависла над головами зрителей и рассыпалась на мириады искр: раздались восторженные восклицания. Толпа начала рассеиваться, и тут Екатерина увидела госпожу Кэри рядом с темноволосой девушкой во французском чепце в форме венца, какие сейчас были очень модными в Париже. Екатерина новых веяний не одобряла. Она находила такой головной убор слишком дерзким для замужней женщины, потому что он не закрывал волос полностью, а они не должны быть видны. Однако золовка Екатерины, «королева Франции», носила такой чепец и выглядела в нем очень привлекательной. Темноволосая девушка смеялась излишне громко, что не вязалось с элегантностью и грацией всего ее облика. Две молодые женщины обнялись, потом темноволосая отвернулась, взмахнув шлейфом, и Мария Кэри поспешила присоединиться к своей госпоже. – Прошу прощения, ваша милость, но я должна была попрощаться с сестрой. Мы не виделись пять лет. Она была при французском дворе, служила королеве Клод, а сейчас состоит при сестре короля Франциска. – Она преуспела, – заметила Екатерина, следя за удаляющейся фигурой, которая мелькала среди гостей. Сестра Марии, как она отметила, не красавица, но не лишена определенной грации. – Отец надеялся, что она найдет себе мужа при французском дворе, но у Анны свое на уме. Она согласится только на самое лучшее! – Тогда я надеюсь, она удовлетворит желания своего сердца и одновременно порадует отца. Ну, нам пора спать. Завтра я даю прощальный обед в честь Франциска, поэтому хочу встать пораньше. Ведь мы уезжаем на следующий день, и надо многое сделать. Екатерина шла по аляповатому временному дворцу, едва не подпрыгивая от радости. Всего тридцать шесть часов – и они отправятся в обратный путь, на встречу с императором!
Опять завертелась череда пиров, почти таких же обильных, как те, что недавно отшумели. Однако на этот раз Екатерина с жаром окунулась во все торжества: Генрих и Карл являли необычайное дружелюбие, не было и намека на какое-либо соперничество между ними. Королевская чета встретила императора в Гравлине, после чего Карла проводили в принадлежавший Генриху город Кале, где разместили в Казначейском дворце. Теперь Екатерина с удовольствием играла роль хозяйки за ужинами, во время представлений с участием масок и банкетов, ведь их устраивали в честь Карла. Хотя он и был по натуре скрытным, но представлял Испанию, то есть все, что было дорого королеве. – Говорят, Франциск брызжет ядом, узнав о нашей дружбе! – ликовал Генрих. Он так и не простил Франциску, что тот сбил его с ног, и был рад уязвить соперника. Король охотно подписал с Карлом новый договор о дружбе, оба согласились в ближайшие два года не заключать союзов с Францией. Екатерине было очень грустно расставаться с Карлом. На прощание она желала ему здоровья и счастья, а сама утешалась сознанием того, что Англия и Испания наконец-то снова стали союзниками. Настала пора взойти на флагманский корабль и отправиться домой – в Англию!
Глава 19 1522–1523 годы
Это был один из самых знаменательных дней в жизни Екатерины: Генрих сообщил ей, что Карл просит руки Марии. Она посмотрела на свою пятилетнюю дочурку, которая хмуро, но довольно складно играла на вёрджинеле, и сердце ее переполнилось почти невыносимой гордостью. Эта крошка станет не только королевой Испании, но и хозяйкой половины Европы! От такой перспективы захватывало дух. И к тому же Мария прекрасно подходила на эту роль, была просто предназначена для нее самой судьбой. Принцесса уже весьма успешно участвовала в живых картинах, которые устраивали при дворе. В четыре года она сама принимала иностранных послов и играла для них, любила танцевать и могла кружиться так же красиво, как любая фрейлина. Принцессой Марией можно было гордиться во всех отношениях, и лучшей супруги для Карла Екатерина не могла и вообразить. И для Марии это была гораздо более выгодная партия, чем брачный союз с Реджинальдом Поулом. Конечно, разница в возрасте составляла целых шестнадцать лет. Нелегко просить молодого мужчину в расцвете сил ждать по крайней мере лет семь, пока Мария не достигнет брачного возраста. А Екатерина надеялась, ведь мысль о расставании с дочерью была для нее невыносимой, что срок ожидания можно и увеличить, так как Мария росла медленно. – Не могу выразить, как я взволнована, – сказала она Генриху. – На иное я и не рассчитывал, – ответил он, обнимая супругу. – Я всегда надеялась для Марии на брак с испанцем. Когда ее обручили с дофином, это меня не обрадовало, но кто я, чтобы осуждать ваши мудрые решения. – Уолси обо всем позаботился. Помолвка расторгнута. – Какое облегчение! – Екатерина наклонилась и погладила дочь по шелковистым рыжим волосам. – Император – самая завидная партия во всем христианском мире, – гордо заявил Генрих, подхватил радостную Марию на руки и поцеловал ее. – Кто у нас будет императрицей? – посмеиваясь, спросил он. – Я! – крикнула в ответ девочка. Итак, брачный договор был подписан, посол императора прибыл в Гринвич улаживать формальности, чтобы весной Карл мог приехать в Англию заключить помолвку. Улыбка сияла на лице Екатерины, на ходу королева едва не подпрыгивала от радости, чувствуя любовь ко всему миру. Даже к Уолси, который вел переговоры о новом союзе. Она знала, что Уолси имеет в этом деле свой тайный интерес. Он не скрывал, что хотел бы в один прекрасный день стать папой, а император, конечно, обладает большим влиянием в Ватикане. Надежды кардинала вспыхнули, когда в декабре умер папа Лев. Однако император не удостоил Уолси вниманием и решил поддержать другого кандидата – своего бывшего наставника и регента в Испании. Мало для кого стало сюрпризом то, что одобренный императором претендент и был должным образом избран. На лице Уолси застыла каменная улыбка. – Я так надеялся, что его императорское величество будет милостив ко мне, – говорил он Генриху за ужином в тот день, когда новость об избрании папы с невероятной скоростью достигла Лондона. – Став папой, я бы мог изрядно порадеть для блага вашего величества. Генрих крутил в руке кубок с вином и хмурился: – Причина не в недостатке давления. Я отправил сто тысяч дукатов, чтобы скупить голоса. Просил императора поддержать вас и послать в Рим армию, чтобы показать, насколько серьезны наши намерения. Томас, мне очень жаль, что все это оказалось напрасным. Тем не менее король Франции подскакивает от ярости, потому что папой был избран подданный императора. – Генрих злобно усмехнулся. – Может статься, это были и не напрасные усилия! Екатерина ничего не сказала, но встревожилась. Если Уолси начнет действовать против императора, то может расстроить новый союз. Кардинал был всемогущ. Вспомнить хотя бы, что произошло в прошлом году с Бекингемом. Герцога обвинили в предательстве, и не потому, считала Екатерина, что тот заявлял притязания на трон и втайне готовил заговор, но из-за его ненависти к Уолси. До ушей короля весьма кстати донеслись слухи, будто герцог имеет виды на его корону. Бекингем проявил неосмотрительность: не догадываясь о наличии среди слушателей доносчиков, он высказался в том смысле, что, мол, Господь покарал Генриха за смерть графа Уорика и забрал всех его сыновей, а потом намекнул, что сам он гораздо больше подходит на место правителя. Не было секретом, что Бекингем, потомок длинной череды предков-королей, презирал Уолси. Екатерина сама стала свидетельницей того, как однажды, когда кардинал собрался омыть руки в той же чаше, что и герцог, Бекингем намеренно опрокинул ее и вода вылилась на башмаки Уолси. Кардинал с лихвой отплатил недругу за эту и прочие обиды. Бекингем сложил голову на плахе, и после этой кровавой расправы обширные земли герцога отошли королю. К тому же Генрих избавился от соперника, притязавшего на трон. Все это дало монарху еще более веские основания для благодарности и привязанности к Уолси. Екатерина недолюбливала Бекингема, но не верила, что он виновен в измене королю. Если краски сгустили и представили дело Генриху в самом мрачном виде, это было делом рук Уолси. В будущем Екатерина собиралась проявлять бóльшую осторожность и не становиться на пути у всесильногокардинала. Она и без того опасалась, что Уолси уже наточил зуб против Испании.В те дни, обедая в узком кругу с Екатериной, Генрих обязательно посылал за Томасом Мором, чтобы повеселился с ними – так называл это сам король. Нередко призывал он Мора и в свой кабинет, откуда не выпускал часами, обсуждая вопросы астрономии, теологии и геометрии. Последний предмет особенно увлекал Генриха, а на Екатерину навевал невыносимую скуку. Она беспокоилась, что Генрих целиком завладел Мором. Король не переставал подшучивать над его нежеланием жить при дворе. Недавно Мор позволил себе обронить в разговоре, что уже много месяцев не имел возможности съездить домой к жене и детям. Генрих остался глух к намекам. Он любил общество Мора и все время просил у него советов по поводу своего трактата против Лютера, который писал на латыни. Больше года Генрих потратил на этот труд, и Екатерина присутствовала на многих затягивавшихся допоздна дискуссиях между королем и сэром Томасом, который разделял опасения своего господина относительно ереси. Мор был верным католиком, и это вызывало симпатии Екатерины не меньше, чем его цельная прямодушная натура. Она была рада, что этот человек стойко поддерживал желание короля уничтожить новую ересь в зародыше. – Не вижу ничего дурного в том, чтобы обсуждать отдельные положения церковной доктрины, – сказал однажды Генрих во время позднего ужина, за которым собрались они втроем. – Но ересь – это совершенно другое дело, и меня ужасает, что учению этого ничтожества может поверить хоть кто-то. – Я абсолютно согласен с вашим величеством, – заявил Мор. Обычно он был мягок, но сейчас глаза ученого мужа сверкали. – Ересь – это болезнь, разъедающая верхушку Церкви. Ее нужно вырвать с корнем и уничтожить. – Аминь, – сказала Екатерина. – Я опасаюсь за души тех бедных невежд, которые увлеклись этим опасным учением. – Я разумный человек, – продолжил Генрих, – и знаю, что в Церкви есть злоупотребления, но я не стану поощрять ересь как средство их исправления. Это подрывает установленные Небом основы порядка в нашем обществе и вызывает у низших классов разочарование в государственных устоях. – Это ведет к вечному проклятию, – добавил сэр Томас. – Вот почему сожжение еретиков есть акт милосердия: они получают представление об адском пламени и раскаиваются на пороге смерти. А если нет, тогда пусть не надеются на воскрешение из мертвых, а мир очистится от скверны. Генрих с воодушевлением кивал: – Я не потерплю ересей в своем королевстве и не допущу, чтобы идеи Лютера набирали силу. Он отрицает даже святость уз брака. Что ж, я намерен защитить это таинство, которое превращает воду желания в изысканное вино. Кого соединил Бог, тех никакой человек разлучить не властен! – Он улыбнулся Екатерине. – Лютер также отрицает авторитет папы, но я написал, что все истинно верующие признают Римскую церковь своей матерью. Честно говоря, я столь многим обязан папскому престолу, что не могу не оказать ему достойных почестей. Я намерен и дальше распространять и поддерживать власть папы на высочайшем уровне. Екатерина улыбнулась в ответ, с гордостью замечая пылающий в глазах супруга жар. Словно истинный крестоносец, он неудержимо рвался встать на защиту Церкви.
Папа принял трактат Генриха с восторженными похвалами и в благодарность даровал ему титул «Защитник веры». Книга короля была напечатана, одобрена критиками и снискала широкую известность. Генрих купался в волнах низкопоклонства и лести. Потом пришло послание от самого Мартина Лютера. – Он смеет говорить, что я распалился, как взъярившаяся шлюха! – ревел Генрих. – Он пишет – прошу прощения, – что затолкает мою наглую ложь мне в горло. Он даже имеет наглость высказывать подозрения, что эту книгу написал вместо меня кто-то другой. Что ж, он будет принужден взять свои слова обратно. Я напишу этому ничтожному, больному, ополоумевшему барану, что всем прекрасно известно: эта книга моя и, клянусь, написал ее я! Король негодовал и на протяжении всего праздничного застолья, устроенного при дворе, дабы отметить получение им нового титула, метал по сторонам гневные взгляды. Екатерина пыталась разрядить обстановку. – Не берите близко к сердцу этого негодного монаха, – утешала она Генриха. – Чего стоит его мнение, когда вас так высоко оценил папа? – Я надеялся своими доводами заставить его замолчать! Королевский шут, видя, что его господин удручен, выскочил вперед, звякнул унизанной колокольчиками палкой и скорчил гримасу. – Что печалит вас, добрейший Генрих? – крикнул он. – Да бросьте! Давайте будем защищать и утешать друг друга, а вера пусть позаботится о себе сама! Хотя король и был изрядно не в духе, даже он не мог не засмеяться над этой шуткой.
В мае со всей возможной роскошью был устроен турнир в честь послов Карла. Екатерина заняла свое обычное место на королевском балконе над турнирной площадкой, фрейлины уселись рядом с ней, оживленные предвкушением зрелища, ведь в турнире должен был принять участие сам король. Вот и он, въезжает на площадку на великолепном, покрытом попоной коне, делает круг, кланяется с седла своей королеве, принимает восторженные аплодисменты ее фрейлин. Потом Генрих подобрал поводья и развернулся, тут Екатерина увидела, что сзади на попоне из серебряной парчи написано: «Она пронзила мне сердце». На мгновение Екатерина обомлела. Чем она могла его расстроить? В обращении супруга не было и следов обиды. И тут Екатерину осенило: ведь эти слова предназначены не ей! Голова закружилась. Турнирная площадка, балконы, море лиц – все поплыло перед глазами как в тумане. Рыцари нередко помещали подобные девизы на попонах своих коней: это входило в правила любовной игры, которую вели при королевских дворах столетиями. Джентльмен – обычно одинокий джентльмен, а таких при дворе было немало – часто без особых надежд на успех посвящал себя леди, которой желал служить, леди с удовольствием становилась его госпожой, даже если была замужем или намного выше его по положению. Поклонник мог годами томиться и жаждать ее любви – как считалось, недосягаемой. Крайне важна была таинственность: никому не следовало знать имя избранницы. Отсюда и девизы, выражавшие душевную муку. Как принцесса, а потом и королева, Екатерина никогда не играла в эту игру. Екатерина могла зажечь чувства во множестве поклонников, но целомудренное испанское воспитание не позволяло ей делать этого. Тем не менее своих фрейлин она не порицала, если те занимались этим с виду безобидным флиртом, и любила слушать их разговоры. Но Генрих всегда был сдержан и тактичен. Со времен недолгих ухаживаний за Екатериной он больше не посвящал себя искусству придворного флирта. Она благодарила Господа за то, что муж не держал при дворе и не выставлял напоказ своих любовниц, но совершал свои неблаговидные поступки тайно. И вот теперь он, женатый мужчина, объявлял всему миру о своих страданиях по женщине – а как еще это можно понять? Такое поведение было не в его стиле и совершенно против правил. Екатерине так не хотелось в это верить. От Бесси Блаунт Генрих давным-давно отделался: эта женщина была выдана замуж и, говорили, родила девочку. В любом случае ко двору она не вернулась, так что это предназначено не Бесси. Тогда кому же? Екатерина пыталась сосредоточить внимание на турнирной площадке, но плохо видела от слез. Когда толпа радостно кричала, она подхватывала крик. Когда победители выходили получать свои призы, она грациозно вручала их. Она улыбалась, громко зааплодировала, когда Генрих сбил с седла своего противника. И все это время внутренне умирала. Пыталась уверить себя, что, может быть, это ничего не значит, а игра в придворную любовь – безобидная забава. Конечно, так оно и было, все это лишь игра! Однако Екатерина знала, как и все: такие игры часто служили прикрытием для кое-чего менее рыцарственного. Генрих – король, красивый, атлетичный и могущественный. Она сама знала, насколько он неотразим. Немало женщин готовы без колебаний отдаться ему. Екатерина обвела взглядом фрейлин, таких милых в замечательных черно-белых платьях. Может, кто-нибудь из них? Не похоже. Поведение фрейлин подозрений у нее не вызвало. В тот вечер за ужином в честь послов Генрих вел себя как обычно: был общителен, много говорил о турнирах и союзе с императором, заключение которого считал своим личным достижением. В его обращении с супругой ничто не указывало на серьезные перемены. Но потом Екатерина напомнила себе, что Генрих – великий притворщик. В ту ночь он пришел к ней, как приходил нередко, не оставив надежды снова зачать с ней ребенка. После рождения малютки Изабеллы прошло уже три с половиной года, и супруги были близки к отчаянию. У Екатерины не хватало духу сказать Генриху, что за прошлый год у нее три раза пропадали месячные. Трижды появлялась надежда, но продолжалась не более месяца. Прежде регулярные, как фазы луны, циклы сбились. Зная, что это может предвещать, Екатерина постоянно молилась, чтобы, пока еще есть время, Бог даровал ей возможность зачать. «Сын, – молила она, – наследник, чтобы порадовать Англию и мужа. Господи, даруй мне сына! Прошу Тебя, пожалуйста…» Разве это так много? Повсюду, куда ни глянь, везде она видела женщин со здоровыми сыновьями всех возрастов. Почему ей отказано хотя бы в одном мальчике? Генрих никогда не упрекал ее. Он понимал, что она так же раздавлена, как и он, своей неспособностью выносить для него наследника. Это не ее вина, всякий раз заверял он Екатерину. Он пытался развеселить ее, говоря, что желание иметь сына – это хороший предлог, чтобы приходить к ней в постель. Однако постоянное давление необходимости забеременеть лишало акт любви былой прелести. Теперь он превратился лишь в средство достижения цели. Генрих продолжал быть любящим супругом, да, но Екатерина раздумывала: а будь дворец полон сыновей, приходил бы муж к ней так же часто? Сегодняшняя ночь не стала исключением. Как обычно, Генрих встал на колени и произнес молитвы, забрался на постель, поцеловал ее, пробормотал несколько нежных слов, потом энергично утолил свое желание. Их любовные соития никогда не продолжались долго, и не в том дело. Потом они обычно немного лежали вместе и разговаривали, после чего муж оставлял ее и удалялся в свои покои. Во многих резиденциях Генрих построил секретные лестницы, соединявшие его комнаты с опочивальней Екатерины, чтобы они могли наслаждаться уединением. Принятый в Англии обычай гласных супружеских визитов он одобрял не больше, чем она. Но лучшими ночами бывали те, когда Генрих засыпал и оставался со своей королевой до утра, потому что тогда он мог вновь любовно соединиться с ней. Екатерине не верилось, что мужчина, который приходил к ней почти еженощно, мог преследовать другую женщину. Наконец Генрих тихо засопел, и она задумалась об истинном смысле того девиза. Она пронзила мне сердце! Ну конечно! Дама отказала ему, каким бы невероятным это ни выглядело. Да кто же из женщин осмелился бы на такое? У кого хватило бы дерзости? Эту загадку Екатерина продолжала разгадывать и два дня спустя, на пиру в честь послов, устроенном Уолси в Йорк-Плейсе – резиденции архиепископов Лондона, которую кардинал превратил в еще один огромный дворец. Екатерина поймала себя на том, что следит за Генрихом: не подаст ли тот знаков особого внимания какой-нибудь леди? – Le Château Vert[14], – провозгласил кардинал, поднимаясь со своего места рядом с королем, чтобы милостиво принять выражаемое гостями восхищение. На площадке для живых картин было выстроено три башни, с которых свешивались три вымпела: на одном – три разбитых сердца, на другом – женская рука, держащая мужское сердце; на третьем – женская рука, крутящая мужское сердце. Екатерина с болью подумала, не связано ли это каким-нибудь образом с раненным два дня назад сердцем короля. Но потом воспылала надеждой, решив, что все это часть одной затейливой метафоры. От этой мысли Екатерина просияла. Стоило Генриху встать и покинуть зал, как она почти уверилась в правильности своей догадки. Вдруг из замка выскочили восемь женщин, все в платьях из белого атласа с миланским кружевом и золотой вышивкой, в разноцветных шелковых платках поверх миланских чепцов. У каждой на чепчике золотой нитью было вышито имя ее персонажа. Возглавляла труппу «королева Франции», все такая же прекрасная в свои двадцать шесть, и роль была ей под стать – Красота. Одна из самых близких Екатерине фрейлин – Гертруда Блаунт играла Честь. Наполовину испанка, с оливковой кожей и восхитительными черными волосами, Гертруда была дочерью лорда Маунтжоя и Агнес де Ванагас и недавно вышла замуж за кузена короля, Генриха Куртене. Верность изображала недавно появившаяся при дворе дочь лорда Морли Джейн Паркер, невеста наследника сэра Томаса Болейна, Джорджа – красивого и шаловливого придворного пажа. Дочь Болейна, госпожа Кэри, тоже была здесь – в роли Доброты, а ее сестра – девушка, которую Екатерина впервые увидела во Франции, исполняла роль Упорства. Анна Болейн теперь состояла фрейлиной при дворе королевы. Лишь месяц назад сэр Томас обратился к Екатерине и объяснил, что после сближения Генриха с императором его дочери больше не рады при французском дворе, особенно в свете казавшейся неизбежной войны Англии с Францией. Пожалев девушку, Екатерина согласилась принять ее в свою свиту и была вознаграждена. Анна, не из тех красавиц, каких хотела иметь в своем окружении королева, обладала элегантностью, была воспитанна, музыкальна и остроумна. Ее очарование и веселый нрав внесли оживление в размеренную и несколько монотонную жизнь двора Екатерины. «Кроме того, госпожа Анна прекрасно танцует», – наблюдая за девушкой, отметила королева. Более миловидная сестра бледнела на ее фоне. В зал вошли восемь роскошно одетых лордов: шляпы из золотой парчи, просторные накидки из синего атласа. Они именовались Любовь, Благородство, Юность, Преданность, Набожность, Верность, Удовольствие, Добронравие и Свобода. Несмотря на театральный костюм, было ясно, что внушительную фигуру Любви представлял сам король. Екатерина почувствовала себя неуютно. Лордов вводила в зал маска Страстное Желание, в накидке из алого атласа с пылающими языками пламени, вышитыми золотой нитью. В этом человеке нельзя было не узнать Уильяма Корниша – гения, который устраивал все развлечения при дворе. Лорды с воодушевлением рвались к крепости под грохот выстрелов, однако леди отчаянно защищались, бросая в осаждающих конфеты и брызгая на них розовой водой. Мужчины платили тем, что закидывали замок финиками и апельсинами, и, вполне предсказуемо, в конце концов оборонявшиеся были принуждены к сдаче. Взяв пленниц за руки, лорды спустились с ними в зал, где исполнили очень грациозный танец. Екатерина не могла оторвать глаз от сновавшего между танцорами Генриха: он наклонялся, кружился, подпрыгивал. Самого рослого и крепко сбитого из всех мужчин, его легко было узнать. Когда сняли маски, раздались шумные аплодисменты. Генрих, раскрасневшийся от удовольствия, проводил Екатерину в апартаменты, отведенные ей Уолси, где она должна была играть роль хозяйки на роскошном приеме в честь послов. С удовольствием накладывая на тарелку и уплетая изысканные угощения, – а их были предложены сотни, – одновременно оживленно беседуя с кардиналом и его гостями, Генрих ничем не выдавал интереса к присутствующим дамам. Когда он от всей души расцеловал Екатерину, пожелал ей спокойной ночи и поблагодарил за гостеприимство, она почувствовала, что способна поверить в безосновательность подозрений. А сердца и девизы, которые показались ей такими зловещими, – это просто придворные игры, прелюдия к живым картинам.
Стоя в дверях главного зала, Екатерина держала за руку шестилетнюю Марию и ждала встречи с племянником Карлом. Весть о его прибытии в Англию для помолвки с Марией принесла ей немалую отраду. Наконец-то. Кроме того, Генрих, все-таки заставив себя взяться за управление государством, хотя бы в этот раз отверг настояния Уолси и вместе с Карлом объявил войну Франции, дабы укротить амбиции Франциска в Италии. Генрих отправился встречать Карла и доставил его в Гринвич на барке. Когда юный император преклонил колена перед Екатериной, сердце ее переполняла радость. – Почтенная тетушка, я смиренно прошу вашего благословения, – обратился к ней племянник. Она с удовольствием благословила его, подняла с колен и расцеловала: – Не могу выразить, как я счастлива видеть вас, ваше величество. Карл расплылся в улыбке, что было для него большой редкостью: – А это моя будущая невеста! Он взял ручку Марии и поцеловал ее. Девочка очень мило сделала реверанс, широко расставив в стороны зажатую в руках дамастовую юбку. – Судя по всему, вы станете прекрасной дамой, – сказал ей Карл, – точной копией своей матери-королевы. Мария зарделась и улыбнулась, играя ямочками на щеках, потом показала Карлу приколотую к своему корсажу новую брошку. На ней было написано «Император». Генрих распорядился, чтобы для дочери изготовили такое украшение. – Я счастливец, раз у меня такая преданная жена, – сказал Карл и погладил Марию по маленькой рыжеволосой головке. Естественно, Генрих организовал турниры в честь гостя. В первый день Карл сидел рядом с Екатериной, наблюдая с галереи за площадкой, где проходили поединки, а на следующий сразился с Генрихом: хозяин позаботился, чтобы их единоборство закончилось вничью. Дальше последовал изысканный ужин, а за ним – танцы и представление театра масок. В июне двор совершил поездку в Виндзор, где состоялась официальная церемония помолвки. Екатерина, тронутая до глубины души, следила за тем, как Мария, вложив свою крошечную ручку в мужественную длань Карла, лепетала слова обетов. Она выглядела такой крошечной рядом со своим женихом и в церкви, и за столом во время пира, который устроили в честь этого события. Екатерина была ошеломлена разноречивыми чувствами: удовлетворение свершившейся помолвкой умерялось сознанием того, что Мария, когда ей исполнится двенадцать, покинет ее и уедет в Испанию. И возможно – не дай Боже! – она никогда больше не увидит дочь. Но как же мала Мария! Она и для своего возраста выглядела крошкой – такая хрупкая, уязвимая! Мысли Екатерины заполонили всевозможные сомнения. Как принцесса будет жить без материнской любви и наставления? Сумеет ли приспособиться к строгому этикету испанского двора после гораздо большей свободы при английском? Будет ли готова в двенадцать лет разделить ложе с Карлом, и будет ли он, дай-то Бог, нежен с ней? Теперь Екатерина поняла, что ощущала ее мать, Изабелла, когда ей приходилось отрывать от себя дочерей. Шесть лет, коротких шесть лет – всего-то и осталось ей провести с Марией. Как мало, почти совсем ничего! За обедом Генрих не был, как обычно, общительным и откровенным. Испытывает ли он те же опасения, что и она? Или у него голова болит о своем? Карл, казалось, не замечал ничего необычного. Он говорил о грандиозных празднествах, которые устроит по приезде Марии в Испанию, и о великолепном дворе, который для нее создаст. – Ей придется многому научиться и ко многому привыкнуть, – сказал он, вторя тревожным раздумьям Екатерины. – Я подумал: не согласитесь ли вы, что, вероятно, будет лучше, если она приедет в Испанию пораньше, чтобы получить образование и воспитание, подобающее будущей императрице и испанской королеве? Вдруг пища потеряла для Екатерины всякий вкус. Ни за что не расстанется с Марией хоть на день раньше положенного срока! Но, хвала Господу, у нее был Генрих! – Нет, братец, – сказал он, – если бы вы стали искать во всем христианском мире человека, который обучил бы Марию испанским обычаям, вы не найдете никого, кто лучше знает их, чем ее мать-королева. К тому же Екатерина очень привязана к вам и сделает все, чтобы вы были довольны воспитанием Марии. В любом случае я сомневаюсь, что Мария будет в состоянии перенести такое путешествие или приспособиться к воздуху другой страны раньше, чем ей исполнится двенадцать. Карл вежливо кивал, а Екатерина безмолвно возносила хвалы Господу. – Благополучие принцессы должно быть превыше любых других соображений, – произнес император, но было ясно, что он разочарован.
Тем вечером Генрих пришел в спальню Екатерины уже очень поздно. Она лежала в постели, но он не стал раздеваться, а вместо этого принялся с обеспокоенным видом расхаживать взад-вперед по комнате. Потом сбросил накидку и сел на стул у камина. Екатерина встала, надела ночную сорочку и устроилась напротив. – Выпьете вина? – предложила она. – Нет, Кейт, я уже выпил достаточно. – Что вас тревожит? Я вижу, что-то не так. Вы беспокоитесь из-за Марии? – Это будет мукой, если она уедет, но у меня на уме более тяжкая забота. Если Мария выйдет замуж за Карла, а у нас не будет сыновей, тогда Англия войдет в число владений Священной Римской империи или Испании. На сегодняшний день это вполне вероятно. Я не хочу остаться в истории последним королем Англии. Екатерину охватил знакомый страх. Что, если она больше не выносит ни одного ребенка? С ее последней беременности прошло уже четыре года. Ей нечем было утешить Генриха. Он до сих пор не знал о нарушении ее цикла и не замечал ночных приливов потливости, которые случались у нее со все возрастающей регулярностью. Она заболела? Несомненно, в тридцать шесть лет она еще не слишком стара и может выносить ребенка. Почему, почему Господь глух к ее мольбам? – Кейт, у меня есть сын, – мягко сказал Генрих, с настороженностью глядя на нее. – Знаю, – ответила она, стараясь, чтобы в голосе не было упрека. – Очевидно, что причина наших неудач во мне, – произнесла она с трудом, запинаясь, с болью. – Я не хотел намекать на это. Бог свидетель, я старался сделать так, чтобы вы ничего не узнали. – При дворе невозможно хранить секреты. Ей показалось, что при этих словах он побледнел. – Я думаю вот о чем: если Бог не посчитает уместным одарить нас сыном, есть ли какая-нибудь возможность сделать этого мальчика законным наследником? – Нет! – крикнула Екатерина. – Ваша наследница – Мария. Она имеет все задатки для того, чтобы стать такой же великой королевой, какой была моя мать. Она обладает теми же свойствами характера, это очевидно уже сейчас. Выйдя замуж за Карла, она сможет управлять Англией. – И через нее управлять страной станет он, потому что она женщина и будет покорна своему супругу. Нет, не этого я хочу, Кейт, и мои подданные этого не потерпят. Вы сами видели, как они не любят иноземцев, не доверяют им. – Ко мне они всегда выказывали большую привязанность, приняли всем сердцем. Они любят меня почти так же, как вас. А Мария – моя дочь и ваша. Они будут любить ее ради нас. Генрих, вы не можете лишить Марию ее прав! «И вы не можете унижать ее и меня, заменяя нашу дочь своим бастардом», – вертелось у нее на языке. – Тогда что мне делать, Кейт? – Мы должны продолжать молиться, Генрих, и пытаться зачать сына. – За этим я сюда и пришел, – сказал он, едва ли не устало. Екатерина помогла ему раздеться, расшнуровала манжеты сорочки и сложила дорогую одежду на сундук. Он забрался голым в постель и прижал ее к себе. Они были близки – почти, – как только могут быть близки мужчина и женщина, тем не менее ничего не происходило. – Простите меня, Кейт, – наконец тихо произнес Генрих. – Копье сегодня не удастся поднять для атаки. Должно быть, я сам не заметил, как выпил больше, чем нужно. Это звучало как отговорка. Просто он был не в настроении, это ясно. У Екатерины возникло ужасное чувство, что он здесь скорее ради исполнения долга, нежели ради желания обладать ею.
Крючковатый нос на лице красивого смуглого мужчины выдавал еврейское происхождение гостя, хотя не могло быть и сомнений, что он истинный христианин. Екатерина протянула ему руку для поцелуя и попросила выпрямиться. – Добро пожаловать в Гринвич, профессор Вивес[15], – с улыбкой сказала Екатерина. – Приятно видеть здесь одного из моих земляков, тем более такого известного. Господин мой король много рассказывал мне о вашей учености. Мы оба с удовольствием прочли ваш комментарий к святому Августину. – Вы очень добры, ваше величество. – Прошу вас, садитесь. Меня интересуют ваши взгляды на образование, особенно для женщин. Вы познакомитесь с сэром Томасом Мором, который обучает своих дочерей так же, как сыновей. Будучи наслышан о вашей репутации, он порекомендовал вас королю и мне. Мужчина в темной, подбитой мехом накидке, какие носят ученые, сел напротив Екатерины. – Я большой поклонник сэра Томаса Мора и благодарен ему за то, что он рассказал обо мне вашему величеству. Он показал всему миру, что образованная женщина скорее сохранит добродетель, чем та, что посвящает время писанию любовных писем! Екатерина снова улыбнулась: – Моя мать, королева Изабелла, придерживалась тех же взглядов, за что я ей очень благодарна. Я сама обучила свою дочь-принцессу письму и катехизису, но не имею достаточного опыта, чтобы стать для нее наставницей в дальнейших занятиях. Это подводит нас к причине, по которой его величество и я просили вас приехать сюда. Мне известно, что вы останетесь в Англии на некоторое время для чтения лекций в Оксфорде, но я хотела бы просить вас составить расписание занятий для моей дочери-принцессы. Строгое лицо Вивеса осветилось радостью. – Мадам, почту это за честь для себя. Во всем христианском мире нет королевы более известной своей образованностью, чем ваша милость. За неделю Вивес с помощью королевы написал программу обучения: Священное Писание, древние классики, история. Романы были запрещены. – Они приучают к легкомыслию, – объяснил Вивес, – принцесса получит больше пользы от поучительных историй, таких как «Терпеливая Гризельда». Екатерина знала эту новеллу из «Декамерона» Боккаччо о женщине, которая вынесла много горя и унижений от своего мужа и тем не менее продолжала любить его. Пожалуй, заложенная в ней мораль послужит хорошим примером для Марии. При обсуждении расписания занятий Вивес пылал энтузиазмом. – Доктору Фетерстону можно поручить общий надзор за образованием принцессы, но латыни ее учить буду я. Ричард Фетерстон, тихий, набожный человек, был духовником Марии и блестящим ученым. – С переводами я помогу Марии сама, – сказала Екатерина. На душе у нее было тепло оттого, что этот испанский профессор так глубоко вникает в дело и полон радостных надежд. – Прекрасная идея, мадам, – согласился Вивес. – Она многое приобретет благодаря эрудиции вашего величества. Свой труд он посвятил Екатерине. «Воспитывайте Вашу дочь в соответствии с этими принципами, и они ее сформируют, – написал он. – Она будет живым напоминанием об образцах честности и мудрости». Екатерина показала составленный Вивесом курс Генриху: – Вам не кажется, что это слишком сурово для семилетнего ребенка? Генрих прочел и от всей души похвалил: – Нет, я так не считаю. Мария – умная девочка. Даст Бог, она станет самой образованной женщиной христианского мира! Мод Парр аплодировала Екатерине: – Я учу своих дочерей читать и писать и хочу, чтобы они знали французский и латынь. По-моему, девочки ничуть не меньше способны к обучению, чем мальчики. – Многие не согласятся с вами, – заметила Екатерина. – Пусть себе злобствуют. Однажды мы докажем свою правоту! Приступив к занятиям, Мария теперь напоминала птицу, отпущенную в небо. Она была послушна, упорна и трудолюбива, ей всегда не терпелось показать родителям, чем она занимается. – Принцесса – редкостный ребенок, – говорил Вивес, – и исключительно одаренный. Он был очень доволен ученицей.
Тем летом Екатерина заметила, что Анна Болейн ходит повсюду летящей походкой и с песенкой на устах. Вскоре королева выяснила и причину этого. Причиной был юный и прекрасный Гарри Перси – наследник герцога Нортумберленда. Тот пристроил сына на службу к кардиналу Уолси, несомненно надеясь, что таким образом его отпрыск будет замечен и получит должность при дворе. Екатерине нравилось приглашать молодых людей в свои покои; она наслаждалась их обществом, а они под ее бдительным, но благосклонным оком могли весело проводить время с фрейлинами. Когда бы кардинал ни прибыл ко двору, Гарри Перси всегда появлялся у дверей Екатерины, и было очевидно, что они с Анной неравнодушны друг к другу. Потом Екатерина обратила внимание, что другая ее фрейлина, Люси Тальбот, кажется, в ссоре с Анной. Они и правда почти не разговаривали. – Не понимаю, что нашло на эту девушку, – сказала Мод. – Она ходит повсюду мрачнее тучи. – Мод, прошу вас, поговорите с ней. Узнайте, что ее беспокоит. Мод вернулась очень быстро, и вид у нее был раздосадованный. – Она говорит, что все в порядке, мадам. Она больше не будет хмуриться. – Лучше оставить ее в покое, – посоветовала Екатерина. – Они, вероятно, поссорились. Она справится с этим. Ах, посмотрите, вот идет Гарри Перси, опять! Екатерина от всего сердца одобряла его ухаживание за Анной Болейн. Для девушки это была бы прекрасная партия, ведь Гарри не только страстно влюблен в нее, но и к тому же является наследником одного из самых больших и наиболее древних герцогств в Англии. Поэтому королева поощряла молодых людей и надеялась вскоре услышать об их помолвке. Но настал сентябрьский день, когда фрейлины вбежали к ней и сообщили, что Анна Болейн лежит на постели и безутешно плачет и никто не может успокоить ее. Екатерина встретилась с ней наедине и была поражена, увидев эту обычно самоуверенную и примерную во всех отношениях фрейлину в таком жалком состоянии. – Скажите мне, что случилось. – Екатерина села рядом с постелью и взяла Анну за руку. – Мне приказано вернуться домой в Хивер, ваша милость, – прошептала Анна. – Но почему? – Екатерина опасалась худшего, но едва могла поверить в то, что эта девушка опозорила себя и свою семью. – Ваша милость будет сердиться на меня, если я расскажу, – шмыгала носом и давилась рыданиями Анна. – Я должна заботиться о вашем благополучии. Вы моя фрейлина, и я за вас отвечаю. Если с вами что-то неладно, это отражается и на мне тоже. Анна еще раз всхлипнула и села. Уложенные косы съехали набок. – Ну что же, мадам, я вижу, что была очень глупа. Мы с Гарри Перси обручились. Екатерина пришла в ужас. Какая дерзость! – Ваши родители знают? – Нет, мадам. Мы влюблены. Мы не подумали. – Это действительно глупо, госпожа Анна. Вам следовало знать, что обручение – такое же обязательство, как и брак, и что оба вы должны были получить разрешение родителей. Гарри Перси – наследник герцогства, а ваш отец – влиятельный человек при дворе. Такие люди всегда долго думают, прежде чем избрать супруга для своего дитяти. Для Гарри же, как для дворянина, требуется еще и разрешение короля. – Я знаю, я все это знаю, – сквозь слезы говорила Анна. – Мадам, мы не думали, что они будут недовольны, и мы вовсе не намеревались оскорбить короля, может быть, все вообще были бы рады нашему союзу, но кардинал сказал «нет». До него донеслись слухи о нас, и он сделал выговор за это Гарри. А меня назвал глупой девчонкой перед всем двором! Он изумлялся, как это Гарри додумался связаться со мной, и сказал, что, если он будет упорствовать, отец оставит его без наследства. А потом выяснилось, что Гарри много лет назад был обручен с дочерью герцога Шрусбери Мэри Тальбот. Вдруг все встало на свои места. Мэри была сестрой Люси. Неудивительно, что та злилась на Анну. – Гарри протестовал, мадам, – говорила Анна. – Он старался как мог, но кардинал приказал ему больше со мной не встречаться, а мне велел покинуть двор! – Анна была вне себя и снова на грани слез. – Ваша милость, я не могу без Гарри. Я люблю его больше жизни, я не хочу оставлять службу у вас. О, что мне делать? Она опустила темноволосую голову на руки, плечи ее вздрагивали. – Я поговорю с королем, – сказала Екатерина. – Но не могу обещать, что это принесет вам пользу.
О судьбе Анны Екатерина заговорила за ужином. – Дочь Болейна хочет срубить дерево не по себе, – произнес Генрих, вытирая рот салфеткой. – Уолси поделился со мной своим беспокойством по поводу этого дела, и я приказал ему вмешаться. Перси уже помолвлен, и это хорошая партия, которую я от души одобрил. Зачем ему жениться на неровне? – Анна очень подавлена, – осмелилась настаивать Екатерина. – Она наговорила дерзостей Уолси, наглая распутница! – Генрих нахмурился. – Жизнь в деревне пойдет ей на пользу. Пусть передохнет там некоторое время и подумает о своем поведении. Мы не можем допустить, чтобы наследники герцогств резвились, как им хочется, и сами заключали помолвки с любой девкой, которая их охмурит! – Но как быть с их обручением? – Уолси позаботился об этом. – Генрих пожал плечами. – Я ему приказал. – Тем не менее мне жаль госпожу Анну. Она верно служит мне. Вы не передумаете и не позволите ей остаться? Потерять человека, за которого она хотела выйти замуж, – это достаточное наказание, вы так не считаете? – Уолси оскорблен ее грубостью. Я сожалею, Кейт, но ей придется уехать домой. И она уехала. Екатерина сердечно попрощалась со своей фрейлиной. – Когда придет время, госпожа Анна, можете быть уверены, здесь, при моем дворе, вас снова примут с удовольствием. Екатерина чувствовала присутствие рядом, среди фрейлин, Люси Тальбот, которая гневно взирала на Анну. – Благодарю вас, ваша милость. Вы были очень добры ко мне. Но, мадам, со мной обошлись несправедливо, и я глубоко оскорблена. – Теперь ярость, скрывавшаяся под скорбью, вырвалась наружу. – Если когда-нибудь это будет в моей власти, я доставлю кардиналу столько же неприятностей, сколько он принес мне! Глаза девушки сверкали. Екатерина была поражена ее горячностью. Даже Люси выглядела встревоженной. В голову Екатерины пришла непрошеная мысль: «Не хотелось бы мне оказаться у нее на пути». А вслух она сказала: – Надеюсь, со временем вы найдете в своем сердце силы простить его. А теперь Бог вам в помощь. Грациозный реверанс, тусклое «прощайте», и Анна Болейн уехала.
Глава 20 1525 год
Екатерина стояла на коленях перед аналоем в своем кабинете в Виндзоре. Голову она положила на руки и больше не молилась, но размышляла. Как сказать Генриху о том, что кровей у нее не было уже больше года и совершенно очевидно, что больше их не предвидится? Она спросила Маргарет Поул, взяв с нее клятву держать все в секрете, что означает прекращение ежемесячных кровотечений, и узнала худшее. Как часто, обманывая себя, она думала, что беременна, а на самом деле в ее организме происходили совсем другие перемены. Ее время кончалось. С тех пор со все возрастающими настойчивостью и отчаянием она молила Господа даровать ей последний шанс подарить Генриху наследника. Три драгоценных месяца с ноября по февраль она пролежала, страдая от лихорадки. Даже подумала однажды, что, наверное, умрет, и задалась вопросом: неужели Господь таким неожиданным образом откликнулся на ее мольбы? Ведь если она покинет этот мир, Генрих будет волен выбрать себе другую жену. Ослабленная болезнью, которую доктор де ла Саа и доктор Гуэрси неуверенно определили как «несбалансированность жизненных соков», Екатерина погрузилась в печаль. И только когда в марте пришла новость о великой победе императора над французами при итальянской Павии и захвате в плен короля Франциска, настроение у нее стало улучшаться. Генрих при известии о пленении Карлом его соперника радовался без меры. Он даже обнял гонца, принесшего весть, и сказал ему: – Друг мой, вы как архангел Гавриил, объявивший о рождении Иисуса Христа! Англия торжествовала. Когда эйфория улеглась, Екатерина снова осталась один на один с мыслью, что у нее больше не будет детей. Ей неприятно было обманывать Генриха, заставлять его думать, будто еще есть надежда на появление наследника, когда в действительности ее не существовало. И дело не только в этом. Она боялась, что, узнав правду, он перестанет приходить в ее спальню. Какой мужчина возжелает близости со стареющей, не способной зачать ребенка, располневшей женщиной? И все же… Как она может рассчитывать на уважение к себе, если нечестна с мужем? Екатерина чувствовала себя раздавленной ужасным грузом неудач. Что было еще хуже, из ее женских частей теперь сочились какие-то отвратительные, дурнопахнущие выделения. Но рассказать кому-нибудь о своей беде Екатерина стыдилась и молча страдала, считая это следствием тех изменений, которые в ней происходили. В тот вечер Генрих впервые пришел к ней за время ее болезни. Впоследствии Екатерину будет передергивать всякий раз при воспоминании о том, что произошло между ними. Прежде мужская сила отказала Генриху лишь однажды, теперь это случилось вновь. Екатерина со стыдом сознавала, что ее лоно издает зловоние, и молилась о том, чтобы Генрих этого не заметил. Но он был необыкновенно брезгливым человеком с чувствительным носом, и она ощутила, как он с отвращением отпрянул от нее. – Кажется, Кейт, я слишком устал, – сказал король, садясь и протягивая руку к своей ночной рубашке. – Я все еще неважно себя чувствую, – пролепетала Екатерина, сгорая от унижения. – Дайте мне знать, когда вам станет лучше, – сказал Генрих, вставая и подцепляя ступнями домашние туфли. Екатерина села, надеясь на прощальный поцелуй. Она не могла вынести мысли, что муж считает ее нечистой и отвратительной. Но Генрих лишь вежливо поклонился, чем подтвердил ее подозрения: она ему неприятна. Это было слишком. Когда он взял свечу и повернулся, чтобы уйти, она залилась слезами. – Что случилось? – спросил Генрих, медля у двери. – Я должна вам кое-что сказать, – шмыгая носом, проговорила она. – У нас больше не будет детей. В этом смысле я больше не женщина. Наступила тишина. Это было хуже, чем всплеск негодования, чем любые упреки. Екатерина подняла мокрое от слез лицо. Генрих так и стоял неподвижно все на том же месте. По его щекам тоже струились слезы. – Мне жаль, мне очень жаль… – давясь рыданиями, бормотала она, желая пролететь по комнате и утешить его. – Все эти годы, все эти молитвы, – убитым голосом произнес он. – И все напрасно. Всё! У других мужчин есть сыновья! У бедняков их столько, что всех не прокормить. Но не у меня, не у короля, которому сын нужен больше, чем кому бы то ни было другому. Почему? Почему, о Господи? Жизнь не могла бы преподнести ему более горькую пилюлю. Крепкому, здоровому, полному сил тридцатитрехлетнему человеку предстояло смириться с тем, что у него больше не будет законных детей. Это ложилось пятном на его достоинство как мужчины. – Чем мы прогневили Его? – в сотый раз вопрошала Екатерина. – Не знаю я! – крикнул Генрих. – Мне нужно время обо всем подумать. Я должен решить, как быть с наследованием. О Боже! Пошатываясь, он добрел до камина, плюхнулся в кресло и сидел там, беспомощно глядя в огонь. – Я должен объявить Марию своей наследницей, – после долгого молчания сказал король. – Вы знаете, что это означает. После моей смерти, при существующем положении дел, Англия станет провинцией империи. Карла нужно поставить в известность. Мне придется сообщить ему, что вы вышли из детородного возраста. Представляю, как он обрадуется. Еще одна территория присоединится к его владениям. В голосе Генриха слышалась горечь. Тут Екатерина снова расплакалась: тяжело было слышать такие пораженческие речи. – Мне жаль, мне очень жаль… – все повторяла и повторяла она. – Мне тоже жаль, Кейт: мне жаль вас и себя, и мне жаль свое королевство. Ужасно думать, что с моей кончиной династия Тюдоров прервется. Но я должен обеспечить передачу власти. Вы думаете, мне хочется, чтобы Карл завладел Англией? Скажите мне, есть ли у нас иной выбор? – Сын Марии может стать наследником. – Все равно это будет Габсбург на английском троне. – Да, но с кровью Тюдоров. – У меня есть сын с кровью Тюдоров, – Генрих, вдруг разозлившись, резко подался назад, – только не ваш, тем более жаль. Ей-богу, я мог бы заставить парламент объявить его законным наследником. Я могу даже получить разрешение у папы и женить его на Марии. Екатерина остолбенела: – Люди никогда не признают бастарда своим королем! Как вы могли о таком подумать! – Я вынужден думать даже о таком! – резко возразил Генрих. – Положение отчаянное. – Это может привести к гражданской войне, – посчитала своим долгом предупредить Екатерину. – Найдутся те, кто сочтет себя более достойными претендентами на престол, чем ваш бастард. – Это меньшее из возможных зол. О Кейт, я не способен рассуждать здраво. – Я сожалею, – повторила Екатерина. – Это ни к чему. – Он сделал над собой видимое усилие. – Вы тут не виноваты.Однако последствия оказались такими, как будто она все же была виновата и он ее наказывал. Время от времени Генрих посещал спальню супруги, но не прикасался к ней, а днем вел себя как обычно, изображал прежнего любящего мужа. Екатерина не могла пожаловаться, что он отдалился, кроме как в физическом смысле, и все же с болезненной ясностью осознавала: желание близости с ней в Генрихе умерло и он посещает ее опочивальню только для того, чтобы избавить свою супругу от стыда и людских пересудов. Слуги ведь не могут без сплетен. И все же Екатерину не покидало ощущение, что нежелание Генриха прикасаться к ней было формой мести за ее материнскую несостоятельность. Сама она никогда не завлекала его на любовные утехи, и теперь у нее не хватало смелости начать. Что, если он ее оттолкнет? Ужасала одна мысль об этом. Кроме того, она так и не избавилась от своего постыдного недуга и знала, что будет неприятна Генриху. Поэтому, отвергнутая супругом, Екатерина молча страдала и, дабы исцелить эту боль, обратилась к молитве. Потом ее постигло еще более страшное унижение.
В середине лета Генрих назначил день, когда будет жаловать дворянство разным достойным людям. По этому случаю устроили пышную церемонию в приемном зале дворца Брайдуэлл в Лондоне.Екатерина присутствовала там – сидела рядом с Генрихом, заставляла себя улыбаться и быть любезной, как будто дела идут превосходно. За спиной у нее стояли фрейлины. По залу, полному придворных, разносился взволнованный, выжидательный гул приглушенных разговоров. Сэр Томас Мор сосредоточенно разбирал стопку патентов, проверял, все ли в порядке. Наконец подал первый из них королю и кивнул. Зазвучали трубы. Герольд у дверей прочистил горло. – Лорд Рус! – провозгласил он. Кузен Генриха Томас Меннерс, бородатый мужчина лет тридцати, очень похожий на короля, приблизился к помосту и преклонил колени. Мор возле Генриха зачитал вслух патент, делавший Меннерса его светлостью герцогом Ратлендом. Генрих поднялся, прикрепил к поясу Руса церемониальный меч, облачил его в накидку, надел ему на голову корону герцогства. Потом вышел Генри Куртене, другой кузен короля, чтобы быть произведенным в маркиза Эксетера. Они с королем росли вместе, их матери были сестрами, а жена Куртене, Гертруда Блаунт, считалась одной из близких подруг Екатерины, так что королева радовалась за них обоих. – Лорд Генрих Брэндон! В зал вошел высокий рыцарь, неся на руках двухлетнего Генри Брэндона. Екатерина улыбнулась «королеве Франции». Как бы ей хотелось иметь такого милого мальчика! Генрих наклонился и погладил племянника по головке, а рыцарь, не спуская малыша с рук, опустился на колени, чтобы ребенка посвятили в дворянство. Для этого были изготовлены миниатюрные пояс, меч, накидка и корона. Екатерина заметила выражение лица Генриха, когда он производил племянника, названного в его честь, в герцоги Линкольна: всего на миг он утратил контроль над собой, и на лице его отобразилась тоска и даже глубокое внутреннее волнение. Екатерина подумала о маленьком братике и тезке этого мальчика, который умер три года назад в возрасте шести лет. «Королева Франции» тоже познала горе, но, по крайней мере, у нее остался живой сын. Екатерина помолилась о его здоровье. – Сэр Томас Болейн! Болейн в свою очередь прошагал к помосту и встал на колени. Этот человек с грубыми чертами лица и такой же грубой речью стал близким другом короля и много лет верно служил ему. Екатерина никогда не испытывала к нему особенно добрых чувств, но признавала, что он заслужил свои почести. Очевидно, другие тоже так считали: при его появлении по залу, как рябь по морской глади, пронесся приглушенный ропот. Когда Болейна произвели в виконты Рочфорда, за спиной у Екатерины кто-то пробормотал: «Плата за грехи!» Это была Анна Болейн, прощенная и вернувшаяся ко двору. Изумленная как самим замечанием, так и тем, что Анна осмелилась сделать его в адрес своего отца, Екатерина готова была повернуться и сделать ей замечание, однако объявление следующего имени заставило ее замереть на месте. – Генри Фицрой! Екатерина оцепенела. Возможно ли, чтобы Генрих прилюдно так унизил ее? Как он мог! Это возмутительно и жестоко – все равно что бросить ей в лицо упрек в несостоятельности. И все глазели на нее, пялились, выворачивали шеи, чтобы увидеть, как она отреагирует. Екатерина взяла себя в руки. Она не доставит им этого удовольствия! Улыбка не сходила с ее лица, однако она не могла оторвать глаз от миловидного крепкого мальчика лет шести, который вышел, церемонно сопровождаемый тремя герцогами, и грациозно опустился на колени перед отцом, на которого был очень похож. А Мор оглашал целую череду почетных титулов – рыцарь благороднейшего ордена Подвязки, герцог Ноттингем, герцог Ричмонд, граф Сомерсет… Екатерина ужаснулась. Это все королевские титулы! Отец Генриха до вступления на трон был герцогом Ричмондом, а имя Сомерсет навечно связано с его прославленными предками Бофортами. И все это отдано бастарду… Невыносимо! Улыбка на лице Екатерины закаменела. Королева понимала, что люди наблюдают за ней еще пристальнее, чем прежде, и что Уолси поглядывает на нее с самодовольной ухмылкой. Разумеется, ведь он был крестным отцом Фицроя. Нет сомнений, именно Уолси стоял за всем этим. Екатерина смотрела прямо перед собой, чувствуя, что щеки ее пылают от ярости. Как мог Генрих так обойтись с ней? Казалось, ее унижают намеренно. Или это наказание за неспособность родить сына? До конца церемонии Екатерина сохраняла хладнокровие. Вот Генрих поцеловал сына и поздравил его с продвижением. С каким подобострастием этот мальчик взирает на отца! Королеву охватила жгучая, предосудительная для христианки ревность. Почему этот милый малыш не ее сын? Она не могла ни взглянуть на Генриха, ни заговорить с ним, пока они сидели рядом за пиршественным столом и смотрели представление масок. Вернувшись наконец в свои покои, Екатерина испытала невероятное облегчение и несколько дней не покидала их, держа при себе дочь, чтобы та не услышала каких-нибудь сплетен и не начала задавать неприятных вопросов. О том, что Фицрою присвоено несколько высоких чинов, включая звание лорда верховного адмирала, Екатерине сообщила Маргарет Поул. – Очевидно, король намерен дать ему воспитание, подобающее принцу в крупном государстве, – с горечью заметила Екатерина. – Простите меня, мадам, но вам лучше знать, что говорят люди: по желанию короля он может быть вознесен еще выше. В это легко поверить. Екатерина была опустошена. Генрих нанес ужасное оскорбление ей и их дочери; последнее простить было еще труднее. Тем не менее она понимала: все, что ей доступно, – это, не ропща, сохранять достоинство и терпеть. Когда Генрих, пожаловав к ней, даже не упомянул о юном Фицрое, она смолчала.
Стоял жаркий августовский день – слишком жаркий даже для Генриха, который намеревался отправиться на охоту. Вынужденная отсрочка привела его в дурное расположение духа: охотничий сезон уже начался, обычно в это время король отрывался от государственных дел и предавался своей страсти к преследованию дичи. Он мог загнать восемь и даже десять лошадей за день, и его придворные иногда жаловались, что король превращает охоту из развлечения в муку. Екатерина привыкла, что порой ее супруг за ужином по три-четыре часа хвастается своими успехами. Но сегодня он был беспокоен и мрачен. – Карл написал мне, что каждый день носит изумрудный перстень, который вы прислали ему от Марии. – Она почувствовала необходимость чем-то его утешить. – Он с такой теплотой отзывается о ней. Королева в это время проворно работала иглой, вышивая сложный узор черной нитью по белому полотну. Генрих любил, чтобы так были украшены манжеты и ворот его сорочек; теперь этой манере подражали все и всюду. – Да, но продолжает настаивать, чтобы ее прислали в Испанию. – Генрих скинул дублет и закатал рукава рубашки. – Вы не отпустите ее? – Нет, я уже сказал, что она никуда не поедет до назначенного срока. Теперь Карл требует выплаты приданого в качестве жеста доброй воли. Я написал ему и напомнил, что в ближайшие три года это не предусмотрено. Три года, три коротких бесценных года… А потом придется прощаться с Марией. Екатерина не могла представить всю глубину и тяжесть предстоящего расставания. Ее дитя, ее маленькая хрупкая девочка… Конечно, она еще не будет готова, понадобится отсрочка… – Мне нужно идти. – Генрих встал. – Уолси хочет видеть меня. – Он вернулся через четверть часа, красный от ярости, и швырнул на стол пергамент. – Можно ли верить хоть кому-то в этом мире? – крикнул он. – Иногда мне кажется, что я единственный монарх, у которого осталась хоть какая-то честь! Император, – кипятился король, сверкая глазами на Екатерину, как будто это она была виновата, – завил, что так как он не получил ни приданого, ни невесты, то считает свою помолвку недействительной! – Нет! Екатерина привстала, но тут же упала обратно в кресло. Нет, этого не может быть! Нельзя допускать, чтобы такой выгоднейший союз был расторгнут. – Генрих, вы должны предпринять что-нибудь, это нужно исправить. Дружба Карла очень важна для нас и для Англии. Подумайте, что станет с Марией из-за его отказа! Она выросла в сознании, что будет императрицей. Она любит его, по-своему, по-детски. Вы должны найти какой-то способ. Или Уолси – он ведь так сведущ в вопросах дипломатии. – Кейт, если бы вы дали мне закончить, то знали бы, что ничего сделать уже нельзя! Карл нашел себе невесту побогаче – вашу племянницу Изабеллу Португальскую. У нее приданое в миллион крон, гораздо больше, чем я могу дать за Марией. Но что еще важнее, она уже в детородном возрасте и очень красива. Генрих расхаживал взад-вперед, в ярости от собственного бессилия. – Я всегда мечтала, – отрывисто произнесла Екатерина, – чтобы Англия и Испания объединились. Моим самым заветным желанием был брак Марии с испанцем. Это ужасно. Я не могу в это поверить! – И я не могу поверить, что Карл оказался таким вероломным! – прорычал Генрих. – Уолси предупреждал меня, но я к нему не прислушался, потому что знаю: в душе он француз. Но, ей-богу, я почти жалею Франциска, который томится в мадридской тюрьме. – Генрих сел, кипя от гнева, потом с вызовом посмотрел на Екатерину. – Уолси хочет, чтобы я заключил новый договор с Францией, и, говорю вам, я намерен сделать это! Екатерина встревожилась: – Генрих, прошу вас, не принимайте поспешных решений. Уолси хочет, чтобы вы покинули императора. Он не простил и не забыл о том, как его лишили места папы. – Мадам, а что может теперь предложить мне император? – спросил Генрих, снова распаляясь. – Уолси тут ни при чем. Речь идет о поддержании равновесия в Европе. Если Карлу нужна свобода, он ее получит, но ценой моего примирения с Францией, и тогда пусть он поостережется! – Пожалуйста, Генрих, выслушайте меня! – Помолчите, Кейт! Не в вашем положении выставлять требования. Более жестокой отповеди он ей дать не мог, и Екатерина мигом осеклась. К ней тут же вернулось горькое сознание того факта, что из-за предательства племянника и собственного бесплодия ее голос теперь ничего не значит. И ответственность за это она по большей части возлагала на Уолси. Легко было представить себе кардинала по капле вливающим яд в ухо Генриху. Это он изо всех сил старался подорвать доверие к ней, настраивал мужа против нее. Но без борьбы она не сдастся. – Ваши интересы – это мои интересы, Генрих. – Екатерина встала, чтобы оказаться лицом к лицу с ним. – Я никогда не предлагала и не делала ничего такого, что могло бы нанести вам урон. Мне искренне жаль, что Карл поступил так ужасно. Но я в этом не виновата и молю вас не осуждать меня за это, хотя он и мой племянник. Если бы мне удалось сейчас увидеться с ним, я бы высказала ему все, что думаю. – А уж если бы я его увидел! – прорычал Генрих. На этом он ее оставил. Вскоре стало ясно, что Уолси снова взял короля в оборот. Через два дня Генрих вернулся, вел себя суетливо, а это было верным признаком того, что он принес неприятные новости. – Теперь, раз Мария не едет в Испанию, ее нужно готовить к тому, что она станет королевой. Вы, Кейт, всегда этого хотели. Вы говорите, что она обладает нужными качествами, что она вылитая королева Изабелла. Что ж, я надеюсь, это окажется правдой. Екатерина изумилась. После всего сказанного раньше казалось невероятным, чтобы Генрих вдруг согласился с мыслью о возможности женского правления. В душе Екатерина возрадовалась за дочь. – Мария станет великой королевой! – заверила она супруга. – У меня в этом нет сомнений. – Посмотрим. – Большей уступки от него ждать не приходилось. – Я не собираюсь делать ее принцессой Уэльской, но пусть она себя попробует в этой роли. Вы ведь помните, прежде моим отцом и дедом был заведен такой порядок: они посылали своих наследников жить в Ладлоу… – Нет, Генрих! – перебила его Екатерина, мигом догадавшись, к чему он клонит. Только она начала верить, что король нашел самый лучший, счастливейший выход из сложившейся ситуации, но ошиблась! – Прошу вас, нет! – Но, Кейт, лучшей науки для принцев не придумаешь. Я сам хотел бы иметь такую возможность, но был младшим сыном, поэтому туда отправили Артура. Там Мария лучше всего научится управлять. Ей девять, подходящий возраст, чтобы начать, и я намерен оставить ее там до замужества. – Генрих, вы же знаете, что это означает для меня! – в панике воскликнула Екатерина. – Я рассчитывала держать Марию, единственного своего ребенка, при себе, пока ей не исполнится двенадцать. Она еще так мала, чтобы разлучаться с нами. Ей нужна я, ее мать. – Кейт, это для ее же блага. Я ее отец. Вы не считаете, что я искренне забочусь об интересах дочери? – Я знаю, это так, конечно, вы о ней заботитесь, но как же я? У меня нет другого ребенка, который стал бы мне утешением. Я не вынесу разлуки с нею. Посылайте ее в Ладлоу, если это так необходимо, но позвольте и мне поехать с ней! Я знаю Ладлоу, я жила там с Артуром, и я буду помогать ей. Генрих остался непреклонен: – Кейт, ваше место со мной, вы моя королева. У вас есть особая роль при дворе. Моя мать не ездила с Артуром, она знала, в чем ее долг. Это было обидно. Но Екатерина не унималась. – Генрих, я вас умоляю! – Она упала на колени и схватила его за руки. – Позвольте ей остаться со мной до двенадцати лет. – Нет, Кейт, – ответил он, выдергивая из рук жены свои пальцы и не глядя ей в глаза. – В качестве воспитательницы с Марией поедет леди Солсбери. Пусть это вас успокоит. «Слабое утешение, хотя я люблю Маргарет и доверяю ей, – подумала Екатерина, с трудом поднимаясь на ноги. – Я лишусь не только дочери, но и лучшей подруги, которая появилась у меня в Англии». И опять у Екатерины возникло отчетливое ощущение, что Генрих ее наказывает. Дав волю чувствам, после ухода Генриха она рыдала так, что могла надорвать себе сердце. В таком положении ее застала Маргарет Поул. – О ваша милость, дорогая моя, что случилось? – Сильные, ловкие руки обняли Екатерину. Сквозь всхлипы и слезы та выдала все: крах имперского союза, унизительное возвышение Генри Фицроя, ее бесплодие, охлаждение к ней Генриха, а теперь еще и неизбежное расставание с Марией. – И вас я теперь тоже потеряю! – завершила она свои жалобы. – Мадам, мне очень жаль. Я знаю, каково это – когда мать разлучают с ребенком. Но послушайте. Я осознаю, какую честь оказываете мне король и вы, и клянусь вам спасением своей души, что буду заботиться о принцессе как нельзя лучше. Стану ей вместо матери и прослежу за тем, чтобы она регулярно писала вам. И буду привозить ее ко двору всякий раз, когда позволит его величество. Буду делать все, что делает хорошая мать, не сомневайтесь. Дорогая мадам, не плачьте. Бог посылает нам трудности, чтобы испытать нашу веру. Не забывайте, путь в Царствие Небесное покрыт терниями. – Вы, Маргарет, мой самый лучший друг. – Екатерина обняла ее. – Для меня настоящее утешение то, что с Марией будете именно вы. Но знаете, я думаю, это все происки кардинала. Он старается настроить короля против меня, потому что боится моего влияния. Я во всем вижу руку Уолси. – Екатерина встала и, не в силах успокоиться, начала мерить шагами комнату. – Мы можем сохранить дружеские отношения с императором, даже если он женится на Изабелле Португальской, и это было бы мудро, потому что у Англии много важных торговых связей с подвластными ему странами. Но Уолси нужно разрушить этот союз: он любит французов и никогда не простит императору, что не стал папой. Он внушает королю идею сделать Фицроя своим наследником, даже вложил Генриху в голову, что можно женить мальчика на Марии, а ведь она ему сводная сестра! Теперь Уолси знает, что после Генриха королевой станет Мария, и боится моего влияния на дочь, поэтому хочет разлучить нас. Маргарет нахмурилась: – Мадам, я не могу обсуждать такие дела. Я бы только посоветовала вам не ссориться с Уолси. Он может оказаться грозным противником, если его разозлить. Помните, что случилось с Бекингемом. – Мне этого никогда не забыть. Не беспокойтесь, я буду осторожна. Но Екатерина знала, каким коварным может быть кардинал. С того дня, когда девять лет назад Генрих бросил завистливый взгляд на великолепие Хэмптон-Корта, он больше никогда не выказывал ревности к обширным владениям Уолси. Однако в последнее время у Екатерины сложилось впечатление, что короля все же начинают беспокоить растущее богатство и непомерная власть кардинала. Генрих теперь уже не тот наивный молодой правитель, которого наставлял Уолси, он стал зрелым мужем в середине четвертого десятка, набрался опыта в управлении государством и осознал свое особое положение. Во время визита в Хэмптон-Корт Генрих впервые отпустил замечание по поводу бьющей в глаза роскоши этого потрясающего дворца. – Томас, вы затмеваете великолепием своего государя! – воскликнул он, хлопая Уолси по спине. – Это только кстати, – с видимой неловкостью поспешил ответить кардинал, – что слуга вашего величества является отражением более яркого великолепия своего короля! – Правда? – Генрих прищурился. – Скажите мне, какой из моих дворцов великолепнее этого? Он обвел рукой прекрасные гобелены, вычурный позолоченный лепной фриз с резвящимися херувимами, сверкающее стеклами окно эркера и обилие золотой посуды на буфете. Уолси начал торопливо превозносить красоты Гринвича и Ричмонда, и больше ничего сказано не было. Однако через неделю Генрих пришел в покои Екатерины, сияя широкой улыбкой и с дарственной на Хэмптон-Корт в руках. Кардинал, без сомнения, понял, что настал миг принести жертву, и преподнес своему господину дворец. Екатерина усмотрела в этом начало конца Уолси, но она ошиблась. Что бы там ни было, а передача Хэмптон-Корта показала Генриху, как предан ему кардинал, и привязанность короля к старому другу только выросла. – Был ли хоть один король так благословлен слугами? – повторял Генрих. Уолси не прогадал. Кардинал пришел к Екатерине – весь шуршание красной мантии и низкопоклонство. – Мадам, король просил меня помочь вам с руководством для леди Солсбери относительно режима дня, которому будет следовать принцесса в Ладлоу. Не дожидаясь приглашения, он сел за стол и достал из толстой кожаной сумы, которую всегда носил с собой, бумагу, перо и чернила. Екатерина обуздала свои чувства. Она была матерью Марии, и ей решать, что хорошо для дочери. – Относительно этого предмета, господин мой кардинал, я бы хотела, чтобы леди Солсбери обратила самое чуткое внимание на достойное образование принцессы и воспитание добродетелей. Мы с леди Солсбери придерживаемся по этому поводу одного мнения, и я расскажу вам о режиме дня. Мы уже обсудили его, осталось лишь занести на бумагу. Вы сделаете это? – Я бы посоветовал… – Уолси нахмурился. – В этом нет необходимости, – перебила его Екатерина. – Все уже решено. Принцесса будет много времени проводить на свежем воздухе и гулять в саду, чтобы быть здоровой и не скучать. Она будет заниматься музыкой, но не слишком долго, дабы не утомляться, а также продолжит изучение латыни и французского, однако уроки не должны быть изнурительными. Мария любит танцевать, и у нее должно хватать времени на это. Уолси начал делать записи своим корявым почерком. Екатерина ждала, пока кончик пера не перестанет скрипеть, и старалась припомнить все то множество распоряжений, которые отдала по поводу Марии за прошедшие годы, считая само собой разумеющимся, что и дальше будет продолжать следить за ее воспитанием. Теперь Екатерина теряла влияние на жизнь дочери. И как же ей будет этого не хватать! Чрезвычайно важно было сделать так, чтобы ее дитя и в разлуке с ней ни в чем не нуждалось. – Что касается пищи, пусть она будет простой, хорошо приготовленной, подается под приятную беседу и в достойной манере. Ее комнаты, одежда и все прочие вещи должны содержаться в чистоте и порядке, как подобает такой высокочтимой принцессе. Нигде рядом с ней не должно быть нечистых запахов, и ее слуги обязаны вести себя благоразумно, добродетельно и смиренно, обращаться к принцессе почтительно и скромно. Екатерина решила, что позаботилась обо всем. Наверняка вспомнится что-нибудь еще, но тогда она сможет написать Маргарет, и ее пожелания, несомненно, будут безропотно приняты к исполнению. Мнением Уолси о своих распоряжениях она не поинтересовалась. Это ее дело, и кардинал здесь лишь для того, чтобы изложить ее указания на письме. – Это все, господин мой кардинал, – заключила она.
В конце августа все было готово для переезда Марии из Ричмонда в Ладлоу. Генрих и Екатерина провожали дочь верхом до королевского охотничьего домика в Кингс-Лэнгли в Хартфордшире и там распрощались с ней. Екатерина страшилась этого момента – как бы не устроить сцену и не разреветься на глазах у всех. Но когда настала ее очередь в последний раз заключить Марию в объятия, она, видя радостное возбуждение дочери, предвкушавшей это новое, взрослое приключение, приободрилась, заставила себя улыбнуться и от души благословила ее. Потом Екатерина стояла рядом с Генрихом и следила за тем, как длинный кортеж трогается в путь на запад; она не сводила с него глаз, пока носилки с бесценным грузом не скрылись из виду на утопавшей в листве проезжей дороге. Теперь от нее потребуется проявить стойкость. Это ведь ненадолго. До Рождества всего четыре месяца, а тогда Генрих наверняка призовет Марию ко двору. Всего каких-то пятнадцать недель. Она сможет вынести это. В тот вечер за ужином в Кингс-Лэнгли Екатерина начала прощупывать тему: – Мария ведь приедет ко двору в Рождество, да? – Нет, Кейт, будет еще слишком рано, – твердо ответил Генрих. – Это только расстроит ее. – Генрих, она уехала три часа назад, а мне уже трудно переносить разлуку. Мария – дитя, и ей нужна мать. Позвольте ей приехать на Рождество, прошу вас! – Екатерина слышала отчаянные нотки в своем голосе. – Кейт, она принцесса и наследница этого королевства. Не может же она вечно цепляться за материнскую юбку, к тому же вам лучше других должно быть известно, что большинство принцесс покидают своих матерей в очень юном возрасте. И многие королевы их больше никогда не видят. Вы должны свыкнуться с этим, как и я смиряюсь. Мария ведь и моя дочь тоже. Но я распоряжусь, чтобы она провела Рождество так же торжественно, как если бы находилась при дворе. Пусть получит все радости этого дня. А мы должны радоваться за нее и научиться давать ей волю. Екатерина сдалась: было ясно, что дальнейшие споры бесполезны. «Я Терпеливая Гризельда, – подумала она. – Люблю своего мужа, что бы он со мной ни делал, а это наихудший удар из всех, какие он мне наносил. Он забрал у меня дочь, не понимая, какая это мука для меня. И вновь я чувствую, что это сделано в наказание. Я не родила ему сына, а потому лишена всего, что придавало смысл моему существованию, – единственного ребенка, тела мужа, союза, который так много для меня значил, и гордости. При этом я продолжаю любить его». Генрих собирался на охоту, но Екатерина решила не сопровождать мужа. С его разрешения, которое он дал ей с большой готовностью, она отправилась искать утешения для своей израненной души в аббатство Уоберн. Аббат Роберт и его белые братья приняли королеву сердечно и выделили ей комнату в гостевом доме – просто обставленную, чистую и светлую. К ней примыкала небольшая часовня, и Екатерина много часов провела в молитвах о даровании сил и смирения. Потом случилось то, чего она боялась: пришло письмо от Маргарет Поул с сообщением о болезни Марии. Екатерина перестала дышать. Нет! Нет! Этого не может быть, только не сейчас, когда она разлучена с любимой дочерью. Желание проскакать галопом через всю Англию и оказаться рядом с Марией было почти невыносимым и стало утихать, только когда гонец привез известие о том, что принцесса пошла на поправку. Екатерина отправляла Марии письмо за письмом, изливая в этих посланиях свою любовь и тревогу, рассказывая о том, как тяжело переносит ее отсутствие. Большой радостью были для матери письма самой Марии, составленные с большой тщательностью и поступавшие с такой же регулярностью, с какой стрелки часов обходят циферблат. Не менее радовали ее и приложенные листки с письменными упражнениями, даже если в них содержалось по несколько простительных ошибок. Было ясно, что Мария продолжает жадно искать во всем материнского одобрения и постоянно думает о ней. Эта мысль проливалась бальзамом на страдающую душу Екатерины.
Глава 21 1526–1527 годы
Казна Генриха пустела, но он продолжал без счета швырять деньги на придворные развлечения. Турниров устраивали не так много, но он настоял на том, чтобы один состоялся в четверг на Масленой неделе, хотя погода обещала быть холодной. Такие незначительные неудобства не заботили короля. Подмораживало, и Екатерине вовсе не улыбалось долгие часы сидеть на королевском балконе, наблюдая, как король и другие рыцари преломляют копья и сходятся врукопашную. Но возражать было бессмысленно. Генрих хотел, чтобы она присутствовала и болела за него. А он, как много раз бывало прежде, наденет символ ее благосклонности и будет сражаться за ее честь. Это она ценила и, учитывая, что их брак стал одной видимостью, не хотела упустить случай побыть в центре внимания. Фрейлины надели на Екатерину самое теплое платье и киртл с подбитыми мехом рукавами, а сверху – просторную шерстяную накидку на собольем меху. Голову защищал белый меховой чепец и капюшон накидки. Выйдя на улицу, к турнирной площадке, она надела плотные, украшенные вышивкой перчатки на толстой подкладке. Бланш де Варгас вышла чуть раньше, чтобы заботливо положить завернутый в ткань нагретый кирпич рядом с подставкой для ног, а когда королева прибыла на балкон, то обнаружила рядом со своим креслом весело пылавшую жаровню. Тепло одетые фрейлины собрались вокруг нее, пар от их дыхания туманил воздух. Ждать начала аплодисментов и приветственных криков пришлось недолго. Появился Генрих в великолепном турнирном костюме из золотой и серебряной парчи, расшитой золотом. Екатерина разглядела на шелке изображение сердца, охваченного пламенем, а над ним слова: «Признаться не осмелюсь». И похолодела не только от пронизывающей февральской стужи. Конечно, это ничего не значит – всего лишь метафора, как и девиз, который красовался на попоне коня Генриха на другом турнире. Когда это было, года четыре назад? И в тот раз никаких оснований для тревоги не оказалось. И почему она сейчас должна его подозревать? «Будь разумной! – увещевала себя Екатерина. – Это ерунда!»Умер от лихорадки лорд Уиллоуби. Екатерина уронила письмо из Гримсторпа на колени. Неровный почерк Марии выдавал глубину ее горя. «Я не могу есть, выпиваю лишь немного вина, – писала она. – Почти не сплю. Если Бог призовет меня последовать за ним, я пойду с радостью». Екатерина попыталась представить себе, что бы она почувствовала, если бы умер Генрих. Мир перестал бы существовать для нее, это точно, и она не беспокоилась бы о том, что с ней произойдет дальше. Но другие люди тревожились бы о ней, как сейчас ее саму волновала судьба Марии. Екатерине хотелось только одного – утешить свою подругу. Все последние годы они не прерывали переписки – отправляли друг другу теплые остроумные послания с рассказами о повседневной жизни и детях. Мария трижды приезжала ко двору, но она потеряла еще одного сына, Франциска, и после этого ушла с головой в свою жизнь в Линкольншире, так что Екатерина не видела подругу уже два года. – Я бы хотела съездить к ней, – сказала Екатерина Генриху, услышав печальные новости. – Риска заразиться нет. Лорд Уиллоуби умер далеко от дома, во время посещения Саффолка. Мария, к ее большому сожалению, не была с ним рядом. Стоял октябрь, двор находился в Графтоне – новом дворце Генриха в Нортгемптоншире. Здесь завершался объезд королевства, начатый в Сассексе. Между супругами царил мир, и Екатерина почти позабыла свое февральское беспокойство по поводу девиза. «Какая чепуха! – подумала она, вспоминая свое тогдашнее смятение. – Марии пришлось гораздо хуже». Не стоит преувеличивать опасность, важно всегда соблюдать меру. – Это не так уж далеко, – отозвался Генрих, – но Марии могут быть в тягость хлопоты, связанные с королевским визитом. – Я поеду как частное лицо. Пожалуйста, отпустите меня. – Конечно. Не смею вас задерживать. Прошу, передайте Марии от меня: наследство Уиллоуби переходит к ее дочери, которая является младшей, но главной наследницей. У нее не будет недостатка в поклонниках! А до тех пор, раз ее отец умер, она будет под моей опекой. Я хочу, чтобы вы сказали Марии: пока дочь может остаться с ней. – Это очень правильное решение – и великодушное. Опекунство над Кэтрин Уиллоуби – лакомый кусок, многие будут не прочь выкупить его. Королева рассчитывала, что щедрость Генриха не иссякнет до того момента, как девушка достигнет брачного возраста. В поисках горничных и других слуг, которые должны были упаковать ее вещи для поездки, Екатерина вошла в свои покои и наткнулась на Марджери и Элизабет Отвелл. Укладывая в сундук чистое постельное белье, девушки лили слезы. – Что случилось? Марджери вскочила на ноги и вытерла слезы: – Ваша милость! Простите меня. Я займусь своим делом. На бледном лице Элизабет застыла печать страдания. Екатерина была тронута тем, что они так переживают понесенную Марией потерю. – Это ужасная новость, – сказала она. – Она сильно повлияла на всех нас. Сестры переглянулись. – Да, мадам, – согласилась Марджери. Она явно совершала над собой невероятные усилия, чтобы удержаться от слез. – Мы очень сочувствуем леди Уиллоуби. Чем мы можем быть полезны вашей милости? – Я собираюсь навестить ее, приготовьте необходимые для поездки вещи. Меня не будет дня три или четыре. Вошла Мод. – Я принесла вашей милости книгу, – сказала она, потом заметила вытянувшиеся лица сестер Отвелл и добавила оживленным тоном: – Ну, дамы, давайте же собираться!
Осень стояла нежная и мягкая, листва переливалась разноцветьем красок – золотая, рыжая, красная. Дороги были чисты и сухи. Небольшая свита Екатерины проделала путь в пятьдесят миль между Графтоном и Гримсторпом за два дня, на ночь воспользовавшись гостеприимством настоятеля монастыря в Питерборо. Вечером после ужина Екатерина отправилась в большую монастырскую церковь. Внутри горела сотня свечей, но было пусто, и Екатерина наслаждалась этой краткой возможностью побыть наедине с собой. Она дошла по нефу до перекрестья, присела перед алтарем, потом повернула направо в трансепт и встала на колени в часовне Святого Освальда: его рука была одной из наиболее ценных реликвий аббатства. Екатерина с благоговением осмотрела ее, потом встала и двинулась по апсиде к прекрасной часовне Богородицы. Вернулась назад по северному приделу. Проходя мимо алтаря, по левую руку, Екатерина остановилась, сама не зная почему. На нее вдруг снизошло ощущение великого покоя, как будто она вернулась домой и вознеслась на небывалые высоты счастья. Екатерина не знала, что и подумать. Она впала бы в грех гордыни, если бы позволила себе возмечтать, что это святой Освальд или какой-то другой из древних святых Питерборо сподобил ее получить духовное откровение. Возможно, ей почудилось – ощущение длилось какие-то мгновения, и в таком святом месте легко вызвать в себе чувство благодати во Христе. А может, это был знак, посланный, чтобы у нее хватило сил утешить Марию. Как бы там ни было, но именно об этом она молилась.
Гримсторп был старым замком с высокой башней, которую когда-то в прошлом переделали в удобное жилье. Ко всему здесь Мария успела приложить руку, следы этого были заметны повсюду – в том, как подобраны гобелены и резная мебель, как раскрашены потолочные балки, как выложен плиткой пол. Екатерина ожидала застать Марию совершенно разбитой и намеревалась предложить ей поддержку и сочувствие. Но обнаружила, что подруга держится стойко и с удивительным достоинством справляется со всеми печальными заботами, которые приносит с собой вдовство. Только сейчас Екатерина поняла, какой внутренней силой обладала Мария. С момента, когда они прильнули друг к другу в холле Гримсторпа, и до часа расставания три дня спустя Екатерина ни разу не видела Марию в слезах. Надежды Екатерины успеть на похороны не оправдались – тело лорда Уиллоуби уже предали земле. – Болезнь была скоротечной, – сказала Мария за ужином, который подали в завешанной черным гостиной. – Совершенно неожиданной. Он уехал здоровым и выглядел прекрасно, как обычно, а потом мне сказали, что он мертв. Ему было всего сорок четыре. – Мария умолкла и глубоко вздохнула. – Я должна быть благодарна за десять счастливых лет, что мы провели вместе. Екатерина протянула руку и накрыла ею ладонь Марии: – В этом было твое благословение. И у тебя в утешение осталась дочь. – Королева была растрогана, увидев свою крестницу, семилетнюю Кэтрин Уиллоуби, милую живую девочку с темными локонами и победоносно вздернутым носиком. – Она похожа на тебя. – Да, няня называет ее маленькой испанкой! – Мария улыбнулась. – Как поживает принцесса? – Ей сейчас десять, и она развита не по годам, – с гордостью ответила Екатерина. – Хорошо бы тебе с ней повидаться. Ей и самой этого хотелось. – Да, хорошо бы, – поддержала Мария. – Она очаровательна. Я была бы так рада, если бы наши дочери подружились, как мы. – С Божьей помощью и они подружатся. А ведь Мария все еще привлекательна, даже одетая в черное траурное платье, хотя в волосах уже появилась легкая проседь. «Мы обе не помолодели, – думала Екатерина, – но в Марии изменилось что-то еще. Появилась какая-то напряженность, как будто она все время старается держать себя в руках. Наверное, в ее положении это естественно». – Королевское жаркое! – радостно воскликнула Екатерина при виде поставленного на стол серебряного блюда с ягненком. – Я уже давным-давно такого не ела. А в детстве очень любила. – Вы приехали очень кстати, – сказала Мария, отрезая для Екатерины куски мяса. – Ты как будто знала о моем приезде. Мм, я таким и помню этот вкус. Перца в самую меру! Они ели и делились новостями. Марии не терпелось узнать обо всем, что происходит при дворе, а потом она захотела поговорить об Уильяме. – Когда говоришь о нем – это помогает, – сказала вдова. – В воспоминаниях он оживает. Спасибо, что выслушали. Екатерина рассказала Марии обо всех последних придворных скандалах. – Граф и графиня Норфолк разошлись, и она переехала в собственный дом. – Это из-за Бесс Холланд? – Да. Это продолжалось много лет, как мы все знаем, а потом Элизабет отказалась держать эту женщину в доме. Тогда граф оставил ее без содержания, а Бесс отомстила на славу – связала графиню и прыгала на ее груди, пока у несчастной не пошла горлом кровь. Темные глаза Марии расширились. – Это ужасно! – А еще хуже то, что Элизабет только недавно родила, и говорит, что, когда пожаловалась графу, тот вытащил ее за волосы из постели и порезал ей кинжалом щеку. Он, разумеется, отрицает это, но ему никто не верит, и меньше всех я! Это отвратительный человек. Элизабет говорит, что он не блюдет ни заповеди Божьи, ни свою честь. Мария оставила попытки есть и подлила себе вина. – Не понимаю, что он нашел в этой Бесс Холланд! Она вроде бы его прачка? Екатерина покачала головой: – Это сплетни, на самом деле Бесс – родственница лорда Хасси. Но как бы там ни было, а она порочная женщина. Свечи оплывали, тени становились гуще, а женщины все говорили о старых друзьях и других придворных. – Полагаю, кардинал все так же на коне? – произнесла Мария с почти невинным видом. Как и Екатерина, она ненавидела Уолси. – Ну конечно. – Досадно, что король позволяет ему так возноситься. Екатерина замялась. Не стоит ей осуждать Генриха в разговорах с друзьями. Но они были не при дворе, и слушала ее только Мария – Мария, которой она могла доверять. – Генрих все так же порабощен им. Иногда мне кажется, что он видит в нем отца. – Кому, как не вашему высочеству, знать, что движет королем в его отношениях с кардиналом. – Мне? Почему я должна это знать? – Помните брата Диего? Вы относились к нему так, будто он святой. Мы все удивлялись его поступкам, некоторые даже высказывали свои сомнения, но вы ничего не слушали. Для вас он был совершенством, воплощением святости. Может быть, таким же выглядит и кардинал в глазах короля. – Воплощением святости? Я в этом сомневаюсь! – Екатерина усмехнулась. – Но в твоих словах, возможно, есть смысл. Я тогда была очень наивна и одинока. Нуждалась в духовном руководстве. Брат Диего дал мне его, но, думаю, он получил благодаря мне и свою выгоду. – Уж это я точно знаю! – Мария улыбнулась. На мгновение Екатерина опешила, но потом поняла, что Мария намекает на чрезмерное влияние монаха. Нет, она никогда не заговорит о той ночи. Став старше и мудрее, Екатерина поняла: интерес к ней брата Диего был не чисто духовным и он сознательно пытался склонить ее к греху. С некоторыми другими ему, похоже, это удалось. Ближе к ночи Мария приказала подать гиппокрас. – Это особый случай, – сказала она. – Не каждый день ко мне заглядывает королева Англии! – Что ты теперь будешь делать? – спросила Екатерина, когда кубок для нее был наполнен. – Пока обдумываю возможности. – Король был бы рад, если бы дочь осталась с тобой. Он просил меня передать тебе это. Мария не отреагировала так, как ожидала Екатерина. – На самом деле я и сама размышляла об этом. Видите ли, ваше высочество, я одинока. Уильям был моей жизнью, но это в прошлом, я бы с удовольствием снова вернулась в общество моей госпожи и моих соотечественниц. А дочь охотно оставила бы на попечение нянь и учителей, если бы могла занять прежнюю должность при дворе. – Ну конечно! – воскликнула Екатерина, обрадовавшись такой перспективе. Она любила Мод Парр и сильно скучала по Маргарет Поул, но Мария была ее самой давней подругой, и Екатерина с удовольствием приняла бы ее обратно к себе на службу, даже если Мария возвращалась к ней по самой скорбной из возможных причин. – Ты должна приехать, как только будешь готова. Теперь у тебя будет другая должность, ты ведь больше не девица. Будешь одной из знатных дам при моем дворе, и самой желанной. Ах, как я рада твоему возвращению! Этого не выразить словами!
Приближалось Рождество, но у Екатерины язык не поворачивался спросить Генриха, призовет ли он принцессу Марию ко двору. Уже почти полтора года она не видела дочь и жестоко страдала в разлуке. Дни шли за днями, наступил ноябрь, за ним – декабрь. Екатерина думала, что сойдет с ума от переживаний. Если Генрих сам не поднимет эту тему, ей придется заговорить первой. Однако в День святого Николая король пришел в ее покои и объявил, что послал за Марией, дабы она встретила праздники вместе с ними. Вне себя от радости, Екатерина обхватила Генриха руками и расцеловала, не обращая внимания на изумленные взгляды своих фрейлин. – Вижу, мне надо приглашать Марию почаще! – пошутил Генрих, слегка покраснев. Прибывшая ко двору Мария выглядела гораздо старше и держалась более важно, чем ее запомнила Екатерина. Как крепко королева обняла свою дочь! Никогда бы ее не отпускала… Мария немного всплакнула и призналась, что сильно скучала по своей дорогой матушке. Теперь дни проходили в приятных занятиях: они плели рождественские венки, пели старые песенки и пытались наверстать упущенное – переговорить обо всех тех мириадах мелочей, которые произошли за время их разлуки. Екатерина готова была жадно впитывать любую подробность о жизни дочери, а Мария охотно и с нетерпением обо всем ей рассказывала. Потом наступило незабываемое Рождество – с обильными пирами, гуляньями, маскарадами, переодеваниями, банкетами и турнирами. Перед всем двором Генрих пригласил Марию на танец и исполнил с ней павану. Отец с дочерью танцевали, все им аплодировали, а Екатерина не спускала с них глаз, и сердце ее было переполнено. Это было волшебное, золотое время. Но потом, после Двенадцатой ночи – праздника Богоявления, Мария, по настоянию Генриха, вернулась в Ладлоу. Екатерине осталось лишь томиться в разлуке и перебирать в голове воспоминания.
Мария Уиллоуби вернулась на службу к Екатерине весной 1527 года. В это время в Гринвич ко двору прибыл новый посол императора, дабы обменяться с королевой положенным по церемониалу приветствием. Вскоре стало ясно, что Мария сильно изменилась: десять лет брака с потакающим прихотям супруги человеком и опыт управления благородным домом не прошли даром. Она стала более активной и решительной. Мигом разобравшись в делах и поняв, что Екатерина глубоко несчастна, она решила стать ее защитницей. Не в пример осмотрительной Маргарет Поул Мария не стеснялась осуждать короля. – Он слишком многого требует от вас, – заявила она. – Он должен принимать в расчет ваши чувства. Уильям всегда учитывал мои желания. – Мария с гордостью перечисляла добродетели Уильяма, и в сравнении с ним Генрих явно проигрывал. – Ваше высочество слишком кротки, слишком смиренны и покорны, всепрощающи, если мне позволено будет так выразиться. – Я его жена и поклялась быть ему послушной, – не уступала Екатерина. – Вы слишком добры и покладисты по натуре! Мужчинами так легко управлять. Есть способы убеждать их. К примеру, уступка в какой-нибудь мелочи с Уильямом творила чудеса. Он готов был сделать для меня все. Как бы Екатерина ни любила Марию, ее утомляли бесконечные рассказы подруги о совершенствах ее Уильяма. – Сомневаюсь, что Генрих это заметит. Я не в том положении, чтобы он ценил мои уступки в мелочах. Мария собралась отпустить какую-нибудь шпильку и наверняка готовилась снова похвалить Уильяма, но тут стремительно вошла Анна Болейн. Как обычно небрежно-элегантная, она объявила: дон Диего Уртадо де Мендоса, прибывший на замену Луису Каросу в связи с отзывом последнего, ожидает в приемной вместе с кардиналом Уолси. Кардинал представил королеве нового имперского посла и орлиным взором проследил, как тот кланяется и целует ей руку. Испанец был смуглым привлекательным мужчиной с густыми темными волосами и очень учтивыми манерами. Он явился к Екатерине после аудиенции у короля. Тот все еще злился на императора, но тем не менее удивительно владел собой. – Вашевысочество, его императорское величество желает, чтобы я передал вам его самую искреннюю любовь, и спрашивает о вашем здоровье. Присутствие Уолси вынудило Екатерину приветствовать посла сдержанно. – Я рада слышать это, потому что была обижена пренебрежением его величества. Более двух лет я не получала писем из Испании, между тем моя привязанность к нему и готовность ему служить так велики, что я заслуживаю лучшего отношения. Мендоса переменился в лице: – Ваше высочество, между его величеством и королем вашим мужем произошло охлаждение. Его величество был лишен возможности с вами общаться, и он хочет, чтобы вы знали: он очень сожалеет об этом. Но теперь, я надеюсь, дела пойдут лучше. Скорее всего, Мендоса прибыл сюда, дабы смягчить последствия нового договора Генриха с Францией. А Генрих, как бы он ни бушевал, желал сохранить торговлю Англии с империей, пусть даже они с Карлом вполне искренне хранили верность своей взаимной неприязни. Благодаря усилиям Генриха и, естественно, Уолси король Франциск был освобожден из испанской тюрьмы, связал себя драконовским договором о дружбе с императором, который должен был скрепить его брак с сестрой Карла Элеонорой. Услышав об этом, Екатерина с грустью подумала о бедной королеве Клод. Та уже три года как была мертва: бесконечное вынашивание детей истощило ее силы. Однако, как только Франциск благополучно вернулся домой, он тут же разорвал условия договора и ратифицировал соглашение с Англией. Услышав, что посол Генриха в Париже превозносит принцессу Марию как перл мира и сокровище, которое ее отец ценит больше всего на свете, он не стал терять времени даром и предложил в женихи себя или одного из своих сыновей. Екатерина пришла в ужас. – Выйти замуж во Францию – уже одно это стало бы для Марии катастрофой, но отдать ее за этого Великолепного Турка было бы чистым злодейством! – с жаром заявила она. – Кроме того, он поклялся жениться на моей племяннице Элеоноре. – Я согласен, – отозвался Генрих. – Он должен был посвататься для кого-то из сыновей: дофина Франциска или герцога Орлеанского. Слабое утешение, если предстоит выдать единственное дитя за француза! Не говоря уже о том, что в таком случае Мария покинет Англию, вероятно, навсегда. Екатерина так и не могла смириться с неизбежностью разлуки и тяжело переживала предвестие этого – переезд Марии в Ладлоу. О дальнейшем она не хотела даже думать.
Уолси проследил, чтобы Мендоса не слишком задержался у Екатерины. – Есть много важных дел, которые король поручил мне обсудить с вами, – сказал кардинал послу после обмена любезностями. – Ее высочество, конечно, извинит нас, если мы откланяемся. Вы получите аудиенцию в другое время. Однако новая встреча оказалась недостижима: всегда находилась причина, почему Мендоса не мог увидеться с королевой. Обычно, как она узнала позднее, его отвлекал на что-нибудь или удерживал от встречи Уолси. У Екатерины сложилось неприятное впечатление, что за ней следят. Слуги кардинала вечно сновали по ее апартаментам, под разными предлогами входили и выходили; разумеется, это было не простое совпадение. Их присутствие смущало ее. Всякий раз, когда она давала аудиенцию, кто-нибудь из них обязательно оказывался в ее приемном зале, а некоторые проявляли повышенный интерес к ее фрейлинам. Еще бы, эта распутница Люси Тальбот поощряла одного из соглядатаев лукавой улыбкой и кокетливыми взглядами. Екатерина была уверена, что все это не игра ее воображения. Она подозревала, что ее письма перехватывают. А чему тут удивляться? Разумеется, Уолси не хотел допустить, чтобы она оказывала влияние на кого-нибудь во благо Испании и в ущерб новому альянсу. Однако настал день, когда кардинал был в отъезде по делам и его слуги, к счастью, тоже отсутствовали. Екатерина не упустила этой возможности и через Бланш де Ваграс дала знать Мендосе, что в означенное время будет дышать воздухом в саду. Они могли встретиться как будто случайно. И он оказался там, добрый, честный человек. Говоря с послом, Екатерина все время оглядывалась через плечо – проверяла, не отбрасывает ли кто-нибудь на них свою тень. – Непросто было получить доступ к вашему высочеству, – сказал Мендоса. – За мной следят. Нам не подобает дружить с Испанией, и мое нерасположение к союзу с Францией играет против меня. Но я не стану интриговать против своего мужа. – Мой господин не рассчитывал на такое, – быстро проговорил Мендоса. – Тем не менее он расстроился, узнав, что ваше высочество так одиноки. Мадам, одна из основных причин моего приезда в Англию – это желание быть вам другом и помочь вам поддерживать связь с его императорским величеством. Выражение его лица и тон голоса говорили о полной искренности. – Дон Диего, вы не можете себе представить, как это важно для меня, – сказала Екатерина, чувствуя, что глаза у нее заблестели от непролившихся слез. – Для меня это тоже очень много значит, ваше высочество, – тепло откликнулся Мендоса. После еще двух таких встреч Екатерина перестала сомневаться в преданности и галантности нового посла, человека тонкой рассудительности и глубокой порядочности. Кроме того, Мендоса был прямодушен, но при этом добр и очень мудр. Во время второй встречи королева спросила, есть ли у него какие-нибудь сведения о ее сестре Хуане. Уже двадцать лет Екатерина ничего о ней не слышала, и восемнадцать из них Хуана провела в заточении в монастыре Святой Клары в Тордесильясе. Лицо Мендосы стало мрачным. – Новостей немного, – сказал он, тщательно подбирая слова. – Я понимаю, у нее совсем другой темперамент в сравнении с вашим величеством. Это была правда, Екатерина про себя согласилась. Сама она никогда не испытывала вспышек неукротимого гнева или приступов меланхолии, а кроме того, понимала: ее любовь к Генриху была сильна, но не превращалась в одержимость, как страсть Хуаны к Филиппу. Бедняжка Хуана! Екатерина часто думала о ней, размышляла, на что похожа ее жизнь – жизнь монастырской затворницы. – Вы не говорите мне всей правды, – сказала Екатерина. – Я не хочу причинять вам беспокойство, мадам, но император доверительно сообщил мне, что его мать опасается, не затевают ли монахини убить ее. Ничего такого, разумеется, нет, но так как они заботятся о ее повседневных нуждах, а она не подпускает их близко к себе, то стало трудно обеспечивать ее питание, мытье и смену одежды. Это тяжелая ноша для его величества. Никакие призывы к разуму на нее не действуют. – Я удвою молитвы за сестру, – пообещала Екатерина. – Не могу вынести мысли, что с ней все так плохо. Я помню ее молодой и прекрасной.
– Ваше величество, вас что-то гнетет, – неожиданно сказал Мендоса во время их третьей встречи. Екатерина пригласила его – едва ли не в последнюю минуту, чтобы избежать шпионов Уолси, – составить ей компанию во время поездки на барке в аббатство Сион. Она любила погружаться в монастырскую атмосферу святости и чистоты или копаться в огромной библиотеке. Это было утверждение, а не вопрос. Екатерина не знала, как отвечать, чтобы не создалось впечатление, будто она осуждает Генриха, ведь любое ее слово будет передано императору. – В моей жизни есть печали, – сказал она после долгой паузы, глядя на разбегающуюся длинными дорожками по сторонам от барки воду. – Не могу выразить словами, как я скучаю по принцессе, но такова участь всех королев. – По моему мнению, ваше высочество, основная причина ваших затруднений в том, что вы принимаете интересы императора уж слишком близко к сердцу. Екатерина опешила: – И вы, его посол, считаете, что я напрасно это делаю? Как могу я быть испанкой и при этом любить французов? – Ваше высочество, я тоже испанец. Вам не нужно объяснять мне чувство любви к родине. Однако ни для кого не секрет, что вы противница нового союза с Францией. Я бы посоветовал вам скрывать это. – Из меня плохая притворщица, – созналась Екатерина. Но правда ли это? Кажется, всю жизнь с Генрихом она провела в притворстве, дабы не нарушать хрупкого согласия между ними и сохранить остатки былого счастья. – В этом отношении мне трудно скрывать свои чувства, – добавила она. – Этот союз не принесет никому из нас ни малейшей пользы. – Было бы гораздо лучше, если бы вы притворились, что вполне одобряете его, – настаивал Мендоса. – Уолси замечает ваше неприятие и боится, что вы все еще можете оказать влияние на короля. Из-за этого он старается сеять вокруг вас отчуждение. В том числе пытается помешать моим встречам с вами. Он не хочет допустить, чтобы у нас появилась возможность обсуждать государственные дела без свидетелей, потому как считает, что мы станем плести интриги против союза с французами. Но если ваше высочество сделает вид, что вы изменили мнение, обстановка вокруг вас может стать легче. В его доводах был смысл, каким бы неприятным это ни представлялось. – Я постараюсь, – пообещала Екатерина. А потому, когда Генрих принимал французское посольство во главе с Габриэлем де Граммоном, епископом Тарба, который приехал обсуждать помолвку Марии, Екатерина стояла рядом с мужем, улыбчивая и грациозная. Такой же грациозной и улыбчивой она оставалась во время пира и турниров, устроенных, дабы произвести впечатление на послов. Но Екатерина ненавидела себя за это. Потом король, кардинал и посланники сели обсуждать условия помолвки. Через три дня Мендоса пришел к Екатерине. Вместе с фрейлинами она любовалась новым банкетным залом, который был выстроен рядом с турнирной площадкой специально к визиту французского посольства. Оформил его мастер Гольбейн, талантливый живописец из Германии, которого рекомендовал Генриху Томас Мор. Художник создал впечатляющую роспись и убранство. От взгляда на потолок дух захватывало: там были изображены небеса во всем их астрологическом великолепии. Гобелены разворачивали перед зрителем историю царя Давида; повсюду были розы Тюдоров и гранат Екатерины – этот обманчивый символ плодородия, который насмехался над ней на каждом шагу. Екатерина увлекла Мендосу в галерею, обрамлявшую площадку для турниров: она-де хочет показать ему новый дом для переодевания, расположенный в другом конце. Вскоре они уже находились вне пределов слышимости фрейлин, но Екатерину все равно не покидало ощущение, что за ними наблюдают. – У меня мало времени, – предупредила она посла, оглядываясь через плечо. – Какие новости? По вашему лицу, мой дорогой друг, видно: что-то неладно. – Ваше высочество, кажется, переговоры зашли в тупик. У кардинала весьма озабоченный вид, а король явно злится, но никто мне ничего не говорит. Что бы там ни происходило, они все держат в секрете. Вам что-нибудь известно? – Нет, – сказала Екатерина, и в ней загорелась надежда на то, что переговоры совсем расстроились. – Мне ничего не сообщают. Я могу только молиться, чтобы император приказал вам отвратить короля от этого невыгодного альянса и дал к этому возможности. Я сделаю все, что в моих силах, лишь бы сохранить старую дружбу между Испанией и Англией. Увы, хотя желание добиться этого сильно, средств привести его в исполнение у меня немного. – Император пока не прислал никаких указаний, ваше высочество. Сердце Екатерины упало. – Ах, ваше превосходительство! – произнес чей-то голос. На пол легла черная тень. В дверном проеме стоял Уолси. Екатерина похолодела от страха. Что он успел подслушать? Достаточно ли этого, чтобы он убедился в ее нерасположении к французам? А если так, тогда как он поступит? Однако если кардинал и услышал что-то подозрительное, то виду не подал: вел себя, как обычно, безупречно вежливо. Уолси поклонился ей, потом повернулся к Мендосе: – Ваше превосходительство видели удивительный потолок работы мастера Гольбейна?
К великой радости Екатерины, Мария была вызвана из Ладлоу и прибыла ко двору. Потом Генрих сообщил ей, что дочь останется под ее присмотром, пока не настанет время отправляться во Францию. – Вы сами можете наблюдать за ее обучением, – сказал король. Екатерина, потерявшая дар речи от благодарности, расцеловала его, крепко обнимая, и была тронута его ответным объятием. – Я знал, что вы обрадуетесь. Создавалось впечатление, будто Генрих пытается смягчить ей горечь от французского брака дочери. Как прекрасно было снова взять на себя заботы о повседневной жизни Марии, сидеть с ней, наблюдать за тем, как она учится, как развивается ее детский ум, читать вместе их любимые книги. Но вскоре стало ясно, что ее дочери нужно давать больше. Екатерина вновь посоветовалась с Томасом Мором. – Мария стала старше, и нужно расширить ее горизонты. Могу я, если потребуется, обращаться к вам за помощью? – Разумеется, мадам, хотя, по моему скромному мнению, для принцессы не найдется лучшей наставницы, чем вы сами. – Сэр Томас, вы мне льстите! Позвольте спросить, что это за книгу вы принесли с собой? – Это новый труд Эразма «Институт христианского брака». Я доставил экземпляр вашей милости. От души рекомендую. – Вы так добры. – Екатерина взяла книгу и полистала. – Мне нравятся сочинения Эразма. – Глаз зацепился за один отрывок в тексте. – Его слова о святости супружеской жизни созвучны моим мыслям. Меня вырастили в убеждении, что целомудрие – это самое желательное состояние, но не все мы созданы для него. Екатерина вспомнила, какой страстью были когда-то проникнуты ее отношения с Генрихом. Теперь страсть угасла, но как же она была восхитительна и как болезненно ощущалось ее отсутствие. – Вы говорите истинно, ваша милость, – с чувством произнес Мор. – Это дилемма, с которой столкнулся я сам. Когда я был молод, то склонялся к стезе священника, но жаждал также и любви, которую можно обрести в браке. Это было трудное решение, но я вынужден был согласиться со святым Павлом, что лучше жениться, чем сгореть, поэтому покинул монастырь и нашел себе жену. Я никогда не жалел о сделанном выборе, поэтому аплодирую словам Эразма. – Это чрезвычайно важная книга. Надеюсь, ее прочтут многие. – Это книга Эразма, мадам, так что можете не сомневаться. Ее прочтут!
Французские послы попросили аудиенции у Екатерины: они хотели видеть принцессу. Эта просьба королеве была неприятна: она надеялась, что французы уже отправились восвояси. Однако из слов епископа Тарба стало ясно, что переговоры идут по плану. Екатерина наблюдала за тем, как Мария принимает французских послов и грациозно опускается в реверансе. Она выглядела такой нежной и хрупкой! Казалось невероятным, что через три года, когда ей исполнится четырнадцать, она будет готова к замужеству. Генрих настаивал на этом сроке, однако, судя по взглядам послов, они были согласны с мнением королевы. – Принцесса – очаровательное дитя, – сказал Екатерине епископ. – Мы с радостью думаем о том, что этот брак упрочит мир между королем Генрихом и нашим господином. Как может француз думать, что она, испанка, разделит его радость? – Вы говорите мне об этом мире, – сказала она, не в силах сдерживаться. – Нет сомнения в его желательности. Но вы ничего не сказали о всеобщем мире, который должен наступить в Европе. Последовала очень короткая пауза, после которой епископ улыбнулся: – Мадам, король Франциск искренне надеется, что этот альянс проложит путь к нему. «Пустые слова, – подумала Екатерина. – Франциск ненавидит Карла за то, что тот держал его в заключении, и никогда ему этого не простит. Уж лучше бы он оставался в темнице!» Наблюдая, как Генрих торжественно подписывает новое соглашение – так называемый Договор о вечном мире, – потом встает и улыбается, Екатерина почти ощущала тошноту. Свершилось: Мария должна выйти за короля Франциска или его второго сына, герцога Орлеанского. Генрих поставил под этим свою печать. Он даже согласился на упоминание в договоре двух женихов на выбор. С натянутой улыбкой Екатерина следила за тем, как Мария танцует вместе с фрейлинами – принцесса участвовала в живых картинах, которые последовали за подписанием договора. Этого развлечения не устраивали уже несколько лет: теперь Генрих предпочитал представления масок. Хотя Екатерина опасалась, что истинной причиной этого было оскудение казны после долгих лет расточительства. Сама Екатерина скучала по живым картинам: они напоминали ей о ранних, счастливых годах замужества. Однако обстоятельства, при которых она увидела эту сценку, были настолько ей неприятны, что и зрелище не доставило никакого удовольствия. В изысканном банкетном зале Гольбейна Екатерина сидела на троне рядом с Генрихом – разубранная драгоценностями икона, кукла, исполняющая предписанную роль. Прикатили огромную платформу, где возвышалась искусственная гора – декорация для живой картины. Екатерина увидела дочь, и только тут лицо королевы засияло: этим вечером ее бесценная крошка в платье римского покроя из золотой тафты с алой тесьмой была очаровательна! Длинные огненно-рыжие волосы Марии были увенчаны золотым обручем и алым бархатным чепцом; на ее шее и руках искрилось столько драгоценных камней, что их блеск слепил глаза. Когда, сменив головной убор на украшенную самоцветами диадему, Мария вместе с родителями играла роль хозяйки на банкете для послов в покоях королевы, то вела себя с впечатляющей серьезностью. – Она похожа на ангела! – заметил Генрих французам. – Так чиста… Вы согласитесь со мной, господин мой епископ? С этими словами он снял с головы дочери диадему, и ее локоны рассыпались по плечам. – Очень красиво, сир, – признал епископ Тарба. – Ничего краше не бывало на человеческой голове, – подтвердили его спутники. Екатерина от всего сердца согласилась с этим. Но она хотела, о, как же она хотела, чтобы эта красота не была растрачена впустую на француза, особенно на этого развратника Франциска! – Новый союз обуздает власть императора, – заметил кардинал. – Мой господин никогда не простит ему отречение от условий его освобождения, – сказал епископ, – и он понимает необходимость обезопасить папу от территориальных претензий императора в Италии. Генрих наклонился вперед: – Я никогда не прощу Карлу, что он отверг мою дочь! Но теперь ее ждет более славное будущее. Екатерину едва не передернуло от слов супруга, но она подавила это непроизвольное движение. В тот самый момент она поймала взгляд Уолси – кардинал наблюдал за ней, и в глазах у него горел расчетливый огонек. Какое торжество читалось в них! Он мог быть доволен, что снова обставил королеву. Но потом Екатерина заметила задумчивый взгляд Генриха, обращенный на Марию, и вспомнила: каждый брачный договор, который он заключал для этого ребенка в прошлом, оканчивался ничем. В душе он едва ли мог лелеять мысль о французском замужестве Марии. И наверняка еще меньше радовала его перспектива того, что Англия попадет под власть Франции. О чем только думал Уолси, когда уговаривал своего господина подписать такую пародию на мирный договор? Этот человек – предатель!
Часть третья Истинная королева
Глава 22 1527 год
Однажды церемониймейстер Екатерины, Бастьен Хенниок, принес ей скрепленное печатью письмо от посла Мендосы: – Ваше высочество, он сунул мне это в руку, когда я проходил по галерее, и шепнул, что это дело тайное. Екатерина спрятала письмо в рукав и поспешила скрыться в своих покоях, чтобы прочесть его. За открытым окном на голубом небе ярко светило солнце, сады Гринвича тонули в солнечном свете, радостно пели птицы. Но красота дня казалась Екатерине насмешкой, пока она читала послание Мендосы.Кардинал, в довершение всех своих беззаконий, работает над тем, чтобы разлучить Вас с королем. Уолси созвал тайное судебное заседание под председательством архиепископа Уорхэма. В нем участвовали кардинал и группа епископов и каноников. Призвали короля и просили ответить, осознанно ли он взял в жены вдову брата. Он признал обвинение, покаялся, сказав, что в душе испытывал сомнения, и попросил вынести решение по этому делу.Были приняты тщательнейшие меры предосторожности, чтобы держать все эти действия в секрете, особенно от королевы, но благодаря осведомителям и собственной дотошности Мендоса обошел Уолси. Посол просил срочной аудиенции. Он писал, что опасается, как бы лжесвидетельство, данное в секретном суде, не дошло до папы, и хотел, чтобы королева была начеку. Екатерина села на постель, вся дрожа. Она была потрясена, не могла в это поверить и трепетала от ужаса в ожидании последствий. Она знала, что Уолси – враг ей, но представить себе не могла, что он зайдет так далеко. Тем не менее она не сомневалась в том, что все это его рук дело, ведь Генрих давным-давно признал безосновательность любых толков по поводу законности их брака. В какой-то момент Генрих, конечно, должен был включиться в этот тайный сговор, но он всегда находился под влиянием Уолси, а кардинал умен и умеет управлять людьми. И все же Екатерину задело до глубины души то, что Генрих не поделился своими сомнениями с ней – той, кого это касается так же близко, как его самого. Разумеется, Уолси ему отсоветовал. Вероятно, он сказал, мол, зачем беспокоить королеву, раз может статься, что дело не получит хода. Екатерина так и слышала, как Уолси произносит эти слова своим елейным, гадючьим голосом. Она послала Бастьена разыскать Мендосу и передать ему: она напугана до того, что не смеет говорить с ним, так как за ней следят шпионы Уолси. Но нужно было что-то предпринять. Она имела полное право присутствовать на этом суде. Кто-то же должен выступать от ее имени! Она послала за учителем Вивесом, доктором права и ее другом. Когда Екатерина рассказала ему, что происходит, на лице у Вивеса отобразилось потрясение. – Мне нужен адвокат, – сказала она ему. – Вы сможете представлять меня на этом суде? Потрясение превратилось в смятение. – Мадам, боюсь, я не смогу. Я не смею задевать чувства короля. Простите меня. Екатерина ощутила себя жестоко преданной. Но хуже всего, что так же ей ответят и другие, к кому она могла бы обратиться за помощью. Кто же осмелится выступить против короля, раз тот ясно дал понять, чего желает? Тут нужен храбрый мужчина – или женщина. Екатерина почувствовала себя ужасно одинокой, всеми покинутой. Разобидевшись, она лишила Вивеса пенсиона, который ему выплачивала, потом стала корить себя за мстительность. И все же его отказ был для нее тяжелым ударом. Слава Богу, с ней хотя бы оставался Мендоса. Это настоящий друг. Однажды вечером, на закате, Екатерина устроила еще одну встречу в саду, наказав Гертруде Блаунт стоять на страже. Немного пройдясь, королева обнаружила посла: он поджидал ее в маленьком банкетном домике в конце дорожки из плитняка. Она рассказала ему о Вивесе, только это помогло ей сохранить хладнокровие. Мендоса сочувственно смотрел на Екатерину: – Не огорчайтесь, мадам. Я известил об этом суде императора. Уверен, он не допустит развития такого несправедливого процесса. – Кроме Бога, вся моя надежда только на его императорское величество, – сказала Екатерина, силясь не заплакать. Однако для нее большим утешением было знать, что за ее спиной стоит могущество Испании и императора. – Следует полагаться и на простых людей в Англии, так как ваше высочество очень любимы в этом королевстве. Нет сомнения, если король аннулирует ваш брак, возникнут народные протесты. Будьте уверены, в вашу защиту подадут гораздо больше голосов, чем против вас. – Мне бы не хотелось становиться причиной каких бы то ни было волнений в этой стране. Я приехала сюда, чтобы принести мир и процветание, а не раздор. – До этого не дойдет, ваше высочество. Я буду настойчиво просить своего господина повлиять на папу, чтобы тот в случае необходимости связал руки Уолси, если за решением дела обратятся в Рим. Екатерина покачала головой: – Никакого решения не требуется. Папа дал нам разрешение на брак, и я не могу понять, почему его не считают достаточным. Уверяю вас, мой добрый друг, все это затеял Уолси ради того, чтобы вбить клин между Англией и Испанией. – Уолси ненавидят все и всюду. Не беспокойтесь, мадам, у него ничего не выйдет.
Июнь сиял золотой красой. Бастьен доставил Екатерине еще одну записку от Мендосы. Тайный суд в Вестминстере решил, что некомпетентен выносить вердикт по делу короля. Генрих обратился к своим личным советникам. Те согласились, что есть веские причины для сомнений в законности его брака, и дали ему указание обратиться за разъяснением к папе. – Но они не правы! – воскликнула Екатерина. Она рассказала все Маргарет, Марии и Мод. И они старались как могли утешить ее. – Нет никаких веских причин для сомнений и никакой нужды в разъяснениях. Папа Юлий дал нам разрешение. Что же это, теперь Уолси покушается на непогрешимость папы, наместника Христа на земле? Три женщины горестно покачали головой, а Екатерина в большом возбуждении шагала по комнате взад-вперед. С Генрихом она не виделась с того дня, как Мендоса оглушил ее известием о тайном судилище. Король не приходил в ее покои, не присутствовал вместе с ней в церкви на мессах. Екатерина понимала, что он ее избегает. Еще бы, ведь ему пришлось бы объясняться! – Если дело отправят в Рим, пройдут месяцы, прежде чем мы что-нибудь узнаем, – говорила она, кусая губы. – Я этого не вынесу, тем более что все это совершенно излишне! Она осеклась: паж возвестил о прибытии лорда Маунтжоя. Тот вошел с каким-то необычным для себя рассеянным видом, и все обратили внимание, что он крайне взволнован. – Ваша милость, ужасные новости! Рим разграблен наемниками императора! У Екатерины помутилось в голове. Она и ее фрейлины безотчетно перекрестились. – Сообщения приходят жуткие, – продолжил лорд Маунтжой, – и я воздержусь от пересказа подробностей. Но целых четыре дня там вершилось такое насилие и шла такая бойня, каких свет не видывал. – Боже милостивый! – прошептала Екатерина. – Скажите мне, что случилось. Я должна знать. Маунтжой сглотнул. Он был человеком весьма тактичным и чувствительным, и новости явно потрясли его. Обсуждать такие ужасные вещи с дамами он не мог, это противоречило понятиям о приличиях, свойственным его рыцарственной натуре, хорошо всем известной. Так что Екатерина понимала: они услышат только тщательно отобранные сведения. – Эти наемники вели себя хуже, чем дикие звери. Совершенные ими жестокости ужасны, они бесчинствовали как хотели, потому что рядом не было ни императора, ни других командиров, которые могли бы их остановить. Солдаты разили всех подряд, в свое удовольствие, убивали женщин и детей. Грабили церкви и дома, даже собор Святого Петра. Алтари осквернены, узники распущены, монахов и монахинь принуждали – не могу произнести это – к бесстыдству. Невозможно представить, чтобы такое творилось в одном из самых цивилизованных городов мира! Сама мысль об этом была невыносима. – Какой ужас! – пробормотала Екатерина и снова перекрестилась. – Неслыханное злодейство! Весь христианский мир должен осудить такое беззаконие. А что с его святейшеством? – Последнее, что мы слышали: он укрылся в замке Сант-Анджело, к северо-западу от Рима, но фактически он пленник императора. Это было невероятно. – Но императора там не было! Разве нечто подобное могло свершиться по его воле или с его согласия? – Нет, мадам, конечно нет, все говорят, что он в ярости из-за этого, как и все, но он воспользовался преимуществом. Ему очень выгодно держать папу в своей власти. «И мне это тоже на руку», – поняла Екатерина. Если папа – пленник императора, ее племянника, вожделенное для Генриха решение едва ли будет принято в ближайшем будущем. Екатерина тут же укорила себя за то, что думает о собственных интересах, когда столько людей терпят жестокие страдания. – Я прикажу отслужить мессу по душам умерших, – сказала она. – И помолюсь за них.
– Люди в открытую обсуждают королевский процесс! – возмущалась Мод. – Они называют это тайным делом короля, но это уже ни для кого не секрет! – Что правда, то правда, ваше высочество, – сказала Мария, ее глаза сверкали от злости. – Всем всё известно, как будто об этом объявил на площади городской глашатай. Фрейлины Екатерины вернулись из сада очень сердитыми. Услышав несколько новых сплетен, они прервали прогулку и поспешили передать королеве, о чем толкуют люди в Сити. – Говорят, король приказал лорд-мэру навести порядок и заставить людей перестать распускать слухи под страхом его высочайшего гнева, – добавила Маргарет. – А еще поговаривают, что его милость может жениться на сестре французского короля, – сказала Мод. – Не дай-то Бог! Екатерина пришла в ужас. Казалось, весь двор и весь Лондон знают о секретном деле Генриха, в то время как она, самое заинтересованное лицо, не поставлена в известность ни о чем. И даже Генриха давным-давно не видела. Обида становилась глубже. Он мог бы поговорить с ней об этом хотя бы из вежливости. У нее столько всего накипело внутри, уж она бы ему сказала. Мария, злившаяся на короля из-за Екатерины, подстрекала ее найти супруга и все ему высказать. Мод и Маргарет, всегда проявлявшие рассудительность и осторожность, советовали спросить его, не нужно ли ему что-нибудь обсудить с ней. И все равно Екатерина не хотела сама разыскивать Генриха: боялась, как бы он не подтвердил худших ее опасений. Но тут, будто мысли о Генрихе могли вызвать его появление, пришел лорд Маунтжой и возвестил прибытие короля. – Оставьте нас! – приказала фрейлинам Екатерина и встала, чтобы приветствовать Генриха изящным реверансом. Никогда прежде она не видела Генриха таким нервозным, как в тот послеобеденный час. Он стоял перед ней во всем блеске своей величественной персоны, но казался каким-то приниженным из-за непривычной для него робости. Екатерина взглянула на этого мужчину, который оставался ее мужем, кто бы там что ни говорил. Теперь, когда она боялась потерять его, он стал для нее еще более привлекательным, чем прежде: в свои тридцать шесть Генрих находился в полном расцвете сил. И он принадлежал ей. «Никому на свете не удастся разлучить нас», – дала зарок самой себе Екатерина. – Садитесь, Кейт, – сказал Генрих и занял место по другую сторону камина, в эту теплую пору заполненного цветами. Он неуверенно улыбнулся ей и произнес: – Надеюсь, вы в добром здравии? – Я здорова, благодарю вас, и чувствую себя еще лучше в вашем присутствии. – Екатерине не хотелось, чтобы ее слова прозвучали упреком. – А Мария? – С ней тоже все в порядке, и леди Солсбери докладывает мне, что она делает заметные успехи в учебе. Екатерине подумалось: живя при дворе, Мария могла услышать что-нибудь о сложностях с браком своих родителей. Прошу тебя, Господи, не допусти этого! – Кейт, – продолжил Генрих, возясь с ниткой, вылезшей из дублета, – мне нужно поговорить с вами. В последнее время меня заботит, очень заботит – тяготит мне совесть законность нашего брака, и… мне очень жаль, но я без всякого желания пришел к заключению, что мы должны расстаться. Он как будто нанес ей смертельный удар. Нет, не может быть, чтобы эти слова произнес Генрих, ее Генрих. – Кто вложил эти слова в ваши уста? – дрожащим голосом спросила Екатерина. Генрих выглядел смущенным: – Во время переговоров епископ Тарба выразил озабоченность законностью статуса Марии, и это не дает мне покоя. Его слова понудили меня задуматься: не отказал ли нам с вами Господь в сыновьях из-за того, что наш брак Ему не угоден? Совесть моя неспокойна, Кейт. Я очень боюсь гнева Божьего. – Вы уверены, что это не кардинал вселил в вас такие сомнения? – спросила Екатерина. – Он хочет избавиться от меня. Теперь, когда вы подписали договор с французами, какой смысл иметь при себе королеву-испанку? – Нет, Кейт, это не так. – Генрих имел сконфуженный вид, что лишь подтверждало подозрения Екатерины. – Как раз Уолси убедил епископа в том, что Мария – законная дочь короля. Кардинал, конечно, знает о моих сомнениях, но сначала был против того, чтобы я предпринимал какие-либо действия, хотя, как и я, заботится об устранении причин моего беспокойства. Именно он посоветовал мне обратиться за решением вопроса к папе. – Это ни к чему! – упиралась Екатерина. – Нам было дано позволение. – Но Библия предупреждает, что Бог жестоко покарает человека, который женится на вдове своего брата. Кейт, вы ведь знаете, что говорит Книга Левит! «Они будут бездетны». Поверьте мне, я изучил вопрос и убежден, что мы нарушили Божью заповедь. Брак, который приносит мне столько страха и душевных мук, конечно, не может быть законным! – Генрих, он законен! Так сказал папа. Разве он может ошибаться? Генрих встал и начал расхаживать по комнате: – Свидетельства неудовольствия Господа очевидны всем. Все наши сыновья умерли вскоре после рождения. Это наше наказание. – Он повернулся к ней и молитвенно воздел руки. – Уже долгое время я чувствую, что живу, вызывая гнев Всевышнего. Теперь я знаю, в чем причина, и боюсь рассердить Его еще сильнее, если стану упорствовать в сохранении этого брака. Вот почему, дабы успокоить совесть, а также из нужды в преемнике, мне приходится разрешать свои сомнения. На глазах у короля блестели слезы. Екатерина опустила веки, собираясь с мыслями. Она не могла отказать Генриху в искренности, и тем не менее ей было отчаянно необходимо убедить его в том, что эти страхи безосновательны. В случае удачи вся эта печальная история останется в прошлом и будет позабыта. – Вы говорили со своим духовником? – Да. Я обратился к нему прежде всех. Он не был уверен, что мне ответить, и направил меня за советом к архиепископу Уорхэму. Тот устроил допрос. Кейт, мне очень жаль, если вас это огорчает, но необходимо разрешить это дело. – Генрих, на каких основаниях вы подвергаете сомнению законность нашего брака? Я пришла к вам девственницей. Мы с Артуром так и не вступили до конца в супружеские отношения. – Но вы много раз спали вместе, жили в одном доме… Екатерина остолбенела: – Вы обвиняете меня в том, что я обманула вас и лгу вам до сих пор? – Нет, то есть, Кейт, я не знаю! Может, вы не делали ни того ни другого. Вы были невинны, и, может быть, это случилось, а вы не поняли. – О Генрих! Вы думаете, я бы не поняла? С вами мне в первый раз было больно. Генрих нетерпеливо мотнул головой: – Это все не имеет отношения к делу. Заповеди из Книги Левит приложимы в любом случае – свершился ваш брак или нет. – Не понимаю, каким образом! – Екатерина начинала горячиться. Ее не покидала уверенность, что за всем этим стоит Уолси. – Препятствие ко второму браку существует только в том случае, если первый окончательно свершился, а со мной этого не произошло. Тут все яснее ясного. Как еще мне убедить вас? Больше двадцати лет назад папа рассмотрел и принял во внимание все свидетельства. Он не одобрил бы наш брак, если бы существовали хоть какие-то сомнения. Вы не гневили Господа, и мы не прожили в грехе все эти восемнадцать лет! Генрих сердито взирал на нее: – Папа не имел права выдавать то разрешение. – Не имел права?! – Екатерина с ужасом отшатнулась. – Он наделен властью Христа. Вы подвергаете это сомнению? Вы говорите, он не имел полномочий решать что-либо в нашем случае? – Именно это я и говорю, – тоном дерзкого упрямца подтвердил свои слова Генрих. Его пронзительные голубые глаза сверкали. – Это ересь, не меньше. Неужели вы не понимаете этого? О Генрих! Не поступайте так, я вас умоляю. – Она вдруг упала перед ним на колени и воздела руки, как в молитве. – Кейт! – Он схватил ее за запястья. – Не мучайте меня. Меня толкают к этому угрызения совести и отчаяние из-за отсутствия сыновей. По щекам Екатерины покатились слезы. Генрих смотрел на нее с печалью в глазах, и на мгновение ей показалось, что вот сейчас он заключит ее в объятия, но супруг лишь отпустил ее руки, а она так и стояла на коленях, не в силах сдвинуться с места. Потом поднялась и снова села в кресло, чувствуя, что потерпела тяжелое поражение. Неужели нет таких слов, которые могли бы тронуть его? – А если папа постановит, что наш брак незаконен? Хотя он этого не сделает, уверяю вас. – Кейт, вы ни в чем не будете нуждаться, ни в богатстве, ни в почестях, ни в любви. Получите любой дом, какой пожелаете. – А наша дочь? О последствиях для нее вы подумали? Она ваша наследница. – И останется ею, пока у меня не появятся сыновья, так как, заключая брак, мы действовали честно. Значит, он уже думал о том, чтобы завести себе другую жену! И она, восемнадцать лет бывшая ему верной, хотя и бесплодной супругой, будет отвергнута! Так просто! – Вы хотите снова жениться. Почему прямо не сказать об этом? Лицо Генриха побагровело от гнева. – Не в том дело. Я сказал вам, мне нужна спокойная совесть. Но если единственный способ добиться этого – развод, тогда что ж, да, я должен взять другую жену, чтобы обеспечить себе наследника и сохранить спокойствие в королевстве. Это мой долг, не меньше. – Он встал и направился к двери, потом обернулся к Екатерине. – Все это поведет только к лучшему, уверяю вас, Кейт. Я прошу вас никому не говорить об этом деле, так как опасаюсь, что испанцы при вашем дворе могут публично выразить недовольство, а мне бы не хотелось провоцировать императора. Екатерина не могла ничего ему ответить. Она не верила, что все это – о расставании с ней, о намерении заменить ее на другую королеву – говорит Генрих. Почувствовав, что она больше не в силах сдерживаться и совершенно раздавлена, Екатерина громко, надрывно зарыдала, как бьющийся в агонии зверь. Все эти проведенные вместе годы, вся их любовь друг к другу, дети, которых они зачали и потеряли, радости, печали, все пережитое… Они были единой плотью, и теперь Генрих хотел разорвать связь и покончить со всем этим. Она не могла этого вынести. – О Боже! О Пресвятая Богородица! – голосила Екатерина. – Молю вас, помогите мне! – Она встала на колени, заливаясь слезами, и уткнулась лицом в ладони. – Чем я заслужила это? – Кейт, не надо, – упрашивал ее Генрих. – Пожалуйста, перестаньте плакать. Хватит! Но плотина была прорвана, и Екатерина не могла остановиться. Стоя на коленях, она содрогалась от рыданий. Долго длилась тишина, потом Екатерина услышала, как щелкнула задвижка. Генрих ушел – и мир перестал существовать.
Фрейлины столпились вокруг нее, утешали, приносили сухие носовые платки и вино, чтобы ее успокоить. Мод говорила с ней строго: – Ваша милость, что бы ни происходило, вы должны заботиться о себе. Все эти слезы ничего хорошего вам не принесут. – Вот, мадам, выпейте это, – предлагала Мария, подавая ей кубок с мальвазией. Екатерина глотнула и попыталась выровнять дыхание. Утерла глаза. Самое страшное осталось позади. – Совесть мучит его, – прошептала она. – Он хочет покончить с нашим браком. Боится, что это оскорбление Господа. Разумеется, нет, сказали дамы. Она, должно быть, неправильно его поняла, или короля ввели в заблуждение те, кому лучше поостеречься. Все будет хорошо. Папа все уладит, если дело дойдет до него. – Нет, – бормотала Екатерина. – Он знает, что делает. Говорил, что собирается взять другую жену. – Поступать с вами так – это непростительно! – сказала Мария. – Лучше не судить его милость, – тихо проговорила Мод. – Держу пари, я знаю, кто за всем этим стоит, – сказала Гертруда Блаунт, леди Эксетер, качая головой с глянцевитыми черными кудрями. Она глядела прямо перед собой, ее лицо выражало сочувствие, но было залито краской гнева. – Этот выскочка, жалкий сын мясника! – энергично закивала Элизабет Стаффорд, герцогиня Норфолк. Екатерина откинула голову на спинку кресла: – Он меня ненавидит. Я представляю Испанию, а Испанию он тоже ненавидит. Но я не смею открыто противостоять ему. Я совсем одна, без советников, далеко от своих испанских друзей, а его соглядатаи следят за каждым моим шагом. Но я должна позаботиться о Марии! – Екатерина собралась и села прямо. Она дочь королевы Изабеллы, а значит, должна быть тверда в своих убеждениях и смело отстаивать то, что считает справедливым. – Мой брак с королем правилен и законен, – заявила она громко и уверенно. Теперь ее голос звучал как боевой клич. – Папа Юлий дал на него разрешение, и для меня этого достаточно. Я истинная жена короля, а Мария – его законная наследница. Это Уолси сбил с толку моего господина и смутил его разум сомнениями. Мой долг – убедить супруга, что он совершает ошибку, и я сделаю это, да поможет мне Бог! Фрейлины аплодировали решимости своей госпожи и заверили ее, что она одержит победу. Ей подали еще вина и любимое сладкое печенье, принесли книги, чтобы она отвлеклась. Дамы наперебой предлагали сделать для нее что-нибудь. Тронутая их преданностью и любовью, Екатерина обвела взглядом милые, полные заботы лица своих помощниц и поблагодарила всех. А потом увидела Анну Болейн: та наблюдала за ней, держась несколько в стороне, лицо девушки слегка раскраснелось. Без сомнения, причиной было смущение при виде того, как королева утратила власть над собой. – Мне теперь лучше, госпожа Анна. – Екатерина взяла руку девушки и пожала ее.
Жизнь шла своим чередом, но теперь все стало иначе. Екатерина оставалась при дворе, ни слова больше не было сказано о разводе или ее переезде в другой дом. Каждый день она проводила много времени с Марией, читала ей, помогала с уроками, иногда играла и пела вместе с дочерью. Она решила не упрекать Генриха, а вместо этого вести себя в его обществе весело и непринужденно. Никакому мужчине не захочется иметь жену, которая вечно ворчит и жалуется. Таким путем супруга не вернешь! Казалось, Генрих тоже пытается наладить с ней отношения. Часто приходил в ее покои, болтал с ней, играл для нее, иногда призывал Марию, чтобы проверить ее успехи в учебе и похвалить. Сначала они чувствовали взаимную неловкость, но Генрих явно делал усилия для того, чтобы вернуть былое. Он проявлял нежность и уважение, а когда они вместе показывались на публике, соблюдал по отношению к супруге все тонкости этикета. Екатерина начала надеяться, что он отказался от намерения аннулировать их брак. Однако настал вечер, когда Генрих сообщил ей, что рассчитывает вскоре получить новости от папы. – Я знаю, какими они будут, – сказала Екатерина, ощутив, как качнулась иллюзорная завеса безопасности, которой она себя окружила. – Почему вы так упорно отвергаете то, что тяготит мою совесть? – взбеленился Генрих. – Я ваша законная жена и ваша королева! Я могу потерять все, что мне дорого. И что тому причиной? Бессмысленные сомнения, которые внушили вам мои враги. – Я говорил вам, Кейт, никто мне ничего не внушал. А вы гордитесь своим королевским статусом и позволяете этому суетному чувству вставать поперек моей совести. – Не одна только гордость не позволяет мне признать, что все эти восемнадцать лет я была вашей наложницей и жила в блуде! – крикнула Екатерина, боясь, что снова сломается и потеряет власть над собой. – Но еще и любовь к вам. Генрих избегал ее взгляда. Он смотрел мимо нее, куда-то в стену. – Вы знаете, что правда на моей стороне, – тихо сказала Екатерина, – и я буду стоять на этом до конца своих дней. – Вы бросаете мне вызов?! – с угрозой прорычал король. – Я, как обычно, готова повиноваться вам во всем, кроме тех вещей, которые задевают мою совесть. Беспрестанно говоря о вашей совести, Генрих, вы совсем забыли о моей, но она абсолютно спокойна в том, что касается нашего брака. Генрих встал. – Может быть, это и так, но тем не менее свою я должен успокоить! – выпалил он и с этими словами тяжелым шагом вышел из ее покоев.
Екатерина размышляла: стоит ли ей просить императора от ее имени обратиться к папе за заступничеством? Проведя много часов на коленях в мольбах подсказать выход из столь трудного положения, Екатерина решила, что все-таки будет искать помощи Карла. Если кто и мог посодействовать ей, так это он, а папа не упустит возможности оказать ему услугу. Однако Екатерина понимала: это будет непросто. Шпионы Уолси шныряли повсюду, буквально нависали над плечом, и стали еще более неотвязными, чем раньше. Как же ей провести всемогущего кардинала? Вдруг у нее в голове созрел план. Она вызвала одного из своих самых верных слуг – Франсиско Фелипеса и, понизив голос, объяснила ему, что нужно для нее сделать. После этого Екатерина отправилась к королю. – Сир, мой слуга Франсиско хочет навестить свою овдовевшую мать в Испании, – сказала она ему, кроткая как овечка. – Я не хочу, чтобы он ехал в такое неудачное время, но он говорит, что его мать больна, поэтому я не могу отказать ему и была бы вам очень признательна, если бы вы дали ему охранную грамоту. Генрих посмотрел на нее, прищурившись, и после долгой паузы произнес: – Очень хорошо. В тот же вечер король подписал охранную грамоту. Екатерина передала ее Франсиско, а потом тайком – и письмо к императору. Посланец спрятал его за пазухой. – Да поможет вам Бог! – пылко сказала Екатерина.
– Не пытайтесь снова обманывать меня! – взревел Генрих, когда фрейлины Екатерины скрылись с глаз, разбежавшись врассыпную, как горох. – Это нашли у вашего слуги в Кале, где мои офицеры задержали его и арестовали. – Он помахал письмом перед носом супруги. – Его вернули в Англию, и в обозримом будущем в Испанию он больше не поедет. Екатерина стояла молча. Ей нечего было сказать в свою защиту. По крайней мере, теперь Генрих знал, что она готова бороться за сохранение их брака. А Карл наверняка уже слышал о ее бедственном положении от Мендосы. – Почему вы послали за ним своих людей? – спросила она. – Чтобы узнать, зачем он поехал на самом деле. Я не такой глупец, за какого вы меня принимаете. – Я имею право на то, чтобы мой голос тоже был услышан в Риме! – возразила Екатерина. – Вы не имеете права подстрекать императора к войне, а именно так может быть истолковано это письмо. – У меня этого и в мыслях не было! – воскликнула Екатерина. – Как вы могли подумать обо мне такое? Генрих взирал на нее гневным взглядом: – Подтверждения этому у меня перед глазами! – Вы верите только тому, во что хотите верить, – обиженно сказала она, – но, уверяю вас, я ваша верная и преданная жена и никогда не сделала бы ничего, что могло бы повредить вам. – Вы на это не годитесь! – резко ответил он и вышел.
Екатерина заметила, что теперь за ней следят еще пристальнее. В ее окружение просачивались слуги самого короля, а не одного только Уолси. Она понимала, что нужно действовать очень осторожно, особенно в сложившихся обстоятельствах, ведь Генрих считал ее способной разжечь войну. Она не должна давать ему ни малейшего повода для подозрений. Ей было отчаянно необходимо повидаться с Мендосой, но посол императора, разумеется, не смел являться к ней с визитами. Когда они столкнулись лицом к лицу на приеме в честь итальянских посланников, он поклонился королеве, однако из осторожности даже не взглянул ей в глаза. В зале было полно людей, они толпились вокруг и переговаривались. Генрих стоял на некотором расстоянии в окружении алчных придворных. Несколько раз он разражался громким хохотом. – Мадам, одно слово, – пробормотал Мендоса. – Мой господин выразил возмущение действиями короля, которые находит странными. Он не верит, что его милость мог зайти так далеко, и повелел мне, чтобы я, ради всего святого, положил конец этому скандальному делу. Я должен передать вам это. А теперь, пожалуйста, не задерживайтесь рядом со мной. Когда Екатерина уходила, он сунул ей в руку сложенную бумагу. Казалось, этого никто не заметил. Оставшись одна в своих покоях, Екатерина прочла, что написал ей племянник Карл.
Вы легко можете представить себе, какую боль причинили мне эти известия и как я Вам сочувствую. Я тотчас же предпринял необходимые шаги для защиты Ваших прав, и будьте уверены, я не упущу ни одной возможности помочь Вам.«Наконец, – подумала она, – наконец-то нашелся хоть кто-то, готовый и способный мне посодействовать. Я обрела защитника».
Глава 23 1527 год
Секретное дело короля превратилось в Великое дело. Так называли его люди – ужасавшиеся, одобрявшие или просто любопытствующие. Казалось, большинство ужасалось. Стоило Екатерине появиться на публике, как вокруг собиралась толпа, и люди выкрикивали: «Победы вам над врагами!» Обычные горожане не могли поверить в то, что их король может быть таким бессердечным и хочет отделаться от их любимой королевы, своей законной жены. Особенно громко в поддержку Екатерины высказывались женщины. Они не скрывали своей убежденности в том, что Генрих ищет повод избавиться от супруги исключительно ради собственного удовольствия. – Как же это! – восклицала одна краснощекая торговка рыбой. – Если король может прогнать свою старую жену, так и любой сладострастник захочет того же, и где тогда окажутся женщины? У Екатерины это вызвало улыбку. Она приободрилась, почувствовав тепло и любовь, исходившие от людей. Если бы решение по этому дело принимали женщины, нет никаких сомнений – Генрих проиграл бы битву. Но, увы, голоса женщин, даже королев, мало что значили. При дворе все было совершенно иначе. Понятно, что большинство встало на сторону короля. «Королева Франции» разыскала Екатерину в королевской библиотеке – та пыталась извлечь хоть какой-нибудь толк из толстого тома канонического права. Не говоря ни слова, сестра Генриха порывисто заключила Екатерину в объятия: – Я не могла не прийти. Повсюду только и судачат о ваших делах. Других тем для разговоров почти что нет. Меня ужасают поступки моего брата, я ему так и сказала. Вид у «королевы Франции» был такой же грозный, как у Генриха, когда он гневался, и Екатерина вполне могла представить, какая сцена разыгралась между братом и сестрой. – Прошу вас, не раздражайте его слишком сильно! – взмолилась Екатерина, закрывая книгу. – Он может запретить вам бывать при дворе, и я не вынесу этой потери, мой дорогой друг. – Я сказала ему, что думаю. Заявила, что он выставил себя величайшим глупцом во всем христианском мире, подняв весь этот шум, когда папа явно признает вашу правоту. Ему это не понравилось, хотя я еще не выслана! – Не говорите больше ничего, – предупредила ее Екатерина, нервно окидывая взглядом шкафы с книгами, как будто опасалась, не спрятались ли в них шпионы Уолси. – В последнее время Генрих стал очень подозрительным. Обвинил меня в разжигании войны с Испанией, когда я всего лишь просила императора замолвить за меня словечко в Риме. – Генрих рассказал мне. Он думает, вы на такое способны. Пусть потерзается, хуже не будет. Пойдет ему на пользу! – Я не смею. Он может обвинить меня в измене. – Моя дорогая Кейт, если – как он утверждает – вы ему не жена, тогда вы ему ничем не обязаны и не можете быть виновны в измене. Пусть выбирает что-то одно!Уолси отправился во Францию. Генрих объяснил, что кардинал уехал туда для подготовки бракосочетания принцессы Марии с герцогом Орлеанским, однако Екатерина подозревала: затевается нечто большее. Уолси вполне мог попытаться заручиться поддержкой Франциска в деле короля. Она как раз обдумывала это, когда повидаться с ней пришел почтенный Джон Фишер, епископ Рочестера. Екатерина хорошо знала этого человека и любила за мудрость и благочестие, но сегодня его угловатое лицо было суровым. Екатерина испугалась, увидев, какой неприступный у него был вид. – Мадам, примите совет старика. – Прошу вас, садитесь, господин мой. – Она указала на кресло по другую сторону камина. – Мария, прошу тебя, принеси вина. Мария умчалась. – Я видел кардинала в Рочестере, – сказал Фишер, с кряхтением усаживаясь в кресло. – Мы долго обсуждали Великое дело, и он пожаловался, что вы испытываете чрезмерные и несправедливые подозрения относительно намерений короля, а также высказываете сомнения, каких это дело не заслуживает. Он заявил мне, что ваше поведение придало делу широкую огласку, а кроме того, вы отправляли секретные послания. Мадам, если это правда, тогда вам нужно винить саму себя за то, какой печальной известностью стало пользоваться это дело, и за праведный гнев короля. Я обещал кардиналу, что попеняю вам за ваше своенравие и непослушание. Екатерина нахмурилась: несправедливость обвинений уязвляла ее. Теперь она точно знала, что все эти проблемы – дело рук Уолси. Его злой умысел был очевиден. – Господин мой епископ, все это неправда, – сказала она, пытаясь скрыть гнев. – Я не распространяла сведений об этом Великом деле. Скорее, я сама страдаю оттого, что оно стало достоянием широкой публики и весь мир судачит о моих личных трудностях. Король не дал мне отправить послание императору с просьбой заступиться за меня в Риме, ведь у меня там нет своих людей. Его величество обвинил меня в подстрекательстве к войне, но это настолько не соответствует моим истинным намерениям, что даже говорить не стоит. Вот что лежит в основе этих жалоб. Я бы никогда не сделала ничего, что может повредить моему мужу. Я люблю и почитаю его. – Рад слышать это, мадам, – сказал Фишер таким тоном, будто продолжал считать ее в чем-то неправой. – Я… Он оборвал себя на полуслове. Вернулась Мария с двумя кубками, епископ сделал три небольших глотка и отставил вино в сторону. Выражение его лица смягчилось. – Будьте осторожны. Не оступитесь. И я тоже буду начеку. – Он подождал, пока Мария не удалится, затем, понизив голос, продолжил: – Между прочим, я не вижу причин осуждать вас. Знайте, что можете рассчитывать на мою поддержку.
В конце июля Генрих отдал распоряжение всему двору перебираться в Бьюли – его дворец в Эссексе. В то утро, когда они должны были тронуться в путь, Екатерина задержалась – у нее оторвался подол киртла. Стоя у окна в ожидании, пока сестры Отвелл не пришьют его, она увидела Генриха – он садился на коня рядом с конюшнями, где собралась его свита. – Поторопитесь! – крикнула она фрейлинам, зная, что король будет раздражен, если ему придется ждать. Вошла Анна Болейн, ее смуглое лицо пылало. Не будет ли ей позволено покинуть двор, чтобы навестить свою семью в Кенте? – Это довольно внезапно и неожиданно, прямо перед отъездом, – упрекнула ее Екатерина. – Я знаю, мадам, и прошу простить меня, но для меня очень важно уехать. – Что-нибудь случилось? – спросила Екатерина, потому что Анна выглядела взволнованной. – Нет, мадам. Очевидно, ее не следовало принуждать к ответу, и Екатерина отпустила девушку. Потом поспешила вниз, чтобы присоединиться к королю, и больше об Анне не вспоминала. Бьюли – «прекрасное место» – поместье, несколько лет назад купленное Генрихом у Томаса Болейна и переименованное, теперь утопало в роскоши. Внутри просторный главный двор, в центре его фонтан со скульптурами херувимов, испускавших изо рта воду. Генрих и Екатерина провели здесь месяц, держа большой штат слуг и без конца принимая гостей. Пока Генрих охотился и играл в теннис, Екатерина любовно сшила два платья для Марии, которая со своим двором находилась в Хадсоне и, судя по отчетам Маргарет, быстро росла. О Великом деле речь больше не заходила, и Екатерина начала надеяться на окончательное примирение с Генрихом.
В начале августа Анна Болейн вернулась к своим обязанностям, одетая с большей роскошью, чем обычно. – Эта девушка слишком много себе позволяет! – проворчала Мария за вышиванием, всаживая иглу в ткань так, будто пронзала плоскую грудь Анны. – Мне она никогда не нравилась, – сказала Гертруда Блаунт, – хотя, вынуждена признать, французское платье ей к лицу. – Она во многом больше напоминает француженку, чем англичанку, – заметила Екатерина. – Конечно, ведь она много лет провела при французском дворе. – И могу поспорить, научилась там не одним только французским манерам! – продолжала выражать недовольство Мария. – Вам не хватает доброты, друг мой, – упрекнула ее Екатерина, вспоминая, какое разочарование в любви пережила Анна. – Она всегда хорошо мне служила и была украшением моего двора. Я не нахожу в ней никаких изъянов. – Но она не одна из нас, – пожаловалась Мария. – Всегда держится в стороне, как будто считает себя лучше всех. Маленькая леди Высокомерие – так я зову ее! – Мужчины вокруг нее так и вьются, – заметила Гертруда Блаунт. – Они только этим и заняты, – поддержала ее Екатерина. – Госпожа Болейн ревностно блюдет свою добродетель. Помните, как она держала на расстоянии Томаса Уайетта? – Он женат. Ей от его ухаживаний никакой пользы не было. – Гертруда, не будьте такой злой. Если молодая девушка жизнерадостна и обладает вкусом, это еще не означает, что она распущенна. Анна найдет себе хорошего мужа, вот увидите. Вечером планировались развлечения, и после ужина Генрих и Екатерина уселись на троны под балдахинами. На галерее заиграли придворные музыканты. Генрих сразу поднялся, поклонился Екатерине и предложил ей руку. Она улыбнулась и вместе с ним исполнила танец, положивший начало веселью; вслед за королем и королевой придворные тоже спустились в зал. В сорок один год Екатерина чувствовала себя старой и слишком дородной, чтобы кружиться рядом со стройными молодыми красотками. После двух танцев она вернулась на место, пополнив число зрителей, а Генрих тем временем танцевал в паре со своей сестрой, «королевой Франции». Когда начался четвертый танец, Генрих подошел к Анне Болейн и поклонился, потом протянул ей руку. Очевидно, это не доставило ей удовольствия, тем не менее она вложила в нее свою. Екатерина заметила, как блеснуло в свете свечей кольцо с изумрудом. Танец Генриха с Анной вызвал легкий ропот в зале. Екатерина поймала на себе взгляды. И какими голодными глазами смотрит Генрих в лицо Анны, когда они встречаются в танце! В этот момент она все поняла.
На следующее утро Генрих отправился на охоту. Анны в покоях королевы не было. Она даже не отпрашивалась. Генрих вернулся ближе к вечеру. Выглянув в окно, Екатерина увидела свою фрейлину, в алом костюме для верховой езды слезающую с лошади. – Взгляните-ка на это, – сказала она Мод, и горечь комом встала у нее в горле. Полные губы Мод вытянулись в линию. – С неделю или около того при дворе пошли разговоры. Мне не хотелось говорить вам. – Интересно, давно ли это началось? – едва слышно произнесла Екатерина. Как она сможет соперничать с такой юностью, очарованием и элегантностью? – Недавно, насколько я могу представить. Иначе мы узнали бы раньше. Внезапно Екатерина вспомнила прошлогодние февральские турниры в Гринвиче и девиз, который носил Генрих. Не могла же эта история длиться так долго? Потом она подумала о загадочных отъездах и возвращениях Анны Болейн и о возраставшей роскоши ее нарядов. И все же Екатерина отказывалась в это верить. Должно быть, все началось недавно. – Очень плохо, что уже пошли разговоры! – воскликнула Екатерина. – Что, если об этом услышит принцесса? – Ей невыносимо было думать, как это может повлиять на Марию. – Вот ужас! Он не только изменяет, но еще и не стесняется показать свою неверность публично. Раньше он такого себе не позволял. Похоже, он чувствует себя свободным так поступать и не берет в голову, что этим унижает меня. Я его королева! Как он может? Это такой позор! Но Генрих мог и делал это. Вскоре стало казаться, что весь свет полнится слухами, которые подогревались открытыми – кто-то сказал бы, бесстыдными – ухаживаниями короля за Анной Болейн. Кто и чего только не говорил! Она его любовница, утверждали одни; нет, отвергали это предположение другие, он намерен жениться на ней, когда разрешится его Великое дело. Да нет же, он просто хочет затащить ее в постель! Анна продолжала ежедневно прислуживать королеве. Ни разу она не выказала неуважения к Екатерине и не повела себя как ее соперница. Но другие дамы недвусмысленно давали понять, что думают о ней. Методы у них были изощренные: попытки слегка отстраниться, переход на шепот в разговоре, неодобрительные взгляды. Но ничего явного, что давало бы ей повод пожаловаться королю. От своих дам Екатерина узнавала, что говорят люди. Она хотела, нет, ей было необходимо знать, как бы больно это ни ранило. Екатерина и сама видела, своими собственными глазами, что происходит между мужем и ее фрейлиной. Она наблюдала из окна за тем, как они гуляют по саду рука об руку; она видела Анну в центре толпы приближенных, окружавших короля, смеющейся, отпускающей шутки, кокетничающей. Когда Генрих танцевал с Анной, Екатерина не сводила с них глаз: их тела двигались в полной гармонии, взгляды и руки сплетались. Теперь Генрих редко захаживал в апартаменты Екатерины. Казалось, каждый час каждого дня ему необходимо было проводить с Анной. Екатерина интуитивно чувствовала – а кому, как не ей, это понять? – что Генрих безнадежно влюблен. Все в нем свидетельствовало об этом. Он не сводил с Анны глаз и не заботился, замечает это кто-нибудь или нет. Но Анна, похоже, не испытывала такой уж сильной необходимости в обществе Генриха. Екатерине стало ясно, что ее соперница в совершенстве овладела искусством держаться с мучительной отчужденностью. – Боюсь, она и есть главная причина сомнений короля относительно вашего брака, – поделилась Мод с Екатериной. – Я тоже об этом думала, – сказала Екатерина, надеясь, что Генрих все-таки вовлек их обоих в это пронизанное ложью дело не ради пары темных глаз. «Королева Франции» возмущалась Анной. – Терпеть не могу эту женщину, – заявила она однажды вечером, когда Генрих танцевал со своей пассией. – Она служила мне во Франции, и уже тогда я невзлюбила ее. Эта женщина двулична и слишком себе на уме. Простите меня, Кейт, но я поеду домой в Уэсторп. Я не останусь здесь наблюдать, как она пробирается в королевы, потому что именно этим она и занята, помяните мое слово. Она стремится завладеть вашей короной, и не успеете вы оглянуться, как она окажется на голове у этой проныры. Но госпожа Анна не дождется, чтобы я преклонила перед ней колени, жалкая выскочка! Эта решительная поддержка приободрила Екатерину. – А ваш муж-герцог? На чьей он стороне? – Чарльз? Чего вы хотите, Кейт? Он за короля. У него нет выбора. Он всем обязан Генриху. – Но это не добавляет гармонии семейным отношениям. Вид у «королевы Франции» был мрачный. – Нет, Кейт, не добавляет, и это еще одна причина, почему я покидаю двор. – Я буду скучать по вас, дорогая сестрица, – сказала Екатерина, глядя, как Генрих по окончании танца поднес к губам руку Анны.
Екатерине долго не представлялось возможности спросить Генриха, что происходит между ним и Анной. Но однажды, придя в положенное время послушать мессу, она обнаружила его на королевской скамье в церкви: он просматривал какие-то бумаги. Екатерина встала на колени рядом с королем, произнесла молитву, потом села на свое место и, собравшись с духом, произнесла: – Генрих, я должна спросить – я слышала много разговоров и видела вас в обществе Анны Болейн. Вы ничего не хотите мне сказать? Генрих не пожелал взглянуть на нее. Его глаза были устремлены на витраж за алтарем. Выдержав долгую паузу, он заговорил: – Я влюблен в нее, Кейт, и намерен на ней жениться. Екатерина втянула в себя воздух. Этого она боялась больше всего. – Значит, вот в чем причина того, что вас мучит совесть! – Нет, Кейт. Это не обычное дело. Я понимаю, все выглядит так, будто я стремлюсь к разводу из любви к некой даме, а вовсе не от угрызений совести. Но это неправда, потому как мною движет одно лишь желание облегчить свои душевные муки. – Он повернулся к Екатерине. – Кейт, взгляните правде в глаза. Мне нужен сын. Вы, к сожалению, не можете мне его дать. – Но если бы наши сыновья выжили, вы продолжали бы утверждать, что наш брак недействителен? – Если бы они были живы, у меня имелось бы доказательство того, что Бог улыбается нашему союзу. Но их нет. Господь упокоил их души. Меня тревожит отсутствие преемника, я боюсь за будущее своего королевства. Черт возьми, Кейт, вы не понимаете моих доводов?! Папа поддержит меня. Он поймет, что мне необходимо взять другую жену, которая родит мне детей. Тот факт, что я уже нашел ее, несуществен, правда. – А как же я? – спросила Екатерина, содрогаясь от душевной боли и гнева. – Я говорил вам, Кейт: вы получите все, что захотите! Мое дело по сути своей справедливо, и оно проистекает не из недовольства вами. Я собираюсь обращаться с вами как с сестрой – почтительно, с добротой и любовью. За Марией останется ее место в ряду наследников после сыновей Анны. Его сестра! Вдова Артура. Однако Екатерине не представилось возможности ответить: появился священник с детьми из Королевской капеллы и месса началась. Бóльшую ее часть Екатерина проплакала. Генрих не мог этого не видеть, однако даже не попытался ее утешить.
– Эту женщину надо приструнить! – шипела Мария. В эти дни она находилась в дурном настроении: вопреки ее воле герцог Саффолк выкупил у короля опеку над ее дочерью и стал законным попечителем ребенка и он поддерживал своего властелина. – Она не лучше, чем… ну, я не буду этого говорить! – сердилась Мод. – Как вы можете терпеть ее здесь, мадам? Отошлите ее домой! – Не могу. Это будет выглядеть как месть. И король, вполне возможно, вызовет ее обратно и прикажет мне принять ее назад в свою свиту. – Ваша милость, вы святая! – раздраженно заявила Гертруда Блаунт. – Вы не выражаете ни недовольства, ни досады, а просто принимаете все без обид. – Я пытаюсь проявлять мудрость и терпение и стараюсь ради короля относиться с уважением к госпоже Анне. – Зачем вы это делаете? Другие жены выдрали бы ей волосы. – Когда-нибудь он откажется от нее, и я хочу, чтобы до того времени он сохранил хорошее мнение обо мне. К тому же я королева и должна держаться достойно. Помяните мое слово, эта дама недолго будет торжествовать. – Она хочет заполучить корону Англии! – возмущенно воскликнула Мария. – Я знаю своего мужа. Удовлетворив свое желание, он сразу к ней охладеет. А я его законная жена, что будет подтверждено. – Значит, ваша милость, вы считаете, что она его любовница? – Я в этом уверена. Признавать это было больно, и Екатерина понимала, что не должна так непочтительно отзываться о Генрихе при своих фрейлинах. Но ей нужно было с кем-то поговорить, или она сошла бы с ума. – Что мать, что дочка, – буркнула Элизабет Стаффорд. – У леди Болейн в молодости была особая репутация. – А я слышала, ее сестричка – шлюха, – фыркнула Гертруда Блаунт. Мод пробормотала: – Этот разговор не для ушей королевы. Екатерина не без труда сменила тему, хотя с удовольствием продолжила бы развивать ее.
Генрих вел себя как одержимый. Несколько раз, когда выдавался случай завести разговор об этом деле, Екатерине приходилось бороться с его абсолютной убежденностью в своей правоте. Пересуды о его страсти к Анне не умолкали – и все это говорилось о человеке, который раньше был образцом осторожности и благоразумия. Генрих был настолько поглощен любовью, что казалось, его желание главенствует над прочими соображениям и тактичности положен конец. Екатерина понимала: ее муж обуян страстью и только Бог может ослабить это помешательство. Анна была гораздо осмотрительнее. Она вела тонкую игру, в этом не было сомнения, потому что, когда Генрих обхаживал ее – а он делал это на глазах у Екатерины, – она принимала вид холодный и отстраненный. Анна теперь так часто проводила время с Генрихом, что Екатерина чувствовала себя живущей в ménage à trois[16], как фактически и было. Садясь играть в карты с Анной и Генрихом, она дивилась собственной покладистости и поражалась Генриху, который, судя по всему, не находил ничего необычного в том, чтобы коротать часы досуга с женой и любовницей одновременно. В тот день Анна, очень элегантная в черном бархатном, расшитом жемчугом платье, забрала главную ставку, вытащив короля. Екатерина не могла сдержаться. Она улыбнулась: – Госпожа Анна, у вас есть прекрасная возможность остановиться на короле, но вы, как все, хотите получить все или ничего. Генрих вспыхнул, а у Анны хватило выдержки, чтобы грациозно кивнуть. Но теперь линия фронта была прочерчена, и ею было отмечено окончание покорности Анны своей госпоже. С того дня ее враждебность стала очевидной. Анна приходила и уходила когда хотела и вела себя по отношению к Екатерине подчеркнуто неуважительно. Не упускала случая показать свое влияние на короля и при дворе. Была безжалостна. Екатерина поняла: эта молодая особа, которой она восхищалась, которую жалела и защищала, была опасна, как змий, лишивший рая Адама и Еву.
Уолси находился во Франции, и неусыпное наблюдение за Екатериной ослабло. На этот раз Франсиско Фелипесу удалось незамеченным ускользнуть из Англии. Много дней Екатерина находилась в подвешенном состоянии, теряясь в догадках, сумел ли он обмануть бдительность властей, но время шло, а никаких известий не приходило. Екатерина начала надеяться, что ее гонец достиг Испании и рассказал императору о ее бедственном положении. Но вот пришло письмо от Карла, подтвердившее догадки Екатерины.
Вам нетрудно будет представить ту боль, которую причинили мне эти новости. Если бы дело касалось моей собственной матери, оно не принесло бы мне большего огорчения. Я немедленно начал работать над исправлением ситуации, и Вы можете быть уверены, что я, со своей стороны, сделаю все возможное, дабы оказать Вам помощь и поддержку в этих испытаниях. Дайте мне знать со всей возможной поспешностью, как продвигается это омерзительное дело, чтобы я мог сделать все необходимое для Вашей защиты и Вашего благополучия.«Слава Богу, – подумала Екатерина, – слава Богу!» Слухи и домыслы по поводу того, что Генрих хочет сделать Анну королевой, вызвали широкое возмущение. Когда Екатерине случалось отправляться на барке в Лондон, а она делала это несколько раз за последние месяцы, люди аплодировали, громко приветствовали ее и выражали неодобрение Анне. – Не хотим Анку Буллен! – кричали они. – Сжечь шлюху! – Боже, спаси нашу королеву! Долгих лет доброй королеве! Екатерина молилась, чтобы таких протестов не было, когда Мария появится на людях, и решила отдать распоряжение Маргарет Поул, чтобы та как можно больше держала девочку дома. Но невозможно было запереть Марию в ее покоях навечно. Это ужасное дело отбрасывало тень на всю их жизнь, теперь Мария даже не могла свободно выходить. Екатерина очень злилась. А еще больше бесило ее то, что Генрих вовсе не беспокоился о дочери. Он был полностью поглощен чарами госпожи Анны Болейн! Уолси вернулся в Англию. Екатерина узнала об этом однажды вечером, когда сидела рядом с Генрихом в главном зале на троне и собиралась смотреть представление масок. Анна, разумеется, была здесь же – одетая в белый дамаст, с распущенными темными волосами, в которых сверкали драгоценные украшения. Цвет платья не шел к ее желтоватому лицу, но Генрих не мог оторвать глаз от любимой. Екатерина предчувствовала, что Генрих встретит кардинала с радостью, особенно если тот привез известие о готовности короля Франциска поддержать развод. Явился гонец от Уолси: где будет принят его господин? Екатерина ожидала, что Генрих, как обычно, попросит извинения и отправится в кабинет кардинала, чтобы выслушать доклад. Но тут, не успел Генрих ответить, как встряла Анна. – Куда же еще идти кардиналу? – обратилась она к гонцу. – Скажите ему, чтобы шел сюда, где король! – Да, попросите его прийти сюда, – поддержал ее Генрих. Так Анна всему двору показала свою власть над королем и ненависть к кардиналу. «О, она умна», – подумала Екатерина и вспомнила расстроенную девушку, которая обещала отомстить Уолси. Сколько же, четыре года Анна носила в себе эту смертельную обиду? От этой мысли Екатерина похолодела, но потом поняла: у них с Анной есть кое-что общее – ненависть к Уолси. Разве сама она не хранила в душе схожую обиду, причем гораздо дольше? Однако, имея такую власть над королем, Анна могла оказаться более опасным противником, чем была Екатерина во все время брака с Генрихом. Она ощутила едва ли не жалость к Уолси, которому явно претило то, что его принимали как любого ищущего места придворного и при этом со всех сторон на него с торжеством взирали враги.
А потом вдруг Анна уехала от двора. Даже не попросив позволения, как она сделала это в июле. – Она отправилась в Хивер, мадам, – с беспокойным видом сообщила Джейн Сеймур, новая фрейлина. Екатерине она нравилась: Джейн не была красавицей, но теперь королева изменила подход к набору штата. Став старше, она более не хотела брать на службу молодых привлекательных женщин, чтобы те красовались при дворе. Эта же девушка принадлежала к знатному роду уважаемых английских рыцарей и имела среди предков короля Эдуарда III. Блондинка со светлой кожей, Джейн была преданной, тихой и услужливой, не слишком умной, но практичной. В искусстве вышивки с ней мало кто мог сравниться, и когда-нибудь она должна была стать прекрасной хозяйкой дома. Но для кого? Екатерина слышала разговоры о помолвке, но также и о том, что мать молодого человека, который претендовал на руку Джейн, положила им конец. Девушка призналась, что очень расстроена этим. – Она считает, я недостаточно хороша для ее сына, мадам, – с печальным видом объяснила Джейн. – Ну что ж, если вы достаточно хороши для того, чтобы служить мне, значит для Уильяма Дормера вы уж слишком прекрасны. Я премного благодарна сэру Фрэнсису Брайану за то, что он порекомендовал вас мне. – Он давний друг нашей семьи, и служить вашей милости – это большая честь для меня. Преданность Джейн была трогательной. А отъезд Анны принес Екатерине заметное облегчение: больше не надо было терпеть присутствие этой неприятной, скандальной особы, которая нарушала мир и покой при дворе королевы. Екатерина недоумевала: что послужило причиной столь внезапного исчезновения? Была ли это какая-то новая тактика, чтобы еще дальше заманить в ловушку Генриха? Говорят, разлука укрепляет в сердцах любовь. Ах, но ведь есть и другая старая пословица: с глаз долой – из сердца вон. Вот бы это оказалось верным, надеялась Екатерина. Но надежды были слабы.
В сентябре сэр Томас Мор, недавно вернувшийся из посольства в Кале, пришел в Хэмптон-Корт повидаться с Екатериной. – Я только что от короля. Мы гуляли по галерее. – Мор сделал паузу, как будто затруднялся, как продолжить, что было для него нехарактерно. – Он поинтересовался моим мнением относительно Великого дела. У него при себе была Библия с закладкой на Книге Левит. – Что вы сказали ему, мой дорогой друг? Для Екатерины мнение Мора имело решающее значение. Не много она могла назвать людей, обладавших такой же цельностью натуры и прямотой. – Я прямо сказал ему, что ваш брак безупречен и законен. – Благодарю вас за это, – с облегчением выдохнула Екатерина. – Король высоко ценит ваше мнение. Что он ответил? – Он был явно разочарован, но принял мои слова милостиво. Потом он предложил мне поговорить с его священником доктором Фоксом, который пишет книгу, разбирая в ней дело его милости. Я заверил короля, что сделаю это, и исполню обещанное, однако едва ли мое мнение изменится, так как оно основано на Писании. Его милость сказал, что уважает это и не будет давить на меня. – Значит, еще не все потеряно, – заметила Екатерина. – Хотя, кажется, большинство людей поддерживают моего мужа. – Он король, мадам. Иного ожидать не приходится. Вы знаете, что он отправил посольство в Рим? – Нет, сэр Томас, мне об этом неизвестно. Никто мне ничего не говорит. Мор дружелюбно улыбнулся ей: – Не беспокойтесь, мадам. У вас много друзей, желающих вам блага. – Да, мой добрый друг, но у меня есть и влиятельные враги. – Взбодритесь! Его святейшество восстановит справедливость!
Анна Болейн вернулась ко двору в Гринвич ровно к Йолю[17], и Екатерине снова пришлось страдать, видя ее танцующей с Генрихом. К ее облегчению, появился Мендоса. – Счастливого Рождества, ваше высочество! – Того же и вам, ваше превосходительство. Посол понизил голос: – Я должен быть краток. У меня есть для вас новости. Папа бежал из плена, но он остается зависимым от императора. Мой господин приказал Клименту не предпринимать никаких шагов для аннулирования брака вашей милости и не допускать рассмотрения этого дела в Англии. Из Рима пришли сведения, что кардинал Уолси просил его святейшество дать ему полномочия заслушать дело и вынести решение. А еще он требовал назначить папского легата и даже отправил в Рим черновики решений: одного – об аннулировании вашего брака и второго – о дозволении нового, на которых папе нужно было только поставить печать и подпись. Екатерина едва успевала осмысливать сказанное, а времени задавать вопросы не было… – Благодарю вас, – тихо произнесла она. Генрих, смеющийся и разгоряченный танцем, вернулся и сел на трон рядом с ней. Мендоса тут же исчез. – Могу я поговорить с вами? – спросила Екатерина Генриха. – Позже, – ответил он, и его радостное настроение стало улетучиваться. Он следил, как Фрэнсис Брайан ведет Анну в круговой танец. «Позже» так и не наступило. Прошло несколько дней, но Генрих не дал Екатерине возможности поговорить с ним наедине. А то, что она собиралась с ним обсудить, было так важно. Екатерина едва не сходила с ума от досады.
Во время рождественских праздников епископ Фишер отыскал Екатерину в ее покоях и попросил об аудиенции. – Мадам, – сказал он, длинное лицо его при этом было сурово, – я не мог не высказаться в защиту законности вашего брака, и скажу вам то, что заявил кардиналу Уолси: никакой божественный закон не запрещает брату жениться на вдове своего почившего брата. Вы можете опираться на разрешение папы, в противном случае чего ради Христос сказал бы святому Петру: «И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». – Добрый епископ, ваши слова согревают мне сердце, – сказала ему глубоко тронутая Екатерина, прекрасно понимая: надо обладать большой смелостью, чтобы в эти дни перечить королю. – Это необходимо было сказать, мадам. И не позволяйте никому убеждать себя в обратном. Маргарет Поул улыбнулась: – Слышали бы вы, ваша милость, что говорит по поводу Великого дела мой сын Реджинальд! Реджинальд, протеже Генриха, недавно вернулся из Италии, где обучался богословию за счет короля. – Он придерживается того же мнения, что высказал здесь епископ. – Я рад слышать это, леди Солсбери, – сказал Фишер. – Подозреваю, архиепископ Уорхэм тоже не в большом восторге от этого дела. – Но он был в числе тех, кто настраивал покойного короля против моего брака, – заметила Екатерина. – Мадам, поверьте мне, он несчастлив. Уорхэм, конечно, человек короля и поддерживает своего господина в вопросе установления законности брака. Уорхэм сказал Уолси, что, как бы плохо ни восприняли это вы, ваша милость, истина должна быть установлена и ею следует руководствоваться в дальнейшем. Но он не сторонник нововведений и никогда не поддержит нападок на власть папы. Не забывайте, ведь есть и такие, кто находит в этом деле повод указать на продажность церковников. – Будем надеяться, до этого не дойдет, – сказала Екатерина.
Наконец Екатерина увиделась с Генрихом – через стол в кабинете Уолси. Она предпочла бы встретиться с супругом наедине, но он настоял на присутствии кардинала. Было уже поздно, отсветы огоньков свечей плясали на расписных панелях, которыми были отделаны стены. Уолси стоял в стороне и грел руки над огнем. – Я слышала, вы отправляли посольство в Рим, – начала Екатерина, не позволяя себе робеть под стальным взглядом Генриха. – Это не тайна. Я отправлял его, дабы спросить, достаточно ли разрешения на брак, данного папой Юлием, потому что уверен: оно было основано на некоторых ложных предположениях. – На каких ложных предположениях? Наступит ли когда-нибудь конец этим фантазиям? Уолси поспешил вмешаться: – Мадам, король решительно намерен успокоить свою совесть. Он никогда не хотел этого брака. – Это откровенная ложь! – крикнула Екатерина, припоминая тот далекий день, когда Генрих ворвался в ее убогое жилище и потребовал: будь моей. Ей было невыносимо слышать, как эти бесценные воспоминания чернят ложью. Она повернулась к королю. – Господин мой, вы, конечно, опровергнете это утверждение! Генрих явно смутился: – Я надеюсь только на одно: чтобы папа успокоил мою совесть. – Весь народ и вся знать страстно желают, чтобы у короля появился наследник, – встрял Уолси. – Папа никогда не согласится аннулировать наш брак, – не сдавалась Екатерина. Слава Богу, Карл держал Климента на коротком поводке. – Если ваша милость полагает, что император удержит власть над Римом, вы ошибаетесь. Я заверил его святейшество, что в случае удовлетворения просьбы короля его милость готов объявить войну императору и добыть свободу для святейшего папы. Екатерина онемела. Неужели Генрих действительно хотел проверить на прочность могущество Испании и императора? Да поможет ей Небо, а то, кажется, ее супруг вознамерился перевернуть весь мир, лишь бы отделаться от нее. Как же до этого дошло? Куда подевался тот златовласый юноша, который пришел к ней здесь, в Гринвиче, в этом самом дворце, и предложил свое сердце? Сейчас Екатерина смотрела на него через стол, а он гневно сверкал на нее глазами. О, она думала, что умрет от горя. К этому Генриха привел Уолси – Уолси и Анна Болейн, эти два дьявола, что сидели на плечах у жертвы и вливали ей в уши яд. Это не тот Генрих, которого она знала и любила. Его сбили с пути, развратили эти злодеи. – Причина всего этого – вы, господин мой кардинал! – кинула Екатерина Уолси. С этими словами она встала, сделала реверанс королю и оставила их обоих с разинутыми ртами. Уолси нагнал ее в галерее. Лицо его в лунном свете, лившемся через кружевной оконный переплет, казалось перекошенным. – Мадам, я молю вас выслушать меня, – тяжело дыша, с мрачным лицом произнес кардинал. – Я не стремился к этому разводу. На то была воля короля. У меня не было иного выбора, кроме как исполнять его приказания. Если папа останется непреклонным, дни мои сочтены, и мне страшно думать о последствиях. Екатерина слышала отчаяние в его голосе. Ее это удивило. Там, в кабинете, речь кардинала звучала уверенно. – Я вам не враг, мадам, – продолжил Уолси. – Вы и ваша дочь вызываете во мне сочувствие. Будь на то моя воля, я бы не ставил его святейшество в такие невозможные условия. Непочтительность к папству растет день ото дня, и меня беспокоит, что это Великое дело только ухудшает ситуацию. А когда король объявит войну императору – поверьте мне, это произойдет в ближайшие недели, – ваше положение станет еще более ненадежным. Я бы не стал подбрасывать дров в огонь. Но госпожа Анна и ее друзья подорвали мое влияние на короля. Он теперь не слушает меня, хотя и нуждается во мне, потому что знает: если кто-либо и может добыть ему желаемое, так это я. Так что руки у меня связаны. – Мы все делаем то, что должны, – Екатерина смягчилась, но лишь слегка, – и я полагаю, вы многого лишитесь, если утратите благосклонность короля. – Как и все мы, мадам. Я это понимаю. А теперь мне надо идти, меня не должны видеть разговаривающим с вами один на один. Желаю вам спокойной ночи. Екатерина смотрела ему вслед и впервые в жизни заметила, что плечи кардинала ссутулились и вообще у него подавленный вид. Неужели та хрупкая девушка действительно обладала такой силой, чтобы повергнуть всемогущего кардинала?
Глава 24 1528 год
Генрих был вне себя от ужаса. Жаркое лето вызвало новую вспышку страшного английского пота. В Лондоне умерли тысячи людей, и казалось, эпидемия распространяется с угрожающей скоростью. Екатерина не на шутку встревожилась, когда однажды утром в ее покои влетел король. Его лицо стало бледной маской страха. – Ночью умерло трое моих слуг! И это под нашим собственным кровом! Прежде чем истинный смысл сказанного дошел до ее сознания,Екатерина на миг испытала удовлетворение: в это тяжелое время супруг пришел к ней, а ведь в последнее время он по большей части избегал ее общества и мог бы послать к ней кого-нибудь с этим известием. Потом она подумала о Марии, и сердце оледенело. – Мы немедленно уезжаем в аббатство Уолтхэм, – сказал ей Генрих. – Я беру с собой всего несколько придворных. Прикажите своим фрейлинам и леди Солсбери собираться как можно скорее. Поторопитесь! Настоятельная необходимость скорейшего отъезда приводила Генриха в исступление. Екатерина вспомнила, как он был напуган, когда смертельная болезнь бушевала в стране одиннадцать лет назад, – теперь казалось, что это было в другой жизни. По крайней мере, он брал ее с собой. Может быть, эта новая угроза заставила его посмотреть на вещи здраво. Держа за руку Марию, Екатерина спустилась во двор и увидела среди небольшой группы придворных и домашних слуг, окружавших короля, Анну Болейн. Она стояла рядом с Генрихом. Всем не терпелось тронуться в путь. На этот раз на голове у Анны был чепец в форме фронтона, а не французский, какие она предпочитала раньше, с короткими наушниками по новой моде. Кто-то сказал нечто рассмешившее ее, и плечи госпожи Болейн сотрясались от хохота. Это вызвало в памяти Екатерины образ призрачной женщины, рыдавшей в Тауэре лет двадцать назад. Он все еще был живым и ярким, даже сейчас. Однако имелись и более насущные проблемы, чтобы над ними подумать. Конечно, в такое время, и раз уж Генрих опомнился, он хочет попрощаться с Анной и счастливо от нее отделаться – так полагала Екатерина. Пока она шла к своим носилкам, стараясь ради Марии сохранять на лице ободряющую улыбку, люди вокруг со страхом строили предположения о том, куда дальше распространится потница. Но Екатерина их не слушала. Она увидела, как Анна села на лошадь, расслышала ее слова: «Когда мы приедем в Уолтхэм…» Как мог Генрих так поступать с ней и с Марией? Похоже, Анна напрочь лишила его человечности. Терпеть присутствие этой особы при многолюдном дворе было нелегко, но в условиях узкого круга приближенных это будет просто невыносимо. Но что Екатерина могла поделать? И она просто забралась в носилки, предоставив Генриху возможность скакать впереди бок о бок со своей возлюбленной.Прославленное аббатство Уолтхэм привлекало много паломников. Екатерина не раз бывала здесь и молилась перед огромным крестом из черного мрамора, который, как считалось, был чудотворным, хотя с ней никаких чудес не произошло. В миле от монастыря находилось королевское поместье Далланс. Дом был небольшой, но король любил бывать здесь в свободное время: охота в этих местах была славная. Но сейчас Генриху было не до охоты. Напротив, он ясно дал всем понять, что будет находиться в доме, дабы избежать распространяющейся по воздуху заразы. В доме имелись половина короля и половина королевы, комнаты принцессы, коридор и кабинеты между ними. Анна должна была поселиться вместе с немногочисленными дамами Екатерины. Мария будет каждый день проводить в обществе матери. С упавшим сердцем Екатерина думала о том, что ей и принцессе никак не удастся избежать встреч с Анной. Когда фрейлины раскладывали по местам одежду и прочие вещи Екатерины, Анны нигде не было видно. С благодарностью за временную передышку Екатерина отправила Марию на урок к учителю Фетерстону и открыла окно, дабы полюбоваться на красивый вид внизу. Лучше бы она этого не делала: там стояли Генрих и Анна. Екатерине стало дурно, но потом до нее донеслись их голоса, и она поняла, что они ссорятся. – Это приказ! – крикнул Генрих. – Как вам будет угодно! Анна метнулась прочь, каждое ее движение дышало злобой. Через несколько мгновений на лестнице послышались шаги. Она вошла в покои королевы, сделала реверанс. – А, госпожа Анна, наконец-то, – сказала Екатерина. – У меня есть для вас поручение. Пожалуйста, распакуйте мои книги. – Да, мадам. – Взгляд Анны мог уложить наповал целую армию. Она была в отвратительном настроении. Другие фрейлины переглянулись с довольным видом. Анна не спеша расставляла книги на полке. Екатерина увидела, как она открыла одну, внимательно прочла что-то и нахмурилась. Потом отложила книгу в сторону.
Через два дня, когда Екатерина сидела в центре кружка, занятого шитьем, появился Генрих. Он с осторожностью оглядел комнату и сказал: – Добрый вечер, Кейт. Леди, не могли бы вы нас оставить? Женщины поднялись и поторопились удалиться. Анна недовольно посмотрела на Генриха, но тот не удостоил ее взглядом и ничего не сказал, поэтому она была вынуждена отправиться вслед за остальными. – Не выпьете ли вина, сир? – предложила Екатерина. – Да, Кейт, это было бы весьма кстати в такой жаркий вечер. Вы не могли бы закрыть окно? Вдруг в воздухе летает зараза. Надеюсь, вы удобно устроились? – Да, благодарю вас. – Екатерина протянула ему кубок, думая, что вот перед ней опять прежний Генрих. Может быть, он устал от Анны. Возникла робкая надежда, что сцена в саду, свидетельницей которой она стала, положит конец этому безумию. Он забудет о своем абсурдном желании развестись и вернется к ней. Сердце Екатерины исполнилось снисходительности. Пусть только все будет как раньше… – Кейт, – Генрих ослабил ворот рубашки, – я размышлял. На самом деле я напуган, и не только лихорадкой. Скажите мне, вы не считаете, что этот мор – кара Господня? – В этом нет сомнения, – отозвалась она, и надежда в ее груди стала крепнуть. – Вот и я в этом уверился. Он недоволен мной и насылает свой гнев на мое королевство. Но почему, Кейт? Почему? Она могла бы ответить, но вместо этого только горестно покачала головой. – Вызван ли гнев Господень тем, что я продолжаю состоять в кровосмесительном браке с вами? Или тем, что я задумал избавиться от вас? – Почему вы спрашиваете об этом меня? – произнесла Екатерина. – Вам известен мой ответ. Я думала, вы убеждены в правоте своего дела. – Кейт, но это было до всех этих испытаний. Я знаю, что чем-то обидел Господа. Мне только хотелось бы понять чем. – Вы спрашивали мнение вашего духовника на этот счет? – Да. Он посоветовал мне вернуться к вам, пока мое дело разбирается, и поэтому я здесь. – Генрих развел руками и криво усмехнулся. Это, конечно, было не то, на что она рассчитывала, но все же. – Я очень рада, – сказала Екатерина, но глаза ее наполнились слезами. Она даже нашла в себе силы пожалеть Анну, которая, очевидно, получила отставку. – Я надеюсь вскоре получить судебное решение – к осени, если все пойдет хорошо, – тем временем продолжал Генрих. – Папа посылает своего легата для обсуждения и разбора дела с Уолси. Вы его помните – кардинал Кампеджо. Екатерина сделала над собой усилие, чтобы не заплакать. Он все равно хочет избавиться от нее. Продолжает говорить с ней как с незаинтересованной стороной, а не как с женой, от которой хочет отделаться. И радость мгновенно обратилась в печаль. – Да, – ответила она, снова берясь за шитье и склоняя над ним голову. – Он приезжал сюда несколько лет назад. Вы сделали его епископом Солсбери. – Он хорош, Кейт. Эразм считает его одним из наиболее ученых людей среди всех ныне живущих. И он будет беспристрастен. Екатерина вздохнула и сказала: – Дай Бог ему мудрости. – Она понадеялась, что Генрих уловит намек. Разве Господь не достаточно ясно выразил свой гнев? – Я с нетерпением жду того дня, когда мы сможем оставить все эти недоразумения позади. И ваши подданные тоже жаждут этого. Генрих сдвинул брови, но ничего не сказал. Екатерина не сомневалась: он понял, что она имела в виду. Как мог король оставаться глухим к жалобам своих подданных, благосостояние которых пошатнулось с тех пор, как он объявил войну императору? Он не мог не знать, как сильно страдала от этого английская торговля! Осушив кубок, Генрих откинулся на спинку кресла: – Думаю, мы поступили правильно, отправив Марию обратно в Хансдон. Уверен, для нее безопаснее жить в деревенской глуши. Надеюсь, Фетерстон доволен ею? – Доволен, – отозвалась Екатерина, сердясь на Генриха за уклонение от темы. – Я уже получила известие, что она устроилась там и все идет хорошо. Дай Бог, чтобы Великое дело благополучно разрешилось прежде, чем оно неблагоприятно скажется на принцессе. Ей сейчас двенадцать, она достаточно выросла, чтобы выйти за герцога Орлеанского, хотя теперь разговоры о ее замужестве поутихли: пока Генрих хочет аннулировать свой брак, статус Марии под вопросом. Принцесса, конечно, была уже вполне способна понять, что происходит. Екатерина и Маргарет Поул делали все возможное, дабы оградить ее, тем не менее страна кишела слухами, и было бы чудом, если бы Мария не услышала хоть каких-то разговоров. – Будем надеяться, скоро болезнь утихнет и мы снова увидим ее, – сказала Екатерина. Она не любила разлучаться с Марией, особенно в таких обстоятельствах. Мучительное желание быть рядом с дочерью неотступно преследовало ее. – Оставим это. – Генрих сглотнул. – Кейт, давайте на время забудем о наших разногласиях и подождем, какова будет Господня воля в этом деле. – Хорошо. А что скажет госпожа Анна? – Она… она не согласна, – признался Генрих. – Кейт, насчет Анны вы все не так понимаете. – Как вы можете такое говорить? – удивилась Екатерина. – Разве я хотя бы раз жаловалась на нее или осуждала ее? Я обращаюсь с ней уважительно ради вас. Генрих пожал плечами: – Она может смотреть на это иначе. Но не в том дело. Я хочу, чтобы вы знали: она обладает качествами, которые сделают ее хорошей королевой. Она добродетельна, поверьте мне, что бы о ней ни говорили люди. Екатерина выпятила губы: – Все говорят, что она ваша любовница. – Нет, Кейт. Именно это я и пытаюсь объяснить вам. Я, как никто другой, могу заверить вас в ее непорочной девственности. Она происходит из благородного семейства королевских кровей; она хорошо образованна и очевидно способна к вынашиванию детей. – Учитывая ее непорочную девственность, откуда вам это знать? Екатерина не собиралась ссориться с Генрихом, но не могла сдержаться, хотя сама понимала, что ее слова звучат язвительно. – Она молода. Это было жестоко и вызвало Екатерину на новую колкость. – Она старше, чем была я, когда мы поженились. И она провела немало лет при французском дворе, а он известен распутством. Говорят, ни одна фрейлина не покидает его девственницей. Госпожа Анна воистину должна быть исключительной женщиной. – Кейт, мне неприятны ваши намеки. Щеки Генриха порозовели, и это должно было послужить предостережением для Екатерины, но взыграла ее гордая испанская кровь. – Я ни на что не намекаю! Женщина, которая принимает ухаживания женатого мужчины и крадет мужа у другой женщины, быть добродетельной никак не может! – Кейт, я вам не муж! – зло заявил Генрих. – А я говорю – муж! Пока это подтверждает папа, госпоже Анне лучше не возноситься в мечтах. И вы тоже не правы, напрасно вы подкрепляете ее надежды, потому что ее ждет жестокое разочарование! – С меня хватит! – рявкнул Генрих и встал. – Генрих, почему вы так поступаете с нами?! – воскликнула Екатерина. – У нас прекрасный брак, а вы рушите его и разбиваете мне сердце! – Громкое, душераздирающее рыдание вырвалось из ее груди, она больше не могла сдерживаться. – Моя печаль еще сильнее оттого, что я так сильно люблю вас! – Вам прекрасно известно, почему я так поступаю, – холодно ответил Генрих. – Вы просто не хотите ничего слышать, да? Не хотите понять. – Могу сказать то же самое о вас! – возразила Екатерина, утирая глаза. Когда она подняла взгляд, дверь с грохотом захлопнулась. Генрих ушел.
Вечер прошел невесело, хотя Екатерина и пыталась ради фрейлин держаться бодро. Она боялась, что упустила единственную в своем роде возможность для примирения с Генрихом. В конце концов, ведь он пришел, готовый делить с ней стол и ложе, пока папа не скажет своего последнего слова, пусть и ошибался в своих ожиданиях. Екатерина молилась о том, чтобы Климент не затягивал с решением. Вечером она искала свой псалтырь и наткнулась на книгу, которая заставила нахмуриться Анну Болейн. Ну разумеется. Это был старый молитвенник королевы Елизаветы, в котором Генрих написал в то незабвенное лето, когда весь мир был юн и прекрасен: «Я Ваш навеки». «Анну он никогда так не полюбит», – сказала самой себе Екатерина. К ее удивлению, в эту ночь Генрих пришел к ней в постель. При виде супруга, входящего в дверь ее спальни со свечой в руке и в дамастовой накидке поверх ночной сорочки, сердце Екатерины подпрыгнуло от радости. Как давно, как давно этого не случалось… – Кейт, – сказал он, – я человек прямой. Может быть, я был немного груб вечером. Но я подумал: люди там умирают сотнями и мы не должны враждовать. – Да, не должны, – согласилась Екатерина. Ей очень хотелось, как бывало, распахнуть объятия навстречу супругу, но она сомневалась, стоит ли. Чего он от нее ждет? Это просто для вида? Или он не забыл ночи любви, которые они провели вместе, и понял, что хочет быть с ней, несмотря ни на какие разногласия? Генрих подошел к кровати, поставил свечу, сбросил накидку и забрался в постель рядом с Екатериной. Потом он лег на спину, вперил взгляд в балдахин и взял ее за руку. – Кейт, – произнес он, – в Кенте есть одна женщина, монахиня, про которую говорят, будто у нее есть пророческий дар. Она утверждает, что у нее бывают видения. – Элизабет Бартон, – сказала Екатерина, надеясь, что этот разговор не единственная цель визита Генриха. – Вы ее знаете? – Знаю. Она спрашивала, не повидаюсь ли я с ней, и я, конечно, отказалась. Эта женщина напророчила, что, если Генрих оставит свою законную жену, он больше не будет королем и умрет смертью виллана. Екатерина понимала, что ей ни в коем случае нельзя рисковать: не должно быть ни малейшего намека на ее связь с источником таких опасных идей. – Это очень мудро, Кейт, очень мудро. Она помешанная, и ее проповеди – измена. А люди доверчивы, и, если она будет упорствовать, придется с ней разобраться. – Молюсь о том, чтобы она уразумела ошибочность своих действий. Она говорит как простая заблудшая душа. Наступила тишина. Они немного полежали без движения, потом Генрих пожелал ей спокойной ночи и отвернулся. Когда он начал тихо посапывать, слезы оросили подушку Екатерины. Он пришел к ней лишь для вида. На самом деле ничего не изменилось. Лучше бы он вообще не давал ей надежды.
– В Лондоне сорок тысяч заболевших. Лицо Генриха было серым. Екатерина перекрестилась. – Несчастные души, – пробормотала она. – Молю Бога, чтобы с Марией было все в порядке! – Не бойтесь, благодарение Господу, в Хансдоне и окрестностях случаев потницы не было, – торопливо и горячо проговорил Генрих. Они обедали вдвоем: королю не нравилось, когда вокруг него собиралось много людей. Но вдруг дверь распахнулась, и появилась Анна Болейн. В ее облике не было и следа обычного высокомерия, напротив, лицо возлюбленной короля выглядело непривычно бледным и вытянутым. – Простите меня за вторжение, ваши милости, но я должна сказать вам, что моя горничная умерла от потницы. – Боже, она настигла нас и здесь! – Генрих вскочил, едва не опрокинув стол. – Мы должны немедленно уехать. Где безопасно? Дайте подумать. Хансдон – придумал! Да, мы отправимся в Хансдон и будем с Марией. Кейт, пусть ваши фрейлины соберут вещи за час. – Я помогу, – сказал Анна. – Нет! – отрезал Генрих. – Вы поедете домой, в Хивер, прямо сейчас и останетесь там, пока не станет ясно, что вы не заразились. Молю Бога, чтобы этого не случилось! Екатерина слышала муку в его голосе, но, кроме того, заметила, что он не сделал ни малейшего движения в сторону Анны. Скорее сжимался, стараясь отстраниться от нее. Казалось, страх подхватить болезнь пересиливал в нем любовь. – Храни вас Господь! – сказал он, когда Анна отступила назад, сердито сверкнув на него взглядом. – Да не оставит Он своим попечением и вашу милость тоже, – ответила она, не обращая внимания на Екатерину. – Я должен был отослать ее, – с убитым видом произнес Генрих, когда Анна ушла, как будто извинялся за то, что лишил Екатерину прислужницы. – У меня нет сына, который мог бы стать моим преемником, поэтому я не могу рисковать подцепить эту заразу. Пойдемте, Кейт, нам нужно торопиться в Хартфордшир!
В Хансдоне бóльшую часть времени Генрих проводил, запершись в башне со своими врачами и, без сомнения, тревожась о госпоже Анне. Каждый день его двор сокращался, по мере того как все большее число слуг и помощников отсылалось прочь. Чем меньше людей вокруг, тем слабее вероятность заразиться. В тот день, когда пришло письмо от Уолси, он играл в кегли с Екатериной и Марией в зале. Читая послание кардинала, Генрих щурил глаза, его светлая кожа покрылась румянцем, что не предвещало добра. Мария смотрела на отца с тревожным ожиданием. Екатерина, углядев печать кардинала, спешно отослала дочь – принести коробку с шитьем – и с облегчением смотрела, как за Марией закрывается дверь. Весьма кстати. – Кардинал сошел с ума! – взревел Генрих. – Боже мой, как он смеет поучать меня? Он опасается, что эта болезнь – проявление гнева Господня, а потому, говоря по совести, умоляет меня оставить мысли о разводе. Он, видно, забыл, что у меня тоже есть совесть! Где он был весь последний год и даже дольше? Я что же, пускал слова на ветер? – Генрих начал расхаживать взад-вперед, кипя от гнева. – Я отправлю его в Тауэр за это! Там его вздернут, разрежут на куски и приготовят из него отбивные. И это, заметьте себе, пишет человек, который восхвалял госпожу Анну перед папой и клялся сделать ее моей королевой. Нет, Кейт, не смотрите на меня так. Теперь это только дело времени, и вам тоже нужно привыкать. Я получу ее, ей-богу! И клянусь, я отдам тысячу Уолси за одну Анну Болейн. Никто, кроме Бога, не заберет ее у меня! Екатерина встала, сделала самый быстрый из всех возможных реверансов и покинула зал. Она больше не могла это слушать. Невыносимо было сидеть и внимать, как Генрих в полный голос заявляет о своем намерении заменить ее другой женщиной. Не один только Уолси обезумел! Екатерина вновь почувствовала невольную жалость к кардиналу, однако быстро подавила ее. Загнанный в угол гневом Генриха, Уолси, чтобы спасти свою шкуру, мог проявить себя еще более опасным врагом. Екатерина взяла шкатулку с письменными принадлежностями – подарок Генриха; как и многие другие вещи, она служила напоминанием о более счастливых временах. На ней красовался герб Генриха, а украшениями служили нарисованные фигурки Христа, святого Георгия и других героев из мифов и легенд, в частности Венеры, воплощения любви и плодовитости. Екатерина не могла и не собиралась оставлять это дело на произвол судьбы. Нужно было торопиться. Кардинал Кампеджо уже, наверное, находился на пути из Рима, и времени оставалось в обрез. Она должна подать официальный протест против слушания дела в Англии, потому что знала: здесь беспристрастное разбирательство ей обеспечено не будет.
Анна заболела потницей. Генрих был в слезах. Он находился в таком лихорадочном возбуждении, что Екатерина подумала, не подхватил ли он тоже эту болезнь. Он явился в покои королевы среди ночи и разбудил ее. Считал, что ей нужно знать. Отец Анны тоже заразился. Услышав новость, Екатерина на миг испытала постыдное чувство облегчения. Сам Господь разрешил Великое дело! Потом она сразу укорила себя: не пристало ей тешить себя надеждой на смерть соперницы. Это было немилосердно. «Прости меня, Господи!» – мысленно взмолилась Екатерина. Она легко могла представить себе, что сказала бы по этому поводу Мария. – Где доктор Чеймберс? – спрашивал Генрих. Никто не мог его найти. Потом конюший сказал, что он взял лошадь и ускакал в один пораженный лихорадкой дом, чтобы заботиться о больных. – Пошлите за Баттсом! – командовал Генрих, впадая в неистовство. – Поторопитесь! Все кинулись врассыпную. Доктор Баттс, помощник Чеймберса, явился быстро. Это был воспитанный, образованный человек с изысканными манерами и добрым лицом, и его присутствие успокоило короля. – Не забывайте, сир, многие заболевшие выздоравливают, – уверял Генриха доктор Баттс. – Я немедленно отправлюсь в Хивер. – Подождите! – Генрих приказал подать ему письменные принадлежности и нацарапал записку. – Отвезите это госпоже Анне. Доктор Баттс поклонился и вышел. Екатерина, чувствуя, что стала невидимкой, собиралась уже в одиночестве вернуться в свою опочивальню, но Генрих пошел за ней следом. – Кейт, я не хочу сегодня оставаться один, – со слезой в голосе произнес он. Она не хотела его близости, особенно когда он был мыслями с Анной, но Генрих был ее мужем, а потому она не могла ему отказать. К тому же быть нужной приятно; сама того не желая, Екатерина была тронута тем, что король обратился к ней за утешением. Той ночью она смогла разглядеть в этом взрослом и сильном мужчине, который в столь многих отношениях был ей чужим, того не испорченного жизнью юношу, каким он был когда-то. Они вместе легли в постель, и Екатерина не замедлила обвить Генриха руками и привлечь к себе. И он прильнул к ней, но не как любовник, а как заблудшая душа. Он был так близко к ней и в то же время так далеко, сердце у Екатерины щемило и за него, и за них обоих.
Неделю они ждали новостей. Каждый день Генрих стоял на коленях в часовне, торгуясь с Богом, предлагая ему любые дары, если только Он спасет Анну. Екатерина, преклоняя колени рядом с ним, не могла не чувствовать, как он страдает. Мучение усугубило известие, что один из ближайших людей Генриха, зять Анны Уильям Кэри, умер от потницы. В день, когда Генриху принесли весть о том, что его добрый друг сэр Уильям Комптон ушел из жизни по той же причине, он погрузился в бездну горя и пучину мучительного беспокойства об Анне. Екатерина заставляла себя молиться о выздоровлении Анны, хотя сидевший внутри демон подстрекал взывать о ее смерти. С уходом Анны все душевные сомнения Генриха были бы чудесным образом развеяны. В этом Екатерина не сомневалась. Но она не могла найти в себе сил просить Бога о такой милости; это было бы неправильно, грешно, а потому она делала то, что считала достойным. Наконец пришло письмо от доктора Баттса. Екатерина услышала, как Генрих задержал дыхание, и почувствовала, как он весь напрягся, ожидая худшего. Но Генрих издал крик радости и едва не подпрыгнул. – Анна вне опасности! – ликовал он. – Она быстро идет на поправку. – Я рада за нее, – сказала Екатерина, стараясь не задаваться вопросом, почему Богу было угодно спасти женщину, из-за которой мог разгореться скандал на весь христианский мир. У Генриха на этот счет сомнений не имелось. – Это знак, что Господь одобряет мою будущую королеву, – заявил он.
Екатерина была благодарна за передышку, которую дало ей долгое выздоровление Анны. Когда эпидемия прекратилась и ее соперница снова появилась при дворе, Екатерина с облегчением узнала, что ей больше не придется терпеть постоянное присутствие госпожи Болейн: Генрих приготовил для той отдельные покои рядом с турнирной площадкой. Он не мог допустить, чтобы его будущая королева прислуживала своей предшественнице. Прибыв в Гринвич, Анна держалась еще более заносчиво и невыносимо, ибо полагала, что Господь улыбается ей. Уолси был тут как тут, спешил приветствовать фаворитку, угодливо кланялся и преподнес дорогой подарок. Генрих взирал на это, лучась от удовольствия. Однако, казалось, покоев при дворе недостаточно для тщеславия госпожи Анны. Вскоре Екатерина узнала, что ее соперница намерена обосноваться собственным домом – в Дарем-Хаусе, где жила сама Екатерина в те ужасные годы после смерти Артура. Генрих поручил Томасу Болейну обновить там все, чтобы обстановка была достойна будущей невесты короля. Целая армия слуг и фрейлин должна была обеспечить госпоже Анне королевскую жизнь уже сейчас. – Могу поклясться, это все потому, что ей претит преклонять колени перед вами, – едко заметила Маргарет Поул. – Она не может вынести, что вы по рангу выше ее, поэтому ей необходимо быть королевой в собственном дворе. – По крайней мере, мне не придется наблюдать, как она это делает, – заметила Екатерина. Генрих теперь проводил половину времени в Гринвиче, половину – в Дарем-Хаусе. Он явно предпочитал общество Анны, однако не мог открыто жить с ней и намеренно держал при себе Екатерину для создания видимости благополучного супружества. Внешне между королем и королевой царило сердечное согласие, и, когда Мария бывала с родителями, никто не догадался бы, что в этом семействе что-то неладно. Генрих был общителен и добродушен, как прежде, и радостно предвкушал прибытие кардинала Кампеджо. – Вы торжествуете преждевременно, – не удержалась от замечания Екатерина. – Не думайте, что папа опровергнет решение своего предшественника. – Правда на моей стороне! – возразил Генрих. – Бог и моя совесть абсолютно согласны в этом. – А как насчет моей совести? – не унималась Екатерина. В эти дни они часто пререкались, оставаясь наедине. – Вы хорошая женщина, Кейт, но вы заблуждаетесь. И ничего не слушаете! Генрих работал над новой книгой, в которой излагал свои доводы против их брака. Бóльшую часть ночей он не ложился допоздна и все скрипел пером, несмотря на головные боли, которые опять начали донимать его. – Я дам вам прочесть, когда закончу, – сказал он Екатерине. – Это поможет вам лучше понять, хотя я подозреваю, что вы скорее упрямы, чем глупы. – Ваши аргументы я слышала много раз, так что мне незачем перечитывать их снова. Это вы проявляете упрямство! И так далее. Екатерина молилась, чтобы поскорее приехал легат. Так дальше не могло продолжаться.
Кардинал Кампеджо был здесь! «Наконец-то! – подумала Екатерина. – Теперь будет положен предел этому невыносимому ожиданию». Генрих готовился принять гостя в Лондоне на государственном уровне, со всеми положенными почестями, однако итальянский кардинал от всего отказался и прибыл скромно, на барке. После чего, как донесли Екатерине, отправился прямиком в постель. Объяснением служило то, что кардинал страдал подагрой и долгое путешествие измучило его. Конечно, Кампеджо достиг уже того возраста, когда поездка в Англию требовала от него чрезмерного напряжения сил. – Может быть, ему велено затягивать дело? – предположила Мария. – Или его выбрали потому, что он, как маленькая улитка, будет еле-еле волочить ноги по этой чужой стране. – Не могу в это поверить, – сказала Екатерина. – Его святейшество не стал бы задумывать такое. Мария воткнула иглу в натянутый на рамку гобелен. Они работали над серией шпалер с изображениями героических деяний Антиоха Сотера, правителя Сирии, что помогало скоротать долгие томительные часы. – Ваше высочество, вы слишком доверчивы! Для вашего же блага подумайте вот о чем. Папа боится императора, но он также опасается обидеть короля. Кто станет винить его, если он потянет время, надеясь, что королю наскучит госпожа Анна? Екатерина согласилась, что Мария, может быть, и права. Несколько дней никаких новостей не приходило. Будто заточенная в монастырь, Екатерина жила в своих апартаментах во дворце Брайдуэлл на берегу Темзы, полностью огражденная от происходящего за его стенами. Однажды утром к ней пришла рассерженная Мария. – Эта женщина вернулась! – выпалила она, сжимая кулаки. – Ее разместили здесь в прекрасных комнатах. – Какая женщина? – подала голос юная Анна Парр, дочь Мод; она недавно появилась при дворе Екатерины в качестве фрейлины. – Анна Болейн! – рявкнула Мария, а Мод отчаянно замотала головой, подавая знак Марии, чтобы та замолчала. Екатерина сразу сообразила, что возвращение Анны ко двору могло означать только одно: Генрих предчувствовал скорое и успешное разрешение своего дела.
Даже если Климент обманет ее надежды, у Екатерины оставался еще один могущественный покровитель. Когда Маргарет Поул принесла ей пакет от Мендосы, с улыбкой проговорив: «И не спрашивайте, как мне удалось увильнуть от шпионов кардинала!», Екатерина почувствовала, что внутри находятся сведения чрезвычайной важности. Посол в эти дни очень редко отваживался выходить с ней на связь. Сперва Екатерина подумала, что это копия разрешения на брак, данного папой Юлием. Но потом прочла письмо императора, в котором разъяснялось: на самом деле это копия второго разрешения, выданного по требованию королевы Изабеллы. Первый вариант документа позволял Екатерине выйти замуж за Генриха, несмотря даже на то, что первый брак, вероятно, свершился до конца, а во втором его издании слово «вероятно» было опущено. Екатерина подняла взгляд на Маргарет: – Много за что я благодарна своей матери. Она позаботилась о том, чтобы устранить любые сомнения. Теперь ясно: даже если бы мы с Артуром жили как муж и жена, мой брак с королем все равно правильный и законный. Она тут же отнесла документ Генриху: тот прогуливался по галерее и увлеченно беседовал с Уолси. – Думаю, вам нужно ознакомиться с этим, господин мой, – сказала Екатерина. Генрих прочел бумагу и нахмурился, потом без комментариев передал ее Уолси. Кардинал изучил документ. – Мадам, кажется странным, что никто в Англии никогда не слышал о существовании этого разрешения, – сказал он, – и я боюсь, это приводит меня к заключению, что перед нами фальшивка. – Вы обвиняете императора во лжи? – с негодованием спросила Екатерина. – Разумеется, нет, но у него на службе могут найтись люди не столь совестливые. Кровь у Екатерины вскипела. – Надеюсь, вы не намекаете на то, что Мендоса один из них! – Я этого не говорил, мадам. – Вы должны были раньше оповестить меня о существовании этого разрешения, – упрекнул ее Генрих. – У меня его не было, и я о нем ничего не знала. Бумагу доставили только сегодня, и я сразу принесла ее вам. Император пишет, что разрешение нашли среди бумаг доктора де Пуэблы, когда их все пересмотрели, и что это верная копия. – Может, и так, – хмыкнул Генрих, – но это всего лишь копия, и она не может быть представлена в качестве доказательства. Нам нужно увидеть оригинал. – Его милость прав, – встрял Уолси, – и, раз уж ваша милость хочет добиться, чтобы его любовь к вам не иссякала, вы пошлете за оригиналом в Испанию. Отсутствие этой бумаги может разрушить все ваше дело и поставит под угрозу право на наследство вашего ребенка. Щеки Екатерины пылали от возмущения. Как смеет этот выскочка, этот сын мясника, так нахально разговаривать с ней! Она готова была высказать ему все, что о нем думает, но Генрих гневно взирал на нее, и она побоялась вызвать вспышку ярости. – Отлично! – бросила она. – Я пошлю своего капеллана. Екатерина выбрала одного из своих священников-англичан, молодого клирика по имени Томас Эйбелл: она недавно приняла его на службу как учителя языков и музыки. Он помогал ей совершенствовать ее английское произношение и отвечал за ее музыкантов. Он уже успел стать для Екатерины незаменимым, и она знала, что может рассчитывать на его преданность. Отец Эйбелл отбыл в Мадрид в тот же день. При себе он имел письмо с просьбой к императору прислать оригинал разрешения в Англию. Екатерина не посмела передать со своим гонцом ни на словах, ни на письме даже намека на предостережение. Вместо этого, нервно прощаясь с отцом Эйбеллом, она про себя молилась о том, чтобы у Карла хватило мудрости прочесть недосказанное между строк и отказать ей. Ведь стоит документу, будь он подлинный или нет, оказаться в Англии – и он исчезнет.
Екатерина стояла в своих личных покоях, вцепившись одной рукой в стол, чтобы не упасть, и в ужасе смотрела на бумагу, которую держала в другой руке. Ее подписали все члены Тайного совета. Она не могла поверить глазам. Онемев от горя, она передала документ Маргарет Поул. – Это нелепость! – проговорила графиня, бегло прочтя вступительные фразы. – Король негодует, что вы отказываетесь признавать правомерность его сомнений по поводу вашего брака? Он раздражен тем, что в столь бедственном положении вы находите в себе силы принимать довольный и веселый вид? Ваше поведение убеждает его в том, что вы его не любите? – Она покачала головой. – Мадам, у меня нет слов! Давайте скажем начистоту: его милость привел вас в такое бедственное положение, и если у кого и есть причины сомневаться в любви к себе, так это у вас! – Это все неприятно, – бесстрастно произнесла Екатерина, – но читайте дальше. Они мне угрожают. Маргарет прочла. – Это вздор! Какой заговор? С целью убить короля и кардинала? И они считают, вы к этому причастны! Если будет доказано, что королева приложила к этому руку, ей не следует ждать пощады. Они потеряли рассудок. – Я люблю его, да поможет мне Бог. И никогда не сделаю ничего ему во вред. – Да, они это знают. Я это знаю. Все знают. Екатерина взяла у Маргарет письмо и перечитала его, хотя это причиняло ей боль. – Кажется, я не выказала к королю столько любви, сколько следовало бы; и теперь, когда он так печален, какие бы у него ни были к тому причины, меня обвиняют, что я слишком весела и устраиваю танцы и развлечения назло королю. Боже, если бы я ходила повсюду хныча, проливая слезы и жалуясь, а не смело глядя в лицо своим несчастьям, это тоже ставили бы мне в вину! Что бы я ни делала, все будет неправильно. Меня осуждают за то, что я слишком много бываю на людях и зарабатываю их привязанность, проявляя вежливость и грациозно склоняя голову. Что же, я должна грубить им? Я всегда в проигрыше, что бы ни делала. И теперь король приходит к заключению, что я ненавижу его. – Екатерина не смогла удержаться от слез. – Особенно больно от последней части. Они пишут, что, по совести, считают: жизнь короля в опасности, а потому советуют ему жить отдельно от меня, не делить со мной ни стол, ни ложе и забрать у меня принцессу. А меня предупреждают: с моей стороны будет большой глупостью перечить воле короля. Маргарет поднялась, потом встала на колени рядом с креслом Екатерины и обняла ее: – Дорогая мадам, не могу видеть вас такой расстроенной. Послушайте меня. Все это оговор, чтобы испортить вашу репутацию в глазах кардинала Кампеджо и заставить его благосклонно отнестись к королю. Это жестоко, и все сплошная ложь, но ваша слава идет впереди вас, и большинство людей знают, какая вы милая и добрая женщина. За это они вас и любят. А эту шлюху Болейн ненавидят и поносят, отсюда и необходимость выставить вас в дурном свете. Екатерина склонила голову на плечо Маргарет: – Что бы я без вас делала, мой дорогой друг? Благодаря вам я смотрю на это письмо как на пустую, глупую болтовню. – Оно такое и есть! – воскликнула Маргарет. – Мадам, слышали бы вы, что говорят люди на улицах… Когда легат приехал из-за границы в Лондон, они кричали, что король хочет завести себе новую жену для собственного удовольствия, а если раздаются одинокие голоса, которые это опровергают, то все горячо бросаются на вашу защиту. Вас любят, это правда. – Тем не менее я должна быть начеку. Это предостережение. И оно исходило прямо от короля. Кто же здесь кого ненавидит? Дабы не вызывать нареканий, Екатерина перестала покидать дворец без крайней необходимости. Она ходила с мрачным лицом и одевалась в строгие цвета, чтобы не привлекать к себе внимания. Время, которое она прежде проводила в забавах со своими фрейлинами, теперь было посвящено молитвам; у нее даже колени загрубели – столько она стояла на них. И все равно этого было недостаточно. Совет заставил ее подписать клятву, что она не будет ничего писать, кроме как по распоряжению короля. А чтобы она ее не нарушила, повсюду имелись соглядатаи кардинала, неустанно следившие за ней. Екатерина подозревала, что некоторые из ее фрейлин тоже находятся на жалованье у Уолси или были подкуплены, чтобы доносить обо всех ее словах и поступках. Люси Тальбот пришла к ней в слезах и заявила, что должна покинуть двор, немедленно и не объясняя причин. Когда на нее поднажали, она сказала только, что больше не может причинять вред доброй госпоже. От Екатерины старались избавиться всеми возможными способами – честными и подлыми. Если обнаружится хоть малейший повод обвинить ее в том, что она плохая жена, этим не замедлят воспользоваться. Екатерина это знала.
На третьей неделе октября в покои королевы вошли два кардинала-легата – Уолси и Кампеджо. Екатерина надела королевскую мантию, бархат, меха, украшения и один из самых дорогих чепцов в форме фронтона. Но собственное отражение в зеркале навевало сожаление и уныние. Ей почти сорок три, она и не ждала увидеть юную деву, но выглядела лет на десять старше, чем была. Вот что сделали с ней печали и страдания. Кампеджо подошел, тяжело опираясь на палку, его красное лицо было напряженным и суровым. Уолси, как обычно, источал елейность, однако брови его были сдвинуты, и держался он натянуто, как же иначе! Но он человек Генриха, напомнила себе Екатерина, сам довел себя до такого положения и не заслуживает ее сочувствия. Кампеджо тоже имел такой вид, будто предпочел бы находиться где-нибудь в другом месте. Что ж, пусть узнают – она не из тех, кого можно запугать. Сесть им Екатерина не предложила, дабы не забывали, с кем разговаривают. Визитеры начали достаточно вежливо. – Мадам, нас выбрали незаинтересованными судьями в деле короля, – сказал Кампеджо. Видя выражение ее лица, он продолжил: – Его святейшество не может отказать в правосудии никому, кто его требует, но это Великое дело полно затруднений, и он советует вам, вместо того чтобы представать перед судом, выбрать другой путь, который удовлетворит и Бога, и вашу совесть, а также прославит ваше имя. – Что же это? – спросила Екатерина, заинтригованная. Она надеялась, что папа по мудрости своей нашел решение, которое не пришло в голову никому другому. – Его святейшество был бы весьма доволен, если бы вы вступили в монастырь, – закончил Кампеджо. На мгновение настала тишина. – Нет, – ответила Екатерина голосом тихим, но твердым как железо. – Но, мадам, в прошлом имеются достойные примеры этого. Вы наверняка слышали о королеве Жанне де Валуа, первой жене короля Людовика Французского. Она не могла выносить ему детей, поэтому согласилась на развод и стала монахиней, основала орден аннунциаток и сейчас почитается в народе святой. Может ли женщина желать большего? – У меня нет к этому призвания, кроме того, я должна заботиться о дочери. – Вашей милости стоит подумать о своем положении, – вмешался Уолси. Несмотря на осеннюю прохладу, он весь взмок, это было видно. – Его величество изучил это Великое дело с такой тщательностью, что я уверен: он знает о нем больше, чем самый знаменитый теолог, – продолжил Кампеджо. – Он объяснил мне в очень четких выражениях, что не желает ничего иного, кроме подтверждения законности или незаконности вашего брака. Но, мадам, я абсолютно уверен: даже если бы ангел спустился с небес и объявил во всеуслышание о законности вашего супружества, он не смог бы убедить в этом короля. – Мой муж подвергся неблагоприятному влиянию, – отозвалась Екатерина, едва сдерживая гнев. Кампеджо на редкость сладостно улыбнулся ей: – Есть более серьезные доводы в пользу ухода вашей милости в монастырь. Ваше благочестие хорошо известно. Права за вашей дочерью будут сохранены, и вы сможете регулярно видеться с ней. Если вы последуете этим путем, папа издаст разрешение на новый брак для короля, и император, вероятно, не будет возражать. Его величество сможет взять себе новую жену, и у него родятся сыновья. Вам, как и прежде, будут оказывать все положенные почести, и ваши мирские владения останутся за вами. Но важнее всего то, что мир в Европе и духовный авторитет Святого престола больше не будут под угрозой. – Кампеджо со скорбным видом умолк. – Что может ему угрожать? – спросила Екатерина. – Разве папа не является наместником Бога на земле? – Мадам, король только сегодня предостерег меня, что, если развод не состоится, власть Святого престола в его королевстве будет уничтожена. Да, я вижу, вы потрясены этим так же, как и я. «Это все пустые угрозы, – подумала Екатерина. – Я знаю, каким становится Генрих, когда что-нибудь не по нему». Вслух она ничего не сказала. – Итак, вы понимаете, – продолжил Кампеджо, – в ваших интересах уйти красиво. Это решение очень обрадовало бы короля, который готов проявить величайшую щедрость. Принимая монашество, вы утратите только доступ к особе короля; вам подыщут удобное жилище, где вы будете и дальше наслаждаться любыми из мирских благ, каких только пожелаете. – Нет! – вновь отрезала Екатерина. Кампеджо и Уолси обменялись полными отчаяния взглядами. – Мадам, – возобновил свою речь Кампеджо, – мне больно говорить это, но его милость к вам не вернется, как бы ни сложились обстоятельства. Но если вы проявите уступчивость, он предоставит вам все, чего вы потребуете, и закрепит право наследования за вашей дочерью, если у него не появится наследник от другого брака. Вы ничего не теряете, потому что как муж его милость уже для вас потерян. Екатерина встала: – Господа, вы говорите о практических решениях, но забываете о самой важной проблеме: законен или нет мой брак и правильно ли разрешение, данное папой Юлием. Если папа подтвердит его правильность – что он, разумеется, сделает, – тогда мой супруг должен вернуться ко мне. Кампеджо сморщился, как от боли: – Мадам, с королем трудно спорить. Очевидно, он настолько ослеплен любовью к одной даме, что не отдает себе ясного отчета в своих действиях. И он решительно намерен добиться развода. – Прежде всего ему надо иметь основания для этого! – выпалила Екатерина. – Господа, я могу заверить вас, честно и откровенно, что спала с принцем Артуром не более шести или семи раз и при этом осталась девственницей, ровно такой же, какой вышла из чрева матери своей. Так как же мой брак с королем может быть назван недействительным? – Его величество настаивает на обратном, – произнес Уолси. – Он обвиняет меня во лжи? В сердце своем он знает, что я говорю правду. И я намерена жить и умереть в том браке, к которомупризвал меня Бог. Уверяю вас, я никогда не отступлюсь от этого мнения и никогда не изменю его. Заговорил Кампеджо: – Лучше уступить и не гневить короля, чем подвергать себя риску дожидаться приговора суда. Представьте, как велико будет ваше горе и сколько может быть сложностей, если решение вынесут не в вашу пользу. Подумайте, какой разразится скандал, какая возникнет вражда, а это произойдет непременно. Екатерина вспыхнула от злости: – Я не уступлю, когда знаю, что права! – Она повернулась к Уолси. – И за эту беду мне нужно благодарить исключительно и только вас, господин мой кардинал Йоркский! Я всегда дивилась вашей гордыне и вашему тщеславию, ненавидела вашу роскошную жизнь и мало обращала внимания на вашу заносчивость, и поэтому вы злонамеренно разожгли этот огонь – в основном из-за великой обиды на моего племянника-императора, который не ублажил ваши амбиции и не сделал вас папой, задействовав свое влияние! – Мадам, не я вселил в душу короля сомнения и не я разжигал их в нем, – запротестовал Уолси, весь дрожа, – ваш брак был поставлен под сомнение совершенно против моей воли. Я даю вам торжественное обещание, что как легат буду беспристрастен. Поверьте, если бы я мог, то своей кровью добыл бы счастливое решение! – Я вам не верю. Екатерина заметила, что Кампеджо смотрит на нее с сочувствием и – как ей показалось – с восхищением. Богу известно, она нуждалась и в том и в другом! – Верьте или не верьте, а я желаю вам только добра, – проговорил Уолси, глядя на нее едва ли не с мольбой. – Полагаю, нам нужно оставить ее милость, чтобы она все обдумала, – сказал Кампеджо. – Мне не о чем думать. – Тогда мы вас пока что оставим. – Вы примете мою исповедь? Уолси выглядел пораженным. Разумеется, он знал, что она скажет, и понимал: Кампеджо этому поверит.
Екатерина встала на колени за решеткой исповедальни. Сквозь нее она видела задумчивый профиль Кампеджо. – Благословите меня, святой отец, потому что я согрешила, – начала она, потом перечислила все свои мелкие проступки и более серьезные: зависть, гнев и гордыня. Потом она сказала: – Я не лгала. Клянусь вам, клянусь спасением моей души, что принц Артур не познал меня телесно. И вы можете объявить об этом во всеуслышание, если сочтете нужным. Кампеджо не сделал никаких замечаний. Он отпустил ей грехи, благословил и наложил нестрогое наказание – по десять раз прочесть «Аве Мария» и «Патер ностер». На следующий день Кампеджо и Уолси вернулись. – Мы здесь по просьбе короля. Он вновь спрашивает, вступите ли вы в монастырь, и мы настоятельно просим вас – нет, молим – уступить, чтобы на вас не пало ужасное наказание. – Я не сделаю ничего, что поведет к проклятию моей души и будет противно Божьему закону, – заявила Екатерина. – И не подчинюсь никакому решению, помимо вынесенного самим папой. Я не признаю авторитета комиссии легатов, которая будет разбирать дело в Англии, потому как считаю: здесь решение будет предвзятым в пользу моего мужа. – Мадам, гнев короля будет ужасен, – предупредил Уолси, и в глазах его отобразилось мрачное предчувствие. Екатерина опасалась, что, вероятно, кардинал прав. Генрих, которого она знала, всегда был рассудительным и справедливым человеком, но из-за Великого дела он постепенно менялся. Тем не менее на кону стоял принцип. Если она покорится и папа будет принужден отменить решение своего предшественника, это опорочит Святой престол. Многие собьются с пути и станут считать, что право и справедливость не на стороне Рима. Поэтому ради себя самой, ради дочери, Святого престола и всего христианского мира Екатерина готова была твердо стоять на своем. Настало и для нее время испытаний. Она должна вынести их достойно. – Ни все королевство, ни какое самое страшное наказание, даже если меня станут рвать на части, не принудят меня изменить свое решение, – говорила Екатерина, и голос ее звучал бесстрастно. – И если после смерти мне суждено было бы вернуться к жизни, я снова предпочла бы смерть, но не отступилась бы от того, на чем стою и буду стоять.
Неделями Генрих не показывался в покоях Екатерины, а тут вдруг явился, причем в не слишком благостном расположении духа. – Буду краток, мадам, – начал он. – Я пришел сказать, что вам лучше по собственной воле отправиться в монастырь, в противном случае вас заставят это сделать. Екатерина принудила себя отвечать со спокойным достоинством королевы: – Это противно моей душе, моей совести и моей чести. Я ваша жена и ничем не навредила вам. Не найдется судьи достаточно несправедливого для того, чтобы осудить меня. Отправьте меня в монастырь, если хотите, но вы не вырвете из меня слов, которые освободят вас от нашего брака. Генрих бросил на нее яростный взгляд, потом, не обронив больше ни слова, с громким топотом вышел. За ним по пятам явился Кампеджо. – Поверьте, как можно скорее вступить в монастырь – это в интересах вашей милости, так вы избежите неприятностей, которые могут возникнуть, если дело дойдет до суда. Вы ведь понимаете, что… хмм… интимные подробности вашей супружеской жизни будут выставлены на всеобщее обозрение? – Я к этому готова, – ответила Екатерина, принуждая себя говорить спокойно, насколько это было возможно. Внутренне она вся сжималась при мысли о таком, но понимала: это еще одна неприятность, которую нужно встретить с открытым забралом. Екатерине было ясно, что ее противники стараются как можно сильнее усложнить ей жизнь. Потом Мендосе удалось тайком передать Екатерине записку. В Риме распространились слухи, будто кое-кто в Англии плетет заговор с целью отравить королеву, если она будет упорствовать в своей несговорчивости. Холод пробрал Екатерину до костей, но она осталась тверда. Ее ответ выслушала Мария. – Королева лучше подвергнется этой опасности, чем признает себя плохой женой и нанесет ущерб своей дочери. Никто не лишит принцессу того, что ей принадлежит по праву рождения.
Екатерина знала, что жители Лондона все более враждебно относятся к разводу и без всякого страха в резких выражениях высказывают свое неодобрение. Великое дело было у всех на слуху, и стало невозможно поехать на барке в город – в тех редких случаях, когда Екатерина на это отваживалась, – и не почувствовать настроения людей. Генрих тоже ясно сознавал это. Фрейлины Екатерины были взбудоражены и без умолку обсуждали последние события. Король пригласил во дворец Брайдуэлл всех своих лордов, советников, судей, лорд-мэра, олдерменов, шерифов, глав городских гильдий и многих других. Однажды мрачным ноябрьским днем после обеда все эти почтенные господа собрались в зале для приемов, чтобы послушать обращенную к ним речь короля. Екатерина вместе с Мод Парр наблюдала за этим из-за ажурной решетки, сидя на галерее, с которой был виден королевский помост. Почтенное собрание пало ниц, как только Генрих вошел и занял место на троне. Король облачился в самые дорогие одежды и вооружился самыми приятными манерами. Ореол величия тоже был при нем, окружить себя им не составляло для Генриха труда. – Мои верные и горячо любимые подданные, – звонким голосом начал он, – вам хорошо известно, что я правлю уже почти двадцать лет, и за это время, благодаря моей распорядительности и с Божьей помощью, ни один враг не притеснял вас. Но в сиянии славы ко мне приходит мысль о последнем часе, и я боюсь, что, буде мне выпадет уйти в мир иной, не оставив наследника, Англия вновь погрузится в ужасы гражданской войны. Эти мысли постоянно тревожат мою совесть. Это единственная причина, по которой я представил свое Великое дело на рассмотрение папе. – Король положил руку на сердце и окинул собравшихся пронзительным взглядом. – А что касается королевы, если суд признает ее моей законной женой, ничто не будет для меня более приятным и приемлемым, потому как, уверяю вас, она несравненная женщина. Если бы мне пришлось жениться снова, из всех женщин я выбрал бы ее. Екатерина почувствовала, как стоявшая рядом с ней Мод Парр окаменела. Генрих был глупцом, если считал, что людей тронут такие речи. – Однако, – продолжал меж тем король, – если будет установлено, что наш брак противоречит Божьей заповеди, тогда мне придется с грустью расстаться со столь прекрасной леди и любящей супругой, я буду сокрушаться о том, что провел много лет в прелюбодеянии и не имею наследников, которые приняли бы от меня это королевство. Хотя у нас есть дочь, к нашей взаимной радости и удовольствию, многие ученые люди говорили мне, что она не законная, поскольку мы с королевой жили друг с другом, открыто прелюбодействуя. И если я вспоминаю о том, что когда-нибудь умру, то думаю: все мои дела ничего не стоят, коль скоро я оставлю вас в трудном положении. Ведь если у меня не появится настоящего наследника, только представьте, что может ожидать вас и ваших детей. Самое меньшее – беспорядки и смертоубийства! Неужели вы думаете, господа мои, что эти слова не трогают ни мое тело, ни душу? Они не дают покоя моему разуму, бередят совесть. И буде кто-нибудь станет возражать против моих здравых доводов, вы не отыщете головы столь почтенной, чтобы я не смог отрубить ее! Когда король ушел, поднялся возбужденный гомон голосов. Екатерина и Мод покинули зал. – Не стоило ему выносить это дело на общественный суд! – сказала Екатерина, пока они торопливо возвращались в ее покои. – Тем не менее я опасаюсь, что таким образом его милость завоюет симпатии. – Меня это тоже беспокоит. – Екатерина вздохнула. – Дошло уже до того, что людям угрожают. И мне угрожают. В жизни не ощущала я такой тревоги и такого смятения. Однако королеву ожидали утешительные новости. Исабель де Варгас тайком принесла записку от Мендосы. Император отказал отцу Эйбеллу в просьбе прислать оригинал второго разрешения на брак в Англию. Екатерина немедленно отправила своего камердинера к кардиналам с этим известием. Она была не в силах встретиться с ними лично, а лишь размышляла, что они теперь станут делать. Пришло также письмо от Эразма: он восхвалял добродетели Екатерины и мягко понуждал ее обратиться к религии. Она ощутила, что даже этот мудрый человек покинул ее. Наконец, Вивес писал к королеве и просил извинить за то, что он как будто бросил ее; теперь этот ученый муж, получив на то ее согласие, пришел встретиться с ней. При виде этого знакомого доброго лица, которое напомнило Екатерине о более счастливых днях, сердце ее распахнулось. – Я в глубокой печали. Мужчина, которого я люблю больше, чем саму себя, стал мне совсем чужим и даже думает о женитьбе на другой. Тут Екатерина заплакала, и мудрый, тактичный ученый, забыв о правилах этикета, взял ее за руку: – Не осуждайте меня за попытку утешить вас, ваша милость. Все превозносят вашу выдержку. Когда другие перевернули бы весь мир, поменяв местами небо и землю, или стали бы мстить, вы просите лишь о том, чтобы вам не выносили приговора, не выслушав. – Я просто хочу, чтобы муж вернулся ко мне, – всхлипнула Екатерина.
Глава 25 1528–1529 годы
В декабре двор переехал в Гринвич. Генрих продолжал делать вид, что между ним и Екатериной все хорошо. Он вел себя безупречно, ведь Кампеджо наверняка регулярно строчил отчеты в Рим. Посещал супругу почти каждый день ближе к вечеру, как было заведено уже давно, обедал и ужинал с ней и даже иногда проводил ночи в ее опочивальне. – Вы понимаете, Кейт, исповедник запретил мне прикасаться к вам, пока не разрешится мое дело, – сказал Генрих. Они лежали на просторном ложе на расстоянии вытянутой руки друг от друга. «Удобный предлог», – подумала она, стараясь подавить в себе жажду еще раз испытать любовную близость. В молодые годы Екатерина думала, что с возрастом это пламя затухает, но нет, языки его были такими же жгучими, как прежде. Страсти никак не стихали в душе. Генрих был так близко и оставался для нее запретным плодом – ах, как это было досадно! Особенно притом что недуг, имевший неприятные королю признаки, давно прошел. Однажды Екатерина не выдержала, терпеть это и дальше было невозможно – слезы заливали подушку, и остановить их никак не удавалось. Она невольно повернулась к Генриху, ища утешения, но он выставил в сторону руку и загасил ее порыв. Потом вылез из постели и накинул ночной халат. Огонь потух, и пепел остыл. Екатерина слышала, как Генрих шарит в поисках свечи. – Кейт, – раздался из темноты его голос, – разве вы не понимаете, какие опасные последствия ожидают меня, если я приму вас как свою жену? – Я уже сотню раз говорила вам, что ваша совесть может быть спокойна, – отозвалась она, безмерно задетая тем, что он ее отвергает. – Моя совесть тут ни при чем, дело во мне самом. Я удерживался от упоминаний об этом, боясь смутить вас, но у вас какое-то женское заболевание, и я опасаюсь заразиться. А потому простите меня, но я решительно намерен никогда больше не ложиться с вами в постель. Екатерину это заявление просто убило. Ей было не найти слов, чтобы возразить – нет, она не больна, она выздоровела, избавилась от своего недуга. Это было настолько унизительно, что описать нельзя, и надрывало сердце. Теперь Екатерина сожалела, что так долго не могла набраться храбрости и посоветоваться с кем-нибудь из своих врачей. Она понимала: для Генриха вполне естественно испытывать отвращение к ее тайным недомоганиям, хотя она была почти уверена: ее болезнь не заразная, просто неприятная. На самом деле она даже мимоходом подумала, не является ли этот ее недуг корнем постигшего Генриха духовного кризиса. Но зачем же проявлять такую грубость? Ей стало легче, когда за Генрихом тихо затворилась дверь. К счастью, он не зажег огня и не увидел, как пылают ее щеки. Тем не менее она продолжала плакать о своей утраченной любви и обливаться слезами стыда. Будет ли еще когда-нибудь между ней и Генрихом любовь и нежность? После той ночи король стал реже приходить в ее покои и к ее столу. Вскоре выяснилась и причина этого: госпожа Анна была помещена в Гринвиче в очень милых покоях рядом с покоями короля. Мария бушевала: – Этой шлюхе дают деньги на содержание более роскошного двора, чем был у вашей милости! – Мне кажется, они стараются постепенно приучить людей выносить ее, чтобы, когда великое событие свершится, оказываемые ей почести не посчитали странными, – заметила Мод. – Думаю, люди оценивают ее по достоинству, – сказала Екатерина. – Они ее ненавидят и ненавидели бы еще сильнее, если бы обладали властью! – заявила Мария. – Когда эта женщина отправляется на барке в Лондон, ей кричат: «Анка Буллен не будет нашей королевой! Не хотим Анку Буллен!» Мое сердце ликует, когда я слышу это! – Единственное, отчего может возликовать мое сердце, – сказала Екатерина, – так это справедливое решение по делу короля. Но я не надеюсь, что оно будет вынесено в английском суде. Не могу понять, почему все так долго откладывается и отчего папа не может подтвердить законность разрешения. Ожидание меня просто убивает. – Говорят, госпожа Анна тоже устала ждать, – вставила Гертруда Блаунт. – Еще бы не устать! – проворчала Элизабет Стаффорд, которая, хотя и приходилась Анне теткой, терпеть ее не могла. – Ей почти двадцать восемь, уже далеко не юная дева. – Я слышала, она вечно жалуется королю, и, очевидно, между ней и Уолси нет ни капли симпатии, – сказала Маргарет. – По какой-то причине она его ненавидит. Екатерина вспомнила разгневанную девушку, которую лишили возлюбленного. Но ее обручение с Перси разорвал не один Уолси; кардинал выполнял распоряжения короля. Знает ли об этом Анна? Скорее всего, ее настроили против Уолси аристократические родственники Говарды.Рождество выдалось невеселое. Трудно было почувствовать обычную в это светлое время радость, так как ум Екатерины тяготило множество забот. Уолси и Кампеджо были почетными гостями короля, однако Уолси отчетливо ощущал, что над его головой сгустились тучи. Приветствия Генриха были не такими сердечными, как прежде, и однажды за столом он, понизив голос, злобно заговорил со своим бывшим другом, с тем человеком, который когда-то считался безупречным в любом возможном деле. Напряженная атмосфера царила и на турнирах, и на банкетах, и на маскарадах, которые устраивали, по видимости, для развлечения кардиналов. Для Екатерины единственным удовольствием было проводить время с дочерью: Мария приехала ко двору из Хансдона на праздники. Генрих вел себя как гордый и любящий отец и уделял Марии много внимания. Но Екатерина не раз замечала, с какой настороженностью и недоверием обращено к отцу маленькое серьезное личико дочери. Разумеется, девочка, хотя ей было почти тринадцать, уже что-то слышала о Великом деле. Екатерина спросила Маргарет Поул, говорила ли Мария об этом когда-нибудь. – Нет, мадам, и я не в том положении, чтобы поднимать этот вопрос. Я старалась как могла защитить ее милость от досужих сплетен, и ее двор строго предупрежден, но люди все равно болтают. Вы хотите, мадам, чтобы я поговорила с ней? – Нет, Маргарет. Я сама. Однажды утром Екатерина отвела Марию в сторонку и усадила: – Думаю, вы уже слышали что-нибудь о так называемом Великом деле короля? – мягко спросила Екатерина. Мария сглотнула: – Да, мадам. – Вас это не должно беспокоить. Ваш отец испытывает некоторые сомнения относительно разрешения на брак, данного папой Юлием, но папа Климент разбирает дело и прислал сюда кардинала Кампеджо, чтобы тот изучил этот вопрос вместе с кардиналом Уолси. Я не сомневаюсь в том, что вскоре все проблемы будут решены и его милость успокоится. Екатерина думала, что справилась с задачей довольно хорошо, и если Мария наслушалась каких-нибудь более страшных историй, то слова матери успокоят ее. Однако Мария заговорила: – Но мой отец хочет жениться на госпоже Анне Болейн. Это был не вопрос, а утверждение. Разумеется, ребенок не мог оставаться слепым и глухим к тому, что происходит при дворе. Генрих о дочери не думал и не делал попыток беречь ее чувства. – Если папа признает наш брак незаконным, тогда, разумеется, король сможет жениться снова, и ему хочется понять, будет ли госпожа Анна хорошей королевой. Так говорил сам себе Генрих, но для постороннего уха это звучало неубедительно. – Но в ней нет ничего королевского, и она не слишком любезна, – возразила Мария. – Не слишком любезна? – Она не проявляет уважения ко мне! И к вам! Я ее ненавижу! Екатерина оторопела от того, какой злобой дышали слова дочери. Она никогда еще не слышала от Марии таких речей, и у нее защемило сердце: стало ясно, что девочка сильно страдает от всей этой злосчастной истории. Как мог Генрих, снова спрашивала себя Екатерина, причинять собственному ребенку такие страдания? – Мы должны быть милосердны к ней ради короля. Глаза девочки, больше не детские, вспыхнули злобой. – Дорогая матушка, я не могу, даже ради того, чтобы порадовать вас. Она нехорошая женщина, она крадет у вас моего отца. – Мария! – Екатерина крепко взяла дочь за плечи. – Никогда, слышишь, никогда не должен ни король, ни кто-либо другой слышать от тебя подобных вещей. Ты должна уважать его и не гневить в такое сложное время. Скоро все наладится, и госпожу Анну забудут. Мария встала: – Я молюсь об этом. Можно я пойду играть с куклами? Екатерина смотрела, как дочь уходит, и у нее щемило сердце.
Анна решила не оставаться в стороне от празднеств, хотя никакой официальной роли у нее не было. В то время как Генрих и Екатерина принимали гостей при дворе, она делала то же самое в своих роскошных апартаментах. Придворные устроили там давку, стремясь попасть в фавор, и прыгали через головы друг друга, чтобы нанести визит пассии короля. Было ясно, что Генрих не хочет выставлять ее напоказ перед кардиналами, но Екатерина подозревала, что и сама Анна не желает сталкиваться лицом к лицу с ней, королевой. – Она слишком горда, чтобы сгибать колени перед вашей милостью, – с презрительной усмешкой говорила Мария. – По-видимому, она согласна с королем в том, что ваша милость не является ему законной женой, – сухо заметила Мод. – А то как же! – вставила Гертруда Блаунт. – Тут все серьезнее, – продолжила Мод. – Кажется, она теперь выставляет себя поборницей реформирования Церкви. – Некоторые называют ее еретичкой, и, говорят, ее брат больше лютеранин, чем сам Лютер! – Так сказала Мария, склонная к преувеличениям, благослови ее Бог. – Если это правда, тогда она представляет еще большую угрозу христианскому миру, чем я думала, – заметила Екатерина. – В своем ослеплении король может начать прислушиваться к ее мнению!
Положение Екатерины становилось все более нестерпимым. Больно было видеть, как Анна щеголяет в дорогих нарядах и украшениях, которыми осыпал ее Генрих, а его открытые ухаживания за этой женщиной, как будто она уже стала его женой, были и вовсе невыносимы. Разбирательство дела приближалось, и Марию удалили от двора. Екатерина не могла забыть бледного лица дочери в момент их прощания. Уолси тоже имел подавленный и усталый вид, а учтивый Кампеджо стал несколько сдержаннее. Больше, чем когда-либо, опасаясь, что она не добьется ни от того, ни от другого справедливого суждения, Екатерина подала жалобу в Рим с возражениями против полномочий суда легатов. Иногда она начинала сомневаться, начнет ли он вообще заседать. Теперь Екатерина была абсолютно убеждена: папа приказал Кампеджо затягивать дело, как только можно. Сперва Кампеджо заболел, потом возникло долгое замешательство в связи со вторым разрешением на брак. Незадолго до Пасхи Уолси с кривой усмешкой объявил Екатерине, что отправил посланников в Рим, дабы разыскать копию в Ватикане, но ее и следов не нашли. – Это меня ничуть не удивляет, господин мой! – ответила она. – Вероятно, они не особенно старались ее найти! – прокомментировала позднее Мария, и Екатерина подозревала, что ее подруга права. Потом другие послы были отправлены в Испанию для изучения имевшегося у императора документа. На этот раз Уолси с явным удовольствием проинформировал Екатерину о том, что это очевидная подделка, а значит, нет смысла предоставлять имевшуюся у нее копию в качестве доказательства в суд. – Кардинал заявил бы, что это подделка, даже если бы сам архангел Гавриил уверял его в обратном! – убежденно сказала Мария. В продолжение этих ужасных месяцев ожидания люди ни о чем другом, кроме Великого дела короля и грядущего судебного разбирательства, не говорили. Вся государственная машина замерла и бездействовала, пока шли приготовления к слушаниям. В апреле, когда двор находился в Ричмонде, Генрих зашел к Екатерине: – Я хочу, чтобы вы взяли себе в советники и помощники лучших людей моего королевства. Екатерина не сказала ему, что вовсе не намерена признавать решение суда. Как послушная жена, она выбрала себе в защитники архиепископа Уорхэма и Джона Фишера, епископа Рочестера. Фишер был твердо на ее стороне, Уорхэм осторожничал и юлил. – Помните, мадам, ira principis mors est! – все время повторял он. – Гнев короля – это смерть! От Уорхэма пользы не будет, это ясно. Екатерина напомнила себе, что ее советники оставались подданными короля, и, если вердикт будет вынесен в ее пользу, гнев Генриха, и Анны Болейн тоже, вполне может обратиться на них. Она не рассчитывала получить от них бескорыстные советы. Вместо этого Екатерина продолжала молиться о том, чтобы папа понял: для нее нет никакой надежды на правосудие в этом английском суде – и отозвал дело для рассмотрения в Рим. Двор переехал во дворец Брайдуэлл: рядом с ним находился монастырь Черных Братьев, где готовились к слушаниям дела. В это время Екатерине выпал шанс еще раз встретиться в саду с Мендосой. Под прикрытием восхитительных, рано расцветших кустов роз посол приглушенным голосом сообщил ей о том, что император потребовал от папы отозвать поручение, данное Кампеджо и Уолси, однако, судя по всему, Климент слишком расположен к Генриху и едва ли согласится на это. Екатерина еще переваривала эту неприятную новость, когда Мендоса, этот добрый, преданный человек, повернулся к ней лицом. Казалось, он борется с собой. Помолчав, посол сказал: – Я должен сообщить вам, что император хочет выразить свое неодобрение в отношении дела короля и поэтому отзывает своего представителя из Англии на период слушаний. Так что, ваше высочество, с глубоким сожалением я вынужден вас покинуть и отбыть в Испанию. Екатерина готова была расплакаться. Лишиться этого преданного и неутомимого друга в час великой нужды в нем – это был жестокий удар. Но она вспомнила, что должна сохранять достоинство и вести себя прилично в присутствии испанского посланника. – Мне от души жаль слышать это. Никогда я не смогу отблагодарить вас в достаточной мере за вашу доброту и поддержку. Я надеюсь, вы вернетесь в Англию, когда эта история закончится, и мы снова встретимся в более счастливое время. – Таково и мое самое горячее желание, ваше высочество, – с чувством ответил Мендоса. – Да хранит вас Бог и да пошлет Он вам благополучное избавление от всех напастей! Я буду молиться за вас. – Да пребудет с вами Господь! – Екатерина протянула руку для поцелуя.
Наступил июнь, и вместе с ним наконец разгорелась заря того дня, когда король и королева должны были предстать перед судом легатов. Екатерина приказала фрейлинам облачить ее в роскошное платье из алого бархата с собольей опушкой; юбка платья расходилась спереди, из-под нее виднелся желтый парчовый киртл. На пояс королеве привесили золотые часы с круглым циферблатом. На голову надели богато украшенный золотом чепец. Если ей не дано выглядеть красавицей, то, по крайней мере, она будет иметь вид королевский. Перед входом в главный зал монастыря Черных Братьев, где должно было состояться заседание, собралась толпа. Когда Екатерина проходила по открытой галерее, соединявшей дворец Брайдуэлл с монастырем, люди выкрикивали ей слова поддержки: – Добрая королева Екатерина! Как она держится! Ей ничего не страшно! Победы над врагами! Екатерина остановилась, покивала, улыбнулась, махнула рукой, а потом вошла в монастырь. Было видно, что зал очень обдуманно подготовили к заседанию. До сих пор о таком еще не слыхали, чтобы английского короля вызывали в суд, тем более для вынесения решения его же подданным, и сделанные приготовления должны были подчеркивать важность события. В дальнем конце зала на помосте, за неким подобием ограждения, на двух обтянутых золотой парчой креслах сидели легаты. Перед ними установили покрытый турецким ковром стол для бумаг, на нем уже лежало несколько стопок документов. Справа от помоста находился трон короля под балдахином, а слева королеву ожидало дорогое кресло. При появлении Екатерины в переполненном зале наступила тишина. Потом раздались шарканье ног и скрип стульев – дворяне, законники, теологи и прелаты вскочили с мест и поклонились. Екатерина чувствовала на себе испытующие взгляды сотни глаз, пока в сопровождении четырех фрейлин шла к предназначенному для нее креслу. Она была рада, что в этот судьбоносный день ее поддерживают кипящая гневом Мария и непреклонная Мод. Потом явился Генрих. Как он был великолепен! Даже сейчас, когда король пытался развестись с ней, Екатерина невольно восхищалась им. Высокий, могучий, прекрасно одетый, он затмевал всех прочих мужчин. В сравнении с ним они казались карликами. Как только король уселся на трон, глашатай потребовал тишины и обратился к нему: – Король Генрих Английский, предстаньте перед судом! – Я здесь, господа! – ответил Генрих голосом громким и твердым, в котором слышалась уверенность человека, предвкушающего победу. Потом глашатай воззвал к Екатерине: – Екатерина, королева Англии, предстаньте перед судом! Екатерина сидела на своем месте, сердце ее колотилось. Она не отвечала. Генрих вопросительно посмотрел на нее, на что она никак не отреагировала. Повисла пауза, король недоумевал, после чего он повернулся к легатам. – Господа кардиналы, я пришел сюда, чтобы мои сомнения были разрешены и совесть моя успокоилась, – произнес Генрих. – Об одном прошу вас: определите, законен мой брак или нет. С самого начала меня неотступно терзали сомнения на этот счет. Решимость Екатерины сохранять молчание рухнула. Она не могла оставить это замечание без ответа. – Почему же только сейчас вы заговорили об этом? Генрих скорбно взглянул на нее: – Если я не заговаривал об этом, то лишь по причине великой любви, которую и сейчас имею к вам. Мадам, больше всего я хочу, чтобы наш брак был признан законным. – И вы рассчитываете на такое признание в этом суде? Я не считаю его беспристрастным. – Она повернулась к легатам, которые взирали на нее довольно сурово. – Прошу вас, господа, передайте рассмотрение этого дела в Рим. – Ваша просьба безрассудна, мадам, – возразил Генрих. – Император имеет власть над папой. Вас в этой стране любят, вам предоставлены на выбор прелаты и адвокаты. Вы не можете утверждать, что этот суд не беспристрастен. А теперь приступим! – Он нетерпеливо топнул ногой. – Екатерина, королева Англии, предстаньте перед судом! – снова воззвал к ней глашатай. Собравшись с духом, Екатерина решила: единственное, что ей осталось, – это воззвать к рыцарским чувствам и лучшим качествам Генриха и еще к тому, что осталось в нем от былой любви к ней. Она расскажет всему миру, как складывались их отношения. Она будет отстаивать свои права и добьется, чтобы выражение страдания никогда больше не появлялось на лице Марии. Екатерина не ответила глашатаю. Вместо этого она поднялась и прошла через полный народа зал суда к тому месту, где восседал на троне Генрих. Она упала на колени у его ног и воздела в мольбе руки. В зале раздались резкие вздохи и восклицания. – Сир, – сказала Екатерина, громко и отчетливо, – я умоляю вас, ради любви, которая была между нами, и ради любви Господней, да свершится надо мной справедливость по чести. Сжальтесь надо мной, ведь я всего лишь женщина, к тому же чужестранка, рожденная вне пределов вашего королевства. У меня здесь нет ни верных друзей, ни беспристрастных советников. Я уповаю на вас как на верховного судью в этой стране. – Она остановилась. Генрих смотрел прямо перед собой. Ему явно было не по себе, он выпятил губы, и щеки его угрожающе пылали. – Увы, сир, я чем-то обидела вас? – спросила смущенная Екатерина. – Какова причина вашего неудовольствия? Почему вы решили избавиться от меня? Я призываю в свидетели Бога и весь мир и заявляю: я была вам верной, почтительной и послушной женой, всегда готовой исполнить ваши желания и доставить вам удовольствие. Меня радовали и удовлетворяли все те вещи, которые были приятны вам. Я никогда не выражала недовольства чем-либо, не выказывала и намека на досаду. Я любила всех тех, кого любили вы, ради вашего блага, имелись у меня на то причины или нет, и невзирая на то, были они мне врагами или не были. Никакого отклика. Это было ужасно. Но, начав, Екатерина уже не могла остановиться. – Все эти двадцать лет, и даже больше, я была вам верной женой, я родила вам много детей. Господу было угодно забрать их из этого мира, но это не моя вина. – Она замялась, однако, чего бы ей это ни стоило, надо было идти до конца. – И когда вы овладели мной впервые, да будет судьей мне Бог, я была девственницей, к которой не прикасался ни один мужчина. Правда это или нет, пусть ответит ваша совесть. Произнося последние слова, она посмотрела прямо в лицо Генриху. Пусть он вспомнит ту первую, сладкую ночь любви. Но лишь кривая усмешка появилась на его лице. Екатерине стало ясно: он не собирался отвечать. И все равно она должна была закончить и высказать все, что намеревалась. – Если есть хоть какая-нибудь основательная законная причина, которую вы можете привести, чтобы отдалить меня от себя, я соглашусь уйти, к своему стыду и бесчестью. Но если такой причины нет, я должна молить вас позволить мне остаться на своем законном месте и получить правосудие из ваших царственных рук. Многие ученые мужи говорят, что наш с вами брак хорош и не противоречит закону. Удивительно слышать, какие возводят поклепы на меня, никогда не грешившую ложью! А теперь я должна покориться решению этого нового суда, в котором вы можете причинить мне много вреда. Но вы должны понимать, что ваши подданные не могут быть беспристрастными советниками, ведь они не смеют ослушаться вашей воли, дабы не вызывать вашего неудовольствия. Поэтому я смиренно прошу вас, ради божественной любви, избавить меня от крайностей этого суда. А если этого не случится, я передаю свое дело Богу. Генрих так и не взглянул на нее. И не сказал ни слова. Она встала, сделала низкий реверанс и тут обнаружила, что ноги отказывают ей – так сильно ее трясло. Екатерина быстро подозвала Гриффина Ричардса, своего казначея, и с благодарностью оперлась на его руку. – Уведите меня отсюда, – шепнула она. Под множеством взглядов он провел ее через притихший зал к входным дверям. Тут Екатерина услышала, как Генрих велит глашатаю призвать ее обратно. – Не обращайте внимания, – сказала она Гриффину Ричардсу. – Я считаю этот суд несправедливым по отношению ко мне, а потому не останусь здесь. На выходе из монастыря Черных Братьев Екатерину приветствовали толпы лондонцев, по большей части женщин. Они криками подбадривали свою королеву. Она слабо кивала и улыбалась. – Вспоминайте меня в своих молитвах, добрые люди! – крикнула Екатерина, и голос ее едва не сорвался. Потом она поднялась по ступеням на галерею и вернулась в почти пустой дворец Брайдуэлл.
Тем же вечером, пока Екатерина пыталась унять беспокойные мысли, к ней пришел епископ Фишер. Лицо его было мрачным. – Мадам, вы думаете, что у вас нет беспристрастных советников, но, уверяю вас, это не так. Я бы не порекомендовал вам обращаться к королю, и все могло бы пройти лучше для вас, если бы вы признали полномочия суда и потом представили свои свидетельства, хотя я и понимаю вашу озабоченность. Екатерина, благодарная ему за честность, кивала: – Что случилось после моего ухода? Прошу вас, сядьте и расскажите мне. – Король взял слово, – начал Фишер, опуская свои стареющие кости на предложенный стул. – Он сказал, что вы всегда были верной, послушной и приятной женой, именно той, какую он и хотел иметь. Сказал, ему повезло, что Бог благословил его такой королевой, и взял Господа в свидетели, утверждая, что его заставили обратиться за решением суда вовсе не какие-то ваши недостатки. Потом он вспомнил, как один за другим вскоре после рождения умирали ваши сыновья, и назвал это наказанием Господним. Король утверждал, что его заботит только отсутствие наследника, и заверял всех, что затеял это дело вовсе не из каких-то плотских стремлений и не из-за неприязни к вам лично. «Это ложь, – подумала Екатерина. – Все это ложь. Он с ума сходит от желания жениться на Анне Болейн. Вот ради чего переворачивает весь мир вверх дном, отчего страдаю я и будущее Марии висит на волоске». – Закончил он словами о том, что будет вполне удовлетворен, если ваш брак признают не противоречащим Божьему закону, – подвел итог Фишер. – На это мало шансов в таком суде. Фишер вздохнул, на его угловатом аскетическом лице застыло выражение глубокой печали. – С сожалением вынужден согласиться с вашей милостью. После обеда король представил суду пергамент с изложением сути дела, по которому он хочет получить ответ, и заявил, что все епископы Англии поставили на нем свою печать и приложили к нему руку. Ну, я опроверг это! – Фишер не мог скрыть своего гнева. – Я сказал ему, что никогда не подписывал такого документа и не ставил на нем своей печати. Но они там были – и моя печать, и моя подпись, подделанные. Архиепископ Уорхэм имел дерзость подтвердить подлинность обеих. Король заявил, что это все равно не имеет значения, так как я всего один. Поверьте, мадам, они ни перед чем не остановятся, лишь бы добиться своего. – Мне это известно, – сказала Екатерина, впадая в уныние. Фишер встал. – Но я буду с ними бороться! – жарко выдохнул он, и взгляд его оживился. Он благословил Екатерину и осенил ее лоб крестом, а после этого похлопал по плечу, чем весьма удивил.
Суд заседал много дней подряд. Екатерина держалась своего решения не присутствовать на нем, епископ Фишер рассказывал ей, как развиваются события. Казалось, бóльшую часть времени обе стороны занимались прениями по поводу того, был ли окончательно заключен ее первый брак. Однажды вечером Фишер остался ужинать в покоях Екатерины. – Защитники короля говорят, что ваш брак с самого начала был незаконен, потому что вы плотски познали принца Артура, – сказал он ей, как только удалились слуги. – Это неправда! – запротестовала Екатерина, потом вспомнила о правилах хорошего тона и передала епископу блюдо с зеленью. – Сколько еще раз мне придется повторять это? – Мадам, я сказал им, что это весьма сомнительно, – поддержал ее Фишер и положил себе в тарелку пару листочков салата. – От Уорхэма мало пользы – он мог бы с тем же успехом представлять интересы короля, такими убедительными аргументами сыплет! Молодой священник Ридли, который помогает мне, считает отвратительным детальное обсуждение вашей частной жизни в открытом судебном процессе. – Пускай, – горячо отозвалась Екатерина, – принимая во внимание характер дела, у меня нет иного выбора, кроме как терпеть это. По крайней мере, мне не приходится все это выслушивать. – Что раздражает меня больше всего, – сказал Фишер, – так это полная убежденность короля в том, что, если он возьмет себе вторую жену, Небеса непременно пошлют ему сына. Так и тянет спросить его: «Кто обещал вам принца?» – Без сомнения, госпожа Анна. Аскетическое лицо епископа скривилось в неком подобии усмешки. – Тогда остается под вопросом, согласятся ли на это Небеса!
Однажды утром в конце июня Екатерину ждал сюрприз: к ней зашел Генрих. Он выглядел возбужденным и раздражительным, но вел себя достаточно вежливо, даже одобрил ее платье из черного дамаста с рукавами из серебряной парчи. – Рад видеть вас так по-королевски одетой, Кейт, потому что я хочу, чтобы вы вместе со мной отправились к Черным Братьям. Легаты ничуть не приблизились к вынесению решения, они топчутся все на том же месте, что и в первый день заседания, а нам обоим нужно, чтобы дело завершилось. – Он протянул ей руку. – Вы идете? – Если это необходимо, – ответила она и позволила ему увести себя. Снова они сели на свои троны, и Генрих обратился к кардиналам. – Королева и я – мы оба устали ожидать вердикта. Мы просим вас наконец-то завершить дело. Я нахожусь в таком смятении духа, что не могу взяться ни за какие дела, которые пошли бы на пользу моим людям и моему королевству. Екатерина ничего не сказала, но по кивку Фишера встала и заявила, что не отступится от своего желания обратиться за решением в Рим. Генрих сердито глянул на нее, но сдержался и не обрушил упреков на упрямую супругу, пока они не оказались наедине в ее покоях. – Обращение в Рим лишь затянет это проклятое дело! – рычал он. – О чем вы думаете, Кейт? Почему вам надо все так усложнять? – А почему вам надо подвергать сомнению законность такого прекрасного брака? – Не начинайте снова! – почти проорал Генрих и в ярости выскочил из комнаты.
– Король явно зашел очень далеко в поисках свидетелей вашей брачной ночи с принцем Артуром, – сказал Екатерине Фишер во время следующего визита к ней. – Сегодня показания давали девятнадцать человек. Я не стану повторять их утверждения, потому что это задело бы чувства вашей милости и вообще оскорбительно для любого добропорядочного человека. Тем не менее ни одно из свидетельств не было признано убедительным, а большинство и вовсе оказалось передачей разных слухов. Самым отвратительным было видеть престарелых лордов, которые выстроились в очередь, чтобы засвидетельствовать: в возрасте принца Артура они обладали мужской потенцией. Думаю, легаты разделяли со мной это мнение. Разумеется, некоторые из свидетелей принадлежали к клике Болейн. Один из них – брат госпожи Анны, который еще даже не родился к моменту вашего первого брака, а остальные, боюсь, подкуплены. Думаю, вас порадует новость о юном Ридли. Он четко заявил, что ваша милость много раз говорили о незавершенности вашего первого брака. Я, разумеется, подтвердил это. – Вы всегда были мне верным другом, мой добрый епископ. Скажите честно, как вы думаете, у нас еще остался шанс выиграть дело? – Думаю, наше упорство в утверждении законности брака имеет значительный вес для многих. Даже кардинал Кампеджо, кажется, относится к этому одобрительно. – Тогда почему он не выносит решение? Это тянется уже так долго. – Он должен выслушать все свидетельства, какими бы они ни были. Думаю, откладывание решения доводит короля до крайних пределов терпения. Мне говорили, что он вызывал Уолси во дворец Брайдуэлл и распекал его больше четырех часов. Многие слышали крики и ругань, а я стоял и ждал барку на ступенях монастыря Черных Братьев, когда появился кардинал и сел в свою. Выглядел он нездоровым. Епископ Карлайла тоже был на пристани и попытался завести с ним любезный разговор: заметил, что сегодня жаркий день. Кардинал согласился и добавил, что если бы епископа взгрели так же, как его, он бы сказал, что день очень жаркий. Я никогда и не думал испытывать жалость к Уолси, но полагаю, хотя он и старается изо всех сил угодить королю, разногласия между ними слишком велики. – Он в трудном положении, – признала Екатерина. Фишер встал: – Что ж, мадам, мне нужно идти готовить бумаги на завтра. Молю вас, постарайтесь не тревожиться. Наши дела идут даже лучше, чем я надеялся. Екатерина призвала фрейлин, все достали пяльцы и взялись за работу, сопровождая ее разговором. Этот тихий вечер за простым занятием, которое отвлекало от тревог и давало простор для размышлений о предметах более приятных, чем отравлявшая ей жизнь судебная тяжба, радовал Екатерину. Не прошло и часа, как явился слуга сказать, что Уолси и Кампеджо ожидают королеву в приемной. Екатерина встала, приказала фрейлинам сопровождать ее и пошла приветствоватьвизитеров. – Добро пожаловать, господа. Видите, чем я занимаюсь. – Она сняла с шеи длинный моток белых шелковых нитей. – Так я провожу время со своими девушками. – Мадам, не могли бы мы поговорить с вами наедине? – спросил Уолси. Он выглядел старым и больным, к тому же был необычайно взволнован. – Мой господин, если у вас есть что сказать, говорите открыто при этих женщинах, я не страшусь ничего, что вы можете сообщить или наговорить обо мне, и предпочитаю, чтобы весь мир видел и слышал это. – Мадам, – с видимой неохотой произнес Уолси, – мы пришли по приказанию короля, дабы узнать, что вы намерены предпринять в связи с этим делом между вами и королем, а также поделиться своим мнением и советами на этот счет. Екатерина повернулась к Кампеджо. – Разве хоть один англичанин даст мне добрый совет и поддержит меня, если это противоречит желаниям короля? – спросила она, сожалея о том, что здесь нет Фишера, который мог бы говорить от ее лица. – Увы, господа мои, я бедная женщина, мне недостает ума и понимания, чтобы дать ответ столь мудрым мужам, как вы, по такому важному делу. Уолси совсем спал с лица, будто вот-вот упадет в обморок, и Екатерина сжалилась над ним. – Давайте пройдем в мои покои, – сказала Екатерина, взяла его за руку и повела. Кампеджо и фрейлины потянулись следом. – Благодарю вас за вашу доброту, мадам, – сказал Уолси, погружаясь в указанное ему кресло. – Это был довольно утомительный день. – Кардинал промокнул платком лоб. – Король желает, чтобы вы передали дело в его руки. Он опасаяется, что если дело обернется против вас, то может последовать судебный приговор, и тогда на вас падет позор. Его милость хочет избежать этого. Он просит вас, как свою супругу, доверить ему решение. – Но он пытается доказать, что я ему не жена, – возразила Екатерина. – Он не может хотеть того и другого одновременно. А что касается судебного приговора, которым вы мне грозите, нет такого преступления, в котором меня могли бы обвинить. – Возможно, мне следовало назвать это осуждением, а не приговором. Если дело обернется против вас и вы будете настаивать на продолжении прелюбодейного брака, мы, легаты, и, возможно, даже его святейшество, склонимся к необходимости вынести предупреждение… Екатерина взорвалась: – Богу известно, и вам тоже: мой брак не прелюбодейство! Я – верная жена короля и останусь ею до конца своих дней! Повисла тишина. Кардиналы в отчаянии смотрели друг на друга. – Мадам, мы передадим ваш ответ королю, – сказал Уолси, поднимаясь на ноги. На том они оба и удалились.
Шла третья неделя знойного, душного июля. Екатерина жаждала покинуть Лондон и отправиться в деревню, где воздух был свежее, не разносилось зловоние от реки и переполненных людьми улиц и где не было угрозы чумы. Казалось, слушание дела никогда не закончится. Но вдруг, задолго до того, как Екатерина ожидала его прихода, явился Фишер. Куда девалась его обычная суровость! – Победа, мадам, победа! – Суд принял мою сторону?! – воскликнула Екатерина, не в силах поверить. – Нет, мадам, но ваша просьба удовлетворена: дело передано в Рим. Решение вынесет его святейшество самолично. Это было не совсем то, на что она надеялась, однако у нее и Марии появлялось преимущество в споре. Сердце Екатерины исполнилось благодарностью. – Расскажите мне, что случилось. – Стали заметны признаки того, что кардинал Кампеджо готов вынести приговор, и король пришел в суд с герцогом Саффолком, надеясь услышать желаемое. Однако Кампеджо встал и заявил, что не примет поспешного решения, пока не обсудит все обстоятельства дела с папой, потому что истину в этом деле установить трудно. А потом он отложил суд, сказав, что возвращает дело в Рим. Что ж, мадам, хотел бы я видеть вас там. Король поднялся и вышел из зала мрачнее грозовой тучи, а потом в суде поднялся переполох. Герцог Саффолк клялся и божился, что старая пословица верна и что в Англии никогда не будет счастья, пока среди нас находятся кардиналы. А Уолси напомнил ему, что если бы он, простой кардинал, не пришел на помощь, когда герцог женился на сестре короля, то Саффолк лишился бы и головы, и языка, которым сейчас поносит его. – Да, плохи дела Уолси, – заметила Екатерина. – Для него это тяжелое поражение, он может лишиться благосклонности короля. И снова она почувствовала легкий приступ жалости к своему давнему врагу. – Вид у него был ошарашенный, – сказал ей Фишер. – Пока длилась вся эта бурная сцена, легаты сидели и смотрели друг на друга в высочайшем изумлении. – Кампеджо бояться нечего, он может вернуться в Рим. А вот Уолси придется остаться и вынести испепеляющий гнев короля. – Несомненно, король воспринял это разочарование с большим неудовольствием, что неудивительно. Папский суд не соберется на заседание до октября, и дело будет разбираться медленно, так что, вполне вероятно, пройдут месяцы, если не годы, прежде чем папа придет к какому-нибудь решению. Не беспокойтесь, мадам, его святейшество сейчас в дружбе с императором, и приговор, вероятно, будет вынесен в вашу пользу. Внезапно снаружи началась какая-то суматоха. Раздались громкие голоса, потом дверь распахнулась – на пороге встал Генрих. – Епископ, вон! – рявкнул он на Фишера. Тот нахмурился, отвесил поклон и вышел. Генрих захлопнул за ним дверь. – Это все ваших рук дело! – сказал он Екатерине. – Вы слали свои просьбы в Рим, и теперь вынесение приговора снова откладывается! Вы думаете, мое королевское достоинство не пострадает, если меня вызовут предстать перед папским судом? Боже, ни мои дворяне, ни мои подданные никогда этого не допустят! Говорю вам, мадам, если я поеду в Рим, то только во главе огромной армии, а не как искатель правосудия! – По крайней мере, это будет беспристрастное правосудие! – Что? Когда папа заодно с императором, а Карл собирается подписать мирный договор с Франциском? Вы понимаете, что из-за этого я стану изгоем? Какой беспристрастный суд ждет меня там? – Папа примет единственно верное решение. – Папа такой же человек, как все мы, и способен совершать ошибки, как его предшественник, который дал это разрешение. Екатерина была поражена: – Это ересь! Вы подвергаете сомнению власть Святого престола – власть, доверенную ему самим нашим Господом! – Кейт, Святой престол развращен и продажен. Все знают это. В Ватикане всё решают деньги и власть. Теперь мне ясно, что тогда, в тысяча пятьсот третьем году, когда папа Юлий выдал разрешение, дело наверняка решили деньги. У него не было права санкционировать такой брак. Священное Писание ясно говорит об этом. – Почему вы постоянно перетолковываете Писание?! – воскликнула Екатерина. – Тише, женщина! – Генрих побагровел от ярости. – Я больше не собираюсь спорить с вами, раз вы отказываетесь признавать очевидное. Завтра мы отправимся в Гринвич, а потом я забираю Анну объезжать королевство, и мы проведем вместе охотничий сезон. А вы, мадам, можете распоряжаться собой, как вам угодно!
Глава 26 1529–1530 годы
Несмотря на весь свой гнев, Генрих в конце концов смягчился и вызвал опальную супругу в Вудсток, чтобы она присоединилась к королевскому туру по стране. Екатерина подозревала, что произошло это вовсе не из-за возвращения к ней милостей Генриха, не из внимания и заботы о чувствах отвергнутой супруги, а из-за неодобрения, которое открыто выказывали подданные, видя, как их правитель красуется повсюду со своей любовницей вместо жены. Екатерина не хотела ехать в Вудсток – туда, где прошли счастливые для нее дни. Ей противно было видеть Генриха с Анной, и она понимала, что оба они будут настроены по отношению к ней враждебно. Она предпочла бы повидаться с Марией, по которой сильно соскучилась, но должна была слушаться короля как его супруга, поэтому отдала распоряжение собираться и ехать. Пока скромная процессия двигалась по улицам, дремлющим под солнцем позднего лета, Екатерина размышляла о том, что ей повезло больше, чем Уолси. До нее доходили слухи, что кардинал впал в немилость и удалился в свое поместье Мор в Хартфордшире. Большинство людей сходились во мнении, что вина за неудачу суда легатов лежала на Уолси. Генрих принял Екатерину холодно. Весь он был напитан подавляемой злостью, которая все возрастала в последние месяцы, и Екатерина это чувствовала. Анна Болейн старательно избегала ее, но, когда они сталкивались лицом к лицу, темные глаза фаворитки сверкали неприкрытой злобой. Екатерина была только рада, что Мария не присутствует при дворе и избавлена от необходимости созерцать эти сцены женского недоброжелательства. Атмосфера стала еще более напряженной, когда Генриху был доставлен вызов предстать перед папским судом. Последовал новый взрыв бешенства. Наблюдая это, Екатерина трепетала. Она опасалась, что перенесение дела в Рим еще сильнее отвратит Генриха от Святого престола. Кроме того, ее тяготили размышления о созыве парламента, намеченном королем на ноябрь. Что он теперь задумал? Мария, прямодушная как обычно, придерживалась мнения, что король осуществит развод собственной властью. Екатерина отвергла такое предположение: он не осмелится. Однако в те дни Генрих находился в каком-то странном, бунтарском расположении духа. Кто знает, на что он мог решиться? Накрытые этим все сгущающимся облаком недовольства, в сентябре они прибыли праздновать Рождество Богородицы в старое королевское охотничье поместье Графтон-Реджис. Сразу вслед за двором явился кардинал Кампеджо – просить у короля формальный отпуск перед возвращением в Рим. Екатерина наблюдала за его прибытием из окна, выходившего на двор. С ним был Уолси – она этого не ожидала, – хотя, разумеется, по правилам присутствовать должны были оба легата. Двое мужчин, оба седовласые и осанистые, слезли с коней у ворот, слуги поспешили проводить Кампеджо в подготовленные для него комнаты. Но никто не подошел к Уолси, и тот, потерянный, остался стоять посреди двора. За последние месяцы он заметно сдал и превратился в старика, ссохшегося и неуверенного. От его надменности и следа не осталось. Кардинал выглядел жалко. Тронутая его плачевным положением, Екатерина поймала себя на желании, чтобы кто-нибудь пришел к нему на помощь. Потом она увидела сэра Генри Норриса, хранителя королевского стула и большого друга Генриха. С виноватым лицом Норрис подошел к Уолси, мужчины разговорились, и Норрис повел кардинала в сторону своего жилища. Ближе к вечеру Екатерина заняла место рядом с Генрихом в заново отделанном средневековом зале, где король должен был принимать кардиналов. Народу собралось множество, госпожа Анна отсутствовала, но ее партия была представлена в полной силе. Герцоги Норфолк и Саффолк, ее брат Джордж и целая стая приближенных Болейн рыскали повсюду, как хищники, жаждущие крови. Они пристально наблюдали за королем и наслаждались сконфуженным видом Уолси, когда кардиналы приблизились к трону и пали на колени. Однако Генрих удивил всех. Возвысив голос, он произнес: – Милорд кардинал! Мы вас очень ждали! И даже спустился с помоста, помог Уолси подняться, потом отвел старика к окну и там наедине переговорил с ним. Екатерина поддерживала вежливую беседу с Кампеджо, отмечала про себя, как омрачились лица у членов партии Болейн, и старалась сдержать улыбку. Потом она услышала, как Генрих весьма добродушно сказал Уолси: – Теперь отужинайте, а после я продолжу разговор с вами. В этот момент Норфолк и Джордж Болейн немедленно покинули зал. Без сомнения, спешили доложить обстановку госпоже Анне. Екатерина ужинала в одиночестве, ей прислуживали лишь сестры Отвелл. Они подавали на стол и были очень довольны собой: в новых платьях из темно-желтого дамаста на бархатной подкладке, которые Екатерина приказала сшить всем своим служанкам, девушки выглядели великолепно. Екатерина полагала, что Генрих сейчас с Анной. Но когда она позднее вышла в сад, то, упиваясь ароматным вечерним воздухом и уединением, подняла взгляд и увидела в окне силуэты увлеченных беседой Генриха и Уолси. Что это может предвещать? – с некоторым беспокойством подумала она. Неужели кардинал снова в фаворе? Если так, то из чувства благодарности он, без сомнения, удвоит усилия, чтобы добиться для короля желаемого. А Уолси был человеком умным… На следующее утро кардинал заседал в совете вместе с королем, отчего среди сторонников Анны поднялся ропот. Атмосфера была ледяная. Но тут явилась госпожа Болейн, всем своим видом выражая беспечность: она отдавала короткие распоряжения относительно пикника, который устраивали на открытом воздухе перед вечерней охотой. Генрих деловито удалился вместе с ней, на глазах у всех тепло распрощавшись с Уолси. – Я вернусь еще до вашего отъезда в Лондон, – сказал король. Но он не вернулся. Назначенный для прибытия с охоты час наступил и миновал. Кардиналы ждали, когда смогут покинуть Графтон, оттягивали отъезд, насколько могли осмелиться, ведь приближалась ночь и дороги становились опасными. Екатерина старалась как могла развлечь стариков и чувствовала нараставшее беспокойство Уолси. От разочарования у него опустились плечи, а еще немного погодя кардинал неохотно поднялся с намерением ее оставить. Он вновь превратился в побитого жизнью старика. – Я надеялся повидаться с королем перед отъездом, – сказал Уолси. – Ваше преосвященство, скоро это произойдет, – ответила Екатерина с большей уверенностью, чем чувствовала на самом деле. – Нет, мадам. Ночная кукушка владеет им. Она ищет моей погибели. Король больше за мной не пришлет. Екатерина не нашла слов для ответа. Она знала: Уолси прав. Спустя пару часов вернулись охотники. Госпожа Анна пребывала в исключительно хорошем настроении, сверкала в сторону Генриха своими темными очами, а тот отвечал ей голодным взглядом, полным обожания. Вид у нее был победоносный. Екатерина подавила в себе отвращение. – Кардиналы уехали, – сообщила она. – Они надеялись увидеться с вашей милостью и очень сожалели, что не могут больше откладывать отъезд. – Приятно видеть их удаляющиеся спины, – бросил Генрих.Екатерина не получала сведений о том, что император назначил в Англию нового посланника, а потому была приятно удивлена, когда в Графтоне ей представили Юстаса Шапуи, человека лет сорока в черной мантии. Долгие месяцы ей не хватало верного помощника, такого, каким был Мендоса. И теперь, познакомившись с темноволосым адвокатом-клириком из Савойи, которого Карл прислал представлять его и ее интересы, увидев его спокойное лицо с большими добрыми глазами и крупным носом, она за несколько минут разговора с ним поняла, что нашла еще одного преданного сторонника. – Его императорское величество хотел бы сделать для вас гораздо больше, – сказал Шапуи, – но турки стоят у ворот Вены, и он должен задействовать все свои силы, чтобы отвратить нападение. Тем не менее мы уверены в том, что папа очень скоро вынесет решение, а в ожидании этого, если ваше высочество что-либо заботит, вы можете полагаться на меня. Постараюсь помочь вам справиться с любыми трудностями, – с живой уверенностью говорил он. – Я никогда не соглашусь на использование военной силы против моего мужа-короля, – сказала Екатерина, тронутая пылкостью нового посла, но встревоженная тем, что крылось за его словами. – Ваше высочество, не беспокойтесь, мой господин надеется, что до этого не дойдет. Он просил меня использовать мягкость и дружелюбие, чтобы восстановить согласие между вашей милостью и королем. – Увы, боюсь, король не станет вас слушать. Кардинал Кампеджо пытался убедить его, но из этого ничего не вышло. – Попробовать снова не повредит, ваше высочество. – Шапуи улыбнулся. – Я слышал, мой предшественник испытывал трудности с тем, чтобы говорить с вами наедине. – Кардинал подсылал своих шпионов следить за мной, но сейчас их нет. Шапуи понизил голос: – Поговаривают, ваше высочество, что с кардиналом покончено. Леди – вы знаете, о ком я, – так пожелала, а уже ясно, что верховодит всем она. Екатерину впечатлило, как быстро и насколько проницательно новый посол оценил положение дел. – Она здесь всевластна, так что я не смогу обрести покоя, пока мое дело не решится в Риме. – Я уверен, император обеспечит его благополучный исход, причем очень скоро. – Дай Бог, чтобы это случилось побыстрее. Я беспокоилась, не собирается ли его святейшество откладывать вынесение вердикта в надежде, что проблема решится сама собой. – Судя по тому, что я успел заметить, король сильно привязан к этой леди, и остается с сожалением признать: едва ли такое возможно. Но успокойтесь, ваше высочество, конец ваших страданий недалек.
Екатерина не удивилась, услышав о лишении Уолси поста лорд-канцлера и о том, что за принятие должности папского легата в далеком 1518 году его признали виновным в привнесении на территорию Англии незаконной иностранной власти. За это его земли и имущество были конфискованы, а самому кардиналу было приказано удалиться в свой дом в Эшере. «Вот как падают гиганты», – подумала Екатерина. Но чувства победы не было. Было лишь сочувствие к стареющему кардиналу, который изо всех сил старался услужить королю и потерпел неудачу. Ликующий Генрих присвоил себе Йоркский дворец, лондонский особняк Уолси. – Он готовит жилье для нее, – фыркнула Мария. – Дом переименуют в Уайтхолл. – Представляю, какая это для нее радость, там ведь нет покоев королевы, а она уже долгое время отказывается признавать мое старшинство, – сказала Екатерина. – Что ж, к счастью, мне не придется видеть, как она управляет своим двором, будто уже заняла мое место.
Когда осенью двор переехал в Гринвич, Шапуи вновь пришел повидаться с Екатериной. Вид у него был встревоженный. Королева попросила фрейлин удалиться – мало ли что он мог сказать? – и жестом пригласила посла сесть рядом с ней у камина. – Ваше высочество, через месяц соберется парламент. Боюсь, что-то затевается против вас. – Я тоже этого опасаюсь, – призналась Екатерина. В последнее время Генрих был непредсказуем. Один день он вел себя как обычно, на следующий становился враждебным и жестоким. Он был одержим идеей, что его чего-то лишают. Екатерина была уверена: он ни перед чем не остановится, лишь бы обладать Анной, и полагала, что вполне естественным следующим шагом с его стороны станет подчинение парламента своей воле. Элизабет Стаффорд, герцогиня Норфолк, имела влиятельных друзей в верхах и предупредила Екатерину, что Генрих применяет свои методы убеждения к нескольким лордам, известным нерешительностью. – Мой супруг так умело разыграл свои карты, что, скорее всего, наберет большинство голосов, – сказала Екатерина Шапуи. – Он может поддаться искушению получить таким способом то, чего ему не удалось добиться другими средствами. – Его величество прогнал единственного человека, который был способен помочь ему в этом. – Бедный Уолси, мне жаль его. Я молюсь о том, чтобы король оставил его в покое. – Это вряд ли, ваше высочество, если тут замешана партия Леди. Но у меня есть и более приятные новости. Я только что узнал о новом назначении: вместо Уолси король поставил канцлером сэра Томаса Мора. Он честный и образованный человек, к тому же верный слуга вашего высочества. Сердце Екатерины подскочило от радости. Это была наилучшая замена Уолси. Мор наверняка окажет на Генриха влияние, сдержит его, ведь король глубоко уважал этого ученого мужа. – Новость и правда отличная! – согласилась она. После ухода Шапуи Екатерина немедленно послала за сэром Томасом. Как только Мора ввели к ней, она поднялась ему навстречу с улыбкой: – Я слышала, вас можно поздравить, сэр Томас. Не могу выразить, как я рада была узнать о вашем повышении. – Это большая честь, которой я недостоин, – ответил Мор, и на его выразительном лице проступила озабоченность. – И я боюсь, это приманка, чтобы добыть желаемое. Король явно хочет заручиться моей поддержкой в своем Великом деле. Не будучи знатоком церковного права, я никогда не вмешивался в процессы о разводах, тем не менее его милость долго убеждал меня принять его сторону. Увы, я не могу этого сделать даже сейчас, и это огорчает нас обоих. Боюсь, он разочаровался во мне. Само собой, Генрих испытал разочарование. Мор был известен по всему христианскому миру, его ученость и мудрость уважали всюду. Поддержка сэра Томаса для короля была бы неоценимой. – Он давил на вас? – Нет, мадам. Заверил в своем нежелании заставлять меня говорить или делать что-либо против моей совести; сказал, что я прежде всего должен быть в согласии с Богом, а потом уже с ним. Однако настроение короля может измениться, что нередко случается в эти дни. Теперь вы можете видеть, отчего я с неохотой принимаю пост канцлера. Это будет нелегкая работа. Владыка Норфолка, мой друг, теперь стал лордом – президентом совета, но он дядя госпожи Анны, а она стоит превыше всех. Ее брат хвастается, что лорды не имеют никакого влияния, если она не соблаговолит допустить их до этого. – Тут нет ничего нового. Гордыня в конце концов приведет ее к погибели. Король рано или поздно воспротивится ее вмешательству в дела. Мор покачал головой: – Увы, боюсь, до этого дня еще очень далеко. Вы наверняка уже слышали, что Болейны взяли к себе нового священника? – Почему я должна знать об этом? – Потому что это может оказаться важным. Человека этого зовут Томас Кранмер. Секретарь короля, доктор Гардинер, познакомился с ним, когда месяц назад, возвращаясь из Рима, останавливался в аббатстве Уолтхэм. – Что он делал в Риме? – Он был там по делам короля, но я подозреваю, что его святейшество не пойдет на уступки. Однако гораздо больше меня беспокоит влияние этого доктора Кранмера: он опасный радикал и высказался в том духе, что дело короля должно быть изучено образованными докторами в университетах Европы, а не папой. Когда король услышал это от Гардинера, то вызвал к себе Кранмера, чтобы познакомиться с ним, и этот человек теперь пишет трактат, в котором излагает свои взгляды. Стоит ли говорить о том, что партия госпожи Анны заискивает перед ним и ее отец сделал Кранмера своим священником. Екатерина нахмурилась: – Мне это не нравится. Тут пахнет ересью. Даже если все университеты выступят на стороне моего супруга, только папа может расторгнуть наш брак. Но что, если король начнет действовать без позволения папы? В каком положении окажусь я в глазах Церкви? А Мария? Мор снова покачал головой: – Признаться честно, ваша милость, я не могу тут ничего сказать. Боюсь, весь христианский мир перевернется вверх тормашками. Надеюсь, вы помните мои слова, сказанные много лет назад: если лев сознает свою силу, его трудно сдерживать. Кардинала теперь нет, и король намерен стать полновластным правителем в своем королевстве.
Генрих и Анна вместе въехали во дворец Уайтхолл. Екатерина не могла закрыть глаза на это, а ее фрейлины были потрясены. – У нее свита как у королевы, она появляется всюду, разодетая по-королевски, и оказывает покровительство, как королева! – возмущалась Элизабет Стаффорд, вздергивая свой аристократический носик. – Ваша милость должны быть там, рядом с королем, а не сидеть всеми покинутой здесь, в Гринвиче! Екатерина вздохнула. Что она могла поделать? – Госпожа Анна изображает из себя благочестивую праведницу! – с презрительной усмешкой вставила слово Мария. – Говорят, изображает перед всеми, что увлечена чтением Посланий святого Павла, но не делает секрета из того, что ненавидит всех священников и не испытывает любви к папе. – Она еретичка и доведет короля до греха, если он не остережется, – сказала Екатерина. Сердце у нее обливалось кровью за человека, который прежде защищал Святой престол от подобных атак. – Я слышала, она жалуется, что устройство ее будущего так долго откладывается и этому не видно конца, – сообщила Элизабет Стаффорд. – Я и сама могу сказать то же самое, – сухо заметила Екатерина, – хотя странно мне оказаться в одном лагере с госпожой Анной. – Но, мадам, – отозвалась Элизабет, – вы сносите все терпеливо. Она же затевает месть. Вам надо быть настороже. – Она опасна, – заметила маркиза Дорсет, – и знает, что у нее есть только любовь короля, и ничего больше. Влиятельных друзей за границей она не имеет, но зато развила в себе талант обзаводиться врагами! «Если бы только Генрих не был таким слепцом», – подумала Екатерина.
Сидя у огня, Екатерина вышивала ворот рубашки Генриха – черная нить по белому полотну. Этим искусством она славилась. Ей нравилось заниматься простой домашней работой – для него, как она делала всегда: создавалась видимость, что все идет нормально. После открытия сессии парламента Генрих с Анной вернулся в Гринвич и, казалось, прилагал усилия к тому, чтобы убедить окружающих, будто остается в хороших отношениях с Екатериной. Он звал ее с собой всякий раз, как появлялся на публике, и оба они заботились о том, чтобы не только соблюдать этикет, но и являть супружеское согласие. Было утомительно сохранять маску спокойного достоинства, когда чувства взвинчены. Находиться рядом с Генрихом, зная, что он предпочел бы не видеть ее вовсе, было мучением. – Ваша снисходительность превосходит человеческие возможности! – возмущалась Мария, сердито глядя на рубашку, над которой трудилась госпожа. – Это притворство короля имеет целью убедить папу и с ним весь мир, будто он искренне любит вас. Екатерина поморщилась. Иногда Мария бывала слишком прямолинейной. Но она говорила правду, потому что Генрих вообще не приближался к королеве, кроме как на людях. Поэтому Екатерина была крайне удивлена, когда однажды ветреным ноябрьским днем он явился в ее покои обедать. Она приветствовала супруга с улыбкой, в которой светилась надежда, и поспешила поднести ему только что законченную рубашку. Он поблагодарил ее, но было ясно: этот визит не простая дань вежливости. Как только оленина была подана и слуги удалились, Генрих заговорил о том, что утратил всякие иллюзии относительно Святого престола. – Я оставлен Церковью Рима, – жалобно произнес он. – Разумеется, это все политика. Ватикан – трясина продажности. И вы, Кейт, не помогаете мне. Вы не понимаете моих разочарований. Вдруг у Екатерины пропала всякая охота к еде. – Я все время пыталась понять, почему вы это делаете, но так и не смогла согласиться с вами, – сказала она, откладывая нож. Генрих сверкнул на нее глазами и сердито сказал: – Вы старались недостаточно хорошо! Мне нужен наследник, а этого никто не принимает в расчет. Климент у Карла в кармане, а вы меня не освободите. – Даже если бы наш брак был незаконен, я бы не хотела видеть, как вы позорите себя женитьбой на женщине, которая оскандалилась на весь христианский мир! – тихо проговорила Екатерина. – Вы никогда не думали, что при этом станет с Марией? А я думала! Богу известно, из-за этого Великого дела я прошла через муки адовы на земле, и я чувствую, что со мной обходятся очень плохо, потому как меня лишили возможности общаться с дочерью. Ведь я не смею привезти ее ко двору, опасаясь того, что она здесь увидит. И я одинока. Вы ко мне совсем не заходите. Генрих грохнул кубком об стол: – У вас нет причин жаловаться на плохое обращение, Кейт, вы все еще королева, хозяйка в своем собственном дворе и можете делать, что вам угодно. Не обвиняйте меня в том, что я не думаю о Марии. Я тоже считаю, ей лучше сейчас не бывать при дворе. А вас я не посещал потому, что был очень занят. Кардинал оставил дела в большом беспорядке. И я вам не законный супруг. Меня в этом уверяли многие ученые доктора. – Доктора! – воскликнула Екатерина, начиная горячиться. – Вы сами прекрасно знаете, без помощи всяких докторов, что вы мой муж и ваше дело не имеет под собой никаких оснований. Меня не волнует мнение ваших докторов! Генрих вспыхнул. Глаза его пылали злобой. – Предупреждаю вас, мадам, я намерен опросить университеты и узнать их мнение насчет моего дела, и, если они выскажутся в мою пользу, я не замедлю отправить их заключение в Рим. А затем, если папа не объявит наш брак недействительным и не аннулирует его, я обвиню его в ереси и женюсь, на ком захочу! Екатерина пришла в ужас, слыша, как король произносит такие речи, и про себя взмолилась: пусть все это окажется пустыми угрозами! – Вы знаете, чего стоят мнения университетов в противовес авторитету Рима, – сказала она ему, – и вам также известно, что лучшие адвокаты Европы высказались в мою поддержку. Позвольте и мне собрать мнения, как делаете вы, и на доводы каждого вашего доктора или адвоката я найду тысячу подтверждений того, что наш брак законен. Генрих встал, лицо его побагровело. – Я не останусь здесь выслушивать ваши злые речи! – прорычал он. – Пойду поищу себе более приятную компанию. Громко топая, он вышел и захлопнул за собой дверь. Рубашка, которую Екатерина много часов вышивала с любовью, осталась лежать на полу.
Екатерина пребывала в большой печали. Казалось, основания ее мира рушились. Угрозы Генриха привели в трепет все ее существо до самых глубин. Теперь она беспокоилась не только о спасении души супруга, но и о будущем всего христианского мира. Ведь если короли вроде Генриха начнут ставить под сомнение авторитет и власть папы, трудно даже представить, к каким ужасным последствиям это приведет! Екатерина печально размышляла об этом, когда у нее попросил аудиенции Шапуи. – Нет ли известий из Рима? – спросила она, но по выражению лица собеседника поняла, что нет. – Король сделал отца Леди герцогом Уилтширским, и теперь все должны величать ее леди Анной Болейн. Ее брат тем временем становится лордом Рочфордом. «Генрих готовит ее к тому, чтобы сделать королевой, – подумала Екатерина. – Жениться на дочери герцога не так унизительно, как взять в жены дочь рыцаря. Да поможет нам Бог!» Она предложила Шапуи сесть. – Король устроил в Уайтхолле банкет, чтобы отпраздновать это событие, и Леди сидела рядом с ним на троне королевы, – рассказывал посол. – Сожалею, что эти новости приходится сообщать вам именно мне, но, мадам, это очень напоминало свадебный банкет. Были и танцы, и возлияния, казалось, не хватало только священника, чтобы раздать обручальные кольца и произнести благословение. Екатерину замутило. – Я не хочу этого слышать. – На это нельзя закрыть глаза, мадам, – беспомощно развел руками Шапуи. – Король настолько ослеплен страстью, что я боюсь, как бы в один прекрасный день не произошло какого-нибудь безобразия. – Я тоже этого боюсь, – призналась Екатерина. – Думаю, дело теперь не в том, что способен совершить король, но в том, что он совершит.
Был канун Рождества. Екатерина с Марией и Генрихом наблюдала за тем, как в главный зал с веселыми шутками вносят святочное бревно и кладут в очаг, где оно будет гореть все праздники. Правда, Генриху, похоже, это не доставляло никакого удовольствия. Весь вечер он ершился, без сомнения, потому, что его зазноба уехала в Хивер, а из Рима до сих пор не поступало новостей. Екатерина заметила, что Мария наблюдает за отцом с выражением недоумения на задумчивом маленьком личике. Королева неустанно молилась о том, чтобы Климент как можно скорее сказал свое слово: только это могло удержать Генриха от опрометчивых поступков. К концу вечера, когда Мария отправилась в постель, королю и королеве подали гиппокрас и марципановые конфеты. Екатерина приняла их с улыбкой. – Не знаю, отчего у вас такой счастливый вид, – пробормотал Генрих. – Вам стоило бы задуматься о своем будущем. Голос его звучал невнятно: Генрих был немного пьян. – Я постоянно думаю о нем. – Тогда поразмыслите вот о чем: если папа вынесет решение против меня, я к нему не прислушаюсь. – Сир! – прошипела Екатерина. – Не могу поверить, что слышу такое. Молю вас, подумайте о своих словах и не забывайте о спасении вашей души. – О, я знаю, о чем говорю, мадам, – угрожающим тоном ответил Генрих. – Мне бы хотелось, чтобы вы поняли: я высоко ценю и уважаю Церковь Англии, так же как люди по ту сторону пролива ценят Святой престол. И если меня вынудят к этому, то я оторву ее от Рима. Екатерина собралась с духом: – Сир, это было бы противно всем истинно верующим, и я не могу поверить в искренность ваших намерений. Это пьяная болтовня, не более! – А вы не считаете, что столь долгое молчание папы – доказательство, что мое дело намеренно положили под сукно? А раз так, почему бы мне не взять инициативу в свои руки? – Я умоляю вас подождать! – не отступалась Екатерина, стараясь не повышать голоса, потому что люди вокруг с любопытством присматривались к ним. – Я не могу и не буду ждать ни дня больше! – артачился Генрих. – Означает ли это, что вы окончательно оформили свои отношения с леди Анной? – Екатерина удивилась собственной дерзости, но этот вопрос должен был быть задан. – Нет! – накинулся на нее Генрих. – А очень хотелось бы!
– Король утверждает, что она не его любовница, – сказала Екатерина Шапуи два дня спустя, когда тот попросил о срочной аудиенции. – Не знаю, верить ли этому. – Многие говорят, что любовница, хотя это ничего не меняет, лишь подтверждает всеобщее невысокое мнение о ней. Но я пришел сообщить вашей милости нечто такое, что может вам помочь. Соглядатаи донесли мне, что король некогда домогался ее сестры. – Марии Кэри? – Екатерина не могла в это поверить. – Никогда! – Очевидно, что это правда. По слухам, один из ее детей – от короля. – Мой добрый друг, я не стану полагаться на слухи. Люди наболтают вам чего угодно, они обожают устраивать переполох. – Я получил эти сведения по крайней мере из двух надежных источников, мадам. Люди, имеющие касательство к этому делу, говорили о нем довольно откровенно. Подумайте о его значении: если король прислушивается к голосу совести, как он утверждает, то его новый брак гораздо ближе к кровосмесительству, чем ваш с ним. Ваша милость можете выставить его лицемером. Екатерина вздохнула: – Я наверняка знала бы об этом. У Марии Кэри сложилась особая репутация, это известно, но я не могу поверить, что между ней и королем существовала связь. А если ваши доносители ошибаются, ссылкой на это мнимое препятствие к браку я выставлю себя на посмешище в Риме. – Позвольте мне найти для вас доказательства, ваше высочество. Екатерина грустно улыбнулась: – Тот факт, что вы предлагаете сделать это, подтверждает мои подозрения. Ваши сведения ненадежны. Нет, мессир Шапуи, не нужно углубляться в эту историю. Я приказываю. Я все еще живу надеждой на то, что мой супруг в конце концов опомнится. В глазах Шапуи промелькнуло выражение сочувствия. Она понимала: он в это не верит. Но ведь он не знал Генриха так, как она. Стоит устранить влияние Анны Болейн – и король станет другим человеком.
Снова пришла весна. Екатерина ехала с Генрихом в Виндзор, деревья были в цвету, на лугах резвились ягнята, но на сердце у нее было тяжело. Король приказал Марии остаться в Бьюли, а от папы до сих пор не приходило ни слова. Думая, что сойдет с ума от досады и огорчения, Екатерина молила папу Климента скорее вынести решение, но ответа не было. Тем не менее ее порадовала любовь, которую тут и там изъявляли простые люди, когда она проезжала мимо. Генрих злился, слыша, как ей выкрикивают слова поддержки. Даже остановил своего коня рядом с ее носилками и резко приказал ей перестать кивать и махать рукой зевакам. И вот опять он явился в ее покои, нарушая царящий здесь мир и отрывая ее от составления нового послания к доктору Ортису, которого император недавно назначил представлять ее интересы в Риме. – Вы знаете, о чем говорят простые люди? Они распространяют слухи, что я со злости разлучил вас с Марией. Это ваша вина, мадам, вы уже давно поощряете их плохо отзываться обо мне. Что ж, я покончу с этой чепухой. Марию привезут сюда, и все эти слухи окажутся ложью. По крайней мере, это была хорошая новость, однако Екатерина понимала: Генрих вызывает Марию из Бьюли, где та жила с Рождества, только потому, что озабочен поддержанием своей популярности в народе. И все же, увидев дочь, Екатерина пришла в неописуемую радость. Они так давно не были вместе! – Мое дорогое дитя! – воскликнула Екатерина, встречая спешно прибывшую на следующий день в сопровождении фрейлин и слуг Марию. – Дайте мне посмотреть на вас! Мария быстро росла. Каждый раз при встрече с ней Екатерина замечала изменения. Принцессе было четырнадцать, она оставалась маленькой и худенькой, но появились и первые женственные изгибы фигуры. Мария сохранила детскую миловидность, и ее манеры были столь же приятными и очаровательными, как прежде. Тем не менее в ней все заметнее становилась постоянная настороженность, некая нервозная скованность, что беспокоило Екатерину. За спиной Марии стояла Маргарет Поул. Екатерина подняла ее из реверанса и тепло поцеловала, довольная воссоединением со старой подругой. – Мы поговорим с вами позже. Буду с нетерпением ждать этого. Конец дня Екатерина провела с Марией, расспрашивала об учебе, повседневной жизни, увлечениях. Ответы дочери ее безмерно радовали, но потом Мария сказала: – Дорогая матушка, я беспокоилась о вас. Екатерина оторопела: – Незачем беспокоиться обо мне. Со мной все в порядке. – Но его милость мой отец все еще пытается избавиться от вас. На лице девочки изобразилось такое страдание, что сердце Екатерины сжалось. – Мы оба ждем, когда папа провозгласит свое решение по поводу нашего брака, – произнесла она осторожно. – Я уверена, он скоро сделает это. Тут не о чем беспокоиться. Мы с вашим отцом так же дружны, как прежде. Если бы только это было правдой! – Но он все время с леди Анной. Мария, казалось, вот-вот расплачется. Екатерина сделала над собой невероятное усилие: – Он женится на ней лишь в том случае, если ему не позволят вернуться ко мне, чего, разумеется, он желает. Однако это маловероятно, так что, пожалуйста, не переживайте из-за этого. А теперь дайте мне послушать, как вы играете на вёрджинеле! Мария смотрела на мать постаревшими прежде времени глазами, и в них светилось убеждение: мать глупа, если верит в только что произнесенную чушь. Но девочка знала, как ей подобает вести себя, и вслух ничего не сказала. Пока Мария играла – и играла превосходно, – вошел Генрих. Принцесса немедленно сделала грациозный реверанс, потом встала на колени, чтобы получить его благословение. Он заключил ее в объятия. – Как дела у моей дорогой девочки? – спросил король, смущенно отводя глаза. – У меня все хорошо, сир. Надеюсь, у вашей милости тоже. – Это было прекрасное исполнение, – похвалил Генрих. – Я слышал, когда подходил к дверям. Он сел рядом с Екатериной. Мария испытующе смотрела на них обоих. – А как у вас продвигается учеба? – спросил король. Какое приятное начало, почти как в старые времена. Генрих пробыл с ними два часа и даже развеселился. Любовь к Марии была в его жизни чистым родником – в этом чувстве не было ничего притворного, и оно объединяло его с нелюбимой супругой. Когда Генрих ушел, Екатерина почти не сомневалась, что страхи Марии утихли.
– Принцесса, конечно, переживает, – признала позже Маргарет Поул. Мария уже ушла спать, а они с Екатериной засиделись за поссетом[18], который принесла из сервировального зала главной кухни Бланш де Варгас. – Она ничего не говорит, но явно знает больше, чем показывает. – Это неудивительно, если учесть, насколько известным стало это дело. К счастью, его милость провел с нами некоторое время сегодня после обеда, и я полагаю, Мария немного успокоилась. Но, Маргарет, меня тревожит, как это может сказаться на ней. Проволочка с вынесением решения не идет на пользу. Принцесса становится старше и умнее, и мы не можем вечно ограждать ее от жизни. – Успокойтесь, дорогая мадам, я буду и дальше делать все, что смогу, дабы защитить ее, – пообещала Маргарет. – Не могу выразить, как я вам благодарна. Вы мой верный друг. И совершенно очевидно, что Мария расцвела под вашей опекой. Екатерина улеглась спать с чувством некоторого облегчения. Мария была с ней, и это прекрасно. К тому же ее утешала мысль, что дочь в хороших руках и так будет даже тогда, когда сама она не сможет быть рядом. Однако на следующее утро, когда она занималась с Марией переводом с французского, явился посланец с известием: король покидает Виндзор и уезжает в Уайтхолл, а они с принцессой должны оставаться здесь, пока Марии не придет время возвращаться к своему двору в Хансдон. Он покидал их, даже не попрощавшись, и уезжал к своей любовнице. Екатерина силилась скрыть свое уныние от Марии, но вновь заметила в глазах дочери тревогу. В сердце королевы разгорелась ярость против Генриха, который поступал так с их драгоценным единственным ребенком.
Уолси отослали на север, в Йорк, где он должен был выполнять обязанности архиепископа. – Леди предпочла бы видеть его арестованным за измену, но король отказался преследовать кардинала, – говорил Шапуи, пока они стояли в саду Бьюли и наблюдали за тем, как придворные на солнцепеке играют в шары. Посол понизил голос. – Леди – опасный противник. Она неустанно строит козни против кардинала. – Благодарю Господа, что король пока еще противится ее требованиям, – вполголоса ответила Екатерина. – Уолси мне никогда особенно не нравился, и другом моим он не был, но мне больно видеть, что к нему проявляют такую неблагодарность. По крайней мере, за ним остался пост архиепископа Йоркского. – Все говорят, он исполняет свои обязанности усердно и с достоинством, – сообщил Шапуи, а потом громко крикнул: – Браво! И все зааплодировали. – Раньше я порицала его приверженность к мирским благам, – сказала Екатерина, когда внимание зрителей вернулось к игре. – Все эти привилегии, высокие чины, и ни намека на благочестие. Теперь, попав в опалу, он обрел свое истинное призвание. – Я должен сообщить вам кое-что интересное, ваше высочество. – Шапуи склонился к ее уху. – Похоже, кардинал не совсем устранился с политической сцены. Я получил от негописьмо с вопросом, как продвигается ваше дело, и требованием немедленных и решительных действий. Он, очевидно, считает, что, как только это дело устроится, у него появится хороший шанс снова вернуться к власти. – Кардинал действует в моих интересах? – ошарашенно спросила Екатерина. – Думаю, он все время был на вашей стороне, мадам. Мне сообщили из Мадрида, что он поддерживает императора в его просьбе к папе приказать королю расстаться с Леди, пока не вынесено окончательное решение. – Ну что ж, я удивлена, если не сказать больше. И благодарна императору за его старания помочь мне. – Мой господин не перестает давить на его святейшество, чтобы тот вынес вердикт в вашу пользу. Тем не менее он опасается, что король женится на Леди независимо от того, даст на это согласие папа или нет, и в связи с этим дал мне особые полномочия действовать в ваших интересах. – Мой дорогой друг! – Екатерина была тронута до глубины души, Шапуи с каждой встречей нравился ей все больше. – Если бы вы знали, как важна для меня поддержка ваша и вашего господина! Шапуи зарделся от удовольствия. Он склонился над рукой Екатерины и поцеловал ее: – Я горд, что служу такой добродетельной и сильной духом даме.
Лето постепенно меркло и превращалось в холодную, хлещущую ветрами осень. Екатерина обняла свою любимую дочь, помогла ей забраться в носилки и провожала их взглядом, пока они не скрылись из виду. Потом вместе с двором вернулась в Ричмонд, испытывая сильное беспокойство по поводу своего будущего. – Думаю, папа отвернулся от меня, – поделилась она сомнениями с Шапуи. Они прогуливались по крытой галерее, окружавшей сад. Фрейлины держались позади на приличном расстоянии. – Уже год мы ожидаем решения, а все это ужасное дело тянется уже больше трех лет. – Вашему высочеству простительны такие мысли. Это не из-за недостатка давления. Император, доктор Ортис и я сам – все мы побуждали его святейшество прийти к какому-нибудь заключению. И король тоже делал это много раз, я в этом не сомневаюсь. Екатерина тоже не сомневалась. Там, где другие просили, Генрих угрожал и запугивал. Он сейчас был как затравленный медведь. Злоба на бесконечные отсрочки и недовольство тем, что все идет не так, как хотелось бы, изменили его. Он был не так добр, не так деликатен, более остер на язык, более подозрителен и склонен к вспышкам устрашающего гнева. Королева с беспокойством взглянула на Шапуи: – Теперь решение еще более необходимо, чем прежде. Принцесса повзрослела и слишком хорошо понимает, что происходит. Я не хочу держать ее в этом состоянии беспокойства и довести дело до того, что ее вера в Святой престол поколеблется. – Мадам, король идет, – внезапно произнес Шапуи. – Будет лучше, если я удалюсь. Он поклонился и скрылся в дверном проеме, как раз когда впереди воздвиглась фигура Генриха. Целенаправленно, большими шагами тот двигался прямиком к Екатерине. Ей сразу стало ясно, что супруг в плохом настроении. – Ну, Кейт, что вы думаете об этом последнем предложении Рима? Тем самым его святейшество утрачивает всякое доверие и оказывает самому себе дурную услугу. – Почему, сир? Объясните мне, что он говорит? – Его святейшество высказался в том духе, что мне может быть позволено иметь двух жен, и если он разрешит это, то будет меньше скандала, чем в случае аннулирования брака. – Генрих фыркнул, выражая отвращение. Екатерина пришла в ярость: – Но это противоречит всем установлениям Писания! – Она была потрясена не только самой идеей, но и тем фактом, что папа – наместник Христа! – предлагает такое. – Я не могу понять, что может быть скандального в признании нашего брака законным. – А я могу! – ответил Генрих, гневно взирая на нее. – Скандал в том, что мы прожили в грехе все эти годы. – Я нахожу более скандальным то, что вы придумали такое! – парировала уязвленная Екатерина. Она не могла вынести, чтобы кто-нибудь считал ее женщиной, способной жить с мужчиной в грехе. – Совесть подсказывает мне, что я прав, – возразил Генрих, – а я почитаю свою совесть наивысшим и справедливейшим судьей. Я знаю, что моими поступками руководит Бог. – Откуда вы знаете? Должна сказать, это довольно самонадеянно, и к тому же вы не принимаете во внимание то, что моя совесть говорит мне обратное. – Вы, Кейт, всегда придерживались субъективных взглядов, основанных на недостоверных фактах. – Голубые глаза Генриха сузились. – Но я предупреждаю вас: мое терпение на исходе. Больше я не потерплю никакого неповиновения. Что там затеял ваш духовник отец Эйбелл? Екатерина почувствовала, как волоски у нее на шее встали дыбом от страха. Этот добрый, смелый человек был не просто преданным другом – он писал трактат в ее защиту… – Я слышал, он намеревается опубликовать книгу, в которой отстаивает мнение, что никакие законы не дают мне оснований для развода, – сказал Генрих. – Что ж, этого не будет. Если он посмеет выпустить книгу, я запрещу ее и уничтожу все экземпляры. Это послужит ему уроком: бросая мне вызов, он сильно рискует. – Вы не причините ему вреда? – спросила Екатерина, исполненная страха за своего верного капеллана. – Нет, если он оставит свою мерзкую затею. Но коль скоро он станет упорствовать в своем вредительстве, это будет совсем другое дело. – Значит ли это, что вы запрещаете людям высказываться в мою защиту? И будете наказывать их, если они на это осмелятся? – Я буду наказывать тех, кто защищает то, что не нужно защищать! – рявкнул Генрих. – Берегитесь, Кейт, и не вздумайте подстрекать своих друзей к неповиновению! Екатерина так испугалась, что не могла спорить. Как далеко готов зайти Генрих? Были ли эти последние угрозы высказаны в запальчивости, или он действительно вознамерился подчинить своей воле всех противников?
Глава 27 1530–1531 годы
Уолси умер. Элизабет Стаффорд сообщила Екатерине подробности о кончине кардинала. Несмотря на печальные обстоятельства, Екатерина была рада видеть герцогиню, потому что та теперь редко появлялась в ее свите. Герцог, муж Элизабет, с которым они больше не были близки, состоял в партии Анны Болейн и не одобрял дружбу супруги с королевой. Но герцогиня презирала своего мужа за преданность не той стороне и постоянные измены; она хваталась за любую возможность поддержать Екатерину. – Конечно, мой супруг не рассказал мне всех подробностей, потому что вообще отказывается разговаривать со мной, – сказала Элизабет, округляя глаза. – Я получила известия от своего сына Суррея. Мой супруг был послан в Лестер, чтобы привезти кардинала в Лондон, где его должны были судить за измену, но Уолси свалился от болезни в Лестере, и монахи положили его в свой лазарет. Вскоре после этого он умер, и его похоронили там же, в аббатстве. Когда он лежал на смертном одре, то сказал: «Если бы я служил Богу так же усердно, как королю, Он не оставил бы меня, когда я дожил до седых волос». Екатерина перекрестилась. – Я буду молиться о его душе, – сказала она хриплым голосом. Это было последствие лихорадки, сопровождавшейся кашлем, которая сотрясала ее последние несколько недель. Екатерина удивилась, как взволновало ее известие о смерти Уолси, но объяснила это тем, что сама только-только пошла на поправку и была еще слаба. Генрих не потрудился навестить ее. Он развлекался в Хэмптон-Корте с Анной Болейн. Лишь прислал супруге записку с извинениями, что не посещает ее лично, оправдываясь дошедшими до него слухами о поразившем Ричмонд поветрии. А потом, невзирая на то что Екатерина была прикована к постели, тряслась и пылала жаром в лихорадке, снова издевательски предложил ей уйти в монастырь. – У них нет жалости, ни у кого! – прошипела Элизабет. – Моего лорда ни капли не волновали страдания Уолси, так же как и герцога Саффолка. Они даже слова утешения ему не сказали. Екатерина легко могла себе это представить. Люди короля, оба они не ведали жалости. – Все это происходит по злому умыслу госпожи Анны, – говорила герцогиня, когда в комнату вошли Мария и Гертруда. – У меня нет сомнений в том, что именно она упросила короля арестовать кардинала. – Должно быть, это правда, потому что брать кардинала под стражу отправили Генри Перси! – воскликнула Мария. Она поставила на стол рядом с креслом Екатерины горячий поссет и накрыла одеялом ноги своей госпожи; стояли жестокие зимние холода, и королеву нужно было держать в тепле. – Весь двор судачит об этом! – Это справедливо, что выбор пал на него, – едко заметила Гертруда, наклоняясь, чтобы пошевелить горевшие в очаге поленья. – Никогда не думала, что скажу такое, но мне жаль Уолси, – призналась Екатерина. – Такая бесславная кончина! – Лучше уж умереть без славы, чем под топором палача, – заметила Мария. – Кто-то мог бы сказать, что он получил меньше, чем заслуживал. – Мы должны быть милосердными, моя дорогая, – укорила ее Екатерина и сделала глоток поссета. – Не могу поверить, что его милость дошел бы до того, что казнил кардинала, который исполнял свой священный долг. Как бы это отразилось на его деле в Риме?Генриха кончина Уолси, похоже, оставила равнодушным. – Он обманул мои ожидания, но я не желал его смерти, – сказал он, когда наконец пришел навестить Екатерину. Она приняла эти слова за доказательство: король никогда не решился бы казнить кардинала. А вот ненависть Анны Болейн к Уолси не утихла и после смерти кардинала. Узнав, что при дворе должно состояться представление масок, Екатерина присоединилась к Генриху на помосте, чтобы поучаствовать в вечернем развлечении, но была неприятно поражена: это оказался жестокий фарс о сошествии Уолси в ад, придуманный Джорджем Болейном. Было похоже, что все находят представление уморительно-смешным: глядя, как демоны тащат в огненную яму королевского шута в красном наряде на толстой подкладке, придающей фигуре тучность, публика хохотала до упаду. А Екатерину мутило при виде каменного лица Генриха и сидевших в отдалении ликовавших триумфаторов – Анну и ее родственников. При первом же удобном случае королева покинула зал.
Шапуи был упорен. Он не переставал давить на императора, чтобы добиться окончательного решения по волновавшему Екатерину делу. Посол понимал, что это необходимо сделать как можно скорее, даже если больше никто, казалось, не придерживался такого мнения. – Король не остановится ни перед чем, чтобы удовлетворить свою слепую, отвратительную и порочную страсть к Леди! – заявил он однажды, когда они с Екатериной возвращались из церкви после мессы. – Опрос университетов продолжается, и Леди готовится стать королевой. – Меня беспокоит то, что в наши дни в университетах становится все больше людей, которые придерживаются радикальных и даже еретических взглядов, – сказала Екатерина, проводя посла по секретной лестнице в свои покои. – Ересь Лютера распространяется. Похоже, слово Божье оспаривают все и вся, а уважение к Церкви неуклонно идет на убыль. Если бы его святейшество высказался и разрушил все их доводы! – Не падайте духом, мадам. На каждого радикального доктора найдется, вероятно, десять человек с устойчивыми взглядами, – успокаивал ее Шапуи. Они добрались до апартаментов королевы, где по распоряжению Екатерины ее дамы накрыли ужин для двоих. – Ваша милость, вы очень добры, что пригласили меня! – воскликнул Шапуи. Они сидели, пока служанки повязывали им салфетки и разливали вино, потом отломили и положили на маленькие тарелки по куску белого хлеба и принялись за сытное жаркое из оленины. – Это развеселит вашу милость, – завел разговор Шапуи. – Вчера герцогиня Норфолк сказала мне, что Леди поручила Гербовой палате нарисовать родословное древо, которое возводило бы ее род к нормандскому лорду, который обосновался в Англии четыре столетия назад. – Я думала, ее предки были торговцами, – вставила Екатерина. – Думаю, так и есть, эта генеалогия явно вымышленная, и король этим очень недоволен. Но еще больше он расстроился, когда узнал, что Леди снабдила своих слуг новыми ливреями, на которых вышит девиз: «Ainsi sera, groigne qui groigne» – «Так будет, сколько ни брюзжите». Екатерина засмеялась. Они с Шапуи прекрасно знали, что настоящий девиз был такой: «Groigne qui groigne, vive Bourgogne!» – «Сколько ни брюзжите, да здравствует Бургундия!» Это был девиз императора и его предков, герцогов Бургундских. – Да, мадам, король объяснил ей, чей это девиз, и сказал, что она не должна заставлять своих слуг носить эти ливреи. – Шапуи ликовал. – Она была убита! – Жаль, что король не приструнил ее другим способом, – сказала Екатерина, макая хлеб в острый соус. – Взять, к примеру, последнее представление масок. Это был скандал. И король позволил ей сделать это. – Когда-нибудь он устанет от ее выходок, а мы будем молиться об этом. – Этот день придет не скоро! – с некоторой горячностью проговорила Екатерина.
В Рождество Екатерина вместе с Генрихом участвовала в традиционных торжествах в Гринвиче. Она очень обрадовалась, что Мария тоже была там, хотя ее весьма встревожил затравленный вид дочери и выражение страдания, которое появлялось на ее лице при каждом упоминании Анны Болейн или ее появлении. А та часто давала почувствовать свое присутствие, при этом проявляя мало почтения к королеве и принцессе. – Терпеть ее не могу! – вырвалось у Марии, когда они остались наедине с матерью. – Она злая женщина. Как может мой отец так поступать с вами, мадам? – Ш-ш-ш, дитя! Вы не должны так говорить о своем отце и должны быть снисходительны к ней ради него. – Матушка, вы обладаете терпением святой! – воскликнула Мария. – Я не могу быть такой, как вы, как бы ни старалась. Екатерина содрогнулась. Неужели это ее кроткая почтительная дочь? Но в глазах Марии стояли слезы. При виде их Екатерину охватила злость. Почему жизнь ее любимой дочери должна быть отравлена? Генриху не следует при ней выставлять напоказ свою любовницу, это недопустимо! Накануне Рождества король пришел к Екатерине. Она была готова к встрече. – Вы подаете дурной пример, выставляя напоказ свою связь с леди Анной! Мария очень расстроена тем, что ей приходится быть свидетельницей этого. – Как я вам уже говорил, мадам, в моих отношениях с леди Анной нет ничего дурного! – резким тоном ответил Генрих, явно рассердившись. – Я намерен жениться на ней и сделаю это, что бы ни сказал папа. Марии лучше привыкнуть к этой мысли. Он был непоколебим. Екатерина выбрала неудачный час, потому что за время праздников стало ясно: он очень жалеет самого себя. Даже в Двенадцатую ночь, когда они вместе сидели на тронах, было устроено представление масок, игры и роскошный банкет, Генрих оставался исполненным жалости к себе и беспрестанно брюзжал о нескончаемых отсрочках в Риме и о том, как плохо к нему относится папа. В конце концов Екатерина оставила попытки добиться от супруга проявлений веселости, хотя бы ради Марии. Ей было почти жаль его. Он сам устроил это безумие, и все же она верила, что его сбили с толку. Раньше она считала ответственным за это Уолси, но теперь точно знала, кто виновник. А Генриха настолько поработили чувства, что он ничего не замечал! Екатерина не сомневалась: несмотря на все угрозы и недоброжелательство, его природные добродетели в конце концов возьмут верх. Если бы только она могла провести с Генрихом достаточное время – всего два или три месяца – так, как было раньше, то заставила бы его забыть о разводе. Но конечно, Анна была умна. Она понимала, что сердце Генриха на самом деле принадлежит жене, поэтому старалась не допускать того, чтобы он оставался один на один с Екатериной. А пока Генрих находился в обществе Анны, он не мог избавиться от ее влияния. Первый день нового года только занялся, как в покои Екатерины явился встревоженный Шапуи. – Ваше высочество, хорошо осведомленный джентльмен сообщил мне, что брак короля с Леди будет заключен во время ближайшей сессии парламента. – Этого мы боялись и в прошлом году, и в позапрошлом, – напомнила ему Екатерина. Голос ее звучал бодро, хотя особой бодрости она не ощущала. – И до сих пор ничего не случилось. Как бы там ни было, а король не может жениться на ней, не получив сперва развода. – Я слышал, Леди вполне уверена в этом. Мария, которая присутствовала при разговоре, фыркнула: – Она храбрее льва! Знаете, что она сказала мне позавчера вечером? Сказала, что желала бы увидеть всех испанцев тонущими в море. Я возразила ей, что такие речи – неуважение к ее госпоже королеве, на это она ответила, что ее не волнует королева и она предпочла бы видеть ее повешенной, чем признавать своей госпожой. – Вы видите, какие у нее ужасные планы, – вмешался Шапуи, явно разозлившись. – Меня не волнует, что думает леди Анна, – сказала Екатерина. – Ее враждебность коренится в неуверенности. – Фу ты! Простите, мадам, но она с каждым днем становится все заносчивее, даже с королем! – не унималась Мария. – Герцогиня Норфолк говорит, он несколько раз жаловался герцогу, что она не такая, как ваша милость, и что вы никогда в жизни не говорили ему бранных слов. И когда король это произнес, в глазах у него стояли слезы. Екатерина тоже почувствовала, что вот-вот расплачется. Трудно было представить, что Генрих мог в положительном смысле сравнивать ее с Анной, но, вероятно, он наконец начал приходить в себя. – Скоро он от нее устанет, помяните мое слово, – сказал Шапуи. – Дай Бог, чтобы это случилось поскорее! – выдохнула Екатерина.
В эти дни Генрих пребывал в еще более гневливом настроении. Папа наконец приказал ему явиться в Рим и выступить в защиту своего дела. – Мне дела нет до его вызова! – рычал Генрих однажды темным январским вечером, сидя напротив Екатерины за обеденным столом. Лицо его пылало в неверном свете свечей. – Но, Генрих, – возразила Екатерина, – это же путь к разрешению нашего дела. – Вы думаете, я поеду в Рим как истец?! – взревел король. – А что станет с моим королевством? Я буду отсутствовать месяцы, а то и годы, учитывая нерешительность Климента. Нет, Кейт, для меня с папой покончено. От его слов у нее похолодело сердце. Он уже грозил этим прежде, но почему-то на этот раз его слова прозвучали не пустой угрозой. – Господин мой, умоляю вас: обдумайте хорошенько свои слова! – Я мало о чем другом думал в последнее время! – заорал Генрих. – И пришел к убеждению, что Английской церкви лучше иметь главой меня, короля, чем хранить верность этому слабому, не способному ни на какое решение папе. Екатерина от ужаса выронила нож и сидела не шевелясь, – настолько ошеломили ее еретические речи мужа. Он замахивался на все, что она почитала святым. Если Генрих отречется от Святого престола, это будет означать раскол и ниспровержение религии. Это может вызвать войну. Она должна остановить его любой ценой. Екатерина встала, обошла вокруг стола, потом тяжело опустилась на колени. – Сэр, вы известны как добрый сын и защитник Церкви, – увещевала супруга она. – Я умоляю вас, не порывайте с Римом! Это было бы деянием дьявола! Разумеется, Екатерина очень хорошо понимала: за всем этим стоит Анна. Анна и ее партия, горячие сторонники ереси Лютера и враги Истинной церкви. В них этот дьявол и есть! – Кейт, поднимитесь, – сказал Генрих. – Если кто-нибудь и вошел в сговор с дьяволом, так это Климент. Он служит мамоне, а не Господу. Он должен бы защищать и распространять Закон Божий, а вместо этого из политических соображений уклоняется от своих обязанностей. Как может наместник Христа пасть так низко? Вы должны согласиться – это позор! Самым ужасным было то, что она была согласна. И все же уважение к Святому престолу настолько крепко укоренилось в ней, что она не могла заставить себя осудить папу. – Но он вызвал вас, Генрих. Он скоро вынесет решение. Король нахмурился: – Меня его решения не интересуют!
Вскоре стало ясно, что король говорил серьезно. Однажды вечером за ужином Шапуи сообщил Екатерине, что в Вестминстере собирается духовенство. – Думаю, это будет очень важное собрание, ваше высочество, и король хочет, чтобы епископы дали согласие на какое-то очень значимое для него дело. Екатерина сглотнула. Неужели Генрих собрался исполнить свою угрозу и готов развестись без помощи папы? А если так, что будет с ней? Она подозревала, что ее ждет полная изоляция. Именно этого Генрих, вероятно, и добивался. – Надеюсь, никаких крайностей не будет, – сказала она, отодвигая тарелку: аппетит совсем пропал. Последовала пауза – недолгая, в один удар сердца, и Шапуи спросил: – Ваша милость знакомы с Томасом Кромвелем? – Немного, – ответила Екатерина, делая знак Марии, чтобы та подлила вина. – Он состоял на службе у кардинала, и я полагаю, теперь переведен к королю. Иногда я вижу его при дворе. Это был представительный мужчина крепкого сложения, лет за сорок, с черными волосами и маленькими поросячьими глазками. Люди отзывались о нем как о человеке умном. – Его только что назначили членом королевского совета. – Почему вы об этом говорите? – Потому что это человек, готовый на многое, и король его высоко ценит. Как и кардинал, он из простолюдинов. Герцог Норфолк смотрит на него свысока, потому что тот – сын кузнеца, к тому же горячий сторонник реформы Церкви. Герцог, как вы знаете, большой консерватор и сноб. – Шапуи позволил себе мрачно улыбнуться, но лицо его тут же снова посерьезнело. – Томас Кромвель полностью за суверенное государство, поддерживаемое парламентом, законом и эффективной гражданской службой. В его видении будущего страны нет места Римской церкви. Держу пари, за созывом клира стоит именно он. Екатерина поежилась: – Похоже, у меня появился новый враг, с которым придется бороться. – Боюсь, что так. Я некоторое время наблюдал за движениями Кромвеля. Он держится радикальных убеждений. Хочет, чтобы Библия была доступна на английском языке и все могли ее прочесть. – Но толковать Писание – дело священников! Читать Библию на каком-то другом языке, кроме латыни, – это ересь. Король никогда не согласится на это. Он запретил перевод Уильяма Тиндейла. – Не стоит недооценивать Кромвеля, – предупредил Шапуи. – Это не Томас Мор. Для него важнее целесообразность, чем принципы, и он день ото дня набирает все больше власти на службе у короля. – Я этого не знала, – сказала Екатерина, теребя салфетку. – Мой супруг не упоминал о нем при мне. – Меня это не удивляет, ваше высочество. Его милость не любит раскрывать свои карты. Он предпочитает держать вас в неведении относительно происходящего. А Кромвель ведет себя при дворе тихо. Люди считают его всего лишь одним из советников. Но я знаю его. В Лондоне мы соседи и в этом качестве дружны. Кромвель доверяет мне – до известной степени. Он считает меня другом, я полагаю. Это может быть полезным. – Вам нравится этот человек? – Екатерина была удивлена. – В достаточной степени, ваше высочество, но есть многое, что нас разделяет. Он отличается приветливостью, но за ней многое скрывается. С виду кажется сдержанным, но стоит разговориться с ним, и внешняя суровость уступает место веселости и добродушию и он очень оживляется. Он прекрасный хозяин, исполнен любезности, всегда в хорошем настроении и стол держит обильный. Он был верен кардиналу даже после его падения и теперь как магнит влечет к себе тех, кто был раньше близок к Уолси. И в то же время Кромвель обладает умом, который может быть холодным и расчетливым, а когда дело доходит до политики, отбрасывает человеческие чувства. Люди начинают ощущать, что у него есть влияние, и искать его благорасположения. Я не сомневаюсь, он стремится постепенно сделаться незаменимым для короля, и мне бы хотелось, чтобы вы были настороже. Ваша милость, вы не едите. – Шапуи предложил Екатерине еще кусочек фазана, но она покачала головой. – Норфолк и Саффолк ненавидят Кромвеля, – продолжил посол. – Они называют его деревенщиной, но только потому, что он затмевает их в королевском совете. Разумеется, Болейны взяли его под крыло, Леди называет Кромвеля своим человеком, и я не сомневаюсь, что он работает в ее пользу, рука об руку с доктором Кранмером. – Это больше всего тревожит меня, – сказала Екатерина. Сколько сил сплелось воедино, чтобы сломить ее волю и лишить Марию законных прав! Самой заметной и самой зловещей из этих сил оказывался беспринципный Томас Кромвель. – Да, ваше высочество, это тревожно, даже пугающе. На этой неделе Кромвель сам сказал мне, что королю незачем ждать согласия папы на развод. Он говорит, что каждый англичанин – хозяин в собственном доме, так почему бы его милости не вести себя по-хозяйски в Англии? С какой стати король должен делиться властью с каким-то чужестранцем-прелатом? Иначе его милость лишь наполовину король, а англичане только наполовину его подданные. – Боюсь, то же самое он уже сказал моему супругу. Екатерина отложила смятую салфетку; она дрожала за будущее своей дочери и страны, которая стала для нее второй родиной. – Пожалуй, я тоже этого опасаюсь, – с тревогой в глазах отозвался Шапуи.
Заседания парламента продолжались. Каждый день Екатерина в трепете ожидала новостей. Когда в один ясный морозный день в начале февраля Шапуи попросил разрешения прогуляться с ней по ее личному садику, где она дышала воздухом, Екатерина поняла, что он принес плохие новости. – Ваше высочество, есть тут какое-нибудь уединенное место, где мы могли бы поговорить? По тону посла было ясно: дело не терпит отлагательств. – Сидеть здесь слишком холодно. Пройдемте в мои покои. Идя по дорожке в направлении своих апартаментов, Екатерина услышала тихий шорох за живой изгородью и уловила почти неприметное движение за плотной стенкой из ветвей. Она остановилась и приложила палец к губам. – Кто там? – спросила королева. Никто не отозвался. Ей показалось, что за изгородью кто-то стоит, затаив дыхание. – Я знаю, что вы там! Выходите сейчас же! Шапуи склонил голову в сторону изгороди и одними губами сказал, что пойдет и посмотрит. Екатерина кивнула, и посол удалился в соседний садик. Вернулся он быстро. – Там никого нет, ваше высочество. – Не думаю, что я ошиблась. – Я тоже слышал, – подтвердил Шапуи. – Там никого не должно быть. Это мой личный сад. Екатерина пошла дальше, глубоко озадаченная. – Я помню, как за мной шпионили слуги кардинала, но они делали это открыто, изыскивая разные предлоги. Думаю, сегодня за мной следили. Или я все придумываю? – Вовсе нет, ваше высочество. – Шапуи нахмурился. – Говорят, шпионы Кромвеля повсюду, и я бы не удивился, узнав, что он надзирает за вами. Король опасается, как бы вы не связались с императором. Я тоже чувствую, что нахожусь под наблюдением. Они добрались до покоев Екатерины. Королева отпустила фрейлин и села у камина. – Подходите и погрейтесь, – пригласила она Шапуи. – А теперь расскажите мне новости. Не утаивайте ничего. Я должна знать, что происходит. Шапуи глубоко вдохнул: – Этим утром, ваше высочество, король выступил перед парламентом и потребовал, чтобы Церковь Англии признала его своим главой. – Господи, защити нас! – воскликнула Екатерина. – Парламент, конечно, отказал ему. – Нет, мадам. Даже духовенство не протестовало. Никто не смеет бросить вызов королю. Мне сказали, членам парламента, которые поддерживают вас, каждый день предоставляется отпуск. Мне это кажется зловещим. – Вы считаете, парламент подчинится и введет в действие закон, который сделает короля главой Английской церкви? – Думаю, так и будет. – Помоги нам Бог!
Через несколько дней к Екатерине явился Генрих. Взгляд у него был стальной, держался он высокомерно. Она поняла, что он не настроен терпеть никаких возражений. Отпустив ее фрейлин, Генрих сел и наклонился вперед, поставив унизанные перстнями руки на колени: – Посол императора наверняка сообщил вам о том, как обстоят дела в парламенте, мадам? – Разумеется, сир, – ответила Екатерина, собираясь с духом, чтобы дать отпор. – И я должна сказать… Но Генрих не стал выслушивать то, что она намеревалась ему сообщить. – Вам следует быть в курсе дела, – продолжил он. – Архиепископ Уорхэм сообщил мне, что духовенство готово признать меня верховным главой Церкви Англии, насколько это позволяет закон Христов. – Он этого не позволяет! – Екатерина вспыхнула, решившись привести супруга в чувство. – Кто вы такой, чтобы присваивать себе власть наместника Христа на земле? Вы можете запугать ваш клир в Англии, но никогда не убедите в законности этого весь мир. Вас станут называть еретиком, ни один монарх не захочет быть вашим другом. – Довольно, мадам! – заорал Генрих. – Я пришел сюда не для того, чтобы поинтересоваться вашим мнением! Я пришел сказать вам, чтобы не получилось какого-нибудь недопонимания: Английская церковь больше не признает власти Святого престола и отныне и впредь мы будем обращаться к папе как к епископу Рима. – Генрих, вы не можете так поступить! – не сдавалась Екатерина. – Вы скоро узнаете, что могу. Я буду королем и папой в своем королевстве и сам позабочусь о духовном благополучии своих подданных. В моей Церкви не будет корыстолюбия, потому что это не Рим! И я сурово покараю всякого, кто осмелится противостоять мне! – Генрих сверкал глазами, будто провоцировал ее сделать это. – Генрих, мой дорогой господин, что с вами случилось? Кто повлиял на вас, что вы склонились к такому ужасному и вредному решению? – А вы не допускаете, Кейт, что у меня есть своя голова! – рявкнул Генрих. – Я не чья-нибудь кукла! Разве вы не понимаете, что я всего лишь возвращаю Английскую церковь к ее священным истокам? В прежние времена папы забрали власть у моих предшественников, а я и мои люди – мы больше не потерпим этого. Я имею право быть верховным правителем в своем королевстве, каким был когда-то король Артур, и отныне не признаю никого превыше себя, кроме Бога. Вы слышите меня? – Я слишком хорошо вас слышу! – отозвалась Екатерина. – Меня ужасает то, что ради женитьбы на леди Анне вы готовы расколоть христианский мир. Генрих вскочил и одним прыжком оказался рядом с ней. Он наклонился так, что почти уткнулся лбом в лицо Екатерины, в глазах его застыл лед. – Не мешайте мне, мадам, и не приписывайте мне бесчестных мотивов! Я не потерплю, чтобы вы ставили под сомнение мои решения! – Он выпрямился. – Теперь я вас оставлю, чтобы вы могли обдумать сказанное и определить свою позицию. «Стоило ли мне доживать до этого дня», – подумала Екатерина, когда дверь за Генрихом закрылась. Чудовищность того, что он делал, была непостижима. Что станет с ними, со всеми жителями Англии, с благочестивой юной Марией? И как она сама вынесет жизнь в отрешении от Истинной церкви? Лишенная духовного наставничества и утешения, она будет проклята и все королевство вместе с ней! Будущее ужасало ее.
Полчаса спустя явился Шапуи. – По лицу вашего высочества я вижу, что вы уже слышали новость, – с мрачным выражением лица сказал он. – Король сообщил мне, – ответила Екатерина, которой хотелось высказать свои опасения. – Я пока не могу до конца во всем разобраться. Люди наверняка возмутятся? – Пока что возмущение совсем незначительное. У Екатерины перехватило дыхание. Непостижимо! Как это Генриху удалось провернуть такое дело и не встретить никакого сопротивления? Шапуи покачал головой: – Складывается впечатление, что большинство знати поддерживает короля, а у духовенства нет выбора. Леди так бурно выражает радость, будто получила место в раю, а ее отец заявил епископу Фишеру, что может доказать, ссылаясь на авторитет Писания: когда Господь покинул этот мир, Он не оставил после себя никакого наместника или викария. Я не сомневаюсь, ваше высочество, что он и его дочь – главные виновники разрыва короля с Римом. – Им за многое придется ответить. И, это должно быть сказано, его святейшеству тоже. Если бы он быстро дал ответ, вместо того чтобы бесконечно затягивать дело, то спас бы нас всех от этого беззакония. Шапуи был тверд: – Я вынужден согласиться с вашим высочеством. Его боязливость и лицемерие нанесли ущерб вашим интересам и авторитету его должности. – Я опасаюсь, что теперь король продолжит процесс по незаконному расторжению нашего брака. – Уверен, Кромвель над этим работает, но я предпринял шаги для вашей защиты, какие было возможно, – заверил ее Шапуи. – Я поговорил с графом Шрусбери, который хранит вашу корону, и тот обещал, что не допустит ее возложения на чью-либо еще голову, кроме вашей. – Я благодарна вам и ему, но не понимаю, как он сможет воспротивиться распоряжению короля и отказать ему. На такое способен только очень смелый человек. – Кажется, граф настроен весьма решительно. Не будем терять надежду. Кроме того, у вас есть еще один союзник в лице епископа Фишера. Он открыто заявил, что главенство короля над Церковью Англии противоречит Божьему закону. – Благодарение Господу за таких людей, как Фишер! – воскликнула Екатерина. – Он всегда был мне добрым другом.
Екатерина была так взволнована, что не могла усидеть на месте. Завернувшись в накидку и натянув перчатки, она вышла из дворца и стала прогуливаться по широкой мостовой вдоль реки, пытаясь успокоиться. Слева от нее вольготно текли серые, отливавшие металлом воды Темзы, по которым проплывала то странного вида ладья, то барка, а справа возносились ввысь сложенные из красного кирпича контрфорсы дворца. Из-за холода людей вокруг было совсем мало, тем не менее у входа во дворец стояли на часах стражники. Они приопустили свои пики, салютуя проходившей мимо королеве. Все выглядело знакомым, и это утешало. Гринвич Екатерина знала уже много лет, но мир изменился, и казалось, земля расступается у нее под ногами. То, в чем раньше она была уверена, ушло навсегда. Убеждения, которые она считала непоколебимыми, были злонамеренно подорваны. Екатерина не могла свыкнуться с этим. Генрих, ее обожаемый Генрих, мужчина, за которого она вышла замуж, оказался способным устроить раскол! В это невозможно было поверить, и Екатерина трепетала от страха за его бессмертную душу. Что, если он будет проклят навеки и они не смогут встретиться на небесах? Зайдя так далеко, как только она могла, и продрогнув насквозь, Екатерина тем же путем двинулась обратно во дворец. Ей навстречу шел хорошо сложенный, строго, но с известной роскошью одетый мужчина в натянутой на уши шапке. Рядом с ним семенил служка, и Екатерина услышала, как мужчина произнес: – Отнесите это письмо мастеру Садлеру, а это облегчит участь лондонских бедняков. Проследите, чтобы лорд-мэр получил его к вечеру. – Да, мастер Кромвель, – ответил служка, беря кошелек. – Я уверен, бедняки благословят вас за вашу щедрость. С этими словами клерк заторопился к ожидавшей его лодке, а Кромвель направился к Екатерине. Он поклонился, но она не протянула ему руку для поцелуя. Они посмотрели друг на друга, два противника, которым – по крайней мере, ей – было что сказать, но они не знали, с чего начать. И от Екатерины зависело, как повести разговор. – Я много слышала о вас, мастер Кромвель. Мне говорили, вы были верны кардиналу даже после его падения. Хитрые маленькие глазки глядели задумчиво. – Он был добрым господином, мадам, и хорошо относился ко мне. – Он тоже совершал ошибки, но никогда не одобрил бы того, что происходит сейчас, – сказала она, и в ней вспыхнула злость. – Жаль, что вы недостаточно цените своего прежнего господина, чтобы следовать его примеру. – Теперь я слуга короля, – вкрадчиво ответил Кромвель. – Мир изменился с тех пор, как умер Уолси. И разумно меняться вместе с ним. Екатерина не смогла сдержаться: – Разумно для кого? Для людей своекорыстных, которые ищут привилегий, потворствуя желаниям короля? Говорю вам, мастер Кромвель, некоторые из нас не делают того, что просто разумно, но поступают правильно! Кромвель устало взглянул на нее: – Меня предупреждали, что ваша милость несговорчивы, и я вижу, что это правда. Я бы посоветовал вам не отставать от времени и принять необходимость изменений. – Эти изменения не что иное, как средство довести дело до конца, избавиться от меня и поставить королевой леди Анну. Никакие принципы не берутся в расчет, так же как права моей дочери! Кромвель и бровью не повел: – Сейчас проблемы ставятся гораздо шире, мадам. Великое дело короля лишь высветило их. Стало видно все то, что устроено неправильно, испорчено в Англии – и в самой Церкви. Разве вы не знаете, что в этом королевстве назрело горькое разочарование в папстве, что простые люди недовольны необходимостью платить десятину Церкви, которая и без того бесстыдно богата, что они видят в ней корыстолюбие и болезненно это воспринимают и что они хотят сами читать Слово Божье? – Говоря это, Кромвель начал горячиться, и теперь Екатерина сама видела в нем воодушевление, о котором упоминал Шапуи. – Мадам, уверяю вас, я тоже поступаю правильно, а не просто действую разумно и целесообразно! – Я боюсь за вас и боюсь за Англию. – Екатерина была потрясена и вся дрожала, причем не только от холода. – Ведь вы не видите, что совершаете серьезную ошибку и бросаетесь в пропасть. Я буду молиться за вас! Не в силах больше выносить общество Кромвеля и готовая расплакаться, она, не оглядываясь, пошла прочь от него, во дворец. Лица стражников оставались бесстрастными.
Гертруда Блаунт не могла отдышаться. – Я бежала всю дорогу сюда, – сказала она Екатерине, приседая в реверансе. – Я немедленно должна рассказать вам. Люди говорят, произошло покушение на жизнь епископа Фишера! – Нет! – воскликнули в один голос Екатерина и Мария и одновременно перекрестились. – Что случилось? – спросила Екатерина. – Говорят, повар бросил отраву в суп. У него за столом сидела вся семья и другие домашние и бедняки, которых он кормит из милости. Семнадцать человек в тяжелом состоянии, а двое умерли. – А что с добрым епископом? – Он не пострадал, благодарение Господу. Он съел совсем немного супа и только помучился болями в животе, хотя я слышала, что они были ужасными. Повара арестовали. – Почему он захотел убить своего господина? – удивлялась Екатерина. – Может быть, его подкупили, – предположила Мария. – Люди тоже так говорят. – Гертруда кивнула. – Шепчутся, будто он действовал по наущению лорда Уилтшира[19], который вроде бы дал повару яд и подкупил, чтобы тот положил отраву в суп. – Это вполне вероятно! – Мария фыркнула. – Могу побиться об заклад, что к этому причастна та женщина. – Мы этого не знаем, – быстро проговорила Екатерина. – Это все домыслы. Однако Шапуи, который появился вскоре, дабы сообщить Екатерине то, о чем она уже знала, придерживался мнения, что слухи имеют под собой прочное основание. – Епископ не скрывает своего мнения по вашему делу, и короля это начинает раздражать все больше. Леди и ее сторонники просто в ярости. Совершенно естественно предположить, что они замыслили убийство, дабы епископ умолк. – А какое место отведено здесь королю? – нерешительно спросила Екатерина. Даже в самом страшном сне ей не могло привидеться, что Генрих решается на убийство. Конечно, он не пал бы так низко. – Король отказывается верить слухам, но выражает возмущение этим преступлением. Я не думаю, что он к нему причастен. Но, ваше высочество, будьте осторожны. Те, кто совершил такое, не остановятся перед нанесением нового удара такими же коварными методами. Умоляю вас, будьте бдительны. Если им удалось подкупить повара епископа, то же может случиться и с поваром королевы, а вы, ваше высочество, являетесь более серьезным препятствием на их пути, чем епископ Фишер. – Я буду осторожна, обещаю вам! – клятвенно заверила посла Екатерина. Сердце ее билось неровно при мысли о том, в какой опасности она может находиться. – Я сама буду пробовать всю вашу пищу, – твердо заявила Мария. – Нет никакой уверенности в том, что ваш официальный дегустатор неподкупен. – Вы мой дорогой, храбрый друг, – сказала глубоко тронутая Екатерина и подала руку Марии. Потом ее поразила жуткая мысль. – Но как же принцесса? Ей ничто не угрожает? У Марии и Гертруды сделались испуганные лица. – Они не посмеют! – заявила Мария. – Навредить дочери короля?! – воскликнула Гертруда. – Нет, ваша милость, не бойтесь. О таком никто даже помыслить не решится. Но мир постепенно переворачивался с ног на голову. «Можно ли быть уверенной хоть в чем-то?» – спрашивала себя Екатерина, хотя и согласилась с доводами своих дам. Однако ведь были и те, для кого Мария представляла угрозу – наследница трона, законная, без всяких оговорок, притом враждебно настроенная по отношению к леди Анне.
На этот раз Генрих явился в лучшем настроении, хотя вид имел сильно озабоченный. – До вас, без сомнения, дошли слухи о епископе Фишере. Я пришел сообщить вам, что все эти дикие обвинения совершенно безосновательны. Екатерина ничего не ответила. Ей хотелось бы в это верить. Она отчаянно надеялась на то, что Генриха не дурачат: ведь если Болейны не пытались отравить Фишера, тогда она сама и Мария были вне опасности. – Чтобы доказать это, я намерен использовать этого жалкого повара в качестве поучительного примера, – продолжил Генрих. – Отравление – это самая гнусная форма убийства. Мерзость. И я заставлю парламент принять новый закон, в соответствии с которым отравителей будут признавать виновными в измене и приговаривать к смерти в кипятке. Екатерину передернуло. От мысли о такой пытке ее замутило. – Почему бы не вешать их, как других преступников? – прошептала она. Голос Генриха был твердым как сталь. – Потому что отравление – это особенно подлый и коварный способ убийства, и он требует соответствующего наказания, чтобы другим неповадно было. Думать о столь страшной участи было невыносимо, тем более что жестокие страдания грозили человеку, который стал орудием в руках других людей, в то время как настоящие преступники останутся без наказания за свои ужасные дела. Однако Шапуи, с которымЕкатерина разговаривала позднее, придерживался иного мнения: – Король поступает мудро, так жестоко карая за это преступление, и повар не безвинен. Яд в пищу он всыпал, предположительно, по собственной воле. Не могу представить, что леди Анна или ее отец колдуют над котлами с едой. Тем не менее месть короля не снимает с них подозрений полностью. – Уповаю на Христа и надеюсь, что они невинны. Молюсь, чтобы у этого бедного повара хватило сил вынести предстоящие ему испытания, – с горячностью сказала Екатерина и перекрестилась. Однако она понимала, что Шапуи прав: жестокое наказание отвратит от злых намерений любого, кто задумал бы подсыпать яд Марии.
Глава 28 1531 год
– Нехорошие новости, ваше высочество, – сказал Шапуи, подходя к Екатерине в ее саду однажды после обеда в марте. – В парламенте объявлено, что университеты Европы высказались по делу короля. Только четыре из шестнадцати поддержали вас. – Их подкупили! – с горечью сказала Екатерина. – У меня нет сомнений в этом. Большинство объявило ваш брак кровосмешением, противным божественному закону. А потому, они утверждают, он недействителен и должен быть аннулирован, а папа Юлий вообще не имел права давать на него разрешение. – Я с этим никогда не смирюсь! – заявила Екатерина. Казалось, женщины Лондона были с ней заодно. – Они устраивают шествия на улицах, – сообщила на следующий день Гертруда Блаунт, – и кричат, что король подкупил ученых докторов. – Английские женщины всегда брали вашу сторону, – заметила Мод. – Жаль только, что мужчины к ним не прислушиваются! – фыркнула Мария. – Но разумеется, мы ведь дуры, не способные мыслить логически! Епископ Фишер прислал Екатерине записку. Он слышал, будто даже сам еретик Лютер заявил: ни при каких обстоятельствах король не должен отделять себя от своей королевы. «Едва ли, – подумала Екатерина, – Генрих примет во внимание замечания человека, которого называл паршивой овцой». Подданные Генриха прохладно отнеслись к его книге о Великом деле «Зерцало правды», которая наконец-то вышла в свет весной. – Люди осмеивают ее, – сказал Шапуи. – Слышали бы вы, ваше высочество, что говорят в тавернах – почти в открытую. Это должно укрепить вашу решимость. Люди вас любят. Они не потерпят никакой другой королевы. – Удивляюсь, почему король не наказывает их. – А вы не знаете? Он нездоров и не встает с постели. Говорят, это последствия огорчения и досады на подданных. Екатерине стало обидно, что никто ничего ей не сказал. Она должна пойти к нему. Должна убедиться, что это не серьезное заболевание. Слишком глубоко в ней укоренилась привычка заботиться о нем, любить его, переживать за него. – Я подозреваю, пострадало лишь его самолюбие, – предположил Шапуи. – И все это – притворство! – Но я все равно пошлю справиться о здоровье его милости и узнать, могу ли я навестить его. Напишу записку. Как только послание было составлено, Екатерина запечатала его и отдала Марии. Но когда Мария открыла дверь, за ней обнаружился один из церемониймейстеров королевы, пригнувшийся к замочной скважине. Мужчина стыдливо отпрянул от двери и направился к лестнице, но было поздно. Они все его заметили. Шапуи бросился за ним и вернул соглядатая в покои королевы. – Что вы делали у моей двери? – спросила его Екатерина. – Подслушивали? Мужчина смотрел на нее исподлобья. – Отвечайте ее высочеству! – прикрикнул на него Шапуи. – Я не подслушивал, ваша милость. Я потерял пуговицу и искал ее. – Нашли? – спросила Екатерина. – Нет, ваша милость. – Пойдите посмотрите, Мария. Та ушла и вскоре вернулась: – Там нет никакой пуговицы. – Должно быть, я потерял ее где-то в другом месте, – сказал церемониймейстер. – Покажите нам, откуда она отвалилась? – потребовал Шапуи. – С дублета или с рукава? Церемониймейстер вытянул руку. На манжете рубашки не было пуговицы. Екатерина подозревала, что он оторвал ее, пока они ждали Марию. Она не поверила его объяснениям, и Шапуи явно тоже. Но делать было нечего. – Можете идти, – сказала Екатерина, – и постарайтесь больше не болтаться у моих дверей. Мужчина ушел. Они прислушивались к его шагам, затихавшим в отдалении. – Проверьте, удалился ли он, – сказала Мария. Шапуи подошел к двери. Там никого не было. – Один из шпионов мастера Кромвеля, могу поспорить, – сказал он. – У меня есть основания полагать, что двор полон ими. Могу даже указать пару, известных мне лично. – Я не сказала ничего, что не могла бы повторить в присутствии короля, – заявила Екатерина. – Все равно, ваше высочество, будьте осторожны. Это старая поговорка, но здесь у стен действительно есть уши. И есть люди, которые переиначат ваши слова, чтобы они прозвучали как мятежные речи. – Так больше продолжаться не может, – сказала Екатерина. – Я убеждена, что под угрозой протестов в обществе король не посмеет заключить повторный брак. Было неприятно обнаружить, что остальные участники этой сцены смотрели на нее с сомнением. Но прежде чем они успели что-нибудь ответить, слуга возвестил о прибытии короля. – Мне лучше удалиться, – шепнул Шапуи. – Он не должен видеть меня здесь. – Уходите через боковую дверь, – подсказала Екатерина. Мария проводила посла в опочивальню, откуда винтовая лестница вела вниз, мимо покоев короля, и выходила в личный сад. Генрих разминулся с Шапуи буквально на несколько мгновений. Когда король вошел, Екатерина и Гертруда Блаунт сидели и шили рубахи для бедных с таким видом, будто занимались этим все послеполуденное время. Генрих выглядел нездоровым. Он явно только что поднялся с постели. – Кейт, я должен сообщить вам, что Мария серьезно больна, – произнес он жалким скрипучим голосом. – Нет! – в страхе воскликнула Екатерина. – Что с ней? – Врачи не могут определить точно, но она не принимает пищу вот уже восемь дней. Екатерина тут же подумала об отравлении. – Так давно, и нам ничего не говорили?! – Она была в ярости. – Они за это ответят, я вам обещаю, – заверил ее Генрих. – Позвольте мне отправиться к ней! – взмолилась Екатерина. – Я должна ее видеть. Я позабочусь о ее выздоровлении лучше любых докторов! И я смогу защитить ее. Генрих посмотрел на супругу долгим взглядом: – Вы можете поехать в Хансдон и увидеться с ней, если хотите, и остаться там. Несмотря на поглощавшую Екатерину тревогу, тон Генриха и окончание фразы насторожили ее. Слова короля прозвучали зловеще. Неужели он мог скатиться до того, чтобы воспользоваться преимуществом, которое давала ему болезнь дочери, в своих целях? В глазах Генриха светился огонек расчета. И тут она поняла: он пытался получить повод для развода с покинувшей его женой. Материнский инстинкт требовал от Екатерины быть с Марией, заботиться о ней, защищать от врагов и помочь оправиться от болезни. Ее место – рядом с дочерью, и ей отчаянно хотелось ехать к принцессе. Но теперь она понимала, что должна остаться, дабы защитить свое дитя от других напастей. Как бы там ни было, утешала себя Екатерина, даже если бы папа объявил ее брак недействительным, заключен он был честно и потомство от него должно считаться законным. Мария была наследницей Генриха. Никто не может отрицать этого и лишить ее прав. Но если Генрих разведется с ее матерью по причине того, что та его покинула, и женится на Анне Болейн, их дети займут место Марии в череде наследников. Это было мучительное решение. Она встретилась взглядом с Генрихом: – Но мое место здесь, с вами, мой господин. Вы тоже нездоровы, и я не оставлю вас в такое время. Генрих прищурился. Он понял, что она его обыграла. – Я пошлю к Марии своего врача, – пробормотал он. – А я напишу леди Солсбери, попрошу заботиться о принцессе наилучшим образом и регулярно извещать нас о ее состоянии, – сказала Екатерина. – И еще я пошлю Марии какие-нибудь лакомства, чтобы вызвать у нее аппетит, и буду молиться о ее скорейшем выздоровлении. Письмо, которое она написала Маргарет Поул, было образцом двусмысленности. Она требовала, она советовала, она умоляла, чтобы за Марией хорошо следили, а про себя надеялась, что Маргарет сумеет прочесть между строк. Два дня она терзалась беспокойством и отчаянно молилась, изводя Господа, Деву Марию и всех святых просьбами вернуть здоровье дочери. Однажды утром Генрих, который выглядел гораздо лучше, присоединился к Екатерине в церкви, встал на колени и добавил к ее мольбам свои молитвы. Наконец Екатерина встала и приготовилась идти обедать. – Я все еще беспокоюсь о здоровье Марии, – сказал Генрих, тоже поднимаясь. Вел он себя иначе, чем два дня назад, и это дало Екатерине надежду, что разум супруга лишь временно помутился из-за болезни. Сегодня Генрих излучал мягкость и доброту, каких она не видела уже долгие годы. – Она должна быть с вами, своей матерью, – признал он. – Я теперь поправился, и Мария нуждается в вас больше меня. Я распорядился, чтобы ее перевезли в носилках во дворец Ричмонд и приготовили все, дабы разместить вас там. Большего признания неправоты от него ожидать было нельзя. – О, слава Богу! Благодарю вас, Генрих! – Екатерина глубоко вдохнула, исполнившись облегчением. – Я так боялась: вдруг с ней случится что-нибудь ужасное, а меня не будет рядом.Впоследствии Екатерина ни разу не усомнилась, что ее приезд стал поворотной точкой в болезни Марии и принцесса начала выздоравливать, как только они обнялись при встрече. Екатерину поразили произошедшие в ее милой дочери перемены. Девочка всегда была худенькой и изящной, но теперь стала полупрозрачной. Неужели ее и правда пытались отравить? – Мы делали все, что могли, – заверила ее усталая и осунувшаяся Маргарет Поул. В последние дни и ночи она очень мало спала. – Почему вы не дали мне знать, как плоха принцесса? – спросила Екатерина, стараясь, чтобы в ее словах не звучала обида, и не допуская мысли о нерадивости своей давней подруги. – О, но я сообщила вам, мадам. Я написала вам на второй день. – Я не получала письма. Неужели послание Маргарет от нее утаили? Лучше не задаваться вопросом почему. – Не важно, теперь я здесь. Она осталась с Марией и собственными руками кормила ее укрепляющим бульоном, отварной рыбой и миндальным молоком. Читала ей сказки и разные истории, романы, которые так милы молодым девушкам и которые порицал Вивес. Стерегла сон Марии, умывала ей лицо и руки, расчесывала волосы. Постепенно принцесса пошла на поправку, и наконец настал день, когда Мария достаточно оправилась, чтобы встать с постели и сделать несколько неуверенных шагов. По вечерам, пока принцесса спала, Екатерина с удовольствием беседовала у камина с Маргарет. Ей всегда не хватало давней подруги, и как же хорошо было снова оказаться вместе, вдвоем. Однако Екатерину сильно встревожило то, что была вынуждена сказать ей Маргарет. – В пятнадцать лет принцесса уже не должна так часто болеть, мадам. Я знаю, для девушек это сложный возраст, ведь я растила Урсулу, но у ее милости чересчур болезненные и нерегулярные месячные, к тому же она страдает от сильных головных болей. – Ей многое пришлось вынести, – сказала Екатерина, подавляя в себе растущий гнев на то, что Мария так страдала. – Трения между мной и королем, должно быть, сильно ее беспокоили. Я видела это. – Это так, мадам. Принцесса любит его милость и вас одинаково, но мне ясно, что она больше сочувствует вам, хотя никогда не осуждает короля. Она часто говорит, что хотела бы увидеть вас и утешить. Кроме того, мне известно, что она тревожится о своем будущем. Ее воспитали очень набожной, и я полагаю, она находит большое утешение в религии. – Мария с детства была неравнодушна к вере. И я рада, что теперь она находит в ней утешение. – Я тоже, мадам. Похоже, для нее в вере воплощено ощущение безопасности, которое она испытывала в детстве, до того как начались неприятности, – это некая сфера неизменного в постоянно меняющемся мире. Меня не удивило заявление принцессы, что она ненавидит ереси в любых формах. Не могу описать вам, как расстраивают ее все эти реформы последнего времени, она даже не хочет это обсуждать. Екатерина едва не расплакалась. Бедная Мария! – Мой дорогой друг, – сказала она, – пожалуйста, передайте ей, если эта тема возникнет в разговоре, что я не теряю присутствия духа и у меня есть верные друзья, которые меня поддерживают. Скажите ей, чтобы она оставалась такой, какая есть, полагалась на Господа, как я, и верила, что все будет хорошо. И как всегда, следите за тем, чтобы она хорошо питалась, гуляла на свежем воздухе и была занята делом. Пусть у нее не остается времени думать о своих тревогах. Я же, со своей стороны, буду регулярно писать ей и приезжать так часто, как только смогу.
В апреле состояние Марии заметно улучшилось. Оставив ее на попечение Маргарет Поул, Екатерина вернулась в Гринвич. Здесь ее ожидали приятные вести. Сессия парламента закрылась, и никакого заявления по поводу ее брака сделано не было – пока. Екатерина немедленно написала императору, побуждая его оказать влияние на папу, чтобы тот вынес решение до нового созыва парламента в октябре. Генрих продолжал разыгрывать представление, будто они с Екатериной все еще благополучно женаты, несмотря на тот факт, что леди Анна была у всех на виду. В начале мая король с королевой вместе обедали в зале для приемов, вокруг них стояли придворные. Шапуи тоже присутствовал там, наблюдал за происходящим, слушал все, что доносилось до его ушей. Генрих дружелюбно беседовал с Екатериной, держась в рамках приятных тем. Она отвечала благосклонно, хотя из-за беспокойства о Марии ей требовалось прилагать к этому усилия. В то утро Екатерина получила сообщение от Маргарет Поул: принцессе стало немного хуже. Новость возродила угасшие было опасения, что Марию все-таки могли отравить. Екатерине казалось неправильным наряжаться в дорогие одежды и есть вкусную пищу с золотых тарелок в то время, когда ей следует ехать к дочери. Поэтому Екатерина была не в том настроении, чтобы легко отнестись к появлению Анны Болейн. Та пришла позже всех, сделала реверанс и уселась – когда все остальные стояли – на стул у стены зала. Эта женщина думает, что может вести себя как хочет, и Генрих позволяет ей это. Он даже улыбнулся и кивнул в сторону Анны, а та не усовестилась бросить триумфальный взгляд на королеву и усмехнуться. Екатерина собралась с духом и повернулась к Генриху. Она не повышала голоса, но слова ее были хорошо слышны всем, чего она и добивалась. – Сир, вы не отошлете это бесстыжее создание? Генрих вспыхнул: – Нет, мадам, я этого не сделаю. Наступила тишина, как будто все придворные разом задержали дыхание. Только леди Анна улыбалась с видом победительницы, эта сцена явно забавляла ее. Генрих выглядел взбешенным, потом сделал над собой очевидное усилие, чтобы подавить гнев. – Могу я положить вам силлабаба?[20] – тихо пробормотал он, как будто ничего не случилось. На следующий день Екатерина ощутила мощь его гнева. Она провела бессонную ночь, беспокоясь о Марии. Ради собственного спокойствия нужно было ехать к ней. Когда она разыскала Генриха, он принял ее холодно. Губы короля были плотно сжаты, взгляд леденил. – Сир, не отпустите ли вы меня навестить Марию? Она все еще нездорова. – Поезжайте, если вам угодно, и оставайтесь там! – резко ответил он. На этот раз в значении его слов ошибиться было невозможно. – Сир, я не покину вас ни ради дочери, ни ради кого бы то ни было другого на свете! – в отчаянии заявила глубоко разочарованная и готовая расплакаться Екатерина. – Может быть, Марию можно доставить ко двору? – Нет! – отрезал Генрих. – Ей лучше оставаться там, где она находится. Она в хороших руках. А теперь, если у вас больше нет вопросов, мне нужно заняться делами государства. И Екатерина поняла: он предпочел отослать ее.
На следующий день Екатерина переполошилась: ее ожидала депутация лордов и епископов из Тайного совета. Все они встали перед ней на колени. – Нас послал король, мадам, – объяснил Эдвард Ли, назначенный вместо Уолси архиепископом Йорка. – Епископ Рима прислал нунция передать его милости, что дело его может быть рассмотрено только в Риме, и нигде больше. Естественно, король никогда на это не согласится, даже если папа отлучит его от Церкви. Поэтому он просит вас проявить благоразумие, отозвать свою апелляцию из Рима и подчиниться решению университетов. Екатерина встала: – Я его законная жена и останусь ею, пока римский суд не вынесет вердикта. Она остановила твердый взгляд на стоявших перед ней мужчинах. Неужели они не опасаются за свои души? Архиепископ громко сглотнул: – Могу ли я напомнить вашей милости, что король теперь глава Английской церкви и не признает авторитета Рима? – Папа – единственный истинный наместник Христа на земле, и он один имеет власть решать дела духовные, к которым относится и брак! – упорствовала Екатерина. – Я люблю и любила своего супруга-короля так сильно, как может женщина любить мужчину, но я ни на миг не вступила бы с ним в отношения как жена, если бы это противоречило голосу моей совести. Я пришла к нему девственницей, и я его верная жена. Какие бы мнимые доказательства противного ни приводили мои недоброжелатели, я знаю все лучше, чем кто бы то ни было другой, и заявляю вам: все они лживы и фальшивы. Отправляйтесь в Рим и спорьте там с другими, а не с одинокой женщиной! – Но мадам… – начал было герцог Саффолк. Екатерина резко оборвала его: – Бог наделил моего супруга очень чуткой совестью, но я намерена соблюдать только те правила, которые установлены Римом. И передайте королю, что я готова слушаться его во всем, за исключением того, в чем должна покоряться двум высшим силам – Богу и своей совести.
В июне, когда двор переехал в Виндзор, Генрих еще раз смилостивился и позволил Марии провести несколько дней с Екатериной. Дочь выглядела гораздо лучше, и это стало для матери огромным облегчением, однако в глазах Марии застыла мучительная печаль, как будто она несла на своих плечах все беды мира. Было очень кстати, что Генрих увез Анну Болейн на охоту в Хэмптон-Корт. С отъездом короля старинные королевские апартаменты в Виндзоре показались пустыми. Но погода стояла чудесная, и когда у Марии заканчивались уроки, Екатерина брала ее на долгие прогулки в парк и наслаждалась этими мгновениями мира и покоя. Когда Генрих с Анной вернулись, Екатерина перестала покидать свои апартаменты, не желая, чтобы Мария видела, как эта женщина красуется повсюду. Несколько раз Екатерина сталкивалась лицом к лицу с Генрихом. Он все еще на нее сердился. Ему недавно исполнилось сорок, по общим представлениям он стал зрелым мужчиной. Отсутствие наследника превращалось в трагедию. Тем не менее Генрих оставался образцом царственности и мужской красоты. Глядя на него, даже когда он бранил ее за упрямство с обиженным, осуждающим выражением на лице, Екатерина больше, чем когда-либо, томилась по их любовной близости. Она устала от бесконечных ссор и подозревала, что он тоже. Казалось, они ходят по кругу и никуда не могут прийти. Генрих часто обвинял ее в том, что она его не слушает, но она слушала – и слышала! Только то, что он говорил, представлялось ей неразумным. Четырнадцатого июня двор должен был покинуть Виндзор. Все было готово. В то утро Екатерина, как обычно, поднялась и прослушала мессу. Только когда после этого ей подали завтрак, она заметила, что в замке как-то непривычно тихо. Обычно, перед тем как король переезжал в другой дом, повсюду царила суматоха, но не сегодня. Екатерина встала и выглянула в окно. На верхнем и среднем дворах было пусто. Ни повозок, ни груженных поклажей лошадей, ни распорядителей, выкрикивающих команды, ни снующих туда-сюда слуг. Она послала лорда Маунтжоя узнать, отбывает ли наконец двор. – Мадам, – сказал он ей, – король уехал в Вудсток сегодня рано утром. Это было странно. Генрих наверняка предупредил бы ее, что отправится в путь раньше. Однако не было сомнений в том, что он хотел ехать с леди Анной и присутствие супруги посчитал неудобным. – Мне нужно ехать за ним? – Мадам, я не могу ничего сказать. У меня нет указаний. Маунтжой рассеянно перебирал пальцами золотистую бороду – это был верный знак того, что он обеспокоен. Озадаченная Екатерина пошла в апартаменты своей дочери. Все вещи Марии были собраны и лежали в ожидании. – Мы сегодня поедем в Вудсток? – спросила принцесса. – Я не знаю, – призналась Екатерина. – Мы должны ждать распоряжений короля. Он не оставил никаких приказаний. Обед был подан в одиннадцать часов, и Екатерина с Марией съели его с положенными церемониями в личных покоях королевы. Только успели убрать скатерть, как прибыл гонец в ливрее дома Тюдоров. – Ах, теперь мы, должно быть, отправимся, – сказала Екатерина. Однако посланец, молодой человек приятной наружности, казалось, робел передавать сообщение. Вообще-то, у него был такой вид, как будто он предпочел бы оказаться сейчас где-нибудь в другом месте. После долгой паузы гонец выпалил: – Ваша милость, я должен сообщить вам: королю желательно, чтобы вы в течение месяца покинули замок Виндзор. Не сразу Екатерина осознала смысл этих слов. А осознав, задрожала. Невероятность происшедшего ошеломила несчастную. Генрих порвал с ней.
Глава 29 1531–1532 годы
– Как бы там ни было, я остаюсь его женой и буду молиться за него, – сказала она гонцу, пытаясь подавить дрожь в голосе. Мария с изумленным лицом следила за ней. – Передайте королю привет от меня и скажите ему, как я огорчена тем, что он не зашел попрощаться со мной. И пожалуйста, скажите ему, что я справлялась о его здоровье, как положено верной супруге. Для меня будет утешением слышать, что он в добром здравии. Гонцу было явно не по себе. Генриху наверняка передадут подправленную версию сказанного, поэтому Екатерина повторила свои слова. Ей хотелось только одного – разрыдаться, броситься на кровать и выплакать все до дна. Но надо было подумать и о Марии – той, что смотрела на нее вопросительно и не вполне понимала, что происходит. – Мы никуда не едем, – легким голосом и с улыбкой сказала Екатерина. – Король, ваш отец, хочет, чтобы мы пока оставались здесь. Большего говорить не стоило. Недавно Генрих уезжал отсюда в Хэмптон-Корт, и Мария наверняка поверит, что просто в Вудстоке он уже перестрелял всю дичь. Он снова вернется. Король может передумать в ближайшие дни, и незачем расстраивать Марию, чье здоровье и без того ненадежно. Однако глубоко в душе Екатерина понимала: это окончательный разрыв. Наверное, ей следует ждать вестей о разводе, который Генрих совершит каким-нибудь беззаконным способом. Что она будет делать тогда? Она одна, отрезана от двора и, что хуже всего, от Шапуи, ее доверенного лица и жизненно важной связи с племянником Карлом, единственным человеком, за исключением нерешительного папы, который мог ей помочь. Осмелится ли она писать ему? Или шпионы Кромвеля перехватят ее послание и предъявят его королю? Нужно найти способ, как доставлять сообщения Шапуи частным образом. Но как? Екатерина размышляла об этом весь вечер, когда Мария уже легла спать. Подумывала посоветоваться с Марией и Маргарет Поул, как вдруг ей сообщили о прибытии еще одного гонца. Этот человек оказался англичанином и не носил никакой ливреи. Благоразумно ли принимать его? Но отсылать посланца прочь было поздно, он уже стоял перед ней на коленях. – Ваше высочество, я прибыл от мессира Шапуи. Он решил, что будет лучше, если я не надену его ливреи. Мне приказано передать вам, что он знает о вашем положении и сделает для вас все, что в его силах. Гонец протянул ей письмо. Екатерина вскрыла его и прочла. Шапуи писал, что был свидетелем момента, когда королю доставили ее послание.Его Милость очень рассердился. Он просил меня передать Вам, что ему не нужны Ваши прощальные приветы и у него нет желания давать Вам утешение; и что его не заботит, интересуется Ваша Милость его здоровьем или нет. Он говорит, что Вы доставили ему бесчисленное множество забот и упрямо отказываетесь принять разумные требования его благородного совета. Ему известно, что Ваша Милость рассчитывает на императора, но он утверждает, что Вы скоро обнаружите: всемогущество Божье все еще сильнее императорского. Король приказывает Вам прекратить это все и заняться своими делами, и он не хочет больше получать от Вас никаких посланий.Екатерина читала эти строки, и сердце ее обливалось кровью от жестоких слов Генриха. Но худшее ждало ее дальше, внизу страницы… Теперь, когда королева изгнана, писал дальше Шапуи, Леди трубит повсюду о том, что до ее свадьбы осталось не больше трех или четырех месяцев. «Она постепенно готовится принять корону и только что взяла на службу новых людей. Иностранных послов предупредили, что они должны умилостивить ее подарками. Вы можете быть уверены, что от вашего преданного слуги она ничего не получит». Похоже, Генрих решил взять дело в свои руки. Тем не менее, несмотря на оптимизм Анны, Генрих, казалось, был не склонен спешить. Заявления университетов он получил еще в марте, то есть четыре месяца назад, но до сих пор ничего в связи с этим не предпринял. Если бы он намеревался протолкнуть нужное ему решение через парламент, то мог бы уже сделать это. Екатерина подозревала – и горячо надеялась, – что Генрих рассчитывал получить нужный ему ответ от папы, что избавило бы его от необходимости вносить раскол в христианский мир. Тогда его снова могли бы принять в число паствы, как заблудшую овцу, и он стал бы добрым сыном Церкви. Непрочное здание ее надежд рухнуло с прибытием письма от Генриха: он рекомендовал ей лучше заняться поисками доказательств ее предполагаемой девственности в момент брака, вместо того чтобы разглагольствовать о ней перед всяким, кто станет это слушать. «Вам следует прекратить жаловаться всему миру на воображаемое несправедливое к вам отношение!» – завершал он. Она была потрясена злобностью его нападок. Большинство окружавших ее людей стояли за короля, у нее в Англии было совсем немного друзей. Вероятно, под «всем миром» Генрих подразумевал императора, папу и Шапуи? Но чего он от нее ждал? Что она позволит ему без всяких сожалений растоптать ее принципы, проскакать по ним на лошади в подковах с шипами? Что она бросит борьбу за права дочери? Позволит сделать посмешищем Святой престол? А что касается ее «предполагаемой» девственности, он, как никто другой, знал, что это напраслина. Она не ответила. Какой смысл и дальше разжигать гнев Генриха? Рано или поздно он перегорит, как бывало всегда, и в один прекрасный день король, безусловно, прозреет и вернется к ней таким же любящим, как был.
В августе Екатерина прибыла в Истхэмпстед-Парк. Это было просторное королевское охотничье поместье посреди принадлежавших королю Виндзорских лесов. Хотя основано оно было две сотни лет назад, его история простиралась в прошлое до саксонских времен, и тем не менее это была удобная и хорошо оборудованная резиденция; любая королева могла бы мечтать о таком доме. Три крыла окружали обширный двор, поместье защищал ров с двумя подъемными мостами, которые вели к одинаковым домам со встроенными в них воротами. Екатерина опасалась, что Генрих, дабы сломить сопротивление, отправит ее в какое-нибудь захолустье. Однако в Истхэмпстеде хватало места для всего двора, включая двести пятьдесят фрейлин, созданы все условия для жизни в удобстве и почете. И тем не менее, несмотря на присутствие множества людей, Екатерина ощущала себя одинокой и глубоко переживала разлуку с Генрихом и Марией, которую он отправил в Ричмонд. Екатерина написала ему, прося дозволения, чтобы Мария осталась с ней, но Генрих отказал. Она подозревала, что это еще один способ наказать ее за непокорность. Но разве справедливо вымещать злобу заодно и на Марии? Недоброжелательство Генриха мучило Екатерину. Она скучала без искрометного общества Элизабет Стаффорд, преданности и гордого испанского духа Гертруды Блаунт. Обеим было запрещено навещать ее, хотя Элизабет дважды присылала Екатерине апельсины, среди которых прятала записки. В них подруга рассказывала, что получает большое удовольствие, оспаривая родословную госпожи Анны и предостерегая ее от попыток вмешательства в брачные планы детей самой Элизабет. «Она хочет переженить их со своими сторонниками, но я заявила ей, что не соглашусь на это!» Екатерина улыбнулась при мысли о том, как напористая Элизабет Стаффорд делает внушения своей ненавистной племяннице. Гертруда Блаунт отважно написала Екатерине несколько раз и прислала вместо себя свою горничную Элизабет Даррелл: служить королеве и быть связующим звеном между ними. Много лет назад отец Элизабет служил вице-камергером двора Екатерины, поэтому она была рада принять к себе эту девушку. Элизабет Даррелл, которую вскоре все стали звать просто Элизой, еще не исполнилось двадцати лет, это была зеленоглазая красавица с золотистыми волосами. Очень скоро она искренне привязалась к своей новой госпоже. А Екатерина полюбила Элизу больше всех своих фрейлин, хотя она также благоволила к тихой мышке Джейн Сеймур и к Бланш де Варгас. Исабель де Варгас была преданной, но ленивой; когда бы Екатерине ни понадобилась какая-нибудь услуга, ту нигде было не найти, но, как только нужда в ней пропадала, она тут же являлась. Поэтому из двух сестер-двойняшек Екатерина отдавала предпочтение Бланш. Что касается старших дам двора, с Екатериной оставались только Мария и Мод, а Маргарет, благодарение Господу, заботилась о принцессе. Остальные – или их мужья – посчитали за лучшее принести извинения и оставить службу у Екатерины. Это было обидно, но, по крайней мере, с ней остались те, кто был близок ей по духу, кому она могла доверять.
Очень порадовал Екатерину прием, оказанный ей людьми, когда она переезжала из Виндзора в Истхэмпстед. Жители бежали через поля и выстраивались вдоль залитых солнцем улиц, чтобы увидеть ее, прокричать слова поддержки и выразить свой гнев против Анны Болейн и Генриха. – Эти островитяне вас действительно любят, – заметила Мария. – Королю следовало бы прислушаться к своим подданным! Екатерина знала, что дает Марии слишком большую свободу осуждать короля, но леди Уиллоуби обычно оказывалась права. Временами она бывала грубовата, но оставалась верным другом, поэтому ей многое прощалось. Часто Мария произносила вслух то, что сама Екатерина сказать не решалась. Екатерина не осмеливалась признавать, что ужасно скучает по Генриху и жаждет быть рядом с ним. Находясь при дворе, она знала, что он где-то рядом и может навестить ее или они могут встретиться случайно. Здесь она была отрезана от него и обречена на пытку одиночеством и ожиданием. А к тому же ей приходилось помалкивать об этом: она ведь точно знала, что ответит ей Мария. Екатерина провела в Истхэмпстеде два месяца, уже начали опадать с деревьев порыжевшие октябрьские листья, когда явилась новая депутация лордов – членов совета. Она приняла их в присутствии Марии и Джейн Сеймур. Говорил снова архиепископ Ли. – Мы прибыли, дабы рекомендовать вашей милости подчиниться воле Бога и известить вас, что все университеты четко определили: папа ни в коем случае не мог давать разрешение на ваш брак с королем, поэтому документ, на который вы полагаетесь, явно недействителен и не имеет силы. Екатерина заставила себя сохранять спокойствие. Она должна была показать им, что ее не собьешь с толку ложью. Со спокойным достоинством она опустилась на колени перед этими суровыми, неприступными мужами и воздела руки, как в мольбе. – Я истинная жена короля! – провозгласила Екатерина. – Он поддался страсти, и я не смею помыслить о том, чтобы суд в Риме и вся Церковь Англии согласились с тем, что противно закону и мерзко. Но я продолжаю утверждать, что я его жена, и буду возносить свои мольбы за него. Лорды строго смотрели на нее. – Наша обязанность предупредить вашу милость о том, что может сделать с вами король, если вы будете упорствовать в неповиновении, – сказал ей архиепископ. – Я пойду даже на костер, если король прикажет! – заявила Екатерина с полной серьезностью, но внутри сжалась от страха. – Может дойти и до этого, – без всякой жалости уведомил ее кто-то из пришедших. Когда лорды откланялись и ушли, кураж Екатерины сменился горем и страхом. Ее трясло, и она буквально приросла к месту. Мария и Мод поспешили к ней и помогли подняться на ноги. – Он не причинит вам вреда! – воскликнула Мария. – Вы не совершили никакого преступления. – Складывается впечатление, что в Англии перечить королю – это преступление, – с трудом выговорила Екатерина, стуча зубами от страха. – Не могу поверить, что его милость намерен поступить со мной так жестоко. Екатерина молилась о том, чтобы ее сказанные в порыве отчаяния слова не укоренились в уме короля. Она не должна накликать на себя смерть, пока у нее есть Мария, о которой нужно заботиться!
Через несколько дней Екатерина получила приказ от короля покинуть Истхэмпстед и отправиться в Мор, старый дом Уолси. Когда маленькая кавалькада двинулась в путь, толпы собрались поглазеть на нее. – Мы всегда будем считать вас своей королевой! – кричали ей люди. В Море Екатерина устроилась неплохо. Это был роскошный дом из красного кирпича, в окружении превосходного парка, где можно было охотиться. Прекрасные гобелены с гербом Уолси и еще кое-какие мелочи напоминали о кардинале. На стене висел его портрет, а в церкви стояло его кресло. «В какой же роскоши он жил когда-то, – размышляла Екатерина, – и чего это ему стоило? В конце концов все обратилось в прах, и его опустили ниже, чем он заслуживал. Еще одна жертва злой воли госпожи Анны». При мысли о могуществе ночной кукушки она поежилась. К удивлению Екатерины, ей нанесли визиты некоторые местные джентльмены. Приехал и венецианский посол со свитой из тридцати нарядных итальянцев. Ей нравилось играть роль хозяйки и производить на гостей впечатление великолепием своего поместья. За обедом в присутствии гостей вокруг нее стояли тридцать фрейлин, а еще пятьдесят прислуживали за столом. Пусть никто не сомневается в том, что она истинная королева Англии! Тем не менее Екатерина не переставала задаваться вопросом: почему венецианцы сочли уместным посетить ее? Знали ли они нечто такое, что не было известно ей? Или у них сложилось впечатление, что ее могут вернуть ко двору? Но гости не упомянули ни о чем подобном, и она заключила, что посланники, вероятно, плохо разбираются в сложившейся ситуации и хотели всего лишь по обычаю выразить уважение. А вот придворные Генриха предпочитали не показываться.
Вскоре после этого было доставлено письмо от Шапуи: он упорно поддерживал связь с Екатериной с тех пор, как она покинула двор. Фишер сообщил Шапуи тревожную новость: Леди прислала ему записку с предупреждением, чтобы епископ не показывался на следующей сессии парламента во избежание повторения болезни, которая сразила его в феврале. «Как можно после этого не прийти к выводу, что за попыткой отравить епископа Фишера стояла именно она?» – задавался вопросом Шапуи. Доказательства наличествовали непреложные, но хуже всего было то, что Анна явно считала себя выше закона. Угроза – а как еще это расценивать? – была сделана в наихудшем вкусе. В любом случае Екатерина почувствовала себя особенно уязвимой и еще больше стала опасаться за Марию. Но вдруг пришел вызов от короля: Генрих приказывал ей явиться на ежегодный пир, устраиваемый для вновь назначенных барристеров лондонского Сити в Или-Плейс в Холборне. Екатерина воспрянула духом и почувствовала прилив почти забытой надежды. В прошлом они с Генрихом несколько раз посещали этот праздник, и это приглашение можно было истолковать только как оливковую ветвь. Генрих будет там; она снова с ним встретится, увидит это любимое лицо, услышит голос. За месяцы разлуки Екатерина обнаружила, что можно забыть нанесенные ей обиды, ведь все они, разумеется, были следствием пагубного влияния и чар Анны Болейн, и с возросшим чувством вспоминала любимого мужа, каким он был раньше. – Ваша милость, вы, конечно, не поедете? – спросила Мод, когда Екатерина приказала ей почистить и проветрить ее алое бархатное платье. – Не поеду? – Она воззрилась на Мод. – Король призывает меня. Я должна повиноваться. Мария подняла голову от шитья: – Мод, вероятно, права, мадам. Его милость, похоже, настроен следовать взятому курсу. Иначе вас наверняка призвали бы обратно ко двору. Екатерина нахмурилась. Она знала Генриха, знала, как работает его мысль. Он ненавидел признавать свою неправоту. И первый шаг к примирению он не сделал бы открыто, а предпочел бы прощупать почву в какой-нибудь нейтральной обстановке. Екатерина была в этом уверена. – Я ценю вашу заботу, но уверяю вас обеих, что, вполне вероятно, вы беспокоитесь напрасно. Екатерина покинула Мор, полная надежд и радостных предчувствий. Даже рисовала себе в воображении картины публичного примирения. А может быть – Екатерина старалась все-таки не слишком обольщаться, – Генрих уже отослал от себя Анну Болейн, готовясь к тому, чтобы она, Екатерина, заняла принадлежащее ей по праву место при дворе. Прибыв в Или-Плейс и увидев освещенную огнями к ее приезду аллею, Екатерина обрадовалась. Этот огромный дворец – лондонский дом епископа Или – столетиями служил жилищем многочисленным особам королевского рода. Тут имелась красивая церковь, посвященная святой Этельдреде; она грациозно возвышалась над другими зданиями разбросанного на довольно большом пространстве дворцового комплекса. У входа в главные апартаменты Екатерину встретили фанфарами, церемонно приветствовали и проводили в сопровождении барристеров в прекрасный зал, где были накрыты столы, а по центру стола установлен трон – одно кресло, к которому ее и проводили. Но где же сядет Генрих? Неужели его здесь нет? Настроение Екатерины стремительно ухудшалось, она спросила, где король. – Его милость будет обедать в главном зале, – ответили ей, – а послы – в малом. В этот момент снова послышались звуки фанфар и приветственные возгласы, что могло свидетельствовать только о появлении Генриха. Екатерина шла мимо ряда кланяющихся гостей и больше не видела главного входа. Генрих был там, так близко, и все же она его не видела. Ее намеренно держали в отдалении от короля, а ведь раньше они с Генрихом вместе обедали в главном зале. Это было жестоко, очень жестоко! И хотя Екатерине следовало бы радоваться тому, что она вновь удостоилась чести участвовать в событии государственной важности, ей стало так тошно, что она едва была способна проглотить за обедом хоть кусочек. Как ей удавалось поддерживать беседу, она и сама не знала, а думать могла только об одном: Генрих рядом, но даже не пытается ее увидеть. Она присутствовала здесь, без сомнения, лишь потому, что ее, согласно обычаю, пригласили барристеры и было бы странно, если бы она осталась в стороне. Екатерина больше не могла обманывать себя: наверняка сам король распорядился об устройстве раздельных пиров. Надеялась Екатерина лишь на возможность увидеться с Генрихом при прощании, но сама не знала, что она могла бы сказать ему на виду у такого количества людей. Посмеет ли она броситься на колени и униженно воззвать к нему? Если бы имелась хоть малейшая вероятность, что это его тронет, она была готова вынести унижение. Но для возвращения в Хартфордшир приходилось выезжать рано, и даже в возможности увидеть короля при расставании ей было отказано. Прощаясь у входных дверей с хозяевами торжества и выражая им благодарность за прием, Екатерина слышала музыку и громкий гул голосов из главного зала. Ей стоило большого труда уйти и забраться в носилки, так и не повидавшись с Генрихом. На следующий день она написала императору.
Моих страданий достаточно для того, чтобы убить десятерых мужчин, а не одну слабую женщину, которая не сделала ничего дурного. Мне не осталось ничего иного, кроме как уповать на Бога и Ваше Величество. Ради любви Господа, сделайте так, чтобы Его Святейшество вынес окончательное решение как можно скорее. Я законная жена короля и, пока жива, не отрекусь от этого.Екатерина перечитала написанное и подписалась:
Из Мора, разлученная со своим супругом, ничем его не обидевшая Екатерина, несчастная королева.Она отдала письмо Марии, чтобы та передала его посланцу Шапуи при следующей оказии. – Это очередное обращение к его императорскому величеству, – сказала Екатерина, качая головой, потому что многолетние усилия Карла надавить на папу Климента до сих пор оказывались бесплодными. Мария вспыхнула: – Мне невыносимо видеть ваше высочество в такой печали! Это очень странно и возмутительно, что вожделение глупого мужчины и глупой женщины приводят к судебному разбирательству и ложатся невыносимой ношей на такую добрую и беспорочную королеву! – Довольно, Мария! Вы не должны так отзываться о короле. Какие бы ошибки ни вменялись ему в вину, он остается моим мужем и владыкой этого королевства. Мария упала на колени: – Простите меня, ваше высочество! Мне просто нестерпимо видеть ваши страдания! Екатерина грустно улыбнулась ей: – Я понимаю это. Встаньте, друг мой! Никогда не вставайте передо мной на колени, этого не нужно. Я знаю, Бог посылает мне эти тяготы, чтобы испытать меня. Иногда я думаю: должно быть, дарование мне стольких горестей – это выражение Его Божественной любви! – Дорогая мадам, давайте помолимся, чтобы папа скорее положил конец вашим мукам.
В конце ноября Мод Парр простудилась, и болезнь быстро распространилась на ее легкие. Сильно тревожась за свою подругу, Екатерина вызвала доктора де ла Саа, который прописал поссет с добавлением ромашки и макового молочка, но это не дало результата. Мод лежала в постели бледная и слабая, кожа ее была липкой от пота, курчавые волосы влажными. Опасаясь за нее, Екатеринапозвала доктора Гуэрси, но тот придерживался мнения, что назначенное доктором де ла Саа лечение наилучшее и они должны попробовать применить это средство еще раз. И вновь Екатерина с грустью убедилась в его бесполезности. Она сидела рядом с Мод, растирала ей руки и хотела только одного: чтобы ее подруга поправилась. Мод еще не исполнилось сорока – слишком рано умирать, дети еще нуждались в ней. Самой Екатерине она была необходима! Мод очень беспокоилась о своей даровитой дочери Кейт: ей было девятнадцать и муж ее тяжело болел. Младшая дочь Анна сидела по другую сторону кровати и плакала от страха, что мать может умереть. Анна часто намекала, что скучает по двору и придворным развлечениям и хотела бы вернуться туда, но сейчас у нее не было других желаний, кроме как быть со своей матерью. В первый день декабря Екатерина вошла в комнату Мод справиться о ее самочувствии и нашла Анну Парр рыдающей над телом. – О мадам, она умерла! – Анна положила голову на грудь покойницы и горько заплакала. – О мама, мама! Екатерина перекрестилась: – Мое дорогое дитя… – Она подняла Анну и заключила ее в объятия. Какая трагедия для бедной девочки – потерять мать в таком нежном возрасте. Анна была не намного старше Марии. – Она не узнавала меня, – плакала Анна. – Я пыталась разбудить ее и поговорить с ней, но потом заметила, что у нее глаза открыты и она не дышит. Девочка разрыдалась еще сильнее. Екатерина погладила ее по волосам и заставила встать рядом с собой на колени у постели. Взяла безжизненную руку Мод: – Благословенная Матерь Божья, помолись за нее. Святая Мария, Матерь Божья, помолись за нас, грешных, сейчас и в час нашей смерти… Анна присоединилась к молитве, тем временем другие фрейлины заполнили комнату. Каждая молча становилась на колени и начинала молиться. Когда Екатерина наконец поднялась и сложила руки крестом на груди Мод, Анна запричитала: – О матушка, моя матушка! Что мне теперь делать? – Ты пойдешь со мной и выпьешь вина, чтобы успокоиться. – Екатерина почувствовала, что у нее самой дрожит голос. Мод была ее давней подругой, и она не могла представить себе мир без нее. Выводя плачущую Анну из комнаты, Екатерина обернулась и взглянула на неподвижную фигуру на постели. «Нам всем будет ее очень не хватать», – подумала она.
Император, сообщал Шапуи, пытается заставить папу отлучить Генриха от Церкви, надеясь, что это приведет его в чувство. Екатерина была потрясена до глубины души. На этот раз Карл зашел слишком далеко! Она никогда не рассчитывала на такой поворот событий, какими бы благими намерениями он ни был вызван, и не пожелала бы столь ужасной участи своему супругу. На этот раз она была рада, что Климент не хотел бросать вызов Генриху, и решила воспротивиться его действиям по наущению императора. «Леди заправляет всем», – писал Шапуи. Он слышал от венецианского посла, что недавно в Лондоне, когда Анна обедала в доме на берегу Темзы, произошел неприятный случай. По городу разлетелись слухи, что она там, мигом собралась толпа из семи или восьми тысяч женщин, а также переодетых женщинами мужчин, и они пытались захватить госпожу Анну. «Если бы она не сбежала на свою барку и не переправилась на другую сторону реки, то могла бы пасть жертвой их гнева». – Это решило бы множество проблем! – съязвила Мария. – И стало бы счастливым избавлением! – Я никому бы такого не пожелала, – сказала Екатерина, – но мне бы хотелось, чтобы леди Анна удалилась или чтобы король устал от нее. Если бы он освободился из ловушки, в которую его поймали, то признал бы, что Господь вернул ему здравомыслие. Я знаю, Генрих сделал бы это. Но она и ее друзья подстрекают его, как быка на арене. Екатерине казалось, что терпение ее закончилось. Иногда она подумывала бросить все и уйти в монастырь. Сказать по правде, она была бы рада сбежать из этого злосчастного мира и обрести покой и безмятежность. Но у нее была Мария, и ей приходилось отстаивать права дочери. А что, если она примет обеты, а потом папа признает ее брак законным? Что бы ни совершил Генрих, ни раскол, причиной которого он стал, ни его слепая страсть к Анне, ни принятые по его настоянию законы, не разрушали убежденность Екатерины, что, несмотря на все свое бахвальство и угрозы, ее супруг в душе остается добрым сыном Церкви и благоприятное решение Рима приведет его в чувство. И она должна быть готова к приходу этого дня. – Если бы только его святейшество избавил нас от этого мучения! – со вздохом сказала она. – Я не понимаю, в чем сложность, и должна признаться, что он меня удивляет. Как он может допускать, чтобы столь скандальное дело так долго оставалось неразрешенным? Его поведение ранит меня в самое сердце. Рождество было испорчено, праздновали его торжественно, но без живости и веселья. Шапуи передавал, что в Гринвиче дела обстояли так же. «Все говорят, веселья не получилось, потому что не было ни вашей милости, ни ваших фрейлин». Екатерина провела праздники в тоске по Генриху, к тому же она очень хотела видеть Марию, но Генрих распорядился, чтобы дочь проводила Рождество в Бьюли, собственной резиденции. Екатерине стало ясно: король намеренно держит ее в разлуке с Марией, не заботясь о чувствах дочери. «Он боится, что я могу настроить ее против него! – думала Екатерина. – Но это неразумно, ведь у Марии есть собственные глаза и уши и она пребывает в том возрасте, когда уже сама может составить мнение, что и делает вполне успешно без помощи матери». Екатерина всегда готовила Генриху новогодние подарки и решила, что этот год не должен стать исключением. Она нарушила бы свой супружеский долг, если бы не послала мужу что-нибудь. Она заказала золотой кубок и отправила его в Гринвич с кротким любовным посланием, против которого у него не могло возникнуть никаких возражений. Но кубок вернулся обратно с приложением короткой записки.
Приказываю Вам в будущем не присылать мне никаких подарков, потому что я Вам не муж, и Вам следует это усвоить.Это едва не сломило ее. Но она все равно не смирилась.
В январе, к изумлению и радости Екатерины, Марии разрешили навестить ее в Море. Они не виделись уже полгода, и Екатерина была растрогана, увидев, что ее девочка – той было уже почти шестнадцать – вполне стала женщиной. Однако взросление наложило на Марию новый тяжелый отпечаток. Для столь юного создания она была слишком серьезна, слишком рассудительна и чересчур озабочена проблемами права и беззакония, а также сущим кошмаром, который творил ее отец. Сердце Екатерины обливалось кровью от боли за дочь. Марию не должны были тяготить такие вещи; в ее возрасте нужно думать об учебе, о красивых нарядах и, возможно, о молодых людях. Они разговаривали. И как! Даже по ночам Мария появлялась у дверей Екатерины, нуждаясь в утешении и поддержке, и они прижимались друг к другу, лежа на большой кровати. Екатерина знала, что Марии трудно примирить Генриха, каким он был прежде, с Генрихом, каким он стал теперь, и понимала: важно напоминать девочке о том хорошем, что было в отце, и о том, как сильно он ее любил. Но тут разговор соскальзывал в опасные воды, Мария говорила о своей неистовой ненависти к Анне Болейн, горячо защищала папу и Церковь и бросалась в слезы при мысли о том зле, которое приносят Кромвель, Кранмер и прочие еретики. – Ш-ш-ш! – унимала ее Екатерина. – Забудьте их. Будем наслаждаться покоем, пока можем быть вместе. Часами они читали, музицировали, гуляли по зимнему саду и без конца играли в карты у камина. Екатерина размышляла, что побудило Генриха отправить к ней Марию. Было ли это с его стороны просто неожиданным проявлением доброты, в основном обращенной к Марии? Или его волновало общественное мнение? Наверняка люди тайком корили его за то, что держит в разлуке жену и дочь. Екатерина знала, что Генриха беспокоит, как бы она не настроила против него дочь, поэтому в беседах с Марией не заикалась о разводе и не высказывала никаких мнений на этот счет, что было совершенно излишним: Мария сделала это за нее, и притом довольно громогласно. Екатерине пришлось предостеречь дочь: пусть следит за тем, что говорит при посторонних. Даже сочувствующим ей друзьям не стоило высказывать критические замечания о короле в столь страстных выражениях. Очень скоро настал день отъезда Марии. Екатерина крепко обняла ее, расцеловала милое личико дочери и велела запастись терпением и молиться о даровании сил: скоро все будет хорошо. После этого она отпустила Марию и провожала усталым взглядом ее хрупкую фигурку, пока девушка забиралась в носилки. Прощальная улыбка, взмах руки, и Мария уехала.
Екатерина неспешно прогуливалась по своей любимой части сада, надеясь, что теплый майский воздух и запах весенних цветов принесут ей успокоение. В руках она держала последнее письмо Шапуи. Печальная новость: сэр Томас Мор ушел в отставку с поста лорд-канцлера. Под предлогом слабого здоровья он сдал королю главную государственную печать, но Екатерина понимала: его совесть не могла примириться с требованиями Генриха. Английское духовенство не отличалось такой щепетильностью. Клир отрекся от Рима и по выплате крупного штрафа получил прощение от короля за то, что по сию пору не туда направлял верноподданнические чувства. Отныне священники будут отвечать только перед своим государем. Для Екатерины, отлученной от двора и получавшей только те сведения, которые удавалось тайком передать Шапуи, это было еще одним признаком того, что мир пошел вразнос. Ее вера и покорность Святому престолу оставались столь же непоколебимыми, как и в тот день, когда она впервые исповедалась, и вот теперь человек, которого она больше всего любила, сделал посмешищем все, что было ей дорого. Екатерина надеялась, что восхищение и уважение, которые Генрих испытывал к своему старому другу, были достаточно сильны и они пересилят гнев и досаду на Мора за отказ от должности. Ей было известно, что Генрих многое готов был отдать, лишь бы заручиться поддержкой Мора в своем деле. Судя по тому, что сэр Томас хранил молчание, он был против развода. К ее облегчению, пришло известие, что Мору позволили вернуться в свой дом в Челси и наслаждаться покоем с семьей и книгами. Сев на каменную скамью, Екатерина стала читать дальше. Взмахом руки она отослала дам – хотела впитывать новости в одиночестве. Она с ужасом сознавала, что отставка Мора развязала руки Кромвелю, который теперь мог беспрепятственно проталкивать свои реформы. Не так давно Шапуи оповещал ее о возвышении Кромвеля, теперь главнее его была только леди Анна. Сейчас Кромвель пользовался даже бóльшим доверием короля, чем когда-то Уолси. «Теперь никто больше ничего не делает, за исключением Кромвеля», – писал Шапуи. Как знать, на что этот человек решится в новых обстоятельствах? Он и не скрывал неприязни к Екатерине и Церкви. Дальше Екатерина прочла, что вместо Мора канцлером должны назначить приятеля Кромвеля Томаса Одли. Ей стало ясно, откуда дует ветер. А потом ее ждал сюрприз. Шапуи написал, что архиепископ Уорхэм, которого Екатерина считала верным человеком короля, потому что он никогда не прикладывал особых усилий к ее защите, высказался против Генриха. Уорхэм старел и был болен, из чего Екатерина заключила, что он теперь боялся земного короля меньше, чем Царя Небесного: архиепископ встал и произнес речь в парламенте, выступая против законов, которые оспаривают власть папы. Он также эффектно высказался против главенства короля над Английской церковью. Читая эти строки, Екатерина задержала дыхание. Чем могло быть вызвано открытое неповиновение Уорхэма? Но похоже, Генрих оставил этот выпад без последствий, а значит, король считал, что старик не задержится на этом свете. По крайней мере, он не излил на бунтовщика свой гнев, а это был добрый знак. Может быть, Уорхэм все это время поддерживал ее, но боялся открыто заявлять об этом? Екатерина радовала возможность думать об этом человеке с большей теплотой, ведь без участия архиепископа формального объявления ее брака незаконным последовать не могло. В конце концов Уорхэм великолепно послужил ей.
Судя по письмам Шапуи, складывалось впечатление, что мир полнится протестами. – Аббат Уитби ругал леди Анну на чем свет стоит, – сказала Екатерина Марии однажды вечером после ужина, когда они засиделись за столом. – Из деликатности я не стану повторять его слова, но аббата отчитали за это. И монахиня из Кента опять поднимала голос – обвиняет короля, что тот хочет жениться на леди Анне из одного лишь сладострастия и неумеренных плотских аппетитов. Лучше бы она прекратила это. Своими высказываниями и пророчествами она только разжигает гнев короля и приводит в смущение меня. – Вы правильно поступили, что отказались встречаться с ней, – сказала Мария, делая глоток вина. – Я не дам им оснований для жалоб, – сухо ответила Екатерина, возвращаясь к письму и продолжая чтение. – Послушайте это! Вы помните брата Пето, духовника принцессы? Так вот, в пасхальное воскресенье он читал проповедь в Гринвиче в присутствии короля и леди Анны и предупредил его милость, что их брак не будет законным. Если король продолжит настаивать на нем, то будет наказан, как Ахав, и его кровь слижут собаки. – Боже! И что сделал король? – Он так разозлился, что ушел из церкви – леди Анна последовала за ним, – а потом приказал одному из своих священников прочесть проповедь, в которой тот поносил Пето как собаку, клеветника, жалкого бунтовщика и предателя. Теперь брат Пето заточен в темницу. Даже родная сестра короля, «королева Франции», вступилась за Екатерину. – Уже несколько лет она отказывается появляться при дворе, когда там присутствует леди Анна, но теперь уже открыто порицает в ней безнравственность и нежелание соблюдать приличия. – Это взъерошит перья герцогу! – ликующим тоном заметила Мария. Она ненавидела Саффолка, опекуна своей дочери. – Не хотела бы я сейчас оказаться с ними за столом во время их совместного завтрака. Представляю, какая там, мягко выражаясь, ледяная атмосфера! – Один из членов парламента сделал заявление, что депутаты палаты общин просят короля вернуть меня, – читала Екатерина, быстро пробегая глазами длинное письмо Шапуи. – Король сказал спикеру, что его это удивляет и это дело не должно решаться в парламенте, потому как оно касается его души, и он хотел бы, чтобы наш брак был признан законным. – Ха! – вскинулась Мария. – Мы это уже слышали не раз. Екатерина с укоризной сдвинула брови: – Но, кроме того, король заявил, что доктора из университетов признали его недействительным и богопротивным, потому совесть и заставила его избегать моего общества, а вовсе не глупость или своеволие. Мария пробормотала: – Полная чушь! – Король напомнил парламенту, что ему сорок один год, а в этом возрасте вожделение у мужчин уже не так сильно, как в юности. – Правда? Он жалеет самого себя! – Мария! – вновь одернула подругу Екатерина. – Я велела вам не выказывать неуважения к королю. – Простите, ваше высочество. – Мария, сверкая глазами, закусила губу. – Ничего страшного, мой дорогой друг. Я знаю, вы не имели в виду ничего дурного. – Екатерина улыбнулась Марии и вернулась к чтению послания Шапуи. – В палате общин опасаются, что развод может повлиять на английскую торговлю с подвластными императору территориями. Мессир Шапуи полагает, что парламенту следует ходатайствовать перед королем о моем возвращении и достойном обращении со мной. – Что он и должен сделать! Нет ли новостей из Рима? Екатерина заглянула в письмо: – Папа только что снова отложил слушания дела до ноября. – От досады Екатерина вздохнула. – Похоже, это никогда не закончится! – Мне больно за вас, ваша милость. – Мария взяла Екатерину за руку. – Но крепитесь. Король ведь позволил принцессе навестить вас в январе. – Думаю, он чувствовал необходимость успокоить народ, – буркнула Екатерина. – Но это было четыре месяца назад. С тех пор я несколько раз спрашивала, могу ли снова увидеть Марию, и каждый раз получала отказ. Боюсь, его милости выгодно держать нас порознь. Принцесса взрослеет, и он боится, что мы затеем интригу против него, взяв в союзники императора. Разве мы стали бы заниматься такими вещами! К тому же разлука с дочерью – это его наказание мне за то, что король считает упрямством. Последние строки письма Екатерина прочитывала, склонив голову, сквозь пелену слез. – Мне это не нравится, – сказала она. – Англия и Франция подписали союзный договор против императора. Вы знаете, что это означает. Теперь король чувствует, что может рассчитывать на поддержку Франциска. Король Франции – добрый сын Церкви и имеет влияние в Риме. Генрих собирается осенью встретиться с ним в Кале. – Но у вашей милости есть опора в императоре, а он ни за что не позволит королю французов запугивать папу. – Сомневаюсь, что этого папу может запугать хоть кто-нибудь, – уныло проговорила Екатерина. Она почти оставила надежду на добрые вести из Рима.
Через несколько дней пришло распоряжение короля перебираться во дворец в Хатфилде. Екатерина испытала облегчение: жизнь в Море, несмотря на все великолепие этого места, была монотонной и скучной. То же самое, несомненно, ждало ее и в Хатфилде, но, по крайней мере, радовала возможность сменить обстановку. Дом Екатерине понравился. Он был построен из красного кирпича и имел четыре крыла, окружавшие двор. Как и Или-Плейс, он раньше принадлежал епископам Или, но часто использовался членами королевской семьи. Екатерина помнила рассказы Генриха о том, что в детстве он провел здесь немало времени и что тут умер в младенчестве его брат Эдмунд. Вероятно, именно поэтому Генрих нечасто посещал Хатфилд. Однако дворец находился в отличном состоянии, хотя и не был таким великолепным, как резиденции в Море или Истхэмпстеде. Места в нем хватало, а парк и сад были очень красивы. Екатерине недолго пришлось наслаждаться здесь покоем. Однажды после обеда она сидела в просторном зале для приемов и играла в карты с фрейлинами, когда доложили о приходе лорда Маунтжоя. Увидев его расстроенное лицо, Екатерина мигом поняла: он принес плохие новости. – Мадам, – начал лорд, – я получил распоряжение от короля. Он приказывает, чтобы леди Уиллоуби покинула ваш двор и чтобы вы больше не входили с ней в сношения. Екатерина едва не задохнулась, будто ее ударили. Мария была ее самой давней и ближайшей подругой, одной из самых горячих ее сторонниц. За исключением десяти лет, проведенных в браке с лордом Уиллоуби, совершенства которого Мария продолжала превозносить, она делила с Екатериной все невзгоды и радости и была живой связью с их прошедшей юностью и родной землей. – Почему? – выдохнула Екатерина. Маунтжой сглотнул: – Было заявлено, что она распространяет мятежные настроения. – Это нелепо! Произнося это, Екатерина понимала, что Генрих приравнивал к мятежу постоянное осуждение Марией его поступков. Но откуда он узнал? У стен действительно есть уши? Неужели Томас Кромвель заслал шпионов к ее двору? – Я не могу отпустить ее, не могу! – воскликнула Екатерина. Элиза Даррелл тщетно пыталась успокоить ее. Марии с ними не было. Она пошла отчитывать управляющего за пыль в главном зале, где Екатерина намеревалась принимать возможных гостей. – Мадам, таково распоряжение короля, – печально произнес лорд Маунтжой. Вернувшись, Мария обнаружила свою госпожу безутешно плачущей на плече Элизы Даррелл. И ужаснулась, узнав о причине отчаяния своей госпожи. Лорд Маунтжой стоял с беспомощным видом перед лицом такого бурного выражения горя, остальные дамы скорбно качали головами. – Я не уеду! – заявила Мария, глаза ее сверкали от ярости. – Я останусь. И пусть попробуют стронуть меня с места! Екатерина приподняла голову и посмотрела на Марию опустошенным взглядом: – Вы должны ехать, мой дорогой друг. Нельзя нарушать приказы короля. Подумайте, как это будет выглядеть. Это отразится на мне. – Мадам, я не могу вас покинуть! – запротестовала Мария. – Мария, я приказываю! – отрезала Екатерина. Приказ короля нужно было выполнять незамедлительно. Прощание было крайне бурным. Екатерина не только теряла свою самую старую подругу, но и оставалась без последней фрейлины. Все они ушли: Маргарет занималась принцессой Марией, Мод умерла, а теперь и Мария удалялась в изгнание. Отныне компанию Екатерине будут составлять только горничные. Не то чтобы она их не любила, но какой же это двор для королевы, которой в прежние времена служили самые знатные леди страны? И наконец она осталась и без той, что была ей дороже всех. – Я вернусь, как только смогу, – пообещала Мария. – Ох, мадам… – Она разрыдалась – Мария, которая никогда не плакала. – Храни вас Господь, моя дорогая, – сказала Екатерина осипшим голосом. – Возьмите это. – Она вложила в руку Марии свой миниатюрный портрет с обезьянкой на руках. (Бедный милый Карло, жизнь его была недолгой.) – Я буду беречь его, мадам! Последнее объятие – и Мария уехала. Через несколько часов, когда Екатерина еще не свыклась с мыслью, что осталась без общества Марии, раздался громкий стук у входа во дворец. – Откройте именем короля! – кричал мужской голос. – Что там такое… Выйдя из своих покоев, Екатерина ахнула. В зал входила группа вооруженных солдат. – Зачем вы здесь? Их предводитель наскоро поклонился: – Мы приехали арестовать капеллана вашей милости, отца Эйбелла. – Моего капеллана? По какому обвинению? – За публикацию мятежного трактата против короля, мадам. Екатерина боялась, что это случится, боялась с того момента, как отец Эйбелл рассказал ей о выходе в свет своей книги. – Уверяю вас, капитан, во всем теле отца Эйбелла вы не найдете мятежной косточки, – заявила Екатерина. – Тогда, мадам, я должен показать вам это. Капитан вынул из своей сумы связку довольно сильно измятых листов, небрежно расправил их и передал ей. Екатерина прочла заголовок: «Invicta veritas. Ответ благороднейшему королю Англии Генриху Восьмому, что ни по какому закону не может быть для него законным развод с верной супругой ее милостью королевой». – Но это не мятеж. Это честно выраженное мнение, такое же, какого придерживаюсь я сама. Какое преступление совершил отец Эйбелл? – Не мое дело обсуждать приказы короля, ваша милость. Отец Эйбелл должен пойти с нами. Екатерина послала Элизу отыскать священника. – Скажите ему, чтобы поторопился и взял с собой теплую одежду и книги, – шепнула она. Объявление об аресте отец Эйбелл выслушал с полным самообладанием. Любезное выражение его лица осталось неизменным, он привычным жестом благословил Екатерину и попрощался с ней: – Не тревожьтесь обо мне, дочь моя. Господь защитит праведного. Однако с его уходом Екатерина едва не лишилась рассудка. Что же это, теперь открыто выступать против развода стало преступлением? А если так, какое наказание заслужит она сама?
Глава 30 1532–1533 годы
Умер архиепископ Уорхэм. Эту новость Екатерина получила в августе, и не от Шапуи, письма которого в это время поступали нерегулярно и все реже, что само по себе было тревожным, но от своего капеллана отца Форреста: тот услышал об этом, когда помогал служить мессу в приходской церкви Хатфилда. Отпустив отца Форреста, Екатерина сидела одна в своих покоях. В жаркий день ей было холодно – так подействовали на нее печаль и тревога. Что теперь будет? Кто заменит архиепископа? Строить догадки пришлось недолго. Шапуи удалось прислать ей новое письмо. «Томас Кранмер назначен занять престол в Кентербери», – прочла она. Это была плохая новость, ведь Кранмер – ставленник Болейнов. Екатерина не забыла, что опрашивать университеты – это была его идея. Такой человек без угрызений совести даст королю то, чего тот хочет. Еще сильнее встревожило ее сообщение о том, что враждебность Анны Болейн к Марии стала столь же сильной, как и к самой Екатерине. «Король не смеет хвалить принцессу в присутствии Леди из боязни вызвать ее неудовольствие, и свои визиты к принцессе из-за ревности Леди он сокращает до крайности, – писал Шапуи. – Она хвастается, что возьмет принцессу в свою свиту и когда-нибудь перекормит ее за обедом или выдаст замуж за какого-нибудь проходимца». – Боже правый! – громко вскрикнула Екатерина. По первому порыву ей хотелось полететь к Марии, чтобы защитить ее. Ясно было, что Шапуи тоже встревожен, потому как он вновь упомянул о покушении на жизнь епископа Фишера. Дескать, он не сомневается в способности Леди исполнить свои угрозы. Он пообещал удвоить бдительность. Зная неравнодушие Шапуи к судьбе Марии, Екатерина была уверена, что так и будет. Но он не жил в Бьюли или Хансдоне, где размещался двор Марии. Кто защитит ее там? Екатерину захлестнула жалость к себе. Как она сможет жить в постоянном страхе за дочь? Вынесет ли это? Осмелится ли писать к Генриху и умолять его о встрече с Марией? Приедет ли к ней принцесса? Но она должна все стерпеть, должна! Следующее письмо Шапуи дало проблеск надежды. Король, сообщал посол, сделал Леди пэром королевства. Никогда такая честь не была дарована ни одной женщине в Англии. Она стала маркизой Пемброк, церемония прошла с большой помпой. «Тем не менее важно отметить, что формулировка патента на дворянство оставляет место для различных толкований, – отмечал Шапуи, – потому что слова „рожденный по закону“ в отношении любого потомка мужского пола, к которому может впоследствии перейти титул, были опущены. Некоторые считают это признаком того, что король устал от нее и готовится дать ей отставку, предоставляя обеспечение для любого бастарда, которого она может ему родить». «Но допустимо и другое толкование, – подумала Екатерина. – Может быть, Генрих таким образом обеспечивал титул любому ребенку, которого может зачать с Анной, на случай своей смерти до брака с ней». В любом случае это могло означать только одно: Генрих и Анна любовники. И хотя Екатерина все время так считала, несмотря на возражения Генриха, теперь, когда догадки подтвердились, она почувствовала себя глубоко уязвленной. Ощущение было такое, будто она потеряла супруга еще раз. Екатерина снова пробежала письмо, глаза ей застилали слезы. Из слов Шапуи становилось ясно, что вопрос об усталости Генриха от Анны не стоит. «Король не может оставить ее даже на час. Он сопровождает ее на мессу и вообще повсюду, собирается даже взять ее с собой в Кале на встречу с королем Франциском. Мне он сказал, что намерен жениться на ней, как только это станет возможно. Боюсь, они сделают это во Франции». Та же мысль возникла и у Екатерины. «Молюсь, чтобы мы оба ошибались», – сказала она себе и снова расплакалась.С непроницаемым лицом перед Екатериной стоял посланник короля. – Король требует, чтобы ему доставили от вашей милости украшения королевы. – Для чего? Королева я, и они были вручены мне. Украшения были очень дороги ей, и она всегда ощущала, что обладание столь ценными предметами возвышает ее над всеми. – Король требует, чтобы вы отдали украшения и леди Анна могла носить их во Франции. Горячая кровь Изабеллы Католички забурлила в Екатерине. – Леди Анна, не будучи королевой, не имеет права на эти вещи! Кроме того, такое требование обидно и унизительно для меня. Это отяготит мою совесть, если мне придется отдать свои украшения ради того, чтобы ими увешала себя особа, которая является позором для всего христианского мира и наносит бесчестье королю, отправляясь с ним во Францию! Гонец побагровел: – Ваша милость, мне дан приказ. – А у меня его нет! – возразила Екатерина. – Можете передать королю, что я отказываюсь отдавать свои украшения без его письменного распоряжения, потому что он велел мне ничего ему не присылать. Гонец с обиженным видом ретировался. Разумеется, Екатерина понимала, что только оттягивает передачу драгоценностей, и все же радовалась тому, что смогла выразить протест. Кто-то же должен делать это. Всему, что было свято для нее, король бросал вызов. Судя по рассказам своих горничных и других слуг, она понимала: истинная вера в Англии постепенно разрушается. И это было хуже всего. А кто виноват? По большей части Анна Болейн и ее пагубное влияние. О последствиях встречи Генриха с Франциском Екатерина не смела даже подумать. Она написала императору.
Я должна предупредить Ваше Величество о том, к чему привели бесконечные отсрочки со стороны папы. Есть многочисленные признаки того, что здесь затевается недоброе. Каждый день выходят в свет новые книги, полные лжи, непристойностей, богохульства и направленные против нашей святой веры. Эти люди теперь ни перед чем не остановятся, лишь бы решить дело в Англии. Грядущая встреча монархов, спутница, которую король всюду берет с собой, власть, какой он ее наделяет, и отводимое ей место – все это производит невероятный скандал и распространяет страх надвигающихся бедствий. Совесть побуждает меня сопротивляться, верить в Бога, полагаться на Ваше Величество и молить Вас о том, чтобы Вы поторопили папу с вынесением решения. Происходящее здесь настолько мерзко и богопротивно и настолько сильно затрагивает честь моего супруга-короля, что у меня нет сил писать об этом.Приказ короля отдать драгоценности пришел с неизбежностью смерти, и Екатерина неохотно рассталась с украшениями. Но казалось, упрямство Екатерины взбесило Анну, и одних украшений для ее умиротворения было недостаточно. С ужасом узнала Екатерина от Шапуи, что Анна заставила Генриха отдать ей барку королевы. Герб Екатерины был сорван с нее, изуродован и сожжен. «Король сильно расстроился, – писал Шапуи. – Дай Бог, чтобы Леди удовлетворилась баркой Вашей Милости, Вашими украшениями и Вашим мужем». Наконец Екатерина была вознаграждена вестью, что дамы французской королевской семьи отказались принимать Анну. Тем не менее Леди все равно собиралась ехать в Кале. Шапуи сообщал: «Многие строят предположения, что король тайно обвенчается с ней во Франции, но я с трудом могу поверить в это. Едва ли его милость окажется настолько слепым и король Франции станет в этом участвовать». «Король Франции, – подумала Екатерина, – ввяжется во что угодно, если это ему на руку». «Однако Леди, – продолжал Шапуи, – ясно дала понять, что не согласится на это. Она желает, чтобы свадьба состоялась здесь, в Англии, где выходили замуж и короновались другие королевы». «Боже, молю Тебя, пусть его святейшество поскорее скажет свое слово!» – в отчаянии думала Екатерина.
По приказу Генриха Екатерина провела Рождество в королевском поместье Энфилд. Дом с закрытым с трех сторон двором и большими, выступающими вперед полукругом окнами был намного старше, чем Хатфилд, и не так роскошен, но хорошо отремонтирован и уютен. Похоже, переезд был тонким способом намекнуть: упорство ввергнет Екатерину в нужду. Однако Генриху предстояло убедиться, что лишение роскошной резиденции не сможет на нее повлиять. Праздники не доставили Екатерине никакого удовольствия: Генрих снова отказал ей в просьбе разрешить Марии провести их с ней. Она не виделась с дочерью уже без малого год и ужасно скучала. Ее согревала лишь надежда на усердие Маргарет Поул: та позаботится, чтобы Мария отметила Рождество как можно веселее. Теперь Екатерина ощущала себя еще более оторванной от мира, чем прежде, потому что Генрих запретил ей общаться с Шапуи. Она всегда гордилась тем, что была послушной женой, но тут готова была противиться супругу. И помог ей в этом сам Шапуи: он поселил своего человека на постоялом дворе поблизости от дворца и наладил его встречи с Элизой Даррелл у заднего входа в парк, где можно было передавать письма сквозь ажурную решетку. Таким образом Екатерина могла продолжать давить на папу, надеясь поторопить его с решением. «Я принимаю на себя всю ответственность за последствия, – писала она. – Я продолжаю верить в то, что, коль скоро папа примет решение в мою пользу, король послушается его даже сейчас, но, если король этого не сделает, я умру относительно счастливой, зная, что приговор по моему делу вынесен и принцесса не потеряет свое право стать наследницей». Кроме того, она делилась своими опасениями за Церковь.
Папу нужно предупредить, что король уже присвоил себе бóльшую часть богатств Церкви и будет понуждаем идти в этом деле дальше, потому что его окружают люди определенного свойства, такие как Леди и ее отец, оба убежденные лютеране. Если решение будет обнародовано сейчас, большинство людей в Англии, а они добрые католики, заставят короля повиноваться. Но если папа не предпримет никаких действий, постепенно его лишат здесь всякой власти и в конце концов вовсе перестанут прислушиваться к его суждениям.В письмах, которые тайком доставляла Элиза, Шапуи выражал уверенность в том, что народ в Англии вполне способен подняться на защиту Екатерины, если его подтолкнуть. «Если начнется мятеж в Вашу поддержку, я не уверен, что Леди, которую все ненавидят, удастся спасти свою жизнь и драгоценности». Екатерина надеялась, что до этого никогда не дойдет. Она не могла заставить себя пожелать такой участи даже врагу. На самом деле Екатерина желала бы предотвратить такое несчастье. Закутавшись в меха, так как ночь была холодна, она зажгла свечи и села у камина писать очередное послание к императору, чтобы еще раз показать ему, как жизненно важно, просто необходимо заставить папу действовать. «То, о чем я прошу, не может представлять никакой опасности, – уверяла она племянника. – Как Вы знаете, все громы и молнии в этом королевстве падают только на мою голову».
Екатерина сидела одна за письменным столом. Сквозь закрытую дверь она слышала движение жизни повсюду: слуги ходили по дому, горничные пересмеивались и легким шагом пробегали по коридорам, увлеченные своими интересами и мелкими интригами. «Все они так юны», – подумала Екатерина. Мысли ее уплыли к детям, которые могли бы сейчас окружать ее. Высокие рыжеволосые сыновья, сестры Марии, с которыми она делилась бы сокровенным. Малышке Изабелле сейчас было бы четырнадцать. Екатерина сморгнула слезы и обратила взгляд на кипу писем, полученных с тех пор, как муж отослал ее от себя. Теперь до нее доходило очень мало сведений. Шапуи явно с трудом изыскивал возможность написать ей, за всеми его действиями наверняка следили, однако Екатерина была в курсе, что отец Эйбелл отпущен из Тауэра и сейчас направляется к ней. Это ее безмерно радовало. Господь, должно быть, смягчил сердце Генриха. Какое-то время она надеялась, что он действительно начинает охладевать к Анне – судя по слухам, у него имелись на то причины. Возможно, король даже готов признать свои ошибки. Но потом Элиза принесла новое послание от Шапуи: посла тревожит Томас Кранмер, ожидавший от папы подтверждения своего назначения архиепископом. Екатерина не посчитала странным то, что Генрих послал бумагу за подтверждением в Рим: значит, он все же не желает окончательно порывать со Святым престолом. Но Шапуи беспокоился: «Если папе известно, какой репутацией пользуется здесь Кранмер – душа и сердце лютеранской ереси, он не поторопится одобрить это назначение. Доктор Кранмер – преданный слуга Леди, и с него потребуют особого обещания не вмешиваться в дело о разводе. Но я боюсь, он может добиться согласия на брак в английском парламенте». Екатерина молилась, чтобы Шапуи оказался не прав. Конечно, его святейшество никогда не одобрит выбора такого человека. Удивление и тревогу вызвало у Екатерины письмо из королевского совета. Главный советник короля собрал нескольких ученых докторов и передал им содержание анонимного мнения университетов: если первый брак Екатерины окончательно свершился, тогда ее второй брак недействителен. – Но он не был доведен до конца, – вслух сказала Екатерина, хотя находилась в своей опочивальне одна. Правда, худшее ожидало ее впереди. Ее оповещали, что король нашел и представил совету документ, в котором его отец и король Фердинанд подтверждают: ее брак с Артуром окончательно свершился. – Какой документ?! – выкрикнула Екатерина. – Ничего такого не было и быть не могло. Это фальшивка! Тем не менее совет принял его в качестве доказательства и согласился с тем, что королю не остается ничего другого, как продолжать добиваться своей цели властью архиепископа Кентерберийского. Что это была за цель, Екатерина не сомневалась. Он намеревался забрать все дела в свои руки, чего она и боялась. Хотел отвергнуть ее и жениться на Анне Болейн, невзирая на последствия.
В лихорадочном возбуждении Екатерина строила предположения относительно дальнейшего развития событий, готовясь бороться за свои права и авторитет Святого престола, что бы ни придумал Генрих и какие бы новые основания для развода он ни выдвинул. Напрасно ждала она письма от Шапуи, который наверняка был в курсе дела. Она дождалась не его, а приказа короля перебираться в Эмптхилл в Бедфордшире. Несколько раз Екатерине доводилось останавливаться в Эмптхилле. Это было одно из любимых мест Генриха, где он с удовольствием проводил время, объезжая королевство. Воздух здесь был здоровый, а замок окружал полный дичи олений парк. Но поместье находилось в пятидесяти милях от Лондона, и Екатерине казалось, что ее отправляют в ссылку. Это впечатление усилилось, когда кавалькада приблизилась к темным ребристым стенам и силуэты их зубчатых краев зловеще проступили на фоне светлеющего неба. «Они пытаются сломить меня», – подумала Екатерина. Тем не менее ее покои были достаточно роскошны и в ее распоряжении находился прекрасный сад. – Могу я выходить из замка? – спросила она лорда Маунтжоя, который сопроводил ее сюда и должен был остаться с ней и управлять хозяйством. – Мне приказано не выпускать вашу милость за стены замка, – ответил он, ощущая неловкость ситуации. Это было неудивительно. Маунтжой был человек чести и безупречно служил Екатерине двадцать четыре года, однако она понимала: должность ему дорога и он не станет высказываться в ее пользу или обсуждать приказы. – Господин мой, я пленница? – Строго говоря, нет, мадам. Вы можете пользоваться всеми удобствами и ходить, куда вам нравится, в замке и в садах. Итак, это была золотая клетка. Теперь Екатерина понимала, как чувствовала себя ее сестра Хуана на протяжении долгих лет, и, судя по всему, сейчас тоже. Может, было бы лучше, если бы она, как Хуана, потеряла рассудок и жила в счастливом пренебрежении к происходящему вокруг. Бедняжка Хуана терпела заточение в монастырской келье уже больше четверти века. Это было погребение заживо, люди не должны так страдать. Жизнь под домашним арестом, в роскоши, конечно, не могла сравниться с этим. Но когда человек познал, что такое свобода, ему досаждают даже мелкие ограничения: невозможность сходить на охоту или послать письмо друзьям. Пришел приказ – его доставил явно потрясенный лорд Маунтжой, – запрещающий Екатерине переписку с Марией, и вынести это было тяжелее всего. Очевидно, Генрих опасался, что она станет подстрекать Марию к неповиновению. Отрезать мать от собственного ребенка, лишить человека всякой связи с внешним миром – кто стерпит такое? За всеми, кто посещал двор Екатерины, строго следили, и она опасалась, что любая попытка Шапуи связаться с ней будет обнаружена. Тогда ее положение станет еще хуже. Шапуи, этот смелый человек, оставался теперь единственным каналом, через который Екатерина могла получать известия о своей дочери. С болью в сердце она сознавала, что ее слуги наказаны за свою преданность, по сути попав в тюремное заключение. Большинство их из любви к ней относились ко всему весело, люди не унывали, и это глубоко трогало Екатерину. Но когда она увидела маленькую Анну Парр – та, высунувшись в окно, нетерпеливо топала ножкой и задумчиво глядела на мир за стенами замка, – то ужаснулась. Что это за жизнь для девочки? Именно в этот момент она впервые ощутила укол сомнения. Ей стоило произнести лишь несколько слов, которые хотел услышать Генрих, – и все они будут свободны. Но именно эти слова превратят ее дитя в бастарда. Она не могла уступить. Слишком многое стояло на кону.
В начале апреля, когда деревья покрылись цветом, будто украсились к празднику, в Эмптхилл прибыла депутация от Тайного совета во главе с герцогами Норфолком и Саффолком. Лорд Маунтжой проводил посетителей к Екатерине, и она приняла их, сидя в кресле с высокой спинкой у камина. Внутри Екатерина трепетала, но была решительно намерена не дать гостям заметить свое смятение. Стоило ей увидеть двух герцогов, и она сразу поняла: они доставили очень важную новость. Говорил Норфолк, грубо и резко по своему обыкновению: – Мы пришли сообщить вашей милости о том, что вы не должны больше ни беспокоиться по поводу Великого дела, ни пытаться вернуться к королю, ввиду того что он женат. Женат? При этом слове Екатерина вздрогнула и в ней закипела ярость. Да, он был женат – на ней! – Отныне вы должны воздерживаться от употребления титула королевы и зваться вдовствующей принцессой Уэльской, – продолжал Норфолк своим скрипучим голосом, – вы остаетесь владелицей принадлежащего вам имущества. Лорд Маунтжой выступил вперед. – Это означает, мадам, – тихо произнес он, – что король не позволит вам называть себя королевой и по окончании следующего за Пасхой месяца перестанет оплачивать ваши расходы и выдавать жалованье вашим слугам. Екатерина встала. Она кипела от бешенства. – Пока я жива, я буду называть себя королевой! – поклялась она. – А что касается ведения хозяйства, я не собираюсь брать на себя эту обязанность в таком зрелом возрасте – слишком поздно начинать. Когда мне станет нечем кормиться и кормить слуг, я пойду просить милостыню, Христа ради! – Как вам угодно! – рявкнул Норфолк. – Вы предупреждены. С тем лорды и удалились. Екатерина упала в кресло. Ее трясло, она не могла поверить в то, что услышала. Слова «он женат, он женат» без конца вертелись у нее в голове. «Как его совесть допустила это? – спрашивала себя Екатерина. – Кранмер еще даже не объявил освоем решении по поводу нашего брака – его не расторгли! Это двоеженство, не меньше. Чего стоят мнения университетов против авторитета Церкви?» Екатерина собрала свой двор и объяснила, зачем приезжала депутация. – Отныне, – сказала она, – если вы хотите оставаться у меня на службе, не смейте обращаться ко мне иначе как «королева». Те, кто хочет уйти, могут сделать это сейчас. У вас могут быть неприятности, если вы ослушаетесь приказа короля. Никто не двигался. Екатерина видела написанное на лицах возмущение и оттого почувствовала себя спокойнее. Но после того как все разошлись, Анна Парр вернулась: – Ваша милость, можно мне отправиться ко двору? Екатерина пришла в ужас: – Только с разрешения короля. Вы у него под опекой. – Вы попросите его за меня, мадам? Екатерина многое бы отдала за то, чтобы сказать «да». Она сама видела, как скучает здесь эта девочка и как она несчастна, знала, что Мод беспокоилась о будущем своей дочери. Если Анна останется, ни один приличный молодой человек не заинтересуется ею. – Боюсь, вы должны сами просить его, дитя. Мне запрещено обращаться к нему. – Хорошо, мадам. – Анна поспешно и с радостью удалилась. К удивлению Екатерины, Генрих ответил согласием, и вскоре Анна, сияя от восторга, помахала им на прощание и с маленьким эскортом отправилась в Лондон, призванная ко двору и, несомненно, на службу к Анне Болейн. Это было небольшое предательство в сравнении со множеством других, перенесенных Екатериной, однако болезненное. Если бы Мод узнала, то ужаснулась бы. Слава Богу, ее больше нет и она этого не видит.
Часы пробили четыре, а Екатерина все еще не сомкнула глаз. «Сам Генрих не отличался злым нравом, – говорила она себе. – Это из-за Анны он стал таким своенравным и раздражительным. Когда император услышит о его последней возмутительной выходке, трудно предположить, на что он решится». Это могло означать войну, хотя Екатерина не одобрила бы такого средства. Должен найтись лучший способ, как уничтожить Леди и ее приспешников. Не приходилось сомневаться в том, что, раз уж эта проклятая Анна вставила ноги в стремена, она доставит Екатерине и Марии столько неприятностей, сколько сможет. Но куда сильнее пугало другое: успех Анны отдаст все королевство во власть ереси. Эти страхи, а также грандиозность всего случившегося не давали покоя Екатерине, пока она занималась обычными повседневными делами. Не было никакой возможности узнать, что происходит в Лондоне. Из тех скудных сведений, которыми она обладала, можно было сделать вывод, что Анна, вероятно, уже коронована. При этой мысли Екатерина перекрестилась. Бог что-то не спешил метать мстительные громы и молнии, но ей нельзя терять веры в Него, потому что все происходит во имя Его высочайших замыслов. Несомненно, Он проверяет ее, но, Господи Иисусе, когда же это закончится?
Через неделю после визита депутации перед Екатериной предстал лорд Маунтжой. Со стыдливым лицом он будто по ошибке назвал ее вдовствующей принцессой. – Это не мой титул! – вспыхнула Екатерина. Ей никогда еще не приходилось так резко говорить со своим камергером. – Но, мадам, совет издал распоряжение, по которому отныне вас следует титуловать вдовствующей принцессой. – Я не стану разговаривать с вами, если вы будете так ко мне обращаться, – упорствовала она. – Решительно отказываюсь! – Тогда, мадам, я не смогу соблюдать положенные при общении с вами правила этикета. Кроме прочего, я пришел сообщить вам, что получил послание от короля. Он приказывает мне предупредить вас: вскоре вы должны будете переехать в свой частный дом и жить там на более скромном содержании. Он назвал сумму, которая едва ли покрыла бы ее расходы за три месяца. – Придется мне просить милостыню на хлеб, – сказала Екатерина. – А как на это посмотрят подданные его милости и мир в целом? Не могу поверить, чтобы государь, обладающий мудростью и добродетелями его милости, согласился оставить меня в таком положении. Если он не уважает людей, пусть имеет хотя бы почтение к Господу! Я была супругой его милости почти двадцать пять лет. У нас есть дочь детородного возраста, наделенная всеми добродетелями, какие только можно представить. Сама природа должна заставить короля соблюсти ее права. – Мадам, я не могу высказывать мнение по таким вопросам, – сказал явно огорченный Маунтжой. – Будьте уверены, император никогда не признает леди Анну королевой, и какие бы аннулирования ни объявлял король, они не имеют законной силы! – заявила Екатерина. Когда камергер со скорбным видом удалился, ее гнев улегся. Она села и подвела итог. Будущее выглядело действительно беспросветным, если каким-нибудь чудесным образом ей на помощь не придет папа. Екатерину тяготила мысль, что теперь больше, чем когда-либо, само ее существование представляло угрозу для Анны. А эта женщина могла быть мстительной и обладала заметным влиянием на короля. Вспомнив, что произошло с епископом Фишером, Екатерина решила отныне проявлять удвоенную осторожность.
В конце апреля Екатерина получила вызов предстать перед особым церковным судом, который устраивал архиепископ Кранмер в монастыре Данстейбл, в четырех милях от Эмптхилла. Теперь она поняла, почему ее поселили именно здесь. Все было спланировано заранее. Зачем ей туда ехать? Чтобы принять участие в постыдном фарсе? Все это лишь показывало глубину падения ее супруга. Куда подевалась его пресловутая забота о наследнике, раз он считает возможным становиться двоеженцем, чтобы любой дурак мог перемывать ему косточки? – Я решительно отказываюсь признавать архиепископа Кранмера своим судьей! – заявила она. – Решения по поводу моего брака я жду только от папы. Молодой священник, который доставил вызов в суд, смотрел на нее с жалостливым презрением: – Смею напомнить вашей милости, что недавний Акт об ограничении апелляций запрещает обращаться в Рим за решениями по любому поводу. – Если я не жена короля, то не являюсь и его подданной, а потому не обязана соблюдать его законы. – Архиепископ может обвинить вас в неуважении к суду, – предупредил молодой человек. – Пусть обвиняет!
– Посмотрите на это! – воскликнула Бланш де Варгас, протягивая Екатерине памфлет. – Его подсунули под дверь. Екатерина взглянула. Памфлет был озаглавлен: «Тезисы, составленные с полного одобрения короля наипочтеннейшим советом, дабы предупредить непонимание и донести истину до его возлюбленных подданных». Ей не нужно было объяснять, что в нем содержалось. – Сожгите его! – приказала Екатерина. – Я не стану читать эти богохульства. Позже в тот же день она призвала к себе Элизу: – Мое дорогое дитя, не могли бы вы сделать мне одолжение? У вас есть родственники, которые живут поблизости от Лондона? – Мой брат с женой сейчас в Лондоне, потому что он заседает в парламенте. – Отлично! Вы можете изобразить все так, будто его жена заболела и просит вас приехать? – Разумеется, мадам. Я сделаю для вас все. Моя невестка не будет возражать. Эдмунд – сторонник короля, но она тайно поддерживает вашу милость. – Тогда попросите у лорда Маунтжоя разрешения навестить ее. Я хочу, чтобы вы передали от меня письмо мессиру Шапуи. Я дам вам золота. Поезжайте к своему брату, чтобы никто вас не заподозрил, потом, когда его не будет дома, идите в монастырь августинцев на Брод-стрит и спросите, где живет мессир Шапуи. Я знаю, его дом где-то неподалеку от их церкви. Убедитесь, что письмо попадет к нему в руки. – Она передала Элизе записку, сложенную в маленький квадратик. – Я не подписалась. Он поймет, от кого это. На самом деле в письме содержалась всего одна строчка: «Передайте императору и папе, что теперь я считаю свое дело безотлагательным». Она молилась о том, чтобы ее послание попало к Шапуи. Сама краткость сообщения должна была показать ему серьезность ситуации. Екатерина не знала, что еще он мог бы предпринять, кроме уже сделанного, однако надеялась: если папа услышит о незаконном бракосочетании Генриха с Анной, это побудит его вынести решение. Дело было неотложное, ведь если Анна забеременеет и родит сына, король немедленно заставит парламент принести младенцу клятву верности как своему наследнику. Нельзя терять времени!
От лица последней депутации совета, посетившей Екатерину в начале июля, говорил лорд Маунтжой, и вид он при этом имел мрачный. Екатерина заставила себя сохранять спокойствие и достоинство. Что бы они ни сказали, она не испугается. Маунтжой прочистил горло. Очевидно, эта роль была для него неприятной. – Мадам, – начал он, не используя для обращения к ней никакого титула, – мне поручено передать вам, что король законным образом разведен и сочетался браком с леди Анной, которую возвели на трон в качестве королевы. – Как это возможно? – спросила ошарашенная Екатерина. – Папа еще не вынес решения. – Епископ Рима не имеет юридической власти в этом королевстве, – вмешался Норфолк. Екатерина дерзко взглянула на него: – Я не подчинюсь никакому решению, кроме утвержденного Римом. – Слишком поздно, мадам. Вердикт вынес его милость архиепископ Кентерберийский. У короля не может быть двух жен, и поэтому он не позволит вам упорствовать в требовании называть вас королевой. Его брак с леди Анной состоялся, этого не изменить, он одобрен парламентом, никакие ваши действия не могут его аннулировать, так что если вы будете настаивать на своем, то лишь вызовете неудовольствие всемогущего Господа и короля. – Он протянул ей пергамент, не глядя в глаза. – Здесь условия короля, которым вы должны подчиниться, и ваше признание его брака. Екатерина повернулась к Бланш де Варгас. – Принесите перо и чернила! – распорядилась она. Когда желаемое было доставлено, Екатерина села за стол, взяла документ и зачеркнула титул «вдовствующая принцесса» везде, где он использовался, с такой яростью, что кончик пера взрезал пергамент. – Я не вдовствующая принцесса, а законная жена короля! – заявила она. – И раз уж я была коронована и миропомазана как королева, а также имею от короля законное потомство, то буду называться королевой до конца своих дней! – Мадам, законная королева теперь королева Анна, – сказал лорд Маунтжой, искоса поглядывая на хмурых, разгневанных лордов. – Всем известно, чьей властью это сделано! – воскликнула Екатерина. – Это достигнуто скорее силой, чем справедливостью. Развод по закону не состоялся, и окончательное решение зависит от папы, а не от университетов. – Она помолчала и немного успокоилась. – Нет, титул королевы для меня не главное, но, только заглушив голос совести, я могу признать, что двадцать пять лет была шлюхой короля. Я делаю это не из тщеславия, но потому, что всегда была ему верной женой и не отрекусь от этого. – Как подданная короля, вы обязаны слушаться его, – заметил Маунтжой, склонившись над ее плечом. – Вы называете меня подданной короля?! – вскричала Екатерина. – Я была ею, пока он считал меня своей супругой! Но если он утверждает, что я ему не жена, тогда я не являюсь и его подданной! Я прибыла в это королевство не как товар, но как его законная жена, а не подданная, которая собирается жить под его властью. Я принесла Англии некоторую пользу и никогда не желала причинить вред этой стране. Но если я соглашусь с вашими требованиями, то возведу напраслину на саму себя и признаю, что была любовницей короля, а этого вы от меня не дождетесь! – Он обвела твердым взглядом мужчин в комнате. – Это решение было вынесено здесь, в подвластной королю стране, человеком, которого он сам возвысил, а не посторонним, незаинтересованным лицом, что было бы уместно. Будучи подданным короля, он не мог судить беспристрастно, и его выводы вызывают подозрение. Я думаю, результат был бы более справедливым, если бы дело рассматривалось в аду, потому что, мне кажется, сами демоны содрогнулись бы от ужаса, видя такое попрание правды. – Екатерина развела руки и сказала с полной серьезностью: – Если существует способ доказать, что я дала повод обвинить меня в нанесении оскорбления королю или причинении вреда его королевству, тогда я желаю быть наказанной в соответствии с законом. Маунтжой был ошарашен. Норфолк буквально зарычал на нее: – Ваше упрямство может вынудить короля лишить вашу дочь отеческой любви! Может быть, это заставит вас одуматься, если ничто иное не помогает. Это был блеф, верно? Генрих не станет срывать свой гнев против Екатерины на Марии. Хотя он уже делал это, не позволяя им встречаться, разве нет? – Принцесса, моя дочь, – законное дитя короля, нам дал ее Бог, и я отдаю ее в руки королю, чтобы он поступал с ней, как ему будет угодно, полагаясь на волю Божью и веря, что Мария окажется достойной женщиной. Ни дочь, ни какие мирские невзгоды или неудовольствие короля не заставят меня уступить в этом споре и подвергнуть опасности свою душу! Вперед выступил герцог Саффолк: – Таким упрямством вы действительно подвергаете себя опасности прогневать короля и испытать на себе последствия этого! Екатерина спокойно смотрела на него: – Даже под угрозой тысячи смертей я не соглашусь на проклятие моей души или души моего супруга-короля. Лорды переглянулись и покачали головами. – Больше говорить не о чем, – пробормотал Норфолк. – Мы попусту тратим время. Они собрались уходить. – Подождите! – сказала Екатерина. Они взглянули на нее, явно рассчитывая, что она одумалась в том смысле, который был им выгоден. Что ж, этого им пришлось бы ждать целую вечность. – Я должна спросить вас, – произнесла Екатерина. – Принято ли какое-нибудь решение относительно статуса принцессы? Потому как, если даже мой брак признан недействительным, она остается в своем праве, ведь когда мы с королем вступали в брак, теперешних законов не было. Архиепископ наверняка не посмел проявить такое бесстыдство, чтобы объявить ее бастардом? – Он этого не сделал, мадам, – сдержанно заметил доктор Стефан Гардинер, человек, верный Генриху во всех делах и даже представлявший его интересы в Риме. – Хоть это хорошо. – Екатерина вздохнула. – Принцессе объявили о его решении? – Мы сами поставили ее в известность, – ответил Норфолк. – И от имени короля приказали ей не поддерживать связи с вашей милостью. Екатерина почувствовала, что внутри у нее все умерло, но мрачно улыбнулась: – Из чего я заключаю: она объявила вам, что не признает другой королевы, кроме меня. Лорды этого не подтвердили, но по их лицам Екатерина поняла, что не ошиблась.
За неповиновение Екатерина была наказана. Еще не закончился июль, как пришел приказ короля: ей было предписано значительно сократить двор и перебраться во дворец епископа Линкольна в Бакдене, в графстве Хантингдон. «Ну что ж, пусть так, я все равно его жена», – сказала себе Екатерина и принялась размышлять, кого ей отпустить. Сделать выбор оказалось непросто, но лорд Маунтжой сообщил, что места во дворце для всех не хватит и на ее сократившиеся доходы содержать столько слуг, как сейчас, будет затруднительно. С тяжелым сердцем Екатерина собрала своих людей и отпустила тех, кого не могла взять с собой, от всего сердца поблагодарив за службу. Расставаться было трудно: они принимали этот нежданный удар и деньги, которые она вкладывала в руки каждому, со слезами на глазах. Екатерина понимала, что им будет нелегко найти новое место: разве возьмут на работу тех, кто верно служил опальной королеве? Но выбора не было, и люди это понимали. Когда они удалились собирать свои вещи, Екатерина отдала распоряжение паковать багаж. Старалась сдержать слезы в предчувствии трудного прощания, что ждало ее впереди. Ей причиняют зло не только по-крупному, но и в малых, незначительных с виду вещах, вроде сокращения штата.
Глава 31 1533 год
Был конец июля, кортеж Екатерины потихоньку двигался в Бакден. Местные жители толпами бежали следом и желали ей радости, покоя, процветания и вообще всего хорошего; яростно призывали проклятия на головы ее врагов. Мужчины и женщины, некоторые со слезами на глазах, молили ее взять их к себе на службу, а кое-кто заявлял, что им дела нет до короля и его потаскухи и они готовы умереть за Екатерину. Она благодарила их всех за доброту и хорошее к ней отношение и продолжала путь. Ее носилки были забиты скромными подношениями: букетиками цветов, корзинками яиц, кульками с вишней, горшками с маслом и медом, бутылями с домашним вином. По мере приближения к месту назначения Екатерина стала замечать постепенное изменение характера местности. Дороги пролегали по дамбам над обширной равниной, залитой водой и поросшей осокой. То тут, то там попадались убогие жилища с обмазанными глиной плетеными стенами и соломенными крышами. Иногда им встречались едва похожие на людей создания, которые пробирались по заболоченной равнине на плоскодонках или даже на ходулях. Местные жители с виду были сутуловатыми, но крепкими, с обветренной от долгого пребывания вне дома кожей. Ветер дул здесь постоянно, и вообще все это место казалось каким-то негостеприимным захолустьем. – Это Фенские болота, мадам, – сказал лорд Маунтжой, ехавший верхом рядом с носилками Екатерины. Она заметила, что в этом странном мире бесконечных вод, зарослей тростника и заболоченных лесов обитали бобры, выдры, а птицам не было числа. – Похоже, это очень нездоровое место, – сказала Бланш, уныло выглядывая из-за занавесок. Они с Элизой ехали в одних носилках с Екатериной. – Помяните мое слово: мы все подхватим здесь лихорадку. – Не думаю, – сказала Екатерина, надеясь, что расстройство ее здоровья не входило в намерения Генриха. Конечно, он хотел еще больше оградить ее от двора и от всего мира – мстил за непослушание. В этом отдаленном, диком месте поддерживать связь с Шапуи и остальными ее друзьями будет еще труднее. Настроение ухудшилось, когда вдали показались очертания Бакдена. Это был устрашающего вида замок с высокой старой башней, окруженный защитным рвом и стеной, которые отделяли его от соседней церкви и крошечной деревушки. Единственное, что можно было сказать хорошего о новом жилище: оно находилось рядом с Большим северным трактом, а это, сообразила Екатерина, вероятно, сделает возможным сообщение с Шапуи. Все дома, в которых Екатерина проживала с момента ее удаления от двора, были достаточно большими и благоустроенными, но при взгляде на Бакден сразу становилось ясно: теперь она будет обитать в гораздо более скромных условиях. Екатерина пришла в уныние, когда ей показали комнаты в угловой башне донжона, которой было уже полвека и которая выглядела соответственно. Здесь явственно ощущалось воздействие сырости болот: затхлый воздух и зловещие зеленоватые пятна на стенах. Хотя был июль и на улице стояла жара, Екатерина приказала растопить камин, однако комнаты не стали ничуть теплее и привлекательнее. Хранитель замка попытался приукрасить жилище Екатерины шерстяными гобеленами и расшитыми подушками. Потом принесли ее собственную мебель и прочие вещи, расставили все, и комнаты стали выглядеть более приветливыми и обжитыми. Но сырость от этого никуда не делась, она проникала всюду. Постельничие на ночь клали под одеяло разогретые кирпичи, но простыни оставались влажными; в обуви, которую не носили, вырастала плесень, и в покоях Екатерины всегда было прохладно. Прошло совсем немного времени, и она обнаружила, что у нее постоянно болит горло, а грудь раздирает кашель. Ее помощники часто жаловались на раздражение глаз и кожную сыпь. Все это вызывала сырость – так считала Екатерина. Знает ли Генрих, каковы условия жизни в Бакдене? – размышляла она по ночам, лежа в постели. Конечно, он выбрал это место за отдаленность. Все существо Екатерины противилось мысли, что, возможно, королем руководили более злые мотивы, когда он посылал ее сюда. Может быть, он надеялся таким образом заставить ее поскорее сдаться, а потом намеревался перевести в более здоровое место. Она не могла поверить, что он замышлял недоброе. Генриха она знала. Он мог быть жестоким, когда кто-то препятствовал осуществлению его планов, он мог быть мстительным, но предпочитал действовать по закону. Не такой он был человек, чтобы строить козни, и никогда не опустился бы до убийства. Это не в его правилах. Он был готов угрожать противникам, но только силой своих законных установлений. Анна Болейн – совсем другое дело. Екатерина не сомневалась, что эта дама не постесняется в средствах и может расправиться со своими врагами тайно. Вспомнить хотя бы покушение на епископа Фишера и угрозы Анны ему и Марии. Екатерина могла представить себе, как Анна тайком подыскивает самое нездоровое место в Англии, а потом невинным тоном делает предложение Генриху, искажая правду, лишь бы добиться своей цели. Екатерина не собиралась сдаваться. Она будет держаться твердо, какие бы страдания ни выпали ей на долю.– Всякие посещения запрещены специальным приказом короля, – по прибытии сообщил Екатерине лорд Маунтжой. Однако милая Элиза легко завела флирт со стражниками, охранявшими ворота. Прошло совсем немного времени, и она добилась того, что они стали выпускать ее за пределы замка, в деревню. – Если они доложат лорду Маунтжою, – говорила она, – я покажу ему свои покупки. Она принесла Екатерине каравай свежего хлеба, немного сыра и горшок мармелада из айвы. В эти вылазки можно было тайком передавать с повозками письма в Лондон, а потом надеяться и молиться, чтобы Шапуи их получил. Тем временем Екатерину тревожили мысли о том, как мало у нее средств для содержания себя и своих слуг. Им придется жить очень скромно и бережливо, а то, что удастся сэкономить, она станет раздавать в качестве милостыни окрестным беднякам. К счастью, болота изобиловали рыбой. На столе у Екатерины появлялись окунь, плотва, палтус и миноги. Мяса тут было мало, но это ее не беспокоило, она привыкла поститься ради здоровья телесного и духовного, причем не только по пятницам, но и в другие дни. Посредством самоограничения и покаяния она скорее достучится до Господа и подвигнет Его взглянуть на нее благосклонно. В молитве Екатерина находила главное утешение. В ее покоях имелась комната, откуда можно было видеть алтарь замковой церкви. Здесь Екатерина и преклоняла колени. Всегда одна, почти каждый день и каждую ночь она молилась у окна, опираясь на подоконник. Часто он становился влажным от ее слез, пролитых в одиночестве, печали и тоске по Генриху и Марии. Остальное время Екатерина проводила со своими дамами: они шили напрестольные пелены и священнические облачения для церквей близ Бакдена.
Они прожили в Бакдене совсем недолго, когда лорд Маунтжой принес письмо для Джейн Сеймур. – Плохие новости? – мягко спросила Екатерина, наблюдая за лицом девушки, пока та читала. – Да, мадам. Отец приказывает мне безотлагательно вернуться домой. Говорит, что нашел мне место при дворе и оно ему досталось дорогой ценой. – У леди Анны? Кому еще могла служить Джейн при дворе? Сэр Джон Сеймур явно не терял времени даром. – Боюсь, что да, мадам. – Джейн заплакала. – Позвольте мне остаться, ваша милость! О, позвольте мне остаться! Вы могли бы написать моему отцу и приказать ему… – Тише, дитя мое, вы думаете, мое слово имеет хоть какой-то вес? Кроме того, для вас же выгоднее служить тому, кто в фаворе, чем тому, кто в опале. Ваш отец умен, он понимает это. – Но я не могу служить ей. Я ненавижу ее и все, за что она борется! Екатерина испугалась, увидев робкую, смиренную Джейн такой разъяренной. – Мне очень жаль, – сказала она, – но выхода нет. Вы должны выполнить волю отца и поехать, с вами будет мое благословение. Тут Джейн снова разрыдалась. – У меня никогда не будет такой доброй госпожи, – всхлипывая, говорила она, ее светлые глаза покраснели от слез. – Я желаю, желаю от всего сердца вашей милости и принцессе, чтобы все ваши неприятности счастливо разрешились. Обливаясь слезами, Джейн удалилась и упаковала свои вещи, а лорд Маунтжой тем временем подготовил лошадей и эскорт, чтобы отвезти ее на юг. Джейн крепко прижалась к Екатерине, когда та обняла ее на прощание. – Вашей милости известно: я еду не по своей воле! – Я это знаю, – утешала ее Екатерина. – Да пребудет с вами Господь навеки. Последний реверанс – и Джейн уехала. Екатерина смотрела вслед маленькой кавалькаде. Вот распахнулись ворота замка, чтобы выпустить путников. Как она завидовала Джейн, которая ехала на свободу, ко двору, туда, где был Генрих…
Посланник короля поклонился и передал Екатерине письмо. Она осторожно взяла его, сломала печать и прочла. Это было послание от Тайного совета. Король требовал, чтобы вдовствующая принцесса прислала ему триумфальную накидку и крестильную пелену, которую привезла из Испании, чтобы заворачивать своих детей для совершения над ними обряда крещения. Эти вещи будут использованы для ребенка, которого скоро родит ему его возлюбленная супруга королева Анна. За последние несколько лет Екатерина получила много ударов судьбы и вынесла немало жестокостей, однако очередное требование короля показалось ей последним и окончательным предательством. Оно стало осязаемым свидетельством того, что ее супруг теперь принадлежал другой, даже если и женился на ней вопреки закону, и Екатерина с новой силой болезненно осознала, как близки эти двое. Но это было еще не все! Неужели Анна недостаточно удовлетворена всем тем, что уже забрала у нее, и теперь ей понадобилось пурпурное бархатное крестильное покрывало с длинным шлейфом, в котором несли к купели дочь Екатерины и ее бесценного первого сына? Сама мысль об этом была невыносима! Кроме того, накидка принадлежала Екатерине и была подарена ей матерью; она лежала, слегка пожелтевшая, но бережно хранимая, на дне сундука. Екатерина удивилась: неужели Генрих мог быть настолько бесчувственным, что согласился предъявить такое требование? Нет сомнений, он боялся огорчить Анну, когда та должна вот-вот родить. Екатерина отослала гонца на кухню чего-нибудь поесть – бедный парень, он не виноват, что принес такую ужасную новость, – и села обдумать ответ. Он был короток, но предельно ясен: – Можете передать его милости: Господа не порадует, если я, последовав дурному совету, окажу содействие в таком ужасном деле. Ответа не последовало. Екатерина одержала маленькую победу.
Замысел Элизы удался. Послание Екатерины дошло до Шапуи, и он поселил своего человека в гостинице «Лев» в Бакдене. Екатерина истово благодарила Господа. Наконец-то она снова была на связи со своим верным другом, который продолжал без устали трудиться ради ее блага. С Марией все хорошо. Это было главное, что она хотела услышать. Но другая новость из письма Шапуи заставила Екатерину похолодеть. Умерла сестра Генриха, «королева Франции». Некоторое время она страдала от болей в боку и рассталась с жизнью в Уэсторпе в июне. «А я и не знала!» – подумала Екатерина. Сколько было ее золовке? Тридцать семь? Слишком рано умирать и оставлять детей сиротами. Вся эта золотистая краса померкла и уже не воссияет вновь. «Королева Франции» была верным и искренним другом Екатерины, она не боялась обидеть своего брата-короля, который, несмотря на все их разногласия, должен был ощутить боль утраты. Екатерина печалилась и за нее, и за Генриха. Смахнув слезу, Екатерина принялась дочитывать письмо Шапуи. Его святейшество, осердясь на Генриха за женитьбу на Леди без папского дозволения, немедленно объявил их брачный союз недействительным. Более того, он пригрозил королю отлучением от Церкви, если тот до сентября не расстанется с Леди. – Не дай Бог! – громко воскликнула Екатерина. Переполошившись, вбежали горничные – узнать, что ее обеспокоило. – Я никому такого не пожелаю, и меньше всего моему господину. Она не могла вынести мысль, что Генрих будет отлучен от Церкви, выброшен из сообщества христиан, и тотчас же написала папе: «Я умоляю Ваше Святейшество не приводить в исполнение приговор об отлучении короля от Церкви, чтобы не толкать его и дальше по пути схизмы и не разрушать окончательно мои надежды на примирение». Конечно, Генрих станет обвинять ее, ведь именно она обратилась за решением в Рим. Элиза взяла письмо, пококетничала со стражниками и беспечно поскакала в деревню. Скоро это стало обычным делом. Через несколько дней было получено новое письмо от Шапуи. У Екатерины отлегло от сердца, и одновременно она встревожилась: император пришел в ярость, когда узнал, как с ней обходятся, и заявил, что, если она пожелает, ради нее он объявит войну Англии. – Нет, – вслух произнесла Екатерина. – Никогда! Горничные озадаченно посмотрели на нее, и она поняла, что снова разговаривает сама с собой. Не в первый раз Екатерина пожалела о том, что с отъездом Марии при ее дворе не осталось старших дам, которым она могла бы довериться. Как она тосковала по Марии, Маргарет и Мод! С лордом Маунтжоем откровенные разговоры заводить было невозможно. Он и без того находился в сложной ситуации. Фрейлинам Екатерина тоже не смела высказывать свои страхи. Да, они покладисты, верны, хорошо относятся к ней, но все они еще слишком юны, любят посплетничать и вообще ей неровня. Девушки еще не приучились к сдержанности, которая приходит с возрастом и ответственностью. А война – дело серьезное. Слегка дрожа, Екатерина продолжила чтение. Было ясно: Генрих опасается возможных шагов императора. Кромвель выспрашивал у Шапуи, возможно ли вторжение. «Но я не поддался», – писал посол, потому что, конечно, он пока не знал, какого направления будет придерживаться сама Екатерина. Она чувствовала: посол надеется, что она попросит императора совершить худшее. Именно так поступил бы сам Шапуи, учитывая склад его ума; он сказал бы, что Генрих заслужил, чтобы вся мощь Испании и империи обрушила на него возмездие. Кромвель знал об отваге Екатерины и явно ее побаивался. Он заметил Шапуи: «Хорошо, что вдовствующая принцесса – женщина. Природа ошиблась, не сотворив ее мужчиной. Несмотря на пол, она способна превзойти храбростью всех исторических героев». Екатерине было приятно узнать об этом, но войны она не хотела. Это было последнее, чего могла пожелать своему супругу верная жена, и она твердо решилась никогда не соглашаться на это. Не станет она призывать несчастья на головы людей, которые так тепло приняли ее и полюбили от всего сердца. К тому же, если у Генриха появится хотя бы слабое подозрение, что она поддерживает намерения императора или хотя бы создает видимость, что одобряет его угрозы, тогда он получит полное право осудить ее за подстрекательство к войне. А это во всех ученых трудах трактовалось как измена, и никто не станет разбираться, чьей подданной она была.
Следующие известия, полученные от Шапуи, были поистине невероятными. Похоже, Анна стала наскучивать Генриху. Он ей изменял. Шапуи не сообщал с кем, зато в больших подробностях описывал, как король, разозлившись на гневные тирады Леди, узнавшей обо всем, велел ей закрыть глаза и молча терпеть, как поступали более достойные персоны. И еще добавил, что ей следует помнить: в его власти мгновенно вернуть ее в прежнее положение, хотя он и вознес ее так высоко. Два или три дня он не разговаривал с Леди, и после этого отношения между ними оставались натянутыми. В душе у Екатерины затеплилась надежда: а вдруг это начало конца? Но потом она прочла, что Шапуи считает эту размолвку просто ссорой влюбленных и советует не придавать ей особого значения. Однако Екатерина подумала: здесь кроется нечто большее. Меньше года назад Анна была госпожой, а Генрих – обожающим, безропотным слугой. Возможно, он начал понимать, что Анна не подходит на роль королевы. Соблазнительное в любовнице не всегда подходит жене. Приятно было узнать, что Генрих сравнил леди Анну со своей истинной королевой, и не в пользу первой. Возможно, он проявил интерес к другим женщинам, дабы получить то, чего был лишен во время беременности Анны. Но само то, что он вообще задумался об этом, позволило Екатерине надеяться на охлаждение его чувств к Леди.
Однажды утром в начале сентября громко зазвонили церковные колокола. Екатерина оторвалась от своего занятия и задержала дыхание: возможно, этот радостный трезвон оповещает о рождении у Генриха и Анны сына. Если так, ей этого не пережить. Когда явился лорд Маунтжой и в высоких выражениях объявил Екатерине о рождении принцессы, она не знала, плакать ей или торжествовать. Шапуи сообщал, что Генрих и Анна не скрывали разочарования полом ребенка. «Они горько упрекали всех докторов и астрологов, предвещавших рождение мальчика. Я могу заключить только одно: Господь окончательно отвернулся от этого короля». Екатерина ужаснулась, узнав, что одной из восприемниц назначена Гертруда Блаунт. Она подозревала, что ее отцу, лорду Маунтжою, уготована та же роль, хотя он не подавал виду. «Леди Эксетер не хотела иметь к этому никакого отношения, – рассказывал Шапуи. – Она отказалась присутствовать на коронации Леди, но теперь получила строгий приказ: король предупредил обоих супругов, что они должны явиться под страхом лишения головы». Генрих загнал Гертруду в угол, ее публичная роль в церемонии крещения заставит людей полагать, будто она отреклась от Екатерины. Но в это сама Екатерина поверить не могла. «Это была бы честь, добытая злодеянием», – подумала она. «Крестины маленького бастарда прошли в холодной и унылой атмосфере, – продолжал Шапуи. – Не было фейерверков, и никто из жителей Лондона не зажигал иллюминации». Бастард или нет, но этого ребенка, нареченного Елизаветой в честь матери Генриха, все равно превозносили как законнорожденного наследника короля, тогда как права Марии очевидным образом замалчивались. А она была первой в череде возможных преемников. Екатерина впадала в отчаяние. Что она могла предпринять? Она была беспомощна, замурована в Бакдене. Оставалось лишь цепляться за многократно испытанную на прочность веру в прирожденную порядочность Генриха и его любовь к Марии да молиться о том, чтобы его греховная страсть к Анне прошла. Шапуи упомянул, почти мельком, о повторной женитьбе герцога Саффолка. Екатерина была потрясена, особенно притом что бедная «королева Франции» сошла в могилу менее трех месяцев назад. По мере чтения глаза Екатерины расширялись и расширялись. Новой женой герцога стала дочь Марии, ее собственная крестница Кэтрин Уиллоуби. Екатерина произвела быстрый подсчет: девочке было всего четырнадцать, а герцогу, должно быть, уже стукнуло пятьдесят! Он даже не стал утруждать себя соблюдением приличного срока траура. Конечно, он вожделел заполучить имения Кэтрин Уиллоуби, а та была богатой наследницей. Но погодите-ка: разве девушка несколько лет назад не была обручена с его сыном? Екатерина уверенно вспомнила, что Мария сообщала ей об этом. В таком случае герцог оскорбил не только память своей почившей супруги, но и собственного отпрыска – свою плоть и кровь. И – Екатерина почти улыбнулась сама себе – вместе с украденной невестой он получил тещу, которая его от души ненавидит! Она хорошо представляла, как складываются отношения между этими двумя: Мария – лучшая подруга королевы и герцог – послушный инструмент в руках короля. Кажется, в этом мире все-таки существует некая естественная справедливость.
Элиза говорила Екатерине, что стражники теперь не склонны делиться с ней сплетнями, но однажды она вернулась со своего задания, плача навзрыд. Екатерине пришлось успокаивать ее, прежде чем удалось добиться от девушки рассказа, что же такое ей сообщили. – Они сказали, что на следующей сессии парламент будет решать, должны ли ваша милость и принцесса быть подвергнуты пыткам, – сквозь всхлипы выдавила из себя Элиза. Екатерину пробила неудержимая дрожь, она послала за лордом Маунтжоем и спросила его, правда ли это. Внимательные глаза камергера, полуприкрытые тяжелыми веками, были наполнены состраданием, которое лорду приходилось сдерживать. – Солдаты опередили меня, мадам. Я собирался сообщить вам, что получил инструкции от совета предупредить вас об угрозе. Услышав это, Екатерина ощутила тошноту, но, кроме того, разъярилась. – Это не что иное, как коварный заговор с целью запугать меня и принудить к покорности! – храбро заявила она, хотя куража ощущала меньше, чем выражала на словах. Лорд Маунтжой ничего не ответил, но во взгляде его читались невысказанные мысли. Екатерина подумала, что он хочет согласиться с ее мнением: мол, да, так и есть. Но что, если это правда? «Я готова претерпеть муки, – сообщила она Шапуи, – и знаю, что принцесса так же тверда в своих убеждениях». Тем не менее мысль о том, что Марию, невинную, чистосердечную девушку, подвергнут пыткам, была невыносима, однако Екатерина не отступилась. «Надеюсь, Господь примет это как мученичество за веру, ведь мы должны страдать за правду, – писала она. – Не беспокойтесь, я не боюсь». Несмотря на свои смелые речи, Екатерина ужасно испугалась, когда Шапуи написал ей, что, по его мнению, стражникам приказали распространять зловещие слухи, дабы сломить сопротивление Екатерины, и это дурное предзнаменование. «У короля нет законных оснований преследовать вас по суду, но принцесса, без сомнения, его подданная, вот почему я опасаюсь за нее». У Екатерины закружилась голова, она могла только согласиться с Шапуи и вместе с ним прийти к заключению, что члены английского правительства повредились рассудком. С облегчением прочла она о том, что Шапуи еще раз написал императору, умоляя его снова оказать давление на папу, дабы тот больше не откладывал вынесение вердикта. Дело стало совсем уж срочным, подчеркивал он, потому как недавний арест по обвинению в измене монахини из Кента показал, что Генрих решил жестоко расправиться с теми, кто выступает против него. Екатерина взмолилась, чтобы, когда дело дойдет до нее и Марии, боязнь ответных мер со стороны Карла остановила Генриха. Она молилась и о кентской монахине, этом несчастном, заблудшем создании. Екатерина благодарила Господа, что твердо отказала этой женщине в аудиенции: если бы она с ней повстречалась, ее легко было бы приплести к делу об измене. Кромвель наверняка из кожи вон лез, лишь бы найти свидетельства того, что Екатерина когда-нибудь писала монахине или посылала ей устные сообщения. Но на этот счет Екатерина могла быть совершенно спокойна.
Перед Екатериной стоял лорд Маунтжой. За эти последние трудные годы на службе у королевы он сильно постарел и превратился в бледную тень того красивого, уверенного в себе молодого ученого, каким был когда-то. Она понимала, что последние угрозы ей и Марии стали слишком сильным испытанием для этого добропорядочного человека. – Ваша милость, – произнес Маунтжой срывающимся голосом, – я пришел сказать вам, что просил освободить меня от обязанностей вашего камергера. – Он замялся, видя, что глаза Екатерины наполнились слезами. – Я больше не могу быть участником травли, которой вы подвергаетесь. И не считаю частью своих обязанностей досаждать вам и тревожить вас, тем более что король брал с меня клятву служить вам как можно исправнее. Я бы предпочел содействовать ему в каких угодно делах, даже в опасных, чем и дальше быть замешанным в это. – О, это очень печальный день, милорд, – сказала Екатерина, до глубины души тронутая столь откровенным выражением верности и поддержки. Она уже давно подозревала, что лорд Маунтжой глубоко несчастен, ему не по нраву выполнять распоряжения, которые приходили из совета, но услышать от него открытое осуждение королю не ожидала. – Вы столько лет служили мне верой и правдой, – сказала Екатерина, едва сохраняя спокойствие. – Я буду сильно опечалена, если вы покинете меня. Она уже готовилась потерять еще одного верного друга, но тут пришел ответ от короля. Генрих не давал лорду Маунтжою уйти в отставку. – Я так рада! – сказала камергеру Екатерина. Ее переполняло чувство облегчения и благодарности, что Генрих невольно оставил при ней союзника. Лорд Маунтжой взглянул на Екатерину с легким смущением. – Отныне и впредь я буду делать все, что в моих силах, дабы облегчить вашу жизнь, – заверил ее старый слуга. – Это будет для меня большим утешением, милорд. И если вам придется обходиться со мной сурово при посторонних, я пойму.
Вести от Шапуи теперь приходили довольно регулярно. Кажется, никто не догадывался, что набеги Элизы в Бакден имели какую-либо иную цель, кроме покупки провизии. Екатерина узнала, что монахиню из Кента заставили публично покаяться, ее провели по улицам Лондона до креста Павла, где была прочтена проповедь с порицанием в ее адрес. «Король хочет, чтобы парламент принял акт, осуждающий ее как виновную в государственной измене, – сообщал Шапуи. – Он не желает подвергать эту женщину открытому судебному разбирательству из страха, что это спровоцирует выступления против него. Даже король Ричард Третий не был настолько ненавистен народу, как этот король, и Леди тоже не пользуется особой любовью». В декабре Екатерина узнала, что для дочери Анны образован двор в Хатфилде. Мария отказалась признать Елизавету наследницей отца и храбро отстаивала свое мнение: она, и только она является истинной дочерью короля, рожденной в законном брачном союзе. Мария открыто заявила, что не станет бесчестить свою мать, своего отца, Святую церковь и папу, признавая себя незаконнорожденной. Никто не может сделать ее бастардом – в этом Екатерина была уверена. Ее родители заключили брак по всем правилам. Однако, очевидно, именно лишить Марию законных прав и хотели ее недоброжелатели. И если Мария продолжит противиться королю, ее недруги наверняка удвоят усилия. Екатерина аплодировала стойкости и отваге своей дочери, но в то же время боялась, как бы это не вышло ей боком. «Король сам по натуре не злонравен, – отмечал Шапуи. – Это Анна сделала его таким и отчуждает от гуманности, свойственной ему ранее». Анна явно была ревнива. И она понимала, что Мария любима народом, а ее собственного ребенка многие считают бастардом. Без сомнения, она боялась – и справедливо, – что вокруг Марии соберутся противники ее брака с королем. Поэтому она мстила. Екатерина пришла в ужас,получив известие о лишении Марии титула принцессы; ее дворец в Бьюли отдали Джорджу Болейну; ее драгоценности были отняты и перешли к самой Анне, которая заявила, что побочной дочери короля непозволительно носить то, что предназначено для его законной наследницы. Потом пришла жуткая новость: двор Марии распущен, а сама она отправлена в Хатфилд служить в качестве фрейлины Елизавете. Мало того, ее любимая леди Солсбери получила отставку, так как отказалась передать драгоценности Марии Анне Болейн, и ее место заняла леди Шелтон, тетка Анны, которая, по общим отзывам, очень плохо обращалась с Марией. Екатерина знала, что Мария боялась попасть в ситуацию, которая заденет ее честь, и постоянно держалась настороже. Екатерина страдала при мысли о переносимых дочерью испытаниях. Со страхом внимала она известиям об ухудшении ее здоровья. Шапуи писал, что Мария живет в страхе быть отравленной, и это подстегивало лихорадочное воображение Екатерины, ведь Марию окружали враждебные ей родственники и прочие приверженцы Анны Болейн, которые часто проявляли оскорбительную дерзость и не постеснялись бы прибегнуть к греховным средствам.
Зима была холодная. Фенские болота замерзли, местные жители стали пересекать ледяные просторы на коньках из костей животных. Ветры, дувшие беспрерывно вдоль и поперек этой обширной равнины, завывали и ревели в трубах, врывались в дом сквозь каждую щелочку в дверях и окнах; в старой башне было сыро и холодно, как никогда. Екатерина знала: жизнь в таких суровых условиях не идет на пользу ее здоровью. У нее появилось смутное ощущение, что в нее пробираются болезни, она не могла дать этому точного описания, просто постепенно слабела. Доктор де ла Саа и доктор Гуэрси прописывали ей бесконечные настойки и травяные отвары, однако ничто не помогало. Даже молоденькие горничные жаловались на простуды и постоянный насморк. Так больше продолжаться не могло. Это место постепенно убивало их. Екатерина отправила послание совету с просьбой, обращенной к королю, позволить ей перебраться в более безопасное для здоровья место. Но не успели они дождаться ответа, как пришло спешное письмо от Шапуи.
Леди настояла, чтобы Вашу Милость перевели в замок Сомерсхэм – другую резиденцию, со всех сторон окруженную водой и болотами. Король, который не смеет ей перечить, согласился заточить Вашу Милость в этом удаленном месте и обвинить в том, что Вы безумны, как королева Хуана, о которой всем известно. Я в самых твердых выражениях выразил протест, заявив, что Сомерсхэм – это самое нездоровое и тлетворное место во всей Англии, и благодаря моему вмешательству король изменил решение, хотя и был не очень-то доволен моими действиями. Но все же он побаивается императора.Действительно, вскоре лорд Маунтжой докладывал Екатерине о предложении короля переселить ее в замок Фотерингей, которым она сама владела в те времена, когда никто не посягал на ее статус королевы. Однако Шапуи напрасно торжествовал. В те далекие времена Екатерина не жалела средств на замок, но посещала его недостаточно часто для того, чтобы оценить объем необходимых издержек; деньги все равно тратились, как оказалось, впустую. Подновления не спасли старинную отделку зданий от разрушения. Одному Богу известно, в каком состоянии находился сейчас Фотерингей – возможно, в худшем, чем Сомерсхэм. Неприятнее всего было то, что Генрих знал это. Екатерина повернулась к лорду Маунтжою: – Мне не особенно хочется ехать в Фотерингей, хотя я с удовольствием покину это место. – Я напишу королю, – ответил камергер.
Екатерина надеялась, что больше не услышит об этом деле. Приближалось Рождество, и, пока Екатерина собиралась с духом, чтобы провести очередной Йоль без Марии, ее бакденский двор изо всех сил старался натянуть на лица бодрые улыбки и сделать скромные приготовления, чтобы хоть немного приподнять настроение к празднику. Хотя, судя по всему, праздничное угощение будет состоять в основном из рыбы. Потом вдруг прибыл герцог Саффолк во главе отряда королевских стражников. Саффолк больше не был красивым и жизнерадостным кавалером, который тайком женился на сестре короля. Перед Екатериной склонился грузный мужчина, в его лопатообразной бороде посверкивала седина. Тем не менее сходство этого человека с Генрихом вновь поразило Екатерину. Не дай Бог, чтобы ее супруг когда-нибудь стал выглядеть таким дряхлым, как герцог! Что должна чувствовать Мария, видя свою дочь связанной с таким жалким представителем мужского пола? Закутанный в меха Саффолк придвинулся ближе к камину, у которого сидела Екатерина. Она радовалась, что герцог на собственной шкуре чувствует кусачий холод и вдыхает нездоровые миазмы этой местности. Можно надеяться, что он расскажет обо всем, что испытал, своему другу-королю. Крупный мужчина, Саффолк стоял перед ней со смущенным видом. Зачем вообще он приехал? – дивилась Екатерина? – Как поживает моя крестница? – спросила она, потому что герцог, похоже, не спешил оповещать ее о цели визита. Герцог нахмурился. – Я приехал сюда не для обмена любезностями, мадам, – запальчиво сказал он, – а совсем по другому делу. Саффолк помолчал, переступил с одной ноги на другую. Екатерина предположила, что ему неприятно поручение, для исполнения которого он прибыл, и он хочет поскорее вернуться домой, к своей молодой супруге, в тепло и великолепие готовящегося к Рождеству двора. – Мадам, – хрипловатым голосом заговорил он, – по пути сюда я надеялся на какое-нибудь непредвиденное происшествие, которое помешает выполнить возложенное на меня поручение, потому что мне приказано распустить всех ваших слуг, кроме самых необходимых. Те, кто останется, не должны больше называть вас королевой, но только вдовствующей принцессой. – Вы должны исполнить приказание, но сами знаете, я лично говорила вам, что никогда не признаю этого титула, – строго сказала Екатерина. – Не пора ли вам осознать, мадам, на что вы толкаете короля. Посмотрите на эти письма… Саффолк извлек из-под дублета связку бумаг и передал их ей. Это были копии ее писем к папе. – Осмелюсь ли я напомнить вашей милости, как вы искали средства навлечь неприятности на короля и его страну? Что ж, мое посещение имеет целью сделать так, чтобы вы больше не утруждали себя такими заботами. Екатерина горячо возразила: – А я осмелюсь напомнить вам, милорд, что именно моя просьба, обращенная к его святейшеству, помогла королю избежать отлучения от Церкви! Моему супругу известно, что я не желаю ему зла и выказываю покорность во всех вопросах, которые не затрагивают мою совесть. Ему известно также, что в отношении законности нашего брака я скорее позволю разорвать себя на куски, чем откажусь признавать себя его законной женой! – Я вижу, вы упрямы, как всегда. – Саффолк вздохнул. – А раз так, то мне поручено безотлагательно препроводить вас в Сомерсхэм. – Нет. Я не поеду. Если бы я сделала это, то подвергла бы опасности себя и своих слуг. Этот дом непригоден для житья, но Сомерсхэм еще хуже. Король знает об этом, а также о моем нежелании переезжать туда. – Король непреклонен. – Я вам сказала, это больше не обсуждается. – Екатерина снова почувствовала, как в ней вскипает кровь. – Мадам, если вы не поедете по доброй воле, мне придется вас заставить. Таковы распоряжения его милости. – Я сказала «нет»! Вы разве не слышали меня, милорд? – У меня есть приказ, мадам! Этого допускать было нельзя! Она не поедет. Она останется здесь, и пусть они попробуют заставить ее силой. Екатерина была в таком бешенстве, что ее трясло. Не говоря больше ни слова, она встала, несколькими быстрыми шагами прошла в свою комнату, захлопнула за собой дверь и задвинула толстый дубовый засов в металлическую скобу. – Если хотите увезти меня, вам придется сломать дверь! – в сердцах крикнула она. Герцог стукнул в дверь: – Мадам, выходите! Бесполезно противиться приказам короля. Вы только навредите себе. – Я наврежу себе, если поеду в Сомерсхэм. Это меня убьет! – Король может расценить ваше непослушание как измену. – А я могу расценить его приказы как бесчеловечность! Он что же, хочет, чтобы моя смерть лежала на его совести? Они спорили не меньше десяти минут, наконец герцог умолк. После короткой паузы Екатерина услышала в соседней комнате приглушенные мужские голоса. Она приложила ухо к замочной скважине. – Я не смею выламывать дверь и брать ее силой, – говорил Саффолк. – Она тетка императора, могут быть последствия. Давайте займемся роспуском слуг. Лорд Маунтжой, созовите их всех сюда, будьте добры. Екатерина стояла и напряженно вслушивалась в доносившиеся из-за двери голоса. Герцог зачитывал список ее домочадцев, которые должны были уйти. Такие знакомые имена, проверенные люди… И после долгих лет честной службы быть выкинутыми вон, как будто они совершили какой-то проступок. Она слышала всхлипы женщин и сама готова была расплакаться. – Вам приказано от имени короля отныне называть свою госпожу вдовствующей принцессой, – говорил Саффолк. – Милорд, выслушайте нас. – Это был голос капеллана отца Эйбелла. – Мы все принесли клятву верности королеве Екатерине и не можем нарушать ее, называя свою госпожу как-либо иначе. – Мне говорили, что от вас следует ждать беды! – прорычал Саффолк. – Возьмите его и этого, второго священника тоже – да, и всех остальных, кто выкажет неповиновение, – и посадите под замок в домике привратника. Послышалось шарканье ног, с грохотом захлопнулась наружная дверь. – Я сегодня напишу королю и спрошу, что с ними делать, – донесся до Екатерины голос Саффолка. Потом, несколько громче, он продолжил: – Теперь те из вас, кто остаются, должны принести новую клятву верности вдовствующей принцессе. Раздался хор протестующих голосов. Герцог корил и угрожал, а под конец прокричал, что сегодня же вечером доложит королю об их неповиновении. После этого некоторые сдались и поклялись. Екатерина с тяжелым сердцем слушала их, хотя была рада, что не лишится всех своих слуг. Они высказали возражения и уступили, принимая в соображение ее интересы. Но потом зазвучали самые дорогие Екатерине голоса – Элизы и сестер Отвелл, а также других ее служанок-женщин. Нет, они не дадут такой клятвы! – Тогда вы уволены, – сказал Саффолк. Екатерина опустилась на пол и прижала ладонь ко рту, дабы заглушить протестующий крик и рыдания. Послышались приглушенные звуки шагов, затем наступила тишина. Екатерина сидела, прислонившись спиной к двери и понуро опустив плечи. С ней остались только сестры Варгас – испанки, а потому их никто не мог заставить давать клятву. Бланш была довольно исполнительна, но ей уже пятьдесят, и суставы у нее скрипят, а вот Исабель хотя и остроумна в беседе, но ленива и почти бесполезна. Как будет скучать Екатерина по Элизе – Элизе, которая могла поддерживать связь с Шапуи! Но не только из-за этого. Ей будет не хватать веселого нрава этой девушки, ее доброты и силы. А Марджери Отвелл – она так поддерживала Екатерину в последние месяцы. А все остальные ее милые, добрые наперсницы, которых она так нежно любила… Екатерина услышала за дверью шаги, потом голос Саффолка: – Мадам, прошу вас, выходите! Она не ответила. Сидя на полу, она опиралась спиной на тяжелую дубовую дверь и сжимала в руках четки. – Мадам, вам же будет хуже, если вы продолжите упорствовать в этом безрассудстве! Умоляю вас, прислушайтесь к голосу разума. – Ваша милость, герцог дело говорит! – Это был лорд Маунтжой. – Ваше поведение противоречит всем разумным доводам, – снова вмешался Саффолк. – Я не выйду и не поеду в Сомерсхэм, если только вы не свяжете меня веревками и силой не принудите к этому! – после долгой паузы ответила Екатерина. – И я не приму услуг ни одного из тех, кто присягнул мне как вдовствующей принцессе. – Мадам, необходимые вам слуги будут заменены теми, кто более послушен его милости королю. – Я не приму никаких других! Не имея достойных слуг, я буду спать в одежде и держать эту дверь запертой! За дверью снова послышалось шушуканье. – Из своенравия она может сказаться больной и не встанет с постели, или откажется одеваться, или станет делать еще какие-нибудь глупости, – услышала Екатерина слова Саффолка. – Боже мой, это упрямейшая из женщин! – Но ей должны прислуживать как положено, – пробормотал Маунтжой. – Очень хорошо, – провозгласил Саффолк. – Две англичанки могут остаться. Кто? Екатерина испустила вздох облегчения: – Благодарю вас, милорд! Я хочу, чтобы со мной были Элизабет Даррелл и Марджери Отвелл. – Отлично. Но они не будут называть вас королевой. И вы должны выйти. – Нет. Послышался вздох Саффолка. – Неужели нет другого средства доставить ее в Сомерсхэм, как только силой? – спросил Маунтжой. – Должен признаться, я нахожу эту перспективу отвратительной. – Я тоже. – Саффолк хмыкнул. – Моя теща больше никогда не заговорит со мной, хотя это было бы благом, поверьте мне! Но я не могу просто вынести вашу госпожу из дому. Я должен спросить, какое решение удовлетворит короля в данном случае. Уповаю на Господа, чтобы ответ пришел к двадцать первому, в противном случае времени перевезти ее до Рождества не останется. – Он понизил голос, но Екатерина все равно разобрала слова. – Милорд, – пробормотал Саффолк, – я нахожу, что дела здесь обстоят далеко не так, как думает король. – Что имеет в виду ваша светлость? – Его милость считает, что вдовствующая принцесса в добром здравии, настроена по-боевому и готовится к войне с ним. Но я был потрясен тем, как она сдала. Исхудала и выглядит нездоровой. Поверьте мне, я не получаю никакого удовольствия, принуждая больную женщину переезжать в полуразрушенный дом. Я уверен, если бы король был в курсе, то выбрал бы для нее какое-нибудь другое жилище. «Если бы леди Анна ему это позволила!» – мрачно подумала Екатерина, с трудом поднимаясь на ноги и направляясь в спальню. Она больше не хотела ничего слышать. Ее встревожили слова Саффолка о том, какое впечатление она производит, ведь сама Екатерина не осознавала, что выглядит настолько нездоровой. Она сильно похудела, это правда, но это было следствием продолжительных постов и однообразия в пище. В последнее время ощущение болезни в ней усилилось, но Екатерина относила его на счет воздействия бакденского холода и сырости. Она посмотрела на себя в зеркало. На нее взирало бледное, изможденное лицо. Бесцветное, осунувшееся… старое. Красота осталась в прошлом, да и чего ожидать в сорок восемь. Она выглядела измученной, а кто бы не стал таким в ее-то обстоятельствах? Голоса стихли. Екатерина была одна в верхних комнатах башни, никто не мог оказать ей помощь. Она давно не ела, но это не имело значения, потому что голода она не ощущала. Попыталась молиться, но мысли были слишком растревожены, и страшило ожидаемое завтра. Не было камыша, чтобы зажечь свечи, комнаты оставались темными и холодными. Без горничных Екатерина не могла расшнуровать платье и раздеться, чтобы лечь в постель, хотя все равно снимать одежду было слишком холодно. Сняв чепец, туфли и подвеску, которую она носила всегда, – крест с тремя жемчужинами, подаренный ей Генрихом давным-давно, – она забралась в постель и свернулась клубком под покрывалом.
На следующий день ее разбудил стук в дверь. Это был Саффолк. Не обращая внимания, она села перед зеркалом и попыталась привести в порядок волосы, чтобы надеть чепец. Было так холодно, что Екатерина отыскала толстую шаль и завернулась в нее. Теперь у дверей стоял лорд Маунтжой и кричал, что принес ей завтрак. У Екатерины слегка кружилась голова от голода, но она боялась открыть дверь, чтобы ее не схватили и не отправили насильно в Сомерсхэм. – Унесите все! – крикнула она. Камергер слезно просил, но она была неумолима. Дрожа, Екатерина подошла к окну посмотреть на заиндевевший мир и тут заметила странную вещь. Там были люди, судя по одежде из грубой домотканой материи – местные батраки с ферм. Они молча собирались за крепостной стеной и распределялись группами вокруг замка. Руки у всех были в перчатках, а в руках – косы, вилы и прочие хозяйственные инструменты. Люди держали их на изготовку, будто оружие, но ничего не делали, просто стояли, смотрели и ждали. Екатерина долго следила за ними. Чего они хотели? Зачем пришли? Потом она увидела среди наблюдавших за дворцом одного из своих уволенных слуг, и тут ее осенило. Ее люди, отосланные из замка, должно быть, рассказали местным жителям, что происходит в башне. И они пришли, эти добрые, верные люди, чтобы выразить молчаливый протест и защитить свою любимую королеву. Это зрелище невероятно ободрило Екатерину.
Позже в тот же день она преисполнилась радости, услышав за дверями голос Элизы. – Мадам, я принесла вам поесть. Со мной плотник. Он выбьет одну из филёнок внизу двери, чтобы я могла передать еду. – Благодарение Господу! – выдохнула Екатерина. Она уже едва не падала в обморок от голода. – Марджери еще здесь? – Да, мадам, она тоже остается. – Как я рада! Я просила вас обеих. Герцог позволил мне оставить только вас двоих. Надеюсь, Марджери не слишком расстроена тем, что Элизабет придется уехать. – Она все понимает, мадам. Не волнуйтесь. Несколько ударов молотком – и филёнка оказалась на полу. Сквозь этот шум Элиза прокричала: – Выгляните в окно, ваша милость! Местные простолюдины пришли поддержать вас. Герцог сильно переживает из-за этого. Он больше ничего не станет предпринимать, пока не получит распоряжений от короля. Екатерина снова подошла к окну. Внизу собралось еще больше людей. Они просто стояли и смотрели, но от них исходило ощущение угрозы. Ничего удивительного, что Саффолк напуган.
Однажды в конце декабря, когда Екатерина просидела взаперти в своей комнате уже около двух недель, лорд Маунтжой пришел сообщить ей, что Саффолк отбыл ко двору: король распорядился, чтобы она пока оставалась в Бакдене. Екатерина вздохнула с облегчением, потом снова выглянула в окно. Работники, которые все это время стояли на страже, сменяя друг друга по часам, разошлись, и она поняла, что теперь может спокойно открыть дверь. Екатерина вышла в зал для приемов – трона под балдахином в нем теперь не было – и созвала свой двор. Однако перед ней предстало всего несколько человек. Два года назад у Екатерины было двести пятьдесят фрейлин, теперь осталось всего три – Элиза Даррелл, Бланш и Исабель де Варгас, а камеристка всего одна – Марджери Отвелл. Хотя Марджери противилась, говоря, что она уже слишком стара для роли фрейлины – ей было под сорок, Екатерина немедленно решила уравнять ее с тремя остальными помощницами, дабы возместить увольнение сестры. Кроме четырех дам, при дворе Екатерины оставались портной мистер Уилер, его жена Дороти, два врача, фармацевт мастер Хуан, а также конюшие и церемониймейстеры – Филип, Энтони и Бастьен. Кроме того, Екатерину не лишили прачки, повара, младших горничных, которые делали уборку, ювелира, верного Франсиско Фелипеса и ее испанского исповедника епископа Лландаффа. Большинство из них уже были немолоды, а докторам так вообще полагалось бы наслаждаться покоем в отставке. Разве заслужили они такую жизнь? Тем не менее все они предпочли остаться и разделить с Екатериной лишения. Ей стало стыдно. – Они позволили мне остаться, мадам, потому как считают, что от меня будет меньше вреда, чем от кого бы то ни было другого, – сказал ей епископ. – А вот ваших английских священников отца Эйбелла и отца Форреста заставили уйти. Екатерина обняла их всех, от души радуясь, что видит вокруг себя эти дружелюбные лица. А потом она распорядилась приготовить сытный обед – или то, что считалось таковым здесь, за которым собрались все. Даже изумленная прачка и та была усажена за стол.
Глава 32 1534 год
Екатерина опасалась, как бы неповиновение Саффолку не вызвало наложения дальнейших ограничений на ее двор, однако Элиза, как и прежде, могла уходить и возвращаться. Именно так Екатерина узнала от Шапуи, что – наконец-то, наконец-то! – папа Климент созвал суд консистории, который должен объявить решение по делу короля. – Элиза, нельзя терять времени. Есть ли у нас какой-нибудь способ отправить письмо императору? – Я постараюсь, мадам. Позже в тот же день девушка вернулась из гостиницы «Лев» и рассказала, что встретила там одного судоводителя, который приехал домой между плаваниями. Скоро он должен вернуться в Бостон на свой корабль, который будет заходить в Брюгге, где, по его словам, можно найти судно, чтобы с ним передать письмо в Испанию. – О, это прекрасно! – воскликнула Екатерина. – Благодарю вас, дорогая! Екатерина попросила дать ей письменные принадлежности и написала своему племяннику. Если кто и мог оказать воздействие на новый папский суд, так это он.Умоляйте Его Святейшество действовать так, как должно, ради служения Господу и сохранения спокойствия христианского мира. Все прочие соображения, включая жизни меня самой и моей дочери, должны быть отставлены в сторону. Нет нужды описывать Вам наши страдания. Я бы не могла вынести столько, если бы не считала, что страдаю во имя Господа. Пока жива, я не перестану защищать наши права.Неделя шла за неделей, январь сменился февралем. Екатерина начала поджидать ответа, тут как раз подоспело письмо от Шапуи. Она встревожилась, узнав, что он опять предлагал императору объявить войну Генриху, однако Карл ответил, что хотя он и привязан к своей тетке, но это частное дело и нужно принять в соображение общественные интересы. В будущем Екатерина решила переписываться с ним через Шапуи, а не напрямую, дабы избежать любых обвинений в разжигании войны. Намерение императора было благим, но оно подтверждало подозрения, которые недавно начали появляться у Екатерины: похоже, ее племянник не считал страдания тетки политическим делом. И это открытие было для нее как пощечина.
В феврале, то ли из-за тревоги в связи с ожиданием решения папы, то ли из-за зимнего холода, Екатерина заболела и оказалась прикована к постели. Ее била лихорадочная дрожь и терзал неудержимый кашель. Пока фрейлины пытались охладить ее пылающий лоб влажными полотенцами, доктор де ла Саа сделал анализ мочи и прописал ей пиретрум. Однако стоило ему удалиться, как Марджери Отвелл непреклонно заявила, что лучше поможет припарка на горло из куска хлеба, смоченного в уксусе. А Бланш сообщила, что ее бабушка в Толедо считала прекрасным лекарством пауков, обмазанных сливочным маслом. Екатерина была слишком слаба, чтобы вникать во все это. Ноги у нее отекли, а по утрам и глаза были опухшими. Доктор де ла Саа сказал, что это водянка, и с озабоченным видом покачал головой. Однако Екатерина постепенно поправлялась. В начале марта ей стало настолько лучше, что она смогла выбраться из постели и сидеть в кресле, но она исхудала еще сильнее, а ее когда-то золотистые волосы совершенно поседели. «Что бы теперь подумал обо мне Генрих? – задавалась вопросом Екатерина. – А Мария?» Вероятно, это даже лучше, что ее дорогое дитя не видит мать такой старухой. Пришло письмо от Шапуи. Элиза, эта находчивая и энергичная девушка, сообщала послу о ходе болезни своей госпожи, и он был крайне озабочен. «Радостно слышать, что Вашему Высочеству лучше, – писал он. – Я беспокоился, не были ли применены какие-то средства для ускорения Вашей кончины. Не пытались ли у Вас искусственным образом вызвать водянку. Какое облегчение для меня знать, что Вы идете на поправку». Мог ли кто-то покушаться на ее жизнь? Сильно обеспокоенная, Екатерина посоветовалась с доктором де ла Саа и доктором Гуэрси, но ни тот ни другой не отнеслись к такому предположению серьезно. – Я много раз наблюдал такие мрачные настроения духа, связанные с болезнью, – заметил доктор Гуэрси. – Если бы ваша милость жили в каком-нибудь более приятном месте, то поправились бы скорее. Выздоровление Екатерины замедлилось, когда пришла новость о том, что Леди ждет второго ребенка. «Она старается переманить принцессу Марию на свою сторону», – писал Шапуи.
Когда Леди навещала маленького бастарда, она побуждала принцессу прийти к ней и почтить ее как королеву, говоря, что это поспособствует примирению с королем и что она сама замолвит за нее словечко перед отцом. Принцесса ответила, что она не знает в Англии другой королевы, кроме своей матери, но, если мадам Болейн окажет ей услугу и поговорит с ее отцом, она будет премного обязана. Леди повторила свое предложение, но это не принесло результата, кончилось тем, что она осыпала Марию всевозможными угрозами, но не смогла добиться своего и была крайне возмущена.Екатерина радовалась, что Мария твердо стоит за правое дело, но боялась возможных последствий. Беспокойство за дочь не давало ей уснуть всю ночь и мешало выздоровлению. Потом Екатерину привело в смятение известие о том, что Мария отказалась ехать вместе с двором Елизаветы в Мор и ее силой отвезли туда в носилках. «Это моя ошибка», – признался посол.
Для того чтобы отец и его Леди не думали, будто принцесса измождена и сломлена плохим обращением, я посоветовал ей смело высказывать свое мнение, но не впадать в крайности, которые привели бы к применению силы, из опасения вызвать раздражение отца. Теперь король очень зол на нее, и принцесса находится в трудном положении. Она писала мне из Мора трижды, просила совета. Я предостерег ее от опрометчивых поступков и предписал слушаться отца во всем, за исключением тех вопросов, которые задевают ее совесть.Это был мудрый совет. И все же, несмотря на страх за дочь, что-то у Екатерины внутри трепетало от восторга при мысли о ее непокорности.
Вскоре после этого к Екатерине пришел лорд Маунтжой: – Я принес важные новости, которые окажут влияние на ваше положение, мадам. Парламент лишил вас земель, назначенных вам как королеве, и вернул вам те, которыми вы владели в качестве вдовы принца Артура. Земли королевы отписаны королеве Анне. – Все владения в этом королевстве не сделают ее истинной королевой. – Ваша милость не должны говорить так, – с укоризной произнес Маунтжой, правда при этом он улыбался, что противоречило тону высказывания. – Кроме того, мне приказано передать вам, что парламент издал Акт, подтверждающий вердикт его милости Кентерберийского, который устанавливает незаконность вашего брака, а союз короля с королевой Анной признает правомочным. – Лорд сглотнул. – И что ваша дочь, леди Мария, объявлена незаконнорожденной. Мадам, прошу, позвольте мне закончить! Этот Акт также определяет наследниками потомков короля и королевы Анны и требует от всех подданных короля, если поступит такое распоряжение, принести клятву верности королеве Анне как его законной супруге и принцессе Елизавете как законной наследнице, а также признать его милость высшим главой Христовой церкви Англии. – Я никогда не признаю ничего из этого! – поклялась Екатерина. – Каждый, кто откажется принести клятву, будет объявлен виновным в покушении на измену и отправлен в тюрьму, – предупредил ее лорд Маунтжой. – Смею напомнить вам, милорд, что я уже пленница, но если королю угодно заточить меня в Тауэр, я готова отправиться туда! – возразила Екатерина. – Я никогда не признаю, что мой брак незаконен, а моя дочь – бастард. И она принцесса Мария, а не леди Мария!
Папа наконец сказал свое слово: брак Екатерины законен и действителен. Читая письмо Шапуи, она почувствовала, что у нее подкашиваются ноги, и опустилась на стул. Очевидно, эта новость распространялась и другими средствами, потому что в Бакдене зазвонили во все колокола. Не в силах поверить своему счастью, Екатерина собрала придворных и сообщила всем добрые вести, после чего оставила их в радостном оживлении обнимать друг друга, а сама отправилась в церковь, чтобы от всей души возблагодарить Господа, который наконец снизошел к ее мольбам. Семь долгих лет она ждала этого момента и едва могла поверить, что он настал. Она истинная супруга короля. Теперь никто не мог отрицать этого. Никто не мог утверждать, будто Мария – его побочная дочь, а не законная наследница. Теперь тревоги и беспокойства ее дочери останутся в прошлом. Больше не будет споров и пререканий, тяжелого ожидания, несправедливостей и гонений. А королю, как писал Шапуи, папа приказал немедленно вернуться к своей законной супруге и королеве. Ему велено относиться к Вашей Милости с любовью и почтением, как любящему супругу и как того требует от него королевское достоинство, а если он откажется, то будет отлучен от Церкви. Он также должен оплатить судебные издержки. Люди уже празднуют на улицах… Они и правда торжествовали! Выглянув из башни, Екатерина увидела собравшуюся у ворот толпу. Люди кричали и вызывали ее. Она махала рукой, улыбалась, кивала в знак благодарности. Разумеется, очень скоро она отправится по Большому северному тракту в Лондон ко двору, и еще больше людей будут сбегаться со всех сторон, чтобы поглядеть на нее, а она будет выражать им глубочайшую признательность за их непреклонную верность. Больше не будет горьких упреков, она вернется к Генриху, преисполненная любви, простив его от всего сердца, счастливая тем, что снова занимает положенное ей по праву место. Мстить Анне она не станет, но проявит великодушие. Разумеется, Анне придется покинуть двор, взяв с собой своего ребенка, и Мария будет восстановлена в правах законной наследницы Генриха. Несомненно, в свое время Генрих подыщет Елизавете мужа. Он ведь уже прекрасно позаботился о другом своем бастарде. Екатерина послала за лордом Маунтжоем и по его сияющему лицу поняла, что тот уже слышал новость. – Вы уже знаете, что решил папа, милорд? – Да, ваша милость, знаю. Позвольте мне первым поздравить вас. Камергер лучился от радости. Он тоже был доволен, что весь этот ужас наконец прекратится. – Вы получили какие-нибудь сообщения от короля? – Пока ничего не слышно, мадам. – Я уверена, скоро мы что-нибудь услышим. Мне, наверное, следует готовиться возвращаться ко двору. Лорд Маунтжой нахмурился: – Сожалею, что не могу позволить вашей милости уехать без распоряжения короля. – Разумеется. – Екатерина улыбнулась ему. – Ждать осталось недолго! Когда лорд Маунтжой покинул ее покои, Екатерина задумалась: как чувствует себя Генрих? Она вспомнила его страстные заявления о том, что он не послушается папу, какое бы решение тот ни вынес, но знала: за гневливостью и бравадой скрывался истинный сын Церкви, который просто сбился с пути. Екатерина не могла поверить, что Генрих проигнорирует предписания папы. Нет. Они приведут его в чувство, он по-иному взглянет на свои поступки, поймет, какой опасности подверг свою бессмертную душу. Ни одному человеку не по нраву, когда ему указывают на его неправоту, особенно королю, а Генрих совсем потерял голову из-за Анны. Может быть, знаки все-таки были верные и она ему уже стала надоедать. Ее новая беременность, конечно, усложняла дело, но кто возьмется оспаривать решение папы? Екатерина будет с Генрихом мягкой и покладистой. Она даст ему время и добротой вернет себе его любовь. Горничные получили приказание вытащить из сундука платья. Все оказались изрядно поношенными. – Думаю, алый бархат подойдет, – сказала Екатерина. – Вычистите это платье и повесьте проветриваться. И еще у моего золотого чепца оторвался кант, надо пришить его обратно. Я хочу выглядеть как можно лучше для его милости. Горничные вымыли ей волосы в воде с древесной золой, перестирали лучшее белье из того, что у нее осталось. Вызов скоро доставят, Екатерина была уверена в этом и хотела быть готовой к немедленному отъезду. Счастливая, она погрузилась в мечтания о том, как вернет уволенных слуг, пригласит Марию ко двору и снова сделает Маргарет Поул ее воспитательницей. Может быть, Генрих благосклонно отнесется и к восстановлению Томаса Мора в должности канцлера. Теперь, когда Великое дело, заставлявшее людей принимать ту или иную сторону и вызывавшее склоки, разрешилось, в мире может снова установиться порядок. Оставался нерешенным вопрос наследования, но Мария уже находилась в брачном возрасте. Ее можно обручить с Реджинальдом Поулом, чего давно желала Екатерина; этот союз, несомненно, будет одобрен людьми, и королевские дома Йорков и Тюдоров снова объединятся. Этот брак устранит призрак гражданской войны, который так долго не давал покоя Генриху, насколько могла припомнить Екатерина: если Мария родит сына, это решит все проблемы с престолонаследием. Екатерина уже видела протянувшиеся вперед годы, себя и Генриха, с возрастом все мягче относящихся друг к другу, живущих в окружении внуков и в добрых отношениях со всем христианским миром.
Однако прошло две недели, а никакого вызова не поступило. Постепенно ей открылась горькая правда: Генрих стоит на своем. Он попал в полную зависимость от Анны и Кромвеля и решительно вознамерился бросить вызов Святому престолу. Это было самое сокрушительное разочарование из всех, какие довелось пережить Екатерине. Какое жестокое поражение – выиграть дело в суде и обнаружить, что от этого ничего не изменилось. До сих пор она не сомневалась, что Генрих исполнит решение папы, но теперь увидела, как далеко зашел ее супруг в деле разрыва с Римом. Она плакала – как она плакала! Отставив в сторону привычку соблюдать королевское достоинство, Екатерина рыдала в объятиях Элизы, жалуясь на несправедливость судьбы. А при мысли о Марии, о том, как все это подействует на нее, несчастная мать заливалась слезами и негодовала пуще прежнего. Екатерина вытянула себя из пучины отчаяния и написала Шапуи.
Я воображала, что, когда папа вынесет решение, король вернется на путь истинный. Но теперь поняла, что для исцеления этого зла необходимы более сильные средства. Какими они должны быть, я сказать не могу, но нужно найти способ привести короля в чувство.После отправки письма Екатерина поняла: любому, кто его прочтет, будет простительна мысль о ее согласии на войну, но в действительности она надеялась, что император и папа удовлетворятся угрозами, которые Генрих не сможет оставить без внимания. А вот о чем этот читатель не догадался бы, так это об отсутствии у Екатерины иллюзий: она больше не ждала от Карла никаких действий себе во благо. Однако Шапуи ответил, что император не замедлит предпринять шаги для исполнения решения папы. Это согрело Екатерине душу, пока она не прочла следующие строки: «Что здесь необходимо, Ваше Высочество, так это военная сила, но его императорское величество не встанет на эту стезю, если Вы сами не попросите об этом. Он намерен заставить папу отлучить короля от Церкви в надежде, что это вернет английскому монарху рассудок». Такой подход к делу представлялся разумным, хотя и радикальным. Екатерина надеялась, что Генрих прислушается к папе и вскоре снова вернется в число его паствы. Питала она надежду и на то, что Карл в ближайшее время начнет действовать. Складывалось впечатление, будто Генрих намерен карать всякого, кто станет противиться его воле. «Никто не осмеливается перечить ему, – сообщал Екатерине Шапуи. – Кромвель настойчиво принуждает всех клясться, и многие делают это без зазрения совести». Однако епископ Фишер отказался. «Я слышал, он получил ужасные письма от короля по поводу этого. Теперь его отстранили от дел, обвинили в измене и заточили в Тауэр, чем подвергают его жизнь опасности, хотя тот написал его величеству и выразил свою преданность». При чтении этих строк у Екатерины судорожно сжималось и трепетало сердце. Ей даже пришлось сесть. Епископ Фишер, этот добрый прямодушный человек, всегда был другом Екатерины, и все его уважали. Как мог Генрих так жестоко обходиться с ним? И как епископ, а он уже в преклонных летах, выживет в Тауэре? Кто посмеет прислать ему пищу и теплую одежду? Но впереди Екатерину ждали еще более ужасные известия. Она не могла поверить, что Генрих отправил в Тауэр и своего старого друга сэра Томаса Мора. Он любил Мора! Всегда восхищался им и почитал его, прислушивался к каждому слову этого ученого мужа. Но Мор отказался присягать. Не имело значения то, что он объявил себя верным подданным короля и отрицал, что когда-либо противился браку Генриха с Анной Болейн. Даже приближенные короля хотели восстановить его в правах, сообщал Шапуи. «Однако Леди своим непрестанным роптанием разжигает недовольство короля. Многие потрясены этим арестом. Я убежден, преследования, которым подверглись он и епископ Фишер, целиком и полностью вызваны тем, что они поддерживали Ваше Высочество». «Нет сомнений, Кромвель тут постарался на славу», – подумала Екатерина. Она сильно расстроилась, узнав, что после череды назначений на разные высокие должности он стал главным секретарем короля, а следовательно, будет иметь на своего владыку еще более сильное влияние. А Генрих, Екатерина знала это, отличался внушаемостью. Когда всем заправляет такой человек, неизвестно, что еще случится. Анна и Кромвель делили между собой власть над сердцем и разумом короля. Прикрываясь тем, что исполняют его волю, они использовали Генриха для достижения своих еретических целей. А сам Генрих был слишком одурманен страстью, чтобы заметить это! В следующем письме Шапуи Екатерина, содрогаясь от ужаса, прочла о казни монахини из Кента и пяти ее сторонников, в том числе двоих священников. Расправа состоялась в Тайберне при большом скоплении народа, жертв привезли на дрогах к виселице, где монахиня была повешена, а затем, уже мертвая, обезглавлена. Мужчины претерпели повешение, волочение и четвертование. Это была первая кровь, пролитая вследствие Великого дела, и Екатерина, подавляя страх, думала, что эти жертвы будут не последними. Генрих так сильно разгневался на папу, что был готов пойти на крайние меры для подавления оппозиции. Но то, что он подверг казни священников, как обычных преступников, было не просто жутко – это было кощунство! Мир определенно сошел с ума. Екатерина трепетала при мысли о том, зайдет ли Генрих еще дальше и насколько. Не станет ли следующей жертвой она сама?
Мария заболела. Четыре месяца страданий и лишений при дворе Елизаветы пошатнули ее здоровье. Екатерина вслух читала письмо Шапуи Элизе, ей нужно было поделиться с кем-нибудь своей тревогой.
Я умолял совет и мастера Кромвеля позволить принцессе поехать к Вашему Высочеству и обещал сам обеспечить Ваше благоразумие, но король не доверяет мне. Он опасается, что, воссоединившись с дочерью, Вы начнете строить козни против него и призывать на помощь войско императора. Я попытался заручиться поддержкой Кромвеля, но тот только дал слово просить короля отправить к принцессе своего врача, однако не думаю, что он сдержит обещание или что король прислушается к нему. Кромвель не лукавит, но боюсь, на самом деле он желает принцессе смерти. Он сказал мне, что она сама виновата в своих нынешних сложностях и если Господу будет угодно… (Шапуи оставил фразу незавершенной.) Меня это беспокоит, и мне кажется, я должен предостеречь Ваше Высочество об опасности, потому что слышал, как Леди говорила, что не успокоится, пока не изведет Вас и Вашу дочь ядом или еще каким-нибудь образом. Поэтому я умоляю Вас сохранять бдительность и следить за тем, чтобы пищу для Вас готовили только те слуги, которым Вы доверяете.Это предупреждение вдобавок к вестям об участи Фишера, Мора и кентской монахини вселило в сердце Екатерины ужас, ощущавшийся физически. Элиза встала перед ней на колени, взяла ее руки в свои и попыталась успокоить госпожу. Екатерине пришлось подождать, пока уймется сердцебиение и она снова сможет дышать спокойно. Потом она подвела итог и скрепя сердце посмотрела в лицо правде. Генрих не постеснялся отправить ее в Бакден, хотя знал, какое это гиблое место. Он пытался заставить ее переехать в Сомерсхэм, а дом там находился в еще более плохом состоянии. Ей можно было простить умозаключение, что он хотел ее смерти, не говоря уже о том, что он находился во власти Анны Болейн, а она, это было очевидно, ни перед чем не остановится, да к тому же положение позволяет ей с легкостью добиваться своего. Ребенок, которого она носила, мог оказаться мальчиком, но, пока она не родила сына, ее положение на троне неустойчиво. Если бы любовь Генриха к ней утихла, он мог бы использовать вердикт папы как повод вернуться к бывшей супруге. Екатерина знала, что все еще любима в народе, а разлад между королем и императором по поводу Великого дела оказал влияние на английскую торговлю с Нидерландами. Неудивительно, что люди хотели ее возвращения! И вполне понятна их ненависть к Анне. Не приходилось сомневаться, что Анна рассматривала Екатерину и Марию как смертельную угрозу своему положению. «Ни Вы сами, ни принцесса ни на миг не будете в безопасности, пока Леди сохраняет власть и влияние; ей не терпится избавиться от Вас», – предупреждал Шапуи в следующем письме. Екатерина не стала осуждать Генриха при своих фрейлинах, но отчаянно нуждалась в том, чтобы снять с себя бремя и высказаться по поводу Анны. Давно миновали те времена, когда Екатерина хранила королевское величие в общении со слугами. Элиза уже слышала кое-что о нависшей над Екатериной угрозе. Элиза, Бланш, Исабель и Марджери были подругами Екатерины; они находились рядом с ней, с готовностью выслушивали ее и помогали, когда могли. – Леди Анна безжалостно затравила Уолси, – напомнила им Екатерина однажды вечером, сидя у огня; фрейлины устроились на полу рядом с очагом. – Мессир Шапуи считает ее способной применить яд, дабы избавиться от меня и принцессы. Он говорит мне, что она день и ночь злоумышляет против Марии. Король собирается нанести визит во Францию, и Леди открыто заявила, что, пока он будет в отъезде, она избавится от Марии – либо заморит голодом, либо еще как-нибудь. – (Элиза вскинула ладонь ко рту, остальные три ахнули.) – Это правда, – продолжила Екатерина, ощущая трепет в груди, который пугал ее в последнее время. – А когда брат предупредил ее, что это приведет в ярость короля, она ответила, что ей все равно, даже если ееза это сожгут заживо. Вы видите, как она жестока. Дамы постарались утешить Екатерину и пообещали, что отныне сами будут следить за тем, как готовится для нее пища. Но таких же обещаний относительно того, что ест Мария, они дать не могли, а потому Екатерину продолжали мучить ночные кошмары. Когда Элиза, Бланш и Марджери – Исабель, как обычно, под каким-то предлогом отсутствовала – спустились в кухню и настояли на том, чтобы наблюдать за приготовлением блюд для своей госпожи, повара и их помощники возмутились. В конце концов Элиза заставила управляющего приделать крюк для котелка над очагом в комнате Екатерины и вертел – в камине. – Отныне мы будем сами готовить для вас пищу, мадам! – объявила она. Это был благородный жест, однако ни одна из них стряпать не умела, хотя их учили управлять кухней, как подобает настоящим леди. Еда получалась неизменно либо сырой, либо подгоревшей, а кое-что было вообще несъедобно. Кроме того, от постоянной готовки вся спальня пропахла стряпней. Но Екатерина смиренно и с благодарностью сносила все это. Лучше уж было потерпеть неудобства, чем рисковать быть отравленной. Она цеплялась за робкую надежду, что у Марии найдутся такие же верные и бдительные слуги.
Когда в Бакден прибыл архиепископ Йоркский, дабы взять с Екатерины и ее придворных клятву верности, она собралась с духом и решила сохранить твердость. Подвергаясь опасности наряду с дочерью, она не могла подвергнуть риску свою бессмертную душу отречением от своих убеждений. Екатерина смотрела прямо в лицо архиепископу и держалась как подобает королеве. – Я отказываюсь давать клятву, – твердым голосом заявила она. – Если я не жена короля, как он утверждает, то не являюсь и его подданной и от меня нельзя требовать клятвы. Она задержала дыхание, ожидая, что архиепископ прикажет ей отправляться в Тауэр, как случилось с Фишером и Мором. Но ничего такого он не сказал. – Очень хорошо. Созовите своих слуг! – распорядился священник. Они пришли, враждебные и мятежные, готовые дать ему отпор. – Нет! – говорили они один за другим. – Я никогда не дам такую клятву! Большинство испанцев, которые прожили в Англии более тридцати лет, вдруг перестали понимать английский. – Я давал клятву верности моей госпоже королеве Екатерине, – смело заявил Франсиско Фелипес. – Она еще жива, и, пока она не умрет, я не признаю другой королевы в этой стране. – Пусть король вышлет нас, – сказал Бастьен Хенниок, – но не сделает клятвопреступниками. – Я не могу заставлять иностранцев давать клятву верности, – раздраженно признал архиепископ, – но те из вас, кто является англичанами и не принесет присяги, будут уволены. Фрейлины и слуги Екатерины переглянулись, потом кивнули и один за другим дали клятву. – Мы все договорились заранее, что, если нам не оставят выбора, мы сделаем это, – объяснила Элиза. – Клятва, данная по принуждению, вообще не клятва. Кроме того, мадам, мы ведь не могли оставить вас совсем одну. Кто тогда стал бы заботиться о вас? – Благословляю всех вас, мои верные друзья, – сказала Екатерина. В душе она возблагодарила Господа за их стойкость.
Глава 33 1534–1535 годы
Наверное, ее опять наказывают за непреклонность. В конце апреля пришло распоряжение от короля, предписывающее ей переезд в замок Кимболтон в графстве Хантингдон, дальше от Лондона, чем все прочие дома, где она жила в заточении после удаления от двора. Место это было ей незнакомо, но ничего плохого о нем она не слышала. Лорд Маунтжой сказал, что климат там гораздо лучше, так как замок расположен вдали от болот. И что он очень рад этой перемене, ведь его здоровье, и без того неважное, здесь, в Бакдене, пошатнулось так же, как и здоровье его госпожи. Бедняга, он мучился от ревматизма. Поэтому Екатерина испытала главным образом облегчение. – Наконец-то мы будем спать в сухих постелях! Честно говоря, не могу дождаться, когда мы уедем отсюда. Лорд Маунтжой, который в последнее время растолстел и страдал одышкой, сообщил Екатерине, что ее опекунами в Кимболтоне назначены два служителя короны: сэр Эдмунд Бедингфилд и сэр Эдвард Чемберлейн. Очевидно, его это беспокоило: возрастающая телесная немощь не позволяла лорду Маунтжою служить ей и защищать ее так, как он того хотел, тем не менее престарелый лорд не мог допустить дурного обращения с ней, так как твердо обещал оставаться камергером ее двора и заботиться о ней. Екатерина была наслышана о храбрости сэра Эдмунда Бедингфилда, проявленной во время французских кампаний Генриха, но не помнила, чтобы они когда-нибудь встречались. Сэра Эдварда Чемберлейна она немного знала: он был при дворе в ранние годы правления Генриха, до того как стал членом парламента. – Надеюсь, моим придворным будет позволено сопровождать меня, – сказала она. – Их совсем немного, всего двенадцать человек. – Они могут отправиться с вами в Кимболтон, но им будет позволено остаться, только если это одобрит сэр Эдмунд Бедингфилд. Насколько мне известно, он честный человек. Бедингфилд ответил на просьбу Екатерины без промедления. Вдовствующая принцесса может привезти с собой своих слуг, однако он не возьмет на себя смелость освободить их всех от клятвы, требуемой в соответствии с новым Актом. Майским утром сэр Бедингфилд явился сам с отрядом солдат, дабы препроводить Екатерину и ее двор в Кимболтон. Седобородый, чернобровый, он был официально-любезен: поклонился, сняв шляпу, но выглядел мрачно. Однако он не стал называть ее королевой, а потому она не готова была вступать с ним в беседу. Молча они прошли к ожидавшим Екатерину носилкам. Екатерина с ее эскортом отправилась на запад, в Хантингдоншир. Проехав около двадцати миль, к вечеру, усталые и проголодавшиеся, путники добрались до замка. Тот напоминал большую усадьбу местного феодала, но был хорошо укреплен и окружен двойным рвом. Носилки Екатерины мелко затрясло, когда лошади зацокали копытами по булыжной мостовой под аркой ворот: это был единственный вход. Итак, она сменила одну тюрьму на другую. Когда створки ворот с металлическим грохотом затворились, у нее возникло ощущение, будто ее проглотили. Сердце вновь дико забилось. Конюхи принесли факелы, чтобы осветить внутренний двор. Сэр Эдмунд слез с коня и подошел к Екатерине, чтобы помочь ей выйти из носилок. Она оперлась на его руку и замерла, слегка пошатываясь: у нее перехватило дыхание. Вперед вышел другой человек и поклонился: – Добро пожаловать в Кимболтон, мадам. Наверное, это был сэр Эдвард Чемберлейн – человек с совиным лицом, крючковатым носом и добрыми глазами. – Надеюсь, вы не слишком утомлены поездкой. Идемте, мы проводим вас в ваши покои. Высоко держа фонарь, он вместе с сэром Эдмундом сопроводил ее через двор в замок. Тяжело ступая, за ними следовал лорд Маунтжой, а за ним – остальные придворные и слуги. Вскоре стало ясно, что это не еще один Бакден и что на этот раз Генрих проявил заботу и хорошо устроил Екатерину, в чем она усмотрела новое подтверждение его готовности выйти из-под власти Анны. Постепенно сердцебиение Екатерины успокоилось. – Замком владеет сэр Чарльз Уингфилд, который предоставил его в распоряжение короля, – сказал сэр Эдвард, когда они вошли в главный зал с высокой деревянной кровлей. – Его отец был богатым человеком и пользовался расположением короля, который подарил ему замок несколько десятилетий назад. Как видите, денег на дом не пожалели, к нему были пристроены новые жилые помещения и галерея. Екатерина огляделась. В зале висели дорогие гобелены, пол был выложен плиткой, дубовые столы на козлах выглядели образцами столярного искусства. Сэр Эдвард приподнял один из гобеленов и провел Екатерину через арочный проход в центре стены, за помостом. – Это южное крыло. Они прошли в зал для приемов, также украшенный красивыми гобеленами, а потом на галерею, о которой упоминал сэр Эдвард. Зал был отсюда хорошо виден и производил сильное впечатление: три больших окна, деревянный расписной потолок, пол застлан тростником, на стенах – портреты. Среди них – изображение Генриха в образе юного короля. При виде этой картины у Екатерины сжалось сердце. Таким она помнила Генриха до того, как в него запустила когти Анна Болейн, – красивым, энергичным, страстным и полным надежд на будущее. Екатерина едва не заплакала, остро ощутив боль утраты. Нет уже того юного красавца! Но радовало, что она будет видеть любимый образ всякий раз, когда пройдет этим путем. В конце галереи обнаружилась дверь, сэр Эдвард открыл ее: – Здесь будет ваша спальня, мадам. За ней находится уборная, и дверь ведет отсюда на галерею часовни. Сэр Эдмунд и я надеемся, что вы, лорд Маунтжой и ваши дамы присоединитесь к нашим трапезам в столовой, которая расположена за главным залом. Екатерина вошла. Комната была невелика, но какое это имело значение, ведь здесь было тепло и сухо, в очаге весело горел огонь. Дубовые панели с резным узором в виде уложенной складками ткани покрывали стены, окна украшали мелкие ромбовидные стекла с зеленоватыми вставками и яркие, подвешенные на кольцах шторы. Огромная кровать под балдахином с зелеными занавесями занимала бóльшую часть комнаты, она была застелена чистыми отбеленными простынями и накрыта меховым покрывалом. В изножье кровати стоял резной сундук, на стенах имелись крючки для одежды, а по бокам от камина находились два стула с высокими спинками. Еще в комнате были аналой, круглый табурет и маленький столик. Пол был засыпан свежим тростником, а у кровати лежал небольшой турецкий ковер. Через открытую дверь в уборную Екатерина видела туалетный ящик и еще один сундук, на котором стояли медный таз и кувшин. Это было больше, чем она ожидала. Екатерина испытала такое облегчение, что едва не прослезилась. – Это очаровательно, – сказала она. – Я благодарю вас обоих, сэр Эдвард и сэр Эдмунд, что вы так постарались для меня. Скажите, где будут спать мои слуги? – Комнаты для них приготовлены на северной стороне замкового двора, где живем и мы с сэром Эдмундом, мадам. Я пришлю для вас легкий ужин, а ваших слуг покормят на кухне. – Сэр Эдвард повернулся к сэру Эдмунду. – Нужно позвать конюших, чтобы они принесли сюда вещи вдовствующей принцессы. Екатерина вспыхнула: – Сэр Эдвард, я благодарна вам за вашу доброту, но есть одна вещь, которую вы и сэр Эдмунд должны понять: ко мне можно обращаться, используя только королевский титул. Двое мужчин удивленно смотрели на нее. – Нам запрещено использовать этот титул, мадам, – сказал сэр Эдмунд. – Если мы будем называть вас так, то вызовем гнев короля. – Парламент лишил вашу милость этого титула, – добавил сэр Эдвард. – Использовать его незаконно. – Мне нет дела до решений парламента. Папа признал мой брак законным, и я истинная королева. Я не буду разговаривать с теми, кто называет меня вдовствующей принцессой. И если вы станете настаивать, я затворюсь в своих покоях. Рыцари переглянулись. – Так тому и быть, – сказал сэр Эдвард. – Мы будем очень сожалеть о том, что лишены вашего общества и бесед с вами, но вы должны понять: мы выполняем приказ.Сперва Екатерина была довольна уже тем, что наслаждается теплом, сухой постелью и воздухом без запаха плесени. В своих покоях она блаженствовала, как на небесах, а через открытое окно могла наблюдать за цветением весны и вдыхать ароматы. Пища, которую доставляли к ее дверям, была вкусна, разнообразна и свежа. Екатерина не страдала от недостатка общения, потому что проводила дни со своими дамами за шитьем, чтением и игрой на лютне попеременно с Элизой. Для духовного утешения к ней регулярно приходил исповедник. Доктора с удовольствием отмечали улучшения в состоянии ее здоровья. «Здесь, – думала Екатерина, – я могу поправиться». Однако прошло какое-то время, и она начала чувствовать себя слишком ограниченной в движении и общении. Захотелось выйти из своих покоев и прогуляться по прекрасному дому и саду. Своих опекунов она почти не видела, слуги говорили ей, что сэр Эдвард и сэр Эдмунд бóльшую часть времени проводят в своих покоях по другую сторону двора, но она не хотела рисковать встретить кого-нибудь из них на галерее, в главном зале или часовне. Чем меньше неприятностей, тем лучше, ведь Екатерина боялась, что ее непредсказуемое сердце может не справиться.
Через три недели пребывания Екатерины в Кимболтоне туда приехал Катберт Танстолл, епископ Даремский, и потребовал свидания с ней, чтобы еще раз попробовать привести ее к присяге. – Нет, епископ, я не стану клясться, – заявила она. – Я не признаю леди Анну королевой или короля главой Английской церкви. Настоящая королева – я, а папа – истинный наместник Христа! – Мадам, вы не должны называть себя супругой короля, потому что он женился заново и у него есть законный ребенок, который, по милости Божьей, станет его преемником. Екатерина была непреклонна. – Я никогда не откажусь от титула королевы и буду считать его своим по праву до смерти. Я жена короля, а не его подданная, и потому на меня не распространяется действие актов его парламента. – Вы отправитесь в тюрьму, если продолжите упорствовать, – предупредил ее Танстолл. – Времена настали опасные, некоторым из нас трудно согласиться с этими изменениями. Что касается меня, я не стану оправдывать гражданское неповиновение. Екатерина разозлилась: – Помолчите! Это все уловки дьявола! Я королева и королевой умру! По закону король не может взять себе другую жену. Так и передайте. Танстолл нахмурился: – Мадам, вас могут отправить на эшафот, если вы не дадите клятву. – А кто будет палачом? – едко спросила Екатерина. – Если у вас есть разрешение исполнить это наказание, я готова. Прошу только, чтобы мне позволили умереть прилюдно. – Простите меня, мадам! – взмолился Танстолл, заламывая руки. – Я не собирался стращать вас. Этого мне не велено. Наказанием за отказ от клятвы служит тюремное заключение – не смерть, а вы, можно сказать, уже претерпеваете его. Но я боюсь за вас и потому хотел испугать, чтобы вы уступили для своего же блага. Король зол, а леди Анна ревнива. Кто знает, на что они способны. – Я страшусь Господа больше, чем их. И не могу поступить против своей совести. – Мне бы хотелось, чтобы вы относились к этому иначе, мадам. Спросите себя, стоит ли оно того? Если вы дадите клятву, король с готовностью выполнит любые желания вашего сердца. Вы сможете жить во дворцах, наслаждаться обществом дочери и друзей, свободой, наконец, и его милость будет по-братски любить вас. От его слов стало только хуже. Екатерина почувствовала, как дрогнуло у нее сердце. Изыди, сатана! – А когда я предстану перед судом Господним и меня обвинят в том, что я ставила земные блага превыше здравия духовного и блага Церкви, что я тогда отвечу? Богу известно, милорд, что, если бы для меня был открыт иной путь, я не осталась бы здесь, поскольку моя дочь терпит всевозможные обиды и унижения. Разве вы не понимаете? Танстолл горестно покачал головой: – Я понимаю, мадам. В конце концов мы все должны поступать так, как диктует нам совесть, и отвечать за последствия. Для некоторых, боюсь, они будут серьезными. Екатерина знала, что он подумал о Море, своем товарище, гуманисте, с которым когда-то был очень дружен. – Сегодня после обеда я приведу к присяге ваших слуг-испанцев, – добавил он. – Но они не подданные короля, – напомнила епископу Екатерина. – Некоторые даже не вполне понимают английский. – Тем не менее, если они намерены продолжать служить вам, то должны принести клятву. Это встревожило Екатерину, и, пока он обедал с ее тюремщиками, она созвала своих испанцев. – Слушайте внимательно, – сказала Екатерина. – Епископ собирается просить вас дать клятву. Не отказывайтесь. Попросите позволения произнести ее по-испански и скажите: «El Rey se ha hecho cabeza de la Iglesia». Они заулыбались с пониманием. Епископ Танстолл, ожидая встретить отпор, был приятно удивлен готовностью испанцев к сотрудничеству. Он уехал очень довольный. Екатерина хохотала в голос, чего с ней не случалось уже долгие годы. Элиза и другие английские горничные смотрели на нее в изумлении. «Они думают, я помешалась», – решила Екатерина. – Я должна объяснить вам, – продолжая улыбаться, сказала она, – что вместо признания короля главой Церкви, мои испанцы согласились лишь с тем, что он сделал себя главой Церкви!
После переезда в Кимболтон Екатерина беспокоилась, как будет поддерживать общение с Шапуи, но ее страхи вновь оказались напрасными. В городке каждую неделю устраивали ярмарки, и ни сэр Эдвард, ни сэр Эдмунд не возражали против того, чтобы ее слуги ходили туда за продуктами. Таким образом Шапуи дали знать, что Екатерина может отправлять и получать письма, и вскоре верный ему человек поселился в гостинице «Солнце», а Элиза, как и прежде, служила передаточным звеном. Екатерина подозревала, что между ее фрейлиной и испанцем завязался флирт, потому как девушка всегда с особым удовольствием отправлялась выполнять поручения, к тому же и слышать не хотела о том, чтобы вместо нее этим занялся кто-нибудь другой. Каким бы утешением для Екатерины ни было восстановление связи с Шапуи, дела шли все так же плохо. Теперь Леди заявляла, что не уймется, пока не избавится от своей соперницы. «Одно старое пророчество утверждает: королева Англии будет сожжена, так вот Леди надеется, что ею станете Вы, Ваше Высочество, а она избегнет этой участи». Шапуи продолжал склонять Екатерину к тому, чтобы она позволила вторжение войск империи, хотя у императора дел было невпроворот: его границы осаждали турки. Тем не менее посол был убежден, что его господин готов сражаться на два фронта. Однако Екатерина держалась своего решения не давать согласия на войну. «Вы преданы королю поистине героически», – написал ей Шапуи. «Если я слишком щепетильна, так это потому, что глубоко уважаю своего супруга-короля, – ответила она. – Будь я проклята, если сделаю нечто такое, что поведет к войне». В следующем письме Шапуи предупредил, что скоро от Марии потребуют принести присягу. Эта новость погрузила Екатерину в пучину мучительной тревоги и беспокойства. Для Марии пришло время проверки на прочность. Император советовал им обеим лучше дать клятву, чем потерять жизнь, и оправдывал их тем, что они сделают это из страха. Однако Екатерина решила не изменять своим принципам и надеялась, что Мария поступит так же. Ее надо было подбодрить и вдохновить, дабы она твердо стояла за то, что считала правильным, и не боялась встретиться лицом к лицу с последствиями. Некоторое время Екатерина боролась с собой, но потом приняла решение. Она должна нарушить запрет Генриха на общение с Марией и доверить Шапуи передачу ей письма. Она написала:
Дочь моя, сегодня до меня дошли известия о том, что пришло время, когда всемогущий Господь начнет Вас испытывать. Будьте уверены, Он не заставит Вас страдать до полного изнеможения, если Вы возьмете на себя труд не грешить против Него. Слушайтесь своего отца-короля во всем, за исключением того, что ставит под угрозу Вашу душу. Я уверена, все закончится хорошо, и даже лучше, чем Вы можете желать. Уповаю на Господа, моя благочестивая дочь, чтобы Вы знали, с каким любящим сердцем пишу я Вам это письмо. Вам придется начать, а я последую Вашему примеру. Эту клятву я ни в грош не ставлю. Когда они сделают все, на что способны, тогда ситуация исправится. Прошу Вас, передайте привет моей доброй леди Солсбери, я прошу ее не падать духом, потому что мы не попадем в Царствие Небесное иным путем, кроме как через страдания. Дочь моя, не трудитесь писать ко мне. Если я смогу, напишу Вам сама.Дай Бог, чтобы Мария поняла, сколько чувства вложено в эти слова. Когда Элиза ушла с письмом, Екатерина опустилась на колени, заткнув рот кулаком. Была ли хоть когда-либо мать поставлена в такие ужасные условия? Ведь она только что посоветовала Марии поступать по чести, в соответствии с велениями совести, и тем толкнула свое дитя на муки.Ваша любящая мать,королева Екатерина
Мария отказалась давать клятву. Она сказала, что не отречется от титула принцессы. Екатерину мутило от беспокойства при мысли о том, что Генрих – или, скорее, Анна – может сделать с ее дочерью; она занемогла. Страдая от неровного сердцебиения, приступов головокружения и раздражающего кашля, она слегла в постель. Ее доктора выглядели озабоченными. Совещались они за порогом комнаты, а у постели Екатерины изо всех сил уверяли ее в скором выздоровлении. Самочувствие пациентки не давало поводов надеяться на это. Она была так слаба, так истерзана тревогами. – Мадам, вы должны успокоиться, – увещевал ее духовник. – Принцесса – в руках Божьих, а вы должны выздоравливать. Элиза побуждала ее есть, хотя аппетита не было. «Хорошо, что моим людям разрешают ходить на рынок», – рассуждала сама с собой Екатерина: в последнее время качество пищи с кухни заметно ухудшилось. Было это связано с небрежением или с неприязнью, она не могла сказать. Сэр Эдмунд и сэр Эдвард редко заглядывали в ее покои, и то лишь с очередным сообщением. Она, конечно, не отвечала, потому что они не называли ее королевой, но, когда Екатерина лежала больная, сэр Эдвард просунул голову в дверь и пожелал ей здоровья. Даже он, увидев ее, принял озабоченный вид. Екатерина приказала подать зеркало и пришла в ужас. Она стала призраком прежней себя: бледное лицо, седые волосы, обвисшая кожа на щеках. – Уберите это, – сказала она. Екатерина заставляла себя есть, потому что должна была встать на ноги. Она должна жить ради Марии. Собравшись с силами, она написала Шапуи: «Пожалуйста, приезжайте…»
– Мадам, мадам! Взгляните! – Элиза и Бланш стояли у окна. Элиза едва не прыгала от восторга. – Там, за стеной, мужчины в ливреях испанского посла, они машут нам. Девушки помахали в ответ. Екатерина с трудом села в постели. Неужели это он? Неужели это Шапуи? – Помогите мне встать. Но когда ее подняли на ноги, она ощутила такую слабость, что пришлось снова лечь. Удобно устроив Екатерину, дамы поспешили вернуться к окну. Он едет. Екатерина знала, что он это сделает, презрев запреты короля и черного паука Кромвеля, который засел в центре паутины и завлекает в нее всякого, кто проявит неосторожность. Сегодня Шапуи будет здесь, и она сможет выговориться, снять с себя ношу, рассказать обо всех проблемах и доверить ему то, что не смела изложить на бумаге, и он что-нибудь сделает для безопасности Марии. Тем временем ее дамы продолжали махать и перекрикиваться с мужчинами внизу, а местные жители высыпали на улицу и обнимали приезжих с таким восторгом и радостью, будто сам Мессия спустился на землю. Однако Шапуи не появился, постепенно толпа рассеялась, и люди посла удалились. В эту ночь Екатерина чувствовала себя так плохо, что боялась умереть. В своем следующем письме Шапуи объяснил, что пошло не так. Он пытался увидеться с ней. Встревоженный ее срочным посланием и сообщениями о плохом самочувствии, он неоднократно просил разрешения повидаться с ней, но король и Кромвель всякий раз отказывали. «Его величество выразил опасение, что я только укреплю Вас в Вашем упорстве или что мы сплетем интригу и Вы с принцессой решитесь бежать за границу. Но я продолжал настаивать, говоря, что хочу только утешить Вас по мере сил, и наконец его милость разрешил мне ехать при условии, что я не стану обсуждать политику». Посол немедленно тронулся в путь, но всего в пяти милях от Кимболтона его догнал гонец короля и приказал немедленно вернуться ко двору. «Можете представить, в какое негодование это привело меня, – писал Шапуи. – Я сказал мастеру Кромвелю, что почел бы за более уважительное отношение к себе, если бы король дал мне знать о своих намерениях до того, как я покинул Лондон. А он ответил только, что в будущем мне не будет позволено посещать Ваше Высочество». Екатерина отложила письмо и постаралась сдержать слезы. Он ехал к ней, этот милый, добрый человек; он был уже почти здесь. Если бы только гонец не нашел его! Какой отрадой для нее стала бы встреча с Шапуи!
В конце июля погода стояла прекрасная, теплая и солнечная. Легкий ветерок мягко шевелил занавески. «В такие дни и на душе хорошо», – думала Екатерина, признавая, что и самочувствие ее немного улучшилось. Вскоре она начала вставать с постели и сидеть на стуле, а через неделю доктора предложили перенести его под какой-нибудь навес в саду под ее окном, чтобы она могла наслаждаться свежим воздухом. Это ускорит выздоровление. – Я спрошу разрешения, мадам, – сказал доктор де ла Саа. Он знал: сама Екатерина ни за что не станет делать этого. Последовал ответ: «нет». – Они говорят, когда ваша милость будет готова, чтобы к ней обращались с положенным титулом, тогда вы сможете выходить куда захотите. Вид у доброго доктора был сердитый. Это было мелко и жестоко. Лорд Маунтжой тоже так считал. – Я готов был бы в знак протеста вновь подать в отставку, потому что такая служба мне отвратительна, – сказал он, – но ее не примут, и к тому же мне неприятно оставлять вас на милость этих безразличных ко всему тюремщиков. – Он кивком указал в сторону северного крыла. – Я не потерплю дурного обращения с вами. – Мой дорогой друг, я благодарю вас за верную службу. – Екатерина протянула ему руку – руку королевы. Маунтжой встал на колени, скрипя суставами и пыхтя от напряжения, и с чувством поцеловал ее. – Я буду служить вам до конца моих дней, ваша милость, – поклялся он.
«Все это очень странно, – думала Екатерина. – По словам Шапуи, у Леди таки не будет ребенка. Но она ведь была беременна, разве нет? Не так-то просто притворяться столько времени. Когда впервые огласили новость? Весной? И очевидно, ребенок должен был родиться в августе». Леди была в положении, это не вызывало сомнений. Потом постепенно открылась правда. Ребенок родился мертвым, и эту историю сохранили в тайне. Легко понять почему. Генриху нужно было доказать всему миру, что Господь улыбается его союзу с Анной. Рождение сына подтвердило бы его правоту. Но Екатерине, да и всем остальным наверняка тоже, было ясно как день, что дочь, а следом мертвый ребенок – вероятно, сын, иначе к чему такая секретность? – означали только одно: Господь недоволен. Вопрос состоял лишь в том, когда Генрих прозреет и придет в чувство? Екатерина никому не пожелала бы рождения мертвого ребенка, даже злейшему врагу. Она слишком хорошо знала, как тяжела эта утрата. Но она не могла не посчитать такой оборот событий благословением, потому что казалось, это отвратило Генриха от Анны. К тому же Шапуи сообщал, что Генрих влюблен в одну прекрасную придворную даму. «Леди хотела удалить ее, но король рассердился и заявил: она должна быть довольна тем, что он для нее сделал, и, если бы ему сейчас пришлось начинать все сначала, он бы и пальцем не пошевелил». Шапуи предупреждал, что лучше не придавать этой ссоре особого значения, учитывая переменчивый нрав Генриха и хитроумие Леди, которая прекрасно знает, как с ним управляться. «Ах, – подумала Екатерина, – но создается впечатление, будто он начинает уставать от того, что им все время управляют».
Ноябрь был омрачен великой скорбью: лорда Маунтжоя хватил удар, он упал и умер. Екатерина подозревала, что он не вынес напряжения, разрываясь между верностью королеве и долгом по отношению к королю. Лорд Маунтжой был для нее истинным другом, всегда старался угодить как мог, и Екатерина глубоко скорбела о нем. Она задумалась, кого Генрих может назначить на место лорда Маунтжоя, но с другой половины дома прислали записку с сообщением, что замены камергеру вдовствующей принцессы не будет. В ее положении камергер действительно ей был не нужен. Досадно, но верно. Она вполне могла обойтись и без камергера. Две комнаты – это не дворец. Той же осенью умер папа Климент. Екатерина помолилась за его душу, чтобы она избегла чистилища. Папа стал причиной большинства ее бед, но вспоминать об этом сейчас было немилосердно. Все могло бы сложиться иначе, вынеси он решение в 1527 году! Генрих тогда еще был добрым сыном Церкви, он согласился бы с постановлением Климента, и кошмаров, которые произошли с тех пор, можно было бы избежать. Новый папа, Павел III, был человеком решительным, сообщал Шапуи, и одержимым идеей Крестовых походов. Он не намеревался поощрять ослушание короля Генриха, и одним из его первых шагов стала угроза привести в действие приговор об отлучении от Церкви, вынесенный Климентом. Генрих не обратил на это внимания, но Екатерина знала, что на самом деле он не мог позволить себе полностью проигнорировать угрозу. Стоило папе Павлу издать буллу об отлучении, и это могло подтолкнуть императора на войну с Генрихом. Кроме того, как отлученный от Церкви правитель, Генрих остался бы один и не мог надеяться на получение помощи от других христианских монархов Европы. Екатерина находилась вдали от этих великих событий, в Кимболтоне, и горячо молилась о том, чтобы они никогда не приняли такого оборота. В феврале Господь послал ей очередное испытание. Мария лежала больная в Гринвиче, где находился двор Елизаветы. Шапуи не приукрашивал ситуацию: опасались, что принцесса может умереть.
Король встревожен, но отказывается последовать совету врачей, внять моим мольбам и отпустить принцессу к Вашему Высочеству, а она очень по Вас скучает. Он заявил, что желает сделать все возможное для здоровья дочери, но должен заботиться также о своей чести и своих интересах, которые будут поставлены под угрозу, если Марию увезут за границу или если она сбежит, что легко сделать, стоит ей только оказаться вместе с Вашим Высочеством, потому как у него есть подозрения, что император строит планы на этот счет.«Разве я стала бы рисковать здоровьем собственного ребенка, отправляя его в такое время в поездку по морю!» – досадовала Екатерина, вспоминая, как плохо ей было, когда она плыла в Англию из Испании. В безумном волнении, пытаясь не обращать внимания на боли в груди и тяжелое сердцебиение, Екатерина в отчаянии написала самому Кромвелю, умоляя его воздействовать на короля, чтобы тот позволил ей лечить Марию в Кимболтоне.
Радость от встречи со мной и немного покоя – уже это вернет ей половину прежнего здоровья. Я стану сама выхаживать ее. Ради любви Господа, пусть это исполнится!Но Кромвель не соблаговолил ответить. Екатерина не стала ждать и выяснять, почему вышла задержка с письмом. Она вызвала доктора де ла Саа. Тот явился в ее покои и сразу стал выяснять, что случилось. Екатерина спросила, может ли он поехать в Гринвич лечить Марию. Последовала неловкая пауза, и Екатерине стало ясно: доктор не очень-то хочет этим заниматься. – Почему нет? – спросила она, видя, что де ла Саа хмурится. – Мадам, я боюсь того, что могу там обнаружить, может статься, я окажусь бессилен остановить процесс или даже буду обвинен в причастности. У Екатерины вытянулось лицо. Неужели случилось то, чего так боялся Шапуи? Нет. Пока у нее в голове прокручивалась эта мысль, она уже отвергла такое предположение. Это было невероятно! Генрих любил Марию, он мог злиться на нее и угрожать, но не причинил бы ей вреда, Екатерина могла заложить свою душу. Но была ведь еще и та, другая, которую Уолси однажды назвал черной вороной. С нее станется… – Тем больше причин у вас ехать! – резко заметила Екатерина. Доктор де ла Саа поехал неохотно и отсутствовал неделю. Время тянулось бесконечно. Бóльшую его часть Екатерина провела на коленях, моля Господа сохранить жизнь Марии. Наконец приехал доктор с добрыми вестями. Какое это было облегчение! – Принцесса выздоравливает, но меня беспокоит продолжительность болезни. Вдруг комнату поглотил мрак. Придя в себя, Екатерина обнаружила, что лежит на полу, а доктора и горничные с тревогой смотрят на нее. – Вы упали в обморок, мадам, – сказал доктор Гуэрси. – Лежите спокойно, когда вам станет немного лучше, мы перенесем вас на кровать. – Со мной все хорошо. С трудом, при помощи слуг, Екатерина села. Вспомнила новость о Марии. – Я больше беспокоюсь о дочери. Доктор де ла Саа, вы сказали, что вас встревожила продолжительность ее болезни. – Мадам, успокойтесь! – Вы должны вернуться к ней! Помочь ей выздороветь! Доктор де ла Саа замялся: – Мое место здесь, с вами, мадам, пока вы сами не поправитесь. О принцессе заботятся ее собственные доктора. – За мной может присмотреть доктор Гуэрси. Я приказываю вам отправиться обратно в Гринвич! – Мадам, мне там не рады! Это возбудило в Екатерине новые подозрения. – Жизнь моей дочери в опасности? – резко спросила она. Доктор де ла Саа переменился в лице: – Хотелось бы мне уверить вас в обратном, мадам. Он и доктор Гуэрси прописали ей покой, но как могла она сохранять спокойствие в сложившихся обстоятельствах? Чтобы доставить удовольствие врачам, она легла в постель, но, как только все ушли, чтобы дать ей поспать, тут же поднялась и, несмотря на головокружение, которое так и не прошло, написала письмо Шапуи.
Молю Вас, поговорите с королем и попросите его от моего лица проявить милосердие и прислать сюда, ко мне, нашу дочь, потому что, если я буду выхаживать ее сама, пользуясь советами своих докторов, но Господу все равно будет угодно забрать ее из этого мира, мое сердце будет спокойно. Скажите Его Величеству, что никто, кроме меня, не может так хорошо позаботиться о ней: я уложу ее в постель у себя в комнате и буду рядом, когда понадобится. Я полагаюсь на Вас, потому что в этом королевстве нет никого другого, кто осмелился бы передать господину моему королю мои слова.Екатерину не заботило, что Генрих узнает о несоблюдении ею запрета на общение с Шапуи. Единственное, что сейчас имело значение, – это безопасность Марии. Когда Элиза пришла справиться о самочувствии своей госпожи, послание было подписано и запечатано. – Придумайте какой-нибудь предлог! – сказала Екатерина молодой женщине. – В этом нет нужды, мадам. Хозяин гостиницы обещал нам цыпленка!
Екатерина с нетерпением ждала ответа, считая дни до того момента, когда уже можно было надеяться на его получение. Она молилась о том, чтобы Генрих проявил снисхождение к Марии и к ней, в то же время опасаясь его гнева, когда он узнает, что она продолжала оставаться на связи с Шапуи, несмотря на его строгий запрет. Под горячую руку он мог использовать ослушание как повод ужесточить ее наказание. Целую неделю Екатерина ждала и мучилась. К тому моменту, как пришел ответ Шапуи, она была уже в полном отчаянии. Посол сообщал, что, как только получил ее письмо, сразу пошел к королю и, ничего не утаивая, передал ему просьбу, исходившую напрямую от нее. Тут Екатерина затаила дыхание. Но Генрих ничего не сказал, и это укрепило ее во мнении, что тревога за дочь превзошла все прочие соображения, как она и надеялась. Король остался непреклонен в своем стремлении не допускать воссоединения Марии с матерью, однако согласился переселить принцессу в дом неподалеку от Кимболтона и позволить врачам Екатерины посещать ее. Но при условии, что сама Екатерина не будет совершать попыток увидеться с дочерью. Это было не то, чего она хотела, но, по крайней мере, Генрих сумел пойти на компромисс, и Екатерина была ему глубоко признательна. В часовне она возносила хвалы Господу за то, что наконец-то нашла общий язык с Генрихом хоть в чем-то. Что, если со временем это приведет к восстановлению согласия между ними? Но пришло известие от Шапуи: у Марии случилось обострение болезни, ее жизнь в опасности. В отчаянии Екатерина снова написала послу, чтобы тот вымолил для нее у Генриха позволение встретиться с дочерью, но король был непоколебим как скала. Шапуи сообщал, что он продолжает носиться с нелепой мыслью, будто Екатерина может оказать политическую поддержку Марии. «Он говорит, что Вы гордая и упрямая женщина, притом наделенная большой отвагой, и полагает, что если Вы возьметесь отстаивать интересы дочери, то легко выступите на поле, соберете войско и пойдете на него войной, и война эта будет такой же беспощадной, как те, что устраивала в Испании Ваша мать, королева Изабелла». «Как мог Генрих ставить такие соображения превыше здоровья и благополучия дочери? – с горечью спрашивала себя Екатерина. – Как же мало он знает меня! Я бы никогда, никогда не стала затевать ничего ему во вред. Я так сильно люблю его! Он стал слишком подозрительным, это Анна своими дьявольскими уловками сделала его таким, именно она, без сомнения подстрекаемая Кромвелем, заставила его видеть злые намерения там, где их и в помине не было». Как бы там ни было, а известий о переезде Марии из Гринвича в Хантингдоншир не поступало. Екатерина с трепещущим сердцем строила предположения о том, что, наверное, дочь слишком слаба и ее невозможно перевезти. Когда Екатерина узнала, что принцесса идет на поправку, радость ее была беспредельна. Хотя было ясно, что теперь Мария уж точно не поселится поблизости от Кимболтона.
Глава 34 1535–1536 годы
Владения Екатерины сократились до двух комнат, а общество ее составляли только слуги. Порой она чувствовала себя полностью оторванной от окружающего мира. Здоровье Марии улучшилось, и теперь Екатерина наконец могла отдохнуть – она сидела у открытого окна в окружении своих дам, воздух был теплый, и от этого дышалось легче. Однако вскоре лето омрачилось такими ужасными событиями, что Екатерина снова исполнилась страха. Три приора картезианского ордена и монах из аббатства Сион были казнены как изменники за отказ признать главенство короля над Церковью в Англии и выражение преданности папе. «Они были исполнены радости, как женихи, идущие к алтарю, – сообщал Шапуи. – Их заставили надеть ризы и волокли, привязав к лошадям, по улицам Лондона, потом они были вздернуты на виселице и полузадушены. После чего их сняли и привели в чувство с помощью уксуса, чтобы они смогли ощутить весь ужас своего наказания». Шапуи не требовалось проговаривать, что это были за ужасы, Екатерина и сама знала, что обвиненному в предательстве грозила кастрация, потрошение и обезглавливание. Потом тела изменников разрубали на четыре части и выставляли на гейтхаусе[21] Лондонского моста или в другом месте как предостережение остальным. Картезианцы приняли смерть храбро. «Люди ужаснулись при виде такой небывалой жестокости, – рассказывал Шапуи. – Они шепотом роптали и обвиняли Леди». В июне еще десять картезианцев, обвиненных в измене, были прикованы цепями к столбам в стоячем положении и оставлены умирать от голода. Воистину настали темные времена, если король мог безнаказанно присуждать к смерти святых людей, посвятивших себя Богу. Если Генрих, понукаемый Анной, способен на такое, разве не решится он поступить так же с теми, кого любил? Ответ не заставил себя ждать. Шапуи написал:Леди торжествует. Она устроила большой банкет для короля в своем особняке в Ханворте, где были показаны несколько смешных и смелых сценок. Ее главной целью было своими шалостями и забавами склонить короля к убийству епископа Фишера и сэра Томаса Мора. Два дня спустя епископа судили в Вестминстере и приговорили к смерти. Когда король узнал, что папа сделал Фишера кардиналом и собирается отправить в Лондон красную шапку, он взъярился: «Клянусь Небом, ему придется носить ее прямо на плечах, потому что к моменту ее доставки головы у него уже не будет!»Екатерина оплакивала этого добродетельного и преданного ей человека, который был исполнен благородства и всегда оставался верным другом. Она истово молилась о даровании ему силы вынести муки. Она сокрушалась и о Генрихе – о том, каким он стал. Прежде он никогда не был таким жестоким и беспощадным. Следующее письмо, доставленное Элизой из гостиницы «Солнце», содержало ужасные известия. Епископ Фишер был мертв. Генрих смягчил наказание и заменил приговор отсечением головы, после того как возникли народные протесты – люди были возмущены тем, что такой святой человек должен умереть как изменник. Епископ храбро принял смерть на Тауэр-Хилл. Его голова, эта ученая и мудрая голова, была насажена на кол на Лондонском мосту. Удивительно, но на ней не появлялось следов разложения, что люди считали верным признаком святости. Это было не все. Еще трое монахов-картезианцев были казнены как изменники в Тайберне. Екатерине казалось, она больше не вынесет. Узнав об этих кошмарных событиях, она снова слегла. Сообщения Шапуи убедили ее, что они с Марией находятся в большей опасности, чем когда бы то ни было, ведь они отказались приносить клятву, так же как картезианцы и Фишер. Потом однажды утром она услышала топот копыт на дороге. За ним последовали звуки шагов и звяканье шпор на лестнице за ее дверью. Фрейлины собрались вокруг Екатерины, и она ощутила их внутренний трепет: они дрожали от страха вместе со своей госпожой. Прибыла депутация совета во главе с герцогом Норфолком. Екатерина не сомневалась: они приехали арестовать ее и отвезти в Тауэр, на смерть. Женщин не вешали, не волочили и не четвертовали за измену, их сжигали на костре у столба, и Екатерина вся съежилась, почти физически ощущая близость расправы. Вот языки пламени лижут стопы, потом пламя разгорается ярче и поглощает ее. Она не могла представить, что жизнь закончится в таких муках. Долго ли это протянется? Она слышала о еретиках, которые страдали по три четверти часа, прежде чем умереть. Советники сообщили ей о цели визита: они приехали, дабы произвести обыск в ее покоях. Предполагалось, что они обнаружат какие-нибудь улики, что послужат основанием для ареста. Екатерина молилась, чтобы они не добрались до писем Шапуи, которые Элиза предусмотрительно спрятала под одной из плохо державшихся на месте филёнок. Екатерина задержала дыхание и молилась, как никогда прежде, пока перерывали ее вещи. Советники не нашли ничего, чем были весьма раздосадованы. Герцог Норфолк с разгневанным видом орал на Екатерину: – Мы знаем, что вы поддерживаете связь симператором и его посланником! Будьте уверены, ваши интриги не останутся без внимания, а потом настанет час расплаты! Екатерина стояла, трепеща. Грудь сдавило от острой боли, сердце бешено колотилось. Норфолк придвинул свое лицо прямо к лицу Екатерины: – Если Господь заберет вас и вашу дочь к себе, весь этот спор закончится, никто не будет выражать сомнений по поводу брака короля и законности его наследников! В глазах герцога светилась такая злоба, что Екатерина дрогнула. – Вы явились сюда, чтобы изводить больную женщину, господа? – с вызовом бросила она. – Стыдитесь! Я не совершала измены. Всегда желала королю только блага. – Вам следует знать, что ваш бывший исповедник отец Форрест в тюрьме и в очень тяжелом положении – приговорен к сожжению. Рука Екатерины взлетела ко рту. – Что он сделал?! – в отчаянии воскликнула она. – Открыто противился главенству короля над Церковью и выступал с речами. Мы подумали, мадам, следует предупредить вас, что случается с теми, кто вызывает неудовольствие короля. Когда Норфолк уходил, оставляя Екатерину едва не убитой горем от этих ужасающих новостей, в его глазах горел ехидный огонек. Ночью Екатерина не могла уснуть. Она послала за епископом Лландаффом, отчаянно нуждаясь в духовном руководстве. – Я не могу найти успокоения, пока не напишу отцу Форресту, – сказала она своему духовнику. – Тогда пишите, дочь моя. Это поможет вам обоим. И помните: быть призванной на борьбу во имя любви Христовой и истины веры – большая честь. Никогда еще письма не давались Екатерине с таким трудом. Чем утешить человека, который вот-вот встретит самую чудовищную смерть? Советовать стойко держаться перед лицом уготованных ему недолгих мучений? Уверять в вечном блаженстве? Но потом вдруг Господь надоумил ее, и перо запорхало по листу.
О отец мой, Вы счастливец, которому милостиво даровано, приняв самую мучительную смерть во имя Христа, исполнить до конца предназначение Вашей праведнейшей жизни и плодотворных трудов. И, увы, мне, Вашей несчастной, надломленной дочери, которая в годину одиночества и безмерных душевных страданий должна лишиться такого отца, любимого мной во Христе. Признаюсь, меня поглощает великое желание умереть вместе с Вами или прежде Вас, и я готова заплатить за его исполнение любым количеством самых ужасных мучений.Она написала ему, что больше никогда не позволит себе никаких радостей в этом ничтожном и бессчастном мире. «Но когда Вы выиграете битву и обретете венец, я знаю, что через Вас в изобилии получу благодать Небес. Прощайте, мой почтенный отец, поминайте меня пред Господом вечно и на небе, как Вы делали это на земле». Она подписала письмо: «Ваша опечаленная и скорбящая дочь Екатерина». Получить ответ Екатерина не надеялась, но отец Форрест быстро откликнулся, написав, что ее слова безмерно его утешили, и завершил свое послание так: «Помолитесь за меня, чтобы я сумел победить в битве, на которую призван. Во имя утверждения справедливости Вашего дела я готов вынести все». К письму были приложены его четки. Это сломило Екатерину, она опустила голову на руки и завыла. Прибежали фрейлины, но ее невозможно было утешить, и прошло очень много времени, прежде чем слезы ее иссякли. В последующие дни Екатерина не выходила из оцепенения. Думать о том, что такому славному человеку придется из-за нее вынести такие муки, было слишком тягостно. Поэтому, когда пришло второе письмо от отца Форреста, у Екатерины гора спала с плеч. Король милостиво соизволил заменить ему казнь на пожизненное заключение. Екатерина на коленях истово благодарила Господа и призвала Его благословение на Генриха, который, вероятно, осознал, что пролил уже достаточно крови ради утверждения своей правоты. И вновь она вознесла хвалы Создателю, узнав, что добрый священник имеет связь с отцом Эйбеллом, который снова был помещен в Тауэр за открытые высказывания в пользу Екатерины. Она молилась о том, чтобы этот смелый и преданный человек укрепился верой и был вскоре освобожден. Но потом пришла, пожалуй, самая худшая весть этого страшного лета. Сэр Томас Мор был осужден за измену и обезглавлен. Он взошел на эшафот на Тауэр-Хилл и мужественно принял смерть, заявив, что был верным слугой короля, но прежде обязан Богу. «Весь мир ужаснулся, – писал Шапуи. – Все говорят, что на этот раз король зашел слишком далеко». Потрясение и горе были слишком велики для хрупкого здоровья Екатерины. Она слегла в постель и мучилась от болезненных спазмов в груди при каждой попытке вдохнуть, а сердце ее стучало глухо и тревожно. Она плакала и плакала, плакала беспрерывно, и чувствовала, что за последние несколько недель, наверное, пролила уже море слез. Она глубоко скорбела по Мору. Он был одним из лучших людей среди всех, кого она знала, – блестящий ум, строгие принципы и цельность натуры. Такого человека мир больше не увидит. Екатерина сокрушалась о его семье, о том близком круге, который вращался вокруг него. Если она сама так убита горем из-за его смерти, каково им? Когда Анна Болейн предстанет перед судом Божьим, ей придется за многое держать ответ.
«Томас Кромвель, – писал осенью Шапуи, – хвастался, что может сделать короля богачом». Екатерина знала, что бóльшая часть состояния, которое оставил Генриху отец, была растрачена на дворцы, развлечения и поиски военной славы. Вероятно, теперь он нуждался в средствах для пополнения казны. Шапуи стало известно о детальном докладе, который составил Кромвель: речь в нем шла о финансовом положении Английской церкви. «Похоже, не удовлетворившись принуждением духовенства к отречению от Рима и наложением на священников штрафов за прежнюю лояльность, король планирует обобрать монастыри – лишить их всех сокровищ. Его порученцы уже посетили некоторые не самые значительные религиозные учреждения. Мне это совсем не нравится». «Мне тоже», – подумала Екатерина. Казалось, налет цивилизации постепенно сходил с Англии, и Екатерина трепетала от страха за будущее религии в этом королевстве. Слава Богу, король не наложил своих кощунственных рук на собственность монастырей, бóльшая часть которой была собрана благодаря посмертным дарам и пожертвованиям благочестивых прихожан, накапливавших таким образом богатства небесные. Генрих был не вправе забирать их, они принадлежали Господу! Наступил октябрь, задули ветры, и небо прижалось к земле, будто выражало недовольство происходящим в этой прекрасной, но беспокойной стране. Рыжие листья кучами лежали на траве. Екатерина, глядя в окно и подавляя приступы кашля, которые становились все более неотвязными, всем телом ощущала осенний холод. Доживет ли она до следующей весны? Здоровье ее ухудшалось, она это понимала. Дышать становилось все труднее, сердце билось неровно, часто случались приступы головокружения. Иногда она чувствовала такую слабость, что не могла встать с постели и едва была способна держать в руках книгу. Есть не хотелось, она исхудала и стала похожа на скелет – это она, которая когда-то переживала, что станет непривлекательной для Генриха из-за полноты. Что бы он подумал о ней сейчас? Но больше всего ее беспокоило не это, а собственное будущее, ведь его почти не осталось. Образ самой смерти она замечала в чертах своего лица и изможденном теле. Екатерину терзало беспокойство о Марии: как та будет жить, когда мать покинет этот мир? Кто будет защищать ее дитя? Кто позаботится о ней так, как заботилась она, мать? В новое смятение чувств ее ввергло известие о победе императора над турками. «Король и Леди были настолько ошеломлены новостью, что выглядели как выпавшие из окна псы». И неудивительно, потому что Карл получил свободу действий и при желании мог вторгнуться в Англию, дабы постоять за честь своей тетки. Вот чего Генрих боялся больше всего, писал Шапуи. А момент явно назрел! В Кимболтоне, как и по всей стране, непогода уничтожила урожай. В преддверии голодной и холодной зимы люди обвиняли во всем короля, ибо видели в этом несчастье знак Божьего неудовольствия Генрихом за его женитьбу на Анне. Шапуи сообщал, что в стране нарастают волнения и многие продолжают тихо осуждать казни Мора, Фишера и картезианцев. Их ужасные смерти не давали покоя и Екатерине. А какую участь Генрих уготовил Церкви в Англии? Ее потянуло написать папе Павлу и воззвать к нему, чтобы он изыскал какое-нибудь средство исправить положение. Она начала так:
Молю Вас не оставить своим попечением это королевство, не забывать короля, моего господина и супруга, и мою дочь. Вашему Святейшеству, как и всему христианскому миру, известно, какие дела здесь творятся, какие великие обиды наносятся Господу, какой это позор перед людьми, какие упреки бросают Вашему Святейшеству. Если средство для лечения недуга не будет применено вскорости, не закончится череда опустошенных душ и замученных святых. Твердые в вере останутся непреклонны и будут страдать. Не слишком ревностные сдадутся, а бóльшая часть паствы собьется с пути, как овцы без пастуха. Я пишу откровенно Вашему Святейшеству как тому, кто может разделить мои чувства и чувства моей дочери, вызванные мученической кончиной этих достойных людей – Джона Фишера, Томаса Мора и несчастных братьев-картезианцев. Мрачное удовольствие нахожу я в ожидании того, что нам придется последовать по их скорбному пути страданий. Мы ожидаем помощи от Бога и от Вашего Святейшества. Она должна прийти без промедления, иначе будет поздно.Екатерина знала, что, отправляя такое послание, она подвергает себя страшной опасности: если письмо перехватят, ее обвинят в попытке подтолкнуть папу к отлучению короля от Церкви и призвать к Крестовому походу против Генриха. А это по всем законам считалось государственной изменой.
Следующее письмо Шапуи пришло в ноябре, и Екатерину снова пробила тревожная дрожь.
Леди снова enceinte и громко сетует в присутствии короля, как ее устрашает мысль, что их ребенок однажды может быть отстранен от власти сторонниками принцессы; она вырвала у его величества обещание, что тот скорее умертвит Марию, чем допустит такое. Кроме того, Леди ясно дала понять: если король не покончит со своей дочерью, она сделает это сама. Если у нее родится сын, заявила она, пребывая в надеждах на скорое исполнение этого желания, тогда ей понятно, что станет с принцессой.Екатерина продолжала чтение со все возрастающим страхом. Король заявил Тайному совету, что больше не хочет терпеть неприятностей, которые доставляют ему Екатерина и Мария, хватит с него страхов и подозрений. Он приказал, чтобы на следующей сессии парламент принял против них Акт об измене или он сам, оставив ожидания, найдет средства исправить дело! «Увидев испуг на лицах своих советников, он сказал, что тут не о чем плакать и нечего кривить лица. Если из-за этого он потеряет корону, то все равно осуществит задуманное». Но Леди Шапуи опасался еще больше, потому что именно она распоряжалась, приказывала и управляла всем, а король не смел ей перечить, особенно в теперешнем ее состоянии. Екатерина была вынуждена сесть. Ее трясло. Слабым утешением стали переданные Шапуи слова императора: племянник полагал, что это лишь попытки запугать ее и Марию. Но если они действительно в опасности, тогда он настоятельно рекомендует им уступить воле короля. Уступить? После всего пережитого? Екатерина знала, что никогда не поставит под угрозу свою бессмертную душу таким поступком, и была уверена в Марии – ее дочь тоже ничего такого не сделает.
Мария в подавленном настроении, но, когда я предложил королю позволить ей пообщаться с друзьями, которые могли бы развлечь ее, Генрих вспылил и закричал: он позаботится о том, чтобы очень скоро ей уже не хотелось никакой компании и никаких развлечений. Она станет примером того, что никому не дозволено прекословить ему и не соблюдать его законы. И он намерен оправдать предсказание, гласившее, что в начале правления он будет кротким как овечка, а в конце станет хуже льва.Читая это, Екатерина почувствовала, что вот-вот упадет в обморок. Она громко вскрикнула, и тут же застучали торопливые шаги, заботливые руки подхватили ее и уложили в постель. – Я должна поехать к ней! – восклицала Екатерина. – Я должна защитить ее! Он не может поступить так с собственным ребенком! Девушки пытались утешить ее, но она не собиралась униматься. – Не будет мне покоя, пока я не узнаю, что она в безопасности. Я должна молиться за нее. – Екатерина начала с трудом подниматься. – Отдохните, мадам! Прошу вас! – Вашей милости надо немного полежать. – Нет! Сейчас самое важное время для молитвы! Екатерина сползла с кровати и слегка покачнулась, однако на нетвердых ногах сделала несколько шагов до аналоя и с облегчением опустилась на колени. – О Господи Иисусе, спаси моего ребенка! – молила она, сжимая руки. – Последи за ней и защити ее! Грудь пронзила резкая боль. Прижав ладонь к сердцу, она ловила ртом воздух. Подбежали служанки, подняли ее и перенесли на постель. Послали за докторами. К их появлению боль ослабла, но не прошла совсем. В груди ныло, и сердце беспорядочно скакало. Доктор де ла Саа приказал горничным снять с Екатерины платье и надеть на нее ночную сорочку. После этого он осмотрел пациентку, простучал грудь и спину, попросил покашлять. На мгновение лицо врача омрачилось, но потом он заметил, что больная вопросительно смотрит на него, и нацепил свою обычную вежливую улыбку. Обмануть Екатерину ему не удалось. Судя по тому, как она себя чувствовала, с постели ей больше не встать. «Мое время истекает, – думала она. – А что же станет с Марией?» Однако через несколько дней Екатерина чудесным образом начала поправляться, и весь двор суетился вокруг, празднуя ее пятидесятый день рождения. Девушки хотели приготовить что-нибудь особенно вкусное, но Екатерина не могла смотреть на еду. – Чего я хотела бы, так это бульона, – сказала она, чтобы их порадовать. – Я приготовлю его для вашей милости, – сказала Марджери. Она принялась возиться у очага, пока Элиза перебирала струны лютни, а остальные девушки пели, чтобы приободрить Екатерину. Бульон получился не слишком вкусным. «Марджери перестаралась с травами», – подумала Екатерина, но проглотила несколько ложек, чтобы доставить удовольствие поварихе. После обеда у больной случился сильный приступ удушья и желудочных колик, но они прошли, так что вечером Екатерина была в состоянии сидеть у огня и вышивать. Однако продолжала беспокоиться о Марии, страшась того, что Анна Болейн уговорит-таки Генриха привести в исполнение его угрозы. Через неделю, когда пришло Рождество, Екатерина все еще держалась, делала вид, что неплохо себя чувствует. Сэр Эдвард и сэр Эдмунд прислали слугу с бутылью вина, но она отказалась пить его, боясь, что оно может быть отравлено, а потому все они пили эль с кухни. Родители Элизы по случаю праздника отправили дочери гуся, и его зажарили на вертеле, потом пели веселые песни и желали друг другу счастливого Йоля. Екатерина сидела, откинувшись в кресле, улыбалась, но мысли ее были далеко, с Марией. Она молила Бога, чтобы тот не оставил дочь своим милостивым покровительством, и размышляла, как та проводит праздники. О Генрихе Екатерина тоже размышляла. Если бы только ей посчастливилось увидеть их обоих – обожаемого мужа и возлюбленное дитя – всего только раз в этой жизни. Это было все, чего она сейчас желала. Назавтра, это был день святого Стефана, Екатерина поднялась утром и сидела в кресле, завернувшись в шаль, как вдруг обнаружила, что не может вдохнуть. В панике она отчаянно пыталась втянуть в себя воздух, девушки бегали вокруг и уже начали стучать ее по спине. Грудь готова была разорваться, в глазах помутилось. Она могла умереть здесь и сейчас, не имея возможности примириться с Господом. Потом каким-то чудом легкие раскрылись, но ощущение, будто ее горло сжимает удавка, сохранялось. Екатерина откашливалась, в груди болело, ее заставили снова лечь в постель. Были вызваны доктор де ла Саа и доктор Гуэрси, но они мало чем могли облегчить страдания больной. Прожорливый волк, засевший у нее в груди, не давал покоя, передышек между приступами боли почти не случалось. Если так будет продолжаться, она умрет, это ясно. К собственному удивлению, страха Екатерина не чувствовала – только горькое сожаление, что скоро ее не станет и она не сможет любить и защищать Марию. Дни тянулись за днями, боль становилась все мучительнее. Элиза смачивала ей лоб и пыталась отвлечь чтением вслух. Марджери готовила для нее травяные отвары, горькие, но согревающие, чтобы смягчить горло, пересохшее от кашля. Бланш заворачивала в ткань горячие кирпичи и подкладывала их к ногам Екатерины, а еще поддерживала пламя в очаге, чтобы в комнате было тепло. Исабель – что ж, Исабель выдумывала разные способы выглядеть занятой, но предпринимала искренние попытки развеселить Екатерину немудреными шутками. – Позвольте мне вызвать королевских врачей, – настоятельно просил доктор де ла Саа. По отчаянию в его голосе Екатерина поняла: он переживал, что его могут обвинить в небрежении или в чем-нибудь похуже. Но кому какое дело? Анна желала ее смерти. Потом Екатерину осенило: он думает, что ее отравили. Если появятся доктора короля, это снимет с него всякую ответственность. – Нет, – сказала Екатерина. – Я полностью вверяю себя воле Божьей. Екатерина считала страхи доктора де ла Саа необоснованными. Это были симптомы болезни, которой она страдала уже давно, только они проявлялись все с большей силой. Екатерина старалась терпеливо сносить боль, но та не прекращалась. Ее как будто разрывало на части и поглощало изнутри. Не было ни минуты покоя, ее постоянно трясло, и все время не хватало воздуха. В последний день старого года Екатерина получила короткую записку от Шапуи с предупреждением держать дверь в свои покои на запоре с вечера до раннего утра и тщательно проверить, не спрятался ли кто-нибудь внутри. Посол опасался, что с ней могут сыграть злую шутку с целью либо нанести ущерб ей лично, либо обвинить в прелюбодеянии, либо найти доказательства того, что она планирует поднять мятеж. – Прелюбодеяние! Как будто я могу хотя бы подумать о таком в моем положении, – слабым голосом сказала она Элизе, которая в ужасе смотрела на записку. Почему Шапуи написал такое? Должно быть, получил тревожные вести. А может, просто перестраховывался. Она надеялась, что верным окажется последнее.
В первый день нового года, 1536-го от Рождества Господа нашего, Екатерина лежала в полузабытьи и сквозь дрему размышляла: при дворе сейчас обмениваются подарками и готовятся к традиционному пиру. В этот раз у нее не было ни средств на покупку презентов, ни даже сил думать об этом. Открылась дверь. На пороге стояла взбудораженная Бланш: – Ваша милость, к вам посетитель! Екатерина повернула голову. Вошел мужчина в черной накидке. Это был Шапуи! – О Боже мой! Как замечательно! – выдохнула она, и ее скрутил приступ кашля. Шапуи подождал, пока он не утихнет, потом припал на колено у постели Екатерины и поцеловал ее руку: – Ваше высочество, я не мог не приехать. Посол смотрел на нее взглядом, полным сострадания, что неудивительно. Наверняка она являла собой печальное зрелище: распластанная в кровати и неспособная даже сесть. Екатерина не могла выразить словами, как она рада его приезду. – Теперь я могу умереть у вас на руках, а не всеми покинутой, как несчастное животное, – сказала она, когда вошли ее дамы. С Шапуи сняли накидку и предложили эля, подогретого с помощью раскаленной кочерги. Екатерина была бы не прочь поговорить с ним прямо здесь и сейчас, но он проделал длинный путь. Как королева, она знала, что правила этикета должны быть соблюдены, и потому сказала: – Вы, наверное, устали в дороге. Мы поговорим позже. Мне самой нужно немного вздремнуть. За последние шесть дней я не проспала и двух часов, может быть, мне удастся это сейчас. Шапуи поклонился. – Я вернусь позже, – ответил он с исполненным сочувствия видом.
После ужина Шапуи сидел с ней у камина и сам подкладывал в него дрова. Элиза и Бланш, подыгрывая Екатерине, просили разрешения остаться, но она их отослала, сказав: – Если вы мне понадобитесь, мессир Шапуи позовет вас. Когда дверь затворилась, она повернулась к послу: – Не могу поверить, что король позволил вам приехать. – Я сказал ему, что слышал о тяжелой болезни вашего высочества, и попросил разрешения навестить вас. Он ответил, что я могу поехать, когда мне будет угодно. Екатерина подозревала, что было сказано больше этого, но смолчала. Подумала: «Наверное, Шапуи решил, что я умираю, и убедил в этом Генриха». – Я просил также разрешения для принцессы повидать вас, но король отказал. Это был тяжелый удар. – Взгляните на меня, – сказала Екатерина. – Разве я похожа на человека, который в состоянии замышлять измены и вторжения? – Нет, ваше высочество, – ответил Шапуи, печально глядя на нее. – Но с Божьей помощью вы скоро пойдете на поправку. – Вы всегда были мне верным и преданным другом. Вы без устали трудились ради меня и сделали гораздо больше того, что велел вам долг. Не могу выразить, как я благодарна вам за это. Без вас я чувствовала бы себя совершенно одинокой и покинутой. – Я имел честь служить вашему высочеству и отстаивать правоту вашего дела. В этом королевстве творится несправедливость. Леди закусила удила, и никто не смеет приструнить ее, даже король. Если она родит сына, я не смею даже подумать о том, что тогда может произойти. – Мой супруг, похоже, сильно изменился, – с грустью проговорила Екатерина. – Тем не менее я уверена: это из-за Леди он стал таким. – Он раздосадован. Не может получить желаемое, а потому набрасывается на всякого, кто ему перечит. Екатерина вздохнула: – Могу понять его досаду. Мне, как никому другому, известно, сколь сильно желание короля иметь сына. И я досадовала не меньше, чем он, пока ждала папского решения, а оно все откладывалось и откладывалось. Скажите, мой любезный друг, как вы думаете, он когда-нибудь вернется к прежнему? – Пока Леди властвует над ним – нет. – Шапуи поморщился. – Есть еще одна вещь, жизненно важная вещь, о которой я хочу попросить вас, – сказала Екатерина, пытаясь прямее сесть в постели. – Просите, ваше высочество, все будет исполнено. – Присмотрите за Марией, дорогой друг, ради меня. Вы всегда близко к сердцу принимали ее интересы и были истинным поборником ее прав. Лицо Шапуи смягчилось. – И я им останусь, ваше высочество, клянусь! Принцессу я очень ценю и уважаю и приложу все усилия к тому, чтобы обеспечить ее безопасность, ради вас и ради нее самой. Вы можете рассчитывать на это. Екатерина преисполнилась чувства облегчения и глубокой благодарности. Этот милый, добрый, верный человек взял на себя материнскую ношу любви и заботы, снял ее со слабых плеч Екатерины и дал ей возможность уйти из этой жизни в мире с собой. Екатерина знала, что больше никогда не увидит лица своей возлюбленной дочери, но она сделала для нее все, что смогла, и утешалась этим. – Благодарю вас от всего сердца, – сказала она. Шапуи улыбнулся: – Вам не нужно было об этом просить. Они проговорили два часа. Раздался стук в дверь, и вошла Элиза с сообщением, что к Екатерине явился посетитель. Из-за спины девушки, с галереи, доносились громкие голоса, один из них женский, резкий и настойчивый. Нет, этого не может быть! Но это так. Через несколько мгновений в комнату влетела Мария Уиллоуби. – Хвала Богу! – воскликнула она. – Я уже не ждала застать ваше высочество в живых. Екатерина не могла поверить своим глазам. Бог проявил достаточную щедрость, послав к ней Шапуи, но чтобы двое самых дорогих ей людей навестили ее в этом уединенном месте, притом в один и тот же день, – это было самым неожиданным и прекрасным даром. Мария обняла Екатерину, потом отстранилась, качая головой. Сама она выглядела ровно так же, как в тот день три года назад, когда Екатерина видела ее в последний раз. Екатерина же превратилась в бледную тень той женщины, какой была тогда, она знала это и по лицу Марии видела, насколько ту поразили произошедшие в подруге и госпоже перемены. – О мой дорогой друг! – выдохнула Екатерина. – Король и вам тоже позволил приехать, как мессиру Шапуи? – Нет, ваше высочество. Сообщения о вашей болезни застали меня в Гримсторпе, и я поняла, что обязана приехать. Я спешила как могла, но это пятьдесят миль, и в такую погоду трудно ехать верхом. Постоялые дворы вдоль дороги ужасные. Четыре дня в пути, и я вся промерзла. – Она подошла к огню и протянула к нему руки. – Когда открыли ворота караульного дома, я потребовала, чтобы меня впустили, но эти два негодяя, которые называют себя опекунами, попытались закрыть их перед моим носом. Тогда я подставила ногу и сказала им, что при мне множество писем, которых будет достаточно, чтобы снять с них всякие обвинения, и я предъявлю их утром. – И есть у вас эти письма? – спросила Екатерина. – Разумеется, нет, – улыбнулась Мария. – Думаю, меня теперь ищут. Заприте дверь!
Каким-то чудом сэр Эдвард и сэр Эдмунд не появились, в дверь не колотили и выдать леди Уиллоуби не требовали. Даже они, должно быть, понимали: время плести интриги осталось в далеком прошлом. Марию не интересовало, что думают сэр Эдвард и сэр Эдмунд. Она ворчала по поводу состояния очага. – Не говорите мне, что тут кто-то готовил, – сказала она, принюхиваясь к пропитавшему все запаху горелого жира. – Мои девушки готовят для меня, – объяснила Екатерина. – Я не осмеливаюсь есть ничего другого – боюсь яда. – Я приготовлю вам что-нибудь. – Вы умеете готовить? – Казалось невероятным, чтобы гордая дочь кастильских грандов пала так низко. – Нет! – Мария скривилась. – Но могу научиться! Тушеное мясо, которое она состряпала, посылая горничных Екатерины на кухню за всем необходимым, оказалось на удивление неплохим. Мария угостила и Шапуи, а Екатерину сама кормила с ложки. – Я не голодна, – уверяла ее Екатерина. – У меня теперь совсем нет аппетита. Но немного я поем, потому что ты была так добра и приготовила это для меня. – Именно это я и хотела услышать! – радостно отозвалась Мария. – От хорошей еды вам станет лучше. Екатерина сомневалась в этом, но сделала вид, что верит. – Где вы будете спать? – спросила она Марию. – Можете разделить ложе со мной, если хотите? – Если мессир Шапуи займет кресло, – согласилась Мария. – Разумеется, – ответил Шапуи, – но теперь, когда леди Уиллоуби здесь, в моем присутствии больше нет необходимости, и мне нужно ехать, так как я могу быть более полезным вашему высочеству в другом месте. – Не уезжайте пока, – попросила Екатерина. – Ваше общество доставляет мне такое удовольствие, что я начинаю лучше себя чувствовать. – Тогда я побуду еще немного, – с улыбкой ответил посол.
Шапуи был готов к отъезду. Он пришел попрощаться. Екатерина натянула на лицо бодрую улыбку. – Приятно видеть ваше высочество повеселевшей, – сказал он. – Все благодаря вам и Марии. – Я оставляю вам двух человек, они окажут вам поддержку и будут сообщать мне о состоянии вашего здоровья. «Один из них, наверное, молодой человек, переправлявший письма, которые я отдавала Элизе», – предположила Екатерина, заметив, как просветлело лицо ее фрейлины. – Тогда всего вам хорошего. – Екатерина протянула руку для поцелуя. Ей хотелось расплакаться и молить Шапуи остаться, но она крепилась и не стала смущать посла чувством вины из-за необходимости уехать. Шапуи припал на колено, взял ее руку в свои ладони и пылко поцеловал. Когда он поднял взгляд, в глазах его стояли слезы. – Вы самая добродетельная женщина из всех, кого я знал, и самая великодушная. Но, ваше высочество, вы слишком доверчивы и поспешно наделяете людей своими достоинствами, а вот причинить кому-нибудь хоть малейший вред, даже если это пошло бы на пользу, не спешите. Екатерина выдавила из себя еще одну улыбку: – Вы опять подбиваете меня разжечь войну? Мой надежный, верный друг, неужели вы никогда не оставите это? Я не отступлюсь от того, что уже не раз говорила. – (Шапуи печально взглянул на нее.) – Была ли я права? – задала ему вопрос Екатерина. – Верно ли поступала, противясь тому, что считала вредным? Даже если из-за этого проистекло много неприятностей? В последнее время я часто спрашиваю себя об этом. Мне необходимо быть в ладу со своей совестью. – Никогда не сомневайтесь в этом, ваше высочество. Мир был бы более приятным местом, если бы в нем существовало больше таких людей, как вы. А теперь прощайте. Да поможет вам Бог и да восстановит Он ваше здоровье! Будьте уверены, я не забуду о своем обещании присматривать за принцессой. – Прощайте, дорогой друг! Благодарю вас! Екатерина смотрела ему вслед, зная, что никогда больше не увидит его. Одинокая слеза медленно сползла по ее щеке.
По крайней мере, теперь с ней была Мария. Она взяла на себя труд руководить четырьмя девушками и давать им разные поручения. Екатерина подозревала, что Элиза немного сердится, ведь столько времени она прекрасно обходилась без этого, но вслух девушка ничего не говорила и без возражений согласилась быть ответственной за удовлетворение личных нужд Екатерины. Марджери и Бланш обязали готовить еду, а Марджери, кроме того, велели продолжить варку травяных снадобий, потому что Мария считала их полезными для своей госпожи. Исабель, которую заставили встряхнуться, должна была следить за доставкой всех необходимых вещей с кухни и из любых других мест и еще постоянно теребить ленивых паршивцев из левого крыла дома, чтобы те мигом поднимались и брались за дело, если потребное ей не доставляется вовремя. Екатерина могла просто лежать, наблюдать за всем и слушать, потому что теперь у нее едва хватало сил поднять руку. Сердцебиения и приступы удушья усилились, как никогда. Сердце Екатерины иногда стучало с такой частотой, что она боялась, как бы оно не разорвалось. Ей всегда было холодно, и ее бил озноб, не важно, насколько тепло было в комнате. Руки и ноги у нее всегда леденели. Она умирала и знала это. Никто не мог оправиться от такой тяжелой болезни. Несмотря на это, Екатерина сохраняла спокойствие и ни на что не жаловалась. В каком-то смысле уход из этого мира, полного невзгод, станет облегчением. Печалила Екатерину только мысль о Марии, которая останется без матери и без друзей, и еще о Генрихе, любовь к которому никогда в ней не утихала. Из всего, что она любила в этом мире, труднее всего ей было расстаться с дочерью. Нужно было, пока не поздно, составить завещание. Екатерина попросила перо и бумагу, призвала епископа Лландаффа, чтобы тот все записал, и Марию с Элизой в качестве свидетелей. Потом она продиктовала свою последнюю волю: – Напишите, что я желаю, чтобы король Генрих Восьмой, мой добрый господин, заплатил мои долги и вознаградил за верную службу моих помощников. Я прошу, чтобы меня похоронили в монастыре братьев-францисканцев, отслужили пять месс ради упокоения моей души и кто-нибудь совершил для меня паломничество к святилищу Богородицы Уолсингемской. – Екатерина помолчала, думая, какие еще распоряжения сделать. – Своей дочери, принцессе Марии, я оставляю золотое шейное украшение, привезенное мной из Испании, и мои меха. Оставшиеся деньги и личные вещи она завещала Франсиско Фелипесу, своим четырем фрейлинам и другим слугам. Когда завещание было составлено и, собрав последние силы, Екатерина его подписала, ей потребовался отдых. Она чувствовала себя совершенно опустошенной и понимала: смерть втихомолку подкрадывается к ней. Мария приказала Марджери дать Екатерине травяного настоя, и они вместе усадили больную так, чтобы она могла выпить это укрепляющее средство. Екатерине удалось проглотить совсем немного, после чего она сделала знак, чтобы ее уложили спать. Проснулась Екатерина в сумерках и услышала ворчливый голос Марии: – Куда подевалась эта женщина? – Она вышла в сад собрать трав. – Это говорила Бланш. Послышалось шуршание юбок – Мария подошла к окну. – Я не вижу ее. Она ушла сразу после обеда. – Может быть, она с Бастьеном? – предположила Элиза. – Он ей нравится. – Бастьен был с Филиппом на кухне, когда я ходила туда пару минут назад. – Пойти поискать ее? – спросила Бланш. – Да, и возьмите с собой Исабель. Поищите в саду. Загляните на кухню. – Она ушла, моя леди. – Это заговорила Исабель. – Ушла? – Думаю, она покинула замок. Ее вещи исчезли – одежда и дорожный сундук. – Что? – Мария в кои-то веки растерялась. – Дайте я посмотрю! Послышался шум удаляющихся шагов. Потом они вернулись, в туалетной комнате зазвучали приглушенные голоса. – Мадам! – позвала Мария. – Вы не спите? – Нет, – откликнулась Екатерина. – Марджери покинула замок? – Похоже, что так. Какая неблагодарность… И это после того, как вы так щедро наделили ее в своем завещании. – Не сердитесь на нее. На ее долю выпало немало страданий. Не требуйте от меня объяснений, просто поверьте. Для нее это не жизнь – возиться с умирающей женщиной. Ни для одной из вас это не жизнь. – Мне эта женщина никогда не нравилась! – фыркнула Мария. – Но сбежать вот так, тайком, не сказав нам и не попрощавшись с вами! Вы были для нее хорошей госпожой. И вы заслуживаете лучшего обхождения! – Оставьте это, Мария. В моем сердце нет места для злобы. Я уверена, у нее имелись веские причины. – Она встречалась с мужчиной, – подала голос Элиза. – Он приезжал несколько раз, и они встречались в гостинице «Солнце». Я видела их. – И вы ничего не сказали королеве? – Мария была вне себя. – Вы разве не понимаете, что поведение фрейлин отражается на ней? Она в ответе за вашу добродетель. – Довольно, Мария, – пробормотала Екатерина. – Я слишком утомлена, чтобы выслушивать это. Мне приятнее думать, что Марджери не упустила свой шанс на счастье. Пожалуйста, напишите от моего имени ее сестре и объясните, что произошло и что я больна. Больше я ничего не могу сделать. Мария неодобрительно хмыкнула, но оставила Екатерину в покое, а Элизу – сидеть при ней. Боль и сердцебиение были ужасные. У Екатерины закружилась голова, она не понимала, где верх, где низ. Хотелось снова уснуть, чтобы избавиться от этих мучений. Она лежала в постели и старалась думать о чем-нибудь приятном. Мысленно бродила по садам Гринвича, где однажды много лет назад, когда они собирались пожениться, Генрих преподнес ей розу. Как он любил ее, свою Кейт, тогда! Она отдала ему сердце без остатка, оно и сейчас принадлежало ему. Она хотела, чтобы он узнал об этом, пока еще есть время. Генрих запретил ей общаться с ним, но она не могла умереть, не выразив ему свою любовь, не сказав, что прощает все. – Элиза, – произнесла Екатерина, – вы напишете для меня письмо? – Конечно, мадам. Кому? – Королю. Записывайте все, что я скажу. – Екатерина с трудом сделала вдох и постаралась собраться с мыслями. – Мой господин и дорогой супруг, вверяю вам себя. Близится час моей кончины, и состояние мое таково, что нежная любовь, которую я к вам испытываю, побуждает меня напомнить вам о здоровье и благополучии вашей души, о ней вам следует заботиться прежде всего – прежде мирских интересов и плотских, хотя за это вы и ввергли меня во многие несчастья, а себе создали множество тревог и забот. Со своей стороны, я прощаю вам все, да, я желаю и от души прошу Господа, чтобы и Он тоже отпустил вам все грехи. Что касается остального, я вверяю вашему попечению нашу дочь Марию и молю вас быть для нее хорошим отцом. Прошу вас также от лица своих фрейлин о том, чтобы вы снабдили их приданым, это не составит большой суммы, потому что их всего три. Для прочих своих слуг я ходатайствую о выплате годичного жалованья сверх того, что им положено. – Екатерина умолкла, ей снова не хватало воздуха. Она затратила слишком много усилий на диктовку письма. Но нужно было закончить. – Завершите письмо так: заканчивая свое послание, я клянусь, что для меня не было бы большей отрады в этом мире, чем увидеть вас. Элиза подняла взгляд. Глаза ее были полны слез. – Помочь вам подписать его, мадам? – Да. Элиза принесла еще одну подушку и подложила ее под спину Екатерины, отчего та немного приподнялась на постели, потом вложила ей в руку перо. Екатерина медленно и с трудом выводила на листе «королева Екатерина» косыми и скачущими вверх-вниз буквами. В этих двух словах заключалось все, что она отстаивала, за что боролась все эти последние горькие годы. Она бросала последний вызов.
В седьмой день января Екатерина проснулась в глубокой тьме. Спала она прерывисто и беспокойно. Боли усилились, она дышала через силу. Было ясно: пришел ее час примирения с Господом. Рядом с ней сидела Мария. – Который час? – спросила Екатерина. – Половина первого, ваше высочество, – прошептала Мария. – Только? Я надеялась, что уже скоро утро, тогда я могла бы послушать мессу и получить Святое причастие. Но еще слишком рано для мессы. Придется ждать предрассветного часа. – Незачем, я приведу вашего духовника. Поскальзываясь и спотыкаясь на ходу, Мария вылетела за дверь – в темноту молчаливого дома. Вернулась она с епископом Лландаффом в ночном халате. – Мадам, я отслужу мессу, если вы хотите. – Нет, святой отец, я не могу заставлять вас нарушать установления Церкви. Я буду лежать здесь и произносить молитвы, а с вами мы увидимся на заре. Она верила, что к тому времени еще будет жива. Она хотела, чтобы так было. Когда небо посветлело, епископ вернулся, чтобы отслужить мессу. Екатерина была очень слаба, но приняла причастие с горячностью, возносясь над мирскими заботами и пребывая в уверенности, что испытанная радость – это предвкушение грядущего блаженства. В раю не будет проблем с замужеством, разводов, кровопролития. Там ее ждали отец и мать, и брат Хуан, и те добрые люди, которые пострадали ради нее, и все ее возлюбленные чада, умершие в младенчестве. Скоро она соединится с ними. Теперь уже осталось недолго. В то короткое, отпущенное ей время она была мыслями с Марией – и с Генрихом. – Молю, чтобы Господь простил моему супругу-королю все причиненное мне зло и чтобы божественная мудрость вывела его на верную дорогу, – вслух произнесла она. – Молю, чтобы Господь дал утешение моему ребенку, когда я умру. Все собрались вокруг одра Екатерины. Даже сэр Эдвард и сэр Эдмунд пришли засвидетельствовать момент ее соборования. Все стояли на коленях. Екатерина почувствовала, как епископ мажет миром ее глаза, уши, нос, губы и руки. – Этим святым помазанием и своей высочайшей милостью да отпустит тебе Господь все прегрешения, которые ты совершила взглядом, слухом, вкушением запахов, языком и прикосновением, – донеслись до Екатерины слова священника. – Святым таинством человеческого спасения да смягчит всемогущий Бог твои наказания в настоящей жизни и в грядущей, да откроет Он для тебя врата рая и да приведет к вечному блаженству. Последний обряд свершился. Она была готова к уходу. Боль как по волшебству исчезла, и Екатерина смогла уснуть. Когда она проснулась, придворные все еще сидели вокруг нее. Был день. Ей казалось, она где-то далеко, вознеслась на другой уровень бытия. Если это смерть, то уплыть в нее будет легко. Постепенно она ощутила, что все меняется – происходит тихое угасание, не пугающее, а безмятежное. Но даже в этот момент она не забывала о своем долге – показывать добрый пример. С детства ее учили, что христианину важно с достоинством встретить смерть. – Господи, я вручаю в Твои руки свою душу, – прошептала она и почувствовала, будто падает в темный тоннель. Он все тянулся и тянулся, но в дальнем его конце она увидела младенцев: они простирали к ней руки. И еще там были крылатые ангелы, которые манили ее к ясному свету. Это было прекраснее всего, что Екатерина когда-либо видела. И она понимала: этот свет есть любовь и он есть покой.
От автора
Рассказывая историю Екатерины Арагонской, я не отступала от того, что зафиксировано в исторических источниках. Я взяла на себя писательскую смелость и рельефнее вылепила некоторых второстепенных персонажей. Приношу извинения тени имперского посла Юстаса Шапуи за то, что придумала несколько его писем и вложила в его уста отдельные слова других людей. Я излагала цепь событий с точки зрения Екатерины, а потому мне приходилось учитывать, что ей было о них известно и как, особенно в годы изгнания, она получала информацию о происходящем. В это время Шапуи был для нее главным каналом связи с миром. Тем не менее многие процитированные в тексте письма – подлинные, хотя иногда я слегка осовременивала язык. То же утверждение верно и в отношении существенного числа диалогов. Благодаря недавним исследованиям Жиля Тремлета и Патрика Уильямса мы можем быть совершенно уверены в том, что брак Екатерины с принцем Артуром не был заключен окончательно, а также в смерти Артура от туберкулеза. Свидетельство доктора Алькараса, данное в Сарагосе в 1531 году, – основа моего мнения о характере болезни Артура. Изложение истории с позиции Екатерины дало мне возможность нарисовать многоплановый психологический портрет этой непреклонной, храброй и принципиальной женщины. Некоторые современные наблюдатели полагают, что ей следовало более прагматично отнестись к разводу и таким образом уберечь себя от многих трудностей и невзгод. Но такой подход не учитывает приоритеты, которые ставили во главу угла люди в начале XVI века, а мир в то время заметно отличался от современного. Перенося в него читателя, я пыталась показать, что в прошлом это была совершенно другая страна и в той жизни не было места пристальному вниманию к правам женщин, феминизму и политкорректности, столь свойственным нынешней эпохе. Положение Екатерины как женщины, ее готовность подчиняться Генриху во всех вопросах, кроме тех, которые затрагивали ее моральные принципы, могут показаться нам шокирующими, но для нее это была не вызывавшая сомнений норма. На страницах книги я пыталась оживить картины, звуки и запахитой эпохи, былого мира великолепия и жестокости, а также придворной жизни, в которой властвовала любовь или игра в нее, но при этом династические интересы перекрывали все романтические устремления. В этом мире тон задавали вера и судьбоносные перемены в религиозной сфере, но настоящих святых было крайне мало. Именно в такой обстановке жила Екатерина, и мы можем понять ее, только имея в виду широкий контекст окружавшей ее действительности. Выражаю огромную благодарность Мари Эванс, представляющей издательство «Headline», и Сюзанне Портер из «Ballantine» за то, что дали мне заказ на эту книгу и позволили еще раз углубиться в предмет, который неизменно увлекает и очаровывает меня. Я бесконечно признательна им обеим, а также их увлеченным и преданным делу коллегам, которые вдумчиво, с интересом развивали этот проект и подставляли мне надежное плечо. Хочу также сердечно поблагодарить своего редактора, восхитительную Флору Рис, искусная правка которой чудесным образом изменила текст; Джо Лиддьярда из «Headline» и Филипа Нормана из «Author Profile» за неоценимую помощь с маркетингом и социальными медиа; Франсес Эдвардс за редакторскую поддержку и советы; Каролин Претти за вычитку текста; Сару Ковард и Элизабет Мерриман за корректорскую работу; Кейтлин Рейнор за отличную рекламу; Сиобан Хупер и Патрика Инсоула, создавших прекрасную обложку; «Бальбуссо Твинс» за художественное оформление, а также Барбару Ронан и Франсес Дойл, директоров по продажам и цифровому маркетингу. Искренне признательна своему агенту Джулиану Александеру, благодаря которому мы с «Headline» нашли друг друга, за его бесценные советы и мощную поддержку. Огромное спасибо моему мужу, моей твердой опоре и якорю, без заботы и помощи которого я не смогла бы писать.Действующие лица
В порядке появления или первого упоминания. Курсивом выделены те лица, настоящие имена которых неизвестны.Каталина/Екатерина Арагонская, дочь испанских соверенов короля Фердинанда Арагонского и королевы Изабеллы Кастильской; Мария де Салинас, фрейлина и подруга Екатерины; Артур Тюдор, принц Уэльский, старший сын Генриха VII, короля Англии; помолвлен с Екатериной; Генрих VII, король Англии, первый монарх из дома Тюдоров; Елизавета Йоркская, королева Англии, жена Генриха VII; Леди Маргарет Бофорт, мать Генриха VII; Доктор Родриго де Пуэбла, постоянный посол Испании в Англии; Донья Эльвира Мануэль, дуэнья Екатерины; Изабелла, королева Кастилии и Испании, мать Екатерины; Исабель и Бланш де Варгас, сестры-близнецы, фрейлины Екатерины; Граф де Кабра, глава испанского эскорта Екатерины; Дон Педро Манрике, первый камергер двора Екатерины, супруг доньи Эльвиры Мануэль; Хуан де Диеро, второй камергер двора Екатерины; Алессандро Джеральдини, капеллан Екатерины; Фердинанд, король Арагона и Испании, отец Екатерины; Хуан, принц Астурийский, брат Екатерины, наследник королевства Испания; Изабелла Арагонская, королева Португалии, старшая сестра Екатерины; Альфонсо Португальский, первый муж Изабеллы Арагонской; Хуана Кастильская, вторая сестра Екатерины, позже – королева Кастилии; Мария Арагонская, третья сестра Екатерины, позже – королева Португалии; Христофор Колумб, итальянский исследователь, открывший Америку; Филипп Красивый, эрцгерцог Австрийский, муж Хуаны Кастильской, позже – король Кастилии; Мануэль, король Португалии, муж поочередно двух сестер Екатерины – Изабеллы и Марии Арагонской; Маргарита, эрцгерцогиня Австрийская, жена Хуана, принца Астурийского, позже – герцогиня Савойская и регентша Нидерландов; Франсиска де Касерес, фрейлина Екатерины; Изабелла Португальская, вдовствующая королева Кастилии, бабушка Екатерины; Ричард III, король Англии, последний из Плантагенетов из дома Йорков; Джон Гонт, герцог Ланкастер, четвертый сын короля Эдуарда III, предок Тюдоров и монархов Кастилии; Каталина Ланкастер, королева Кастилии, прабабушка Екатерины; Эдвард Стаффорд, герцог Бекингем, английский аристократ, потомок короля Эдуарда III; Принц Генрих, герцог Йоркский, второй сын короля Генриха VII, позже – король Генрих VIII; Маргарита Тюдор, старшая дочь короля Генриха VII, позже – королева Шотландии; Мария Тюдор, третья дочь короля Генриха VII, позже – королева Франции и герцогиня Саффолк, известная как «королева Франции»; Эдмунд Тюдор, младший сын короля Генриха VII; Генри Дин, архиепископ Кентерберийский; Дон Педро де Айала, испанский посол в Шотландии и посланник в Англии; Яков IV, король Шотландии, муж Маргариты Тюдор; Энтони Уиллоуби, придворный из свиты принца Артура; Доктор Алькарас, врач Екатерины; Сэр Ричард Поул, камергер двора принца Артура; Маргарет Плантагенет, леди Поул, жена сэра Ричарда Поула, позже – фрейлина Екатерины и графиня Солсбери; Эдуард IV, король Англии, первый монарх дома Йорков, отец Елизаветы Йоркской; Эдуард V, король Англии, сын короля Эдуарда IV, второй монарх из дома Йорков и старший из двух принцев в Тауэре; Ричард, герцог Йоркский, брат Эдуарда V и младший из двух принцев в Тауэре; Перкин Уорбек, претендент на трон; Эдуард Плантагенет, граф Уорик, племянник королей Эдуарда IV и Ричарда III, брат Маргарет Плантагенет/Поул, графини Солсбери; Джордж Плантагенет, герцог Кларенс, брат королей Эдуарда IV и Ричарда III, отец Эдуарда Плантагенета, графа Уорика, и Маргарет Плантагенет/Поул, графини Солсбери; Генри Поул, сын сэра Ричарда Поула и Маргарет Плантагенет/Поул, графини Солсбери; Урсула Поул, дочь сэра Ричарда Поула и Маргарет Плантагенет/Поул, графини Солсбери; Реджинальд Поул, сын Ричарда Поула и Маргарет Плантагенет/Поул, графини Солсбери; Грифид ап Рис, придворный из свиты принца Артура; Морис Сент-Джон, придворный из свиты принца Артура; Доктор Мигель де ла Саа, врач Екатерины; Доктор Балтазар Гуэрси, врач Екатерины; Дон Эрнан Дуке де Эстрада, посол Испании в Англии; папа Юлий II; Отец Дуарте, капеллан доньи Эльвиры; Уильям Уорхэм, епископ Лондонский, позже – архиепископ Кентерберийский; Мастер Жиль Дьюз, наставник принца Генриха; Джон Скелтон, поэт, наставник принца Генриха; Хуан Мануэль, брат доньи Эльвиры, посол Испании при дворе Филиппа Красивого; Эрман Римбре, посланник Филиппа Красивого; Дон Гутиер Гомес де Фуэнсалида, посол Испании при дворе Филиппа Красивого, позже – посол Испании в Англии; Элеонора, эрцгерцогиня Австрийская, дочь Филиппа Красивого и Хуаны Кастильской; Карл, эрцгерцог Австрийский, старший сын Филиппа Красивого и Хуаны Кастильской, позже – король Испании и император Священной Римской империи; племянник Екатерины; Брат Диего Эрнандес, монах-францисканец, капеллан Екатерины; Синьор Франческо де Гримальди, банкир из Генуи; Максимилиан I, император Священной Римской империи, отец Филиппа Красивого и Маргариты Австрийской, дед эрцгерцога Карла; Луис Карос, посол Испании в Англии; Уильям Блаунт, лорд Маунтжой, камергер двора Екатерины; Эразм Роттердамский, известный ученый, гуманист и литератор; Агнес де Ванагас, фрейлина Екатерины, жена Уильяма Блаунта, лорда Маунтжоя; Хорхе де Атека, монах-францисканец и капеллан Екатерины, позже – епископ Лландафф; Элизабет Стаффорд, леди Фицуолтер, сестра герцога Бекингема, фрейлина Екатерины; Анна Стаффорд, леди Гастингс, сестра герцога Бекингема, фрейлина Екатерины; Элизабет Стаффорд, графиня Суррей, дочь герцога Бекингема, фрейлина Екатерины, позже – герцогиня Норфолк; Сэр Томас Парр, контролер Генриха VIII, отец королевы Екатерины Парр; Мод Грин, леди Парр, жена сэра Томаса Парра, фрейлина Екатерины, мать королевы Екатерины Парр; Джейн Попинкур, француженка, фрейлина Екатерины; Мэри Рус, фрейлина Екатерины; Сэр Уильям Комптон, хранитель королевского стула и друг короля Генриха VIII; Чарльз Брэндон, рыцарь, друг короля Генриха VIII, позже – герцог Саффолк; Людовик XII, король Франции; Сэр Фрэнсис Брайан, рыцарь, придворный и друг короля Генриха VIII; Томас Уолси, олмонер, друг и канцлер короля Генриха VIII, позже – архиепископ Йоркский и кардинал; Ричард Фокс, епископ Винчестерский, лорд – хранитель тайной печати; Томас Говард, граф Суррей, позже – 2-й герцог Норфолк; Екатерина Йоркская, графиня Девонская, дочь короля Эдуарда IV, сестра королевы Елизаветы Йоркской; Генрих, принц Уэльский, старший сын короля Генриха VIII и Екатерины Арагонской; Сэр Томас Найвет, канцлер казначейства; Сэр Томас Болейн, дипломат и придворный, позже – виконт Рочфорд и граф Уилтшир; Уильям Парр, сын Томаса Парра и Мод Грин; Кейт Парр (позже – королева Екатерина Парр), дочь сэра Томаса Парра и Мод Грин; Людовик Орлеанский, герцог де Лонгвиль, французский аристократ, которого удерживал в плену король Генрих VIII; Николас Кэри, придворный из свиты короля Генриха VIII; Мария Болейн, дочь сэра Томаса Болейна, позже – жена Уильяма Кэри, придворного из свиты короля Генриха VIII; Элизабет Говард, дочь Томаса Говарда, графа Суррея, и жена сэра Томаса Болейна; Бесси Блаунт, родственница Уильяма Блаунта, лорда Маунтжоя, фрейлина Екатерины; Элизабет Кэри, жена Николаса Кэри; Уильям, лорд Уиллоуби, муж Марии де Салинас; Франциск I, король Франции (Франциск Ангулемский); Луиза Савойская, мать короля Франциска I; Уильям Корниш, музыкант, устроитель пиров короля Генриха VIII; Принцесса Мария, дочь короля Генриха VIII и Екатерины Арагонской, позже – королева Мария I; Леди Маргарет Дуглас, дочь Маргариты Тюдор от второго мужа, графа Ангуса; Маргарет, леди Брайан, воспитательница принцессы Марии; Эдмунд де ла Поль, герцог Саффолк, племянник королей Эдуарда IV и Ричарда III; Ричард де ла Поль, Белая Роза, брат Эдмунда де ла Поля; Генри Уиллоуби, сын лорда Уиллоуби и Марии де Салинас; Яков V, король Шотландии; Сэр Томас Мор, тайный советник, известный ученый, гуманист и литератор, позже – лорд-канцлер Англии; Леди Элис Мор, жена сэра Томаса Мора; Франциск, дофин Франции, сын и наследник короля Франциска I; Изабелла, дочь короля Генриха VIII и Екатерины Арагонской; Генри Фицрой, побочный сын короля Генриха VIII и Бесси Блаунт, позже – герцог Ричмонд и Сомерсет; Гилберт, лорд Тейлбойс, муж Бесси Блаунт; Мартин Лютер, монах из Виттенберга, Германия, религиозный реформатор и основатель протестантизма; Марджери и Элизабет Отвелл, сестры, камеристки Екатерины; Сэр Джон Пекч, рыцарь Кента; Клод Валуа, королева Франции, жена короля Франциска I; Мадам де Шатобриан, любовница короля Франциска I; Анна Болейн, дочь сэра Томаса Болейна и сестра Марии Болейн; Папа Лев X; Гертруда Блаунт, дочь Уильяма Блаунта, лорда Маунтжоя, и Агнес де Ванагас, жена Генри Куртене, маркиза Эксетера, кузена короля Генриха VIII, фрейлина Екатерины; Генри Куртене, маркиз Эксетер, сын Екатерины Йоркской и кузен короля Генриха VIII; Джейн Паркер, дочь лорда Морли, жена Джорджа Болейна, сына сэра Томаса Болейна; Хуан Луис Вивес, испанский профессор и просветитель, наставник принцессы Марии; Доктор Ричард Фетерстон, капеллан и наставник принцессы Марии; Гарри Перси, сын и наследник графа Нортумберленда; Люси Тальбот, дочь графа Шрусбери, фрейлина Екатерины; Мэри Тальбот, дочь графа Шрусбери и сестра Люси, помолвлена с Гарри Перси; Томас Меннерс, лорд Рус, граф Ратленд, кузен короля Генриха VIII; Генрих Брэндон, граф Линкольн, сын Чарльза Брэндона, герцога Саффолка, и Марии Тюдор, «королевы Франции»; Изабелла Португальская, дочь Мануэля, короля Португалии, и Марии Арагонской, жена императора Карла V; Кэтрин Уиллоуби, дочь лорда Уиллоуби и Марии де Салинас, позже – герцогиня Саффолк, крестница Екатерины; Томас Говард, 3-й герцог Норфолк, сын 2-го герцога и муж Элизабет Стаффорд; Бесс Холланд, любовница Томаса Говарда, 3-го герцога Норфолка; Дон Диего Уртадо де Мендоса, посол Испании и Империи в Англии; Генрих, герцог Орлеанский, второй сын короля Франциска I; Габриэль де Граммон, епископ Тарба, французский посланник в Англии; Ганс Гольбейн, придворный художник короля Генриха VIII; Бастьен Хенниок, церемониймейстер Екатерины; Папа Климент VII; Франсиско Фелипес, слуга Екатерины; Джон Фишер, епископ Рочестерский; Томас Уайетт, придворный, поэт и дипломат; Джейн Сеймур, фрейлина Екатерины; Уильям Дормер, поклонник Джейн Сеймур; Кардинал Лоренцо Кампеджо, папский легат; Элизабет Бартон, монахиня и святая из Кента; Доктор Джон Чеймберс, врач короля Генриха VIII; Доктор Уильям Баттс, врач короля Генриха VIII; Анна Парр, дочь сэра Томаса Парра и Мод Грин; Томас Эйбелл, капеллан, учитель языков и музыки Екатерины; Жанна де Валуа, королева Франции, первая жена короля Людовика XII; Гриффин Ричардс, казначей Екатерины; Николас Ридли, молодой священник; Сэр Генри Норрис, хранитель королевского стула и друг короля Генриха VIII; Юстас Шапуи, посол Священной Римской империи и Испании в Англии; Доктор Томас Кранмер, священник-реформатор, позже – архиепископ Кентерберийский; Доктор Стефан Гардинер, секретарь Генриха VIII; Доктор Ортис, посол Испании и Священной Римской империи в Риме; Томас Кромвель, член Тайного совета, главный советник, позже – главный секретарь короля Генриха VIII; Эдвард Ли, архиепископ Йоркский; Элизабет (Элиза), Даррелл, фрейлина Екатерины; Брат Уильям Пето, исповедник принцессы Марии; Отец Джон Форрест, капеллан Екатерины; Принцесса Елизавета, дочь короля Генриха VIII и Анны Болейн; Анна, леди Шелтон, тетя Анны Болейн, гувернантка принцессы Марии; Филип и Энтони, придворные Екатерины; Сэр Эдмунд Бедингфилд, попечитель Екатерины в Кимболтоне; Сэр Эдвард Чемберлейн, попечитель Екатерины в Кимболтоне; Катберт Танстолл, епископ Даремский; папа Павел III.
Хронология событий
1469 Брак Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской.1479 Испания объединена под властью соверенов Фердинанда и Изабеллы.
1485 Август – битва при Босуорте. Генрих Тюдор наносит поражение Ричарду III, последнему из Плантагенетов, и становится Генрихом VII, первым совереном королевского дома Тюдоров. Декабрь – рождение Екатерины Арагонской, младшей дочери Фердинанда и Изабеллы.
1486 Рождение Артура Тюдора, принца Уэльского, старшего сына Генриха VII.
1489 В Медина-дель-Кампо подписан договор между Англией и Испанией о заключении брака между Екатериной Арагонской и Артуром Тюдором, принцем Уэльским.
1491 Рождение Генриха, герцога Йоркского, второго сына Генриха VII.
1492 Падение Гранады, последнего оплота мавров в Испании, завершение Реконкисты.
1501 Брак Екатерины Арагонской и Артура Тюдора, принца Уэльского.
1502 Смерть Артура Тюдора, принца Уэльского.
1503 Помолвка Екатерины Арагонской и принца Генриха, ставшего принцем Уэльским.
1504 Смерть королевы Изабеллы; восшествие на престол Хуаны, старшей сестры Екатерины.
1507 Фердинанд Арагонский становится регентом вместо королевы Хуаны, которую признают неспособной к правлению.
1509 Апрель – смерть Генриха VII; принц Генрих становится королем Генрихом VIII. Июнь – брак и коронация Екатерины Арагонской и Генриха VIII.
1510 Появление на свет мертворожденной дочери Екатерины Арагонской и Генриха VIII.
1511 Январь – рождение Генриха, принца Уэльского, сына Екатерины Арагонской и Генриха VIII. Февраль – смерть Генриха, принца Уэльского.
1513 Июнь – Екатерина назначена регентом Англии на время его отсутствия в связи с проведением военной кампании во Франции. Август – Битва шпор; Теруан сдается Генриху VIII. Сентябрь – Яков IV Шотландский убит в сражении при Флоддене, что определило окончательную победу Англичан. Сентябрь – Турне сдается Генриху VIII. Октябрь – рождение сына Екатерины Арагонской и Генриха VIII, прожившего недолго.
1514 Генрих VIII расторгает союз с Испанией, заключает мир с Францией и выдает свою сестру Марию замуж за Людовика XII Французского. Рождение сына Екатерины Арагонской и Генриха VIII, умершего вскоре после появления на свет.
1515 Смерть Людовика XII; восшествие на французский престол короля Франциска I. Томас Уолси, главный советник Генриха VIII, становится кардиналом.
1516 Январь – смерть Фердинанда Арагонского. Февраль – рождение принцессы Марии, дочери Генриха VIII и Екатерины Арагонской.
1517 Сын Хуаны Карл I становится ее номинальным соправителем и действующим королем Испании. Мартин Лютер публикует в Германии свои девяносто пять тезисов, что дает толчок к протестантской Реформации.
1518 Рождение дочери Екатерины Арагонской и Генриха VIII, умершей вскоре после появления на свет.
1519 Избрание Карла I императором Священной Римской империи под именем Карла V. Рождение Генри Фицроя, внебрачного сына Генриха VIII и Элизабет Блаунт.
1525 Генри Фицрой становится герцогом Ричмонд и Сомерсет. Принцесса Мария отправлена в Ладлоу, где проводит два года.
1526 Генрих VIII ухаживает за Анной Болейн.
1527 Генрих VIII ставит под вопрос законность своего брака с Екатериной Арагонской и просит папу аннулировать его.
1528 Кардинал Кампеджо, папский легат, прибывает в Англию для разбирательства дела короля.
1529 Суд легатов заседает в монастыре Черных Братьев в Лондоне, где Екатерина Арагонская, требуя справедливости, взывает к Генриху VIII; дело возвращается в Рим. Кардинал Уолси попадает в опалу; сэр Томас Мор назначен лорд-канцлером. Юстас Шапуи назначен послом Карла V в Англии.
1530 Генрих VIII начинает опрашивать университеты с целью выяснить их мнение по его делу. Смерть кардинала Уолси.
1531 Томас Кромвель становится главным советником Генриха VIII.
1532 Сэр Томас Мор уходит в отставку с поста лорд-канцлера. Август – смерть Уильяма Уорхэма, архиепископа Кентерберийского, открывает путь к назначению на его место радикала Томаса Кранмера.
1533 Январь – Генрих VIII тайно женится на Анне Болейн. Апрель – парламент издает Акт об ограничении апелляций (к папе), который становится краеугольным камнем законодательного обоснования Реформации в Англии. Апрель – Анна Болейн появляется при дворе как королева Англии. Май – Кранмер объявляет брак Генриха VIII и Екатерины Арагонской кровосмесительным и незаконным и подтверждает действительность брака Генриха с Анной Болейн. Июнь – коронация Анны Болейн. Сентябрь – рождение принцессы Елизаветы, дочери Генриха VIII и Анны Болейн.
1534 Март – папа объявляет брак Генриха VIII и Екатерины Арагонской действительным. Парламент издает Акт о супрематии, который провозглашает Генриха VIII верховным главой Церкви Англии, и Акт о правопреемстве, которым законными наследниками объявляются дети королевы Анны и короля. Сэр Томас Мор и Джон Фишер, епископ Рочестерский, заключены в тюрьму за отказ клятвенно подтвердить признание верховенства короля над Церковью.
1535 Казнь Джона Фишера, епископа Рочестерского, сэра Томаса Мора и нескольких монахов-картезианцев.
1536 Январь – смерть Екатерины Арагонской.
Элисон Уэйр Анна Болейн. Страсть короля
© Е. Бутенко, перевод, 2018 © ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018 Издательство АЗБУКА®* * *
Посвящается Ранкину, моему замечательному мужу, и Джулиану, моему блестящему литературному агенту, без которых ни одна из моих книг не была бы написана
Чья она добыча, мне предельно ясов: Noli me tangere[22], ведь Цезарева я И жажду обладать, пусть с виду кроткая.Сэр Томас Уайетт
Нет, право, лучше в нищете родиться И скромно, но достойно жизнь прожить, Чем вознестись в блистающее горе И облачиться в золотую скорбь[23].У. Шекспир. Король Генрих VIII. Акт III, сцена 3
Часть первая. Не из простого теста
Глава 1. 1512 год
Кожа скорее желтоватая, – подумала Анна, изучая свое отражение в серебряном зеркале, – и родинок слишком много, но зато овал лица изящный». В одиннадцать лет в ее фигуре еще не наблюдалось признаков женственности, но Анна надеялась, что где-нибудь через год все изменится. Ведь у Марии уже в тринадцать была большая грудь. Девочка отклонилась назад, оценивая себя. Люди у нее за спиной часто говорили, что из двух сестер Болейн красивее Мария. Обе были брюнетками с длинными блестящими волосами, высокими скулами и заостренными подбородками, обе стройны и грациозны – правильную осанку, необходимую для появления при дворе, им привили с детства. Но что же делает девушку красавицей? Отчего внешность Марии лучше, чем ее? Это беспокоило Анну, она взрослела, и ей постоянно твердили, что нужно готовиться к славному будущему, в котором значение будут иметь благосклонность короля, а также богатый и знатный супруг. Может быть, виной всему родимые пятна и желтоватая кожа? Желтизну можно вывести лосьоном на высушенных яичных желтках и квасцах. По крайней мере, рот у нее очень милый и прелестные черные глаза. Бабушка Батлер всегда говорила, что глаза – лучшее, что есть у Анны. – И ты уже знаешь, как эффектно использовать их, дитя. Анна не совсем понимала, о чем толкует старуха, но что с нее взять: бабушка была ирландкой, слегка не от мира сего и часто изрекала пугающие вещи. Но все терпели эти чудачества, потому что она была главной наследницей и одним из основных источников семейного богатства. Поставив зеркало на сундук, Анна покрутилась перед ним. В этом зеленом платье она выглядела очень хорошо и талия казалась такой тоненькой. Темные цвета ей шли. Только длина и форма рукава не устраивали: манжеты плотно обхватывали запястья и не скрывали изъян, из-за которого Анна сильно переживала. Она всегда пригибала мизинец правой руки к ладони, чтобы никто не видел растущий на нем маленький второй ноготок. Вот если бы у нее было платье с висячими рукавами, которые скрывали бы кисти! Мать говорила: глупо расстраиваться из-за такой мелочи. Но для Анны это была вовсе не мелочь, тревога ее разрослась и приобрела небывалые размеры после того, как Мария одержала верх в одной из их бесконечных перепалок, бросив в пылу ссоры, что это знак ведьмы. Анна отмахнулась от неприятного воспоминания. Она не станет задерживаться на нем в этот прекрасный день на исходе лета. До урока с капелланом оставался час свободного времени, и Анна не собиралась тратить впустую ни минуты. Быстро вызвала служанку, переоделась в повседневное шерстяное платье, спустилась по лестнице и перешла каменный подъемный мост над замковым рвом. Потом подобрала юбки и кинулась бегом через сад к лугу у реки Эден, где любила гулять. Оттуда были прекрасно видны окруженный рвом Хивер, родовое гнездо семейства Болейн, и лесистые просторы Кента, в объятиях которых замок покоился, как в колыбели. Но еще приятнее было увидеть милого брата Джорджа. Он лежал на траве и перебирал струны лютни; темные каштановые волосы мальчугана были взлохмачены, а одежда измята. – Тебя ищут в доме, – опускаясь на колени, сообщила Анна. – Ты должен сидеть над книгами. Ой, поколотят тебя, если не вернешься! Джордж улыбнулся: – Я сочинил песню. Послушай! Для девятилетнего мальчика он играл неплохо, а придуманная мелодия оказалась затейливой. Такую мелодию можно ожидать от человека постарше. Он был одарен, этот ее брат. Мог бы стать выдающимся музыкантом, если бы по настоянию отца не готовился сделать карьеру при дворе. Анна и Джордж всегда были близки. Они были похожи внешне и мыслями тоже сходились. – Знаю, знаю! Мне нельзя целыми днями бренчать на лютне и писать стишки, – имитируя отцовский тон, сказал Джордж и вздохнул. – Много тебе от этого будет проку! Так ты не добьешься, чего хочешь. Музыки и стихов тебе будет мало. Хватит лентяйничать! Отец Дэви очень сердит. Анна в шутку отчитывала Джорджа, а на самом деле ей было жаль брата. Она знала, как тяготит его участь младшего из троих сыновей. Хивер вместе со всеми землями и богатствами отца унаследует шестнадцатилетний Томас, которому Джордж ужасно завидовал. Томасу прочили славное будущее и потому отправили в дом к могущественному герцогу Бекингему в расположенный неподалеку Пенсхерст учиться манерам и боевым искусствам. Потом еще был умненький Генри двенадцати лет. Его решили отправить в Оксфордский университет, потому что отец, к великому огорчению матери, хотел посвятить среднего сына Церкви. Были у Болейнов и другие дети, но все они умирали в младенчестве, и Анна никак не могла привыкнуть к пугающему виду своих крошечных братьев и сестер, лежащих в колыбелях в траурных одеждах, чтобы услышать прощальные молитвы и благословения близких. Леди Болейн особо выделяла Джорджа, младшего из детей; его она любила больше, чем Томаса и Генри. Тем не менее в груди Джорджа пылала ненависть к старшим братьям. В отличие от них ему придется прокладывать себе путь в жизни самостоятельно. Отец часто напоминал об этом. Учитывая свое соперничество с Марией и ревность Джорджа к старшим братьям, Анна часто ощущала, что они с Джорджем, двое младших Болейнов, в некотором смысле едины в их противостоянии миру. Она не обладала красивой внешностью, он не был наследником – неудивительно, что их влекло друг к другу с самого детства. Некоторые даже принимали их за близнецов. – Пошли! – скомандовала Анна, поднимая брата с земли, и они вместе побежали к замку. Отец Дэви поджидал детей у дверей в новый зал, устроенный отцом при входе в замок, куда брат с сестрой и влетели, промчавшись наперегонки через двор. Их наставник был маленьким кругленьким человечком с веселым лицом и розовыми, как наливные яблоки, щеками. – Ах, вы почтили нас своим присутствием, – сказал он Джорджу, – и к тому же очень вовремя, потому как мы только что получили известие: сегодня вечером ожидается прибытие домой вашего отца, а мы ведь не хотели бы встретить его новостью, что вы вели себя недостойно. – Нет, отец Дэви. – Джордж пытался принять покаянный вид. – Госпожа Анна, вы можете присоединиться к нам, – продолжал учитель. – Вы послужите примером для этого юного плута. – А где Мария? – спросил мальчик, округляя глаза. – Читает, – ответил священник. – Я дал ей книгу о королях и королевах. Это разовьет ее ум. Не было секретом, что отец Дэви почти отчаялся научить чему-нибудь Марию. Анна проследовала за братом и священником в гостиную, где по вечерам собиралась вся семья, и села за дубовый стол. Она знала, что ей повезло: хорошее образование девочке получить было непросто. Отец держался широких взглядов, его сильно заботило, чтобы дети преуспели в жизни, а это, разумеется, благоприятным образом отразилось бы и на нем. Сам он владел несколькими языками, именно поэтому и отсутствовал дома последние несколько недель, которые провел при дворе регента Нидерландов в Мехелене в герцогстве Бургундском. Отец желал, чтобы его сыновья и дочери тоже приобрели этот навык. Анне с трудом давался французский, хотя со всем остальным она справлялась превосходно. Мария хорошо овладела французским, зато не преуспела ни в чем другом. Благодаря отцу Дэви, известному сочинителю церковной музыки и талантливому наставнику, младшая Болейн сносно сочиняла стихи и песни. Мария вела сражения с лютней не на жизнь, а на смерть; не способствовало успехам и полное отсутствие у нее музыкального слуха. Анна грациозно танцевала – Мария неуклюже топала по полу. Анна пела, как щебечущий жаворонок, – у Марии голос был глухой, немелодичный. Зато Мария была красива, это отмечали все, и какое значение имела при этом ее непроходимая глупость? Большинство мужчин не заглянут дальше привлекательной внешности и приданого, которое мог дать за ней отец. Поэтому никого не волновало, что, когда наступало время уроков, Марию редко могли найти. Большинство дочерей местных джентри из окружения Болейнов едва ли были способны держать в руках перо, размышляла Анна, водя изящной, как у итальянки, кистью по листу бумаги. Сегодня детям задали сочинить письмо на французском, что уже было непросто, однако Анна намеревалась хорошо выполнить упражнение. Ей нравилась учеба сама по себе, и она упивалась похвалами, которые щедро рассыпал отец Дэви. С расположенной рядом кухни доносились стук, звон и бряканье посуды – там был настоящий переполох.Одетая в новое зеленое платье, Анна украдкой заглянула в большой зал для приемов, где уже застелили белоснежными скатертями столы. Главный стол сервировали лучшим серебром и огромной позолоченной солонкой; на тех, что пониже, – кóзлах, накрытых досками, которые установили под прямым углом к главному, – посуда была оловянная, но начищенная до блеска. На столах высились груды зелени и овощей, перемежавшиеся со свечами в подсвечниках и кувшинами с вином. Зал, как и замок Хивер, был не так уж велик в сравнении с теми, что видела Анна, но вполне отвечал по размеру и убранству статусу фаворита короля и начинающего успешного дипломата. Здесь имелся огромный каменный открытый очаг с прекрасным резным защитным экраном. Сквозь узкие окна, проделанные в толстых стенах на большой высоте, вечернее солнце бросало в зал золотые лучи, которые отражались от выставленного на буфете фамильного блюда, зайчиками скакали по дорогим гобеленам на стенах. Отец любил производить впечатление на соседей своим богатством. Сегодня соберутся все: Уайетты из Аллингтона, Сэквиллы из Бакхерст-Парка и Оты из Итем-Моат. Обычно семья ужинала в гостиной за длинным полированным столом. Комната была уютной, отделанной деревянными панелями, с расписными фризами под потолком и дорогими гобеленами на стенах, которыми безмерно гордился отец. Однако застолья в гостиной были делом привычным, а вот в главном зале случались редко, поэтому Анна с нетерпением ждала начала торжества.
Отец вернулся домой, и перед ужином Анну позвали к нему в кабинет. Сидевший на высоком резном стуле сэр Томас Болейн кивнул, когда она сделала реверанс. Сколько себя помнила Анна, отец всегда главенствовал в ее жизни: каждое его слово было законом для семьи и слуг; ему должны были беспрекословно подчиняться и сама Анна, и все ее братья и сестры. Так их воспитывали с малых лет. Когда они с Марией выйдут замуж, место отца займет супруг. Им вбивали в голову, что женщины – слабые создания и всегда должны склоняться перед мудрой властью мужчин. Когда отец находился дома, вся домашняя жизнь вращалась вокруг него, но такое случалось нечасто. Если сэр Томас не пребывал за границей, упражняясь в применении своих дипломатических навыков, чем завоевал симпатии короля Генриха, то обычно жил при дворе, создавая себе репутацию турнирного бойца, любезного придворного и в целом доброго приятеля всем и каждому. В тридцать четыре года он оставался красивым и полным сил мужчиной, который прекрасно держался в седле. Сэр Томас был превосходно образован – детям казалось, что он знает абсолютно все, – и даже великий голландский ученый Эразм Роттердамский посвятил ему две книги. Благодаря этим достоинствам сэр Томас поднялся высоко и очень быстро на службе у Генриха VIII, стал одним из лучших друзей и турнирных партнеров короля, о чем неустанно напоминал при всяком удобном случае. Три года назад во время коронации Генриха он был произведен в рыцари, а потом назначен эсквайром монаршего тела, то есть личным помощником короля. – Это пост, которого доискиваются многие, – любил похвастать сэр Томас, – потому что, занимая его, я вижусь с королем ежедневно. Я обладаю большим влиянием на него. Ухо его милости в моем распоряжении. Ликуя, сэр Томас распространялся о том, какое покровительство способен оказать, находясь в столь близком контакте с королем, и Анна понимала: многие хотят, чтобы ее отец попросил короля о каких-нибудь милостях, и готовы платить за это немалые деньги. Поднявшись из реверанса, она с радостью отметила, что лицо отца, всегда готового вспылить, расплылось в волчьей улыбке. – У меня хорошие новости, – сказал он. – Регентша Маргарита очень заинтересовалась твоими успехами и предложила взять тебя к своему двору в качестве одной из восемнадцати фрейлин. Это высочайшая милость, лучшего и желать нельзя. – Меня, сэр? – эхом отозвалась Анна. – Наверное, Марию?.. – Я знаю, это крайне необычно, что младшая сестра продвигается прежде старшей, и Мария хорошо говорит по-французски, но… – Он окинул Анну оценивающим взглядом. – Полагаю, ты наделена качествами, которые помогут преуспеть при дворе и составят честь мне. Кроме того, на Марию у меня другие планы. Да и регентша интересовалась именно тобой. Анна почувствовала, как ее распирает от восторга. – Когда мне ехать, сэр? – выдохнула она, воображая себе роскошные дворцы, прекрасные платья, блестящих лордов и леди, улыбающуюся регентшу; юная фрейлина делает реверанс, и все окружающие смотрят на нее не отрывая глаз. – Следующей весной, – ответил отец, и пузырь восторга лопнул; до отъезда еще несколько месяцев. – Надо сделать множество разных приготовлений. Твоя мать узнает, что потребуется взять с собой. И ей будет чем заняться, а то праздным рукам дьявол легко найдет работу. – Отец и мать разговаривали друг с другом редко, только в случае крайней необходимости. – Тебе же придется подналечь на французский, – продолжил сэр Томас. – Образование ты завершишь при бургундском дворе. Нет более приятного места, и этот двор предоставляет много возможностей девице благородного происхождения и пользуется всеобщим уважением. Лучших условий для поиска достойного супруга не найти, а твой удачный брак послужит на пользу интересам семьи. Надеюсь, ты понимаешь, как тебе повезло. – О да, сэр! – воскликнула Анна. Она почти не могла поверить своему счастью. – Хочу напомнить, что за возможность служить при дворе регентши идет жестокая схватка, и есть немало людей, которые готовы посулить немалые суммы за то, чтобы получить для своих дочерей столь почетную должность. Каждая из filles d’honneur[24] регентши должна уметь одеваться в соответствии с модой, хорошо танцевать и петь, уметь развлечь свою госпожу и ее важных гостей остроумной беседой, а еще ей следует понимать, как вести себя, оказывая услуги регентше на публике и во время государственных приемов. – Отец подался вперед, лицо его было напряженным и суровым. – Именно ради такой оказии я и давал вам обеим хорошее воспитание, хотя Мария извлекла из этого больше выгод. Но ты, Анна… ты будешь сиять. И у меня нет сомнений, что те немалые расходы, которые я понесу, дабы снабдить тебя нарядами, без которых не появиться при дворе, окупятся сполна. – Да, отец. Благодарю вас, отец. – Можешь идти. Скоро ужин.
Анна бежала вверх по лестнице, и возбуждение в ней так и бурлило. В комнате, которую они делили с сестрой, Мария надевала золотую подвеску в виде быка. Одинаковые украшения обеим дочерям подарил отец: бык являлся геральдической эмблемой семьи Болейн – в названии животного обыгрывалось их родовое имя[25]. Мария наклонилась к зеркалу. Ее черные, обольстительно томные глаза следили за отражением Анны. Младшая Болейн переваривала только что услышанную новость, прикидывая, как обрушить ее на Марию с максимальным эффектом. – Я еду ко двору! – не в силах больше сдерживаться, наконец выпалила Анна. Мария резко обернулась, на лице ее отразились потрясение и ярость. – Ты? – взвизгнула она. – Но… но я старшая. – Отец это знает, но регентша спрашивала обо мне. – Регентша? – Меня призывают ко двору в Нидерланды, чтобы служить ей. Это большая честь. Так сказал отец. – А что будет со мной? – Красивое лицо Марии раскраснелось от злости. – Разве я не должна тоже ехать? – Нет. Отец говорит, у него на тебя другие планы. – Какие планы? – прошипела Мария. – Не знаю. Он не сказал. Почему бы тебе не спросить его самой? – И спрошу! Он не может вот так запросто пускать меня побоку. Еще как мог! Однако Анна оставила это упоительное знание при себе. Впервые в жизни роль младшей и менее красивой сестры показалась ей приятной.
Элизабет Говард, леди Болейн, размотала рулон темно-желтого бархата и приложила ткань к Анне. – Тебе идет, – сказала она, и торговец шелком и бархатом, замерший в почтительной позе рядом с важной заказчицей, просиял. – Мы возьмем его и еще черный, получше качеством, а также желтый дамаст и алую парчу. Пришлите нам счет, мастер Джонсон. – Очень хорошо, моя госпожа, очень хорошо, – отозвался торговец, складывая ткани, которые не подошли, и покинул гостиную. – Я рада, что регентша предупредила нас заранее, – продолжала леди Болейн. – Успеем сшить платья. Благодари отца, что он так щедро снабжает тебя всем необходимым. – Она приподняла голову дочери за подбородок и улыбнулась. – У тебя ясные глаза и врожденная грация. Уверена, ты отлично справишься и станешь моей гордостью. Сердце Анны преисполнилось радостным трепетом. Мать она любила больше всех на свете. Элизабет Говард, довольно смуглая, с вытянутым – говардовским – лицом, которое смягчали полные губы и изящной формы глаза, в молодые годы слыла красавицей. Придворный поэт мастер Скелтон посвящал ей стихи, сравнивая по очарованию с Крессидой из Трои. Это тешило тщеславие леди Говард. Но еще больше она гордилась своими аристократическими предками и никому не позволяла забывать о своем происхождении из благородного дома Говардов. Всем было известно, не попади ее семья в немилость, простак Томас Болейн, каким он являлся в то время, не сподобился бы на ней жениться, даже несмотря на то, что среди его предков значился граф Ормонд. Однако отец Элизабет Говард выступил не на той стороне, что возвела на трон покойного короля Генриха VII, из-за чего лишился всех титулов и долгое время просидел в Тауэре. Шансы на достойный брак после этого сделались весьма незначительными, так что Элизабет позволила себе связать судьбу с амбициозным молодым человеком, ближайшие предки которого занимались торговлей. Правда, благодаря этому Болейны были богаты. Деловая хватка и женитьба на состоятельных наследницах сделали свое дело: Болейны постепенно накапливали средства и расширяли земельные владения. Прадед Анны, сэр Джеффри, торговал шелком и бархатом, как тот человек, который только что покинул их дом со своими товарами, но возвысился до поста лорд-мэра Лондона и был произведен в рыцари. Таким путем приобретались тогда блага мира; и теперь новые люди, деловые и не без способностей, такие как Болейны, заняли место старой аристократии и находились в фаворе у юного короля Генриха. Однако, несмотря на все успехи отца и его старания добиться большего, чтобы стать достойным мужем в глазах своих высокородных и могущественных свойственников, ни у кого, даже у его детей, не возникало сомнений в том, что леди Болейн состоит в неравном браке и супруг на самом деле ей не пара. – Ты будешь не хуже любой другой фрейлины, – сказала мать Анне. – И ты можешь по праву гордиться своим родством с Говардами. Помни, мы, Говарды, потомки короля Эдуарда Длинноногого, и род наш связан со всеми английскими монархами вплоть до Вильгельма Завоевателя, так что в твоих жилах течет королевская кровь, и ты должна быть достойна этого. – Да, матушка. – Анна склонила голову и присела в реверансе. Размышляя о словах леди Болейн, она неспешно вернулась в свою спальню. Анна гордилась своими предками, особенно теперь, когда Говардов реабилитировали и они снова были в милости при дворе. В длинной галерее она остановилась перед портретом деда Говарда, графа Суррея. Ее восхищал этот безупречный, верный долгу аристократ, глава семьи, а также его сын, чей портрет висел дальше, – дядя Томас, брат ее матери, мужчина с суровым лицом, неустрашимый солдат и умный придворный. О его супруге – тетушке, в честь которой ее назвали, у Анны сохранились лишь слабые воспоминания, но вот о том, что почившая принцесса Анна Йоркская была дочерью короля Эдуарда IV и сестрой матери теперешнего короля, она не забывала никогда. Это в некотором смысле делало короля Генриха ее, Анны, кузеном. Анна уже давно поняла, что любовь, которая когда-то, вероятно, связывала ее родителей, давно умерла, потому как они, насколько это возможно, избегали друг друга. Понять, почему мать свысока смотрела на отца, было нетрудно. Куда сложнее разобраться, почему отец относился к матери, к этой драгоценной, как главный приз на турнире, супруге с плохо скрываемым пренебрежением. Беспокоило Анну и то, что ее мать когда-то сравнивали с троянской красавицей Крессидой, которая, дав клятву в вечной любви принцу Троилу, будучи захваченной греками, предала любимого с героем Диомедом. Отец Дэви читал детям эту историю, когда они изучали греческие мифы. – Ее имя стало аллегорией для изображения неверной женщины, – пояснил добрый брат-монах, и Анна едва не ахнула. Очевидно, наставник не знал, что написал Скелтон о матери его учеников. Пятеро детей – Том и Генри тогда еще жили дома – испуганно переглянулись. Тем не менее Анна никогда не слышала ни единого намека на что-нибудь, пятнающее репутацию матери. Леди Болейн управляла семейными делами с властной распорядительностью и предпочитала сельскую жизнь суете переполненного искателями счастья двора, хотя иногда и отправлялась туда – время от времени королева Екатерина призывала ее к себе в качестве придворной дамы. Дома Анна и Мария помогали матери в буфетной: они делали конфеты и джемы, пока сама леди Болейн готовила настойки, микстуры и припарки из растений,которые дети собирали в саду. – Очень важно, чтобы вы обе выучились тому, что будет необходимо для ведения хозяйства в большом доме, – всегда напоминала дочерям мать. – Леди должна держать слуг занятыми, не только поручая им разные дела, но и собственным примером. Однако если бы Анне вздумалось вдруг поднять взгляд от работы, то она могла бы удивиться поведению матери, руки которой временами бездействовали, на лице блуждало отсутствующее выражение, а улыбающиеся губы тихо напевали какую-то мелодию, словно леди Болейн была погружена в некую тайную жизнь. И Анна снова стала бы недоумевать: а нет ли у ее матери любовника?
Месяцы, которые представлялись Анне томительно долгими, летели быстро. За большие деньги были наняты лучшие преподаватели – давать сестрам уроки пения и танцев. Анна овладевала этими навыками легко и с удовольствием. – Браво! – восклицал учитель, когда она кружилась и скакала, исполняя бранль, фарандолу и бассе. Искусство танца давалось Анне без труда, словно она была рождена для этого. Мария, у которой, казалось, руки и ноги вставлены не той стороной, сердито глядела на сестру. Отец так и не объяснил, какие у него планы в отношении Марии. Анна сомневалась, что они вообще имеются, а тем временем злобная ревность Марии медленно кипела и булькала, иногда выплескиваясь через край. Сестры были обречены жить вместе, и близкое соседство не способствовало мирному существованию. Тем не менее сэр Томас оставался непреклонным. Именно Анна должна выступить в качестве его представительницы, ходячего доказательства величия номинального главы семейства Болейн. А потому дочь была обязана овладеть любым навыком, который может оказаться полезным при дворе. Отцу Дэви поручили развивать ее музыкальные способности. – У вас прекрасный голос, – говорил он, и Анна трепетала, потому что похвалу этого строгого наставника заслужить было трудно. Священник также поощрял любовь Анны и Джорджа к поэзии. Брат с сестрой часами сидели рядышком, сочиняли и переписывали стихи, после чего скрепляли их в книжки. Анне отец Дэви говорил, что у нее редкий дар к стихосложению, особенно для женщины. От упоминания о том, что Мария считала слово «корова» рифмующимся со словом «здорова», он воздерживался. За те месяцы, пока шла подготовка гардероба, Анна стала искусной вышивальщицей. Она изготавливала билименты – орнаментальные ленты для украшения капоров и вырезов платьев, умела делать стеганые рукава и декоративные кошельки, а также расшивала алыми и зелеными нитями батистовые ночные рубашки. А кроме того, она открыла для себя удовольствие добавлять к одежде новые детали: оборку здесь, контрастный цвет там и – всегда – длинные, свисающие рукава, чтобы спрятать лишний ноготь. Ее няня, миссис Орчард, полная и по-матерински нежная дама, которая была со своей подопечной с самого рождения и должна была сопровождать ее в поездке, выполняла все простые задачи: наметывала, прошивала, подгибала подолы нижних платьев и подъюбников. Неделя шла за неделей, и в новом дорожном сундуке Анны росла стопка готовой одежды. Осенью отец вернулся ко двору в Нидерланды, оставив мать ответственной за подготовку Анны к отъезду. – Помни, – сказал он дочери перед отправкой, – твоя задача – довести до совершенства те качества, которые обеспечат удачный брак. Образование, которое я тебе даю, имеет целью именно это, а еще воспитание добродетели. Сэр Томас был большим ревнителем морали и всегда предупреждал дочерей об ужасных последствиях – в основном для него, – если они сойдут с пути целомудрия. Дочери были его активами – его сокровищами, как он любил выражаться, – а потому их успех являлся для него жизненно важным.
В эти последние месяцы, проведенные в Хивере, Анна начала замечать, что ей все наскучило. Она жаждала укрыться от ежедневной рутины, сбежать в чарующий придворный мир. Вместе с Марией они испытывали чистый восторг, когда облачались в лучшие платья и в сопровождении слуги и служанки отправлялись на лошадях в Эденбридж, расположенный в трех милях от замка, где каждый четверг устраивали ярмарку, просто для того, чтобы покрасоваться в своих нарядах. Когда сестры не занимались уроками или шитьем, они играли в карты либо вместе с матерью наносили визиты соседям и без конца ссорились из-за всякой мелочи, пока леди Болейн, потеряв терпение, не отправляла их в разные комнаты, чтобы немного поостыли. Жизнь была подчинена неизменному кругу смены времен года. О вступлении в полные права осени 1512 года напомнили торжества Михайлова дня, за ним последовал Праздник урожая, когда замковая церковь Святого Петра наполнилась снопами пшеничных колосьев и благодарственными песнопениями. Это был сезон изобилия, все местные джентри отправились на охоту. Отец сделал обеих дочерей – и Марию, и Анну – искусными наездницами, поэтому им дозволялось в компании с соседями участвовать в загоне дичи или соколиной охоте. По вечерам они с аппетитом поглощали богатую добычу из собственных охотничьих сумок, поданную на толстых ломтях хлеба, пропитанного мясным соком. В дождливые дни Анна и Мария прогуливались по длинной галерее над главным залом замка – отец считал, что должен иметь эту новомодную пристройку. Его дочери бродили по ней туда-сюда мимо украшавших стены картин и гобеленов, пререкались, сплетничали и время от времени награждали друг друга шлепками и щипками. С наступлением осени стали зажигать камины и жаровни, замок наполнился ароматом восковых свечей. Трое юных Болейнов играли в карты, кости и шахматы при мерцающем свете огня или дразнили друг друга, загадывая загадки, прежде чем завалиться в пуховые постели. Анна много ночей проводила без сна; она раздвигала дамастовые занавесы балдахина и, глядя на блестевшие под светом луны ромбовидные стекла в окнах, представляла себе грядущую жизнь при великолепном дворе, который находился далеко-далеко за морем в чужой стране. Сразу за Днем Всех Святых, когда ночи стали темными и по окрестным лесам блуждали призраки, наступило время Адвента, а следом за ним – Рождество и праздник Двенадцати ночей. Не успела Анна оглянуться, как пришло Сретенье, а потом – Благовещенье. Скоро и Майский день, когда они с Марией, соблюдая древний обычай, вставали рано поутру и приносили из леса весенние цветы. Вместе с маем появился и отец, он вернулся из Нидерландов. И вот для Анны настал момент отъезда.
Глава 2. 1513–1514 годы
Во время морского вояжа Анна испытывала небывалый восторг. Она стояла на палубе, обхватив себя руками, чтобы укрыться от свежего весеннего бриза и устоять перед качкой, наблюдала, как тают вдали меловые скалы Дувра, и все же невольно продолжала думать о прощании с близкими. О горделивом отцовском объятии, омытом слезами поцелуе матери, о Марии, не скрывавшей зависти, и старавшемся не заплакать Джордже – да благословит его Господь! Анна сама едва не разревелась, зная, как будет скучать по родным, особенно по матери и Джорджу. Позволив себе немного погрустить, Анна решительно повернулась к сэру Джону Бротону, рыцарю Уэстморленда, с которым ее отец познакомился при дворе. Сэр Джон направлялся в Брюгге по делу и предложил удлинить свою поездку, чтобы сопроводить Анну в Мехелен. Ему было около тридцати; свежее лицо, курчавые рыжие волосы и сильный северный акцент. – Для меня большая честь быть в ответе за столь очаровательную юную леди, – с поклоном произнес сэр Джон, после чего помог Анне и миссис Орчард взобраться на лошадей, отдал распоряжения конюхам, ответственным за повозку с багажом, и поехал впереди своих спутниц через подвесной мост на юг. Все время поездки к побережью он был олицетворением любезности и составлял дамам прекрасную компанию, выбирал лучшие гостиницы для ночевок, требовал, чтобы к столу подавали изысканные блюда, и развлекал своих спутниц забавными историями. Погода стояла ясная, и они продвигались к цели путешествия быстро. В Дувре сэр Джон распорядился, чтобы Анне и миссис Орчард отвели хорошие каюты на корабле, который перевезет их через Английский канал, и каждый раз, когда женщины выходили на палубу подышать воздухом, присоединялся к ним. От своего отца и сэра Джона Анна узнала очень многое о даме, которой вскорости предстояло служить. Маргарита Австрийская была единственной дочерью императора Священной Римской империи Максимилиана – старого хитрого лиса, каких свет не видывал, как сказал отец, – от его скончавшейся жены Марии, герцогини Бургундской. Именно благодаря этому браку Бургундские Нидерланды перешли во владение Габсбургов. У Маргариты был брат, эрцгерцог Филипп, молодой человек такой красоты, что его называли Филиппом Красивым. – Он был женат на королеве Кастилии, но умер молодым, и королева Хуана, которая страстно его любила, сошла с ума от горя и была признана не способной к правлению, – объяснял сэр Джон, когда они ужинали, сидя за капитанским столом в отделанной дубовыми панелями столовой на юте. – Ее отец, король Фердинанд Арагонский, стал править Кастилией от имени дочери, а император назначил эрцгерцогиню Маргариту, герцогиню Савойскую, своим регентом в Бургундии и Нидерландах вместо Филиппа. Ей же было доверено воспитание детей Хуаны, включая ее наследника инфанта Карла Испанского, хотя в Бургундии его называют эрцгерцогом. Вы скоро с ним познакомитесь, я уверен. – А что стало с королевой Хуаной? – спросила Анна; печальная история разожгла в ней любопытство. Сэр Джон нахмурился: – О ней ходит много слухов. Говорят, она не позволяла похоронить мертвое тело своего мужа, месяцами возила его по Испании и приказывала слугам, чтобы те открывали гроб, дабы она могла смотреть на труп, целовать и обнимать его. Наконец ее силой заставили уступить, чтобы предать тело земле, а саму несчастную королеву отправили в монастырь, где о ней заботятся монахини. Анна передернула плечами. Да, действительно, надо обезуметь, чтобы делать столь ужасные вещи. Такое только в ночном кошмаре привидится. – Мне жаль ее детей, – сказала она, отпивая глоток вина. – Как вы думаете, Хуана когда-нибудь поправится? Сэр Джон снова сдвинул брови: – Поговаривают, будто она вовсе не больна, а ее просто убрали с дороги, чтобы Фердинанд мог присвоить себе власть в Кастилии. Если Хуана запрятана в монастырь, а ее сыну всего тринадцать, править королевством, кроме него, больше некому. – Но это ужасно! – воскликнула Анна. – Если она не безумна, тогда ее должны восстановить на троне. Неужели отец может так плохо обращаться с собственной дочерью? – Когда на кону стоит власть в королевстве, госпожа Анна, человеческие чувства ничего не значат, – заметил сэр Джон. – Но может быть, королева Хуана и безумна. По крайней мере, так считает большинство. – Дай Боже, чтобы так и было, – сказала Анна. – Для нее лучше не сознавать, что она потеряла мужа, детей и корону. – Она по-прежнему королева. Ее сын, войдя в возраст, станет ее соправителем. – Мне жаль бедняжку. – Анна отложила нож и поднялась. Она не хотела ничего больше слышать о трагедии королевы Хуаны и жестокости королей.Ветер дул резвый, и переход через пролив не затянулся. В результате уже скоро они плыли по каналу Звин в Брюгге. Анне не терпелось увидеть этот бурлящий жизнью город с его чудесными церквями, возносящейся ввысь колокольней, выстроенной на широкой рыночной площади; с живописными каналами и высокими домами из красного кирпича, столь не похожими на обшитые деревом английские коттеджи под соломенными крышами. На забитых народом улицах толпились иностранцы со всех концов света и хорошо одетые торговцы. Везде ощущался общий дух процветания. Анна удивилась, когда сэр Джон сказал, что Брюгге – умирающий порт. – Канал Звин засоряется илом. Скоро все это благополучие схлопнется. – И что случится с этими людьми? – Они изобретательны. Найдут какие-нибудь способы сохранить свои бесценные торговые связи, особенно с Англией. К тому же Брюгге славится искусством, здесь работает много великих художников. Вы знаете, что Уильям Кекстон[26] опубликовал свою первую книгу именно в этом городе? – Правда? В Хивере хранилось несколько книг из лондонской типографии Кекстона. Анна прочла их все. «Еще не так давно, – говорил ей отец Дэви, – все книги переписывали от руки». И она подумала: в какое удивительное время ей довелось жить. Анна не отказалась бы задержаться в Брюгге, однако сэр Джон быстро завершил свои дела и сказал, что нужно спешить в Гент. Они скакали верхом по плоской равнине, пересеченной каналами, дамбами и рядами высоких деревьев, что было странно после холмистых просторов Уилда в Кенте. Проехав Гент, всадники повернули на восток и вскоре увидели далеко впереди высокую башню. – Это Мехелен, – сообщил сэр Джон. – Столица Бургундии. А башня – собора Святого Румольда. Ее видно за много миль. Анна затрепетала в радостном предвкушении. Когда они подъехали ближе к городу, стали видны мириады шпилей, окружавших огромную церковь, и скопления красных крыш. Путники были почти у цели. Не пройдет и пары часов, благодарение Господу, как она появится при дворе Бургундии и будет представлена регентше. – Я рада отдохнуть, – со вздохом сказала миссис Орчард. – Кажется, мы уже много дней в седле, а нам с вами, сэр Джон, предстоит еще проделать обратный путь. Надеюсь, сегодня вечером мы найдем приличную гостиницу, да и Анну устроят удобно. Анна с досадой взглянула на няню. Кому захочется отдыхать, когда можно окунуться в удовольствия придворной жизни? Но миссис Орчард была стара – ей, наверное, не меньше тридцати, ведь в ее каштановых волосах уже появилась седина. – Регентша славится тем, что содержит свой дом в исправности, – сообщил дамам сэр Джон. – Вас хорошо устроят, госпожа Анна. И вы здесь быстро усовершенствуете французский. Это язык двора. Обогнув городские стены, они въехали в массивные ворота Винкетпоорт, и Анна отметила, что Мехелен очень похож на другие города Нидерландов, через которые она проезжала: та же широкая рыночная площадь, те же высокие дома и прекрасные церкви. Наконец копыта лошадей застучали по Корте-Маагденстраат, и всадники остановились перед величественной входной аркой. – Это Хоф-ван-Савой, дворец регентши, – пояснил сэр Джон. Тем временем стражники подали им знак въезжать, и Анна открыла рот от изумления. Они оказались в просторном прямоугольном дворе, со всех сторон окруженном великолепными фасадами зданий в основном из вездесущего голландского красного кирпича, с высокими Т-образными окнами, с мансардными окнами спален на двускатных крышах; вдоль нижнего яруса тянулись изящные галереи с открытыми аркадами. – Регентша – великая строительница. – Сэр Джон указал на одетое в леса крыло здания и ползавших по деревянным конструкциям рабочих. – Потребуется еще много лет, чтобы дворец приобрел свой окончательный облик. – Мне он нравится! – Анна сделала глубокий вдох. – Ничего подобного я не видела. – В Англии действительно такого не увидишь, – согласился с ней сэр Джон, когда они слезали с лошадей. К ним приблизился слуга в черно-желтой ливрее. Сэр Джон отдал распоряжения, и Анне предложили следовать за лакеем, который должен был проводить гостью в ее комнаты. Настала пора прощаться с сэром Джоном и миссис Орчард. Анна сожалела, что пришло время расставания. Она уже привыкла к веселой компании сэра Джона, оценила его заботливость и обширные знания о мире. А что до няни, то ее хлопотливая суета, конечно, слегка раздражала, но все же Анна была к ней привязана. Сэр Джон поклонился и поцеловал руку своей подопечной: – Да хранит вас Бог, госпожа Анна, и да пошлет Он вам радость! Миссис Орчард со слезами на глазах обняла воспитанницу: – Береги себя, моя маленькая госпожа. Затем оба сопровождающих взобрались на коней, сэр Джон приподнял шляпу, и они скрылись в арке гейтхауса[27]. – Пойдемте! – сказал по-английски с сильным акцентом мужчина в ливрее и повел Анну во дворец. Они следовали по залам, от красоты которых дух захватывало. Раскрыв рот, Анна глазела по сторонам. В сравнении с этим великолепием Хивер выглядел просто амбаром. Теперь она поняла, почему отец так много времени проводил при дворе. Разве можно было представить, что существуют такие огромные лестницы или галереи, так плотно увешанные до невозможности правдоподобными и яркими картинами. Даровитые художники настолько искусно оживили мадонн, святых и ангелов, что казалось, будто все они вот-вот сойдут с полотен и задышат. Filles d’honneur размещались в спальне на втором этаже, под крышей. Кроме Герды, маленькой голландской горничной, которую приставили к Анне, в комнате никого не было. Новая фрейлина с удовольствием сняла с себя дорожную накидку и опустилась на подготовленную для нее кровать с занавесками из красной шерстяной материи – одну из восемнадцати, выстроившихся в ряд, словно набор деревянных ящиков. Анне было сказано, что она может немного отдохнуть и распаковать одежду, пока за ней не придут, чтобы представить регентше. Однако девушка была слишком взволнована. Какой уж тут отдых! Как только доставили багаж, Анна открыла сундук и вытащила из него платье в цветах регентши – желтое с отделкой из черного шелка, – решив, что наденет его в качестве комплимента. Как же она ждала этого момента! Анна попросила Герду расшнуровать ее дорожное платье и помочь снять нижнее платье. Потом подняла руки, и горничная надела на нее через голову платье с квадратным вырезом и зашнуровала на спине. Прикосновение шелка к коже было чувственным, висячие рукава очень нравились Анне. И длинный шлейф, обязательный при дворе, тоже. Волосы она оставила распущенными, они ниспадали до самых бедер. Теперь она готова! Анна сидела как на иголках и ждала вызова к новой госпоже.
Эрцгерцогиня Маргарита Австрийская, вдовствующая герцогиня Савойская и регентша Нидерландов, оказалась совсем не похожей на прекрасную принцессу, облаченную в золотую парчу и увешанную драгоценностями, какой ее представляла себе Анна. Поднявшись из реверанса, девушка была изумлена, увидев, что трон под балдахином из роскошного бархата занимает маленькая женщина в черном платье и белом вдовьем вимпле с подбородником. Неужели это дочь всемогущего императора Максимилиана? Женщина, лицо которой можно назвать разве что невзрачным, да еще с такими необыкновенно полными губами и заостренным подбородком? Тем не менее эти полные губы улыбались, и Анну поразила теплота, которую излучала регентша. – Добро пожаловать к моему двору, мадемуазель Болейн, – произнесла она по-французски, и Анна постаралась тоже по-французски, хотя язык у нее заплетался, ответить на вежливые вопросы о поездке и о том, удобно ли устроилась. – Восхитительно! – Маргарита сверкнула улыбкой. – Мне очень приятно, что вы почтили меня, надев платье таких цветов. И я полагаю, месье Семмоне не придется долго трудиться. Он назначен обучать вас правильно говорить по-французски. Анна вспыхнула, когда регентша указала на бородатого мужчину средних лет в мантии ученого, который, услышав свое имя, поклонился. – Считайте мой двор своим домом, дитя, – продолжила регентша, не переставая улыбаться. – Надеюсь, вы будете довольны моим обхождением с вами. А теперь можете присоединиться к своим компаньонкам. Тронутая и успокоенная теплым приемом, Анна отошла и опустилась на пол вместе с семнадцатью другими счастливыми юными леди – многие происходили из самых знатных семейств страны, – которых избрали для почетной службы при бургундском дворе. Все они были не старше шестнадцати лет, очень богато одеты. Кто-то улыбался Анне, прочие же разглядывали ее наряд, и только некоторые – она это почувствовала – смотрели свысока. Вечером в спальне девушки собрались вокруг Анны, возбужденно переговариваясь и подбивая новенькую открыть сундук и достать оттуда одежду, чтобы они могли все проинспектировать. Нескольких фрейлин увиденное впечатлило, это Анна отметила про себя с радостью. Другие, к ее огорчению, отнеслись к гардеробу новенькой с пренебрежением. – C’est provinciale![28] – фыркнула высокая девушка, щупая пальцами алое шелковое платье, скроенное по английской моде. – Non, Marie, c’est jolie![29] – возразила блондинка с розовыми щечками, улыбаясь Анне, и Мари пожала плечами. Вскоре они потеряли интерес к вновь прибывшей и начали трещать по-французски о вещах, которые были Анне совершенно не понятны. Ей стало ясно: единственная среди всех англичанка, она всегда будет немного в стороне. Не то чтобы ее это особенно беспокоило даже в первые дни в Мехелене. Нашлись и другие юные дамы, помимо блондинки, которые выказывали желание подружиться с Анной, и так как она упорно занималась французским под неусыпным руководством месье Семмоне, то вскоре начала говорить бойчее, общаться с товарками стало легче, и они охотнее принимали ее в свой круг. Учитель, который, казалось, обладал неограниченными талантами, занимался с Анной и другими filles d’honneur выправкой и танцами, а также прививал им хорошие манеры и наставлял в искусстве поддерживать беседу. Последний талант регентша особенно приветствовала, считая его необходимейшим для тех, кто хочет снискать успех при дворе. Каждый день месье Семмоне выбирал новую ситуацию, в которой могут оказаться его ученицы, и девушки отрабатывали, какой дадут ответ и какой тон будет более всего уместен. Анна поймала себя на том, что обращается с воображаемым принцем и рассуждает с ним о музыке, живописи и поэзии. Она едва ли могла вообразить, что это произойдет на самом деле. Когда регентша присутствовала на заседаниях совета, было весьма поучительно, сопровождая ее, скромно сидеть на полу вместе с другими filles d’honneur и пытаться понять смысл распоряжений и указаний Маргариты или расшифровывать советы, которые давали ей заслуженные, солидные мужи, во всем подчинявшиеся правительнице. Они явно ценили ее мудрость и рассудительность. Анне так хотелось побольше узнать о том, как правит женщина, что она удвоила усилия в овладении французским. Прошла всего неделя, и регентша послала за своей новой фрейлиной. – Я написала вашему отцу и сообщила, что очень довольна вами, – сказала Маргарита, – и еще поблагодарила за то, что он прислал вас ко мне. Он не мог бы сделать более желанного подарка. Я отметила, что для юной леди ваших лет нашла в вас такую чистую душу и такое совершенство в обхождении, что обязана ему больше за отправку вас сюда, чем он мне – за прием дочери. Анна вздохнула с облегчением и радостью. Она боялась, что ее будут ругать за множество мелких ошибок, совершенных при попытках овладеть необходимыми навыками и правильно выполнять все требования. Регентша широко улыбнулась и заключила фрейлину в теплые объятия – о таком Анна даже не мечтала. Исполненная благодарности, она опустилась на колени. – Для меня единственная радость – служить вашему высочеству! – с горячностью заявила девушка. Как же ей повезло: она не только служила доброй и любящей госпоже, но и оказалась при дворе, который задавал тон во всей северной части христианского мира в манерах, искусстве и учености. – Это школа для принцев и принцесс, место высокой культуры и передовой цивилизации, – говорил месье Семмоне Анне и ее соученицам. – Здесь привечают всех ученых. Вскоре Анна обнаружила, что регентша, которую редко можно было увидеть без книги в руке, – большая сторонница так называемого нового обучения, которое включало в себя знакомство с недавно открытыми заново греческими и римскими текстами. Когда Мехелен посетил знаменитый ученый-гуманист Эразм Роттердамский, по замку рябью прокатилась волна возбуждения. Анне выпала честь в тот день сопровождать регентшу. И она увлеченно внимала, как этот остроумнейший ученый муж с мудрым, чувствительным лицом говорил о своих планах осуществить точный перевод Писания с латинского и греческого. Девушка была ошеломлена, когда узнала, что Библия, которой пользуются в церквях, искажена в сравнении с изначальной формой. Как прекрасно будет прочесть перевод Эразма и узнать правду. Еще сильнее поразила Анну его атака на коррупцию среди духовенства, ведь дома о Святой Матери Церкви всегда говорили с огромным почтением. Слова Эразма стали откровением. Слушая страстные обличения упадка Рима, жадности священников и обмирщения клира, юная фрейлина начала замечать в критике великого мужа зерно правды. В краткие часы досуга вновь обретенная жажда знаний приводила Анну в замечательную библиотеку регентши. Здесь ей и ее компаньонкам-фрейлинам дозволялось свободно копаться в бесчисленных манускриптах, молитвенниках, альбомах с нотами и печатных книгах. Тут имелись скабрезные истории Боккаччо, очаровательные басни Эзопа, эротические поэмы Овидия, от которых краска заливала щеки, и тяжелые для понимания философские труды Боэция и Аристотеля. Анне больше всего нравились поэтические сборники, где говорилось о любви и преданности. Она читала их с жадностью. Это помогло ей в написании собственных стихов.
Однажды Анна листала ярко иллюстрированный бестиарий, когда краем глаза заметила стопку книг, сложенных на другом конце стола. На переплетах из тисненой кожи были отпечатаны гербы регентши. Анне стало любопытно, что это за книги, поэтому она встала со своего места, открыла первую попавшуюся и с изумлением обнаружила, что ее автор – женщина. Анна-то считала, что книги пишут только мужчины. Но эта Кристина Пизанская, жившая больше сотни лет назад, не страдала робостью, и ей было что сказать о том, как мужчины обращаются с женщинами. Глаза Анны расширились, когда она прочла: «Не все мужчины разделяют мнение о вреде образования для женщин. Однако с полной определенностью можно сказать, что многие глупые мужчины заявляют именно так, ибо им неприятно видеть женщину, которая умнее их». Никогда еще Анна не слышала, чтобы кто-нибудь высказывал подобное мнение. Она не отрывалась от книги уже не меньше часа, когда в библиотеку вошла регентша. Увидев Анну, которая вскочила и поспешно присела в реверансе, Маргарита улыбнулась и забрала у нее книгу: – Ах, мадемуазель Болейн! Вижу, вы открыли для себя моего любимого сочинителя. – Ваше высочество, то, что она пишет, удивительно. – Вы так думаете? – Мадам, эта Кристина Пизанская посмеялась бы над убеждением моего отца, что мужчины по естественному порядку вещей умнее женщин. – Анна взяла книгу из рук Маргариты и открыла место, которое отметила ленточкой. – «Как тела женщин мягче мужских, так и их понимание острее, – прочла она вслух. – Если бы вошло в обычай отправлять маленьких девочек в школу и учить их тем же предметам, которым обучают мальчиков, они осваивали бы эти предметы столь же полно и понимали бы тонкости всех искусств и наук. А что до тех, кто утверждает, будто это благодаря женщине, леди Еве, мужчину изгнали из рая, мой ответ им такой: они получили гораздо больше от Марии, чем утратили из-за Евы». Глубокомысленно кивая, Маргарита обратилась к другому тому: – Мне нравится пассаж, где она спрашивает: «Сколько есть женщин, которые из-за грубости мужей проводят свои несчастные жизни, будучи скованы узами брака, в бóльших страданиях, чем если бы они попали в рабство к сарацинам?» Мой покойный супруг, конечно, не был скроен из такого полотна. Но удивительнее всего ее мнение о правительницах-женщинах: «Жены могущественных аристократов должны хорошо разбираться в вопросах управления и быть мудрыми – в действительности гораздо мудрее большинства других женщин при власти. Знания женщины благородного происхождения должны быть настолько всеобъемлющими, чтобы она могла разобраться во всем. Более того, ей надлежит обладать храбростью мужчины». Неудивительно, что регентше нравились труды Кристины Пизанской. Их следовало прочесть любой даме высокого ранга и держаться изложенных там советов. Возможно ли, чтобы женщина и правда была равной мужчине?
Радостнее всего Анне было в компании с регентшей. Эта женщина отличалась такой открытостью, что однажды неожиданно для самой себя юная фрейлина стала расспрашивать Маргариту, каково ее мнение насчет женщин, Библии, и задавать еще массу вопросов о тех удивительных вещах, которые узнала в этом восхитительном новом мире. Маргарита всегда отвечала мудро и с юмором: – Ах, la petite[30] Болейн, вы правы, когда спрашиваете, должны ли женщины быть равны с мужчинами. Но женщинам редко удается самим устраивать свою судьбу или править, как я. Моя почившая свекровь, королева Изабелла Кастильская, стала королевой по законному праву, но она тоже редкий пример. От нас, женщин, зависит, сможем ли мы показать мужчинам, что обладаем не меньшими способностями, чем они. – Мадам, но мы не можем водить армии в битвы, – встряла Изабо; остальные фрейлины захихикали. Подняв руку, регентша призвала их утихнуть: – Изабелла делала это. Конечно, она не сражалась, но вдохновляла на бой. Вот к этому, дамы, нам всем и надо стремиться. Мы хотим, чтобы мужчины восхищались нашей храбростью, нашими личными качествами и интеллектом, а не только красотой. Услышав эти слова, Анна затрепетала. Вскоре она узнала, почему Маргарита постоянно носит траур. – Многие называют ее Dame de Deuil, – сказала Герда однажды утром, расчесывая волосы Анне. – Скорбящая дама? Как печально. Но почему? – Она верна памяти мужа, герцога Савойского. Он умер девять лет назад. Анна видела его портрет, висевший во дворце, – романтического вида молодой мужчина с лицом ангела в обрамлении длинных светлых волос. Как ужасно, наверное, в таком молодом возрасте потерять столь красивого супруга. Регентше было всего тридцать три. В первые недели по приезде ко двору Анна с удивлением услышала, как Маргарита Австрийская свободно беседует с фрейлинами о своем прошлом. – Вы знаете, что меня выдавали замуж три раза? – обратилась она к Анне всего через два дня после памятного разговора с Гердой. Придворные дамы шили в завешанной гобеленами гостиной, filles d’honneur сидели рядком, склонив головы над работой. – В детстве я была выдана за дофина и отвезена к французскому двору, но, когда мне исполнилось одиннадцать, для него нашли лучшую партию, и наш брак аннулировали, а меня отправили домой. Я больше злилась, чем горевала. – При воспоминании об этом Маргарита улыбнулась. – Потом меня выдали за Хуана, принца Астурийского, наследника короля Фердинанда и королевы Изабеллы Испанской. Он был молод и красив, и я была счастлива, но он умер через несколько месяцев после свадьбы, оставив меня с ребенком. – На обычно безмятежное лицо Маргариты легла тень печали. – Моя маленькая девочка умерла сразу после рождения. Пришлось оставить ее в Испании, а самой вернуться в Нидерланды. – Мне очень жаль, мадам, – посочувствовала Анна. – Она у Господа, – ответила регентша, и голос ее внезапно оживился. – Он покоит ее в своих руках. И я снова обрела любовь, с моим Филибертом. Он меня обожал. Я помогала ему управлять герцогством Савойским. Увы, мы прожили вместе всего два года – так мало для счастья. А потом в ужасную жару он отправился охотиться на кабана, перегрелся, выпил много кружек ледяной воды. Он умер в агонии. – Маргарита отложила шитье и устремила взгляд вдаль, словно видела мужчину, которого потеряла. – Вот почему, la petite Болейн, я поклялась больше никогда не выходить замуж. Стоит полюбить – и неминуем риск утраты. Не забывайте об этом.
Эразм Роттердамский был одним из многих гостей, которые наслаждались прославленным гостеприимством регентши. За ее столом часто сиживали художники, писатели, философы и музыканты, которым она покровительствовала. Вечера оживлялись концертами полифонической музыки, которую она любила, или гостей развлекали показом ценнейшей коллекции живописи Яна ван Эйка, полотна которого отличались исключительным богатством колорита и красотой. Анна часто присутствовала на этих экскурсиях, зачарованная изящным разговором, обменом идеями, высокой гармонией и великолепными произведениями искусства. Это был мир, который не могла нарисовать самая буйная фантазия, и как же упоительно стать его частью. По дому и семье Анна не скучала вовсе, кроме, разумеется, матери и Джорджа, который часто писал, выражая сожаления по поводу ее отсутствия. Жизнь Анны состояла не из одних только придворных церемоний и учебы. Регентша устраивала пиры и банкеты; выступала в роли хозяйки вечеров и затевала танцы; еще она любила охотиться; предводительствовала на турнирах и явно поощряла игру в то, что называла придворной любовью. – Это существенный аспект рыцарства, – объясняла она своим filles d’honneur. – Вы все уже в том возрасте, когда начинают искать привлекательных мужчин. Одна из причин, почему родители отправили вас к моему двору, состоит в их надеждах, что я подыщу вам хороших мужей. Анна ощутила, как стоявших рядом фрейлин охватила дрожь, и в ее душе тоже возник восторженный трепет. В двенадцать лет, достаточно взрослая для замужества, она начала сознавать, что фигура ее расцветает, и ловить на себе восхищенные взгляды молодых мужчин, подвизавшихся при дворе регентши. Она уже осваивала искусство стрелять черными глазами, со свистом рассекать воздух юбками, чтобы они раскачивались, подчеркивая очертания бедер, и начала постигать бесконечные возможности флирта. Анна жадно внимала рассказам Маргариты о придворной любви. – Джентльмену, даже женатому, позволительно ухаживать за вами, – говорила та. – Они могут выражать свое восхищение и даже страсть. Вы должны распоряжаться ими, в этом смысле титул «госпожа» является почетным. Однако ни при каких условиях вы не должны дозволять мужчинам выходить за границы приличий. Оставляйте своих ухажеров в сомнениях и держите на расстоянии вытянутой руки, потому что мужчины не ценят то, что достается легко. Даже самый легкий поцелуй – это большое одолжение. Ваша честь – величайшее сокровище. Никакой мужчина не захочет иметь жену с запятнанной репутацией, какое бы милое лицо у нее ни было и каким бы большим приданым ее ни снабдили. Никогда не забывайте об этом, юные дамы! – По крайней мере, нам позволено целовать их, – тихо сказала бойкая девушка, стоявшая слева от Анны. Но Маргарита услышала. – Нет, Этьенетта де Лабом, от вас зависит, когда – и если – вы позволите им поцеловать вас. Благородная дама всегда должна помнить, кто она, и не забывать о чести своей семьи, о надеждах родителей на ее будущее. В нашей власти, дамы, держать в узде и облагораживать мужскую похоть. – Она спрятала улыбку, слыша сдавленные смешки девушек. – Вы можете флиртовать, можете поощрять, можете даже дарить благосклонность – до определенного момента… Но главный приз – вашу добродетель – вы принесете как величайший дар своему супругу. Анна начиталась про любовь в поэмах и романах, которые неутомимо поглощала, но никогда еще не получала столь полезного и разумного совета. Она думала, что мужчины – полновластные хозяева в любовных делах и вопросах о браке. Отец, конечно, полагал, что так и есть, но теперь оказалось, женщины могут держать под контролем даже мужскую похоть, о сути которой Анна имела мало представления. Перспектива наслаждаться господством над противоположным полом взволновала ее. Девушка вдруг обнаружила, что имеет в своем распоряжении силу, о существовании которой не догадывалась. В следующий раз, когда придворный кавалер поклонился ей и сделал комплимент, Анна мило улыбнулась и отвела взгляд, словно это не имело для нее значения, хотя на самом деле имело – молодой человек был красив. Позже, когда он вовлек ее в беседу и затем вывел на танцевальную площадку, она смотрела на него из-под темных ресниц так, будто с его губ слетали перлы мудрости, а следующий танец отдала другому. Ее уловки, похоже, сработали. Регентша была права: всякий раз юноша возвращался к ней более пылким, чем был прежде. Анна развлекалась флиртом – не более того. Ей ведь еще не исполнилось и тринадцати. Это была просто занимательная игра, невероятно далекая от строгостей отцовского дома и скучной обыденной жизни в Хивере. Юной фрейлине открывался мир, изобилующий новыми идеями и неожиданными удовольствиями. Однако больше всего Анне хотелось подражать госпоже, которую она любила и почитала. Поэтому вкусы и удовольствия регентши девушка сделала своими, будучи уверенной, что все знания и таланты, которые она с таким удовольствием приобретала, помогут ей стать украшением любого двора, чего и добивался от нее отец. Всякий раз, когда регентша хвалила умение Анны танцевать, сочиненные ею песни или ее искусство играть на лютне, чаша радости юной фрейлины переливалась через край. Но больше всего Анне хотелось научиться мыслить независимо. Дома от нее требовали беспрекословного согласия с мудростью старших и подчинения их указаниям, но в Мехелене она обнаружила, что иметь собственные идеи и думать самостоятельно – позволительно, мало того – это поощряется. Кроме того, Анна осознала силу внешнего впечатления. Одежда отправляет важное послание людям, которые имеют для вас значение, будь они принцы или поклонники. И пароль тут – великолепие. А потому Анна открыла для себя особое удовольствие в совершенствовании своего скромного гардероба. Новые придворные наряды стоили ужасно дорого, именно поэтому отец снабдил ее всего шестью платьями. Однако благодаря добавлению какой-нибудь ленты и украшения в нужном месте да еще нескольких стратегических стежков, которые превращали квадратный вырез платья в более широкий и открытый, во французском стиле, что признавалось пиком моды при дворе регентши, Анна меняла свои наряды – они начинали выглядеть по-новому и привлекали внимание. Важно и то, как носить одежду. Если вступать в зал, чувствуя себя элегантной красавицей, остальные тоже могут в это поверить. Это же относится и к взгляду. Анна любовалась красивыми лицами и сожалела, что ее собственное, узкое и вытянутое, с заостренным подбородком, не соответствует современному идеалу красоты, однако быстро осознала, какой притягательной силой обладают очаровательная улыбка, остроумие и лукавый взгляд из-под ресниц.
Выученными уроками Анна поделилась с племянниками и племянницами регентши, осиротевшими детьми Филиппа Красивого и Хуаны Безумной. Старшего, эрцгерцога Карла, она знала совсем немного; он был замкнутым, необщительным мальчиком, слишком юным для своих тринадцати лет, вечно чем-то болел и всегда запальчиво требовал уважения к своему достоинству. С виду он был самым странным из всех людей, каких Анне доводилось видеть. Заостренная габсбургская челюсть Карла настолько выдавалась вперед, что он не мог нормально закрыть рот и ел с трудом. Но об этом никто никогда не упоминал. Регентша любила племянника до безумия и пеклась о его образовании. К юному эрцгерцогу пригласили лучших учителей, которые превращали его, как считала Анна, в богобоязненного маленького деспота, хотя ему нельзя было отказать в уме и блестящих способностях к языкам. И он действительно являлся очень важной персоной – эрцгерцог Австрии по рождению и наследник королевств Кастилии и Арагона. Судьба вознесла его слишком высоко, чтобы он замечал скромную юную англичанку, fille d’honneur своей тетушки. Так продолжалось до того момента, пока месье Семмоне не попросил эрцгерцога встать в пару с Анной, чтобы учиться танцевать павану. С явной неохотой, но не забывая о манерах, неловкий юноша поклонился Анне и протянул ей руку. Как только музыканты начали играть, она вложила пальцы в его расслабленную кисть, не желающую принимать ее руку, и пара неспешными, величавыми шагами двинулась вперед, а потом в сторону, выполняя, как полагалось, один шаг на каждые два ритмических удара. – Не нужно поднимать шлейф, мадемуазель Анна, – сделал замечание учитель. – Этот танец исполняется на самых важных придворных церемониях и даже в женских монастырях в дни пострига. Он медленный и исполнен достоинства. Эрцгерцог Карл сопел носом. Анна была уверена, что таким образом партнер демонстрирует пренебрежение. Она сердито повернулась к нему: – Ваше высочество простужены? Если так, вот мой платок. И махнула в его сторону изящным полотняным лоскутком. От такого нахальства отвисшая челюсть Карла опустилась еще ниже. – Благодарю вас, мадемуазель, – ледяным тоном произнес эрцгерцог и взял у Анны платок с таким видом, будто это была дохлая крыса. – Молюсь о скорейшем выздоровлении вашего высочества, – сладким голосом проворковала его партнерша. Танец возобновился. Анна размышляла, пожалуется ли Карл регентше на ее дерзость, но Маргарита Австрийская продолжала, как и прежде, выказывать к ней свое доброе расположение. А вот эрцгерцог Карл теперь ясно давал понять, что крайне не расположен к Анне, которая не видела смысла в попытках завоевать его дружбу: противный, спесивый юнец, вот кто он.
Тем летом и осенью Анна узнала о победах, которые одержали над французами король Генрих и его союзники, император Максимилиан и король Фердинанд Арагонский. Названия взятых ими городов – Турне и Теруана – были у всех на устах. Много веселья вызывали и рассказы о том, как войска короля Людовика, завидев приближающихся англичан, пришпорили коней и спешно покинули поле битвы. – Это мнимое сражение очень метко назвали Битвой шпор, – со смехом говорила регентша. – La petit Болейн, вы имеете полное право гордиться своим королем и соотечественниками. – Мадам, слава также принадлежит императору, прославленному отцу вашего высочества, – со всей учтивостью ответила Анна. Маргарита Австрийская погладила ее по руке: – Вы очень добры. А теперь, дамы, у меня для вас сюрприз. Мы поедем в Лилль встречать победителей! Анна присоединила свой голос к хору фрейлин, выражавших восторженное и нетерпеливое одобрение.
Разноцветные вымпелы и штандарты весело развевались под легким октябрьским ветерком, длинная кавалькада, сопровождавшая регентшу, торжественным маршем направлялась на запад – из Мехелена в Лилль. До места назначения оставалось уже недолго. По колонне распространилось известие, чтоимператор Максимилиан и король Англии ждут Маргариту Австрийскую в Турне и будут эскортировать ее до Лилля. Filles d’honneur сидели в двух позолоченных каретах, которые двигались вслед за госпожой и эрцгерцогом Карлом, и оживленно болтали. Анну, как и остальных девиц, будоражила перспектива увидеть короля Генриха, который, по общему признанию, был необыкновенно красивым и доблестным молодым человеком. Все юные дамы тоже держались мнения, что Генрих – настоящий герой: ведь он так хорошо наподдал ненавистным французам. Сезон военных кампаний закончился, но все были убеждены, что на следующий год увидят короля Людовика окончательно разбитым. Регентша щедро снабдила своих filles d’honneur отрезами дорогих тканей, чтобы те справили платья для такого события. Наряд Анны был из винно-красного с бархатистым черным орнаментом дамаста. Никогда еще не имела она такого роскошного платья. На его изготовление ушла бóльшая часть жалованья за три месяца, но затраты того стоили. Показались ворота Турне, и Анна изогнула шею, чтобы рассмотреть скопление ожидавших регентшу зевак и солдат. По мере приближения внимание Анны привлекли две впечатляющие фигуры: обе высокие, по-королевски осанистые, облаченные в бархат и золотую парчу. Императора было легко узнать по портретам, которые хранила у себя регентша: крупный нос с высокой переносицей, твердый подбородок, высокомерное выражение лица, редкие седые волосы. Максимилиан обладал неординарной внешностью, но в сравнении со стоявшим рядом мужчиной выглядел дряхлым стариком. Если бы художнику вздумалось изобразить на картине воплощение Юности и Старости, он не смог бы подобрать лучших моделей. Потому что Генрих Английский цвел красотой и был полон жизненной силы. «Жаль, – подумала Анна, – что сказать про него можно только это». Генрих тоже имел нос с высокой переносицей и твердый подбородок, но больше ничего особенно примечательного в его свежем лице не было. Глаза узкие, губы чопорно поджаты, что придавало ему вид себялюбивый и скаредный, на голове – копна рыжих волос, широкие плечи, мужская осанистость… Да, не будь он королем, Анна не удостоила бы его еще одним взглядом. Те, кто восхвалял Генриха, просто льстецы. Даже отец, вовсе не склонный предаваться полетам фантазии, говорил, что, по мнению женщин, король красив, и ни разу дурным словом не обмолвился о своем господине. Еще бы – при этом короле дела сэра Томаса шли в гору, к тому же Генрих и отец Анны слыли друзьями. Пока регентша спешивалась, чтобы быть встреченной отцом и королем Генрихом, а ее придворные дамы и filles d’honneur вылезали из карет и выстраивались за спиной своей госпожи, взгляд Анны упал на мужчину, стоявшего позади английского монарха. Эти двое могли бы быть братьями, столь разительным казалось их сходство, только крепкий нос, поджатые губы и узкие глаза на лице этого незнакомца смотрелись очень выразительно. Судя по богатому платью, джентльмен принадлежал к знати. В отличие от короля, который был чисто выбрит, этот господин имел густую каштановую бороду. – Ваше высочество, позвольте представить вам моего друга Чарльза Брэндона, виконта Лайла, – услышала Анна слова короля Генриха; голос у него оказался на удивление высоким. Привлекший ее внимание мужчина выступил вперед и низко склонился над протянутой рукой регентши, которую та отняла, казалась, не без усилия. Когда лорд Лайл выпрямился, его дерзкие глаза встретились с глазами Маргариты, и Анна заметила, как щеки ее госпожи вспыхнули. Потом вперед вышли отцы города, дабы приветствовать Маргариту Австрийскую. Когда ей преподнесли в подарок несколько гобеленов с изображениями сцен из «Книги о Граде женщин» Кристины Пизанской, радость ее была непритворной. Лучшего подарка и вообразить казалось невозможным. Анна не терпелось увидеть гобелены, когда их развернут. В сопровождении императора и короля регентша во главе своей обширной свиты под триумфальный звон церковных колоколов въехала на заполненные народом улицы Турне. Вечером во дворце епископа устроили роскошный пир. Маргарита сидела между виконтом Лайлом и королем Генрихом. Со своего места, расположенного намного ниже главного стола, установленного на помосте, Анна наблюдала за тем, как прекрасный лорд заигрывал с ее госпожой. Позже, когда дамы готовили регентшу ко сну, Маргарита была оживлена и рассыпалась в похвалах английскому виконту. – Еще ни разу с момента смерти моего дорогого герцога я не встречала мужчины, к которому почувствовала бы влечение, – призналась она, пока ей расчесывали волосы. – Я больше не ощущаю себя скорбящей леди, но ощущаю себя леди, которой есть на что надеяться. Анна и ее подружки filles d’honneur изумленно переглянулись. Ведь их госпожа поклялась больше никогда не выходить замуж! Маргарита улыбнулась: – Я знаю, о чем вы думаете. Но разве я не могу немного развлечься? Или мне не известны правила этой игры в любовь? Однако тут было нечто большее. Через пару дней поползли слухи, что лорд Лайл сделал предложение. Регентша ничего не ответила, она продолжала улыбаться своей таинственной улыбкой и делать вид, что все это тонко продуманная игра. Такое случается при дворах, говорила она. Но если бы вы увидели ее вместе с лордом Лайлом, то решили бы, что они любовники во всех смыслах. Когда виконт с королем, оба в великолепных пурпурных накидках, вышли на турнирную площадку, Маргарита Австрийская в знак расположения отдала Лайлу свой шарф – встала со своего места на трибуне и привязала его к копью избранника. Потом, прикрыв ладонью рот и тяжело дыша, наблюдала, как раз за разом сшибались противники и ломались копья. Наконец объявили ничью; король и его компаньоны совершили круг почета по турнирной площадке, отвешивая дамам размашистые поклоны. В тот же вечер Анна присутствовала на пышном банкете, который давал король Генрих в честь регентши и эрцгерцога Карла, последний – бедняжка! – выглядел так, будто предпочел бы находиться где-нибудь в другом месте. После того как тетка хмуро глянула на племянника, тот сделал над собой усилие и постарался вступить в общение, но было очевидно: королю Генриху приходилось нелегко. Одну за другой подавали новые перемены блюд – их было, наверное, не меньше сотни, подсчитала Анна, – и еда была отменная. После банкета по сигналу своей госпожи Анна и другие фрейлины встали и вместе с ней исполнили несколько танцев под звуки виел, гобоев и свирелей. Сперва величавый бассе, затем более живой алмейн, под который публика начала притопывать ногами и хлопать в ладоши. Было заметно, что Маргарита демонстрирует свои умения для удовольствия лорда Лайла, но король Генрих вдруг скинул дублет и башмаки и закружил ее, а затем – к вящему удовольствию друзей и всего общества, – сверкая пятками, в одних чулках, заскакал рядом с ней, как олень. После этого Генрих, виконт Лайл и еще несколько лордов и джентльменов на время удалились, а когда вернулись, облаченные в накидки и береты из золотой парчи, то устроили представление с песнями и танцами. Накидки и головные уборы они потом сняли и раздали дамам. Король Генрих лично вручил свой берет без удержу смеявшейся Анне, которая выпила слишком много доброго рейнского вина. – А вы кто, прекрасная девица? – спросил король. Он тоже был навеселе. Это чувствовалось по дыханию. Вблизи король выглядел моложе своих двадцати двух лет, его чистая кожа порозовела и покрылась испариной. Голубые глаза блестели в свете свечей. И все равно Анна не могла постичь, что такого находят в нем женщины. – Ваша милость, я Анна Болейн, – присев в грациозном реверансе, ответила она; это умение Анна отточила до совершенства. – Мой отец, сэр Томас, служит вам в качестве посла. – И под игривым углом водрузила берет на голову поверх стянутых сеточкой из жемчуга волос. – Вам идет, – сделал ей комплимент король. – Не доставите ли мне удовольствие потанцевать с вами, госпожа Анна? Анна снова сделала реверанс, и Генрих повел ее танцевать живой бранль; оба они скакали и выбрасывали в стороны ноги, а придворные взяли их в кольцо и аплодировали. – Браво! – выкрикнула регентша, стоявшая рядом с виконтом Лайлом. – Браво, Гарри! – подхватил ее клич виконт. Музыка приблизилась к финалу, король поклонился, поблагодарил Анну и отвернулся. Позже она видела его танцующим с Этьенеттой де Лабом: Генрих не отрывал взгляда от своей партнерши, потом наклонился и поцеловал ее в губы. Анна нахмурилась. Разве это не запрещено? У Генриха есть жена, королева, зачем ему играть в придворную любовь? Больше Анна ничего не успела подумать, так как ее увлек в новый танец молодой офицер, служивший при дворе регентши, а потом еще многие другие кавалеры. Время близилось к рассвету, когда всей компании подали приправленное пряностями вино и вафли, король распрощался с гостями, и Анна неохотно отправилась в постель. На следующее утро Маргарита встала поздно; во время завтрака, состоявшего из мяса с белым хлебом, она завела со своими дамами разговор о событиях прошлого вечера. Лорд Лайл занимал особое место в ее похвалах празднеству. «Еще бы, – подумала Анна, – она ведь от него не отходила ни на шаг. Похоже, колокола Святого Румольда скоро будут звонить в честь свадьбы!» – Вы составили хорошую пару королю, мадемуазель Анна, – заметила регентша. – Благодарю вас, мадам. Маргарита повернулась к Этьенетте: – А вы, юная леди, перешли границы приличий. Король Генрих – женатый мужчина. Милое личико фрейлины пылало. – Некоторые считают, что любовь и брак – совершенно разные вещи, – изрекла Маргарита Австрийская. – Раз браки часто устраивают по сговору родни, люди ищут любви на стороне. Для замужней дамы допустимо принимать ухаживания рыцаря или поклонника, даже такого, который гораздо ниже ее по статусу; некоторые считают, что и женатому мужчине позволительно оказывать даме знаки внимания как госпоже своего сердца. Но никто не должен заходить дальше комплиментов, танцев, разговоров и, может быть, соединения рук. Я полагаю, это понятно, – строго проговорила она, глядя на Этьенетту. – Да, мадам, – прошептала та. Позже, когда они остались одни в спальне, Этьенетта облегченно вздохнула: – Я могла лишиться места! – Нужно было думать об этом раньше, – отозвалась Анна. – Позволить королю поцеловать себя на глазах у всех – это безумие. На кону ваша репутация, а не его. – Кем вы себя вообразили, госпожой Высокомерие? – прошипела Этьенетта. – Я люблю его, а он любит меня, и что мы делаем, вас не касается. – Он вас любит? Завтра он уедет, вернется в Англию, и вы его больше никогда не увидите. – Знаю. – Этьенетта упала духом, глаза ее наполнились слезами. – Вчера вечером он сказал, что всегда будет меня любить и чтобы я, когда выйду замуж, сообщила ему об этом, и он пришлет мне десять тысяч крон в приданое. – И как вы объясните это своему мужу? – возразила Анна. Этьенетта проигнорировала вопрос: – Мне все равно. Я люблю его. Спорить было бесполезно. Глупая девочка! Как ей заморочили голову.
Той ночью Анне не спалось, еще один полный развлечений день и великолепный прощальный ужин давали себя знать. Вдруг она заметила какую-то фигуру, воровато крадущуюся по спальне во мраке ночи. Боже, кажется, это паж в бело-зеленой ливрее английского короля! Однако в комнате стояла такая тьма, что различить цвета было трудно. Анна пришла к заключению, что нежданного гостя тайком провела в спальню одна из filles d’honneur, но потом дверь открылась, в комнату упал луч лунного света, и в нем Анна ясно разглядела лицо одетой пажом Этьенетты де Лабом. Девушка решительно ускользала из спальни, без сомнения для встречи со своим царственным возлюбленным. Хвала Господу, король скоро уедет! На нем тоже лежит вина. Не к лицу ему соблазнять девиц из хороших семей. Это непростительно, а особенно для того, кто являет себя миру в качестве благородного рыцаря. Возможно ли, чтобы столь бесчестного человека ценили так высоко?
– Лорд Лайл взял у меня кольцо и не отдает, – обращаясь к слугам, заявила регентша. Разговор происходил в ее спальне после очередного банкета. – Я сказала ему, что он вор. Все уставились на нее. – Похоже, прекрасный лорд действительно вознамерился на мне жениться, – продолжила Маргарита необычным для себя вялым тоном. – И король Генрих подталкивает меня к браку, неустанно напоминая о преимуществах замужества. – Но ваше высочество не уверены? – спросила одна из старших по возрасту дам. – Нет, Якуба. – Маргарита опустилась на скамью в изножье кровати. – По правде говоря, я в смятении, не знаю, что делать. Наши посланники уверяют, что по всей Европе поползли слухи об этом браке. Кажется, многие нас уже поженили! Люди даже держат пари. Это ужасно – и стыдно. Анна считала, что ее госпоже стоит выйти за пленительного Брэндона. Они были прекрасной парой, и Маргарита являла все признаки того, что очарована им. Брак положил бы конец слухам. – Что же не позволяет вашему высочеству принять его сватовство? – спросила Якуба, которая была близка со своей повелительницей. – Многие считают, что это не подходящая для меня партия. Говорят, король берет своих дворян с конюшни. Даже Эразм Роттердамский не одобряет этот брак, он написал мне и выразил свое отношение. Кроме того, я не знаю, что скажет мой отец император. Замужество с англичанином может стать поводом для отстранения меня от власти, а я так легко не сдамся. – Но ваше высочество любит лорда Лайла? Маргарита вспыхнула: – Я не знаю. Он мне нравится. В нем столько грации! Мне редко доводилось видеть мужчин, которые могли бы сравниться с ним. Король Генрих торопит меня и предупреждает, что надо решаться быстро. Он боится, как бы отец не заставил меня выйти за другого. Думаю, на самом деле он опасается моего союза с кем-нибудь из врагов Англии. Но я заявила, что отец на такое не пойдет, и пообещала только одно: не выходить замуж в этом году. А лорд Лайл поклялся, что никогда не женится ни на ком, кроме меня, и на всю жизнь останется моим покорным слугой. Может быть, это только игра в любовь? Не стоит соблазняться красивыми словами. Теперь я лягу. Мне о многом нужно подумать.
Генрих Английский вернулся домой, регентша продолжала с теплым чувством говорить о лорде Лайле, а Этьенетта после своих ночных похождений притихла, но осталась невредимой. Следующие несколько месяцев прошли очень приятно – и быстро – во дворцах Мехелена, Лилля и летней резиденции регентши Ла-Вёр неподалеку от Брюсселя. Пересуды о том, выйдет ли она замуж за лорда Лайла, или милорда герцога Саффолка – такой титул он получил от короля по возвращении в Англию, – продолжались. Анна лелеяла надежду, что этот брак состоится, потому что герцог был человек общительный, охочий до забав, а с таким мужчиной у руля жизнь при бургундском дворе могла стать еще более веселой и приятной. К тому же в его окружении было немало достойных внимания молодых людей, которых он мог привезти с собой. Не то чтобы Анна спешила выйти замуж – она была слишком увлечена развлечениями, – но невинный флирт был ей по душе, теперь он занимал весьма значительное место в ее жизни. Анна не желала прийти к такому же финалу, как Этьенетта, отец которой устроил ее брак с богатым шестидесятидвухлетним стариком. Этьенетта плакала по ночам. Анна слышала и ее ночные всхлипы, и бесполезные взывания к регентше, которая выглядела опечаленной, но сказала, что дочь не должна противиться воле отца. Этьенетта взяла перо и бумагу и написала королю Генриху, напоминая о его обещании составить ей приданое. Анна видела, как бедняжка постепенно теряла веру и ходила с опущенной головой: недели шли, а ответа не было. Разговоры о свадьбах постоянно витали в воздухе. Эрцгерцогу Карлу исполнилось четырнадцать, а значит, настала пора его женить. Шесть лет он был помолвлен с сестрой короля Генриха Марией, о которой шла слава, что она красавица. «Много ей будет радости от Карла», – думала Анна. Сам же эрцгерцог выглядел таким счастливым, будто готовились его похороны. Но у племянника регентши, как и у Этьенетты, не было выбора. Невеста скоро пересечет море и явится сюда с неизбежностью судьбы, и он будет принужден исполнить свой долг. Боже, сжалься над бедной принцессой, которой придется терпеть такого мужа!
Они находились в Ла-Вёре, прелестном дворце с башенками, который окружал огромный охотничий парк с озером, наслаждались летним солнцем и вышивали свадебное платье для Этьенетты, когда их постиг удар. Несколько недель Анна слышала толки о размолвке, произошедшей между королем Генрихом и его союзниками – императором и королем Фердинандом. Она придала этому мало значения, гораздо больше ее интересовала подгонка своего гардероба по последней французской моде, обсуждение искусства любви со своей госпожой, изучение новых танцев и оттачивание французского, на котором она теперь изъяснялась почти бегло. До нее не доходил смысл этих разговоров, пока не были остановлены приготовления к свадьбе эрцгерцога. Анна сообразила, что не все идет ладно, когда Изабо спросила регентшу, будет ли у эрцгерцога и его супруги отдельный двор. – Принцесса сюда вообще не приедет, – ответила Маргарита Австрийская, и ее обычно радостное лицо вдруг помрачнело. – Король Генрих расторг помолвку. Две дюжины игл зависли в воздухе, пока придворные дамы и filles d’honneur изумленно переглядывались. – Очевидно, его милость король Английский считает, что союзники не были верны ему и совершили предательство, заключив мир с французами. Он собирается подписать договор с королем Людовиком. Анна возобновила шитье. Вряд ли Маргарита станет думать о ней плохо только из-за того, что она подданная короля, который внезапно превратился в недруга ее отца-императора. К счастью, регентша продолжала относиться к Анне с той же привязанностью и добротой, какие всегда выказывала прежде. Несмотря на разницу в положении и возрасте, они подружились, и эту дружбу Анна ценила почти превыше всего. Но настал день, когда госпожа послала за Анной, чтобы та присоединилась к ней в маленькой галерее с видом на озеро. Маргарита держала в руке письмо. – Мадемуазель Анна, я получила известие от вашего отца. Он прислал двоих джентльменов, которые сопроводят вас домой, в Англию. Домой? В Англию? Этого не может быть! – Нет, мадам! – в ужасе воскликнула Анна. Регентша, конечно же, могла заставить отца понять, что место его дочери здесь, при ее дворе. Но Маргарита уже поднимала руку, чтобы заставить свою фрейлину замолчать. – Дайте мне закончить, – мягко укорила она. – Отец нашел для вас новое место. Принцесса Мария выходит замуж за короля Людовика. Да, вижу, вы шокированы так же, как и я. Еще одну молодую девушку отдают за старика. Увы, но так устроен мир, la petit Болейн! В качестве компенсации за причиненную неприятность восхитительная Мария станет королевой Франции. Вы и ваша сестра будете служить ей. Она попросила прислать вас обеих, и, конечно, ваш отец не мог ей отказать. Что же касается меня, то мне будет очень жаль расставаться с вами. Ваш французский теперь совершенен, и вы приобрели определенный лоск. Отец будет доволен вами, я это знаю. За тем он вас сюда и прислал. Теперь он желает только одного, чтобы вы, когда окажетесь при французском дворе, вели себя достойно, и я не сомневаюсь, вы прекрасно с этим справитесь. Осознать предстоящие перемены было трудно. В первый момент Анна с горечью думала только о том, что ей придется покинуть этот блестящий двор и любимую госпожу. О принцессе Марии она ничего не знала и ехать во Францию не хотела. Регентша с сочувствием смотрела на Анну: – Мне приходилось покидать родину трижды. Меня отправляли во Францию, в Испанию, а потом в Савойю. Французский двор восхитителен. Он славится искусством и культурой. Вам там понравится, я гарантирую. Для вас это прекрасная возможность: ведь вы окажетесь на службе у королевы Франции. Не относитесь к этому с пренебрежением. Кто знает, может быть, когда-нибудь мы с вами еще встретимся, ma petite. Теперь в глазах Маргариты стояли слезы; было ясно, что она нарочно храбрилась, хотела вселить в Анну бодрость, чтобы та собралась с духом и сделала то, чего от нее требовали. – Итак, я напишу вашему отцу, – быстро продолжила регентша, – и сообщу, что его требование будет исполнено. А теперь идите собираться. Вы тоже можете написать сэру Томасу о том, как вы рады, что судьба оказалась столь благосклонной к вам. Шаркая ногами, Анна поплелась в спальню. На пути все напоминало ей о том, что скоро она покинет любимые уголки этого прекрасного дворца и больше не будет любоваться знакомыми пейзажами. Но хуже всего разлука с регентшей. От злости на отца Анне хотелось заплакать. Она не верила, что принцесса Мария интересовалась ею. С какой стати звать к себе человека, которого она ни разу не видела? Нет, отец наверняка похвастался своей дочерью и ее сестрой Марией, хотя одному Небу известно зачем; и принцесса решила назначить их своими фрейлинами. В спальне, к счастью, было пусто, Анна бросилась лицом вниз на кровать и дала волю слезам. Позже, наплакавшись всласть и умыв лицо, она, скрипя зубами, написала отцу. Трудно было сохранять любезность, когда он разрушал ее жизнь. Думать она могла только о неизбежном расставании с регентшей. Нелегко будет удержаться от слез и вести себя с достоинством, как того требовали приличия. Но когда пришло время отъезда, Маргарита Австрийская плакала и никак не могла выпустить Анну из объятий.
Глава 3. 1515 год
В начале января Анна наконец-то прибыла в Париж. Произошло это на неделю позже, чем планировалось. Отсрочка была досадной неприятностью. Анна вернулась в Хивер – дорога была тяжелой – и обнаружила, к своему неудовольствию, что Мария уже давно уехала ко двору. Однако появление младшей Болейн дома было необходимо: ее расцветающая фигура перестала вмещаться в роскошные придворные платья, и мать решила, что какие-то из них требуется перешить, а какие-то – заменить. Леди Элизабет вызвала портного и усадила за работу миссис Орчард, чтобы поскорее обеспечить дочь подходящими для служения королеве Франции нарядами. Подготовка нового гардероба задержала Анну на месяц, потом началась плохая погода; постоянно штормило, что делало невозможным пересечение Английского канала. Пришлось остаться в Хивере на все Рождество. Анна скучала по Бургундии, сердилась из-за того, что сестра развлекается при французском дворе; ее отправили из дома вовремя, и Мария успела поприсутствовать на церемонии брака по доверенности Марии в Гринвиче, ее свадьбе с Людовиком в Абвиле и стать свидетельницей триумфального въезда в Париж новой королевы Франции. Еще Анна скучала по Джорджу. Ни с ним, ни с отцом в Хивере она так и не встретилась. Сэр Томас забрал Джорджа ко двору для участия в свадебных торжествах в надежде, что король сделает мальчика одним из своих пажей. И хотя старшие братья Анны приехали на праздники домой из Пенсхерста и Оксфорда, они обитали в мирах, слишком далеких от мира сестры, чтобы дать ей хоть какое-то утешение. Утром в День святого Стефана, отдернув занавески на окнах, Анна с огромным облегчением увидела, что ветер стих. Теперь осталось только упаковать вещи и отправиться в путь. Сопровождать сестру велели ее брату Хэлу с двумя конюшими из Хивера, которые должны были отвечать за повозку с багажом. И вот наконец она в Париже, в этом прекрасном городе, который, казалось, таил в себе неисчерпаемые возможности. Анна с Хэлом и проводником, которого они наняли довезти их до места, ехали по левому берегу Сены. Перед ними был остров Сите, где они увидели дворец с множеством башенок, устремленную ввысь часовню Сент-Шапель и мощные башни собора Нотр-Дам с окрашенными в разные цвета каменными стенами. Звонили огромные колокола, звук разносился по городу, и его подхватывали колокола других церквей. – Кто-то важный умер, – с мрачным видом заметил Хэл и сдвинул брови. Париж простирался далеко за пределы своих каменных стен, но когда они въехали в Старый город, Анна ощутила удар по всем органам чувств, потому что там было людно, суетно, шумно и ужасно воняло. Она сморщила нос и попыталась дышать ртом, пока они с трудом прокладывали себе путь по улицам, кишевшим народом, который, казалось, был в приподнятом настроении. На перекрестке путники заметили процессию священников в черных сутанах. – Что-то явно происходит, – заявил Хэл. Впереди показались башни Лувра, королевского дворца, но не он был местом назначения. На подъезде к Парижу они получили указание следовать на юг, в замок Турнель, где должен был находиться двор. Анне не терпелось оказаться там. Но когда они прибыли, величественное здание предстало перед ними как будто покинутым, все ставни были закрыты. Хэл подъехал к привратнику, который без дела слонялся у караульни при воротах. – Двор здесь? – спросил старший брат Анны. – Вы разве не слышали? – откликнулся привратник. – Король умер. Двор уехал отсюда. Новость поразила Анну. На лице Хэла отразилось смятение. – А где королева? – спросил он. – Отправилась в уединение в замок Клюни, это там, за рекой. – Привратник показал направление рукой и отвернулся. – Мне очень жаль, сестренка, – сочувственно проговорил Хэл, оборачиваясь к Анне. У нее скрутило живот. – Молюсь, чтобы меня не отправили домой. Вдовой королеве тоже нужны помощницы. Удивляюсь, что могло случиться с королем Людовиком? – Мария, несомненно, нам расскажет, – ответил брат, и Анне вдруг ужасно захотелось увидеться с сестрой.Клюни оказался небольшим средневековым дворцом с модным, классическим для таких зданий декором. Гостей чинно проводили в приемный зал, как будто они прибыли в очень религиозный дом. Впрочем, здесь действительно царила атмосфера благочестия и стояла тишина. Мертвая тишина. Кипучая уличная жизнь, казалось, осталась в каком-то другом мире. Вошла молодая женщина. Анне потребовалась пара мгновений, чтобы узнать свою сестру Марию, красота которой расцвела за те девятнадцать месяцев, что они не виделись. Лицо в форме идеального овала, губы напоминали розовый бутон. Черное платье из дамаста и капор, формой походивший на нимб, очень шли к нежному цвету ее кожи и темным волосам. Мария протянула вперед руки. – Слава Богу, ты здесь! – воскликнула она, когда Хэл ее обнял, потом повернулась к Анне и поцеловала ее на французский манер в обе щеки. – Сестрица, как ты выросла! Превратилась в настоящую леди. Ох, не могу выразить, какое для меня облегчение – видеть вас обоих. Только, Хэл, ты не можешь оставаться здесь долго: сейчас это дом женщин. Ни один мужчина не может приближаться к ее величеству. – Мария состроила скорбную мину. – Королева должна оставаться в уединении сорок дней, пока не станет ясно, что она не enceinte[31] ребенком короля. Это подняло бы здесь милейший переполох, уверяю вас. – Скажи, что случилось? – спросил Хэл. – Король умер в Новый год. Говорят, ее величество извела его, заставляя выделывать всякие чудеса в постели, но это неправда. Он был болен, и она о нем очень заботилась. Правда состоит в том, что он не слушался докторов и ел пищу, которая была нежелательна для его подагры. Это вызвало приступ рвоты, который его и убил. Когда об этом доложили королеве Марии, она упала в обморок. Мы все бросились к ней, чтобы привести в чувство и утешить. Она была просто убита горем. – Так она ждет ребенка? – уточнил Хэл, который унаследовал отцовский интерес к вопросам династического родства. – Пока еще судить рано, но я думаю, нет. – Тогда королем станет кузен Людовика дофин Франциск. – Он уже ведет себя как король, – заметила Мария. – Теперь я понимаю, почему известие о беременности королевы Марии произвело бы переполох, – заметила Анна. Мария опустилась на стул: – Все гораздо сложнее. Дофин получил щелчок по носу, когда король Людовик женился на нашей принцессе, после этого его шансы получить корону стали иллюзорными. Он даже посылал соглядатаев к королевскому брачному ложу, чтобы выведать, способен ли Людовик зачинать детей. Но потом – понимаете, это человек, у которого все мысли вертятся вокруг гульфика, – Франциск начал проявлять неприкрытый интерес к королеве Марии, не заботясь о возможной реакции короля Людовика. Она никак не поощряла его ухаживания. Королева ему не доверяет и не испытывает к нему ни малейшей симпатии, но вы бы слышали, какие поползли слухи. Говорили, что матушка Франциска, мадам Луиза, высказала ему все, что думает. Она так же амбициозна, как и он, и намеревается влиять на управление Францией, будучи матерью короля. – Кажется, он настоящий дьявол! – воскликнула Анна. – Так и есть. Если он услышит, что ты побывал здесь, Хэл, то использует это в своих целях. Ты должен уйти. Мы не смеем компрометировать королеву. Хэл поднялся: – Тогда я покидаю вас, милые сестрицы. Мне надо вернуться домой к началу семестра Хилари[32], хотя я надеялся провести с вами некоторое время. Девушки попрощались с братом. Когда Хэл ушел искать своего коня, Мария повела Анну к королеве Марии. – Предупреждаю, тут сейчас очень мрачно, – сказала она. – Но я не покину эту несчастную леди. Слава Богу, ей позволили оставить при себе своих английских слуг, или, скорее, тех из них, кого не отправили домой после ее приезда во Францию. Анна загрустила. Как ей хотелось вернуться ко двору регентши! Покидать его ради переезда к французскому двору уже было достаточно неприятно, но оказаться в доме, где соблюдают траур, – это во сто крат хуже. – Мое платье! – глянув на свои юбки, вдруг воскликнула Анна. Для представления королеве она надела платье из винно-красного дамаста. – Оно не годится. – Ты можешь переодеться позже, – успокоила Мария. – Я полагаю, у тебя есть черное. Сестра провела Анну через прихожую, открыла дверь и отодвинула в сторону тяжелый занавес. И хотя на улице был разгар дня, в комнате царил полумрак. Освещали ее только мерцающие свечи. Когда глаза Анны привыкли к темноте, она увидела, что окна закрыты плотными, не пропускающими света шторами, а стены и огромная кровать, которая занимала бóльшую часть комнаты, затянуты черной тканью. Ощущение было такое, словно находишься в могиле. На постели лежала призрачная, бледная фигура, облаченная в просторные одежды, белый монашеский траурный плат и такого же цвета шапочку, а вокруг сидели одетые в черное фрейлины и одна дама постарше в очень красивом платье, видимо dame d’honneur, приставленная надзирать за девушками. Дама-призрак, лежавшая на постели, наблюдала, как Анна опустилась в глубоком реверансе. Королева Мария приподнялась на одном локте, рассматривая свою новую фрейлину. Черты лица у вдовствующей правительницы Франции были утонченные, глаза зеленые, губы пухлые и чистая кожа, как у ее брата, короля Генриха; из-под головного убора выбился завиток огненно-рыжих волос. Она выглядела младше своих восемнадцати лет. Королева протянула для поцелуя тонкую, почти как у ребенка, руку. – Вы, должно быть, госпожа Анна Болейн, – сказала она по-английски. – Вижу семейное сходство. – Королева улыбнулась. – Добро пожаловать. Сожалею, что вынуждена принимать вас в такой печальной обстановке. – Сожалею о вашей трагической утрате, ваше величество, – ответила Анна. Королева улыбнулась: – Благодарю вас. Мне было достаточно тяжело перенести кончину моего доброго супруга, а тут еще приходится терпеть это сорокадневное заключение. Как вам нравится мой deuil blanc?[33] У французских королев в обычае носить белый траур. Боже правый, я выгляжу как монахиня! Dame d’honneur смотрела благосклонным взглядом. Очевидно, она не понимала по-английски. – Вашему величеству не позволено носить что-нибудь другое в приватной обстановке? – спросила Анна. Мария захихикала: – Мне нравится ваша дерзость, госпожа Анна! Но я не смею, тем более что за каждым моим шагом тайно следит мадам Луиза. И это выглядело бы неуважением по отношению к моему почившему супругу. – На мгновение королева приняла такой вид, будто вот-вот расплачется. – Король Людовик был очень добр ко мне. Я скучаю по нему. – Тут лицо Марии прояснилось. – Вы будете довольны, ведь здесь находится ваша сестра. Анна кивнула. Это верно, хотя она и знала: пройдет совсем немного времени, и вновь пробудится существовавшая между ними извечная сестринская ревность. Так было всегда. Анна чувствовала на себе взгляд сестры. – Нам посчастливилось вместе служить вашему величеству, – сказала младшая Болейн. – Но не посчастливилось делать это здесь. – Королева Мария вздохнула. – О, время тянется так медленно. Скорее бы прошли эти недели. Анне уже тоже этого хотелось. Тем не менее у нее не было иного выбора, кроме как занять свое место среди других фрейлин и придворных дам и ухаживать за своей новой госпожой. Вскоре Анна обнаружила, что некоторые фрейлины почти одного с ней возраста и отличаются веселым нравом, что сделало жизнь более терпимой. За ними следила dame d’honneur, которую звали мадам д’Омон. Анна узнала, что эта женщина имеет прекрасные связи – раньше она служила благочестивой королеве Жанне, первой жене Людовика, брак с которой он расторг, а супругом мадам д’Омон был один из наиболее близких к королю сеньоров. Трудно было не сравнивать юную королеву Марию с регентшей Маргаритой. Мария казалась игривой девочкой с довольно злым чувством юмора и жизнерадостным характером, но интеллектуальные интересы регентши ей были совершенно чужды. Король Франциск – а именно так он называл себя теперь – приходил повидаться с королевой почти каждый день. Выглядел он ровно так, как представляла себе Анна: высокий, темноволосый, мрачный и сладострастный, с постоянно затеняющей подбородок щетиной. Когда он смотрел на Анну или на любую другую женщину, то как будто раздевал ее взглядом. Глаза у него были похотливые, длинный нос вызывал воспоминания о дьяволе, губы выдавали чувственность. Ни одна женщина, даже самого низкого происхождения, не могла укрыться от его жадного интереса. Анне пришлось стоять и делать довольный вид, когда Франциск приподнял ее лицо за подбородок и сказал, что она очаровательна, а потом опустил взгляд на округлость ее грудей. И все же она вынуждена была себе признаться, что как мужчина он не лишен привлекательности, которая могла сокрушить любую доверчивую женскую душу. Но только не ее! Дамы из окружения королевы без конца обсуждали Франциска, но Мария, как отметила Анна, не упрекала и не останавливала их. Напротив, с озорным удовольствием присоединялась к ним, зная, что мадам д’Омон ее не поймет. – Говорят, он всегда обвешан женщинами, – хихикала леди Элизабет Грей, женщина с блеклыми глазами, сестра маркиза Дорсета, а Флоранс Гастингс заливалась краской. – Он считает распутство таким же спортом, как охота, – вставляла словцо королева. – Говорят, он хвалится своей petite bande[34] куртизанок и тем, что утоляет жажду из многих фонтанов, – смеялась Мария Болейн. – А еще ходят слухи, – с шаловливой усмешкой проговорила Мэри Файнс, – будто у него во дворцах везде понаделаны специальные глазки́ и потайные двери, чтобы подглядывать, как женщины раздеваются и занимаются любовью. Это заявление было встречено взрывом хохота. Анна про себя задалась вопросом: известно ли королеве о том, что Франциск шпионил за ней и Людовиком? Однако Мария проявила интерес к этой теме: – Я читала, что Александр Великий уделял внимание женщинам, когда не занимался государственными делами, но король Франциск занимается делами государства, когда поблизости нет женщин! Последовали новые визг и хохот. – Боже, пожалей его бедную супругу! – Королеву Марию передернуло. – Вы знаете, что в прошлом году он женился на дочери Людовика Клод? Она ему совсем не пара, бедная маленькая хромоножка. В настоящий же момент – в этом никто не сомневался – главный интерес Франциска сосредоточился на юной королеве Марии. Его постоянное внимание к ее здоровью было не слишком хорошо завуалированным способом вызнать то, о чем он не мог, подчиняясь правилам приличия, спросить открыто. Его матушка вела себя столь же скверно: она сваливалась на голову молодой вдове, которая лежала в своей темной спальне, и задавала нацеленные на одно и то же вопросы. Разумеется, сынка и матушку нельзя было винить: ведь от того, как разрешится это важнейшее дело, зависело, насколько велика для Франциска вероятность сохранить вожделенную корону. – Хотелось бы мне посмотреть на его лицо, если бы я сказала, что беременна, – бросила вскользь королева Мария после очередного допроса. Ее озорная натура все больше давала себя знать, и однажды королева не устояла и заявила Франциску, что ей страшно хочется вишен. – А сейчас, к сожалению, не сезон, – пожаловалась она, – так что придется как-то обойтись без них. Но мне в жизни еще ничего так не хотелось. Анна, которая присутствовала при этом разговоре, едва сумела сохранить серьезное лицо, особенно когда заметила, как встревожился Франциск. Впрочем, она еще заметила в его глазах злобный огонек. – Королева зашла слишком далеко, – позже сказала сестре Анна. – Франциск похож на человека, который может быть опасен, если его спровоцируют. – Не думаю, что она понимает, как рискованно злить его, – согласилась старшая Болейн. Анна вздрогнула: – Мы не должны оставлять ее одну ни на миг. Нужно предупредить остальных. Все дамы и мадам д’Омон уговорились между собой, что рядом с королевой всегда будут находиться по крайней мере четверо из них. Франциск не прекращал своих визитов в завешанную черным комнату, хотя прекрасно понимал, что его посещения все более неприятны королеве. – С меня хватит! – кипятилась она, после того как незваный гость стал слишком глубоко вторгаться своими вопросами в ее личную сферу. – Что предпримет ваше высочество? – спросила dame d’honneur. Она явно испытывала неловкость за поведение своего соверена, но боялась его обидеть. – Положить конец этой нелепице, – заявила королева Мария. На следующий день она сама послала за королем Франциском. Он примчался на всех парусах, и Анна стала свидетельницей их встречи. – Сир, – сказала королева, – сорок дней моего уединения скоро закончатся, и я рада сообщить вам, что вы единственный возможный правитель Франции. Злобно-насмешливые глаза Франциска засверкали. Он взял руку Марии и с горячностью поцеловал: – Это самая приятная новость, какую я получал за всю свою жизнь, и она приятна вдвойне не только потому, что делает меня королем, но еще и потому, что означает: дама, которой я бесконечно восхищаюсь, свободна от уз. Мари, – он всегда использовал французскую форму имени королевы, – для вас это не жизнь. Вы прекрасны и созданы для любви. К чему вам спать в этой унылой постели, когда я могу умыкнуть вас отсюда в свою? Анну шокировала наглость Франциска. При дворе регентши такого не потерпели бы ни за что. Глаза королевы округлились от ярости. – Сир, в упоении счастьем вы, очевидно, забыли, что я по рождению принцесса и оплакиваю своего покойного супруга. – Позвольте мне утешить вас, – не отступался Франциск. – Разрешите помочь вам забыть о вашей потере. – Вы очень добры, но я предпочту остаться наедине со своим горем. Но он проигнорировал это замечание: – Я поставлю вас выше всех других дам, чего заслуживают ваши красота и добросердечие. – Франциск даже приложил руку к сердцу. – А как насчет вашей очаровательной супруги, которая вместо меня стала королевой? – Ma chère[35], есть способ это уладить. Корона Франции гораздо лучше смотрится на вашей золотой головке, что мы все уже видели. Клод скорее подходит роль монашенки, чем королевы. – Она любит вас, сир. Она сама уверяла меня в этом. И она станет матерью вашего ребенка. – Мария впадала в панику, это было заметно по резкости ее голоса и напряженной позе. – Папа улаживал такие дела и раньше, – не унимался Франциск. Возмущение Марии, казалось, нимало его не смущало. – Скажите, что я могу надеяться. – Увы, сир, я не соглашусь ни на что, ущемляющее мою честь и честь этой бедной безвинной женщины. А теперь не позволите ли вы мне отдохнуть…
Когда Франциск ушел, неохотно и продолжая, уже в дверях, твердить о своей любви, королева Мария несколько мгновений сдерживалась, а потом залилась слезами ярости. – Как он смеет! – кричала она. – Это невообразимо. Я напишу брату. Буду умолять его прислать за мной. Не знаю, сколько мне удастся продержаться под натиском этого сатира! Принесите перо и бумагу. Благодаря исправной службе Элизабет Грей и Джейн Буршье письмо было тайно передано жившим в Париже друзьям их семейств и отправлено в Англию. За первым последовало второе, потом еще и еще, потому что Франциск не оставлял своих притязаний. Он едва не поселился в завешанной черным комнате королевы Марии. Цитадель должна пасть: он был на это решительно настроен. Королева Мария приняла на себя роль храброй защитницы устоев, и хотя она ничем не поощряла Франциска, а, напротив, неизменно давала ему отпор, в отсутствие чужих людей признавалась своим дамам в опасениях, что победы ей не одержать: как бы там ни было, а он король. Мария измучилась и находилась в постоянном напряжении, много ночей она провела без сна, ярясь на своего назойливого поклонника и оплакивая свою несчастную судьбу. Однако настал день, когда ее терпение лопнуло, что было неизбежно. – Сир, молю вас, оставьте меня в покое! – вспылила Мария. – Я не могу полюбить вас и не имею желания выходить за вас замуж. Анна еще никогда не слышала, чтобы ее госпожа столь откровенно говорила с королем, и это произвело драматический эффект. – Тогда, возможно, вы предпочтете выйти замуж за принца по моему выбору для пользы Франции, – гадким тоном ответил Франциск. Пылкий любовник мигом превратился в опасного врага. Королева ахнула, потом быстро оправилась от потрясения. – Мой брат узнает об этом! – выкрикнула она. – К тому моменту уже может быть поздно, – предупредил Франциск иудалился.
– Он использует меня! – бушевала королева, а фрейлины спешили ее утешить. Анна и Мария переглянулись, потом посмотрели на свою госпожу, которая сидела на кровати и в крайнем расстройстве чувств крутила на пальцах кольца. – Неужели он на такое осмелится? – прошептала Анна. – Он угрожает выдать ее величество замуж, чтобы навредить Англии, в отмщение за отказ принять его предложение, – пробормотала Флоранс. Королева кивнула. – Право подыскивать мне брачных партнеров и выдавать меня замуж принадлежит моему брату королю Генриху, и он дал мне обещание, – загадочным тоном проговорила Мария. – Меня не выдадут замуж ни за какого иноземного принца. Если Франциск сделает это, король Генрих объявит ему войну, я в этом уверена. Анне ненавистна была мысль, что женщин могут насильно выдавать замуж, когда они этого не хотят. Бедную королеву Марию заставили выйти за короля Франции, и теперь его преемник пытается вынудить ее стать супругой кого-то еще. Даже регентша боялась принуждения к браку со стороны своего отца-императора. Это неправильно, что мужчины обладают правом заставлять женщин выходить замуж против их воли. Она никому не позволит поступить так с собой! К счастью, король Генрих воспринял жалобы сестры всерьез. Поползли слухи, что он отправляет посольство в Париж, чтобы вернуть ее домой. Вслед за этой новостью явился и разъяренный король Франциск: – Мадам, я не позволю вашему брату королю выдать вас замуж за кого бы то ни было, враждебного Франции. Мария сверкала на него глазами: – Сир, я вообще не намерена выходить замуж! – Вы лицемерите! – прорычал Франциск. – И эти английские дамы содействуют вашим замыслам. Несомненно, это они переправили ваши письма в Англию. Ну что ж, я заменю ваших дам французскими. Анна испытывала противоречивые чувства. Жизнь во Франции была нудной, но и возвращение в Хивер не сулило ничего интересного, если, конечно, отец не найдет ей другое место при дворе – при любом дворе. Покидать свою госпожу в такой отчаянной ситуации Анне не хотелось, однако казалось, ее отъезд неизбежен. По приказу короля она и остальные дамы были препровождены в покои, расположенные в другом крыле Клюни. Их разместили там в комфорте, но под надзором, пока не будет организован их отъезд в Англию. Многие были возмущены. – Мой брат должен узнать об этом, – фыркнула Элизабет Грей. – И я напишу королю Генриху, а он мой кузен. Он не допустит, чтобы со мной обращались подобным образом. Мэри Файнс и Джейн Буршье пообещали тоже написать своим родственникам. Флоранс Гастингс была намерена упаковать свои вещи и уехать домой немедленно. Анна тревожилась за королеву. – Она в заточении, и мы ничем не можем ей помочь, – сетовала она. Взаперти их продержали недолго. Через несколько дней всех английских дам призвали в покои королевы Марии, и они были потрясены, увидев, что у ее дверей нет стражи. Женщины испытали облегчение, обнаружив, что шторы на окнах в спальне королевы раздвинуты и со стен сняты черные завесы. Теперь их украшали прекрасные гобелены с цветочным орнаментом богатых синих и красных тонов; комната стала выглядеть гораздо более радостной, когда в нее устремился неяркий свет февральского солнца. На месте траурной кровати стоял обтянутый бархатом трон под балдахином с гербом, объединявшим королевские символы Франции и Англии – лилии и леопардов, которые были размещены в противолежащих четвертях щита.
На троне восседала юная королева, все еще облаченная в белый вдовий траур и вуаль. Мария была в боевом настроении. – Приехало посольство, – сообщила она своим дамам. – Я отпустила стражу и французских слуг. Вы возвращаетесь на свои места. И пусть король Франциск жалуется, если посмеет! За меня будут отвечать доверенные лица моего брата. А теперь встаньте вокруг меня. Они скоро будут здесь. – От волнения Мария была точно в лихорадке. Через несколько минут доложили о прибытии послов, и в покои чинно вошли несколько хорошо одетых джентльменов в меховых накидках. Анна уставилась на человека, который возглавлял посольство. Борода лопатой, величественный внешний вид – да это герцог Саффолк! Когда он склонился над рукой королевы, а она потянулась к нему и подняла его, Анна с изумлением отметила, что они обменялись таинственными взглядами. Эти двое хорошо знакомы! И между ними есть что-то, намекавшее на особую близость. Как же так, ведь герцог оказывал знаки внимания регентше? Анна слышала разговоры о том, что Маргарита Австрийская все еще лелеет мысль о браке с ним. Он клялся быть ее слугой навеки! – Леди и джентльмены, я бы хотела побеседовать с милордом Саффолком наедине, – сказала королева, щеки ее ярко горели, оттеняемые батистовой вуалью. Мадам д’Омон вскинула брови, Анна бросила взгляд на сестру – та выразительно округлила глаза. Выйдя в соседнюю комнату, они взялись за вышивание под орлиным взором dame d’honneur; ее суровый лик выдавал все, что она думала о своей юной госпоже: заперлась одна с мужчиной, который даже не был ей родственником. Все молчали, но девушки исподтишка продолжали переглядываться, сообщая друг другу, что они-то прекрасно разобрались во всей этой ситуации. Когда мадам д’Омон удалилась в уборную, все заговорили разом. – О чем только думает ее величество? – прошипела Флоранс Гастингс. – У нее на лице все написано! – Ага, и это было уже давно ясно. – Ты не знала? – спросила Анну Мария. – При английском дворе всем было известно, что принцесса влюблена в герцога. – А в Мехелене всем было известно, что регентша подумывала, не выйти ли за него замуж, – ввернула Анна. – Он завлекал ее! Я видела. – Но как же леди Лайл? – вступила в беседу Мэри Файнс. – Леди Лайл? – эхом отозвалась Анна. – Да, глупышка. Откуда, ты думаешь, он получил свой титул? – Я думала, его даровал ему король. – Анна вскинула голову, разозлившись, что ее назвали глупой. – Нет, – возразила Джейн Буршье. – Его нареченная – виконтесса Лайл в собственном праве, правда, ей всего десять лет. Два года назад король согласился, чтобы лорд Саффолк подписал с ней брачный контракт и использовал ее титул, пока не будет заключен брак. Мария Болейн захихикала: – Но тогда, выходит, у него уже две жены. Анна разинула рот: – Что с ними случилось? – С первой он развелся. Вторая умерла. Теперь он женится на леди Лайл, так что я не знаю, с какой стати он преследует других женщин, не говоря уже о королевских особах. Неужели мужчина может быть настолько вероломным и лживым! Анна покачала головой, жалея регентшу, которую одурачили лестью. Может быть, королеву Марию тоже водят за нос? – Помолвку можно расторгнуть. – Флоранс скривилась. – Но вот что меня беспокоит, так это недостаток у ее величества уважения к обычаям. Анна повернулась к ней: – А я восхищаюсь ею! Посмотрите, что она сегодня сделала – своей властью распустила стражников и дам. Почему бы ей не принять мужчину наедине? Разве все мужчины – животные, которым нельзя доверять? Она была уверена, что герцогу Саффолку доверять нельзя, но даже он не опустится до того, чтобы приставать к королеве. Остальные девушки уставились на Анну. – Может быть, это ей нельзя доверять, – со смешком проговорила Мария и тем сняла напряжение. Анна была готова защищать свое смелое утверждение, но тут вернулась мадам д’Омон, и бесконечное вышивание возобновилось в полной тишине. Через час их снова позвали к королеве. Она была одна. Глаза ее припухли от слез, и вид она имела отрешенный. – Вы все знаете, как домогался меня король Франциск, – начала королева, – и как он грозил выдать меня замуж без моего согласия. Что ж, я уже избрала свое будущее. Прежде чем выйти замуж за короля Людовика, я условилась с лордом Саффолком, что, если мой супруг умрет, мы поженимся – если он сможет освободиться от своей помолвки. Король, брат мой, знал, что я не желаю выходить за Людовика, и обещал, что второго супруга я выберу себе сама. Он знал, кто это будет. И теперь он прислал милорда сюда, дав ему строгий наказ не жениться на мне, даже притом, что теперь он свободен и это может сделать. – Королева с полубезумным видом подняла заплаканное лицо. – Я сказала милорду, что мое положение становится невыносимым. Я побуждала его жениться на мне, не откладывая, но он отказался. Тогда я предупредила, что, если он этого не сделает, я уйду в монастырь. – Мария зарыдала, ее плечи вздрагивали. – И я это сделаю! Дамы ничем не могли ей помочь. Они подавали королеве платки, принесли ей вина, бормотали слова утешения. А потом объявили о приходе герцога Саффолка, и у них было всего несколько мгновений, чтобы привести госпожу в порядок, после чего она шикнула на них, и все удалились. Девушки выскочили за дверь как раз в тот момент, когда герцог собирался войти к королеве, и последнее, что они услышали, были его слова: – Моя сладчайшая леди, я не могу позволить вам это сделать…
Анна стояла с остальными фрейлинами и двумя джентльменами из свиты Саффолка под величественным сводом капеллы в замке Клюни и наблюдала за тем, как королева Мария и ее герцог вступают в брачный союз. Мария продолжала носить белый траур, но сегодня вечером она его снимет ради того, чтобы надеть прекраснейшее платье из черного бархата, отделанного золотой каймой. Священника прислал король Франциск, который прекрасно знал, что этот брак совершается без одобрения Генриха – его даже не известили, – и, без сомнения, ликовал, смакуя мысль о том, как его собрат монарх будет в бессильной ярости метать громы и молнии. Бледный луч мартовского солнца проник в церковь сквозь стекла витража цвета драгоценных камней и омыл молодых нежным светом. Лицо Марии источало чистую радость, а Саффолк смотрел на нее так, будто она единственная женщина в мире. О том, как отреагирует регентша, услышав об этом браке, Анна не смела и думать. Маргарита Австрийская и без того стыдилась слухов о своем возможном замужестве с Саффолком; насколько же ей станет хуже, когда весь христианский мир будет судачить о том, что ей вскружили голову и обманули. А Саффолк? Как может он выглядеть счастливым и довольным собой, когда так подло поступил с другой женщиной? – Это доказывает только одно: женщина может получить желаемое, если она достаточно умна, – сказала Мария Болейн, когда они покинули капеллу и повели королеву переодеваться. – Да, но какой ценой? – встряла Флоранс. – Вот-вот! – страстно закивала Анна, думая о бедной регентше. – Судя по их виду, дело того стоило, – вздохнула Мэри Файнс. – Хотела бы я получить мужа, который так любил бы меня. – Посмотрим, как отнесется к этому король Генрих, – сказала Анна, вспоминая о его попытках склонить регентшу к браку с герцогом.
Из Англии через Английский канал летели громоподобные письма. Лицо королевы, еще недавно разгоряченное любовью, теперь хранило на себе печать тревоги. – Король взбешен известием о моем замужестве, – сообщила она своим дамам. – Он обвиняет милорда в нарушении обещания. Говорит, что снимет с него голову за самонадеянность. – Королева осеклась. Она дрожала. Анна ужаснулась. Саффолк, возможно, и недостаточно знатен, но он друг короля. Она видела их вместе, они были как братья. Разумеется, Генрих не станет приводить в исполнение столь ужасную угрозу. Мария его сестра, и он ее любит. Он не поступит так с ней! Молодых взяли в осаду с двух сторон. Король Франциск – лицемер, который содействовал этому тайному браку, – выражал неудовольствие в связи с тем, что королева повторно вышла замуж неприлично скоро после смерти короля Людовика. Французский двор ходил ходуном из-за этого скандала. По всей Европе сплетники и сплетницы потчевали друг друга слухами. Кардинал Уолси, главный советник и друг короля – по общему мнению, наиболее могущественный после короля человек в Англии, – использовал свои недюжинные дипломатические способности, чтобы усмирить разбушевавшиеся воды. Король Генрих милостиво соизволил смягчиться: он простит заблудшую пару, но нарушители монаршей воли будут выплачивать за свой проступок штраф – частями в течение нескольких лет. Королева ахнула, услышав, о какой сумме идет речь. – Мы всю жизнь проведем в нужде! – воскликнула она. Герцог взял ее руку и поцеловал. – Это будут не зря потраченные деньги, – рыцарственно заявил он, – благодаря им я сохраню свою голову. – Однако голос его звучал так, словно он только что взял в рот что-то горькое. «Женился бы на регентше, и ничего этого бы не было», – подумала Анна. – Мы должны быть благодарны, – добавил он, – его милость обещал устроить для нас вторую свадьбу с приличествующими случаю торжествами в Гринвиче. И мы едем домой, любовь моя. Фрейлины беспокоились, что же станет с ними, так как было очевидно: теперь королева Мария не может оставить при себе их всех. В продолжение нескольких следующих дней кое-кого вызвали домой, к родителям. Анну совсем не радовала перспектива отправляться в Англию с королевой: Мария намекнула, что им с Саффолком придется вести тихую жизнь в деревне. Возвращаться в Хивер ни Анна, ни ее сестра Мария тоже не хотели, поэтому Анна написала отцу, обрисовала двойственность их положения и попросила помощи. Сэр Томас быстро предпринял необходимые действия. Не прошло и двух недель, как королева Мария сообщила сестрам Болейн, что королева Клод оказала им честь и предложила места при своем дворе. Анна хлопнула в ладоши, наслаждаясь неприкрытой завистью своих компаньонок-фрейлин. Хотя она и продолжала скучать по бургундскому двору, но загорелась новыми надеждами. Французский двор! Наконец-то! После долгих недель мрачного уединения в замке Клюни ей не терпелось вернуться к радостям мира. Они с Марией живо упаковали вещи в сундуки под рассказы старшей Болейн о великолепии замка Турнель с его двадцатью молельнями, двенадцатью галереями и прекрасными садами, а также об удивительном Сен-Жерменском дворце неподалеку от Парижа. Были и другие роскошные королевские резиденции, ближе к югу, на реке Луаре; из них Мария слышала только о Блуа, Амбуазе и Ланже. Они смогут надеть свои новые наряды, которые были отложены в дальний угол из-за траура, будут танцевать, встречаться с благородными джентльменами… Король Франциск, несмотря на все свои недостатки, был молодым человеком с большим вкусом к жизни, так что их существование при дворе превратится в череду сплошных удовольствий.
Король Франциск не забыл о знаках вежливости, которых ожидали от монарха, и устроил прощальный ужин для королевы Марии в замке Клюни. Он был совершенно очарователен, могло даже показаться, что по-другому в отношении этой дамы он себя никогда и не вел. После ужина начались танцы, и Анна наблюдала, как Франциск, ослепительно сияющий в наряде из серебряной парчи, вел на танцевальную площадку свою царственную гостью. Королева Клод на ужине не присутствовала, так как ждала ребенка, поэтому герцог Саффолк танцевал с сестрой короля Маргаритой, герцогиней Алансонской, живой, остроумной дамой с длинным, как у всех Валуа, носом и густыми темными курчавыми волосами. Свою сестру Анна замечала в толпе всякий раз с другим мужчиной. Партнеры улыбались друг другу, проплывая мимо нее под шуршание развевающихся юбок. Удивительно, как хорошо они с Марией ладили в эти последние несколько недель: не было вечных раздоров и утомительного соперничества. Возможно, причиной послужила долгая разлука или то, что они вместе оказались в сложной ситуации. Анна пребывала в таком прекрасном расположении духа, что готова была полюбить даже свою сестру, которую обычно терпеть не могла. Около полуночи Анна заметила ее танцующей с королем Франциском. Как неприятно! Нет, она не ревновала – Франциск был последним мужчиной, с которым Анна хотела бы встать в пару, – но слышала о его сладострастии, охоте за женщинами и сама была свидетельницей того, как он посягал на добродетель королевы Марии, а потому надеялась, что и сестра не забудет об этом. Саму Анну приглашали на каждый танец. Юные кавалеры так и роились вокруг нее; вечер пролетел в вихре музыки и смеха. Было уже очень поздно, когда Анна огляделась в поисках сестры и поняла, что той нигде не видно; не попадался на глаза и король. Большинство гостей были пьяны и заняты своими партнерами или разговорами. В воздухе носились запахи пота, остатков еды и пролитого вина. Анну это не волновало, потому что музыканты снова ударили в смычки и перед ней возник с поклоном очередной молодой человек. Только часа в два поутру она увидела короля Франциска, как обычно обходительного и чрезвычайно пьяного. Он сидел в своем роскошном кресле с какой-то пышногрудой красоткой на коленях. Но это была не Мария. Анна напрасно искала взглядом сестру, и в сердце начала заползать тревога. Пойти спать и пропустить такое развлечение – это было не похоже на Марию. Черт бы ее побрал, эту Марию, которая заставляет переживать из-за себя, когда сама Анна наслаждается этой восхитительной ночью! Анна полагала, что нужно пойти и отыскать сестру, но, может быть, она беспокоилась напрасно? Мария старше ее и, конечно, способна сама о себе позаботиться. Пузырь счастья лопнул, когда Анна увидела сестру сидящей на постели в залитой лунным светом спальне и безудержно рыдающей. Анна торопливо подошла к ней, остальные девушки собрались вокруг. Некоторые зажгли свечи, кто-то предложил страдалице носовой платок. – Что случилось? – спросила Анна, чувствуя себя виноватой. Ах, зачем она не позаботилась о сестре раньше! Мария качала головой и продолжала всхлипывать. Выглядела она крайне несчастной. Анна встряхнула ее за плечо: – Скажи мне. – Он… он… – Сестра хватала ртом воздух. – Кто? – крикнула Анна. – Что он сделал? – Король… – Мария разразилась новым потоком слез. Наступила тишина. – Он получает то, что хочет, – произнесла Флоранс тоном, выражавшим отвращение. – Это хорошо известно. Анна обняла сестру за плечи. Сама она тоже дрожала. – Это правда? Мария кивнула. – Он… меня принудил, – прошептала она сквозь слезы. – Повел посмотреть картину. Сказал, это такое непревзойденное произведение искусства. Но… никакой картины там не было. Когда мы вошли в галерею, где она якобы находилась, он обнял меня и начал целовать. Я не знала, что делать. Он король. Я не могла противиться! – Она сглотнула. – Потом он сказал, что нам будет уютнее и безопаснее в другом месте, и затащил меня в какую-то дверь. Это была… спальня. Я пыталась протестовать, но он только засмеялся и сказал, все так говорят, но это ничего не значит. А потом он… он толкнул меня на кровать и… Не спрашивайте, что было дальше. – Мария повесила голову. – Он делал со мной такие вещи, о которых я никогда не слышала. – Это изнасилование! – прошипела Элизабет Грей, сверкая глазами, и остальные девушки пробурчали что-то, выражая согласие. – Какой позор! «Позор мне, – подумала Анна, расстроенная и не способная осознать масштаб произошедшего несчастья. – Если бы я пошла ее искать, то могла бы это предотвратить». – Не представляю, как я появлюсь при дворе, – сквозь слезы причитала Мария, – как буду служить королеве Клод. Я ведь каждый день буду видеть его, я не перенесу этого стыда. Она догадается! – Возгласы Марии перешли в жалобный вой. – Она меня прогонит! Анна легко могла вообразить, какой произойдет скандал, и вся сжалась. Она крепко обнимала Марию и ждала, пока шторм уляжется. Остальные девушки стояли кружком и озабоченно качали головами. Наконец Мария выпрямилась, лицо ее было красным и припухшим от слез, волосы спутались. Она сделала глубокий вдох: – Утром я увижусь с королевой Марией и спрошу, не позволит ли она мне поехать вместе с ней домой. Это могло быть чревато еще большими затруднениями. – Но что скажет отец? – спросила Анна. – Как ты объяснишь ему свой приезд? Он обеспечил тебе одно из самых желанных мест, о каких только может мечтать девушка, а ты, получается, презрела его старания! – Думаешь, я этого хотела? – бросила в ответ Мария. – Я не виновата! Анна знала, окажись она на месте Марии, то отдавила бы королю ногу, или закричала, или дала бы пощечину, но сдержалась и не стала этого говорить. Не хотелось еще больше расстраивать сестру. Злясь за нее, Анна горько размышляла: что бы кто ни говорил, даже просвещенная Кристина Пизанская, мужчины все равно сильнее женщин и способны взять без спросу то, чего им хочется. С ними сладит или грубая сила, или жестокий обман. Поглядите, как Саффолк обошелся с регентшей. А короли вообще ни перед кем не должны держать ответ. – Я понимаю, ты не сможешь служить королеве Клод и смотреть ей в глаза, – произнесла Анна и сама едва не заплакала, – но нужно подумать, что ты скажешь отцу. Мария всхлипнула, сотрясаясь всем телом: – Я не знаю. Сейчас я ничего не могу придумать. Я займусь этим утром. – Нам нужно будет рано встать, чтобы ехать в Сен-Дени, – напомнила ей Анна. – Королеву Марию ждет долгий путь. – Оставь меня! – взвыла Мария и, не раздеваясь, повалилась на постель. При взгляде на сестру, оскверненную и раздавленную, Анну снова охватило чувство вины. Почему она не проявила большего сочувствия по отношению к ней? Правда состояла в том, что Мария временами бывала такой несносной и… глупой. Прежде всего, зачем вообще было идти куда-то с королем? Однако – Анна собралась с духом и встала – это не извиняет отвратительного поведения Франциска. Мария не подняла шума, но это мелочь в сравнении с тем, что сотворил он. Полная раскаяния, Анна наклонилась и начала расшнуровывать платье сестры, потом принесла ее ночную рубашку и помогла улечься в постель. – Наверное, теперь вы понимаете, госпожа Анна, почему женщине не следует оставаться наедине с мужчиной, – гадким тоном проговорила Флоранс.
В шесть их разбудили. Анна чувствовала себя разбитой. Она не спала всю ночь в поисках ответа на вопрос: что делать с Марией? А после того, как в голову пришла сокрушительная мысль, что сестра может оказаться беременной, лежала без сна и терзалась сожалениями, что не вмешалась, переживаниями о будущем Марии и придумывала, как скрыть беременность. О реакции отца она не смела даже гадать. Король Франциск прибыл ровно в восемь утра, чтобы сопровождать королеву Марию в аббатство Сен-Дени, где они попрощаются, и королева с Саффолком отправятся в обратный путь в Англию. Анна не могла смотреть на Франциска, ее переполняла ненависть. Ей так хотелось отхлестать его по щекам – самое меньшее, чего он заслуживал, – но какой от этого прок? Она ощущала собственное бессилие. Было условлено, что Анна с Марией вернутся ко двору вместе со свитой Франциска и будут представлены своей новой госпоже, королеве Клод. Элегантная, в черном бархате и лихо сидящем на голове капоре, из-под которого симпатично выглядывали рыжие пряди, королева Мария обняла сестер и попрощалась с ними. – Я ценю вашу верную службу и благоразумие, – сказала она им. Взволнованная собственным счастьем, она не заметила, что обе девушки были подавлены и с заплаканными глазами. Но тут Мария Болейн подала голос. – Ваше величество, позвольте мне отправиться домой с вами, – взмолилась она. Анна пришла в ужас. Это должно остаться семейной тайной. И так уже слишком много людей знают об их несчастье. Королева нахмурилась: – С чего это? Вы ведь едете ко двору служить королеве Клод. – Мадам, я не могу, – выдавила из себя Мария и заплакала. – Почему, ради всего святого? Разве вы не понимаете, как вам повезло? Мария сглотнула слезы: – Мадам, вы знаете лучше многих, каким настойчивым может быть некий джентльмен. – Голос ее задрожал. – Я не смею остаться здесь, при дворе. Моя репутация будет скомпрометирована. Королева прищурилась. Она все поняла: – Он соблазнил вас? – Нет! – воскликнула Анна, но Мария повесила голову. – Заберите меня домой, ваше величество, – молила она. – Я не могу видеть его после вчерашней ночи. Пожалуйста, не просите объяснений. Поверьте, у меня не было выбора. – А как же отец? – спросила Анна. – Он придет в ярость. – Вы можете довериться мне, я с ним поговорю, – сказала королева неожиданно резким тоном. – Я поручусь за вас, Мария. Если ему и надо злиться на кого-то, так только на этого негодяя. Моя дорогая, мне очень жаль, и я в полнейшем ужасе. Никогда не прощу себе: ведь вы были у меня на службе и так жестоко оскорблены. Мне нужно было проявить больше внимания. – Ваше величество, это вполне понятно, ведь ваш ум был отягощен другими заботами, – вмешалась Анна. – Это был мой долг, – возразила королева. – Госпожа Анна, желаю вам благополучия при французском дворе. После того, что случилось, мне не нужно предупреждать вас о необходимости защищать свою добродетель – самое ценное сокровище, которое у вас есть. – Она грустно улыбнулась, глядя вслед удаляющейся Марии. – Думаю, вы достаточно умны и не нуждаетесь в советах. Вы не позволили бы никакому мужчине использовать вас. Анна сделала реверанс. Нет, она такого не допустит. Ни один мужчина не получит даже шанса. На самом деле она решилась никогда не иметь ничего общего с этими вероломными, опасными, дьявольскими созданиями. В жизни так много других радостей. Она посмотрела вслед удаляющейся сестре. Дай Бог, чтобы королева успела поговорить с отцом раньше, чем он увидит Марию.
Королевский кортеж приготовился к отъезду из Сен-Дени. Анна наскоро попрощалась с Марией. – Если хочешь, чтобы я написала отцу и выступила в твою защиту, я это сделаю, – сказала она, потом понизила голос и добавила: – Твой секрет я не выдам. Молюсь, чтобы не было неприятных последствий. – О, их не может быть, – ответила Мария; теперь она говорила гораздо веселее, чем в Париже. – Мэри Файнс сказала, что женщина, чтобы зачать, должна испытывать удовольствие, а со мной этого совершенно точно не происходило. Анна не была уверена в том, что это правда, но возражать не стала. – Храни тебя Господь! – Она поцеловала Марию. Длинная кавалькада потянулась к северу. Анна проводила ее взглядом, после чего забралась в конные носилки, которые доставят ее в Лувр. Мир снова раскрывался перед ней, и Анна ощущала, что ее переполняет радость; правда, восторг умеряло происшествие с сестрой, которое случилось при том самом дворе, с которым она сама теперь была связана.
Глава 4. 1515–1516 годы
Клод Валуа была почти ребенком, нежная на вид девушка с милым личиком и волнистыми каштановыми волосами. Ее прищуренные глаза все время беспокойно блуждали по сторонам, и она сильно хромала; этот дефект был врожденным. Однако как дочь покойного короля Людовика и наследница герцогства Бретань, она была желанной добычей на королевском рынке брачных партнеров, вот почему будущий король Франциск сделал своей невестой эту бедную девочку. На аудиенцию Клод прибыла с опозданием и подошла к своему трону величаво, насколько это позволяли ее состояние и неровная походка. Платье из темно-синего, как ночное небо, бархата, расшитое французскими лилиями, с распущенной на талии шнуровкой, казалось, придавливало ее к полу, но она не переставала улыбаться и, судя по первому впечатлению, которое сложилось у Анны, обладала мягким характером. – Добро пожаловать, мадемуазель, – произнесла королева, глядя одновременно на и за Анну, пока та отвешивала глубокий реверанс. – Вы можете подняться. Сестра не с вами? Анна была готова к этому вопросу. – Ваше величество, Мария заболела и была вынуждена вернуться домой в Англию. – Она молилась, чтобы Клод проглотила эту ложь. – Грустно слышать это, – сказала королева. – Надеюсь, ничего серьезного. – Мадам, меня заверили, что время и хороший отдых в деревне сделают свое дело. Клод улыбнулась: – Что ж, мадемуазель Анна, я рада нашей встрече, потому что слышала очень хорошие отзывы о вас. Стóит при моем дворе освободиться месту, как тут же поднимается шумиха, но мне понравилось, что о вас говорят, как и моей свекрови мадам Луизе, которая обратила на вас внимание во время визитов к королеве Марии. Она рассказала о ваших достоинствах. – Вы очень добры, ваше величество. Анна знала, что при дворе верховодит мадам Луиза, которая совершенно задвинула в тень Клод, но в манерах юной королевы нельзя было заметить и тени затаенной обиды. – При моем дворе три сотни молодых леди, – тем временем продолжала Клод. – Вы попадете в хорошую компанию. И надеюсь, будете здесь счастливы. На этом Анну отпустили. Одна придворная дама пришла за ней, чтобы отвести в новое жилище – еще одну девичью спальню высоко под крышей, где ей предстояло делить общее пространство с девятнадцатью другими девушками. В теплую погоду тут было душно. Анна сразу начала скучать по Марии. Перспектива оказаться одной при столь многолюдном королевском дворе страшила. Но – и тут Анна вздернула подбородок – она с этим справится. И может быть, среди этих трех сотен молодых дам найдет себе подруг. – Вы будете прислуживать ее величеству, когда вас позовут, – сказала Анне провожатая. – В остальное время вы можете находиться в этой спальне или в часовне королевы. Вам дозволяется также прогуливаться в ее личном саду с другими девушками, но всегда в компании с кем-то. Больше без разрешения никуда ходить нельзя. Это понятно? Анна упала духом. Похоже, обстановка тут еще хуже, чем в Клюни. – Да, мадам, – смиренно ответила она.За первые несколько дней Анна поняла, насколько ее сковывает эта новая жизнь, и совсем было приуныла. Однако поставленные королевой строгие условия в некотором смысле играли ей на руку: Анна обнаружила, что большинство ее новых компаньонок тяготятся ими, и от этого между фрейлинами завязались более тесные отношения. Девушки постоянно придумывали способы, как обойти ограничения, и вскоре Анна с энтузиазмом включилась в эту игру. Многие юные дамы с удовольствием слушали ее рассказы о жизни при бургундском дворе и впадали в тоску, когда она говорила, какой свободой пользовалась там. Долгое время они питались слухами и теперь жаждали узнать, как развивались события в замке Клюни, от человека, который был там и все видел своими глазами. Анна радовалась, что так упорно занималась французским: теперь она говорила бегло и могла спокойно общаться и сплетничать с другими дамами, зная, что они восхищаются ее успехами в языке. Узкий аристократический кружок охотно расширился за счет нового члена, и Анна чувствовала себя в нем как рыба в воде. Королева Клод была добра и привязчива, но за мягкой внешностью скрывалась стальная воля и, как подозревала Анна, глубоко страдающая душа. И неудивительно, если учесть, что Клод была замужем за этим невообразимым развратником. Не секрет, что он развлекался с множеством любовниц, – это было одной из главных тем разговоров среди чувствительных молодых женщин, которыми полнился двор. Однако Клод – настоящая святая – игнорировала сплетни, или, скорее, разговоры, которые внезапно смолкали при ее появлении. Когда король посещал супругу, что случалось нечасто, она была с ним сама сладость, но когда он уходил – обычно очень быстро, – едва могла скрыть печаль. Клод, конечно, знала о постоянных изменах супруга и о том, какой пример распущенности являл он придворным. Свидетельством тому были строгие моральные правила, установленные королевой для своего двора. Ее миссией было защищать своих дам от хищников-мужчин, но в результате жизнь здесь походила на монастырскую. Анне сразу сказали, что она должна следовать примеру королевы, вести себя скромно и соблюдать приличия. Дни ее представляли собой унылый круговорот молитв, исполнения служебных обязанностей, благочестивого чтения и бесконечного шитья. Через неделю она подумала, что сойдет с ума и умрет от досады. Тут и речи быть не могло о любовных играх! Королева почти никогда не покидала своих покоев. Анна узнала, что она не любит двор и не одобряет происходящее там. – Ее милость ездит туда, только когда без этого не обойтись, – сказала одна из девушек, – но предпочла бы провести это время в Амбуазе или Блуа. – Подальше от двора? – встревоженно спросила Анна. – Если король даст согласие, то да. И он обычно соглашается. Разумеется, у него есть на то свои причины. – Это заявление сопровождалось лукавой улыбкой. «Клод нельзя винить, – рассуждала Анна. – В конце концов, какой королеве понравится терпеть унижение, видя, как ее муж демонстрирует публике своих любовниц, или ловя на себе сочувственные, а порой и насмешливые взгляды придворных?» Поглядите-ка на эту несчастную маленькую калеку; неудивительно, что король ходит на сторону! Ощущение у Анны было такое, будто ее посадили в тюрьму, замуровали в роскошных, расписных-раззолоченных покоях королевы; здесь было все, что может понадобиться женщине, но Анну это не радовало. Какой смысл надевать красивые придворные платья, на которые отец потратил столько денег, если их никто не видит?
В июне король повел армию в Италию, где собирался оказать содействие венецианцам против вторгшихся в их владения испанцев. После отъезда монарха со свитой в Лувре воцарились мир и покой. Мадам Луиза взяла на себя обязанности регента, так как Клод была беременна, и по большей части предоставляла маленькую королеву самой себе, делая выбор в пользу более вдохновляющего общества своей дочери Маргариты. Получив возможность свободно отдыхать и потакать своим прихотям, Клод ослабила бдительность и, так как большинство искушений были устранены, дала своим фрейлинам больше свободы. К облегчению Анны, им наконец позволили бродить по прекрасным апартаментам и галереям, любоваться висевшими там удивительными картинами и гулять по волшебным садам. От девушек и дам продолжали требовать регулярного посещения церкви и отказа от чтения романов. Клод считала увлечение любовными историями опасным, способным привести нестойкие юные души к падению, а потому составила список благочестивых трудов, ознакомление с которыми не только допускалось, но и предписывалось. Однако Анна скоро научилась ловко прятать один томик в другом и ухитрялась читать книги, по мнению Клод, довольно скандального толка, которые тайком таскала из королевской библиотеки. Отдадим королеве должное: она понимала, что ее дамам необходимо оттачивать умения, которые дадут им возможность блистать при дворе, когда придет время сопровождать туда госпожу, и позволят привлечь к себе внимание достойных стать мужьями кавалеров. Клод отрабатывала с ними умение держать осанку и прививала хорошие манеры, а также подчеркивала важность умения вести беседу. Анна быстро развивала свои природные склонности и осваивала то, что поможет ей преуспеть при дворе. Она ходила по лестницам вверх-вниз со стопкой книг на голове, совершенствовала искусство делать реверансы, осваивала новые танцевальные движения и училась двигаться так грациозно и плавно, словно у нее не было ног. С предельной ясностью Анна понимала, что дорогие наряды в английском стиле, которыми ее снабдил отец, выглядели совершенно неуместными в Париже, где вырезы носили квадратные, более широкие и отделывали их по краю кантами с вышивкой и драгоценными камнями, да и капоры французских дам имели форму нимбов, а не фронтонов, какие носила мать Анны. Старшие по возрасту дамы неодобрительно прищелкивали языками, видя новомодные головные уборы: для замужней дамы считалось неприличным показывать свои волосы – видеть их должен только муж, но даже добродетельная Клод любила французские капоры, так что критиков заставили поутихнуть.
В Бургундии Анна приобрела два бархатных капора, какие носили бегинки, и теперь применяла на практике свои навыки в рукоделии, переделывая их во французские, которые ей очень шли. Платья она тоже тщательно подгоняла под французскую моду: делала разрезы на внутренних рукавах, с тем чтобы пропустить сквозь них буфы батистовой рубашки, а свисающие рукава подгибала и собирала таким образом, чтобы получались длинные сборчатые манжеты, которые скрывали ненавистный шестой ноготь. Анна всегда добавляла к костюмам какие-нибудь новые, невиданные доселе детали: на лифе появлялись переплетенные ленты и камни из цветного стекла, кайма с выреза платья повторялась на подоле юбки, а лоб украшала серебряная цепочка, которая выглядывала из-под капора. Это давало восхитительный эффект. Хрупкая фигурка Анны постепенно приобретала женственные очертания и имела такие совершенные пропорции, что платья смотрелись на ней великолепно. Другие девушки отдавали ей должное и по прошествии весьма непродолжительного времени начали копировать маленькие новшества, введенные Анной. А еще немного погодя она поняла, что многие женщины, даже высокого ранга, следят за ней, чтобы не пропустить новые веяния в моде. Головокружительное ощущение – задавать тон в одежде при дворе, который был впереди всех в мире, если дело касалось стиля. И Анна почти каждый день придумывала какую-нибудь новую деталь. Летом, когда в Париже стало жарко и душно, Клод начала скучать по своему любимому замку Амбуаз, но приближалось время родов, и она не отважилась пускаться в путешествие. Это был первый ребенок королевы, и она изо дня в день молилась, чтобы родился сын, наследник французского престола, так как салический закон не допускал восшествия на трон Франции женщины. Анна видела, как замужние дамы из свиты покачивали головами за спиной королевы и бормотали, что хрупкое сложение и увечье Клод не предвещают благополучного исхода родов. Однако роды, присутствовать на которых Анне, пребывавшей в девичестве, не позволили, прошли, по общим отзывам, без всяких затруднений. Разочарованием стало появление на свет дочери, но Господь, без сомнения, имел на то свои причины. Младенец родился крошечным, но черты королей династии Валуа были видны с первого взгляда. Девочку окрестили Луизой в качестве комплимента матери ее отца и в память отца Клод короля Людовика. Фрейлины были очарованы малышкой и не упускали случая взять ее на руки или покачать в колыбельке. Анна оставалась равнодушной. Младенцы ее сердце не трогали, хотя она допускала, что все будет по-другому, когда у нее появится собственный ребенок. Но кто знает, когда еще это произойдет? Желания выходить замуж не было. Сама мысль о том, что влечет за собой супружество, казалась Анне невыносимой. Стоило ей подумать об этом, как в голове всплывал образ короля Франциска, набрасывающегося на Марию. От сестры пришло письмо – после долгого молчания. Зная Марию, на иное Анна и не рассчитывала. Сестра не забеременела, и Анна возблагодарила Господа. Увидев дочь, отец, само собой, не обрадовался, но смягчился, прочитав письмо королевы Марии, в котором та в довольно откровенных выражениях объясняла, что честное имя его дочери едва не было скомпрометировано французским королем, но, по милости Божьей, она сохранила его незапятнанным. Сэр Томас проглотил явную ложь. Он даже написал Анне и дал совет держаться подальше от короля. Однако бедная Мария была приговорена томиться в деревне, в Хивере, пока отец энергично занимался поисками для нее супруга.
Листья начали желтеть, колокола Парижа радостным перезвоном возвестили, что король Франциск одержал великую победу при Мариньяно и сделался королем Милана. Он с налета достиг того, за что король Людовик боролся и о чем вел переговоры много лет. Люди обезумели от радости. Повсюду распевали новую песню: «Victoire au noble roi François!»[36] Анна не могла выкинуть ее из головы. Клод в экстазе молилась на коленях, благодаря Господа за Его благословения и за то, что сохранил супруга живым. Мадам Луиза распорядилась устроить празднование для народа. – Мой сын покорил тех, кто склонялся только перед Цезарем! – важно заявила она, раздуваясь от гордости. – Мне предсказывали, что он одержит эту победу. Клод распорядилась, чтобы двор переехал на юг, в Амбуаз. Во время этой поездки длиной в сотню миль Анна начала сознавать, как велика на самом деле Франция и как прекрасна – реки ее разливались широко, поля тянулись, сколько хватало глаз. Королевский поезд приближался к зеленой долине Луары. Анне сказали, что они въезжают в Сад Франции. Это была мирная, плодородная сельская местность с мягкими волнистыми холмами, виноградниками, фруктовыми садами и замками, которые выглядели так, словно сошли со страниц иллюстрированных рукописей; и мимо всего этого широким плавным потоком текла медленно несущая свои воды река. Королевский замок Амбуаз величественно возвышался на берегу Луары и доминировал над городом; его окружал великолепный сад с затейливыми павильонами, ажурными решетками и террасами, на которых были разбиты цветники. Таких дворцов Анна еще не видела. Наиболее осведомленные из ее компаньонок сообщили, что ему уже не одно столетие, но несколько лет назад его перестроили в итальянском стиле. Клод сильно изменилась: стала веселее, беззаботнее и оживленнее – это место она считала своим домом. Королева начала планировать рождественские праздники, каких еще не бывало при дворе, в надежде, что Франциск проведет это время с ней. Он вырос в Амбуазе, и в детстве они с Клод вместе здесь играли. Анна и другие девушки и дамы часами плели венки и гирлянды из вечнозеленых растений, в элегантных каминах ярко горели трескучие поленья, а ковры, расшитые тысячами цветов, защищали обитателей дворца от сквозняков. Однако король не приехал к Рождеству – остался в Милане. «Скоро он будет дома», – стоически заявила Клод и приняла решение не отменять празднования. В январе мадам Луиза явилась в покои королевы и сообщила, что по пути на север Франциск совершит триумфальную поездку через Прованс. – Я собираюсь присоединиться к нему, – объявила она. – Богу известно, как я жажду увидеть сына. – Я тоже поеду, – сказала Клод радостно и без намека на недовольство. Было ясно, что она, жена короля, привыкла играть подчиненную роль при матери своего супруга. – Мы все поедем, вы, я и Маргарита, – подтвердила мадам Луиза, и лицо Клод засияло. Анна тоже пришла в восторг от перспективы поездки на юг. Далеко ли Прованс? Сколько времени они будут туда добираться? На это потребовалось две недели. Глухая зимняя пора,конечно, не лучшее время для путешествий, но, к счастью, погода стояла необыкновенно мягкая, и дороги были сухими. По пути они пересекли плодородные долины Луары, посетили Бурж, Клермон-Ферран, Лион и Гренобль, огибали горы с покрытыми снегом вершинами, ехали по волшебному краю, где до самого горизонта тянулись тронутые морозом виноградники, и наконец достигли зеленого, живописного Прованса, который изобиловал крутыми каменистыми холмами и древними оливковыми рощами. Анна и не представляла, что страна может быть такой многоликой. Южная часть Франции очаровывала и совсем не походила на уже знакомые ей края. По мере того как они продвигались между двумя горными кряжами к Систерону, где должны были встретиться с королем и его войском, восторг Анны все увеличивался. Она заметила, как просияло бесстрастное лицо Клод, когда та завидела вдали Франциска – триумфатора, победителя, обросшего бородой и браво сидевшего на коне. Король выглядел величественнее, чем прежде, и был облечен новой уверенностью в себе. Вот он слез с коня, обнял жену, мать, потом сестру… Нет, ничего не изменилось: Анна, как и прежде, ощущала непреодолимое отвращение. Вместе с другими дамами она проследовала за королем и королевой к мощной цитадели, которая защищала город со своего сторожевого поста высоко в горах. Шедших плотной толпой людей переполняло радостное возбуждение, и Анна не могла дождаться начала пира и танцев. Ощущая зуд в пальцах, она помогала распаковывать вещи своей госпожи, готовила ее к появлению на публике. Потом полетела в спальню, расположенную наверху главной башни, где быстро скинула дорожный костюм, умылась розовой водой и нарядилась в платье из дамаста сливового цвета с черной бархатной оторочкой. Заплетать волосы не стала – пусть струятся по спине, – но перехватила нитями, на которые были нанизаны мелкие, искрящиеся драгоценные камни. Взгляд в зеркало утвердил Анну в мысли, что еще никогда она не выглядела столь привлекательно. Король Франциск ее приметил. – La petite Болейн! Вы сегодня очаровательны, – сказал он, проходя мимо нее по дороге к своему месту на помосте в сопровождении разодетых, как павлины, придворных. За время кампании король прибавил в весе. Анна вспыхнула. Франциск был последним мужчиной, внимание которого она хотела бы привлечь, однако опустила глаза, присела в реверансе и, молясь про себя, чтобы он оставил ее в покое, пробормотала: – Благодарю вас, сир. – Мне приятно видеть здесь всех вас, юные леди, – косясь на Анну, произнес король. – Двор без дам – все равно что год без весны или весна без роз. Он двинулся дальше, и Анна испытала такое облегчение, что у нее едва не подкосились ноги.
Медленно и с большими остановками двор перемещался на север; на всем пути победителя Милана чествовали и прославляли. Лион полюбился Франциску, и он приказал остановиться там на три месяца. Анна сопровождала королеву в поездке к Римскому форуму Траяна, расположенному на высоком холме, откуда открывался вид на весь Лион и место слияния двух великих рек – Роны и Соны. Зрелище было захватывающим. Анна стояла у парапета и любовалась видом, когда почувствовала, что за ней кто-то наблюдает… Он сидел на обвалившейся стене с альбомом для набросков в руках и быстро рисовал. Гривой седых волос, крупными чертами лица и мощным телосложением мужчина напоминал льва. Как-то Анна уже видела этого человека в компании с королем и заинтересовалась, кто он такой. Незнакомец улыбнулся. – Добрый день, сэр, – поздоровалась Анна. Пожилой мужчина поднялся на ноги и поклонился. – Мадонна. Вам нравится моя картина? – проговорил он с сильным акцентом; его французский был ужасен. Никогда еще Анна не видела столь прекрасного и реалистичного рисунка. Глядя на собственный профиль, она даже задержала дыхание. Вот она стоит в подчеркивающем фигуру сером платье с черной отделкой и красном с золотом капоре. Художник отлично ухватил и передал ее черты. Нос немного длинноват, но это не портило общего впечатления. – Вам нравится? – повторил вопрос незнакомец. – У вас – как это говорится – интересное лицо. – Это великолепно! – воскликнула Анна. – Я видела много произведений искусства в Бургундии и здесь, во Франции, но это нечто исключительное. Я тут как живая. – Тогда возьмите себе. – Радостно улыбаясь, мастер опустился на прежнее место. Анна заколебалась: – Себе? О, вы так добры, сэр! Я буду беречь его как сокровище. Вы подпишете? Художник взял кусочек угольного карандаша и нацарапал шифр из трех букв: одна над другой, большая «Д», потом галочка острым углом вниз и косая «Л». – ДВЛ? – удивленно переспросила Анна. – Леонардо да Винчи к вашим услугам, Мадонна.
Глава 5. 1516–1519 годы
– Вы покончили с мужчинами?! Вам пятнадцать! – воскликнула Жанна де Лотрек. Недавно вышедшая замуж, она превозносила радости супружества другим фрейлинам королевы, и Анна, утомившись от этого, поддалась желанию заметить, что не все женщины считают супружество идеальным состоянием. – Мадемуазель Анну называют Ледяной Девой, – пошутила мадам де Ланжеак. Они сидели в саду замка Блуа, наслаждались жарким июльским солнцем и пили лимонный сок. За их спинами на фоне лазурного неба вырисовывался отреставрированный Франциском для супруги, украшенный шпилями и башенками замок. – С меня хватит мужчин! – бросила Анна, внутренне содрогаясь при воспоминании о своей недавней слепой страсти, которая закончилась горьким разочарованием. Ну и сглупила же она – решила, что у джентльмена благородные намерения! На самом деле таковые имелись у очень немногих из них, по крайней мере при этом дворе. Кавалеры в накидках и масках не гнушались перелезать через садовую ограду и подкарауливать в темноте фрейлин королевы, обрушивая на них свои непрошеные знаки внимания. Они оставляли записки с неприличными предложениями и шаловливыми стишками; следуя примеру короля, безнаказанно приставали к каждой приглянувшейся им женщине, причем некоторые наглецы не принимали за отказ простое «нет». Пару раз Анне пришлось наградить подобных джентльменов пощечинами, а одному особенно приставучему нахалу еще и отдавить ногу. Всего неделю назад сидевший рядом на пиру молодой кавалер преподнес ей вино в золотой чаше. Только осушив ее, Анна заметила на дне гравированный рельеф с изображением парочки, наслаждавшейся актом любви. Увидев, как она залилась краской, молодой человек громко загоготал и поделился удачной шуткой с друзьями. Анна же провела остаток вечера в подавленном настроении. Теперь она начала понимать, чем вызвана строгость Клод. – В жизни есть не только мужчины! – во всеуслышание заявила юная бунтарка. Дамы захохотали. – А что может делать женщина вне брака? – спросила одна. – Может учиться, может заниматься творчеством… может быть самой собой, – ответила Анна. – Я могу быть очень творческой, имея мужа, шестьдесят поместий и титул! – с издевкой в голосе заметила другая дама. – Правда, детка, вам нужен мужчина, чтобы быть чем-то в этом мире. Только брак открывает двери для женщин. – Думаю, он закрывает большее дверей, чем открывает, – парировала Анна. Она знала, что за презрение к делам сердечным ее прозвали Ледяной Девой, но время не уменьшало антипатию к мужчинам – на самом деле Анна лишь укреплялась в своем невысоком мнении о них. А сейчас была зла на себя за то, что потеряла голову из-за смазливого подлеца, который ухаживал за ней, но бросил, как только стало ясно, что она не отдастся ему вне уз брака. Она, гордившаяся своей независимостью, вела себя столь глупо, что теперь не могла даже об этом думать. В отместку Анна облачилась в защитный панцирь. Компаньонки-фрейлины относились с подозрением к ее столь радикальным взглядам и острому уму, а самой Анне не нравилось, какой озлобленной она стала. Королева Клод, погруженная в заботы о маленькой дочери, замученная тревогами из-за своего волокиты-мужа и увлеченная филантропическими интересами, казалось, не замечала, как мрачно смотрит на жизнь ее фрейлина. В конце концов, Анна была всего лишь одной из трехсот – с чего бы Клод как-то особенно выделять ее? В последнее время Анна почти убедила себя, что должна расстаться с этим миром и уйти в монастырь. – Я серьезно подумываю о том, чтобы принять постриг, – сообщила она своим компаньонкам, хотя в глубине души знала, что слеплена не из того теста и не годится в монашки. – Вы – монахиня?! – удивленно воскликнула мадам де Ланжеак, а остальные засмеялись. Должно быть, кто-то повторил ее слова, потому что позже, на той же неделе, во время дворцового приема сам король разыскал Анну. Поднимаясь из реверанса, она предусмотрительно опустила глаза. – Мадемуазель Анна, – заговорил Франциск, весело сверкая очами, – среди придворных дам ходит слух, будто вы имеете склонность стать монахиней. Меня бы это весьма опечалило. – Сир, я всерьез задумываюсь о постриге. Надеюсь, вы дадите мне благословение, – ответила она, а про себя подумала: «Пусть это отпугнет его». – Я молюсь, чтобы вы как следует подумали от чего отказываетесь, – сказал король и отошел от этой взбалмошной фрейлины. Разумеется, Анна обо всем хорошенько подумала, и постепенно к ней пришло понимание: она слишком любит жизнь, чтобы замуровать себя в монастыре, а рассматривать возможность таких отчаянных шагов ее заставило нежелание давать мужчинам преимущество над собой.Время от времени Анна получала письма с новостями из дома. Приятно было узнать, что Джорджа отмечают при дворе короля Генриха; он непременно будет иметь там успех, в этом она не сомневалась. Умер граф Ормонд, их прадед. Трудно было печалиться об этом, ведь он был очень древним стариком, да и Анна встречалась с ним крайне редко, так как граф жил в Лондоне и много лет служил при дворе. В тоне отца чувствовалось ликование, когда он сообщал дочери о том, что ее бабушка, леди Маргарет, как наследница почившего Ормонда, получила большое состояние. Но пожилую леди оставил разум, а потому сэр Томас сам будет распоряжаться всем ее имуществом. «Вот радость-то для родителя!» – подумала Анна. Письма отца всегда были полны рассказами о достигнутых успехах и почестях, которыми его осыпали. Когда в начале 1516 года сэра Томаса выбрали одним из четырех джентльменов, которые во время обряда крещения в Гринвичском дворце понесут полог над новорожденной дочерью короля Генриха принцессой Марией, он, по собственному признанию, едва не запрыгал от радости. «Это действительно высочайшая честь», – писал сэр Томас и при этом наверняка раздувался от гордости. На следующий год в Англию пришла ужасная напасть, именуемая потницей. Эта болезнь убивала людей за считаные часы. Каждое письмо, приходившее из Англии, Анна открывала трясущимися руками. «Только не мать, не милый Джордж, не самые дорогие мне люди!» – горячо молилась она. Но умерли не они. Сперва заболел ее старший брат Томас; его похоронили в Пенсхерсте, потому что герцог Бекингем считал небезопасным перевозить тело покойного в Хивер. Потом пришла весть о том, что Хэл тоже не устоял против болезни и скончался в разоренном лихорадкой Оксфорде. Опечаленная Анна с трудом могла представить, каким ударом стала для отца потеря двоих старших сыновей. В письмах он проявлял стоицизм и задерживался больше на страданиях матери, чем на своих, но сэр Томас вообще никогда не показывал своих эмоций. Анна оплакивала братьев, но она не была с ними близка и в глубине души не могла удержаться от радости: ведь теперь Джордж стал наследником. Милостью Божьей он и Мария теперь спасены.
Годом позже отец приехал к французскому двору в качестве постоянного посланника. Анна не виделась с ним уже три года и знала, что сильно изменилась за это время. Что подумает о ней отец теперь? Одобрит ли то, какой она стала? Анна с трепетом ожидала отцовского вердикта. Когда они встретились в так называемой галерее тыкв замка Турнель, потолок которой был отделан плитками с геральдическими знаками, а стены расписаны изображениями зеленых тыкв, Анна была поражена тем, как постарел отец. Выражение лица сэра Томаса было, как обычно, задиристым, но щеки и лоб иссекли печальные морщины, а каштановые волосы поседели. Отец непривычно тепло приветствовал дочь и одобрительно оглядел с головы до ног. – Во Франции ты стала такой утонченной, Анна, – заметил он, и это прозвучало похвалой. Сэр Томас привез ей изданную Кекстоном книгу «Смерть Артура» и, конечно же, домашние новости: Джордж отмечен вниманием короля, который хвалил его ученость, а мать и Мария так и живут в Хивере, что не стало для Анны сюрпризом. – Вы нашли Марии мужа? – спросила она. – Пока нет, – ответил отец, прогуливаясь с дочерью по галерее. К счастью, Мария, как старшая дочь, должна выйти замуж первой. Анна испытала облегчение, поняв, что ей дарована отсрочка. Тем не менее ее волновало, какую судьбу уготовит отец ей самой, раз уж он увидел свою дочь благовоспитанной, добродетельной и в высшей степени пригодной к браку особой – чего он от нее и добивался. – Как дела у его милости короля? – спросила она, быстро меняя тему. – Лучше и быть не может, – ответил отец. – Весь в надеждах на сына. Королева Екатерина опять на сносях. Это уже шестой ребенок. Умерли все, кроме принцессы Марии. – Сэр Томас вздохнул. – Я буду за нее молиться, – сказала Анна. После этого она несколько раз виделась с отцом, когда это позволяли ее обязанности, и с каждым разом чувствовала себя в его обществе все более свободно. После долгой разлуки они как будто смотрели друг на друга новыми глазами; складывалось впечатление, что отец обращается с ней как с ровней.
Сэр Томас не ошибался, когда говорил, что Анна стала утонченной. Ее воображение больше не поражали ни блеск французского двора, ни экстравагантные дворцы, построенные Франциском, ни откровенный придворный флирт и царящая здесь распущенность, которые раньше шокировали. Если бы ей теперь поднесли ту золотую чашу с эротической гравировкой, она бы просто улыбнулась. Анна привыкла к виду непристойных книг, где изображались мужчины и женщины, ублажающие друг друга в разных позах. При дворе они были расхожей монетой. И когда однажды некий блудливый юнец сообщил ей, что королевский податель милостыни почувствовал себя обязанным извиниться перед любовницей за то, что удовлетворил ее всего двенадцать раз за ночь, она лишь пожала плечами и приняла скучающий вид. Ни одному мужчине не удастся испытать сладострастного трепета при виде ее бурной реакции на такие скабрезности. Анна знала: говорили, что редкая женщина покидает этот двор целомудренной, но про нее такого никто не скажет! Недостатка в поклонниках она не испытывала. Все ухажеры твердили Анне, что среди всех милейших женщин при дворе не найдется более чистой и очаровательной, а поет она, как второй Орфей. Анна гордилась собой, чувствуя, что в этих похвалах есть доля правды. Когда она играла на арфе, лютне или трехструнной скрипке, люди останавливались послушать. А как она танцевала! Пылавшие надеждой кавалеры так и вились вокруг нее, желая встать с ней в пару, и она скользила по полу с бесконечной грацией и живостью, изобретая на ходу множество новых фигур и шагов. Видя, как при дворе копируют придуманные ею танцы и туалеты, слыша, как их называют в ее честь, Анна трепетала от восторга. В восемнадцать лет она уже не была той наивной девочкой, какой приехала к французскому двору. Зеркало демонстрировало ей темноволосую девушку с высокими скулами и заостренным подбородком, такую же, как на портрете мастера Леонардо, который она с гордостью повесила над кроватью. И тем не менее в ее лице появилось особое выражение умудренности опытом: Анна узнала, как женщина может использовать глаза, приглашая кавалера к беседе или намекая на тайную страсть, и поняла, что взгляды эти обладают могущественной силой: они подчиняют мужчин и заставляют их хранить верность избраннице. Анна хорошо научилась играть в любовные игры, умела составить компанию, остроумно поддержать разговор; она использовала на полную мощь свои чары, но при этом держала поклонников на расстоянии вытянутой руки. Защитный панцирь никуда не делся. Она никогда не позволит мужчине себя одурачить. А сердце свое доверит лишь тому, за кого выйдет замуж, но, даст Бог, это произойдет не скоро. Ну а пока будет наслаждаться флиртом, насмешками, остроумными спорами за стаканом вина да игрой со своими обожателями в карты и кости по высоким ставкам. Состязаться с ними, играя в шары или в догонялки, тоже не запрещалось. Отцу не в чем ее упрекнуть. Не всегда Анна находилась при дворе. Клод по-прежнему предпочитала мирное уединение Амбуаза и Блуа и удалялась туда при любой возможности. Теперь у нее был сын, долгожданный дофин Франциск, и дочь Шарлотта, а вот старшая дочь, малютка Луиза, умерла в два года, и ее горько оплакивали все придворные дамы. Анна предпочла бы проводить при дворе больше времени, но в Амбуазе имелись свои удовольствия. Король предоставил своему любимцу мастеру Леонардо дом и мастерскую. Кло-Люсе располагался неподалеку от Амбуаза, и когда великий муж находился в своей резиденции, а это случалось все чаще, так как он слабел и терял крепость, то с удовольствием принимал у себя королеву со свитой и показывал дамам свои многочисленные любопытные изобретения. Не было ничего, чем бы он не интересовался: мастер Леонардо был не просто художник, но человек науки, анатом и инженер, неистощимый на выдумку изобретатель. Анна с удивлением слушала его рассказы о машине, которая способна переносить человека по воздуху. – Это невозможно! – воскликнула она. Леонардо улыбнулся. В его голубых глазах под кустистыми бровями светилась извечная мудрость. – Время докажет, что вы ошибаетесь, Мадонна. – Он подмигнул. Мастер писал картину для короля. Это был портрет итальянки с загадочным, устремленным в сторону взглядом и легкой полуулыбкой на устах. Леонардо работал над ним многие месяцы, постоянно исправляя или меняя отдельные детали. – Она прекрасна, – говорила ему Анна. – Как ее имя? – спрашивала Изабо. – Это Мона Лиза Джерардини, прекрасная дама, с которой я был знаком в Италии, – отвечал Леонардо. – Но картина еще не закончена. Однажды теплым майским днем 1519 года Анна и три другие дамы пошли из замка Амбуаз в Кло-Люсе в надежде, что Леонардо покажет им еще какие-нибудь механизмы. Однако у дверей их встретил слуга, который скорбно посмотрел на женщин и сказал: – Увы, дамы, мастер Леонардо вчера умер на руках у самого короля. – И по его грубой щеке сползла одинокая слеза. – Нет! – воскликнула пораженная в самое сердце Анна. Она знала, что обитатель Кло-Люсе слабел день ото дня, но убедила себя в том, что человек, наделенный таким гением, будет жить вечно. Она привязалась к нему и думала, что он тоже ей симпатизирует. Этот старик выделялся из обычного круга людей, и мир больше не увидит такого, как он. Осознав это, Анна заплакала.
Глава 6. 1520 год
В числе других фрейлин Анна стояла за спиной королевы на широком поле в долине Ардра. Мадемуазель Болейн была роскошно одета по французской моде в черное бархатное платье с низким вырезом, объемными разрезными рукавами и нитями жемчуга, пересекавшими лиф от одного плеча до другого. На голове у нее красовался оплетенный золотыми нитями французский капор, с которого свисала черная вуаль. Поза ее была скромной, но, стоя на ветру и заправляя под капор выбившийся наружу локон, она стреляла по сторонам жадным взглядом, впитывая в себя густую толпу придворных и ряды вооруженных мужчин, которые выстроились в ожидании на фоне разноцветных шелковых павильонов. Они ждали уже час, а известия о приближении английского короля так и не поступало. Король Франциск находился в своем шатре. Он не собирался выезжать на коне, пока не покажется его собрат-монарх. Глаза Анны были прикованы к горизонту. Вот наконец появились признаки приближения королевского поезда. Она видела флаги и слышала звуки труб, топот марширующих людей и стук копыт. Казалось, наступает армия. Теперь король Франциск со своей великолепной свитой двинулся навстречу через поле, которое выровняли специально для того, чтобы ни один монарх не возвышался над другим. Золотая парча ослепительно блестела, драгоценные камни сверкали на солнце, лошади под дорогими попонами фыркали. Два короля приподняли свои головные уборы и поприветствовали друг друга, не сходя с седел, потом спешились и обнялись. Анна увидела, что Генрих Английский раздался вширь и стал солидным мужчиной. Она наблюдала, как он смеется и обменивается любезностями с Франциском, удивляясь про себя, как удивлялась семь лет назад: почему люди превозносят его красоту, хотя на самом деле, за исключением благородного профиля, он был вполне заурядным на вид мужчиной с волосами песочного цвета и красным лицом. Приветствия завершились, два суверена проследовали в роскошный парчовый шатер Франциска, и Анна пошла туда же за королевой Клод. Увидев испанскую супругу Генриха, королеву Екатерину, Анна была удивлена: эта женщина выглядела гораздо старше своего мужа, и никакая игра воображения не могла сделать из нее золотоволосую красавицу, слава о которой долгое время эхом разносилась по королевским дворам Европы. Разумеется, потеря стольких детей наложила отпечаток на ее расплывшуюся фигуру и грустное лицо. К тому же, будучи испанкой, она едва ли могла выглядеть счастливой, когда ее обязали любезничать с французами, врагами ее родной страны. Но вот король Франциск целует ей руку, оказывает все положенные почести, а в свите королевы Екатерины – кто это там? Мария! Сестра! Она встретилась взглядом с Анной и улыбнулась. Мария выглядела счастливой, и Анна предположила, что брак пошел ей на пользу. Она вышла замуж в феврале; ее супруг, Уильям Кэри, был важным человеком, приобрел влияние при дворе короля Генриха – кузен самого короля, не меньше! Отец спешно поехал домой на свадьбу, а как же иначе, ведь она состоялась в Королевской капелле в Гринвиче, и на ней присутствовали король с королевой. Анна осталась во Франции, она не хотела присутствовать на бракосочетании сестры, а то вдруг отец вспомнит о наличии у него еще одной готовой к браку дочери. Позже у нее еще будет время пообщаться с Марией и обменяться придворными сплетнями, а сейчас огромная сияющая толпа двинулась к банкетному шатру. Анна заметила среди гостей свою бывшую госпожу – королеву Марию. Она шла рука об руку с супругом герцогом Саффолком и лучилась от счастья. А потом и саму Анну увлек за собой людской поток.Эту встречу в верхах называли Полем золотой парчи, потому что место, где ее устроили, было окружено кольцом из шелковых шатров, сверкавших, как отполированное золото. Внутри стены их были завешаны чудесными тканями из Арраса, и каждый участник события облачился в костюм, на который, вероятно, ушло много ярдов самой яркой и блестящей материи. Немногие гости были одеты роскошнее дам, сопровождавших трех королев: Клод, Екатерину и Марию. Анна подумала, что английские платья, хотя и дорогие, выглядели менее подходящими к случаю, чем французские. По прошествии нескольких дней ее позабавило, как соотечественницы начали быстро перенимать элегантные французские фасоны. Несомненно, многие дамы допоздна не ложились спать, самозабвенно работая иглой. Короли подписали договор о вечной дружбе, и настало время предаваться развлечениям. Семнадцать дней прошли в пирах, банкетах, турнирах и прочих забавах. Но скрытое соперничество между двумя дворами было очевидно всем. Отец Анны был здесь, он отвечал за некоторые приготовления к встрече королей. Мать находилась при нем. Она крепко прижала к себе дочь, когда они свиделись. – Не могу поверить, как же ты повзрослела! – воскликнула она. – Ты теперь настоящая леди! У Анны защемило сердце, когда она заметила, как постарела мать и как она печальна: скорбь об умерших сыновьях не оставляла ее. А вот Джорджем и его успехами при дворе леди Элизабет не могла нахвалиться. Встреча с отцом вышла очень краткой, но сэр Томас успел сказать Анне, что при случае хочет кое-что обсудить с ней. Сохрани Господи, только бы речь не зашла о браке! Сестру Анна отыскала в одной из палаток стоявших неподалеку лагерем торговцев. Здесь продавали всевозможные сласти, и Мария совершала покупки в компании с девушкой, имевшей раскосые глаза, презрительно усмехавшиеся полные губы и выступающий вперед решительный подбородок. Увидев сестру, Мария заулыбалась, и они обнялись. – Поздравляю с замужеством, – сказала Анна. – Я слышала, на свадьбе присутствовал сам король. – Да, нам была оказана высокая честь, – с легким самодовольством ответила Мария. – Анна, позволь представить тебе Джейн Паркер, дочь лорда Морли. – Она повернулась к своей спутнице, лицо которой изменилось благодаря приятной улыбке. – Вы тоже в свите королевы Екатерины? – спросила Анна. – Да, в качестве фрейлины, – ответила Джейн Паркер. Они обменялись несколькими учтивыми фразами, после чего разговор истощился. – Вам с сестрой, наверное, о многом нужно поговорить, – сказала Джейн. – Увидимся позже, Мария. – И она удалилась. Анна и Мария уселись на солнышке и стали с аппетитом уплетать булочки, запивая их вином, которое текло из позолоченного фонтанчика, устроенного перед Английским дворцом. Это было великолепное, покрытое сусальным золотом временное сооружение из дерева и холста. – Как тебе нравится замужняя жизнь? – спросила Анна. Позже этим вечером они должны были увидеть на турнире Уильяма Кэри. – Я довольна, – ответила Мария. Она выглядела холеной и благодушной. По тому, как она улыбалась, было ясно: муж ее обожает. И тем не менее Мария имела какой-то настороженный вид. – Не ожидала, что снова окажусь во Франции, – сказала она, – особенно вместе с Уиллом. Разумеется, Мария боялась столкнуться со своим соблазнителем, королем Франциском, да и Уилл мог услышать какие-нибудь сплетни о них. Анна взяла сестру за руку – это было с ее стороны редкое выражение привязанности. – Едва ли ты встретишься лицом к лицу с королем среди этих тысяч людей, – заверила она Марию. – К тому же об этом происшествии все давно позабыли. Я ни разу не слышала, чтобы при дворе кто-нибудь вспоминал о нем. Мария слабо улыбнулась. Ей не терпелось сменить тему. – Надо и тебе, Анна, найти супруга, раз я уже замужем. И снова вспыхнула извечная вражда: Мария хотела напомнить сестре о своем первенстве – она ведь старшая. – Я не тороплюсь, – беспечно отозвалась Анна. – Слишком занята, наслаждаюсь жизнью. – Надеешься заманить в ловушку какого-нибудь богатого француза и оставить нас навсегда? – спросила Мария. – Этого хочет отец, и у меня есть несколько поклонников, но я намерена выйти замуж по любви. – Ну, на это надеяться глупо! Отец никогда такого не допустит. Но скажи по секрету, у тебя кто-нибудь есть? Анна засмеялась: – Никого, уверяю тебя. Я жду своего принца на боевом скакуне. Мария немного помолчала. – Вообще-то, у отца есть кое-кто на примете. Анна резко обернулась и впилась взглядом в лицо сестры. Ей было давно знакомо это мерзкое, ликующее выражение. Мария знала что-то такое, о чем Анна не имела понятия, и упивалась своим превосходством. – Графство Ормонд, которое принадлежало прадеду, отошло к нашему отдаленному родственнику Пирсу Батлеру, – сказала она Анне, – но бабушка, как наследница прадеда, оспорила это – вернее говоря, это сделали ее адвокаты, – и так как отец приехал из Франции на мою свадьбу, то, разумеется, решительно поддержал ее требование. – Тогда она наверняка преуспеет. Отец теперь стал важной персоной – личным советником Генриха и ревизором королевского двора. – Анне не терпелось, чтобы Мария добралась до сути. – Но какое отношение это имеет ко мне? Сестра хитро улыбнулась: – Отец хочет разрешить спор, выдав тебя замуж за сына Пирса Батлера Джеймса. В таком случае ты станешь графиней Ормонд и отцовский род унаследует титул. Но условием ставится, что графство получит Джеймс, а не Пирс. И ты будешь жить в Ирландии, – радостно добавила Мария. Нет! Никогда! Она откажется. Пусть попробуют заставить ее силой, тогда увидят, что им придется усмирять дикую кошку! Отец должен был спросить ее как наиболее заинтересованного человека. – Ты встречалась с этим Джеймсом Батлером? – кипя от ярости, спросила Анна. – Видела при дворе. Он один из молодых дворян, которые служат у кардинала Уолси, довольно привлекательный внешне. Может быть, он даже здесь, в свите его высокопреосвященства. Отец говорит, кардинал высокого мнения об этом молодом человеке, и я слышала, как король хвалил его. Теперь я часто вижу короля, потому что я жена одного из его джентльменов… – Покажи мне этого господина. Но сейчас я должна увидеться с отцом, – перебила Анна и умчалась прочь. Почти бегом она понеслась по забитым людьми, увешанным гобеленами павильонам, по расстеленным на земле турецким коврам и наконец увидела отца и деда Норфолка. Они разговаривали с дородным крупнолицым мужчиной в красном шелковом одеянии и круглой шапочке и с большим нагрудным крестом, инкрустированным бриллиантами и рубинами. Великий кардинал Уолси собственной персоной! Отец сразу заметил Анну: – Подойди, Анна. Милорд кардинал, позвольте представить вам мою дочь, будущее которой мы с вами только что обсуждали. Едва сдерживая ярость, Анна сделала реверанс. – Прелестна, прелестна, – пробормотал кардинал, но было ясно, что сосредоточен он на разговоре. Она была слишком незначительной персоной, чтобы он ее по-настоящему заметил. – Мы говорили о тебе, и вот ты здесь. Подойди и поцелуй своего старого деда, дитя. – (Норфолк всегда любил внучку.) – Я догадываюсь, что вы обсуждали мой брак с Джеймсом Батлером, – сказала ему Анна. – Мне сообщила об этом Мария. – Она сердито глянула на отца. – У вас есть причины для радости, госпожа Анна, – сообщил Уолси, – если король согласится, это будет хороший брак и для вас, и для вашей семьи. – А король согласится, милорд? – спросила Анна. – Я дам ему совет. Он ведь, скажем прямо, расположен к таким вещам. Отец и дед засияли улыбками. Анна понимала, что ее обошли. Больше сказать было нечего. У нее упало сердце. Если король велит, она должна будет выйти за Джеймса Батлера.
– Вон он, – сказал Уилл Кэри. Ему уже помогли освободиться от турнирных доспехов, но одержанная победа еще горячила кровь. Анне начинал все больше нравиться этот ее зять. Он был душевным и остроумным человеком, к тому же имел доброе сердце и, несмотря на все свои амбиции, явно восхищался Марией. – Вон он, там, этот Джеймс Батлер. Анна поглядела на другую сторону турнирной площадки, где на трибуне сидел кардинал Уолси в окружении своей свиты. Слева от него стоял коренастый молодой человек примерно одного с ней возраста; темноволосый, с челкой и довольно привлекательный внешне, – по крайней мере, так казалось издали. – Могло быть гораздо хуже, – заметила Мария. – Да, но я не люблю его и не хочу ехать в Ирландию, – возразила Анна. Ей было досадно, что Марии замужество обеспечило место при дворе, а ей самой, похоже, предстоит ссылка в страну трясин и дикарей – так говорили все, – к тому же с человеком, которого она совершенно не знает. И вообще, она хотела остаться при французском дворе. – Мне нужно вернуться к королеве Клод, – сказала Анна и быстро ушла, не желая, чтобы Мария и Уилл заметили, как она расстроена.
На следующий день состоялся еще один турнир, который почтили своим присутствием три королевы. Каждая расположилась на отдельном, увешанном гобеленами помосте, под дорогим, расшитым жемчугом балдахином. Анна в тяжелом платье из кремового атласа сидела за спиной королевы вместе с другими filles d’honneur. Они оживленно щебетали, тогда как Анна обдумывала невеселую перспективу покинуть Францию ради нежеланного брака. На ристалище выехали два короля во главе длинных колонн рыцарей. Джеймса Батлера среди участников турнира не было, зато был Уилл Кэри – он ехал на коне рядом с невероятно привлекательным мужчиной, имевшим коротко подстриженные золотисто-коричневые волосы, чувственные черты лица и большие голубые глаза. Анна смотрела на него как зачарованная. Она даже имени его не знала, но не могла отвести от молодого человека взгляда. Никогда еще внешность мужчины не оказывала на нее такого сильного воздействия. Уилл и прекрасный рыцарь показали себя с наилучшей стороны, и Анна заметила, что последний на хорошем счету у короля, так как Генрих, который сам часто выходил победителем на турнирах, похлопал рыцаря по спине, когда они выезжали с площадки после поединка. В тот вечер состоялся пир в честь победителей, и у Анны появилась возможность спросить у сестры, кто был тот благородный рыцарь. Она решила заставить его обратить на себя внимание. – Тот, что выезжал вместе с Уиллом? Сэр Генри Норрис. Один из джентльменов короля, Генрих его очень любит. Только что женился на Мэри Файнс, – помнишь, она была с нами в замке Клюни? Счастливица, счастливица Мэри Файнс! – Я помню, – удалось выдавить из себя Анне. – Я… Он показался мне знакомым, но я ошиблась.
На следующий день пиров не было, поэтому Клод ужинала с Франциском в Ардрском замке. Анна, вся в переживаниях из-за сэра Генри Норриса и Мэри Файнс, на еду смотреть не могла и была не в настроении составлять компанию фрейлинам в их вечных играх, а потому удалилась в личную часовню королевы. Там, стоя на коленях, она роптала на Господа за то, что Он поманил ее прекрасным будущим, которым она никогда не сможет насладиться; за то, что предначертал ей нежеланный брак и лишение всех привычных радостей. Неужели для этого Господь даровал ей жизнь? Если так, зачем Он создал ее достойной более славной судьбы, чем та, что ей уготована? Для чего позволил увидеть отблеск настоящей любви, а потом лишил всякой возможности испытать ее? Пока коленопреклоненная Анна заливалась слезами, на ее плечо неожиданно опустилась чья-то рука. Девушка испуганно подняла взгляд и уставилась в озабоченное лицо и темно-лиловые глаза мадам Маргариты, герцогини Алансонской, сестры короля Франциска и его точной копии. – Что случилось, мадемуазель Анна? – спросила Маргарита. Эта женщина славилась своей ученостью, душевной теплотой и добросердечием. Анна с трудом поднялась на ноги и сделала реверанс: – Мадам, я плачу, потому что мой отец изо всех сил старается выдать меня замуж за человека, которого я не смогу полюбить и который увезет меня в Ирландию, чтобы я жила там с одними змеями. Маргарита посмотрела на нее с сочувствием: – Увы, такова участь женщин – их брачной судьбой распоряжаются мужчины. Меня тоже выдали за человека, которого я не могла полюбить, над которым люди смеются за невежество. Называют его болваном, шутом и еще того хуже. Все это было сделано ради выгоды короля Людовика. И все же милорд добр. В конце концов наш брак сложился не так уж плохо. – Но, мадам, разве вам не хочется большего? – выпалила Анна, прежде чем вспомнила, что разговаривает с сестрой короля. Лицо Маргариты помрачнело. – Нет, не хочется, – резко ответила она, и Анна с изумлением увидела на глазах у герцогини слезы. Сразу вспомнились разговоры о неестественной близости герцогини с ее братом-королем, в которые Анна никогда не верила. Теперь же она вдруг задумалась. – Будьте верны себе, мадемуазель, – сказала Маргарита. – Вы можете отказаться от этого брака. – Я намерена это сделать, – заверила ее Анна. – Но, боюсь, отец проигнорирует меня, и только. – Стойте на своем, ma chère. Никогда не позволяйте мужчинам, даже своему отцу, использовать вас ради собственной выгоды. Такой совет недавно дала одна французская принцесса своей дочери. Она даже написала об этом книгу. Понимаете, женщины могут быть сильными, если проявят волю. Помните королеву Изабеллу Кастильскую? Она правила страной наравне со своим мужем и водила в бой армию. Вместе они изгнали мавров из Испании. Пример Изабеллы доказывает, что женщины способны не уступать мужчинам, когда сосредоточат на этом все свои усилия. Просто нас не учат думать о себе в таком плане и не позволяют нам подвергать сомнению свое подчиненное положение. Прямота Маргариты вывела Анну из состояния уныния, она перестала оплакивать свою горькую участь. Перед ней стояла женщина с таким же складом ума, как у нее самой. – Меня заинтриговали слова вашего высочества. Они напоминают труды Кристины Пизанской, которые я читала, когда жила при дворе в Бургундии. Мы много говорили с регентшей Маргаритой о статусе женщин в мире. Мы, как женский пол, должны быть сильнее, нам нужно более полно использовать свои способности. – Действительно! – Лицо Маргариты засветилось от удивления. – Мадемуазель, я под впечатлением. Регентша известна своими просвещенными взглядами. Как приятно найти человека, который их разделяет. Ma chère, вы должны вдохновиться храбростью Кристины Пизанской и настойчиво противиться нежеланному замужеству. В основе брака лежит взаимное удовольствие, а если вас принуждают… – К величайшему изумлению Анны, герцогиня разрыдалась, упала на колени и закрыла лицо ладонями. – Мадам! Что случилось? – закричала Анна. – Я посмела жаловаться на свою участь, когда вы так несчастны. – Она встала на колени рядом с Маргаритой и молча ждала, пока плечи плачущей женщины не перестали вздрагивать, а ее дыхание не замедлилось. – Простите меня, – всхлипывала герцогиня. – Я не должна обременять вас своими проблемами, вам и своих хватает. Но я сойду с ума, если не поговорю с кем-нибудь. Могу я вам доверять? – Конечно, мадам, клянусь своей жизнью! Маргарита помолчала. Было ясно, что ей трудно подобрать слова. – Друг моего брата-короля, человек, которым я восхищалась и которому доверяла… Нет, я не могу этого произнести. Слезы вновь потоком полились из ее глаз, и какое-то время герцогиня не могла говорить. – Мадам? – прошептала Анна. Маргарита повернула к ней заплаканное лицо и выкрикнула: – Он надругался надо мной! Анна втянула в себя воздух и задрожала. Слово «надругался» слишком глубоко задело ее. Вот очередное доказательство, если они еще необходимы, того, что мужчины способны превращаться в скотов. Каким нужно быть негодяем, чтобы воспользоваться слабостью родной сестры своего суверена, женщины, известной добродетелью! – Кто этот человек? – спросила Анна, задыхаясь от ярости. – Я не могу вам сказать и никому другому тоже. Иначе я рискую быть обвиненной в клевете. – И вы не пожаловались королю? – Сомневаюсь, что он стал бы меня слушать всерьез. Он искренне любит меня, но в такое никогда не поверит. Понимаете, когда мы были юны, этот человек уже покушался на мою честь. Я пожаловалась брату, но этот негодяй все истово отрицал. Брат ему поверил. – Маргарита почти выплевывала из себя эти слова. – Он мужчина, разумеется, а все мужчины смотрят на женщин как на наследниц праматери Евы, которая ввела Адама в искушение. Ясно, что это я сама должна была завлекать того мужчину, хотя бы непредумышленно! – Тон Маргариты стал едким. – И Франциск подумает так же, если я пожалуюсь ему во второй раз. В Анне снова жарко разгорелся гнев. Как может хоть одна женщина найти справедливость в случае, когда против нее совершается самое подлое из преступлений, если сам король Франции не только совершает их безнаказанно, но и отказывается верить, что его собственная сестра пала жертвой такого же постыдного посягательства? Как смеет он так пренебрежительно относиться к женщинам?! – Мадам, я полагаю, в Англии изнасилование сестры короля расценивается как преступление, за которое карают смертью. Маргарита встала: – Возможно, но мне от этого мало проку. Во Франции высшая ценность – это честь мужчин, даже таких, у которых ее вовсе нет! Мадемуазель, не говорите об этом никому. Вы ничего не слышали. Простите, что переложила на ваши плечи свою ношу. И скажите отцу, что вам не нравится планируемый им брак. Будьте тверды!
На следующий день к Анне подошел паж в ливрее герцогини Маргариты. Она находилась среди фрейлин королевы, которые наблюдали за тем, как рыцари упражняются на площадке, готовясь к очередному турниру. – Мадемуазель, мадам герцогиня просит, чтобы вы посетили ее, – сказал паж и повел Анну в Ардрский замок, где располагались апартаменты Маргариты. Герцогиня с убранными под сеточку, игриво прикрытыми чепцом волосами, одетая в платье из коричневого бархата с глубоким вырезом лифа и широкими разрезными рукавами, ждала Анну в залитой солнцем и полной дам комнате. При появлении гостьи хозяйка гостиной отложила книгу. – Мадемуазель Анна! – воскликнула она, приветственно протягивая вперед руки. Держалась герцогиня превосходно. От вчерашних страданий не осталось и следа. Очевидно, об этом происшествии следовало забыть, и точка. – Ma chère! – Маргарита улыбнулась, поднимая Анну из реверанса. – У меня есть для вас предложение. Королева согласилась, и если вы хотите, то можете покинуть ее двор и служить мне, так как, я думаю, мы с вами очень близко сошлись. Мгновение, будучи не в силах поверить своей удаче, Анна не могла отвечать. Ей предлагали избавление от удушающей рутины и строгостей двора королевы Клод. Это даст бесконечные возможности для интеллектуального развития, к тому же она получит твердого защитника, вздумай отец принуждать ее к браку с Джеймсом Батлером, и останется при дворе, где Маргарита занимала прочное место. Болван-муж, очевидно, так и не преуспел в попытках заявить свои права и увезти супругу в родовые владения. Анна сделал вдох, чтобы взять под контроль разбушевавшиеся от восторга чувства. – Мадам, для меня будет большой честью служить вам, – сказала она и снова сделала реверанс. – Значит, решено. Пусть служанка соберет ваши вещи.
Это было все равно что вернуться ко двору регентши. Анна упивалась интеллектуальной атмосферой двора Маргариты, который разместился в шелковых павильонах, украшенных лилиями и красными лентами Алансонов наярко-синем фоне. Герцогиня любила вести долгие умные разговоры, и Анне это нравилось. Удивляло и радовало, что ее снова поощряли писать стихи и обсуждать религиозные вопросы. К тому же здесь открыто дискутировалась тема о роли женщин в обществе, и это было лучше всего. – Вопрос состоит в том, – сказала однажды вечером Маргарита, когда вместе с дамами засиделась допоздна после очередного обильного банкета, – являемся ли мы, женщины, по сути своей добродетельными, или же мы, как считают моралисты, гиперсексуальные последовательницы Сатаны, главная функция которых – склонять мужчин к греху? – Мы от природы добродетельны, – подала голос одна из юных дам, – но мужчины не могут смотреть на нас в таком свете. – Они нас боятся, вот отчего это. – Анна улыбнулась и отложила в сторону вышивание, чтобы получше сконцентрироваться на беседе. – Очень проницательное замечание! Вот почему они хотят контролировать нас, – продолжила Маргарита. – Но мы можем поставить их в тупик своей предусмотрительностью. Именно это сделало великой королеву Изабеллу, и та же черта позволяет регентше Маргарите столь мудро управлять страной. Благоразумие и предусмотрительность – вот источники всех добродетелей. Аристотель высказал эту мысль много столетий назад. Сейчас мы наслаждаемся результатами правления добродетельной женщины. Мы покоряем мужчин интеллектом, в мягкости наша сила. Анна трепетала от восторга, слыша такие слова герцогини. – Это новое учение, – продолжала Маргарита, – полученное от древних ученых Греции и Рима, открыло нам глаза на то, какой властью обладали женщины в античные времена. Посмотрите на Клеопатру. Она была седьмой королевой, известной под таким именем. Это учит нас: мы рождены не только для подчинения мужчинам. Наша плоть, возможно, и слаба, хотя те, кто производил на свет детей, могут не согласиться с этим, но наши сердца и наши умы сильны. Я утверждаю, что мы способны быть под стать любому мужчине. – Браво! – воскликнула Анна, и несколько юных дам зааплодировали. – Обсуждался вопрос, – снова заговорила Маргарита, – подавляют ли мужчины женщин по естественному праву или потому, что хотят удержать власть и статус. – Мой отец утверждает, что женщины подчинены мужчинам, потому что Бог первым создал мужчину, мужчина сильнее, а потому более важен, – вступила в разговор одна фрейлина. Маргарита улыбнулась: – Ах, но, может быть, это Ева была обманута, а не Адам. И если вы рассудите здраво, то женщины с самого начала были значительнее мужчин. Адам означает «земля», а имя Ева – «жизнь». Мужчина был создан из праха, а женщина из гораздо более чистого материала. Божье Творение стало более совершенным, когда он лепил спутницу Адаму. Поэтому мы должны чествовать величие женщин. – Вы думаете, эти идеи могут получить широкое распространение? – спросила Анна. – Они обсуждаются по всему христианскому миру, особенно в Италии, – ответила Маргарита. – А происходящее в Италии часто влияет на весь остальной мир. Изменения наступят, не сомневайтесь, и именно мы, женщины, обладающие властью и положением в обществе, введем их в силу. Так что нам следует продолжать борьбу.
Вооруженная новым сознанием своей значительности, Анна воспротивилась отцовской воле. – Я не хочу выходить замуж за Джеймса Батлера, – заявила она. – Я чувствую, что можно найти для меня лучшую партию. И вам, сэр, этот брак принесет мало пользы. Да, я стану графиней, но какой от этого прок, если я буду запрятана в глухие леса Ирландии? Разве вы для этого давали мне образование? Отец нахмурился: – Я сохраню в семье графство Ормонд. – В семье Батлер. Но к Болейнам, которым оно принадлежит по праву, графство не вернется. Отец снова сдвинул брови, разглядывая Анну, будто его дочь внезапно превратилась в какого-то опасного зверя и его нужно засадить в клетку. – Отличная мысль, – сказал он после продолжительного молчания. – Ты хочешь выставить меня дураком в глазах короля и кардинала? Твой дед и я спрашивали короля, не возражает ли он против этого брака, и что же, теперь мы должны сказать, что изменили свое мнение? – Неужели это так ужасно? – спросила его Анна. – Полагаю, король Генрих меняет свои мнения всякий раз, когда того требует политика, и кардинал тоже. Вы можете сказать, что еще раз обдумали дело и решили, что это не лучший вариант. Скажите, что хотите вернуть графство себе. Это будет гораздо более разумно, сэр. – Анна подумала, что сказанное прозвучит не так оскорбительно, если она добавит «сэр». К ее удивлению, отец теперь смотрел на нее как будто с уважением. Она поняла, что, вероятно, задела чувствительную струну. Сэр Томас хотел оставить графство Ормонд за собой. – Я подумаю об этом, – наконец произнес он. – Слава Богу, завтра эта встреча королей закончится! Она обошлась Генриху в гигантскую сумму – хватило бы уплатить выкуп за короля, – а доказала только одно: эти два монарха всей душой ненавидят друг друга. Если получится обсудить дело с твоим дедом, я это сделаю. Улучить момент для встречи с кардиналом будет непросто. А теперь запомни мои слова, Анна: если я решу, что брак состоится, и король его одобрит, то так и будет. Но я принял твои слова во внимание и буду искать наилучший выход. Анна оставила отца с легким сердцем. Разумеется, решение прекратить переговоры о браке должно остаться за ним; и намека не должно быть на то, что это она на него повлияла. Но она была уверена, что отец сделает нужные ей выводы.
Наконец этот великий маскарад подошел к финалу. Кардинал Уолси отслужил большую мессу на открытом воздухе перед обоими королевскими дворами, состоялся прощальный пир, отгремел великолепный фейерверк, и встреча королей закончилась. Все гадали, останутся ли короли друзьями, ведь прощальные слова монархи произнесли достаточно тепло. После чего широко раскинувшийся лагерь был свернут – свиты Франциска и Генриха упаковали вещи и отправились восвояси. Анна ехала в Париж с двором Маргариты. Она надеялась, что у отца будут для нее хорошие новости, прежде чем они попрощаются, однако, когда пришло время расставания, сэр Томас сообщил, что кардинал Уолси был слишком занят и повидаться с ним не удалось, поэтому вопрос о ее браке придется отложить до возвращения в Англию. – Но вы думаете, все будет хорошо? – спросила Анна. – Все будет зависеть от слова короля, – ответил отец. – Но вы сделаете это для меня? – Я еще размышляю, – сказал сэр Томас. Он никогда не признал бы поражения.
Глава 7. 1522 год
На службе у мадам Маргариты скучать не приходилось. Кроме искрящих остроумием бесед и увлекательных споров, которые велись в роскошных покоях герцогини, имелась еще масса занятий, в которые можно было погрузиться с большим удовольствием. Анне невероятно нравилась ее новая госпожа: Маргарита с напором выражала вроде бы давно устоявшиеся мнения, однако за внешней решительностью таилась неуверенность в себе, а за умением ответить хлестко скрывалась ранимая и чувствительная натура. Анна поняла, насколько предана герцогиня брату; ее любовь к Франциску была сильна, может быть, даже с избытком, вот почему люди неверно судили об этом ее чувстве. Казалось непостижимым, что Маргарита просто обожала человека, который, по ее собственному признанию, и пальцем не пошевелил, чтобы отомстить за унижение собственной сестры. Однако Анна ее понимала: она тоже простила бы Джорджа, если бы оказалась в подобной ситуации, хотя ее брат не проявил бы такого бездушия. Переписка с Джорджем не прекращалась. Ему исполнилось девятнадцать, он стал настоящим мужчиной, что было трудно себе представить, и ждал скорого продвижения по службе. Благодаря услужливости и влиянию отца он наверняка его получит. По Джорджу Анна скучала. Размышляла, какой он теперь, сильно ли изменился, однако в письмах брат оставался таким, как прежде. И надеялась, что когда-нибудь он приедет в Париж навестить сестру. Теперь у Анны появилось свободное время, и на досуге она со страстью предавалась своей любви к литературе и поэзии. Маргарита с удовольствием читала своим дамам написанные Анной стихи, пьесы, пикантные короткие рассказы и побуждала фрейлин подражать компаньонке. Узнав, что герцогиня покровительствует ученым-гуманистам и является большой почитательницей Эразма Роттердамского, Анна прониклась к Маргарите еще бо́льшим почтением. – Он переводит Писание, и это прекрасно! – восхищалась герцогиня. – Он подает пример отваги. Как я уже много раз говорила вам, леди, Церковь сильно нуждается в реформах. Анна жадно внимала. Если такие образованные и мудрые женщины, как регентша и эрцгерцогиня Маргарита, придерживаются подобных взглядов, значит к ним нужно относиться с уважением. – Церковь продажна и развращена! – заявляла Маргарита. – Нужно тщательнее изучать Библию и вернуться к чистым доктринам ранних христиан. Нам необходимы евангелисты, которые распространят новое слово. Анна подала голос: – Мадам, жадное духовенство побуждает людей покупать спасение и продает индульгенции. Церковь, которая допускает это, должна быть реформирована. Как могут князья этой Церкви – увы, даже сам папа – оправдывать накопление богатств и великолепие, когда должны во всем подражать нашему Господу, а Он был скромным плотником? Маргарита одобрительно улыбнулась: – В ваших словах заключена великая правда, мадемуазель. Дамы, мы вместе должны изменить мир!В письмах к Джорджу Анна поделилась с ним своими взглядами на реформы и обнаружила, что брат придерживается того же мнения. Возможно, людей, утративших иллюзии относительно Церкви, больше, чем она думала? Анна размышляла, стоит ли рискнуть и поделиться своими соображениями с отцом. Он писал ей редко. Больше года держал дочь в тревожном ожидании решения, состоится ее брак или нет. Потом, когда Анна уже едва не лишилась рассудка от этой томительной неизвестности и начала в отчаянии бросать взгляды на каждого молодого придворного, который мог бы сойти за более достойную пару, чем Джеймс Батлер, она получила худшую из возможных новостей. Кардинал передал отцу: король настаивает на том, чтобы брак состоялся. Смяв письмо и швырнув его на пол, Анна накинулась с яростными упреками на короля Генриха. Как мог он дать согласие на разрушение ее будущего? Как смеет обращаться с ней будто с вещью, которой вправе распоряжаться по своей прихоти? Однако Англия и Франция снова находились на грани войны. Может быть, Джеймс Батлер пересечет Канал, чтобы сражаться за короля, и сложит голову на поле брани? Может, убьют самого Генриха или он настолько увлечется военными действиями, что забудет о ее замужестве. А может быть, ей стоит поторопиться – взять дело в свои руки и выбрать себе супруга самостоятельно? В поклонниках у нее недостатка не было. Анна впала в отчаяние и, как обычно, решила посоветоваться с Маргаритой: – Мадам, если вы одобрите партию для меня, тогда мой отец и король Генрих должны будут согласиться с этим выбором. Маргарита покачала головой: – Увы, я не могу. Вы английская подданная, Анна, хотя во всем остальном вы одна из нас. И… Я все равно собиралась с вами говорить. Ma chère, мне очень жаль, но вы должны нас покинуть. Враждебность между королями, о которой остается только сожалеть, нарастает. Ваш отец написал мне в самых вежливых и примирительных выражениях. Очевидно, английским подданным, проживающим во Франции, рекомендовано вернуться домой по возможности скорее. Ваши родители считают, что вам не стоит задерживаться здесь дольше. Уже во второй раз английская политика вынуждала Анну покидать место, где она была счастлива. Это жестоко, жестоко! – Нет, мадам! – запротестовала она. – Я не могу покинуть Францию! Мне здесь очень нравится. Прошу вас, напишите моему отцу! Скажите ему, что велите мне остаться. Он вас послушается! На лице Маргариты появилась печаль. – Увы, я не могу. Если вы останетесь, то попадете в сложную ситуацию. Вы должны уехать. Хотя мне хотелось бы, чтобы было иначе, правда. Спорить дальше не имело смысла. Поборов слезы, Анна пошла укладывать вещи. Находясь при французском дворе, она обзавелась множеством платьев, так что ее багаж был огромный. Отец устроил так, чтобы ее сопровождала обратно в Англию группа торговцев из Кента, которые покидали Париж вместе со своими женами. – Будьте сильной, – пожелала Маргарита Анне. – И оставайтесь верны себе. Попрощаться с Анной пришел даже король Франциск. – Вы хорошо служили моей супруге и моей сестре, – сказал он. – Я благодарен. Кажется странным, что вы уезжаете домой и что эта война разлучает друзей. Желаю вам всего хорошего. Возможно, когда-нибудь вы вернетесь во Францию. Вам здесь всегда будут рады. Анна сделала реверанс. Франциск был единственным, по кому она не соскучится.
После просторных дворцов Парижа и замков Луары Хивер, освещенный неярким февральским солнцем, показался маленьким и очень провинциальным. Но тут был Джордж. Он перебежал подъемный мост, чтобы снять с коня и приветствовать сестру: – Анна! – О мой дорогой Джордж! Как приятно видеть тебя! – Она не могла отвести взгляда от этого высокого бородатого незнакомца. Ее взрослый брат был вылитым Адонисом – прекрасен лицом, мускулист, элегантен. – Ты стала настоящей француженкой! – воскликнул он, кружа Анну и восхищаясь ее платьем. Тут из ворот гейтхауса вышла мать: – Добро пожаловать домой! Входи, входи, поешь чего-нибудь. Ты, наверное, устала после долгой дороги. Она крепко обняла дочь и отправила конюхов заниматься повозкой с багажом и лошадьми. А тем временем миссис Орчард поспешила заключить в объятия и прижать к своей пышной груди бывшую воспитанницу. Так странно было оказаться дома после девяти лет отсутствия. Слыша вокруг себя английскую речь, Анна поняла, что теперь говорит на родном языке с французским акцентом. Слуги – простой кентский люд – глазели на ее одежду. Разумеется, на взгляд жителей деревни, привыкших к строгим английским фасонам, костюм Анны выглядел экзотично. – Твой отец при дворе, – сообщила мать, проводя дочь в гостиную, которая теперь казалась маленькой и старомодной, – но он прислал изумительные новости. Он обеспечил тебе место фрейлины при дворе королевы Екатерины. Ты должна как можно скорее отправиться в Гринвич. – Это прекрасная новость! – воскликнула Анна. – А меня прислали сопровождать тебя, – сказал Джордж, когда они уселись за полированный дубовый стол и были поданы вино и булочки. Анну снова поразила красота брата. Неудивительно, что горничные кокетничали с ним. Назначение к английскому двору стало некоторой компенсацией за отставку от французского, даже если служить придется печальной королеве-испанке. Перспектива остаться скучать в Хивере после стольких волшебных лет, проведенных во Франции, ужасала Анну, она с трудом могла вынести мысль об этом. И как хорошо будет проводить время с Джорджем! Она чувствовала себя обделенной, столько лет они провели в разлуке. – А какая она, королева Екатерина? – спросила Анна. – Она очаровательна и очень добра, – сказала мать. – Это весьма благочестивая леди и хорошо относится к своим слугам. Конечно, она пережила тяжелые утраты. Родила шестерых детей, а выжила одна только принцесса Мария. Королева души в ней не чает, как вы можете догадаться. Но королю нужен наследник, который вступит на престол вслед за ним, а признаков новой беременности у королевы Екатерины нет уже почти четыре года. – А почему наследницей не может стать принцесса Мария? – озадаченно спросила Анна. – Потому что она женщина, дорогая сестрица, – ответил Джордж, наливая себе еще вина. – Женщины не подходят для управления государством, большинство из них слишком чувствительные, слабые создания. – С криком: – Помогите! – он пригнул голову, когда Анна схватила подушку и запустила в брата. – Ты без нужды провоцируешь ее, дорогой мой, – заметила мать. – А как насчет Изабеллы Испанской? – накинулась на Джорджа Анна. – Как насчет регентши Маргариты? Обе они мудрые правительницы и успешно справляются с властью. Ты отстал от времени, братец. Приведи хоть одну вескую причину, почему женщины не могут управлять. – Они кидаются подушками, – со смехом ответил Джордж, и Анна его стукнула. – Ну-ка прекратите, вы оба! – приказала мать. – Нам много чего нужно обсудить. Анна, мне надо знать, достаточно ли у тебя вещей, чтобы прибыть ко двору. Есть у тебя подходящие платья белого или черного цвета? Никакие другие расцветки не допустимы для дам королевы.
Времени скучать по Франции не было. Только успела Анна приехать домой, как уже снова собиралась в путь. Вскоре ее вещи были аккуратно уложены в сундуки, и брат с сестрой отправились в Гринвич, оставляя позади мать, которая задумчиво махала им вслед с подъемного моста. Растянувшийся вдоль берега Темзы дворец из красного кирпича с многочисленными башенками напомнил Анне дворцы регентши. Это была явная их имитация, здание строили для развлечения и напоказ. Надо всем возвышался мощный донжон, в котором размещались королевские апартаменты, вокруг раскинулись прекрасные сады. – Здесь родился король, – сказал Джордж, когда они въехали на конюшенный двор. – Он любит это место. Галереи и комнаты внутри дворца были светлыми благодаря высоким эркерам, из которых открывался вид на реку. Окрашенный в желтый цвет потолок в главном зале соответствовал остальному яркому декору, казавшемуся слишком пестрым и безвкусным для глаза, который привык к утонченной, классической размеренности интерьеров французских королевских дворцов. Однако стены украшали прекрасные гобелены и впечатляющие красотой фрески. Все гостиные были обставлены изысканной мебелью, а на устланных тростником полах лежали дорогие турецкие ковры. Джордж провел Анну вверх по внутренней лестнице донжона к двери апартаментов королевы, где она назвала свое имя стражнику, и о ее приходе было объявлено. – Удачи! – шепнул брат и удалился. Анна осталась одна.
Королева Екатерина подняла взгляд от шитья и улыбнулась. – Добро пожаловать, госпожа Анна, – сказала она и протянула руку для поцелуя. Королева была одета затейливо – платье из дорогого дамаста, на голове бархатный капор в традиционном английском стиле, формой напоминавший фронтон здания, и с длинными наушниками по бокам. Головной убор обрамлял бледное и слегка даже одутловатое лицо, на котором от постоянных тревог залегли морщины; правда, сейчас выражение его было сладостным. Поднявшись из реверанса, Анна заметила, что у всех остальных придворных дам капоры английского фасона, которые полностью скрывали волосы. Анна забеспокоилась, не станет ли королева возражать против ее французского капора, но Екатерина ничего не сказала. Она была полностью сосредоточена на любезном представлении Анны главным дамам своего двора, предводительницей которых, похоже, была мрачная и сухощавая, аристократического вида дама, графиня Солсбери. Вскоре Анна узнала, что графиня и королева очень дружны. Новая фрейлина быстро освоилась с обычаями этого королевского двора, однако вскоре, к своему неудовольствию, обнаружила, что он больше напоминает двор королевы Клод, чем Маргариты. От фрейлин ожидалось неукоснительное соблюдение религиозного долга и совершение благих дел. Они часами шили алтарные покрывала, ризы или одежду для себя и бедняков. Но все же королева любила музыку и танцы. Кроме того, она была образованна, и Анна наслаждалась интеллектуальными беседами, которые велись в ее гостиной, хотя взгляды новой госпожи были сугубо ортодоксальными. Здесь невозможно было даже заикнуться о таких противоречивых вопросах, как религиозные реформы или эмансипация женщин. Тем не менее фрейлины Екатерины пользовались гораздо большей свободой, чем те, что служили Клод, и в покои королевы даже приглашали молодых придворных из окружения Генриха или кардинала Уолси, чтобы они весело проводили время с девушками под благосклонным взглядом Екатерины. Королева не скупилась на похвалы. Анне поручили следить за гардеробом и личными вещами Екатерины, и все, что делала новая фрейлина, принималось с неизменной улыбкой и вежливым «благодарю вас». Анна обнаружила, что постепенно привязывается к Екатерине; этой женщиной действительно нельзя было не восхищаться. И принцесса Мария, которая часто проводила время с матерью, оказалась очень милым ребенком, исполненным грации, приятным в речах и вообще очаровательным. За первую неделю Анна поняла: есть много такого, за что она должна быть благодарна, получив место у королевы Екатерины. Английский двор был гораздо более строгим и чопорным, чем французский, и одной из первых вещей, которые заметила Анна, – это соблюдавшийся здесь этикет. На случайные связи при дворе смотрели строго, и от всех ожидалось следование добродетельному примеру короля и королевы. Отклонения от правил случались, в этом Анна не сомневалась, и в подобной ситуации главным становилось слово «осмотрительность». Вскоре она поняла, что является предметом пристального внимания всего двора. А чему удивляться? Анна была проникнута духом Франции: ее стиль в одежде, манеры, речь, поведение – все говорило о принадлежности к иной культуре. Этим она выделялась на фоне других придворных дам, и мужчин тянуло к ней, словно мотыльков, привлеченных светом пламени. Но она не позволит вскружить себе голову. – За неизменную целомудренность вас называют Святой Агнесой! – посмеиваясь, сказала Мария, когда они сидели и болтали в одной из дворцовых комнат, отведенных Уиллу Кэри как одному из джентльменов короля. Первое время, пока Анна еще мало кого здесь знала, она в свободное время часто приходила к сестре. Мария угощала ее хорошим вином с марципанами и посвящала во все придворные сплетни. – Говорят, никто не принимает вас за англичанку, но только за прирожденную француженку. Может быть, не слишком хорошо казаться такой, раз мы воюем с Францией? – Какая разница, – отозвалась Анна. – Я не могу не быть собой. И, кроме того, сомневаюсь, что отец купит мне новые платья в английском стиле. В любом случае я заметила, что некоторые дамы уже копируют мои наряды. Мария пожала плечами: – Что касается нарядов, нам, вероятно, придется взяться за шитье. Уилл говорит, скоро будут устроены торжества по случаю приезда имперских послов. Они собираются вести переговоры о помолвке принцессы Марии с императором. – Но она еще дитя! – Анна вспомнила бургундский двор и холодного, презрительного эрцгерцога Карла с его тяжелой отвисшей челюстью. Теперь он был королем Испании и императором Священной Римской империи – самым могущественным человеком в мире, и ему было уже двадцать два года. Сердце Анны обливалось кровью от жалости к малютке-принцессе, которую обручат с таким неказистым мужчиной. – Он ей в отцы годится! Девочке всего шесть лет! Тем не менее она прекрасно понимала, почему король, явно обожавший свою дочь, готов был отдать ее, несчастную малышку, замуж за человека, который был почти в четыре раза старше. Отец Анны сделал бы то же самое, если бы представилась такая выгодная возможность. – Она будет императрицей. Этот брак принесет ей славу, – говорила Мария. – Я думаю, королева рада. Император – ее племянник. Ну, как бы там ни было, а планируется устроить живые картины для короля, королевы и послов. Празднество состоится во дворце Йорк у кардинала Уолси. Ты хочешь участвовать? Я могу замолвить за тебя словечко. – Очень бы хотелось. – Анна улыбнулась, стараясь не думать о бедной маленькой принцессе.
Через два дня король пришел навестить жену и дочь. Он стал еще мощнее и солиднее, чем раньше, – крупный мужчина с величавой внешностью и при этом легкий в общении, хотя, судя по прищуру глаз, рыжим волосам и поджатым губам, Анна легко могла представить, каким опасным становился этот человек, если его провоцировали. Только в прошлом году он отправил на эшафот своего кузена, герцога Бекингема, якобы за попытку захватить трон, после чего Пенсхерст, где когда-то служил брат Анны Томас, был конфискован короной. Отца назначили управляющим имением, и к его многочисленным должностям прибавилась еще одна. Король наклонился поцеловать королеву и очень нежно заговорил с ней. Потом ему представили Анну. Генрих по-прежнему мало привлекал ее, однако, когда король задержал на ней пронзительный взгляд своих синих глаз, она была вынуждена признать, что в нем есть особый магнетизм. Разумеется, причины тому – власть, которой он обладал, и его выдающиеся таланты. К тому же человек он был высокообразованный. Когда король проверял познания принцессы в латыни и французском, обращаясь к ней на этих языках, то говорил бегло, а когда позднее сыграл на лютне для королевы и ее дам и спел одну из песен собственного сочинения, то привел всех в полный восторг. А еще он любил свою жену. Нет, Анна не забыла инцидент с Этьенеттой де Лабом; несомненно, были и другие – короли всегда остаются королями, и она уже давно убедилась в этом на примере развратника Франциска, – но союз Генриха и Екатерины выглядел хорошим, крепким. Это видели все. Тем не менее часть присутствовавших в покоях дам не могла отвести от короля глаз, а некоторые просто из кожи вон лезли, лишь бы привлечь к себе его внимание. Анна не сомневалась: Генриху достаточно шевельнуть мизинцем – и полдюжины из этих женщин охотно упадут в его объятия, а то и сразу в постель. Однако король, глубоко вовлеченный в беседу с женой и дочерью, не обращал на них внимания.
Сидя на украшенной трибуне сбоку от турнирной площадки, Анна следила за лицом королевы в момент, когда король в сияющих доспехах, на покрытом роскошной попоной белом жеребце выводил участников состязания на ристалище. Екатерина смотрела на мужа с таким обожанием, будто на святого. Вот Генрих развернул коня, поклонился супруге с седла и опустил копье, чтобы она дала ему знак своей благосклонности; королева оживленно потянулась вперед и повязала на древко копья шарф цветов Испании. Послы императора, сидевшие между нею и кардиналом Уолси, одобрительно заулыбались. Потом король отвернулся, и Анна заметила, что лицо королевы изменилось. Екатерина смотрела на серебристую конскую попону, на которой был вышит девиз: «Она ранила мне сердце». Вероятно, это всего лишь элемент любовной игры, правила которой Анна хорошо знала, но у королевы был потрясенный вид. Затем она, казалось, пришла в себя. Тем временем другие рыцари приближались к трибуне и дамы, толкаясь, дарили им знаки своей симпатии. Какой-то джентльмен салютовал Анне. Она узнала Джеймса Батлера, который улыбался ей из-под забрала. – Моя избранница! – провозгласил он. Анна не желала его внимания, не хотела публично признавать себя будущей супругой этого джентльмена, но знала: отказать будет грубо, поэтому со всей возможной грацией, какую только смогла изобразить, повязала свой платок на его копье, и Батлер ускакал вполне счастливый. Начался турнир, и на площадке появился Генри Норрис. Сердце Анны екнуло. Сэр Генри выглядел еще прекраснее, чем запомнился ей, но на данном ему знаке любви были ясно видны цвета рода Файнс. Анна оглядела сидевших на балконе женщин и увидела среди них Мэри Файнс – она подбадривала мужа. Ничего не оставалось, как отвести глаза. Джеймс Батлер проявил себя доблестно и выиграл приз, получая который сделал поклон в сторону Анны, демонстрируя миру, что подвиг был совершен в ее честь. Однако король превзошел всех и под громовые аплодисменты зрителей одержал решающую победу. Покидая королевскую трибуну следом за Екатериной, Анна старалась держаться к ней поближе в надежде, что Джеймс Батлер не станет ее отыскивать. К счастью, ей удалось избежать встречи с поклонником, затерявшись в толпе людей, которые устремились в павильон, где были поданы закуски. Король находился там, он громко похвалялся своими подвигами перед королевой и восхищенной толпой придворных и фрейлин. Анна задумалась, кто мог пронзить его сердце? И посмел отказать ему? Кем бы ни была эта женщина, Анна молча ей аплодировала. В тот вечер король и королева ужинали наедине с послами, а свободная от своих обязанностей Анна поспешила в комнаты Марии, чтобы добавить последние штрихи к костюму, который должна будет надеть через два дня для участия в живой картине. Верная слову, Мария выпросила для сестры одну из вожделенных многими ролей. Несомненно, благодаря влиянию Уилла Кэри. Анна удивилась, застав Марию в подавленном настроении; сестра была поглощена какими-то своими мыслями. Попыталась изобразить радостное оживление, но безуспешно. – Я знаю, что-то происходит, – сказала Анна, беря в руки тяжелое платье из белого шелка, чтобы закончить на нем вышивку золотой нитью. – Я не смею тебе открыться, – пробормотала Мария. – Давай же, это необходимо, – настаивала Анна. – Иначе я буду тревожиться. Темные глаза Марии наполнились слезами. Она всегда так красиво плакала. – Обещай, что не расскажешь об этом ни одной живой душе, особенно Уиллу, – выпалила Мария. – Король пытается соблазнить меня, но я не хочу! – Она начала всхлипывать, больше не контролируя себя. – Какой ужас! – воскликнула Анна. Теперь девиз на попоне коня Генриха приобрел отвратительный смысл. – Ты должна сказать «нет»! – Я сказала! А он рассердился. – Мария промокнула глаза платком. – Это началось в Рождество. Он делал мне комплименты, дарил подарки, и я думала, что он просто хочет сделать мне приятное. Но потом он стал намекать, мол, готов проявить настоящую щедрость, а в прошлом месяце даровал Уиллу земли. Он был польщен, но я-то знаю, что это такое на самом деле: приманка, подтверждение, что меня хорошо наградят. – Я рада, что ты отказала ему, – поддержала сестру Анна. – Но полагаю, он к такому не привык. Большинству женщин льстит его внимание. Все-таки он король. – Думаю, он рассчитывал, что я уступлю ему без колебаний, но я сказала, что у меня есть муж и я не хочу обижать его. Он ответил, что мой муж ничего не узнает и что у него уже были любовницы, о существовании которых никто не догадывался. Я сказала, что об этом буду знать я и что не могу предать Уилла. Кто в такое поверит, Анна? Сперва король Франциск, а теперь король Генрих! Почему я? – Некоторые могли бы тебе позавидовать, – заметила Анна. – Но не я. От волнения Мария мяла в руках шелковый платок: – Я едва не разрушила свою репутацию при французском дворе. И вот здесь мне приходится рисковать тем же. И вообще, я не хочу короля. – Это мне понятно, – согласилась Анна. – Сними с него корону да роскошный наряд, и останешься наедине с совершенно обыкновенным человеком. Ты должна держаться своего решения и сохранять дистанцию. Не давай ему возможности преследовать тебя. Мария посмотрела на сестру с сомнением: – Он король и не желает отступаться.
Высокие двойные двери распахнулись, заскрипели колеса неповоротливой платформы, когда она начала движение в зал, влекомая сильными мужчинами, которых скрывала листва, украшавшая всю конструкцию. В центре платформы был наскоро сколочен зеленый деревянный замок, куда втиснулись Анна и семь других женщин. Сооружение угрожающе завибрировало, и все участницы представления с облегчением вздохнули, когда платформа с замком остановилась. Анна услышала голос герольда, который провозгласил: – Зеленый замок! Сбоку продолжала шмыгать носом Мария, глаза ее наполнились слезами, когда она увидела три полотнища ткани, свисавших со стен импровизированного замка. На них были изображены три разбитых сердца, женская рука, держащая сердце мужчины, и женская рука, вертящая мужское сердце. – Это сделано по его приказу! – прошептала сестра Анне. – Он старается тронуть мою душу. – Пошли! – скомандовала герцогиня Саффолк, которая не заметила тревожного состояния Марии. У Анны тоже не было времени на слова утешения или моральную поддержку. Она знала, что Мария слаба духом, и опасалась, как бы та не сдалась под натиском короля. Вот бы надавать ему по ушам – или еще что похуже – за то, что он так обращается с сестрой, которая и без того уже натерпелась от королевских особ. Женщины молчали, ожидая трубного гласа, который возвестит о начале представления живой картины. Они слышали аплодисменты гостей, приглушенные возгласы удивления и восторга – явно заслуженные, так как мастер Корниш, главный распорядитель праздника, создал прекрасные декорации. Замок окружали очень реалистичные сад и заросли кустов, и в распоряжении Корниша, наверное, имелась целая армия белошвеек, которые долгими ночами изготавливала шелковые цветы, усыпавшие ветви. Зазвучали трубы, Анна и остальные дамы надели маски, подобрали юбки и бросились наружу из замка. Они были в одинаковых белых атласных платьях, отделанных миланским кружевом и расшитых золотой нитью, шелковых чепцах и капорах в миланском стиле, украшенных золотыми накладками с инкрустацией драгоценными камнями. На каждом капоре вышили имя персонажа. Анна изображала Упорство, Мария – Доброту, теперь она сожалела, что выбрала себе такую роль, вдруг это придаст храбрости королю. Джейн Паркер была Постоянством, а герцогиня Саффолк, находившаяся впереди всех танцовщиц, воплощала собой Красоту. В зале за высоким столом сидела вместе с послами королева, она смотрела представление с явным удовольствием. Когда дамы начали танцевать, появились восемь лордов в масках, головных уборах из золотой парчи и накидках из синего атласа. У них тоже были имена: Любовь, Благородство, Юность, Преданность, Верность, Удовольствие, Нежность и Свобода. Возглавлял их мужчина в алой накидке, на которой были вышиты золотые языки пламени и имя – Страстное Желание. Это был мастер Корниш, не король, но Анна знала, что Генрих находится среди восьми танцоров и скрывается под маской Любви. Имена персонажей и сама тема живой картины, казалось, символизировали желание короля снискать благосклонность ее сестры. При появлении лордов леди быстро ретировались в замок, после чего галантные джентльмены подвергли крепость обстрелу, отчего некоторые зрители испуганно закричали. Анна и ее спутницы самоотверженно защищали свою твердыню, бросая в осаждающих конфеты или брызгая на них розовой водой. Те в ответ осыпали осажденных финиками, апельсинами и другими фруктами, и, разумеется, исход битвы был предрешен. И вскоре они уже с видом триумфаторов брали дам за руки, выводили своих пленниц наружу, где тут же пускались с ними в быстрый круговой танец. Анна увидела короля в паре с Марией. Она чувствовала страх сестры, которой приходилось танцевать со своим будущим соблазнителем на глазах у королевы и всего двора, и наверняка многие, наблюдая за этой парой, наверняка уже строили разные домыслы. Но когда танец закончился и участники представления, к всеобщей радости и под бурные аплодисменты, сняли маски, Марии нигде не было. Король хмуро стоял один, но быстро совладал с собой и отправился исполнять роль хозяина на банкете для гостей в апартаментах королевы. Анне было позволено не сопровождать королеву. Не снимая костюма, она поспешила на поиски Марии, но безуспешно. Встревоженная, она вернулась в зал, чтобы спросить Джорджа, не видел ли он сестру. Брат сидел развалясь на скамье, и Анна едва не повернула обратно, заметив рядом с ним Генри Норриса и еще какого-то мужчину. Разгоряченные вином, они дружно хохотали над какой-то шуткой. – Я потеряла Марию, – стараясь не смотреть на Генри Норриса, сообщила Анна. – Она куда-то ушла до окончания живой картины. Надеюсь, с ней все в порядке. – Мария способна сама о себе позаботиться, – ответил Джордж. – Ни к чему беспокоиться. Норрис улыбался. Анна посмотрела ему в глаза – в них светились теплота и восхищение – и тут же опустила взгляд. – Ладно, – сказала она и отошла; ее сердце учащенно билось.
Всю ночь Анна тревожилась за Марию и не могла уснуть. Утром, прежде чем в столовую королевы принесли завтрак – холодное мясо, хлеб и эль, – она, пропустив молитву в часовне, побежала в комнаты Марии и наткнулась на Уилла Кэри, который отправлялся в апартаменты короля. – Я не могу задерживаться, Анна, опаздываю, – бросил ей зять и умчался. Анна взбежала по ступенькам. – Мария! – позвала она. – Мария, с тобой все в порядке? Дверь открылась, за ней с трагическим видом стояла Мария. – Слава Богу, ты здесь! – воскликнула она. – Я думала, Уилл никогда не уйдет. – И разрыдалась, захлебываясь слезами. – Что случилось? – воскликнула Анна. – Это король? Марию начало рвать, она согнулась пополам и изрыгнула из себя чистую желчь, которая закапала на пол. Анна подавила желание отвернуться. – Скажи мне, – не унималась она. – Он меня принудил, – простонала Мария. – Пока мы танцевали в живой картине, он приказал ждать его в маленьком банкетном домике рядом с теннисным кортом. Сказал, что ему нужно поговорить со мной. Я не хотела идти, но боялась его обидеть. Я ждала целую вечность и страшно замерзла, наконец он пришел, а потом… О Анна, это было ужасно… И теперь я предала Уилла. Я этого не хотела… Уму непостижимо: два короля надругались над Марией. И ведь никто не поверит, что против ее воли. Значит, об этом не должна узнать ни одна живая душа. – Было больно? – спросила Анна, обнимая сестру. – Нет, но он не принимал моих отказов, а я не посмела дать отпор. Я чувствовала себя грязной, замаранной… Когда вернулась, не могла смотреть Уиллу в лицо. Но он тоже хотел получить от меня свое удовольствие, и я сказала, что меня тошнит. Это правда. Я так боялась, что он догадается. Ох, Анна, что мне делать? Король хочет снова видеть меня сегодня вечером. – Не ходи, – наставительно сказала Анна. – Но я не смею ему отказывать. Он может проявить щедрость к нашей семье, но может и лишить нас своих милостей или сделать что-нибудь похуже. Я должна пойти. О Боже, почему я?! Из всех женщин, которых он мог выбрать. – И Мария снова залилась слезами. – Нужно было сказать отцу. – Ты с ума сошла? Он и так обо мне невысокого мнения. Анна усадила Марию на скамью: – Я скажу ему, как ты несчастна. – Нет! – Тогда сошлись на болезнь. Поезжай домой в Хивер. Уилл поймет. – Мне придется и вправду заболеть. Уиллу не понравится мой отъезд. Анна потеряла терпение: – Тогда это единственный выход. Если, конечно, ты не пожалуешься королеве. Мария ужаснулась: – Об этом и подумать нельзя. Она такая добрая леди, я не стану причинять ей страдания. – Ну что ж, ничего другого я предложить не могу. Не знаю, что еще придумать. – Анна чувствовала себя ужасно беспомощной и злилась. – Это позор, что король, который кичится добродетелью и выставляет себя живым примером рыцарственности, может так подрывать основания собственного авторитета, и это сходит ему с рук! – возмущалась она.
Распорядившись, чтобы Марии принесли хлеба и эля, Анна оставила сестру на попечение горничной и пошла искать отца. Она нашла его в зале Совета зеленого сукна[37] за большим столом, где он просматривал дворцовые счета. Сэр Томас поднял взгляд: – Анна! Какой приятный сюрприз. – Не такой уж приятный, когда вы услышите то, что я собираюсь сказать, отец, – ответила она, понизив голос. – И это только для ваших ушей. – Она покосилась на сидевших за высокими столами двух клерков, и сэр Томас отпустил их. – Ну, – сказал он, когда они остались одни, – что случилось? – Король заставил Марию стать его любовницей. – Что? – Сэр Томас побагровел. – Он не оставил ей выбора. Он надругался над ней, если выражаться прямо! Я полагаю, вам следует знать об этом. – Как она позволила себе оказаться в такой ситуации?! – проревел отец. – Позволила себе?! Говорю вам, он не оставил ей выбора! – Анна начинала впадать в ярость. – Когда король повелевает, кто посмеет его ослушаться? И разумеется, он давал понять, что готов проявить щедрость. Он уже даровал Уиллу земли. Сэр Томас с мрачным лицом глубже уселся в кресле. – Это достойно сожаления, но не причинит ей вреда, – помолчав, сказал он, – и никому из нас. Бесси Блаунт, которая пять лет находилась в интимной связи с королем и родила ему сына, извлекла из этого большую пользу и была удачно выдана замуж. – Но Мария уже замужем, и ей больно сознавать, что она наставляет своему мужу рога. Едва ли она извлечет из этого что-то, кроме стыда и горя. – Деньги, почести, преференции для семьи, – возразил отец, и в его глазах засветился расчетливый огонек. Анна смотрела на него разинув рот. Неужели он готов за деньги продать собственную дочь? – Мы все должны использовать сложные ситуации в свою пользу. – Я думала, вы что-нибудь сделаете, чтобы прекратить это, – с трудом сдерживая злобу, заметила Анна. – Увы, здесь я так же бессилен, как и Мария. Ты сама сказала: никто не смеет перечить королю. – Я осмелюсь! – дерзко крикнула Анна и, с сердитым шелестом взмахнув юбками на прощание, оставила сэра Томаса.
Отец, казалось, был очень доволен собой. – Меня назначили казначеем королевского двора и управляющим Тонбриджа, – ликовал он. Они с Анной прогуливались вдоль набережной в Гринвиче, наслаждаясь первым теплым весенним вечером. После их перебранки из-за Марии Анна долгое время не могла заставить себя разговаривать с отцом, однако избегать встреч было невозможно – пришлось постепенно сменить гнев на милость и немного смягчиться по отношению к нему. – Плата за грех? – спросила она. Прошло два месяца с того дня, как Мария уступила домогательствам короля. Уилл ни о чем не догадывался, и Мария, хотя и смирилась с необходимостью терпеть ухаживания Генриха, которые признавала не такими уж неприятными, тем не менее ужасно страдала от чувства вины. – Едва ли это так! – резко ответил сэр Томас, и благодушное настроение с него как рукой сняло. – Эти назначения – награда за мою многолетнюю верную службу и помощь в раскрытии замыслов герцога Бекингема. Любой в моем положении мог рассчитывать на благодарность короля. Я отвергаю твои намеки, будто получил эти должности только потому, что моя дочь делит ложе с его милостью. – Как вы можете быть такимсамодовольным? – бросила ему в ответ Анна. – Могу, потому что должен! Они продолжали идти в молчании, ловя на себе любопытные взгляды других гуляющих. Анна устремила глаза на реку, где сновали туда-сюда лодки, направлявшиеся в Лондон или в Дептфорд и к морю. Дул сильный ветер, и она придерживала рукой капор. В то утро король посетил королеву в ее личных покоях и одарил Анну своим вниманием. Прошло три недели, как он соблазнил Марию, и все это время Анна едва могла заставить себя взглянуть на Генриха, потому что видела перед собой не монарха в прекрасной мантии, а себялюбивого, похотливого мужлана, который насильничал ее сестру, не задумываясь ни о чувствах своей «возлюбленной», ни о последствиях собственной страсти. Она его презирала. Поэтому, когда сегодня король спросил, как она устроилась, Анна, опустив глаза долу, ответила самым нелюбезным из возможных в данной ситуации тоном: – Хорошо, ваша милость. – Если бы она посмотрела на него, Генрих увидел бы в ее взгляде ненависть. Те же чувства семь лет назад Анна испытывала к королю Франциску. Последовала пауза. – Приятно это слышать, – произнес король Генрих и прошел мимо. Однако позже Анна заметила, что он продолжает следить за ней. Прочла ли она в его взгляде недоумение? Или стыд? Если так, отлично! Очень хотелось, чтобы этот всевластный господин понял: кто-то знает, какой он на самом деле. Отцу о своей холодности с королем Анна, конечно, не рассказала. Для него солнце всходило и садилось вместе с Генрихом Тюдором. – Должен сообщить, что кардинал затягивает переговоры по поводу твоего брака, – произнес отец, нарушая молчание. – Не знаю, что за игру он ведет, но совершенно невозможно достичь какого бы то ни было соглашения по условиям контракта. Если это дело не завершится к осени, я его прекращу. «Слава Богу!» – возрадовалась про себя Анна. – Я говорила, сэр, лучше бы вы потребовали графство Ормонд себе. – Но тебе уже двадцать один, и ты до сих пор не замужем. Это тебя не волнует? – Ничуть, – ответила ему Анна. – Я еще не встретила человека, за которого хотела бы выйти. – Ты имеешь в виду, негодница, человека, которого выберу я! – прорычал отец. – Будем надеяться, это окажется один и тот же человек. Анне так нравилось дразнить отца.
Глава 8. 1523 год
Анна заметила, что из всех молодых джентльменов, которые захаживали в покои королевы, чаще других здесь появлялся Гарри Перси. Екатерина привечала каждого и снисходительно взирала, как кавалеры болтали и флиртовали с ее фрейлинами. – Вы могли бы развлечь гостей, – говорила она Анне. – Налейте им вина, сыграйте для них, потанцуйте с ними, но ведите себя достойно. Ваши родители, без сомнения, надеются, что я посодействую вашему удачному замужеству. Анна улыбнулась. Переговоры о ее предполагаемом браке с Джеймсом Батлером были прерваны, и она наслаждалась чувством вновь обретенной свободы и лелеяла в душе надежды на светлое будущее. Когда Гарри в третий раз пришел в гостиную королевы, Анна заметила, что он особенно интересуется ею. Она и раньше ловила на себе его внимательный взгляд и не обращала на это внимания, однако теперь, когда одна из фрейлин заиграла на лютне, Гарри вдруг предстал перед ней: – Госпожа Анна, не окажете ли честь потанцевать со мной? Глаза у него были зеленые, а сам молодой человек высок, худощав, приятен внешне; с курчавыми каштановыми волосами, крупными чертами и сильно выступающим носом – не красавец в привычном смысле слова, но мужчина с открытым, честным лицом и почтительными манерами. – Буду рада это сделать, – ответила Анна, принимая его руку и позволяя повести себя в бассе. Когда танец завершился, Гарри пригласил ее на следующий, за ним на другой, и вот они уже сидели на мягком диване в одном из эркеров и разговаривали так, будто знали друг друга долгие годы. Анна видела, что королева наблюдает за ними, и успокоилась, когда та улыбнулась. Гарри сказал, что ему двадцать один год и он старший сын графа Нортумберленда. До недавнего времени служил на севере в качестве блюстителя приграничных территорий. Весной его освободили от этой должности, чтобы он мог явиться ко двору кардинала, где прислуживал своему господину за столом, демонстрируя умение нарезать пищу, присущее каждому джентльмену. – Я надеюсь таким образом получить продвижение, – пояснил он. – Как мастер Кэри, который делал это очень ловко. Он мой кузен. Анна подумала, не сказал ли ему Уилл, что она свободна, и не подвиг ли на ухаживания. – Я слышал, вашего отца недавно наградили орденом Подвязки, – улыбаясь, продолжал Гарри. – Это большая честь, и, я уверен, заслуженная. – Мы очень гордимся им, – сказала Анна, опуская добавление: и он сам тоже очень горд собой. Пока они разговаривали, Анна все больше убеждалась в своих симпатиях к Гарри Перси. Хотя он и не пробуждал в ней страсти, она точно знала, что может подружиться с ним, и чувствовала: этот молодой человек ее не разочарует. Слишком он искренний, слишком настоящий и явно без ума от нее. В конце вечера Гарри заверил Анну, что, когда кардинал в очередной раз прибудет ко двору, он снова разыщет ее. После чего откланялся, оставляя свою избранницу одновременно растроганной и опечаленной его уходом. Гарри Перси вызвал у Анны приятные чувства. Пребывание в его обществе казалось частью естественного порядка вещей. Гарри сдержал слово. Стоило кардиналу вновь прибыть ко двору, и молодой человек сразу оказался у дверей королевы. Он возвращался каждый день и становился все более страстным. Однако Анна не собиралась давать себя в обиду и не хотела быть одураченной или показать, что слишком симпатизирует ему. Иногда она не появлялась вовсе и заставляла своего поклонника теряться в догадках, куда запропастилась его пассия. Со временем Анна поняла, что в этих играх нет необходимости, Гарри и так с самого начала принадлежал ей всей душой. Постепенно в течение того чарующего мая панцирь, в который облачилась Анна, рассыпался под напором доброты и преданности Гарри. В первый раз они поцеловались украдкой в беседке, в личном саду королевы, и поцелуй этот был сладостен. Анна понимала, что влюбляется в Гарри Перси, но за этим чувством таилось гораздо большее. Она обретала уверенность в том, что это самый подходящий для нее мужчина. Конечно, важную роль тут играла всегдашняя скромная почтительность молодого джентльмена, но, кроме того, Анна знала, что Гарри Перси – наследник одного из величайших и наиболее древних герцогств в Англии и лучшей партии ей не найти. На этом фоне запретное увлечение Генри Норрисом померкло.– Тебе известно что-нибудь о семействе Перси? – стараясь придать голосу оттенок не слишком глубокого интереса, спросила она однажды Джорджа, пока они следили за игрой в шары. – Это важные лорды, – ответил брат, – практически короли на севере. Такой отзыв подтверждал рассказы Гарри. Его предки пришли в Англию с Вильгельмом Завоевателем. У семейства Перси была долгая и благородная история, его представители вступали в браки с членами королевских родов. Она могла стать графиней Нортумберленд и намного превзошла бы по статусу сестру! Но мотивы у Анны были не только корыстные. Она хотела получить самого Гарри. Он перевернул ее устоявшееся представление о мужчинах и показал, что честь, уважение и преданность не пустые слова. Анна не могла придумать ничего более чудесного, чем стать его супругой. Когда Гарри признался, что она ему очень нравится и что он сказал бы больше, если бы мог, сердце девушки преисполнилось радостью. Джордж усмехнулся. Он знал! – Ты могла бы сделать что-нибудь и похуже, чем выйти замуж за Гарри Перси. – О чем это ты? – Весь двор только и судачит о том, как Анна Болейн его любит. Щеки Анны заалели. – Это мое дело! – вспылила она. – Придворные дамы королевы любят посплетничать, – с улыбкой произнес Джордж. – И если ты будешь продолжать носить французские платья и привлекать к себе внимание, то чего еще ожидать? – Я ожидаю, что ты упрекнешь их за досужую болтовню, – возразила Анна. – О, у меня есть более приятные занятия! – засмеялся Джордж. – Без сомнения! – едко заметила она; любовные похождения брата были печально известны при дворе. Но потом Джордж привлек сестру к себе и крепко сжал в объятиях: – Серьезно, я был бы рад, если бы ты вышла за Гарри, и отец тоже, в этом можно не сомневаться. Так что вперед, дорогая сестрица, не упусти благие возможности, которые предлагает тебе жизнь.
Стоял июнь, и розы в саду королевы были в полном цвету. Гарри подвел Анну к скамье, сорвал красную розу и преподнес ей, а потом опустился перед своей избранницей на одно колено. Глаза его горели искренним чувством. – Я не могу больше таиться. Я люблю вас, Анна, – решительно проговорил он, а она сидела перед ним, и ее сердце дико стучало. – Вы окажете мне честь, став моей женой? Анна посмотрела в его дышащее надеждой и нетерпением лицо и не увидела ничего, кроме написанной на нем чистой любви. Сердце ее замерло и растаяло. Гарри был хорошим человеком, добрым, мягким и верным. Он никогда не обидит и не бросит ее, никогда не обманет и не заставит делать то, что ей не по нраву. С ним ее будущее будет обеспечено. Как могла она думать в первые дни знакомства, что ни за что не полюбит его? – О да, Гарри! – выдохнула Анна, и они поцеловались уже не украдкой, а долго, уповая на то, что их никто не видит. Желание не было удовлетворено, ей захотелось большего. – Тогда мы должны обручиться, сейчас же! – воскликнул Гарри. Потом вскочил и подозвал двоих джентльменов, сидевших неподалеку от них на траве с несколькими фрейлинами королевы: – Господа! Не станете ли вы свидетелями нашей помолвки? Анна испугалась такой поспешности. Сначала она должна была поговорить с королевой и с отцом, или, скорее, это следовало сделать Гарри, но ее закружило в вихре его энтузиазма, и она с улыбкой смотрела, как два кавалера отвешивают ей поклоны. Королева наверняка не станет возражать, а отец уж точно не откажется. У Анны не было сомнений в правильности своего поступка, когда она вслед за Гарри охотно повторяла обещание, что свяжет себя с ним навеки: – Я, Анна Болейн, даю тебе, Гарри Перси, клятвенное обещание, что стану твоей законной женой. – Прошу вас, господа, не говорите об этом никому, пока я не дам разрешения, – попросил Гарри. Молодые люди пообещали сохранить тайну и удалились, посмеиваясь и желая им обоим счастья и удачи. Гарри сжал руку Анны: – Давайте будем держать это в секрете, пока я не расскажу о нашей помолвке своему отцу, когда он прибудет ко двору. После этого я поговорю с вашим. Мы должны соблюсти все правила. Но, Анна, о моя дорогая Анна, вы сделали меня счастливейшим из смертных! – И он снова поцеловал ее, на сей раз более страстно. Это было блаженство!
Они пытались сохранить свой секрет, но сделать это оказалось непросто, ведь им почти никогда не удавалось остаться наедине. Королева могла поощрять флирт, но око у нее было зоркое. По крайней мере, она не слышала, о чем они говорили, когда сидели в «своей» нише у окна и обсуждали планы на будущее. – Мы должны устроить пышную свадьбу с множеством гостей, – говорил Гарри. – Я хочу, чтобы вся моя родня и все друзья увидели, какая прекрасная невеста мне досталась! Он смотрел на Анну с таким неприкрытым желанием, что сердце у нее пело. А потом его рука под прикрытием юбок ложилась на ее руку. И влюбленный жених нежно поглаживал кисть Анны, не лишая ласки даже уродливый лишний ноготь. Однажды Анна ускользнула после ужина и встретилась с Гарри в липовой аллее, которая вела к церкви братьев обсервантов, расположенной неподалеку от дворца. Место было пустынное, и когда влюбленные растворились в объятиях друг друга, Анна услышала, как монастырская братия поет вечерние молитвы. Король будет слушать вечерню в капелле королевы. У них был целый час времени. Гарри увлек Анну в тень одного из деревьев и страстно поцеловал. Она ощутила прилив желания, живого и настоятельного, но приструнила себя. Скоро она станет графиней Нортумберленд, леди Перси, и должна вести себя как таковая. Поэтому Анна совершила над собой невероятное усилие, чтобы мягко высвободиться из объятий Гарри, и взяла его за руку. – Я люблю вас, – сказала она. – Душа моя, мы не делаем ничего дурного, любя друг друга, но мы не должны давать повода для разговоров о нашем недостойном поведении. – Я хотел только поцеловать вас и прижать к своей груди, – запротестовал Гарри. – И я тоже этого хотела. Но мне нужно возвращаться. Я не могу проводить с вами много времени, пока мы не женаты, а потом в нашем распоряжении будет вся жизнь, чтобы любить друг друга. – Увы, я не могу ждать так долго, – простонал он. – Каждый день кажется мне вечностью. Но я уважаю ваши желания, моя дорогая. Мы вернемся. Выйдя из тени дерева, Анна заметила человека в черном, коренастого, с бычьей статью; он стоял немного впереди, ближе к дворцу, где начиналась липовая аллея. Мужчина смотрел в ее сторону, но, заметив Анну, отвернулся. Она понадеялась, что он не видел ее с Гарри, но, даже если видел, их тайная помолвка скоро перестанет быть секретом.
Анна следила за игрой в теннис, когда появилась Мария. – Мне нужно поговорить с тобой, – тихо сказала она. Глаза сестры были красными, словно она плакала. Анна встала и двинулась следом за Марией, покидая галерею для зрителей. Дрожа от сентябрьской прохлады, они вышли в сад. – Я беременна, – сообщила Мария. – Это ребенок короля. Нет никаких шансов, чтобы это было дитя Уилла. Мы с ним не… ну, не так уж долго. Он всегда слишком утомлен. О Боже, что я скажу ему? Анна окаменела: – Может быть, король даст тебе совет. Из-за него ты оказалась в таком положении. Мария плакала. – Я сказала Хэлу, то есть королю. – Она всхлипнула. – С тех пор он не вызывал меня к себе. Думаю, все кончено. – Разумеется, не кончено! У него будет ребенок, за которого он в ответе! – Он не признает его. Он сказал, существует установление закона, что любой ребенок, которого я ношу, – это ребенок моего супруга. Но, Анна… никогда не думала, что скажу подобное… я по нему скучаю. Я его полюбила. В нем есть что-то такое… – Что бы это ни было, только не честь! – возразила Анна, думая, как ей повезло найти столь цельного человека, как Гарри. – Мария, ты хотя бы просила его оказать помощь ребенку деньгами? Только не говори, что так и уйдешь ни с чем! Ответ был написан на лице Марии. – Я знаю, знаю… – Она всхлипывала; на них глазели проходившие мимо любопытные придворные. – Но я была не готова. Что я скажу Уиллу? Анна быстро прокрутила в голове ситуацию: – Какой срок? – Кровей не было два раза. – Тогда тебе лучше как можно скорее заманить супруга в постель и сделать вид, что ребенок родился раньше времени. Или скажи ему правду. Другого выбора нет. Уилл проявит к тебе сочувствие. – Нужно было рассказать ему все с самого начала. – Мария заплакала. – Он мог простить мне, что я уступила королю, когда сама этого не хотела, но он не простит целый год лжи. Ни один мужчина не простил бы. – Тогда тебе придется жить с этим секретом, – сказала Анна. – Прости, что говорю так, но это лучшее из двух зол. – Пожалуйста, не говори ничего отцу, – взмолилась Мария. – Почему нет? Воображаю, как он обрадуется, узнав, что станет дедом ребенка короля! Ты можешь даже превзойти королеву и родить ему сына. Тогда увидишь, что интерес его милости к тебе оживится, могу побиться об заклад. – Бесси Блаунт родила королю сына, и он его признал, – вспомнила Мария и просияла. – Да, и судя по тому, что я слышала, мальчика воспитывают как принца. – Но если это произойдет, Уилл все узнает. – Лучше вернуться к этому разговору, когда придет время, – посоветовала Анна. – А теперь извини меня, но я должна вернуться к королеве. Я назначена к ней с четырех часов. И Гарри должен был прийти на встречу с ней этим вечером.
Через два дня кардинал Уолси и его свита отбыли в Йорк, в огромный дворец в Вестминстере, и Анна начала считать часы до следующего свидания с Гарри. Время тянулось бесконечно долго, и она коротала досуг, придумывая свадебный наряд. О, как это здорово – иметь дворянский или королевский статус и носить платья из парчи или бархата! Но серебристый шелк тоже подойдет, и в теплую погоду в нем будет легче, ведь свадьба, разумеется, состоится летом. Она оставит волосы распущенными в знак целомудрия, которое так бережно хранила, но вплетет в них украшения и ленты, а сверху наденет венец. Однажды утром, пребывая в радужных мечтах о своей свадьбе, Анна направлялась из спальни фрейлин в апартаменты королевы, как вдруг из-под арки выступил молодой человек, показавшийся ей знакомым: – Госпожа Анна Болейн? – Да? – Она испуганно остановилась. – Джеймс Мелтон к вашим услугам, госпожа. – Разумеется. Это друг Гарри, еще один джентльмен из свиты Уолси. Анна вспомнила, что однажды он приходил вместе с Гарри в покои королевы. У него было худое лицо, хорошо поставленная речь, одет он был в парчовый костюм для верховой езды, но вид имел мрачный. – Меня послал Гарри, – сказал он. – О! – воскликнула Анна, обрадовавшись, но Джеймс Мелтон сохранял угрюмое выражение лица. – Что случилось? – спросила она. – Я бы все отдал, лишь бы не доставлять вам эту новость, – ответил Джеймс. Анну охватила паника: – Скажите мне, что он не болен! – Нет, но ему запретили видеться с вами. Вся радость Анны улетучилась. – Почему? – дрожащим голосом спросила она, сразу выстраивая в голове цепочку возмущенных протестов. – Я очень мало знаю о том, что произошло, но полагаю, он сейчас едет на север. Перед отъездом он прислал мне короткую записку, поручив сообщить вам, что в ваших отношениях все изменилось. – Он отказался от меня? – жалобно спросила Анна. – Напротив, госпожа Анна, он был в отчаянии, потому что не знал, какие слухи дошли до вас, и не хотел, чтобы вы плохо о нем думали. Он не находил себе места. Умолял меня в его отсутствие не позволить вам выйти замуж за другого. – Кто-то пытается разлучить нас? – Анна почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы ярости. – Это кардинал Уолси? Джеймс кивнул: – Подозреваю, что это он. – И Гарри не вступился за нас? Я бы это сделала. – Я не знаю, что произошло, но Гарри говорил, что хочет увидеться с епископом Лондона. Сказал, что боится делать это за спиной кардинала, чтобы не лишиться головы, но епископ, вероятно, сможет оказать ему помощь. Однако если Уолси грозил ему смертью, тут явно замешан король. Анна задрожала. – Не обязательно, – сказала она, пытаясь разуверить себя. – Всем известно, что это Уолси уничтожил Бекингема. Уолси всесилен. Но почему Гарри просил о встрече с епископом? И связано ли это как-то с их помолвкой? – Он не сказал, только упомянул, что это не пошло ему на пользу, потому как епископ заявил, что он совершил тяжелый проступок. Это еще одна причина, которая заставляет меня думать, что к делу причастен король. Вы сами можете прочесть письмо Гарри. – Джеймс сунул руку под дублет, вынул оттуда смятый листок бумаги и передал Анне. Она взяла его трясущимися руками, похолодев от страха, и прочла. Объяснений там содержалось не больше, чем передал Джеймс, но в конце была приписка: Поручитесь за меня госпоже Анне. Попросите ее не забывать данного обещания, от которого никто, кроме Бога, не властен ее освободить. – Что мне делать?! – с мукой в голосе воскликнула Анна. – Если за этим делом стоит король, мы пропали. Ее поглотила бешеная ярость. Король обладал такой властью, что мог разрушить не только жизнь сестры, но и ее собственную. Джеймс Мелтон беспомощно развел руками: – По правде говоря, я не знаю. Вы можете спросить церемониймейстера кардинала господина Кавендиша, нет ли у него каких-нибудь сведений. Мало что остается тайной для этого человека, он часто помогает его высокопреосвященству. – Отвезите меня во дворец Йорк! – взмолилась Анна. – До вечера я здесь не нужна. Я должна выяснить, что произошло. – Я не смею. Меня не должны видеть с вами. Я рискнул прийти сюда только потому, что Гарри – мой друг. Лишь теперь Анна поняла, насколько серьезна ситуация. Проступок совершил не только Гарри. – Понимаю, – сказала она. – Очень хорошо, я поеду одна. – Это безумие, – предупредил ее Джеймс. – Мне все равно! – крикнула Анна. – Мне дела нет до кардинала или короля! Я хочу получить ответ! Пусть они поймут, что никто не смеет играть в игры с Анной Болейн! – Она была вне себя. Джеймс и сам будто обезумел: – Ладно, госпожа Анна, я буду сопровождать вас. Но не надейтесь, что из этого безрассудства выйдет какой-нибудь толк.
Они молча сидели в барке, мимо проплывал Лондон. Анна, чтобы соблюсти приличия, взяла с собой служанку, так как кардинал возглавлял двор, где были одни мужчины. Впрочем, ходили разговоры о том, что Уолси прячет в своих покоях давнюю любовницу и даже имеет от нее детей. У вестминстерского причала они сошли на берег и назвали свои имена у ворот дворца Йорк. Джеймса здесь явно знали и любили, так что гостям махнули рукой, разрешая войти. – Я отведу вас к господину Кавендишу, – сказал Джеймс, – но потом должен буду покинуть. Отец убьет меня, если узнает, что я совершил подобное. – Мой поступит так же, – сквозь зубы процедила Анна, – но это не имеет значения. Дворец Йорк представлял собой огромное собрание разномастных строений, старых и новых, раскинувшихся между садами и дворами, и на неискушенный взгляд напоминал лабиринт. Однако Джеймс хорошо здесь ориентировался и вскоре привел Анну наверх, в апартаменты такого великолепия и роскоши, что, несмотря на все свое несчастье, она раскрыла рот от удивления. Каждый дюйм стен и потолка был расписан или позолочен. Неудивительно, что столько людей завидовали Уолси! Они пробрались сквозь толпу джентльменов, должностных лиц, просителей и слуг, которые ожидали встречи с кардиналом. – Господин Кавендиш должен быть в кабинете, – сказал Джеймс и постучал в красивую, обшитую панелями дверь. Однако, когда она открылась, в арочном дверном проеме стоял Уолси собственной персоной. Джеймс быстро припал на колено, чтобы поцеловать его перстень на протянутой с отсутствующим видом руке, а сам кардинал смотрел на Анну: – Мастер Мелтон, вы весьма предусмотрительный джентльмен, ибо доставили ко мне даму, которую я собирался вызвать. Удивляюсь, как такое могло произойти. Джеймс встал, заметно дрожа. Прежде чем он успел ответить, заговорила Анна: – Милорд кардинал, я настояла на том, чтобы увидеться с вами, и этот джентльмен неохотно согласился сопровождать меня. Все уставились на нее, но кардинал, казалось, не замечал окружающей обстановки: – Правда? Какая удача, что он оказался под рукой. Джеймс, я поговорю с вами позже. Джеймс вспыхнул и откланялся. Анна чувствовала себя ужасно. Он оказал ей услугу, а получил проблему. Но ничего, она выведет его из затруднения. – Ваше преосвященство, – снова заговорила Анна, – надеюсь, вы не станете думать плохо о мастере Мелтоне из-за его доброты ко мне. Он только доставил мне письмо от лорда Перси, не зная, о чем оно. Это я, прочитав письмо, настояла на том, чтобы приехать сюда. Уолси недоверчиво смотрел на собеседницу. Его мясистые челюсти и испещренные красными прожилками сосудов щеки вызывали у нее отвращение. Анне хотелось, чтобы кардинал увел ее куда-нибудь, где они могли бы обсудить дело без свидетелей. Ее смущало присутствие стольких людей, которые жадно внимали каждому произнесенному слову. – Ясно, – буркнул кардинал. – Без сомнения, вы предположили, что я знаю о вашем мнимом обручении с Гарри Перси. – Тут нет ничего мнимого, милорд! – Анна вскинула голову. – Значит, вы явно не знаете о том, что лорд Перси семь лет назад был помолвлен с леди Мэри Тальбот, дочерью графа Шрусбери. – Кардинал с видом хищной птицы наблюдал за реакцией Анны. – Я в это не верю, – сказала она, силясь не подать вида, насколько шокирована заявлением Уолси. – Тогда мне вас жаль. Король и я одобрили помолвку. Соглашение было весьма удовлетворительное, потому что партнеры равны по статусу. Это невыносимо! Как смеет жалкий сын мясника в присутствии посторонних намекать, что внучка герцога, если вам угодно, не пара наследнику графства! – В сложившихся обстоятельствах, – продолжил кардинал, – лорд Перси проявил опрометчивость, пообещав себя вам. Он прекрасно знал, что его отец не одобрит подобный брак. – Гарри – честный человек! – воскликнула Анна. – Я не верю, что он зашел бы так далеко, если бы был помолвлен с другой. Однако Анна помнила, с какой поспешностью он дал ей клятву верности. Неужели он наивно полагал, что она может отменить прежнюю договоренность? – Вам следует знать, госпожа Анна, что я обсуждал это дело с королем, и он очень недоволен вашей самонадеянностью. Это его прерогатива – одобрять браки своих дворян. Анна ничего не ответила. А что она могла сказать? Если король высказался против них, тогда все потеряно. Мир рушился вокруг нее – осталось лишь блеклое будущее, в котором нет места Гарри. – Я поговорил с лордом Перси, – сказал кардинал, – и передал ему неудовольствие короля. Анна легко могла себе представить, как это происходило. Она надеялась только на то, что он вел себя достойно. Уолси тяжело переступил с ноги на ногу и остановил на Анне мутный взгляд: – Это не доведет до добра, госпожа Анна, когда наследник великого графства думает, что может безнаказанно обручаться со всякой глупой девчонкой, обретающейся при дворе. Так я и сказал этому юному недоумку. Анна закипела, услышав, как ее называют глупой, да еще и в присутствии других людей. Как он смеет! Но Уолси не обращал внимания на ее злость: – Я сказал ему, что удивляюсь его безрассудству. Как он мог решиться нанести оскорбление королю! И послал за его отцом-графом, который, естественно, возмутился и предупредил своевольного отпрыска: если тот не порвет это неразумное соглашение, он навсегда лишит его наследства. Это объясняло, почему Гарри поехал встречаться с епископом Лондона – не хотел ставить в известность Уолси и, вероятно, надеялся, что епископ не найдет причин оспаривать их помолвку и одобрит ее. Но разумеется, этого не произошло, не произошло… – Вы слушаете меня, девушка?! – рявкнул Уолси. – Я сказал, что его величество король пожалуется вашему отцу и потребует, чтобы он заставил вас вести себя прилично в будущем. Это будет премило со стороны человека, который совершил изнасилование. – В чем я вела себя недостойно? – спросила Анна. – Я не совершила ничего неприличного. О предыдущей помолвке я не имела представления. И мой отец наверняка одобрил бы такой союз. – Ох, действительно, он бы одобрил! – с гадкой усмешкой произнес Уолси. – Но его величество намерен выдать вас замуж за другого человека, с которым уже ведет переговоры. Как я понимаю, соглашение почти заключено. – За кого? – крикнула Анна. – Не за Джеймса Батлера? – Я не вправе сообщать вам, госпожа Анна. Но не сомневаюсь, что если вы понимаете, в чем состоит ваше благо, то будете довольны и с благодарностью примете то, что организовал для вас король. – Но я дала слово Гарри! Уолси прищурил глаза: – Думаете, король и я, мы не знаем, как поступить в столь важном деле? Будьте уверены, лорда Перси вы больше не увидите. Ему приказано от имени короля не приближаться к вам под страхом вызвать крайнее неудовольствие его милости, и он должен жениться на леди Мэри Тальбот, как только будут закончены все приготовления. А теперь будьте разумной девушкой и примите это как данность. – Но королева одобряла наше сближение! Она поощряла нас! – Анна пришла в отчаяние. – Королева не имеет власти в таких делах. – Кардинал вздохнул. – Госпожа Анна, вы меня утомляете, и у меня масса неотложных дел. Король распорядился, чтобы вы покинули двор и на один сезон отправились домой. – Нет! – запротестовала Анна. – Это величайшая несправедливость! – Вы критикуете решения его милости? – Глаза Уолси были как сталь. – А теперь уходите. – Вы еще услышите обо мне, милорд кардинал! – от ярости забыв об осторожности, выкрикнула Анна. Сотня лиц обернулась к ней с открытыми ртами.
Анна сама не понимала, как добралась до Гринвича, настолько ее поглотила ненависть к кардиналу и королю за то, что они расторгли помолвку и разрушили ей всю жизнь. Они даже не дали Гарри шанса попрощаться с бывшей невестой. Не менее сильно терзало Анну воспоминание о том, как зло и презрительно разговаривал с ней Уолси. Без сомнения, это была месть ее семейству за то, что они всегда относились к нему как к выскочке и смотрели высока. Но как посмел он назвать ее глупой девчонкой! Как мог намекать, что она не пара Перси! Это было скорее дело рук Уолси, чем короля. А что касается брака, который его милость якобы организовал для нее, то Анна сомневалась в существовании каких бы то ни было приготовлений к выдаче ее замуж. Это просто уловка, чтобы заставить жертву несправедливости молчать. Об утрате любимого Гарри она не смела даже думать, иначе сошла бы с ума. Держать счастье в руках и потерять его в мгновение ока – это больше чем жестокость. Никогда ей не видеть милого лица, не чувствовать прикосновения этих теплых губ к своим губам, тяжести этих рук на своих плечах… Он был единственным мужчиной, которого она могла полюбить, – живое воплощение всех положительных качеств, присущих мужскому полу. Никогда ей не найти никого, кто мог бы сравниться с ним. Никто не полюбит ее так, как он. Когда она думала об их планах, о блестящем будущем, которое не осуществится… Это было невыносимо. Едва удавалось сдерживать водопад слез, готовый хлынуть из глаз. Анны еще не хватились, поэтому пробраться наверх в спальню оказалось нетрудно. Там она бросилась на кровать и дала волю слезам, плакала навзрыд и жалобно стонала. Она не замечала, как в комнату входили разные люди, пока к ее плечу не прикоснулась нежная рука. Рядом стояла сама королева с таким сочувствующим лицом, что слезы пуще потекли из глаз Анны. Вспомнив, кто она, девушка начала подниматься, но Екатерина попросила ее остаться на месте. – Расскажите, что случилось, – произнесла она, садясь на табурет у кровати и беря Анну за руку. – Меня отправляют домой, в Хивер, ваша милость, – прошептала Анна. – Но почему? – Ваша милость, вы рассердитесь. – Анна шмыгнула носом, заглатывая слезы. – Я должна заботиться о вашем благополучии. Вы моя фрейлина, и я за вас отвечаю. Если с вами произошло что-то нехорошее, это отразится и на мне тоже. Анна знала, что должна сказать королеве правду, как бы тяжело это ни было. Поэтому села, собралась с духом и произнесла: – Ну тогда, мадам, я понимаю, что была очень глупа. Я дала предварительное согласие на брак с Гарри Перси. Екатерина выглядела испуганной: – Ваши родители знают? – Нет, мадам. Мы любим друг друга. Мы не думали, что они будут против. Королева нахмурилась: – Это действительно глупо, госпожа Анна. Вам следовало иметь в виду, что подобное соглашение накладывает на вас такие же обязательства, как собственно брак, и что вы оба должны были сперва получить разрешение от ваших родителей и от короля. – Я знаю, я все это знаю. – Анна не смогла сдержаться и снова всхлипнула. – Мадам, мы вовсе не собирались оскорблять короля, и, может быть, все были бы довольны нашим союзом, но кардинал сказал «нет». Он назвал меня глупой девчонкой! А потом еще оказалось, что Гарри давно помолвлен с дочерью графа Шрусбери. Его отправили на север, чтобы он женился на ней. А мне приказано покинуть двор! – Она сжала руку королевы. – Ваша милость, я не могу потерять Гарри: я люблю его больше жизни и не хочу оставлять службу у вас. И что мне делать? – Анна уронила голову на руки Екатерины, плечи ее судорожно вздрагивали. – Я поговорю с королем, – сказала Екатерина. – Но не могу обещать, что это принесет успех.
Пребывая в лихорадочном состоянии, подвешенная между надеждой и отчаянием, Анна отыскала Джорджа и рассказала ему о случившемся. Видя сестру в слезах, брат обнял ее. Его трясло от злости. – Как он посмел! – ярился он, имея в виду Уолси. – Подождем, что скажет отец! Поддержка брата утешила Анну. Но от королевы ничего обнадеживающего слышно не было. Екатерина не передала Анне ответ короля – сказала только, что ей придется уехать домой в Хивер. – Когда придет время, госпожа Анна, можете быть уверены, что вас с удовольствием примут обратно к моему двору, – заверила ее королева. Анна едва могла держаться. – Благодарю вас, ваша милость. Вы были очень добры. Но, мадам, со мной поступили несправедливо, и я считаю себя обиженной. – (Уолси за это заплатит!) – Если когда-нибудь это будет в моей власти, я причиню кардиналу столько же неприятностей, сколько он доставил мне! Королева смотрела на нее во все глаза. – Надеюсь, со временем вы найдете в себе силы простить его, – сглотнув, сказала она. – А теперь да хранит вас Господь! «Я никогда не прощу его!» – решила про себя Анна. И, держа голову высоко поднятой, удалилась. Панцирь снова прочно встал на свое место.
Глава 9. 1523–1524 годы
В Хивере царила невероятная скука, но Анна чувствовала себя такой несчастной, что ей было безразлично, где она находится. Все дни серостью походили один на другой, и ничто не радовало изгнанницу. У нее украли будущее, а настоящее стало невыносимо мрачным и унылым. Что касается прошлого, о нем она не смела вспоминать. Миссис Орчард подставляла плечо, на котором можно было выплакаться. Мать подбадривала, потом начала умолять Анну подумать о себе, тревога леди Элизабет росла. – Ты должна собраться, – увещевала она дочь. – В пруду еще много жирных угрей! Отец, разумеется, остался при дворе. Анна не виделась с ним с тех пор, как впала в немилость, но знала: сэр Томас зол, ярость его не уступает гневу, возникшему, когда Мария призналась, что король сделал ей ребенка и бросил. Злился отец не на Анну, а на это мясницкое отродье, загубившее блестящий брак, который запланировала его дочь и который принес бы ему самому такую славу. Сэр Томас был на стороне дочери, хотя не мог открыто заявить об этом при дворе. Оскорбить короля – это последнее, на что он мог пойти. О браке, который якобы готовили для нее, никто больше не упоминал. «Все ложь!» – кипела от злости Анна. Она снова и снова прокручивала в голове свою беседу с Уолси, имя которого не могла произнести вслух. Ей хотелось, о как же ей хотелось лучше проявить себя в тот момент, поставить кардинала на место, показать ему, кто он такой на самом деле. Но ее время еще настанет. Анна не знала, когда и как это случится, но не сомневалась: ей и ее родным предстоит увидеть падение Уолси. Она поклялась: кардинал будет страдать так же, как заставил страдать ее. Это было печальное лето, еще сильнее омрачило его известие о смерти королевы Клод от болезни, подхваченной после родов. – Или от мужа! – едко заметила мать. – Всем известно, что этот сатир – сифилитик. Для Анны это оказалось новостью, но в Англии люди были склонны верить любым сплетням о короле Франциске и ненавистных французах.Всю ту гнетущую зиму Анна не могла выйти из депрессии. В феврале домой на неделю приехал отец и проявил необычное для себя сочувствие. – Не будь такой грустной, Анна, – посоветовал он. – Время лечит. Мы найдем тебе хорошего мужа. Анна слабо улыбнулась, думая о том, как ей не повезло. Она сомневалась, что когда-нибудь еще сможет отдать кому-то свое сердце, даже если выйдет замуж. Отец поднялся наверх, чтобы стряхнуть с себя дорожную пыль и переодеться. Когда он вернулся, то позвал Анну в гостиную. Там стоял полумрак, день клонился к вечеру. Сэр Томас зажег две свечи и сел в просторное кресло у очага. – Садись! – Он указал ей на кресло напротив. – Я должен кое-что тебе сказать. Гарри Перси женился. Свадьба состоялась в прошлом месяце. Анна закусила губу. Плакать она не стала. Однако новость о том, что Гарри потерян для нее безвозвратно, стала тяжелым ударом. Она не знала, как такое перенести. – Спасибо, что сообщили. Предпочитаю услышать это вас, чем от кого-то другого. – Мария возвращается домой, чтобы родить ребенка. Уилл согласился. Двор – неподходящее место для женщины в ее положении. Ваша мать позаботится о ней. – Сэр Томас произносил фразы отрывисто. Они все сговорились не выдавать правду Уиллу, который с надеждой ожидал появления ребенка. Анна задумалась, что сказал бы Уильям Кэри, если бы узнал, что это не его дитя, ведь он любил жену. Бедная Мария! Эта ложь была для нее тяжкой ношей. Анна знала, что король потерял к Марии всякий интерес, как только узнал о ее беременности, и несколько недель, когда Уилла не было рядом, Мария заливалась слезами и негодовала, однако по мере увеличения срока беременности ее мысли все больше занимал ребенок, и Анна начала надеяться, что король превратился в отдаленное воспоминание и не доставит Марии новых проблем. Пусть все думают, что это ребенок Уилла Кэри. А почему бы и нет?
Анну выслали из комнаты. «Незамужней женщине не пристало видеть, как происходят роды», – сказала мать без всякой задней мысли. Ей и в голову не пришло, что она прокручивает нож в ране напоминанием о девичестве Анны, которая и сама уже сомневалась, выйдет ли когда-нибудь замуж. Ей исполнилось двадцать три, и скоро она станет слишком старой, чтобы заполучить муженька. Но Анну это больше не беспокоило. Она спустилась вниз и села в кабинете матери читать книгу. Однако слова скакали перед глазами, и Анна не могла сконцентрироваться, ведь где-то у нее над головой совершалось таинство рождения новой жизни. Анна встала и подошла к окну. Было ясное апрельское утро, почки на деревьях распускались, и по небу плыли пушистые облака. Сад выглядел прекрасно. Печально не иметь возможности смотреть на эту красоту с любимым мужчиной. К своему ужасу, Анна вдруг осознала, что образ Гарри постепенно меркнет и она не может вспомнить, как он в точности выглядел, как звучал его голос. Она не видела его уже восемь месяцев, и самая сильная душевная буря улеглась. Осталась только пелена грусти, но вскоре она тоже спадет, начнется новая жизнь, а не унылое прозябание. По замку эхом разнесся крик – крик младенца, который ни с чем не спутать. Подобрав юбки, Анна кинулась наверх. – Все хорошо? – спросила она через дверь. Мать открыла, на согнутой в локте руке леди Элизабет лежал завернутый в одеяло младенец. – Девочка, роды прошли благополучно, – сказала она, – и Мария перенесла их легко, хвала Господу. Но, Анна, посмотри. – Она откинула край одеяла, и показалось маленькое личико – точная копия короля. Глаза матери и дочери встретились. – Нет смысла поднимать шум, – быстро проговорила мать. – Мы все должны делать вид, что это ребенок Уилла. Будем молиться, лишь бы он не заметил ничего неладного.
Послали гонца, чтобы вызвать Уилла, и через несколько часов он уже прибыл в Хивер. Анна с матерью присутствовали, когда супруг вошел в спальню Марии, которая сидела, прислонившись спиной к подушкам, и пеленала ребенка. – Моя дорогая, я так горжусь вами! – воскликнул Уилл. Мария нервно улыбнулась. Супруг нетерпеливо взял ребенка и уставился на него в восхищении. – Моя маленькая девочка! Она похожа на Кэри! – Он не заметил коллективного вздоха облегчения, который раздался вокруг. «Разумеется, – подумала Анна, – король – его кузен, на это и можно списать сходство». К счастью, никто не упомянул, как велик младенец для семимесячного. Вероятно, Уилл вовсе не представлял, как выглядят новорожденные дети. Малышку назвали Екатериной в честь королевы, отец приезжал домой на крестины, которые состоялись в Хивере. Мария быстро оправилась после родов и погрузилась в заботы о ребенке. Материнство шло ей.
Через шесть недель вся семья снова собралась в замке Фрамлингем в Саффолке на похороны деда Норфолка, который почил в почтенном возрасте восьмидесяти лет. Ни Анна, ни другие женщины из ветви Говардов не присутствовали на торжественном погребальном обряде в приорате Тетфорд, но посетили большой прием, устроенный в замке после погребения. Приятно было снова увидеть Джорджа и узнать все придворные сплетни. – Хотелось бы мне быть там, – задумчиво произнесла Анна, когда они обменивались новостями за кубком вина. – Я ужасно скучаю по двору. В деревне такая тоска. Разве меня еще не достаточно наказали? – Я бы тоже хотел, чтобы ты была там, – отозвался Джордж. – Уверен, скоро ты вернешься. У отца есть влияние. Его только что произвели в вице-камергеры двора. Поговаривают, он будет следующим камергером. А потому, Анна, я не сомневаюсь, что тебе не придется долго ждать. – Может быть, дядя Норфолк замолвит за меня словечко, – сказала она, наблюдая, как новоявленный герцог, облаченный в роскошную черную дамастовую накидку с соболиной опушкой, принимает соболезнования от гостей. – Он это сделает, – заверил сестру Джордж. – В конце концов, это важно и для него. Он смотрит на нас скорее как на Говардов, чем как на Болейнов. – Я и не знала, что ему пятьдесят, поздно он вступает в наследство. – Не беспокойся, старый служака еще крепок. Король о нем очень хорошего мнения, и наш дядя метит высоко. – Пошли. – Анна потащила Джорджа туда, где стоял Норфолк. Томас Говард посмотрел на нее из-под тяжелых век пронзительным взглядом. Его угловатое лицо с похожим на клюв носом было иссечено скорбными морщинами, но губы изогнулись в улыбке. – Ну, племянница, рад тебя видеть. Мы скучали по тебе при дворе. – Я хотела бы вернуться, милорд дядя, – призналась Анна. – Меня уже тошнит от этой ссылки в Хивере. – Есть и более неприятные места для изгнания, – заметил Норфолк. – Имей терпение, девушка. Я поговорю о тебе, когда придет время. Этим и пришлось удовлетвориться.
В тот вечер они с Джорджем прогуливались по крепостному валу замка. Анна заметила, что братмолчалив, но приписала это печали из-за смерти деда, присутствием которого было проникнуто все вокруг. Джордж остановился, и она замерла рядом, глядя на зеленеющие просторы Саффолка. – Ты сможешь сохранить секрет? – спросил он. – Конечно. На лицо Джорджа легла тень. – Я женюсь. Отец сказал мне сегодня. Все было решено еще до того, как он покинул двор. – И кто же эта счастливая леди? – поинтересовалась Анна. – Джейн Паркер, – ответил брат бесстрастным голосом. – Она довольно мила, и ее отец очень образованный человек. – Она ничего, если тебе нравится такой тип женщин. – Джордж пожал плечами. – Но я не люблю ее. Анна, в ней есть что-то такое… Я не могу точно определить, но это меня отталкивает. Не дай, Господи, чтобы мне пришлось пройти через это. – Мне очень жаль, – сказала Анна. Джордж тяжело вздохнул: – Ну, полагаю, мне придется делать то, что делают многие мужчины, которым навязывают нелюбимых жен. Буду заводить с ней наследников и получать удовольствие где-нибудь на стороне. Анна не сомневалась, что так и будет. Она удивилась своему удовольствию при мысли, что брат будет искать утешения в прелюбодеянии, когда как сама решительно осуждала за это других мужчин. – Попробуй полюбить ее ради вас обоих, – посоветовала она. – Ваша жизнь будет гораздо более счастливой, если у вас получится. Джордж улыбнулся: – Попытаюсь. Нам не слишком повезло в любви, да, Анна? Ты все еще тоскуешь по Гарри Перси? – Да. Он появлялся при дворе? – Нет, я его не видел. Если увижу, что-нибудь передать? – Нет! – решительно отказалась Анна. – Эта часть моей жизни осталась в прошлом. Мне нечего сказать женатому мужчине. «И правда, – подумала она, – кажется, я сдвинулась с мертвой точки». Боль не оставляла, но притупилась и больше не была столь мучительной; случалось, Анна проводила многие часы без единой мысли о своей утраченной любви. Темнело. Становилось прохладно, и Анну, одетую в черное шелковое платье, пробирала легкая дрожь. – Пойдем в дом, – сказала она брату.
Месяц проходил за месяцем. В ноябре Анна вместе со всем семейством совершила поездку в Морли-Холл в Норфолке, где состоялась свадьба Джорджа. Лорд Морли оказался очаровательным хозяином, а также весьма эрудированным и добродушным человеком. Он без конца суетился вокруг Марии, которая снова ждала ребенка. Джейн Паркер, одетая в алое бархатное платье и с распущенными темными волосами до пояса, была очаровательна. Вообще новобрачные хорошо смотрелись вместе – красивая пара, но Анна видела, что Джордж несчастен. Во время свадебного пира раздались одобрительные возгласы, вызвал их сэр Томас, когда встал и объявил, что король в качестве свадебного подарка передает Джорджу поместье Гримстон в Норфолке. Анна огорчилась. Это несправедливо. Король осыпал щедротами отца, а теперь и Джорджа. Почему бы ему теперь не проявить благоволение к ней и не призвать ее ко двору? Однако, когда они вернулись в Хивер, Анну ожидало письмо с печатью королевы. После Рождества она должна была вернуться ко двору.
Часть вторая. Сила духа, достойная короны
Глава 10. 1525 год
Анна тихо сидела в дальнем конце длинного дубового стола в главном зале дворца Элтем и притворялась, что не обращает внимания на группу придворных, собравшихся неподалеку. Один из них, высокий молодой человек с бородой, сияющими светло-карими глазами и ошеломительно красивой внешностью, отложил в сторону лютню. – Я сочинил стихотворение! – объявил он. – Еще одно? – спросил сэр Фрэнсис Брайан, который за свою распущенность получил прозвище Викарий Ада. Сидевшие вокруг него за столом засмеялись. – Это сюрприз, – сказал Джордж. – Давай, Том, мы послушаем. Молодой человек несмело улыбнулся: – Это стихотворение особенное. Он посмотрел в ту сторону, где сидела, допивая остатки вина, Анна. Без сомнения, сочинение предназначалось ей. Она с детства знала Томаса Уайетта, их семьи соседствовали в Кенте, и юные Уайетты – Томас и его сестра Маргарет – были частыми гостями в Хивере. При других обстоятельствах Анна могла бы в него влюбиться. Некоторые леди без особых колебаний ответили бы на ухаживания этого кавалера и стали бы признанными дамами его сердца. Они наслаждались бы владычеством над таким прекрасным молодым человеком и, вероятно, имели бы искушение стать его возлюбленными в более приземленном, плотском смысле слова. Но Томас женат, а для Анны это запретная территория. Она отклоняла все его попытки сближения, но это не остужало пыл сэра Уайетта: он продолжал оказывать ей знаки внимания и играть в любовную игру, не выходя за рамки приличий. Но зачем тратить время на человека, который ничего не мог ей предложить? Уайетт нравился Анне. Но лучше бы она не говорила ему этого в самом начале. А теперь, зная, какая у него поэтическая душа, не хотела его ранить, потому что было ясно как день – он от нее без ума. Томас бродил по дворцовым галереям, где часто бывала Анна, подкарауливал ее по пути из церкви или покоев королевы, пел прекрасные баллады в гостиной у Екатерины, смотрел на Анну пылким взглядом и передавал записки. Я люблю вас. Будьте милостивы к своему недостойному, но страдающему поклоннику. А кроме того, конечно, Томас сочинял для нее одной бесконечные поэмы. И все это она отвергала. И вот, в очередной раз пытаясь завоевать ее благосклонность, Уайетт начал читать стихи своим глубоким мелодичным голосом:Стоя за спиной королевы вместе с другими фрейлинами в приемном зале дворца Брайдуэлл в Лондоне, Анна едва могла сдержать восторг и не выдать ощущение триумфа, которое захватывало ее. Сегодня отца сделают пэром, и он станет виконтом Рочфордом. Еще одна почесть в целом ряду наград и отличий, которыми в последнее время его осыпал король. Титул сэр Томас получал благодаря прадеду Ормонду, который носил его раньше. Однако Анна понимала: на самом деле это компенсация за то, что отец так и не обрел графство Ормонд, но продолжал борьбу, и – к его вящему отвращению – за бесчестье, нанесенное дочери. Вот сэр Томас вошел в зал и встал на колени перед королем. Тот накинул ему на плечи мантию и передал в руки патент на дворянство. Анну поразило, насколько эта помпа не соответствует исходной причине всего события – гнусному совращению ее сестры. – Плата за грех, – не удержавшись, произнесла она вслух. Королева немедленно обернулась и гневно взглянула на фрейлину, Анна покраснела от стыда. Но времени сожалеть об ошибке не было, потому что все глаза устремились на маленького мальчика – незаконного сына короля, Генри Фицроя, который приближался к трону, чтобы быть возведенным в дворянство. Раздались приглушенные аханья, когда провозгласили его титулы: герцог Ричмонд, герцог Сомерсет. У королевы на лице застыла улыбка. Анне потребовалось мгновение, чтобы сообразить: это были королевские титулы. Неудивительно, что после церемонии все оживленно перешептывались; неудивительно, что королева не могла скрыть ярость. Еще бы! Ведь ходили слухи, что король собирается объявить мальчика своим наследником. И кто мог бы его за это винить? Прелестный крепкий и здоровый мальчик уже сейчас держался как принц, а признаков того, что королева вынашивает еще одного ребенка, не наблюдалось. И не могло быть, Анна в этом не сомневалась. Горничные Екатерины не передавали в стирку окровавленных лоскутов уже больше года. И все слуги об этом знали. Жаль, думала Анна, что незаконная дочь короля не может рассчитывать на подобные почести. Разве что король подберет для нее достойного мужа. Это самое меньшее, что он мог сделать.
– Отлично! – хлопнув в ладоши, выкрикнула Анна, когда Джордж поднял вверх ракетку и победно гикнул. Вместе с ней у теннисного корта с кислым видом стояла ее невестка Джейн. Подобное выражение не сходило с ее лица все последние месяцы. А Джордж в обществе жены был замкнут и оживлялся, становясь собой прежним, только когда ее не было рядом. – Что-нибудь неладно? – немного едко спросила Анна, когда они с Джейн покинули галерею для зрителей и прошли в сад, где после дождя стоял приятный сладкий запах. Здесь они остановились, чтобы подождать Джорджа. Анна знала, что позади в нескольких шагах за ней тенью следует зажатый в толпе покидающих галерею зрителей Том Уайетт. Джейн повернула к ней несчастное лицо. – Вы не поверите, если я скажу, – начала она. – По вашему мнению, Джордж не способен совершить ничего дурного. Анну испугали возмущенные нотки в ее голосе. – Вы еще не пробовали. Если мой брат делает вас несчастной, я, вероятно, смогу чем-нибудь помочь. Она полагала, что причиной несчастья Джейн является волокитство Джорджа. Он всегда открыто флиртовал с другими женщинами, и ходили слухи, будто у него есть побочный сын. Анна допытывалась, правда ли это, но брат все отрицал. – Не сомневаюсь, что к вам он больше прислушается, чем ко мне, – пробормотала Джейн. – Если бы вы только знали, какой он на самом деле. – И какой же? – Анна требовала ответа, раздражение в груди нарастало. – Я не могу вам сказать, мне стыдно, – прошептала Джейн. «Что она имеет в виду? Должно быть, что-то очень личное и интимное…» Анна не была уверена, хочет ли об этом узнать. В любом случае времени не осталось, потому что Джордж с полотенцем на шее и в накинутом на плечи дублете вышел с теннисного корта и махал им рукой, а Джейн вдруг исчезла. Растворилась в толпе. Джордж присоединился к Анне, а чуть позже – Том, с расспросами, понравилась ли ей игра. Втроем они уселись на траву и стали угощаться конфетами и вином. Анна заметила, что Том прикладывается к тому месту на кубке, которого касались ее губы. Отлично понимая его чувства к сестре – как, впрочем, и ее отношение к подобной ситуации, – Джордж отвлек Тома разговором о поэзии, благо этот предмет интересовал их обоих. – Прочти свое последнее сочинение, Джордж, – подзадоривал его Том. – Не в твоем присутствии! – отвечал ему Джордж. – Я не могу состязаться с мастером. К тому же написанное в последнее время довольно печально, и я не стану омрачать этот солнечный день. – Джейн была грустна после тенниса, – заметила Анна. – Она сказала, что между вами не все гладко. Джордж пожал плечами: – Она права. Кто может быть счастлив с мегерой? Анна положила ладонь на руку брата: – Может быть, она ворчит, потому что ты недобр к ней или недостаточно любишь. – Она меня не хочет, – ответил он. – О нет, она хочет. А иначе не ревновала бы к добрым отношениям между нами. – Но ты моя сестра! – Это не имеет значения, – возразила Анна. – Джейн хочет, чтобы ты был добр к ней так же, как ко мне. – Тогда она просит луну с неба. Том мрачно усмехнулся: – Мне понятны ее чувства. – Дорогой Том, вы женатый мужчина и сами знаете, что не можете получить меня, – сказала Анна добродушным тоном, насколько это было возможно. – Я тоже несчастлив в браке, – напомнил он. Анна уже много раз слышала это: «Моя жена не против флирта и даже более того, если уж говорить начистоту…» – Была бы и моя такой! – буркнул Джордж. – Вы не свободны! – напомнила Анна Тому. – Мне искренне жаль, что брак не принес вам счастья, но я не могу быть госпожой вашего сердца ни в каком смысле. Давайте останемся друзьями, какими были всегда. – Увы, этого недостаточно, – посетовал Том. – Джордж знает. Мужчины явно доверяли друг другу. – Не повезло тебе, Том, – посочувствовал другу Джордж. – Дочь лорда Рочфорда должна быть безупречна до того, как выберет себе мужа. Это было сказано дружелюбно, но тем не менее прозвучало предостережением. Джордж считал большинство женщин легкой добычей, но его сестра – это совершенно другое дело. – Я не хотел вас обидеть, – возразил Том. – Надеюсь, вы это знаете, Анна. Джордж поднялся на ноги, допил из бутыли остаток вина и передал сосуд Анне: – Мне надо пойти переодеться. Веди себя хорошо, пока меня нет. И он с усмешкой удалился, размашисто шагая по траве. Том потянулся к Анне и взял ее за руку: – Я не могу не восхищаться вашим умом и вашей красотой. Я буду вечно привязан к вам, я весь ваш, Анна, хотите вы меня или нет. Она вздохнула: – Том, мне грустно, что приходится отвергать ваши разговоры о любви. Я слишком ценю вас, чтобы пренебрегать вашими чувствами. Но это необходимо прекратить. Прекрасное лицо Тома выглядело таким трагическим, что Анна готова была расплакаться. Рядом с ним она всегда чувствовала себя особенной. Полюбить его так, как она любила Гарри, Анна не могла, но он заставил ее забыть былую страсть. Анна снова училась жить и наслаждаться жизнью. Если бы Том был свободен, тогда она могла бы подарить ему свою любовь. – Я предложил вам свое сердце и свои услуги. Не отвергайте меня. По крайней мере, позвольте мне жить надеждой, – молил он. – Какие надежды вы можете питать? – беспомощно спросила Анна. – Элизабет может умереть, – он издал безрадостный смешок, – или я могу развестись с ней из-за ее измен. Анна удивленно уставилась на Тома. Это выходило за пределы правил любовной игры. – Вы знаете, как сложен и дорог развод? – спросила она. – Вам придется получить одобрение короля и акт парламента. А что касается смерти, то Элизабет всего двадцать два года – как и вам! – Я сказал, что хочу с ней расстаться, – признался Том. – Я готов просить короля о разводе. – Сейчас он находился в строптивом настроении. – Если он согласится, примете ли вы меня тогда, Анна? Это ошеломило и тронуло ее. Как же далеко он намерен зайти! Том выглядел таким решительным. Но надежды на успех было мало. Она не могла представить, чтобы отец Тома, сэр Генри Уайетт, одобрил развод своего сына и заплатил за это. А у самого Тома, она это знала, денег мало, помимо жалованья экстраординарного распорядителя королевского стола. – Задайте мне этот вопрос, когда разведетесь, – с легкой улыбкой сказала Анна. – Тогда я буду жить надеждой! – Том взял руку Анны и с горячностью поцеловал. – Дайте мне какой-нибудь амулет на память, молю вас! – Вы все еще женаты, Том! – упрекнула его Анна, но не успела остановить – он выхватил свисавший из ее кармана черный кружевной платок. К нему был прикреплен маленький камешек в оправе, который она носила как подвеску. – Мой амулет! – воскликнул Том. – Знак любви ко мне, которую, я знаю, вы храните в своей душе. – Нет! Отдайте! Слишком поздно! Оба заметили, что наступила тишина, и увидели короля в окружении группы придворных. Генрих смотрел на них с загадочным выражением на лице. Парочка вскочила на ноги и раскланялась, а монарх, кивнув, прошествовал мимо. Том засунул свой трофей под дублет. – Отдайте! – настаивала Анна. – Нет! – ответил он. – Это такая малость, ничего вам не стоит. А я буду хранить его и беречь. Анна поняла, что потерпела поражение: – Очень хорошо, храните. Это и правда безделица. – Для меня он стоит всего мира, – сказал Том.
На следующий вечер, когда со столов убрали остатки трапезы, а сами столы унесли, в приемном зале состоялись танцы. Сидевшие в углу музыканты заиграли, король встал, поклонился королеве и вывел ее на площадку. Придворные в восторге наблюдали, как королевская чета исполняет величавую павану, а потом по сигналу короля сами присоединились к ней. Джордж находился среди толпы в паре со светловолосой девушкой – бог знает, где была Джейн, – и Генри Норрис был здесь со своей женой Мэри. Анну пригласил на танец Николас Кэри, главный конюший и друг короля. – Думаю, мы в родстве, – сказал он, – через лорда Хоо, три или четыре поколения назад. – Думаю, при дворе все так или иначе друг с другом в родстве, – ответила Анна, пока они вышагивали в величавой манере. – Иногда двор выглядит как одна большая семья. Дело только в степени родства. – Я смотрю на это несколько иначе, – со смехом заметил сэр Николас. – Когда слышишь столько злословия за спиной, видишь, как плетутся и разыгрываются интриги, скорее напрашивается сравнение с выгребной ямой! И то же самое в моей семье! Анна захихикала, но тут танец закончился и перед ней предстал Том, жаждавший удовольствия. Она ответила на приглашение, и он повел ее танцевать алмейн. – Вы надели мое украшение! – упрекнула партнера Анна, углядев сквозь открытый ворот рубашки на шее Тома свою подвеску. – Я ношу его с гордостью, – с вызовом ответил он. – Оно не дает забыть о вас, хотя мне и не нужны напоминания. Кроме того, никто не знает, от кого я эту подвеску получил. – Только король и все его джентльмены! Они видели, как вы ее взяли. Том ухмыльнулся: – Вы нравитесь мне, когда злитесь, Анна. Сегодня вечером вы божественны. Это платье смотрится на вас превосходно. Довольная комплиментом, Анна повертела своими зелеными юбками: она была не способна долго злиться на Тома. – Я не могу остаться, – сказала она. – После этого танца я должна вернуться к королеве. Она уже садится на свое место. Королева несчастна оттого, что принцессу Марию отправляют в Ладлоу. – Тогда прикажите мне уйти, и я тотчас же исполню ваше распоряжение. Буду смотреть на вас издалека и радовать свои несчастные глаза созерцанием вашей красоты. Анна улыбнулась ему и позволила подвести себя к королеве. Том поклонился Екатерине и удалился. За креслом королевы стояли рядком дамы и девушки, Анна пристроилась с краю, на ступеньку ниже уровня помоста. Вдруг перед ней оказался король, высокий, широкоплечий и великолепный, в костюме из фиолетовой парчи – осанистый мужчина лет тридцати пяти, исполненный уверенности в себе, которой наделили его годы правления и королевская кровь. Он поклонился в элегантной, изысканной манере, ничуть не умалявшей его величавого достоинства, и Анна присела в реверансе. – Вы окажете мне честь потанцевать со мной, госпожа Анна? – спросил он, глядя на нее в упор с высоты своего немалого роста. Глаза у Генриха были голубые и пронзительные. От него пахло свежими травами – она помнила этот запах с прошлого раза, когда танцевала с его величеством в Лилле, в другой жизни. Королю не отказывают, как бы ей этого ни хотелось. Анна дала ему руку, склонила голову, чтобы он не заметил ненависти и презрения в ее глазах. Один танец, и все. – Вы сегодня очень тихи, госпожа Анна, – заметил король, когда они исполнили первые шаги бассе. – Обычно, как я видел, вы словоохотливы. – Я немного устала, ваша милость, – произнесла она холодно. Он сжал ее руку. – Почему вы никогда со мной не разговариваете? – низким голосом спросил он. Анна изобразила удивление: – Я? Сир, я ничем не хотела обидеть вас. – Каждый раз, как я заговариваю с вами, вы стараетесь избежать беседы со мной. Почему? Я вам несимпатичен? Испуганная Анна, держась за руку короля, плавно обходила своего партнера по кругу. Она и не мечтала, чтобы он думал о ней и как-то особо выделял. – Сир, снисходительность короля приятна всякому, включая меня. Боюсь, вы приняли мое благоговение в вашем присутствии за невежливость, и я искренне сожалею об этом. – Слова были любезными, и тем не менее она не преклонялась перед ним. – Услышав ваши слова, я испытал облегчение, – сказал Генрих, глядя на нее все тем же непонятным взглядом. – Это я благоговею перед вами. Вот уже некоторое время я наблюдаю за вами и пребываю в восхищении, боясь приблизиться из-за вашей холодности. Если вы найдете в своем сердце чуточку доброты для меня, это будет большим счастьем. – Доброты для вас, сир? – «О чем это он?» – Как я могу не быть добра к своему повелителю? – Вы меня неправильно поняли, – пробормотал король, когда они сблизились в танце. – Я пронзен стрелой, госпожа Анна, и не знаю, как вырвать ее из сердца. Теперь в смысле слов ошибиться было невозможно. Анна встретилась с Генрихом взглядом, но быстро отвела глаза, отчаянно подыскивая слова, которые могли бы отклонить его притязания. – Сир, – начала она, – вы женаты на королеве, моей доброй госпоже, и я не знаю, как вам отвечать. – Вы прекрасно знаете, как отвечать мастеру Уайетту! – вскинулся Генрих. – Он не король Англии. – Анна замялась, опасаясь, что будет, если она спровоцирует этого мужчину. – И он тоже женат, но я не боюсь упрекать его за то, что он меня преследует. Понимаете, сир, я ревниво отношусь к своему доброму имени, люблю Господа и страшусь Его. И потому не могу рисковать и связываться с тем, кто для меня под запретом, как бы хорошо я ни относилась к этому человеку. Глаза короля сузились. – Но вы не отказываетесь танцевать с Уайеттом. – Сир, я знаю его с детства как друга. Я и танцевала с ним как с другом. Лицо Генриха смягчилось. – Вы и со своим королем будете танцевать как с другом? – Сир, могу ли я поступить иначе, когда ваша милость были столь щедры к моему отцу? – Я с удовольствием выражал благоволение к вашей семье, потому что сэр Томас служил мне верой и правдой. Но я готов проявить и еще бóльшую щедрость. – Намерения короля были очевидны. Анна похолодела. К счастью, танец подходил к концу. – Такую же, как к моей сестре? – тихо спросила она, не в силах подавить враждебное чувство. – Я любил вашу сестру. Но с этим покончено… Все в прошлом. – Насколько мне известно, там было больше принуждения, чем любви. – Анна! – Глаза короля засверкали, но не от злости, а от чего-то другого. – Мария настраивает вас против меня, не позволяйте ей этого. Она пришла ко мне довольно охотно. – Мне она сказала, что ваша милость не оставили ей выбора. «О Боже, отец убьет меня, если король не сделает это первым!» Лицо Генриха, разгоряченное танцем и смятением чувств, стало еще краснее. – Она действительно так сказала? Что ж, как джентльмен и рыцарь, я не стану ей перечить. Но молю вас не думать обо мне плохо, если я взял то, что считал предлагавшимся с охотой. Анна не могла этого так оставить: – Предлагавшимся с такой охотой, что она после этого пребывала в отчаянии и лила слезы! Я знаю – я была там. Музыка смолкла. Анна быстро сделала реверанс, король поклонился. Она, без сомнения, зашла слишком далеко. Ее семью теперь уничтожат, а сама она попадет в немилость навеки. Что она наделала! Однако Генрих смотрел на нее напряженным взглядом: – Умоляю вас, потанцуйте со мной еще раз. Я постараюсь уладить это недоразумение между нами. – Сир, простите мою дерзость, но тут не может быть никакого «между нами» и совершенно ни к чему улаживать что бы то ни было. – Тогда я провожу вас до вашего места, – стальным голосом проговорил король и, когда они оказались там, снова поклонился и оставил ее.
Анна ждала сокрушительного удара. В любой момент могло поступить распоряжение о ее удалении от двора или даже об аресте. Людей бросали в тюрьму – и даже хуже того – и за меньшие проступки. Или отец мог налететь на свою дерзкую дочь, как ангел мщения, и потребовать ответа: почему его лишили всех должностей? Снова и снова Анна жалела о своей несдержанности на язык. Однако ничего подобного не произошло, и во время следующего визита к королеве король улыбнулся Анне и попросил исполнить для него что-нибудь на лютне. – Вы играете очень хорошо, – похвалил он, когда она закончила. – Не так хорошо, как ваша милость, – ответила Анна, ища укрытия за корректным, ожидаемым ответом, и Екатерина все время улыбалась им; бедная женщина, ее ведь водили за нос. Потом пришло Рождество с его яркими торжествами. В это время обычный порядок переворачивался с ног на голову и все формальности забывались. Король ревел от хохота, когда Владыка Беспорядка хлопал его по плечу своим жезлом власти и требовал уплаты штрафа в пять фунтов – «Прямо сейчас, сир!». Была устроена игра в жмурки, и главный устроитель пиров с завязанными глазами гонялся за визжащими придворными по всем королевским апартаментам. Анна убегала от него рука об руку с Томом; они спрятались за шпалерой, Том попытался поцеловать ее, а она изящно уклонилась. Потом пришло время маскарадов. Анна была изумлена, когда однажды вечером мужчина в затейливой маске, одетый во все зеленое, поймал ее под сплетенным из ветвей омелы венком для поцелуев, подвешенным к потолочной балке над дверью; незнакомец развернул ее к себе и горячо поцеловал в губы. По крупной фигуре и запаху трав Анна опознала короля, но притворилась, что ничего не поняла, вырвалась и убежала в пустынную галерею. Анна неслась по ней, пока за спиной не смолкли звуки веселья, а вокруг не осталось ни души. Она уже собиралась отправиться назад, потому что здесь было холодно и хотелось вернуться в тепло и наслаждаться торжеством, когда услышала приближающийся звук шагов. Это был король. Все еще в маске, он остановился в арочном проходе в дальнем конце галереи. Анна поняла, что они здесь совершенно одни. Сердце бешено заколотилось, когда человек в маске с решительным видом приблизился. Она этого не хотела, не хотела его, как он хотел ее. Анна вспомнила: король Франциск овладел ее сестрой в комнате, примыкавшей к такой же безлюдной галерее. – Анна! – произнес Генрих высоким повелительным голосом. – Не бойтесь меня. Я не насильник, как ложно утверждает ваша сестра. Уже много недель я не могу думать ни о чем другом, кроме вас. – Теперь он стоял напротив нее, крупный, сильный мужчина, с видом покорным и робким, словно мальчик. – Я пришел к вам как проситель, надеясь, что вы сжалитесь надо мной. Анне не хотелось снова терзаться страхом из-за нанесенной королю обиды, поэтому она ответила мягко: – Сир, мне льстит внимание такого великого властителя, но, по правде говоря, я не знаю, чем могу помочь вам. Генрих снял маску и положил руки ей на плечи, пытаясь сковать магнетическим взглядом, который, однако, на нее не действовал. Она никогда его не полюбит. Алхимия, которая должна существовать между мужчиной и женщиной, в данном случае решительно отсутствовала. – Анна! – Голос короля звучал довольно эмоционально. – Вы обворожили меня. Я не знаю, как это объяснить. Кажется, использовать слово «любовь» – это дерзость, но я знаю, что чувствую. Я не сплю ночами; вижу перед собой только ваше лицо. Я страдаю! – Сир! – воскликнула Анна, испугавшись, что он мог подумать, будто она занимается ворожбой. – Я никаких чар на вас не наводила! Я ваша добрая подданная, и только. Вместо ответа Генрих опустил руки ей на талию и привлек к себе. Держал он ее крепко, и в тот момент Анна поняла, каково было Марии и как уязвима она сама. – Я хочу вас, – проговорил он ей в волосы. – Я хочу быть вашим слугой, станьте моей возлюбленной. – Страстность в его голосе напугала Анну. – Венера, эта ненасытная богиня, привела меня в отчаянное состояние, но я молюсь, чтобы вы, моя дорогая, были добры ко мне. – Сир! – Анна застыла, и король, ослабив хватку, сделал шаг назад и посмотрел на нее с таким жадным желанием, что ей почти стало жаль его. Подумать только: она, какая-то Анна Болейн, имеет власть над этим мужчиной, который держит в своей власти жизни тысяч людей. Но она не хотела его! Какой тут был правильный, достойный ответ? Анна отчаянно искала в голове способ остудить пыл короля, при этом не обидев. – Сир, дайте мне время подумать, – попросила она после долгой паузы. – Ваша милость настолько ошеломили меня, что я совсем растерялась. Прошу вас, дайте мне время. – Конечно, – согласился король, и на его лице отобразилось ликование, потому что теперь она играла в игру по правилам. Только это была не игра.
Глава 11. 1526 год
Заявить «Я не осмеливаюсь» – и все! Что затеял король? Анна повторила уже несколько раз, что не может полюбить его и не станет его любовницей, потому что он женат. Она говорила это с сожалением, с печалью, с возмущением и в ярости, но он все равно не принимал ее «нет» за окончательный отказ, а вместо этого начинал торговаться: пусть взамен на обещание никогда не компрометировать ее целомудрие она позволит ему публично признать ее своей возлюбленной, а себя – ее преданным слугой. Тогда никто не будет в обиде, заявлял он с такой наивной самоуверенностью, что Анна начинала понимать: это такая же часть его характера, как властность, сентиментальность и обходительность. Она все равно сказала «нет», и теперь он дошел до того, что стал являться на турниры под громоподобный топот копыт на коне, накрытом попоной из золотой и серебряной парчи с загадочной эмблемой, изображавшей мужское сердце, охваченное языками пламени. Чтобы весь мир видел! Даже королева. Екатерина смотрела на это, и ее обожающие глаза слегка прищуривались, потому что она невольно хмурила брови. В последнее время Генрих стал таким назойливым, что кое-кто мог заметить его особое отношение к Анне, и некоторым хватало проницательности – не Екатерине, упаси Господь! – чтобы сложить вместе два и два и получить пять. Как ей удавалось сохранять спокойствие во время турниров, дрожа в мехах на холодном февральском ветру, Анна сама не знала. Она начинала чувствовать себя загнанной в угол и приходила к пониманию необходимости решительных действий. Она разрывалась на части между желанием сбежать – предпочтительная инстинктивная реакция – или начать корить своего суверена. Если бы она действительно стала любовницей Генриха, как он того хотел, то была бы вправе делать ему упреки. «Но почему, – злобно спрашивала себя Анна, – я должна покидать двор из-за того, что он не может совладать с собой?» Нет, она останется. Он не выживет ее отсюда. По крайней мере, она не облегчит ему этой задачи. На турнирной площадке произошла суматоха. Фрэнсис Брайан был сбит с коня, и у него из глаза текла кровь. Люди, даже король, бросились на помощь. Анна не могла вынести этого зрелища. Бедный Брайан! Сославшись на головную боль, она попросила у королевы разрешения пойти к себе и лечь, чтобы никто ее не видел, когда король со своими гостями придет ужинать к супруге. Но не могла же она скрываться вечно. Наступило утро, неумолимое, как судьба, и нужно было приступать к своим обязанностям. Король ее ждал – с видом нашалившего школяра лежа в прихожей перед комнатой королевы. Когда Анна в испуге замерла, чтобы сделать реверанс, король закрыл за ней дверь, и они остались наедине. Ни церемониймейстера, ни слуг, ни горничных. Наверное, он отпустил их. Анна поеживалась, сознавая, что в нескольких ярдах от нее, за дверью, завтракает королева. – Надеюсь, вы чувствуете себя лучше, госпожа Анна. – Генрих взял ее руку и стал целовать, даже то место, где рос отвратительный шестой ноготь. Анна отняла руку: – Голова у меня больше не болит, сир, благодарю вас. Но мне не оправиться от того, как вы публично заявили о своих чувствах на турнире. Это было жестоко с вашей стороны. Мне хотелось убежать. Король выглядел потрясенным. – Не поступайте со мной так, Анна, – взмолился он. – Я не могу жить без вас. Никогда еще меня не влекло настолько властно ни к одной женщине. Помогите мне, прошу! Подарите хоть немного теплоты. – Увы, сир, вы несвободны, и это было бы непристойно. Как Фрэнсис? Генрих поморщился: – Глаз спасти не удалось, но он поправится. – Какое облегчение слышать это. Простите, сир. Ее милость ждет, и у меня будут неприятности, если я опоздаю. Прощайте! – Она открыла внутреннюю дверь и почти сбежала от короля.В марте ко двору прибыла Мария, оставив своих малышей на попечении матери, которая была от них без ума и баловала так, что могла испортить. Анна встретилась с сестрой в комнатах Уилла. Сам он прислуживал королю, так что они говорили свободно. Анна видела Марию впервые с тех пор, как Генрих начал свои ухаживания, и ей вдруг захотелось довериться сестре. Мария была именно тем человеком, который понял бы вставшую перед ней дилемму. Но как она воспримет новость, что бывший любовник ухлестывает за ее сестрой? Мария с чувством рассказывала о своих детях, Анна некоторое время слушала, сидя как на иголках, потом встала, подошла к очагу и протянула к огню руки, чтобы согреться. – Что случилось? – спросила Мария. – У тебя встревоженный вид. – Мне нужно кое-что тебе рассказать. Король применяет ко мне ту же тактику, какую использовал с тобой. – (Мария смотрела на сестру, раскрыв рот.) – Он очень настойчив, и я не знаю, как его отвадить. Хочет, чтобы я стала его возлюбленной. – Ты имеешь в виду, он хочет спать с тобой? – Разумеется. Я не настолько глупа, чтобы думать, будто у него более невинные намерения. Несмотря на все его красивые слова, за всем этим стоит вожделение. Поверь, теперь я понимаю, что произошло с тобой, хотя он настаивает, что ты согласилась сама. – Неправда! – воскликнула Мария. – Он меня заставил! Ты же видела, в каком я была состоянии! – Я ему так и сказала. Я укоряла его этим. – Анна села и взяла руки Марии в свои. – Он продолжает считать, что ты сама этого хотела, но я, разумеется, ни на миг не поверила. Но я не хочу его, и, к счастью, он не пытается меня принудить. – Тебе повезло. – Мария отняла руки у сестры и взялась за маленькое платьице, которое шила. – Это последний из мужчин, с которым тебе стоит связываться. Сестра выглядела воплощением удовлетворенности домашней жизнью. Отец продолжал считать, что Мария могла бы получить для себя больше выгод, призвав короля к ответственности и попросив у него денег, но, по крайней мере, теперь Мария была счастлива. А сама Анна извлекла из опыта сестры полезный урок, ставший предостережением: натура короля весьма переменчива. Женщина, которой он увлекался сегодня, легко могла быть отвергнута завтра. Анна Болейн не собиралась играть роль еще одной брошенной любовницы короля. – Я не поощряю его! – запротестовала она. – Я не могу от него отделаться. А тут еще Том Уайетт со своими ухаживаниями. И он тоже женат! – Полагаю, короля на самом деле нельзя винить, – заметила Мария. – Королева такая набожная и добродетельная, да и выглядит старой, обрюзгшей, – едва ли у нее соблазнительная фигура. С этим не поспоришь, хотя Анна и чувствовала, что, соглашаясь, предает королеву, ведь Екатерина была к ней добра. Но в королеве больше не осталось ни радости жизни, ни сексуальной привлекательности. Анна знала, что обладает и тем и другим и должна выглядеть соблазнительной для короля на фоне строгого благочестия и сурового достоинства его супруги. – Ну что ж, он может поискать кого-нибудь другого, кем соблазниться, – сказала она. – Я намерена с этим покончить. Однако все оказалось гораздо сложнее, чем она думала.
Однажды весенним вечером Генрих пригласил Анну прогуляться по его личному саду, куда допускались только привилегированные лица. Это был маленький рай на земле: человек приручил природу и превратил ее буйство в аккуратные, огороженные бордюрами цветочные клумбы и посыпанные гравием дорожки. Король провел свою гостью в маленький изящный банкетный домик. Здесь на столе лежали четыре золотые броши. Генрих вручил их Анне так, будто это были приношения божеству. Она в смятении опустила глаза на прекрасные, покоившиеся в бархатных гнездышках украшения: одна брошка изображала Венеру и Купидона, вторая – женщину, державшую в руке сердце, третья – джентльмена, прислонившегося к женским коленям, и четвертая – женщину с короной в руках. Значение первых трех было понятно, а вот последняя, с короной, озадачила. Генрих увидел, что Анна вертит последнюю брошку в руке. – Она символизирует отчужденность или девственность, – пояснил он, – что я считаю очень уместным. И еще вас, держащую в руках любовь короля. Вам они нравятся? – От нетерпения Генрих вел себя почти как мальчишка. – Они прекрасны, сир, но я их недостойна. – Ерунда! Хотя совершенством их может превзойти только ваша красота, они подчеркнут ее. Для меня, запомните это, вы не нуждаетесь в украшениях, но мне будет приятно, если вы станете носить эти знаки моей любви. – Тогда мне придется носить их в уединении, иначе люди начнут интересоваться, как я получила столь дорогие украшения. – И пусть! – воскликнул король. – Но я не смею. Я не уверена, что мне стоит даже принимать их, хотя и осознаю, как велика щедрость вашей милости. – Но вы должны, Анна! Я заказал их специально для вас. Прошу вас, носите их наедине, если считаете это необходимым, и думайте обо мне. Анна про себя вздохнула. Его не переубедишь. – Очень хорошо, – сказала она. – Благодарю вас. – А вы дадите мне что-нибудь взамен? Я молю всего лишь о маленьком амулете. Как могла она отвергнуть его просьбу, видя, какую щедрость он проявил? Анна сняла с пальца и отдала ему кольцо. Это была сущая безделица, ничего не стоящая, но король благоговейно поцеловал его и надел на первую фалангу своего мизинца. – Я прикажу, чтобы его увеличили. – Он прямо лучился от счастья. Генрих носил это кольцо постоянно, но Анна никогда не надевала подаренные им броши. Для нее они символизировали нечто низкое, непристойное: стоимость ее тела и ее целомудрия. Она надеялась, что Генрих, не видя на ней своих подарков, поймет это послание.
Лето разгоралось во всем своем золотом великолепии, а Анне так и не удалось отказать королю. Чем более уклончиво она себя вела, тем более страстными становились его домогательства. Король старался проявлять сдержанность, но, если он будет и дальше носить на рукаве сердце, скоро весь свет обратит на это внимание. Все их свидания происходили урывками и тайком, часто под покровом темноты. Анна не могла даже взять с собой служанку, но она начала доверять Генриху. Он всегда был просителем и никогда – победителем. – Будьте моей! – снова попросил Генрих, заключив Анну в объятия. Он вызвал ее на королевскую площадку для игры в кегли, которая в это позднее время была пуста. – Я хочу держать вас в руках и любить… – Я не могу любить вас! Не только ради соблюдения чести, но и из-за глубокого почтения к королеве. Как могу я причинить боль такой добродетельной правительнице?! Я каждый день провожу в страхе, что она узнает о… – Анна не стала произносить слово «нас». Это намекало бы на некое согласие между ними. – Она не узнает, – поспешил заверить король. – Я буду вести себя крайне осторожно. – Нет! – вскрикнула Анна, напугав приютившихся на ветвях соседнего дерева птиц. Она не хотела продолжать эти тайные, завуалированные отношения. Ей хотелось чистой любви, о которой она могла бы гордо возвестить всему миру. – Прошу вас! – Рука Генриха украдкой обвила ее талию, горячее дыхание било в ухо. – Все станет по-другому. Я буду любить и почитать вас. Нет пределов тому, что я сделаю для вас. Вы получить все, что захотите: деньги, дома, драгоценности, если согласитесь стать моей возлюбленной. Анна стряхнула с себя его руку и пошла прочь: – Таково ваше представление об осторожности? Ваше величество, вы наверняка шутите или пытаетесь испытать меня? Чтобы не утруждать вас необходимостью задавать мне тот же вопрос вновь, умоляю ваше величество, как нельзя более искренно, прекратить это, принять мой отказ и не обижаться на меня. Я боюсь за свою душу. Лучше потерять жизнь, чем честь, которая будет величайшей и наилучшей частью приданого, которое я принесу своему мужу. Генрих смотрел так, будто получил пощечину. – Что ж, госпожа Анна, – наконец сказал он, – мне остается только жить надеждой. Анна обозлилась: – Я не понимаю, могущественнейший король, какуюнадежду вы можете питать. Вашей женой я быть не могу: во-первых, потому, что недостойна, а во-вторых, потому, что у вас уже есть королева. Вашей любовницей я не стану! А теперь, сир, молю вас, позвольте мне вернуться к своим обязанностям. – Анна! – простонал Генрих. – Не поступайте со мной так. Я страдаю!
Он был как одержимый – нет, он и был одержимым. Отказ Анны спать с ним, казалось, сделал ее неизмеримо более желанной. – К чему эти постоянные отговорки? – жалобно спросил Генрих, когда однажды вечером они стояли у реки в Гринвиче в тени часовни. – Я не стану заставлять вас делать что-либо против воли, дорогая, как бы я ни хотел вас. Но если вы согласитесь быть моей госпожой и позволите мне стать вашим избранником, оставив всех остальных, тогда я буду уважать ваше целомудрие и покорно подчинюсь вам. Раньше Анна не могла представить себе, чтобы Генрих Тюдор делал что-либо покорно, но он удивил ее. Он был как щенок, жаждущий хоть капли внимания. А потом ее осенило. Почему нет? Она знала, что ее чувство к Генриху становится теплее просто оттого, что она ближе знакомилась с ним и он ее обожал. Она понимала, что многое в нем может нравиться, и у них находилось немало общих интересов: музыка, искусство, поэзия, спорт и занимательные беседы. Все это заставляло относиться к нему лучше, но это была не любовь, и Анна не ощущала в себе страсти или чего-то хотя бы похожего, любовная жажда короля ее не томила. Тем не менее роль его признанной возлюбленной могла дать свои преимущества. Впервые с тех пор, как Генрих обратил на нее внимание, в Анне заговорили амбиции. Она будет иметь влияние, оказывать покровительство, станет богата… Всего этого не сумела добиться Мария. А ей самой к тому же не придется ничего давать взамен. Пока Анна размышляла, Генрих находился в подвешенном состоянии. Потом она улыбнулась: – Сир, я стану вашей возлюбленной, но при двух условиях. Первое – вы не сделаете ничего, что скомпрометирует мою честь. Второе – это останется нашим секретом, как то приличествует отношениям госпожи и слуги. Я не хочу, чтобы весь свет считал меня вашей шлюхой. – Все, что угодно, все, что угодно, дорогая, – согласился Генрих, глаза его блестели от слез. – Вы сделали меня счастливейшим из мужчин! Давайте скрепим нашу любовь поцелуем. – Он приблизил свои губы к ее губам и впервые поцеловал по-настоящему, словно готов был проглотить. Анна высвободилась, как только смогла.
Проблема состояла в том, что Генрих не стал играть в игру по правилам. Он решил, что Анна теперь пылает такой же страстью, как он, и не станет возражать против его постоянных попыток поцеловать или приласкать как-то иначе, даже если его рука пошарит по ее груди. Анне было ясно, что условия, на которых она настаивала, никогда не удовлетворят короля. Она избегала его общества, как только могла, но он всегда отыскивал свою возлюбленную. В конце концов, сказавшись нездоровой и молясь, чтобы королева поверила ей и ни о чем не догадалась, она попросила отпуск, чтобы съездить в Хивер. Мать очень удивилась, увидев Анну. – По-моему, вид у тебя вполне цветущий, – заметила она, освобождая дочь из приветственных объятий. – По правде говоря, со мной все в порядке, – призналась Анна и вкратце рассказала о том, что ее преследует настойчивый женатый поклонник. – Не смею назвать его имя, потому что он важный лорд и может создать проблемы мне лично и нам всем, – сообщила она в ответ на расспросы матери. – Тогда ты поступила правильно, скрывшись от него. – Леди Элизабет испытующе глядела на дочь. Но Анне недолго пришлось наслаждаться покоем. Каждый день от короля приходили послания, замаскированные простой печатью. Он мучился и терзался. Почему она оставила его? Чем он ее обидел? Что ему без нее делать? Когда он ее увидит? Было ясно, что отсутствие Анны лишь еще жарче распалило его страсть. В надежде заглушить потоком льющиеся мольбы и стенания она писала королю вежливые, уклончивые письма, составленные с одной целью – охладить его пыл. Генрих отвечал страстно, горячо. Чтение ответных посланий Анны приводит его в большое замешательство, писал он, потому что не понимает, трактовать их в свою пользу или нет. И умолял объяснить, как она настроена в отношении их любви. «Их любви?» – думала Анна. Любовь-то вся с его стороны. Ему необходимо получить от нее ответ, настаивал Генрих, ведь уже больше года как он ранен стрелой любви. Надо же, как изящно он обрисовал свое состояние. Анна невольно улыбнулась. Из-за этой вновь возникшей холодности с ее стороны, продолжал король, он теперь не знает, имеет ли право называть ее госпожой своего сердца, потому что само это именование обозначает особую любовь, очень далекую от простой привязанности. Но если ей будет угодно стать его истинной преданной возлюбленной и другом и отдать себя целиком – сердцем, телом и душой – ему, который, напоминал он, был и всегда будет ее самым преданным слугой, то он обещает, что не только снова назовет ее своей возлюбленной, но и сделает единственной и выбросит из головы всех остальных женщин. А она-то думала, что он посвятил всего себя ей одной! Однако было очень похоже, что король флиртовал и с другими женщинами. Неужели он полагает, что оказывает ей честь? В заключение Генрих умолял дать определенный ответ на его, как он метко выразился, не отличающееся выдержанностью письмо и сказать, может ли рассчитывать на ее любовь. Завершал он свое послание так: «Писано рукой того, кто охотно остается вашим Г. К.». «Не буду отвечать», – решила Анна. Но король написал снова, укоряя за медлительность, умоляя заверить в своем благополучии, да еще вложил в конверт украшения, которые, как он полагал, ее порадуют. Тон письма был униженный и молящий. Анна снова не откликнулась. В следующем письме она заметила нотки раздражения ее уклончивостью и тогда написала, что вернется ко двору вместе с матерью. Это вызвало бурный прилив радости. Но Анна не могла допустить, чтобы король заключил, будто она настолько сильно его любит, что не может оставаться в стороне, поэтому послала гонца сказать, что изменила решение и все-таки не может приехать, даже в обществе матери. В ответ, подгоняемая ветром по усыпанным листвой аллеям Хивера, пришла скорбная жалоба. Анна несправедливо жестока с ним, пишет недостаточно часто. Он уже давно не получал известий о ее здоровье, а потому сильная привязанность к ней, которую он ощущает, заставила его снова послать гонца, чтобы справиться о ее благополучии. Король удивлялся, почему она изменила свое решение и отказывается ехать ко двору, если, как ему кажется, он никогда ничем ее не обидел. И еще высказывался в том смысле, что держать его вдали от человека, которого он ценит больше всех в мире, – это слабое воздаяние за великую любовь, которую испытывает к ней. И если Вы любите меня, во что я верю, эта наша разлука должна вызывать в Вас по крайней мере легкую досаду. Ваше отсутствие безмерно печалит меня, и если бы я знал, что Вы искренне желаете продлить его, я бы оплакивал свою злую судьбу и сожалел о своем великом безрассудстве. Анна отложила письмо и откинула голову на высокую спинку скамьи. Она не любила Генриха и не хотела стать его любовницей. Он должен бы уже понять, но тем не менее упорствовал в своей фантазии, что их чувства взаимны. Он действительно в это верил. Жаль, что не удалось дать ему отпор с самого начала. Похоже, придется остаться в Хивере навсегда и умереть здесь старой девой!
К Рождеству Анна начала лезть на стену от скуки. Она доводила мать до остервенения своими перепадами настроения, пока леди Болейн не заставила ее сказать, кто является причиной всех этих беспокойств. – Почти каждый день тебе доставляют письма! Что происходит? В конце концов Анна, не в силах больше сдерживаться, призналась: – Меня преследует король. Он хочет, чтобы я стала его любовницей, а я пытаюсь отбить у него к этому охоту! – (У матери отпала челюсть.) – Никому не говори, даже отцу. Я не хочу, чтобы он подумал, будто я шлюха короля. – Ты думаешь, я сделала бы это? Одной дочери достаточно! – Леди Болейн возбужденно расхаживала по гостиной взад-вперед. – Король поступает неправильно, и плохо, что ты здесь, когда должна служить королеве. Одному Небу известно, как она объясняет себе твое отсутствие. Ты можешь потерять место. И тогда будет еще труднее найти тебе достойного мужа. А ведь тебе уже почти двадцать шесть. Анна поморщилась. Ни к чему было напоминать ей об этом. – Ты должна вернуться ко двору, – настаивала мать. – Я составлю тебе компанию и буду рядом.
– Мне очень приятно слышать, что вы поправились, – сказала королева Екатерина. Прием был теплым, и королева поспешила заверить Анну, что будет давать ей самые легкие поручения. Екатерина была рада видеть и леди Болейн, а потому охотно согласилась, чтобы Анна жила в комнатах отца, пока ее мать находится при дворе. Присутствие леди Болейн положило конец преследованиям Анны со стороны Тома Уайетта. Когда они прибыли, он, сидя в амбразуре окна, бренчал на лютне. При виде Анны его глаза наполнились радостью, он спрыгнул на пол и поспешил приветствовать ее, но леди Болейн грозовой тучей вышла из-за спины дочери. О Томе Анна ей тоже рассказала, переложив на плечи матери обязанность и его держать на расстоянии. – А-а, Томас Уайетт! – воскликнула леди Болейн. – Очень приятно видеть вас! Как поживает ваша дорогая женушка? – При эти словах Том как-то сразу сник и, запинаясь, проговорил, что с Элизабет все в порядке, но она предпочитает не появляться при дворе. – Ей следует почаще приезжать сюда, – заметила мать Анны и увела дочь. Король – это, разумеется, совсем другое дело. Он был вне себя от радости, когда позднее в тот же день натолкнулся на Анну с матерью – они дышали воздухом в саду, – однако после вежливого приветствия совершил оплошность, сказав леди Болейн, что она может идти. – Ваша милость, – ответила Элизабет Говард, – Анна рассказала мне, что вы почтили ее своим вниманием, и, кроме того, заверила, что вы всеми силами стараетесь не нанести урона ее репутации, а потому, не сомневаюсь, позволите мне остаться. – Она сладко улыбнулась. Генрих вперился в нее взглядом. – Мадам, вы ставите под сомнение честь и рыцарственность короля? – спросил он тоном, который не предвещал ничего хорошего. – Сир, миледи не намеревалась обидеть вас, но я бы хотела, чтобы она осталась, – вмешалась Анна. – Вы изволили говорить, что сделаете для меня все. Уверена, ваша милость не допустит, чтобы добродетель той, кому вы имели удовольствие служить как своей единственной возлюбленной, была скомпрометирована тем, что она проводит время наедине с джентльменом, даже с рыцарем из рыцарей. Генрих прищурился: – Мы увидимся позже, Анна. Он не сказал «наедине», но она не сомневалась, что имеет в виду именно это. «Думаю, нет!» – пообещала себе Анна и в тот вечер известила короля, что у нее внезапно сильно заболел живот.
Не прошло и двух дней, как Анна вернулась ко двору, и вот уже рассерженный Генрих поравнялся с ней, когда она совершала короткую прогулку по липовой аллее в Гринвиче в обществе своей горничной. Стоял ясный декабрьский день, солнце сияло, и воздух был чист и морозен. – Почему мастер Уайетт щеголяет перед всеми в вашем украшении? – потребовал ответа король. – Он взял у меня ту подвеску в прошлом году, – испуганно пролепетала Анна. – И не вернул. Генрих не успокоился: – Я только что играл с ним в шары. Выигрышный бросок был мой, но Уайетт это оспорил и измерил расстояние шнурком с вашим украшением. Он едва не помахал им у меня перед носом. – Сир, уверяю вас, у меня нет никаких чувств к Тому Уайетту, кроме дружеских. Как я уже говорила, он женат. Тут нет никаких вопросов. – Она многозначительно взглянула на короля. Генрих схватил ее за руку: – Вы уверяете, что между вами ничего нет? Он, кажется, думает иначе. – Отпустите, сир! Вы делаете мне больно. Разумеется, ничего не было. Я никогда не поощряла его. Вы сами видели, как он стащил у меня украшение. Генрих отпустил ее: – Ах, так вот как это было. Простите, дорогая, я не хотел подвергать сомнению ваши слова. Просто вы мне настолько дороги, что мысль о вашей влюбленности в кого-то другого для меня невыносима. – Тогда все хорошо, – сказала Анна, в душе желая набраться храбрости и сообщить ему, что не любит никого.
Когда ситуация стала безопасной – Генрих ушел на встречу со своими советниками, – Анна отправилась искать Тома и обнаружила его рядом с конюшнями. – Вы глупец, вы дурак, размахиваете перед носом короля моей подвеской! – набросилась она на него. – Значит, правда. Вы его любите. – Это прозвучало как осуждение. – Он любит меня, но вы не должны заикаться об этом. Не могу поверить, что вы считаете себя его соперником. – Он меня спровоцировал, – возразил Уайетт. – Настаивал, что выиграл в шары. Когда он указал на шар, я заметил у него на пальце ваше кольцо, я смотрел на кольцо, а он сказал: «Говорю вам, он мой!» Он говорил не о выигрышном шаре. Я хотел показать ему, что сперва вы были моей. – Я никогда не была вашей! – яростно отнекивалась Анна. – Вы сделали продолжение нашей дружбы невозможным. – Да нет же! – возразил Том. – Выслушайте меня. Я попросил, чтобы он позволил мне измерить расстояние, надеялся, что шар окажется моим, и вынул из-за пазухи ваше украшение, чтобы проверить с помощью шнурка. Я понял, что король узнал его, потому что очень рассердился и сказал, что я, наверное, прав, а его обманули. И ушел. – Вы ведете себя как два петуха, которые бьются из-за курицы! – упрекнула Анна. – Но с этим фарсом нужно покончить. Прошу вас, отдайте мою подвеску. – Нет! – запротестовал Том. – Я люблю вас, Анна, я не перенесу, если потеряю вас. – Вы еще даже не завоевали меня, – печально сказала она. – И это невозможно. – Она протянула руку, и Том неохотно вложил в нее подвеску. – Значит, теперь вы любите короля? – спросил он. – Ему нравится так думать. В глазах Тома промелькнуло сочувствие, смешанное с печалью. – Вы не должны этого делать, Анна. Оно того не стоит. – У меня нет выбора. Он меня не отпустит. – Знайте, я всегда буду рядом. – Знаю, – ответила Анна и пошла прочь.
Вечером, вернувшись в комнаты отца, она обнаружила записку. Сломав печать, Анна увидела на листе всего несколько строчек стихов.
Глава 12. 1527 год
– Уайетта отправили в Италию, – сказал Фрэнсис Брайан, его единственный глаз при этом озорно поблескивал. – Король, очевидно, только что обнаружил у него прекрасные способности к дипломатии, и им тотчас же нашлось применение. – Он подмигнул Анне. Они находились в покоях королевы, где Анна и другие девушки делали последние стежки на маскарадных костюмах. Фрэнсис неглуп, к тому же близок с королем; он догадался, что господин добивается ее благосклонности. И вот теперь Тома убрали с дороги. Жизнь будет не такой сложной. После пяти лет мира и согласия король рассорился с императором и снова искал дружбы с Францией. Анну это радовало, потому что ее самые счастливые воспоминания были связаны с годами, проведенными при французском дворе, и она надеялась, что этот новый альянс даст ей возможность еще раз посетить Францию. Конечно, жизнь не стояла на месте. Бедная Клод умерла три года назад, Маргарита вышла замуж за короля Наварры, но все равно было бы неплохо вернуться туда, хотя бы на короткое время. С большой расточительностью шла подготовка к приему французских послов, которые должны были явиться для переговоров о помолвке принцессы Марии с сыном французского короля с целью укрепить новый entente[38]. Сопровождавшая королеву на всех пирах и турнирах, устроенных в честь гостей, Анна наблюдала, как король выставляет напоказ свою одиннадцатилетнюю дочь – милую рыжеволосую девочку, правда слишком маленькую для своего возраста и очень худенькую. Послы наперебой рассыпались в похвалах ей. Анна знала, что королева чрезвычайно несчастна, ее не радовала перспектива замужества дочери с французским принцем, потому как Франция и Испания были извечными врагами и предубеждение против этой страны глубоко укоренилось в душе Екатерины. Однако послам она демонстрировала улыбку, безупречно выполняя роль послушной супруги и довольной матери. С Генрихом Анна почти не встречалась, он был занят, играя роль хозяина и проводя долгие приватные разговоры с послами. Но через несколько дней Анна получила записку, доставленную церемониймейстером в королевской зелено-белой ливрее. Приходите в часовню в полночь. Я буду говорить с вами. Г. К. По окончании вечерних развлечений заинтригованная Анна отправилась в назначенное место. Хорошо, что сегодня она была свободна от своих обязанностей. Однако перед ней вставала сложная задача – вернуться в спальню девушек, никого не разбудив, и не подвергнуться расспросам, почему она так поздно. В часовне было темно, горела только одна лампа в алтаре – знак Божественного присутствия. Анна сделала реверанс перед распятием, потом огляделась в поисках Генриха. Сумрачная фигура виднелась на королевской скамье, расположенной вверху, на галерее. Король наклонился вперед. – Поднимайтесь сюда! – сказал он и, когда Анна взошла по ступенькам, обнял ее. – Слава Богу, вы пришли! Садитесь рядом. – Он указал на место королевы. – Все в порядке. Мы одни. – Что случилось? – спросила Анна, опасаясь чего-то зловещего. – Анна, я должен поговорить с вами. Я в смятении и не знаю, радоваться мне или плакать. Месье де Граммон, епископ Тарба, поднял вопрос о законности рождения принцессы Марии. Анна была поражена. – Но как такое возможно, сир? Вы женаты на королеве уже… – Восемнадцать лет, – закончил вместо нее Генрих. – И никогда ни у одного мужчины не было такой верной, добродетельной и любящей жены. Почти во всех отношениях Екатерина такова, какой должна быть королева. Но она не смогла родить мне сына, и, Анна, теперь моя супруга уже не женщина в этом смысле. – Он опустил голову на руки, положив локти на перила впереди скамьи. – То, что я собираюсь сказать вам, должно остаться строго между нами, дорогая, потому что это сильно затрагивает королеву. Вы должны знать – а кто не знает? – как я страдал, не имея сына, и как мучился над решением проблемы наследования. – Но, сир, ваша дочь, принцесса, очень хорошо образованна для своих лет и наделена всеми добродетелями. Почему она не может править после вас? Генрих вздохнул: – Не думайте, что я не размышлял об этом. Я для того и отправил Марию в Ладлоу, чтобы она научилась там быть королевой. Но это терзает меня, Анна, гложет изнутри. Женщина правит в Англии? Власть над мужчинами противоречит женской природе. Кто станет прислушиваться к Марии? И кто поведет в битву наши армии? – Мать королевы, Изабелла, делала это в Испании, – заметила Анна, размышляя: а как ответили бы королю регентша Маргарита и Маргарита Валуа? – То же самое твердит мне и Екатерина, – вздохнул Генрих; его ястребиный профиль четко вырисовывался в мерцающем свете лампады. – Но, Анна, это Англия, а не Испания, наши люди не станут терпеть владычество женщины. Много столетий назад здесь была одна королева по имени Матильда, она пыталась управлять страной, ее бесславие вошло в пословицу. Память сохраняется долго. У меня есть побочный сын, как вы знаете, но я не уверен, примут ли его мои подданные в качестве наследника, хотя прихожу к выводу, что это единственная возможность. Но только что передо мной поставили вопрос: не является ли мой единственный полноправный ребенок бастардом? И если Мария выйдет замуж за французского принца, я рискую оказаться последним королем Англии, потому что, когда меня не станет, здесь от ее имени станут править французы. Теперь вы можете понять, почему я в таком смятении, – завершил свою речь король, поворачивая к Анне отягощенное думами лицо. – Я очень хорошо это понимаю, – произнесла Анна, ощущая – в первый раз – некоторое сочувствие к Генриху, пусть даже он и был не прав в своем суждении о способности женщин к управлению государством. – Но почему епископ усомнился в законности рождения принцессы? Генрих вздохнул: – На основании того, что много лет назад папа не должен был выдавать разрешение на мой брак с вдовой брата. Королева была замужем за принцем Артуром, вы знаете. – (Анна кивнула.) – И тогда некоторые люди выражали сомнения, но мой совет взял над ними верх, и я сам был решительно намерен взять Екатерину в жены. Это был прекрасный брачный союз, и я любил ее. Кроме того, она и ее отец убедили меня, что она оставалась девственницей. Артур был болен, когда женился на ней, и умер через шесть месяцев. Но, Анна, добрый епископ указал мне на библейскую книгу Левит, и я перечитывал ее снова и снова, потому что она предупреждает о наказании для тех, кто вызовет недовольство Господа, взяв в жены вдову брата. «Они будут бездетны!» А имея одну только дочь, я все равно что бездетен. Все мои сыновья, рожденные Екатериной, умерли. В глазах Генриха стояли слезы: он был обездоленным отцом и сувереном без наследника. – Если у епископа возникли сомнения по поводу моего брака, то они могут появиться и у других, – продолжил Генрих. – Бог свидетель, за прошедшую неделю я в деталях изучил все это дело. Читал книги, пока у мне не начинала болеть голова. Поговорил со своим духовником. Он считает, вполне возможно, что я впал в ошибку и живу в грехе. Дабы избежать гнева Божьего, он порекомендовал мне обратиться за советом к архиепископу Кентерберийскому и моему совету. – Генрих замолчал, на лице его читались следы душевных терзаний. – Так вот, Анна, я намерен это сделать, имея целью объявить мой союз с королевой кровосмесительным и не имеющим законной силы. Анна подавила испуганный вздох: – Ваша милость готовы пойти на это? Вы разведетесь с такой преданной и любящей королевой? – Я должен подумать о моем королевстве, Анна, и о том, что произойдет, если я умру, не оставив сына. Начнется гражданская война, в этом можно не сомневаться. Богу известно, у меня есть немало родственников королевских кровей со стороны Плантагенетов, которые могут заявить свои права, и некоторые из них не окажут мне любезности дождаться моей смерти. – В его голосе звучали неподдельный страх и злость, тоже вполне искренняя. – Я должен иметь сына, Анна, и для этого мне нужно взять себе другую жену. Она пыталась осмыслить сказанное: – Но королева? Что станет с ней? Она будет опустошена. Она так вас любит. – Екатерина поймет, что эти сомнения необходимо разрешить и что мне нужен наследник. Но да поможет мне Господь, я не знаю, как смогу обрушить все это на нее, а пока, Анна, вы не должны ничего никому говорить. Екатерина уже некоторое время догадывается, что не все идет хорошо. Я… воздерживаюсь от разделения с ней ложа. Не только из-за угрызений совести, хотя духовник и посоветовал мне поступать так, пока дело не разрешится. У нее одно заболевание… Ну, я не хочу этого касаться. Внезапно потребность Генриха в ней и его страсть наполнились для Анны новым смыслом. Он искал то, чего больше не могла ему дать супруга. Генрих положил руки на плечи Анны, привлек к себе, и она почувствовала, что он беззвучно плачет. – Анна, я пригласил вас сюда не только для разговора о моем браке, – сказал он после долгой паузы и вдруг опустился перед ней на одно колено. – Вы сказали, что не отдадитесь мне, и я уважаю это. Но когда я буду свободен, вы выйдете за меня? Такого поворота Анна ожидала меньше всего и оттого сильно смутилась. Когда Генрих говорил о повторном браке, она решила, что он собирается взять в жены какую-нибудь иностранную принцессу, которая принесет ему политические выгоды и богатое приданое. Короли не женятся на таких, как она, не способных дать ни того ни другого. Генрих смотрел на нее полным надежды и нетерпения взглядом, со слезами на глазах. – Возможно, мне не стоило заводить этот разговор сейчас, когда я еще не свободен, но, Анна, я искренне люблю вас, я от вас без ума и не могу думать ни о какой другой женщине в качестве своей супруги. – Он сжал ее руки и поцеловал. – Скажите, что я могу надеяться! – Я не достойна, – проговорила Анна, не в силах осознать великое значение того, что они обсуждали. – Я не знатного рода. – У вас сердце ангела и дух, достойный короны, – вдохновенно изрек Генрих, поднялся с колена, сел на прежнее место и снова взял руки Анны в свои. – Никто не может отрицать этого. Моя бабка тоже была незнатного рода. Дед, король Эдуард, женился на ней по любви. Тогда, конечно, поднялся страшный переполох. Знать отвергла ее, но она оказалась хорошей королевой. И вы тоже будете, моя дорогая, я в этом не сомневаюсь. Вы слеплены не из простого теста. Сердце Анны отчаянно стучало, постепенно она начала верить в то, что Генрих действительно хочет сделать ее королевой и что это не такое ужасающее предложение, как ей показалось сначала. – Кроме того, – с усмешкой продолжил король, – кажется, единственный способ, каким я могу завоевать вас, – это женитьба. Анну пронзила внезапная мысль: – Сир, эти сомнения, которые у вас возникли, надеюсь, они не из-за меня? – Нет, Анна. Я задавал себе тот же вопрос. Но если бы я не встретил и не полюбил вас, они все равно появились бы и я все равно желал бы аннулировать брак. Мне нужно позаботиться о наследнике. Это мой королевский долг. До конца осмыслить произошедшее Анне не удавалось. Может, она видит это во сне? Но нет, вот Генрих, большой и страстный, тепло его ладоней согревает ее руки. Теперь Анне становилось яснее, что повлечет за собой брак с королем. Все, чего она захочет, будет в ее распоряжении. Ее семья получит неизмеримые преимущества. Болейны станут самым знатным семейством в королевстве. Увидеть реакцию отца на такое известие – ради одного этого стоило принять предложение Генриха! Ее дети и их потомки будут править Англией! Но вместе с королем придется брать и мужчину. В сердце своем Анна никогда не выбрала бы Генриха и не хотела иметь его в качестве самого близкого человека. Она не любила его и знала, что у нее будет гораздо меньше свободы в браке с ним, чем с другим, менее значительным мужчиной, который больше подходил бы ей. Брак с королем поставит их обоих в спорную ситуацию, и наверняка возникнут различные препятствия, которые придется преодолевать. Однако в Анне взыграла гордость – гордость за себя и за свою семью. Представитель семейства Перси посчитал ее достойной спутницей жизни, и в ее жилах текла кровь Плантагенетов. Почему бы ей не стремиться к короне? Вдалеке прозвенел колокол, и она услышала крик караульного: «Час ночи, и все спокойно!» – Уже поздно, сир, – встрепенулась Анна. – Мне нужно идти. Молю вас, не считайте меня бесчувственной, вы оказали мне высокую честь, предложив стать вашей супругой и королевой. По правде говоря, мой разум не может полностью этого осознать. Прошу вас, дайте мне время на размышления, такое решение принять непросто. – Не спешите, дорогая, думайте, сколько вам нужно, – пробормотал Генрих и сдавил ее в объятиях, прижимая свои губы к ее губам. На этот раз она не сопротивлялась.Анна понимала, что при дворе Генрих не даст ей покоя, а потому попросила у королевы разрешения удалиться, опять сославшись на болезнь, и вместе с матерью уехала домой в Хивер. В руке она сжимала сложенный листок бумаги, который перед расставанием вложил в ее ладонь страдающий Генрих. На нем король написал:
Первым ответом ей стало письмо отца. «Я узнал наиприятнейшую и совершенно неожиданную новость от самого короля! – начинал он свое послание. – Ничто иное не было бы для меня столь желательным!» Анна понимала, какое значение ее замужество будет иметь для отца. Сэр Томас Болейн был амбициозным человеком, но даже он не мечтал о подобном счастье. Стать отцом будущей королевы Англии и, по воле Господа, дедом следующего монарха – такая перспектива в случае осуществления принесла бы ему и его семье больше богатств, власти, славы и почестей, чем он когда-либо желал получить. Анна постучала в дверь матери, набрала в грудь воздуха и открыла ее. Впервые она собиралась произнести вслух ошеломительную новость. Вот сейчас она сделает это, и все станет более реальным. – Мама, – начала Анна. Элизабет Говард сидела на постели и перебирала шелковые нитки для вышивания. Она подняла взгляд: – Да? Дочь схватила ее руки: – Мама, у меня замечательная новость, но, прежде чем я расскажу, дай слово до поры до времени держать ее в секрете. – Что же это? – Леди Болейн поднялась, оставив на кровати шелк. – Король собирается развестись. Он попросил меня быть его следующей королевой, и я согласилась. Мать ахнула, потом вскрикнула от изумления и крепко обняла дочь. – Не могу в это поверить! – повторяла она снова и снова. – Моя дочь – королева Англии! А отец знает? – Знает. Король сказал ему, и он вне себя от радости. Мама, твой внук будет королем! Только подумай! А как обрадуется Джордж! – Она помолчала. – Не уверена, что Мария будет довольна. К счастью, сестра находилась при дворе, так что с этой проблемой не придется столкнуться немедленно. Анна вспомнила, как в Марии на миг вспыхнула ревность, когда она впервые рассказала ей об ухаживаниях короля. Они всегда соперничали, но теперь у Марии нет никакой надежды сравняться с Анной, так ей повезло. – Что же сейчас происходит? – нетерпеливо спросила мать, наливая им обеим немного вина, чтобы отпраздновать радостное событие. Анна объяснила, что король предпринимает неотложные шаги для аннулирования своего брака. – Нам пока нужно соблюдать крайнюю осторожность и осмотрительность, – добавила она, – так что на какое-то время я останусь здесь. Надеюсь, решение не заставит себя ждать. – Я буду молиться об этом, – сказала мать, – хотя мне жаль бедную королеву. Она ни в чем не повинна. Для нее это будет тяжелым ударом. – Уверена, король позаботится о ней наилучшим образом. Анна чувствовала себя виноватой перед Екатериной. Но, напомнила она себе, это не ее ошибка. Никто не удержался бы на ее месте, раз брак королевы незаконен, а король обязан обеспечить преемственность власти: как бы несправедливо это ни было, а Екатерине придется смириться и принять свою судьбу. Неожиданно раздался отчаянный стук в дверь гостиной, и, не дожидаясь ответа, в комнату влетел управляющий: – Миледи, король здесь! Он уже съезжает с холма! Мать взвилась и закричала, чтобы управляющий спускался вниз и встречал гостя, распорядилась принести еще вина, наказала повару встряхнуться и показать все, на что он способен, – приготовить хороший ужин и не забыть выставить на стол лучшее серебро. Анна вскочила на ноги, вспомнив, что на ней старое зеленое платье и волосы не убраны. Со стучащим сердцем она быстро оправила юбки, провела гребнем по длинным волосам и поспешила через входной зал во двор. Сквозь арку гейтхауса она видела короля: в костюме и сапогах для верховой езды, он переезжал подъемный мост в сопровождении четырех джентльменов и четырех йоменов из королевской стражи. Управляющий низко кланялся, мать делала реверанс. Король спешился и поднял ее из поклона: – Приветствую вас, леди Болейн! Мы охотились неподалеку. Я остановился в Пенсхерсте и подумал, неплохо бы нанести вам визит. – Для нас это большая честь, ваша милость, но боюсь, так как мы вас не ждали, то не сможем оказать вам достойного гостеприимства. – Ничего страшного! – Генрих широко улыбался. – Небольшое угощение и прогулка по этим великолепным садам безмерно меня порадуют. Будет приятно провести время в кругу друзей и немного отдохнуть от государственных дел. Глаза короля были прикованы к ожидавшей у входа в замок Анне; исполняя реверанс, она видела в них искристое ликование. – Дорогая! – подходя к ней широким шагом, воскликнул Генрих, потом поднял и поцеловал в губы. – Как возрадовалось мое сердце при виде вас! Надеюсь, вы в добром здравии? – Я чувствую себя прекрасно, ваша милость, – ответила она, понимая, что Генрих рассматривает ее простое платье, а мать не отрывает от них взгляда. – Простите, что принимаем вас без церемоний. – Вы выглядите прелестно, – пробормотал король. Они вошли в замок. Анна провела Генриха и его компаньонов в гостиную, где уже ждал свежий кувшин вина. – Вы останетесь на ужин, сир? – с трепетом спросила мать. – Я не хотел бы затруднять вас, леди Болейн, но благодарю за приглашение. – Он принял кубок с вином. – Королева ждет вашего возвращения, – сказал он Анне, с надеждой глядя на нее. – Это очень мило с ее стороны, – ответила Анна. – Прошу вас, окажите любезность и передайте ей, что мне стало немного лучше. Я вернусь ко двору, как только смогу. Наступила тишина. – Ваша милость, пусть Анна покажет вам сад, – нарушила ее леди Элизабет, – окажите ей такую честь. Генрих осушил кубок: – Это было бы для меня большим удовольствием. – Я вызову миссис Орчард, – сказала Анна. Они вышли на теплый майский воздух, проследовали мимо йоменов, которые остались за воротами. Один страж покинул свой пост и двинулся следом, держась на приличном расстоянии и шагая в ногу с возбужденной миссис Орчард, которая определенно складывала в голове два и два и получала невероятную сумму. Как только Генрих и Анна оказались вдали от всех и никто не мог их услышать, король повернулся к ней: – Ваше письмо заставило меня расплакаться. За всю жизнь я еще ни разу не чувствовал себя таким счастливым. Благодарю вас, моя дорогая, за то, что сделали меня счастливейшим из смертных. – Он схватил руку Анны и поцеловал. Они прогулялись по берегу Эдена, а потом Анна отвела Генриха на свое любимое место на лугу. Там они сели на траву. – В такие моменты у меня возникает желание быть не королем, а простым сельским джентльменом, – задумчиво произнес Генрих, пожевывая стебелек травинки. – Вот это, а не придворная суета настоящая Англия. – Вы бы стали скучать по этой суете, сир, – поддразнила его Анна. – Тут бывает очень уныло. Поверьте, я знаю. – Тогда приезжайте ко двору и будьте со мной. – Я не должна… не сейчас. – Она помолчала. – Есть какие-нибудь новости? Генрих усмехнулся: – Да, моя милая. Дело движется. Исполняя должность папского легата, кардинал тайно созвал церковный суд в Вестминстере. Председательствует архиепископ Уорхэм. И мы собрали группу епископов и каноников. Меня вызвали на прошлой неделе и обвинили в том, что я сознательно взял в жены вдову брата. Я признал обвинение, рассказал о своих угрызениях совести и попросил принять решение по моему делу. Скоро оно будет вынесено. А потом, дражайшая Анна, мы сможем пожениться! Она надеялась, что его оптимизм обоснован, но не смела поддаться восторгу. Хотя всего через несколько недель она может стать королевой! Анна представляла, как сидит в Вестминстерском аббатстве, и даже ощущала вес короны на голове. Картина была абсолютно захватывающей, тем не менее в нее не совсем верилось. – Рада слышать, что кардинал поддерживает вашу милость. – Теперь да. – Что вы имеете в виду, сир? Генрих прищурился: – Когда я впервые сказал ему, что хочу аннулировать брак, и спросил его мудрого мнения на этот счет, он упал на колени и пытался отговорить меня, приводя всевозможные доводы. Анна задержала дыхание. Опять Уолси пытается разрушить ее будущее, как уже сделал однажды! – Но я провел с ним беседу, – успокоил ее Генрих. – И теперь он держится другого мнения. Анна всем сердцем надеялась. Она не позволит этому мясницкому псу встать на пути ее возвышения. Но если он обеспечит Генриху развод, она простит кардиналу все. – Ваша милость говорили с королевой? – Еще нет, – ответил Генрих. – Я ожидаю результата слушаний. Анна почувствовала, что ему не хочется обсуждать это дело с Екатериной. – Я буду молиться о благополучном исходе, – сказала она. – Вы даже не представляете, как усердно молился я. Жду не дождусь того момента, когда мы сможем быть вместе – по-настоящему вместе. – Генрих наклонился, взял в ладони лицо Анны и поцеловал ее в губы, долго и с любовью. – Пора возвращаться. – Она отстранилась и встала, но потом вспомнила, с кем разговаривает, и добавила: – Если вашей милости будет угодно. – Мне это не угодно, Анна. Оставлять вас – чистое мучение. Но вы правы. Вернемся к вашей матери. Она будет беспокоиться, не случилось ли чего. – Думаю, она может догадаться! – Анна засмеялась.
Все письма Генриха были проникнуты болью от разлуки с Анной и написаны красиво и трогательно. Такие послания женщины хранят, как драгоценности, если влюблены в их автора. Анна читала эпистолы Генриха бесстрастно, радуясь, что способна вдохновлять на такое преклонение столь могущественного человека. Однако те же письма заставляли ее задумываться: а найдет ли она средство поддерживать живым огонь этой страсти? Какое-то время мужчина способен выносить уклончивость, а потом просто перестанет возвращаться за бóльшим. Но потом пришло письмо, которое успокоило Анну. Моя возлюбленная и подруга, я и мое сердце передаем себя в Ваши руки и умоляем не оставить нас своим благоволением, и да не уменьшится Ваша привязанность по причине пребывания вдали от нас. Чем длиннее становятся дни, тем дальше солнце и тем горячее; так же и с нашей любовью. Мы далеко друг от друга, и тем не менее она не утрачивает горячности, по крайней мере с моей стороны, надеюсь, что и с Вашей тоже. Ваше отсутствие было бы нестерпимым для меня, если бы не стойкая надежда, которую я питаю, на длительную неизменность Вашей привязанности. Хотел бы я оказаться на месте браслета, когда он Вас обрадует. Так завершал послание король и подписывался верным слугой и другом Анны. И чтобы дать любимой повод думать о себе, он вложил вконверт свое изображение, вправленное в браслет. Осада была снята. Это первое письмо, в котором король не умолял Анну: «Станьте моей!» Вдруг выяснилось, что согласие выйти за него замуж внесло серьезные изменения в их отношения. Разумеется! Если она станет королевой, даже тень скандала не должна ложиться на нее, не говоря уже о случайной беременности. Так что король вынужденно держал свое обещание уважать честь Анны и ждал, пока сможет законным образом насладиться ею. Отныне и впредь власть над осуществлением желаний Генриха принадлежит не ей – она находится в руках Божьих и еще людей, собравшихся в Вестминстере.
Следующее письмо короля было безрадостным. Те, кому было поручено решать его дело, заявили о своей некомпетентности. Тогда он обратился к Тайному совету; его члены согласились – у его милости есть веский повод для сомнений – и посоветовали обратиться за решением по поводу его брака к папе. Плечи Анны уныло опустились, когда она прочла это. Обращение в Рим, конечно, затянется на месяцы, даже если папа проявит охоту сделать одолжение королю. Но гораздо худшие вести ждали впереди. В начале июня Генрих сообщал, что наемные войска императора жестоко разграбили Рим, сам император в тот момент вел военную кампанию в каком-то другом месте Италии. В отсутствие командования наемники бесконтрольно вторглись в город и устроили там настоящую оргию насилия, которая продолжалась не один день. «Я не стану огорчать вас подробностями об их жестокостях, – писал Генрих, – потому что описать это словами невозможно. Эти скоты осквернили даже собор Святого Петра». Папе пришлось искать убежища в замке Святого Ангела, и теперь он был фактически пленником императора Карла, племянника королевы Екатерины, и тот желал воспользоваться ситуацией, которая привела Святого Отца под его «покровительство». Это означало, поняла Анна, стремительно падая духом, что в настоящее время желаемое решение по делу Генриха едва ли будет вынесено, это было столь же вероятно, как полет человека на Луну, особенно если император узнает, что Генрих собрался жениться на ней. Анна помнила его несносным юнцом, который ненавидел ее за дерзость. Она почувствовала себя абсолютно беспомощной, и когда позже в том же месяце домой ненадолго приехал Джордж, в тот момент – виночерпий короля, сестра излила на него всю свою досаду. – Разве не может кардинал как папский легат просто объявить брак недействительным? – вопрошала она. Джордж покачал головой: – Отец говорит, что император всемогущ. Если Карла спровоцировать, он будет готов объявить войну. А стоит Уолси объявить своей властью о расторжении брака короля, и это может быть воспринято как провокация. Нет, дорогая сестрица, нам ничего не остается, как только запастись терпением. – Может быть, мне стоит вернуться ко двору. – Я бы не советовал делать это прямо сейчас. Великое дело короля, как они его называют, стало настолько широко известным, будто о нем объявил на площади городской глашатай. Его милости пришлось отдать распоряжение лорд-мэру Лондона, чтобы тот наказал людям не распространять сплетни под страхом вызвать неудовольствие короля, но это никого не остановило. Отец говорит, общий ропот достиг такой силы, что кардинал посчитал разумным дать знать о происходящем всем нашим послам за границей. – Мое имя уже звучит? – встревоженно спросила Анна. Все шло не так, как планировалось. Она рассчитывала на быстрый полюбовный развод, за которым последует веселая свадьба. – Пока нет. Брат с сестрой уставились друг на друга, зная, что очень скоро это случится. – Мария знает, что король хочет жениться на мне? Джордж поморщился: – Да. Отец сказал ей. – Судя по твоей реакции, она не слишком обрадовалась. Джордж пожал плечами: – Ей король не нужен. Она просто не может вынести мысли, что ты станешь королевой! – Это волнует меня меньше всего. Мне сейчас не до ее ревности. Анна не находила себе места, так ее взволновали новости. Мать пыталась успокоить дочь, убеждала, что в конце концов все будет хорошо. – Но откуда тебе знать! – вспыхнула Анна. – Я этого не знаю, но полагаюсь на милость Божью, – заявила леди Элизабет. – А теперь хватит метаться, лучше помоги мне в винокурне.
В конце июня Генрих приехал из Гринвича в Хивер. Анна с облегчением следила за приближением маленькой кавалькады и радовалась, видя короля. У него наверняка есть новости! – Ваш брат передал мне, что вы были безутешны, дорогая, – сказал Генрих, нежно обнимая Анну, после того как леди Болейн оставила их наедине в гостиной. – Вы не должны волноваться. Ситуация в Италии весьма неустойчивая и может измениться в любой момент. Я полагаюсь на его святейшество. Я был добрым сыном Церкви. Анна надеялась узнать о более ощутимых переменах, но выдавила из себя улыбку: – Я знаю. Я читала книгу вашей милости, где вы защищаете таинства, которые отвергает Мартин Лютер. – Правда? – Генрих выглядел довольным. – Папа был так благодарен, что даровал мне титул Защитник веры. Так что, я надеюсь, он благосклонно отнесется к моему делу. – Король сел и взял одно из маленьких мармеладных пирожных, которые предложила ему Анна. – Айвовое – мое любимое. – Он одобрительно кивнул, потом привлек ее к себе и жадно поцеловал. – Анна, вы будете моей и станете королевой, не сомневайтесь! Она поцеловала в ответ, потом выпуталась из его рук. Генрих отпустил ее неохотно. На глаза ему попался лежавший на столе иллюстрированный молитвенник Анны. – Это прекрасно, – заметил король, перелистывая страницы, пока не добрался до изображения Христа, Мужа Скорби, с истерзанной плотью и увенчанного тернием. – Дорогая, все, что я сейчас сказал, сказано всерьез. – Он взял в руку перо, опустил его в чернильницу, склонился над страницей и написал: Если ваша память так же сильна, как моя привязанность, то я не буду забыт в ваших ежедневных молитвах, потому что я навеки ваш, Генрих К. Она не могла не отреагировать. Взяв у Генриха перо, Анна приписала от себя внизу противоположной страницы: Вы будете убеждаться каждый день в моей любви и доброте. – Анна! – пробормотал Генрих густым от страсти голосом. – Вы сладчайшая и милейшая из возлюбленных, воистину, я благословен!
Только король ускакал в Гринвич, как домой явился отец, прихватив с собой дядю Норфолка. Мать отправилась расшевелить слуг, чтобы те приготовили угощение, а герцог занял кресло отца во главе стола и сосредоточил пронзительный взгляд на Анне: – Племянница, у нас есть причины полагать, что кардиналу доверять нельзя. Он выполняет приказания короля относительно Великого дела, но сердце его не лежит к этому. Даже если оно закончится успехом, Уолси намерен женить короля на французской принцессе. – Он не осмелится пойти на такое! – воскликнула Анна. – Все эти годы он осмеливался, – с мрачным лицом произнес отец. – Он управляет королевством. – В то время как мы, аристократы, – те, кому по праву рождения положено быть советниками короля, отстранены от власти, – прорычал дядя Норфолк. – Я всегда говорил, этот выскочка, мясницкое отродье, оказывает пагубное влияние на короля. Сэр Томас кивнул: – Меня сделали лордом Рочфордом, но обязали уйти с поста казначея без какой бы то ни было финансовой компенсации. Я виню в этом Уолси. Он ненавидит нашу семью. Видит в нас угрозу и сделает все возможное, лишь бы нас уничтожить. – У меня тоже нет причин любить его, – сказала Анна. – Не могу простить ему, что он разорвал мою помолвку с Гарри Перси. Он имел дерзость назвать меня глупой девчонкой на глазах у всех своих придворных. Вдвойне оскорбительно было терпеть подобное обращение от человека низкого происхождения. – Скоро он будет сожалеть об этом, – заверил ее Норфолк. – Мы уже давно ищем способ, как подорвать расположение короля к Уолси, и сегодня мы здесь, чтобы просить тебя о помощи. – Дядя наклонился вперед и, сложив руки домиком, поставил их на стол. – Король испытывает к тебе глубокую привязанность, ты пользуешься влиянием. Видя это, мы решили, что ты могла бы послужить отличным инструментом, чтобы помочь нам свалить кардинала. Что скажешь? Анна не задумывалась. – Я готова! Король будет гораздо лучше управлять этим королевством и быстрее добьется развода без влияния Уолси. Давнишняя обида продолжала терзать ее. Месть будет сладка.
Позже за ужином, который мать приказала подать с большой церемонностью в главном зале, отец открыл Анне, что они с дядей Норфолком и многими другими дворянами и лордами из совета побуждали короля отправить кардинала во Францию, чтобы тот заручился поддержкой короля Франциска. – Французский король, вероятно, возьмет на себя роль посредника и убедит папу, чтобы тот расширил полномочия Уолси в качестве легата и дал ему право вынести решение по делу короля, – сказал сэр Томас, накалывая на вилку кусок мяса. – Но наше намерение и наша цель – убрать Уолси с дороги, тогда у нас появится время, чтобы лишить его доверия короля. – Мы хотим, чтобы ты убедила его милость отправить кардинала во Францию, – добавил Норфолк. – Можешь это сделать? – Могу и сделаю, – ответила Анна. В тот же вечер она написала Генриху. Вскоре после этого он сообщил ей, что Уолси отбыл во Францию. Пора было возвращаться ко двору.
Гринвич Анна нашла бурлящим слухами и домыслами по поводу Великого дела. Королева приняла ее тепло, спросила о здоровье и сказала, что рада видеть. Екатерина была так добра, так заботлива, что Анну вновь посетило чувство вины, ведь она знала, что очень скоро повергнет во прах свою любезную госпожу. Королева выглядела утомленной, и на лице ее появились новые морщины. «Знает ли она о происходящем?» – задумалась Анна. Генрих прислал ей записку: она должна прийти в липовую аллею рядом с монастырем в одиннадцать часов. Когда Анна туда явилась, несмотря на тепло июньской ночи закутанная в накидку с капюшоном, Генрих обвил ее руками: – Анна! Анна! Слава Богу! Тут был настоящий ад. Я скучал по вас так, что не передать словами. Она попыталась ответить на поцелуи Генриха с его горячностью. Однако он быстро отстранился от нее с встревоженным видом. – Что случилось? – спросила Анна, начиная паниковать. Генрих вздохнул: – Завтра я собираюсь говорить с королевой. Я должен это сделать, или она услышит о нашем деле от кого-нибудь другого. – Завтра? Сир, я прислуживаю ей утром. Думаю, мне лучше не присутствовать при этом. Тяжело будет видеть, какое воздействие произведет этот разговор на королеву. – Не волнуйтесь, дорогая. Я не упомяну вас. Это дело должно решаться между мной и Екатериной.
Все утро Анна не могла смотреть на королеву и встречаться с ней взглядом. Она была исполнена страха за свою госпожу и такого тяжелого чувства вины, что никакие разумные доводы не могли его устранить. Генрих прибыл в десять часов. – Оставьте нас! – распорядился он. Анна почувствовала, что дрожит. Дамы занялись кто чем, а она напрягала слух, стараясь расслышать, что происходит за дверью, но оттуда доносился лишь монотонный звук голоса Генриха. Потом раздался вой, от которого кровь застыла в жилах. Это королева изливала свое горе в одном долгом нечленораздельном стенании.
Когда хлопнула наружная дверь, Анна задержалась, а остальные дамы бросились к госпоже, пытаясь уговорить ее позаботиться о себе и привести в чувство чашей вина. Екатерина выпила ее залпом. Королеву трясло, и она не могла унять эту дрожь. – Совесть мучает его, – прошептала она. – Он хочет покончить с нашим браком. Боится, что это оскорбление Господу. Раздался хор недоуменных возгласов. Конечно нет! Его милость ввели в заблуждение те, кому следует думать, о чем они говорят. Все будет хорошо! Анна не могла вымолвить ни слова, потому что знала: ничего хорошего Екатерину не ждет. – Нет, – прошептала королева. – Он говорил, что возьмет другую жену. Все стали яростно осуждать короля. Екатерина откинула голову на спинку кресла: – Это все дело рук кардинала. Он ненавидит меня и Испанию и не простил моему племяннику-императору, что тот не сделал его папой. – Немного собравшись с силами, королева села прямее. – Что бы они ни говорили, мой брак с королем законен и правилен. – Слова прозвучали как воинственный клич перед битвой. – Сам папа дал на него согласие. Мой долг – убедить мужа, что он совершает ошибку, и я это сделаю, да поможет мне Бог! Дамы зааплодировали ее решимости, и пока Екатерина благодарила их за верность и любовь, Анна силилась не разрыдаться. Королева улыбнулась ей. – Со мной теперь все хорошо, госпожа Анна, – сказала она, беря фрейлину за руку и пожимая ее. В этот момент Анна поняла, какие чувства испытывал Иуда Искариот.
Позже Анна отправилась искать Генриха и нашла его в королевском саду. Король был хмур и очень жалел себя. – Королева была сильно расстроена после вашего ухода, – заметила Анна. Он поморщился: – Да, она огорчилась, как я и боялся. Я сказал, что хочу только разрешить сомнения, о которых говорил епископ Тарба, и нужно сделать так, чтобы всем было хорошо, но это не помогло. Она продолжала твердить одно и то же – что она моя верная жена. – Дайте ей время, – утешала его Анна. – Она постепенно смирится. Генрих сглотнул: – Я в этом не уверен. Когда я встретился с ней сегодня после обеда, она сказала, что не сомневается в законности нашего брака и что я не прав, подвергая его сомнению. – Если папа выскажется против, ей придется это признать. Генрих покачал головой: – Анна, она намерена сражаться со мной. – У вас сильная позиция. – Да, потому-то я и не сомневаюсь в победе. Ради всего святого, мне ненавистны эти распри. Я не виноват, что папа совершил ошибку, – жалобным тоном произнес Генрих. – Вы упомянули обо мне? – Боже, нет! Я хочу держать вас в стороне от этого, пока папа не вынесет решение. Я не упоминал о вас даже в разговоре с Уолси. Нет, Анна, пока это дело не завершится, я намерен демонстрировать, что между мной и королевой все в полном порядке. Я хочу предстать на суде в выгодном свете, потому что боюсь, как бы Екатерина не начала подстрекать императора к войне, раз уж она считает, что с ней поступают несправедливо. Положитесь на меня. Я знаю, как с ней обращаться. «Он ее боится», – догадалась Анна. – Не падайте духом, – сжимая ее руку, уговаривал Генрих. – Многие при дворе меня поддерживают. Архиепископ Уорхэм сочувствует делу. Он стар и ненавидит перемены, но сказал Уолси, что, как бы ни относилась к этому королева, решение папы придется исполнить. Анна, я абсолютно убежден, что прав, требуя аннулирования брака. И я намерен жениться на вас, кто бы мне ни противостоял. – Глаза короля потемнели от страсти. – Я схожу с ума из-за вас. Но прямо сейчас вы должны уехать домой.
Глава 13. 1527 год
Странно было находиться в Бьюли. Этим особняком в Эссексе когда-то владела семья Болейн. Анна помнила, как приезжала сюда ребенком, но тогда дом был гораздо меньше. Пока она находилась во Франции, отец продал его королю, и теперь это был огромный дворец, облицованный модным красным кирпичом, во дворе бил фонтан, а окна остеклили цветными стеклами. Похоже, Генрих отбросил в сторону всякую осторожность, раз вызвал ее сюда. Анна отсутствовала при дворе всего пять недель, и за это время мало что могло измениться. Удивительно, но сразу по приезде Анну проводили в личные покои короля, и Генрих обнял ее на глазах у всех своих джентльменов. Видя выражение лица Анны, он принял решительный вид: – Я прибег к уловке, Анна! Моя любовь к вам – вещь почетная, и я покажу всем, как высоко ценю вас. Это не причинит вреда вашей репутации. Весь мир должен видеть, что вы добродетельны, вас не в чем упрекнуть и, – он понизил голос, – достойны стать моей королевой. Король вложил ей в руку маленькую серебряную шкатулку, в которой находились кольцо с изумрудом и другие дорогие украшения. Анна улыбнулась и поблагодарила. Она понимала, с каким вниманием следят за этой сценой находившиеся рядом мужчины, которым, вообще-то, не следовало отрываться от игры в карты, кости и музицирования. Среди джентльменов короля находился и красавец сэр Генри Норрис. Глаза их на миг встретились. Анна почувствовала, что краснеет, и быстро отвела взгляд. Генрих пригласил ее прогуляться по его личному саду. Как только они вышли на улицу, Анна поведала ему, как ее расстроило то, что главной темой разговоров в гостинице, где они с отцом останавливались по пути в Бьюли, было Великое дело. – Люди не могут поверить, что ваша милость приведет в исполнение столь злое намерение. Женщины высказываются в поддержку королевы с особым жаром. Говорят, вы ищете повод отделаться от нее только ради своего удовольствия. Генрих нетерпеливо махнул рукой: – Они просто неотесанные глупцы, к тому же имеют наглость порицать своего короля. Дорогая, я призвал вас сюда не для того, чтобы обсуждать пересуды неверных подданных. Я хочу немного побыть наедине с вами, прежде чем уступлю вас королеве. – Он наклонился и поцеловал ее в губы, привлекая к себе. Анна соединила руки у него на шее, желая ощутить что-нибудь похожее на ее чувства к Гарри или Норрису. Конечно, ей очень хотелось получить корону, но в такие моменты, когда становилась реально ощутимой цена, которую придется заплатить, у Анны создавалось впечатление, что неудержимый поток влечет ее в бездну. Она поспешила навестить Марию. Сестра, как и прежде, жила в комнатах Уилла. Анна хотела предупредить ее, что секрет скоро будет раскрыт. Но Мария встретила эту новость холодно. – А мне какое дело? – фыркнула она. – Он ждет тебя с распростертыми объятиями. – Но будет скандал. – Ты застелила постель, вот теперь и ложись в нее! – Глаза Марии сверкали от ревности. – А если думаешь, что я стану преклонять перед тобой колени, как перед королевой… – Я пришла сюда не для того, чтобы ругаться, – сказала Анна. – Давай не будем ссориться. Я не отнимала у тебя короля. – Ты явились сюда властвовать надо мной! – Мария была настроена непримиримо. Анна сделал еще одну попытку: – По крайней мере, позволь мне повидаться с детьми. – Они спят. Спокойной ночи. – И Мария закрыла дверь.Екатерина ходила повсюду с решительной улыбкой на лице, однако улыбка ее тускнела, когда Анна не являлась исполнять свои обязанности. Король не принимал «нет» за ответ. Анне приходилось каждый день ездить с ним на охоту. Она должна была музицировать вместе с ним на галерее, смотреть, как он играет в теннис. Он говорил: «Королева знает, что это доставляет мне удовольствие, а раз так, то не станет жаловаться». Она и не жаловалась, потому что сначала явно не понимала, какое значение имеет Анна для Генриха; и даже когда фрейлины проинформировали ее, она не выказывала недовольства, но принимала происходящее без обиды и, по мнению Анны, с исключительным терпением. – Вероятно, она думает, что я просто еще одна Бесси Блаунт и со временем буду сброшена со счетов, – однажды вечером сказала Анна Джорджу за ужином в его покоях. Комнаты были тесные, всего две да еще уборная, но зато находились рядом с апартаментами Генриха. Чем ближе к королю, тем выше статус придворного. – Уже ходят разговоры о том, что ты гораздо значительнее Бесси, – возразил брат. – Мир полнится слухами. У людей разыгралось воображение. – Что говорят обо мне? Джордж фыркнул и сделал большой глоток вина: – Только что король слишком увлечен тобой и в результате порядок в стране и все прочее пущено по ветру! Большинство, и это вполне предсказуемо, считают тебя причиной сомнений короля относительно его брака. – Он уверяет меня, что это не так. – Да, но как это выглядит со стороны? Буквально за одну ночь Анна приобрела небывалое влияние. Она затрепетала от волнения, когда к ней подошел молодой писарь и попросил дать ему должность при дворе, вложив в руку заступницы мешочек с золотыми монетами. Анна получила большое удовлетворение, когда выговорила для него у Генриха место помощника лорда-управляющего. Это было совсем нетрудно. Король ни в чем не мог ей отказать, и проситель был очень благодарен. Он оказался первым из множества придворных, которые начали лебезить перед Анной, ища покровительства, потому что знали: ухо короля в ее распоряжении. Первый опыт реальной власти вскружил Анне голову. В ней появилась новая уверенность в себе, ведь как упоительно исполнять желания других людей и таким образом завоевывать их преданность, которая будет неоценимой поддержкой, когда она станет королевой. Король осыпал Анну подарками: украшения, рулоны дорогого бархата и шелкового дамаста, собачки, дорогие вина… Одетая с роскошью, она выглядела королевой. Не прошло и двух недель после ее прибытия ко двору, как среди придворных поползли слухи о намерении короля на ней жениться. Начались возбужденные толки, причем не все люди судили одобрительно. Когда Анна столкнулась с сестрой в галерее, Мария сделала насмешливый реверанс и сказала с усмешкой: – О, как мы прекрасны! Слышала бы ты, что о тебе говорят. – Скоро ты по-другому запоешь! – крикнула Анна в удаляющуюся спину сестры. Двор – это одно дело. Здесь относились с почтением к желаниям короля и негодование не могло перерасти в открытый протест, но Англия в целом демонстрировала совершенно другое отношение. Однажды Анна поехала на охоту с Генрихом и королевой и увидела, как люди плюют в ее сторону, услышала их злобные крики: «Как она смеет покушаться на законное место доброй королевы Екатерины!» Анну это привело в ужас. – Шлюха! – бросали ей вслед. – Ведьма! Прелюбодейка! Женщины вели себя хуже, чем мужчины. Было страшно, щеки Анны запылали от несправедливости народного гнева. И сколько бы грозных приказов ни отдавал Генрих, сидя в седле, он ничего не мог сделать, чтобы заглушить эти голоса. Впереди их всегда ждали новые крикуны, и слова звучали еще более обидные. Но когда мимо скакала Екатерина, люди возглашали: «Победа над врагами!» Генрих и Анна ехали с каменными лицами. Анна не предполагала, что развод короля вызовет такое противодействие. Королева наверняка слышала и пересуды придворных, и враждебные выкрики со стороны простых людей, однако, когда они вернулись в Бьюли, оставалась любезной с Анной, разве что стала держаться немного отстраненно. Только один раз она сделала мягкий выпад. Генрих наивно полагал совершенно приемлемым для своей жены и любовницы сходиться за игрой в карты. Анна не хотела в этом участвовать, но он настаивал. Когда она выиграла, вытащив короля, что давало много очков, Екатерина улыбнулась и сказала: – Миледи Анна, вам повезло закончить игру на короле, но вы, как и другие, хотите получить все или ничего. Генрих гневно взглянул на супругу. Анна вспыхнула, но не смогла ничего ответить. Она находилась в замешательстве, в ней нарастали возмущение и злость. Какая несправедливость со стороны Екатерины – подшучивать над ней публично, тем более что Анна всячески пыталась пресечь ухаживания Генриха! Теперь все, кто слышал слова королевы, глазели на Анну и перешептывались, обмениваясь понимающими взглядами. Гордость Анны была уязвлена. За кого они ее принимают? За шлюху короля? Она почувствовала жар на щеках. К счастью, королева встала, попросила у Генриха позволения удалиться и ушла. Анна сердито смотрела ей вслед. Сочувствие к Екатерине, которое она ощущала, и непреходящее чувство вины перед ней растворились. Королева была ее врагом и без колебаний повергла бы соперницу, если бы могла. Анна повернулась к Генриху. – Я заслужила это?! – вспылила она. – Нет, но бросьте, Анна. Королева ведет битву, которую не может выиграть. У меня и без того хватает проблем. Сегодня после обеда на меня накричала сестра. Сказала, что поддерживает королеву и покинет двор, если я буду упорствовать и держать вас при себе. Я ответил, что она может удалиться, и она вылетела за дверь, даже не сделав реверанса. – Было видно, что вспоминание о ссоре с сестрой болезненно для Генриха. – Она меня ненавидит, да? – заклокотала Анна. – Вчера проплыла мимо, зажав нос, будто от меня плохо пахло. – Я не позволю ей ставить мне условия, – проворчал Генрих, явно расстроенный, потому что любил Марию. – Слава Богу, нас поддерживает Саффолк. Он растолкует ей что к чему.
В течение августа Анна, ее отец, дядя Норфолк и их друзья, к которым теперь присоединился герцог Саффолк, пользовались отсутствием усланного во Францию кардинала. Каждый вечер Анна устраивала отцу и двум герцогам ужин с королем, и за столом они по очереди бросали тонкие намеки: Уолси, мол, делает вид, что добивается аннулирования брака, а на самом деле изо всех сил старается не допустить того, чтобы папа одобрил развод. Генрих относился к этому скептически, но главное – сомнение в его душе было посеяно. Однажды за ужином рядом с Анной сидел сэр Генри Норрис, и она всем телом ощущала его физическую близость. Генрих объяснил: – Я пригласил сэра Генри, дорогая, потому что отныне он будет посредником между нами. Как хранитель королевского стула и глава моего Тайного совета, он станет направлять вас, пока вы не займете положение при дворе. Этот джентльмен в высшей степени достоин доверия. – Это честь для меня, сир, – искренним тоном произнес Норрис и улыбнулся Анне. Тут снова появилось чувство, будто они давным-давно знакомы, и Анна поймала себя на том, что ей трудно отвести взгляд. На мгновение возник трепет взаимного влечения, и Анна была уверена, что сэр Генри тоже его ощутил. Король продолжал болтать, не заметив мимолетного изменения в настроении своей пассии. Поэты воспевают любовь с первого взгляда. Анна часто от нее отмахивалась, считая пустой выдумкой, но теперь познала. Не важно, что она едва знакома с Норрисом, в душе не было сомнения: чувство, которое она испытывала к сэру Генри с самого начала, – любовь, и этот человек обладает всем качествами, которые привлекали ее в мужчинах. Его лицо, его крепкое тело и красивые руки, его обходительность и улыбка говорили о том, каков он. Но сэр Генри женат, а она обещала выйти за короля. На какое-то безумное мгновение Анне подумалось: не сказать ли Генриху, что она не сможет пройти через позор, не вынесет всеобщего осуждения и посрамления. Ну хорошо, пусть она сделает это, все равно Норрис несвободен, да и Генрих не примет ее отнекиваний. Мужчины засмеялись, и Анна вспомнила, где она. Быстро вникнув в суть шутки, присоединилась к веселью. Норрис смотрел на нее; она это чувствовала. Когда разговор свернул на любимую тему Генриха – охоту, – она улыбнулась своему соседу: – Вы давно при дворе, сэр Генри? Он сосредоточил на ней взгляд своих изумительно красивых голубых глаз: – Прошу вас, называйте меня Норрис, госпожа Анна. Ко мне все так обращаются. Да, моя семья давно связана с двором. Я приехал сюда в юности, и мне посчастливилось удостоиться чести дружить с королем, который щедро наделил меня многими должностями. Десять лет я служил в его личных покоях и в прошлом году стал в них главным. В продолжение разговора Анна остро чувствовала: между ними что-то происходит, что-то такое, в чем они никогда не признаются. – И каковы теперь ваши обязанности? – Я отвечаю за двенадцать джентльменов, которые служат в личных покоях короля. Мы все пользуемся особыми привилегиями, потому что имеем право входить в жилые комнаты его милости; мы заботимся о его личных потребностях и ежедневно составляем его ближний круг. – Значит, вы обладаете большой властью. – Все мы, госпожа Анна, но я надеюсь, мы не злоупотребляем этим. – А кардинал, он недоволен вашей властью. – Это был не вопрос. – На то есть причины, – буркнул отец, сидевший по другую сторону от Анны; король и герцоги тем временем обсуждали породистых рысаков. – Тот, кто вхож в личные покои, способен давать королю советы и оказывать влияние на его милость, контролировать доступ к нему, составлять протекции. Кардинал этого боится. Как лорд-канцлер, он может держать под надзором Тайный совет, но не личные покои. Дважды Уолси пытался их «реформировать», как он выражался, что означало изгнание оттуда слишком влиятельных лиц. – Некоторых пригласили обратно, – улыбнулся Норрис. – Мне ни к чему говорить, что кардинал не особенно популярен в личных покоях. – А вы там отвечаете за все, – сказала Анна, избегая его взгляда; отец не должен ничего заподозрить. – Норрис – человек, которому больше всех доверяют при дворе, – пояснил отец. – На него полагается сам король, и, да позволено мне будет так выразиться, сэр Норрис может считаться одним из ближайших друзей его милости. – Имею такую честь, – склонив голову, скромно подтвердил Норрис. – И король отдал ему прекрасный дом в Гринвиче. Перед мысленным взором Анны пронеслось мимолетное видение: они с сэром Генри там вдвоем, вдалеке от двора и своих придворных обязанностей. Какое бы это было удовольствие! Отец поинтересовался здоровьем детей Норриса. У него их оказалось трое, и Анна поняла, что ей невыносима сама мысль об этих живых доказательствах его близости с женой. – Я знаю, вы будете другом моей дочери, – продолжал между тем отец. – Сделаю все, что в моих силах, чтобы поддержать ее, милорд, – пообещал Норрис. В его искренности сомневаться не приходилось, так же как в теплоте, с которой прозвучали эти слова.
Королева сопротивлялась. – Она не станет меня слушать! – жаловался Генрих тем же вечером, когда разошлись остальные участники ужина. – Твердит одно: разрешение, данное на наш брак, верно; женой Артура в подлинном смысле она никогда не была, так что Левит к данному случаю неприменим. – Это правда? – спросила Анна, ощущая нарастающее возмущение Екатериной, которая никак не хотела взглянуть в глаза реальности и отступиться. Генрих мрачно уставился в пустой очаг: – Мой отец не сомневался, что ее брак с моим братом так никогда и не свершился окончательно, и… Ну, если честно, Анна, я был девственником, когда мы поженились, и в любом случае не понял бы разницы. Я поверил ей. Она женщина честная и добродетельная. Но теперь вот думаю: не могла ли она – невинная, в чем я не сомневаюсь, – не понимать, что именно с ней должно было произойти, или считать, что этого не произошло, когда на самом деле все свершилось? Они провели вместе семь ночей. – Или лжет, потому что хочет остаться королевой Англии. – Я так не думаю, – слегка вспыхнув, сказал Генрих. Анну раздражало, что он по-прежнему высокого мнения о Екатерине и с отвращением воспринимает любую критику в ее адрес. Сам он мог критиковать супругу, но никто другой! И наверняка оттого, что Екатерина все еще была его королевой, его женой. «Но она не имеет права!» – кипятилась про себя Анна. – В Левите нет подробных объяснений. Мужчина не может жениться на жене своего брата. Вот и все, и никакой папа не может дать разрешение на такой брак. – Екатерина придерживается мнения, что Левит применим только в том случае, если бы она родила Артуру ребенка. Цитирует текст из Второзакония, который требует от мужчины жениться на вдове своего брата, но она не права. Это не относится к христианам. – Она хватается за соломинку. Жизнь несправедлива, Анна это знала, но к ней – особенно. Екатерина, у которой нет никакого права быть королевой, завоевывает симпатии всех вокруг, а ее, прожившую безупречную жизнь, клянут везде, куда бы она ни пошла, и поносят по всему христианскому миру. О да, она слышала все эти кривотолки! Большинство людей смотрит на нее как на Иезавель, которая заняла место добродетельной жены. Только кто из них добродетельнее: Екатерина, прожившая в грехе восемнадцать лет, или она, Анна, ревностно оберегавшая свое целомудрие и ни разу не поощрившая притязаний короля? В те дни ей было трудно чувствовать что-либо, кроме возмущения, по отношению к Екатерине, несмотря на всю ее доброту. – Взбодритесь, дорогая. – Генрих заключил Анну в объятия. – Мы победим. Мое дело правое. Я верю, что благодаря стараниям кардинала мы скоро избавимся от этой проблемы. – А я надеюсь, что вашим доверием не воспользуются вам во вред, – заметила Анна, принимая его поцелуй. – Бросьте, моя милая! Уолси – добрый друг и опытный политик. Он добьется для меня аннулирования брака, и мы с радостью встретим его дома. Тут король весьма решительно склонил голову и прижался губами к груди Анны там, где она округло выпирала из тесного квадратного выреза платья. Она позволила ему такую вольность, но нашла в этой ласке некоторое удовольствие, только подумав о Норрисе.
Наступил сентябрь, стало прохладнее. В главном зале должно было состояться представление масок, воспроизводившее легенду о Нарциссе и Эхо. Анна надела платье из белого дамаста с низким вырезом и прикрепила украшения к распущенным волосам, которые отросли настолько, что на них можно было сидеть. Генриху нравилось видеть их во всем великолепии. Королева при появлении разряженной фрейлины, которой предстояло вместе с другими девушками и дамами сопровождать ее, ничего не сказала, но близкие подруги Екатерины – леди Солсбери, леди Уиллоуби и леди Парр – посмотрели на Анну неодобрительно. Она их проигнорировала – три драконши! – и оказалась вознаграждена: Генрих просто не мог оторвать от нее глаз. Не упустила Анна из виду и другую пару восхищенных глаз, однако стоило ей бросить взгляд на Норриса, как он тут же отвернулся и заговорил с каким-то джентльменом. Генрих сам указал Анне ее стул – он стоял справа от помоста, с которого король и королева должны были смотреть представление. В этот момент вошел церемониймейстер: – Ваша милость, милорд кардинал вернулся из Франции и ожидает за дверями. Он желает знать, куда ему пройти. Лицо Генриха осветилось в предвкушении доставленных Уолси новостей. «Куда ему пройти? За кого он принимает короля? За лакея?» У Анны вскипела кровь: вот ее шанс опорочить кардинала и продемонстрировать свою власть. – Я должен идти к нему, – приподнимаясь со своего места, сказал Генрих. Анна собралась с духом и повернулась к церемониймейстеру: – Куда же еще идти кардиналу? Скажите ему, чтобы явился туда, где находится король! Екатерина в изумлении вскинула брови. Все уставились на Анну. И пусть! Люди должны видеть, что она имеет больше влияния на короля, чем великий кардинал. – Да, действительно, – нахмурившись, согласился Генрих и кивнул церемониймейстеру. Когда Уолси, войдя в зал, низко поклонился и приблизился к помосту, Анна встала сбоку от Генриха. Отец, Норфолк и Саффолк смотрели на эту сцену с видом триумфаторов; они были ею довольны. Анна заметила на лице кардинала смятение и вспышку ярости – как она смеет! Ну ничего, теперь он не назовет ее глупой девчонкой! По манерам Уолси, по тому, как были опущены плечи кардинала, Анна поняла: его миссия не увенчалась успехом. Почувствовала, как Генрих замер в напряжении рядом с ней, задышал нетерпеливо. Он тоже все уяснил.
Отражать атаки Генриха становилось труднее и труднее. Ожиданию не видно было конца: папа продолжал находиться в рабстве у императора, Уолси, очевидно, оказался беспомощен, и король все сильнее досадовал. – Это промедление убивает меня! – жаловался он. – Сжальтесь надо мной, Анна! Мужчина имеет потребности, вы знаете. – Удовлетворения каких потребностей вы от меня ожидаете? – дразнила она его. – Вы обещали уважать мою добродетель. Красивые слова, но они мало помогали: король продолжал вызывать Анну поздно вечером в свои покои, когда его джентльмены укладывались спать. Норрис всегда забирал ее и провожал до потайной лестницы, которая вела в комнату короля. Для Анны это было мукой: ну почему к Генриху ее отводил именно Норрис! И для него, как она подозревала, тоже. Не одна только симпатия к сэру Генри, но и расчетливость заставила Анну принять решение положить конец этим визитам. Она не должна позволять Генриху давить на нее своими ухаживаниями. Кто знает, долго ли ей удастся сохранять самоконтроль? – Это неосмотрительно, – сказала она ему однажды ночью, когда король проявлял особую настойчивость: кусал ее шею, лаская руками грудь. – Почему? – выдохнул Генрих, лицо его раскраснелось, волосы спутались. – Вы нужны мне! Я люблю вас, Анна. Она отстранилась: – Быть наедине с вами – это неправильно. – Норрис никому не скажет. – Но я чувствую, что это неправильно. Генрих, – так она теперь называла короля в уединении его покоев, – пока аннулирование вашего брака не станет более реальным, я считаю для себя невозможным находиться при дворе. Я хочу поехать домой в Хивер. – Нет! – воскликнул он. – Не покидайте меня! – Подумайте, каково мне, – взмолилась она. – Я мишень для постоянных сплетен. Некоторые считают меня вашей шлюхой! Мое положение здесь ненормально, и пока будущее не прояснится, мне лучше держаться отсюда подальше. «И если я уеду в Хивер, то не буду ежедневно видеться с человеком, которого люблю. А вы подстегнете Уолси, чтобы он добыл вам желаемое…» Генрих застонал и прижал ее к себе: – Не думаю, что я смогу вынести жизнь без вас. – Он едва не всхлипнул. – Вы сможете навещать меня, как делали это прежде, – заметила Анна. – Этого недостаточно! – Пожалуйста, разрешите мне уехать. Мне грустно покидать вас, но так будет лучше. Слухи утихнут, и моя репутация будет спасена. – Очень хорошо. – Генрих вздохнул. – Но на этот раз вы должны писать мне часто. Никаких промедлений, как раньше. – Я буду писать, обещаю, – сказал Анна и поцеловала его. Он ответил яростно, каждая жилка его тела источала желание, и пришлось приложить немало усилий, чтобы сдержать этот напор.
Разлука действительно обостряет мужскую любовь, если такое вообще было возможно. Письма Генриха выдавали бездонную глубину страсти. Когда Анна поняла, какое сильное чувство пылает в нем, она пришла к убеждению, что, оставив двор, поступила совершенно правильно. Король отчаянно тосковал по ней. Часто писал, как она ему необходима. В своих ответах Анна никогда не касалась интимных вопросов из страха еще сильнее воспламенить его чувственность. Вместо этого она пыталась выразить преданность, которой не чувствовала, и изображала великое желание дождаться конца их разлуки. Генрих сообщал, что поинтересовался мнением своего близкого друга сэра Томаса Мора по поводу Великого дела. Анна знала Мора как человека чести и выдающегося ученого, его мнение имело большой вес в христианском мире, но Мор сказал, что считает брак короля с Екатериной законным и правильным. «Я не стану давить на него ради нашей дружбы, – писал Генрих, – но мне хотелось бы, чтобы он ощутил в себе желание поддержать меня в моем справедливом деле». Анна задумалась, насколько сильна на самом деле оппозиция Великому делу? Когда придет время, ощутят ли люди, подобные Мору, потребность высказаться? И какой ущерб это может нанести интересам короля?
Атмосфера в Хивере создалась враждебная, и это было хуже всего. Мария приехала с детьми домой провести праздники. Она все еще не могла простить Анне, что та залучила в ловушку короля, который бросил ее саму. Имя Генриха висело в воздухе между сестрами, о короле нельзя было упомянуть, не вызвав вспышки злобы. Не имело значения, что его отношения с Марией окончились задолго до того, как он начал искать близости с Анной: старшая сестра заставляла младшую чувствовать, что та увела ее любовника. Именно Мария как-то раз своим замечанием задела самую болезненную струну. – Король говорит, его тревожит совесть, потому что он взял в жены вдову брата, – неожиданно произнесла она однажды вечером, когда мать ушла и они с Анной остались в гостиной одни, сидели и шили, храня ледяное молчание. – Да, в этом-то все и дело, – сдерживая раздражение, отозвалась Анна. Разве Мария сама не знает? Это всему свету известно! Мария приняла задумчивый вид, и Анне показалось, что сестра с удовольствием прокручивает в голове какую-то мысль. – К чему ты клонишь? – с вызовом спросила она. – Я подумала, испытывает ли он такие же угрызения совести по поводу женитьбы на сестре своей любовницы? – Мария посмотрела на сестру с гаденькой улыбкой. Анна собиралась уже дать язвительную отповедь, как вдруг ее осенило: а ведь верно, Мария права. Действительно, на пути ее брака с Генрихом вставал точно такой же барьер, какой препятствовал женитьбе Генриха на Екатерине. Оба союза были в равной степени кровосмесительными. Хорошо, что она ни разу не уступила желаниям Генриха! Это было ужасно, подобное препятствие могло оказаться непреодолимым. А если о связи Генриха с Марией и о рожденном ею ребенке станет известно, король перед всем миром предстанет лицемером и никто не поверит, что его Великое дело имело отправной точкой муки совести. Все станут говорить о похоти как главном мотиве. – Что, язык проглотила? – задирала сестру Мария. Анна жаждала во что бы то ни стало опровергнуть ее доводы, невзирая на суть дела. – Уверена, что препятствие возникает, только если пары женаты, – сказала она. – Ты не была замужем за королем. Мария пожала плечами: – Не беспокойся. Я ничего никому не скажу. Мне дорого обойдется, если Уилл узнает о моей связи с королем. Анна была близка к слезам. – Неужели не достаточно разных проблем, а тут еще ты усложняешь мне жизнь. – Лучше подумать обо всем сейчас, чем потом расхлебывать. Может быть, король получит разрешение более весомое, чем прежнее. Анна сглотнула. Просить у папы еще одно разрешение, кроме всех прочих трудностей, было бы равносильно признанию обоснованности первого. О Боже, будет ли конец препонам, которые встают на ее пути? – Ты ведь не любишь его, верно? – требовательно спросила Мария. – Просто хочешь быть королевой. – Если я стану королевой, это принесет пользу всем нам! – вспылила Анна. – Да, но тебе хочется славы, – парировала Мария. – Хочется увидеть, как все мы кланяемся тебе. – Что касается тебя, я буду ждать этого с нетерпением! – огрызнулась Анна.
Она тут же написала Генриху и получиланезамедлительный ответ. Да, соглашался он, тут есть причины для беспокойства, но разрешение папы на их союз поставит все на свои места. Генрих отправил своего секретаря, доктора Найта, с тайной миссией в Рим – просить дозволения жениться на сестре женщины, с которой он делил ложе. Доктор Найт также попросит у папы наделить Уолси, как папского легата, полномочиями выносить решения по Великому делу. «Я решительно намерен удовлетворить свою совесть», – писал Генрих. Слава Богу, это новое разрешение будет держаться в секрете. Генрих сразу оценил все возможные последствия. Он даже пообещал: если папа Климент аннулирует его брак, то объявит войну императору, чтобы освободить Святого Отца. Дабы ускорить дело, кардинал услужливо составил два разрешения: одно – аннулирующее первый брак, другое – подтверждающее правомочность второго. Папе оставалось только скрепить оба документа подписью и печатью. Все это звучало обнадеживающе.
Глава 14. 1528 год
В середине снежного января пришло письмо от короля. Анна читала его, выйдя на засыпанный снегом луг, закутанная в меха. Он приехал бы сам, писал Генрих, но помешала плохая погода. За все время он пять раз навещал свою возлюбленную, последний – перед Рождеством. И было ясно, что время и расстояние только подстегивали его страсть. Анна следила за тем, чтобы мать всегда находилась рядом, чем сильно досаждала Генриху. На этот раз король прислал добрые вести. Англия и Франция вместе объявили войну императору. Папа сбежал из Рима в Орвието и издал конфиденциальное разрешение, дающее право Генриху жениться, на ком тот пожелает, хоть на собственной матери, дочери или сестре, при условии, что его первый брак будет признан незаконным. Климент также наделил Уолси полномочиями разбирать дело короля, но не выносить решение. Его Святейшество боится императора. Он тайно побуждает меня взять дело в свои руки, заставить Уолси объявить о разводе и жениться снова. Он заверяет меня, что утвердит второй брак и вынесенное решение удовлетворит всех, так как никто не догадается, что идея исходила от него. Но передо мной еще стоит проблема стабильности передачи власти. Наш брак должен быть неоспоримо законным. Так писал Генрих. Анна согласилась, что это рискованный путь. Она начинала терять доверие к этому папе. Почему наместник Господа на земле боится смертного властителя? И насколько подходит для суждения по делу короля понтифик, который советует идти на подобные уловки и допускает столь непростительные эксцессы в Церкви?Как только сошел снег, Генрих прискакал в Хивер. – Дела движутся! – взволнованно сообщил он Анне еще до того, как слез с коня. – Уолси попросил папу прислать другого легата, кардинала Кампеджо, чтобы тот разбирал мое дело. Анна не могла сдержать раздражения: – Он виляет и тянет время. – Дорогая, Уолси – самый способный из моих слуг, – возразил Генрих, заключая ее в холодные объятия. – Он единственный человек, способный обеспечить мне аннулирование брака. – Это он так говорит вам? Генрих, он хитрит. – Я в это не верю. – Кажется, короля задели подобные слова. – Анна, я проделал весь этот путь, чтобы увидеться с вами, и не хочу тратить время на споры. Понимаю, вы не очень-то расположены к Уолси, но вы несправедливы. – Он знает, папа не хочет выносить решение в вашу пользу из страха обидеть императора. Но ему также должно быть известно, что любой кардинал, который приедет из Рима, будет исполнять волю папы и оттягивать решение. И это очень на руку милорду кардиналу, потому что ему меньше всего хочется увидеть меня с короной на голове! – Я так не думаю, – с озадаченным видом произнес Генрих. – Уолси ежедневно бомбардирует моих послов в Риме инструкциями, обещаниями, угрозами и посулами. Никто не прилагает больше усилий в этом деле. – Да, но ради чего? И вы этого не видите! Стоит мне подумать обо всем, что вы для него сделали, – осыпáли богатствами, давали должности, дарили дворцы, которые прекраснее ваших… – Она оставила фразу незавершенной. Генрих был заметно раздражен. За последние недели она сумела посеять в нем семена недовольства богатством и властью Уолси – в переписке и при личных встречах – и теперь видела, что наконец они начали давать всходы. – Он обещал аннулирование брака, и я от него не отступлюсь. Посмотрим, сдержит ли он слово. Тогда вы будете удовлетворены? – Тогда я буду вечно ему благодарна, – заявила Анна, понимая, что зашла уже достаточно далеко и настало время разрядить обстановку. Она улыбнулась. – Наша сука ощенилась. Не угодно ли вашей милости взглянуть на щенков? Мы будем очень рады, если вы возьмете кого-нибудь из них себе. Она отвела Генриха в зал, где в плетеной корзине у очага лежала в окружении резвившегося рядом выводка Венера – отцовская сука-мастиф. Дети Марии играли со щенками. Анна приказала им поклониться королю и заметила, как глаза Генриха осветились узнаванием при взгляде на Екатерину. Он наклонился: – Не бойтесь меня, малышка. Екатерина робко улыбнулась. Сцена была очень картинная. – Я не боюсь! – подал голос Хэл. Генрих взъерошил ему волосы. – Вы оба хорошенькие, – задумчиво проговорил король. – Когда я снова буду здесь, привезу вам подарки. – Мы тоже преподнесем его милости подарок, – сказала Анна племяннику и племяннице. – Какого щенка отдадим ему? – Вулкана! – крикнул Хэл. – Сатурна, – предложила Екатерина. – Я возьму Сатурна, – улыбнулся Генрих. Екатерина сгребла в охапку извивавшегося щенка и положила на руки королю. – Спасибо тебе, сладкая моя, – сказал он. И поверх головы дочери встретился взглядом с Анной. В его глазах стояли слезы и застыла мольба: «Дайте мне таких детей!»
В конце января к Анне в Хивер заглянули капеллан короля Эдвард Фокс и Стефан Гардинер, доктор гражданского и канонического права. – Госпожа Анна, мы привезли вам новости и письмо от короля, – объяснил Фокс, когда подали легкое угощение. – Мы направляемся в Рим, чтобы убедить папу прислать сюда в качестве легата кардинала Кампеджо. Его святейшество отказал, вы знаете, но кардинал Уолси попросил нас добавить к его словам свои доводы и неумолчно повторять, что его величество не может не отделиться от королевы. Если из этого ничего не выйдет, мы постараемся вселить в папу страх. Совсем недолго поговорив с Фоксом и суровым на вид Гардинером, Анна признала в них грозных заступников. Если кто и мог поколебать упрямство папы, так эти два решительных клирика. Они не задержались в замке надолго. Им предстояло добраться до Дувра, чтобы застать утренний прилив. – Всего доброго, – пожелала Анна. – У вас впереди долгий путь. Храни вас Господь, и привезите мне добрые вести! Когда посланники Уолси ушли, Анна вскрыла письмо Генриха. Он тоже был настроен оптимистично. Был уверен, что благодаря усердию доктора Фокса и доктора Гардинера вскоре и он, и она обретут желаемое и ничто в мире не принесет ему большего облегчения. Текст письма завершался словами: «Писано рукой того, кто так же желает быть Вашим, как Вы обладать им. Г. К.». Как обычно, столкнувшись с преклонением Генриха, Анна почувствовала себя виноватой. В продолжение этих месяцев в Хивере она старалась не думать о Норрисе, но он все равно вторгался в ее мысли. Если бы она могла почувствовать такое же непреодолимое влечение к Генриху.
Вскоре после этого король сообщил в письме об осторожных маневрах кардинала с целью уладить распри между отцом Анны и Пирсом Батлером из-за графства Ормонд и убедить нынешнего владельца уступить его отцу. Что ж, даже если Уолси делал это, чтобы ослабить враждебность к нему Болейнов, это была хорошая новость, и отца порадует перспектива получить графский пояс. Генрих намекал, что неплохо бы отправить Уолси записку с благодарностью, поэтому Анна стиснула зубы и составила короткое послание с выражением признательности за мудрость и усердие, с какими он старается добиться развода для короля. Для меня это будет величайшим сокровищем, какое только может достаться человеку. Когда я стану королевой, Вы увидите, что я придумаю для Вашего удовольствия, и заметите, что во всем мире никто, кроме меня, не старается доставить его Вам с большей радостью. И после Его Милости короля Вам будет на всю жизнь отдана моя истинная любовь. Все это была ложь, и Анне претило отправлять письмо Уолси, но Генрих не должен был заподозрить ее в мстительности. Придет время, и он узнает правду.
В марте Генрих пригласил Анну с матерью погостить у него в Виндзорском замке. Они нашли там только придворных из его конной свиты и горстку слуг, но среди них был Джордж, и Норрис тоже. Анна изо всех сил старалась не смотреть в сторону сэра Генри, однако настал день, когда в поисках книги она зашла в библиотеку и обнаружила его там одного. Они долго смотрели в глаза друг другу. Теперь в чувствах Норриса нельзя было ошибиться. Он не сводил с Анны глаз, но когда открыл рот, чтобы заговорить, она приложила палец к губам. Некоторые вещи лучше оставить невысказанными. Достаточно было осознания того, что твои чувства не остаются безответными. Не говоря ни слова, она улыбнулась и вышла за дверь. Погода стояла ясная, и каждый день после обеда Генрих брал Анну с собой на охоту, конную или соколиную. Они проделывали много миль верхом и не возвращались до позднего вечера, когда им подавали обильный ужин. По утрам они прогуливались по Большому Виндзорскому парку, и Генрих рассказывал об убитом лесничем по имени Херн-Охотник, дух которого, увенчанный оленьими рогами, как говорили местные жители, бродил по этим лесам. – Если вы осмелитесь выйти сюда в полночь, то сможете увидеть его, – поддразнивал король Анну. – Именно поэтому я всегда гуляю здесь по утрам! – со смехом отвечала она. – Анна, я ужасно скучаю, когда вас нет рядом, – сказал Генрих. – Поедемте со мной в Гринвич. Ей вдруг пришло в голову, что пора немного присмотреть за Уолси. – Очень хорошо, я приеду, – согласилась она. Глаза Генриха засияли. – И мне даже не придется умолять вас? – Ни к чему. Я сама с удовольствием сделаю это.
Как только Анна прибыла в Гринвич, все наперебой кинулись оказывать ей любезности. Люди явно ожидали, что она скоро станет королевой, а потому соперничали за ее благосклонность и покровительство. И никто не подхалимничал и не угодничал больше, чем Уолси. Снедаемый желанием порадовать своего господина и снискать расположение к себе, он развлекал Генриха и Анну великолепными праздниками и обильными банкетами во дворце Йорк. Приятно было видеть, как могущественный кардинал путается в своем красном одеянии и едва не сбивается с ног, спеша оказать ей гостеприимство. Служба у королевы была оставлена. Генрих понимал, что это неприятно им обеим, а потому отвел Анне отдельные покои с отдельным входом с галереи над турнирной площадкой – обычно их предоставляли фаворитам – и велел повесить в них прекрасные гобелены, поставить резную кровать с балдахином и снабдить хозяйку жилища роскошной серебряной посудой. Как прекрасно иметь собственные апартаменты и досуг, чтобы наслаждаться жизнью!.. – Это всего лишь предвкушение того, что вы получите в свое время, – обещал Генрих. Теперь Анна могла развлекать своих друзей в приватной обстановке и проводить время за музицированием, сочинением стихов, карточными играми и сплетнями. Джордж приходил к ней почти каждый день, иногда брал с собой Джейн, но та явно чувствовала себя неуютно среди леди и джентльменов, многие из которых были своекорыстны и заполняли покои фаворитки короля в поисках веселья, остроумных разговоров и королевских милостей. Анна вздохнула с облегчением, когда невестка перестала заглядывать к ней.
В начале мая у ее дверей появился Генрих: – Доктор Фокс вернулся из Рима. А вот и сам добрый вестник, стоит за спиной короля. – Добро пожаловать! – приветствовала гостя Анна, стараясь не захлебнуться в волне радостных надежд. – Вы привезли нам хорошие новости? – Ваша милость, госпожа Анна, это не совсем то, на что мы надеялись, но его святейшество согласился прислать кардинала Кампеджо в Англию для слушания дела вместе с кардиналом Уолси. Однако нам не удалось убедить его дать поручение, наделяющее кардинала Уолси полномочиями для вынесения решения. Тем не менее, сир, мы оба полны оптимизма, учитывая расположение его святейшества к вашей милости. – Это прекрасная новость! – воскликнула Анна. – Благодарю вас, доктор Фокс, благодарю вас! Генрих взял ее за руку и повел к кардиналу, сгорая от нетерпения передать ему известие. – Прекрасно, прекрасно! – сказал Уолси, нервно поглядывая на Анну. Но вдруг подал голос Фокс: – Тут имеется одна причина для беспокойства, ваша милость. До его святейшества дошли слухи, что мистрисс Анна – простите меня, госпожа, – ждет ребенка, и он склоняется к мысли, что она может быть не достойна стать королевой. – Это злостная клевета! – возмутилась Анна. Генрих готов был метать громы и молнии. – Ради Бога, я не допущу, чтобы на вас возводили напраслину! Милорд кардинал, вы сейчас же напишете папе и проинформируете его, что он без нужды тяготится грузом ужасного заблуждения, в которое был введен злыми языками. Вы подчеркнете совершенную добродетель госпожи Анны, ее целомудрие, благочестие, мудрость, ее благородное происхождение от королевских кровей, прекрасные манеры, молодость и очевидную способность вынашивать детей. Вы скажете ему, что это те основания, на коих покоится мое желание, и качества, за которые госпожу Анну высоко ценят и уважают здесь. Уолси энергично кивал, выражая одобрение. – Я напишу немедленно, сир, – пообещал он. – Мир должен знать правду о госпоже Анне, – и поклонился в ее сторону. Однако мир – по крайней мере, английская его часть, – казалось, вместо кардинала прислушивался к полоумной монахине из Кента, которая распространяла в народе дикие пророчества и заявляла, что у нее бывают святые видения. – Эта неугомонная особа публично высказывается против меня, – сказал Анне раздосадованный Генрих. – Она сумасшедшая, но собирает вокруг себя огромные толпы, где бы ни появилась. Теперь, как мне сообщили, она предсказывает, что если я откажусь от законной жены, как она называет Екатерину, то больше не буду владыкой в этом королевстве и умру как смерд. – Он пожал плечами. – Это невероятно! Анна встревожилась: – Генрих, если невежественные люди верят ее фантазиям, вы должны предпринять против нее какие-нибудь действия. – Дорогая, она просто безобидная сумасшедшая, – возразил он. – Не обращайте на нее внимания.
Тем летом в Лондоне снова появилась страшная потливая лихорадка. Люди заражались ею с ужасающей скоростью. Одиннадцать лет назад эта болезнь унесла жизни старших братьев Анны. Сама она тогда находилась во Франции и не испытала всего ужаса подобных эпидемий, а теперь ее охватил страх, что в любой момент лихорадка может сразить ее, что, проснувшись утром здоровой, она умрет к обеду. Любые незначительные симптомы недомогания – ощущение легкого перегрева, вполне естественное в жарком мае, или едва заметная тяжесть дыхания – воспринимались как зловещие признаки. Некоторые говорили, что помогает кровопускание. Генрих полагался на действенность какого-то варева из трав в патоке. Но Анна не верила ни в то ни в другое. Когда доходило до дела, не было никакого способа уберечься от болезни, кроме избегания контактов с теми, кто уже заразился. Анна беспокоилась, слыша от людей, будто этот приход потницы является наказанием Божьим королю за его отказ от своей законной королевы. Но к Генриху зараза не приставала. – Они могут с тем же успехом заявлять, что это наказание мне за жизнь с ней в грехе! – рычал он. – Не тревожьтесь, дорогая. Генриху сообщили, что количество зарегистрированных в Лондоне случаев потливой лихорадки возросло до сорока тысяч. Анна присутствовала при этом и видела, как с лица короля сошла краска. Несмотря на всю свою храбрость – а этот человек искал славы на полях сражений во Франции, – он испытывал непреодолимый страх перед болезнями, и неудивительно, учитывая, что у него не было законного наследника. – Мы должны покинуть Гринвич, – произнес король хриплым от страха голосом. – Двор уезжает завтра. Он рассуждал сам с собой, куда лучше податься и какие части страны наиболее безопасны, когда пришло известие, что потница вторглась и в королевский двор: заболели двое слуг и сэр Генри Норрис. Анну затрясло. Нет! Норрис не должен умереть! Бог не совершит такой жестокости. Она силилась успокоиться. – Боже, Боже, только не Норрис! – причитал Генрих. – Лучший из моих джентльменов, храни его Господь! Я буду молиться за него, – продолжал король. – Мы уедем сегодня же. Я прикажу распустить двор. Дорогая, вы дрожите. Не бойтесь, умоляю вас. Мы поедем в Уолтхэм в Эссексе, где у меня есть небольшой дом. Там мы будем в безопасности. Это далеко от заразы. – А как насчет королевы? – спросила Анна. – Она тоже должна поехать. Я не могу отослать ее в такое время. Помните, пока не вынесено решение, все должны видеть, что я забочусь о ней как о своей жене. – Он кликнул слуг и, повернувшись к Анне, добавил: – Мы возьмем с собой совсем небольшую свиту. «Жить бок о бок с Екатериной будет нелегко», – подумала она, хотя королева продолжала демонстрировать любезность, пусть и отстраненную. И еще будет трудно скрывать свой страх за Норриса. По крайней мере, Генриха будут информировать о течении его болезни. В Уолтхэме Анну поместили вместе с дамами королевы, ни одна из которых не могла сказать ей в те дни доброго слова. А Генрих, к досаде Анны, бóльшую часть времени проводил с Екатериной, когда не запирался в своем кабинете для проведения экспериментов с лекарствами от потницы. Анна подозревала, что король накапливает заслуги перед Господом на случай, если его брак признают законным, чего, разумеется, и быть не могло. Однако Генрих предстал перед ней с другой стороны: она начала понимать, как сильно он на самом деле боится гнева Божьего. Уолси, который уже переболел потливой лихорадкой и был к ней невосприимчив, писал часто. Норрис, к счастью, шел на поправку, за что Анна втайне возносила прочувствованные хвалы Небу. Пока бушевала лихорадка, все дела государства, кроме Великого дела, застыли в подвешенном состоянии, но у кардинала хватало занятий, которые держали его без сна до самой ночи. – Напишите Уолси, дорогая, – попросил однажды вечером Генрих, когда Екатерина легла спать и они урвали часок уединения в тиши личных покоев короля. – Поблагодарите его за усердие. Анна из чувства долга написала, неискренние слова благодарности стекали с ее пера вместе с чернилами. – Я надеялся, – сказал Генрих, когда она закончила и передала ему для прочтения написанное, – услышать, что кардинал Кампеджо к этому времени уже добрался до Франции. – Он добавил от себя постскриптум с благодарностью Уолси. – Я предупреждала вас, что Кампеджо не станет торопиться, – заметила Анна. – Они все надеются, что вы устанете от меня и забудете об аннулировании брака. – Дорогая, это неправда. – Генрих взял ее за руки. – Его святейшество не послал бы легата в такую даль, если бы не намеревался вынести благоприятное решение. Это правильно, что мое дело будет разобрано по справедливости. Тогда все увидят, как легаты взвешивают за и против. Перестаньте воображать себе худшее. – Я постараюсь, – вздохнула Анна. – Но мне все же не унять беспокойства. – Она наклонилась и легко поцеловала Генриха в губы. – Есть одно дело, которое я хотела обсудить с вами. Генрих опустился в кресло и посмотрел на нее с горькой усмешкой: – Я надеялся использовать с толком момент, который нам, по счастью, выпал, но что делать, говорите. – Это не займет много времени. – Анна улыбнулась. – Вы, должно быть, слышали о смерти настоятельницы аббатства Уилтон. – Да. Это богатая и славная обитель, дворяне посылают туда своих дочерей, вот и стоит шум по поводу избрания преемницы. Общество поддерживает назначение аббатисой госпожи Изабель Джордан. Кардинал на ее стороне, и я тоже, полагаю, одобрю это. Анна уже знала о симпатиях Уолси. Ей рассказал Уилл Кэри – он заходил к невестке утром. Его сестра Элеонора была монахиней в Уилтоне, и оба – Уилл и Мария – надеялись на содействие Анны в ее продвижении. Анна про себя улыбнулась. Несмотря на всю свою ревность, Мария была готова использовать сестру для обретения желаемого. Но радеть о назначении аббатисой госпожи Элеоноры Анну заставило скорее желание обставить Уолси. Это был бы эффектный способ продемонстрировать свое превосходство над врагом. – Ваша милость, вероятно, не знает, что в Уилтоне монашествует сестра мастера Кэри Элеонора, – сказала Анна. – Думаю, она подойдет гораздо лучше. Эта женщина молода и образованна, ее очень любят в монастыре. Госпожа Джордан, вероятно, обладает многими достоинствами, но она слишком стара. Если бы стало известно, что ваша милость отдает предпочтение Элеоноре, в монастыре за нее и проголосовали бы. – Я поразмыслю об этом, – после некоторого раздумья пообещал Генрих. – Благодарю вас, сир. Это доставит мне огромное удовольствие, – и Анна протянула к нему руки.
Анна обрадовалась, услышав, что Генрих написал Уолси и выразил свои пожелания относительно аббатства Уилтон. Еще большее удовлетворение вызвал у нее ответ кардинала, который обещал продвинуть в настоятельницы госпожу Элеонору. Однако ликование оказалось недолгим. Не успела Анна как следует насладиться добрыми вестями, как к ней прибежала одна из двух ее горничных и сказала, что другая подхватила потливую лихорадку. Генрих обезумел от ужаса. Он приказал Анне немедленно переехать из Уолтхэма в его поместье Бифлит в Суррее, вдруг она тоже заразилась. И даже не поцеловал и не обнял на прощание. Анна удалилась, держа голову высоко поднятой и затаив обиду. В дороге, сжавшись в комок в носилках и повязав вокруг нижней части лица надушенный платок для защиты от инфекции, она убеждала себя: нет, это не потому, что он ее не любит, просто не может рисковать своим здоровьем. И не ошиблась: вскоре выяснилось, что на следующий же день после ее отъезда Генрих покинул Уолтхэм и укрылся в Хансдон-Хаусе. В Бифлите, одинокая и запуганная, Анна беспрестанно плакала. Все было очевидно: Генрих отослал ее, а сам вернулся к Екатерине. Без сомнения, тут постарался Уолси, чем-нибудь зацепил чувствительную совесть короля. Однако вскоре Генрих начал засыпать ее письмами, умоляя прислать весточку о своем добром здравии. Он сообщил также, что Джордж подцепил лихорадку, но, по милости Божьей, выздоровел и отправился домой в Гримстон, как только это стало возможно. Анна испытала невероятное облегчение, узнав об этом, а также об отсутствии заболевших в Хансдоне. В ответ она излила в письме все свои страхи: заболеть потницей, потерять Генриха и стать жертвой козней против нее кардинала. Король поспешил развеять тревоги любимой бодрыми речами. Одна вещь может Вас успокоить: говорят, женщины меньше подвержены этой напасти, и ни одна из заболевших при дворе не умерла. Поэтому умоляю Вас, моя обожаемая, ничего не бойтесь, не грустите из-за моего отсутствия, потому что, где бы я ни находился, я весь Ваш. Иногда неприятности подавляют нас, но наберитесь храбрости и отбросьте куда подальше все эти тревоги: очень скоро, я уверен, все они рассеются и мы будем торжествовать. В настоящее время я ничего не желал бы более, чем заключить Вас в объятия и иметь возможность пусть немного, но облегчить Ваши тяжелые и напрасные мысли. Писано рукой того, кто есть и всегда будет неизменно Вашим Г. К. Генрих предупредил Анну: в Суррее появились заболевшие потницей. Он рекомендовал покинуть Бифлит и ехать домой. Анна снова приказала горничной собрать вещи и отправилась в Хивер. Там она застала отца, который как раз вернулся в фамильное гнездо после роспуска двора. Он сразу отправил Анну в спальню и приказал оставаться там, чтобы не заразить его, мать, Марию и детей, которые находились при них. Анна смиренно исполнила приказание. Это оказалась мудрая предосторожность. На следующее утро Мария подсунула под дверь комнаты Анны письмо от Уилла. Читая его, Анна злилась. Уилл прислуживал королю, когда тот вскрыл письмо от кардинала Уолси и пришел в ярость, потому что кардинал умолял его оставить мысли об аннулировании брака из страха прогневить Господа. Он ужасно ругался, говорил, что отдаст тысячу Уолси за одну Анну Болейн. Он сказал: никто, кроме Господа, не отнимет ее у него. Анна тоже взъярилась. Теперь-то уж Генрих должен понять, что Уолси работает против них. Вот доказательство, если оно ему требовалось! Может быть, отныне он станет больше прислушиваться к ее словам и прекратит отмахиваться от ее опасений как от женских фантазий. Отложив письмо, Анна – руки ее тряслись от злости – открыла дверь, чтобы взять оставленный снаружи поднос с едой. Куски холодной оленины, белый хлеб, густо смазанный маслом, и кувшин эля. Ничего этого не хотелось: она была слишком встревожена, чтобы есть, да и голова немного болела. Анна села и взяла в руки часослов – рукопись с прекрасными яркими и живыми рисунками. Книга была куплена еще в Нидерландах и всегда успокаивала. Прочитав несколько страниц, Анна почувствовала душевный подъем: «Ничего, в конце концов победа будет за мной, клянусь!» В предвкушении она взяла перо и написала внизу одной из страниц: Le temps viendra! Время придет! И добавила к надписи свое имя: пусть тот, кто обнаружит эту строчку через многие годы, знает, чьей рукой она выведена. К тому моменту написавшая ее либо будет знаменитой, либо забытой. Голова раскалывалась, и возникла ноющая боль в области сердца. А затем Анна вдруг начала обливаться пóтом и сразу поняла, что это значит. Она несколько раз вскрикнула, прибежала мать и стала бесстрашно заворачивать ее в одеяло. – Пусть болезнь выйдет из тебя с пóтом! – заклинала она дочь. На галерее Мария плакала о своих детях. Но Анна не могла думать ни о чем другом, кроме собственной смерти: она умрет, умрет очень скоро, и притом девственницей, так и не познав радости свершившейся любви. Через полчаса ее уже и это не тревожило. Сквозь собственный бред она слышала голоса: – Надо известить короля! – Может, позвать священника? – О мое бедное, бедное дитя! – доносилось до ее отуманенного лихорадкой сознания, пока тело сотрясалось в конвульсиях и обливалось пóтом. Болело все, но гораздо страшнее было сильнейшее чувство тревоги. Сознание временами возвращалось, и, когда больная приходила в себя, ее мысли находились в полном смятении. Анна понимала, что у нее лихорадка, и вспоминала, как люди говорили: человек может быть здоров и счастлив за обедом и умереть к ужину, и только пережившие первые сутки болезни могут надеяться на выздоровление. Анна в ужасе готовилась к смерти. Но Бог еще не был готов принять ее. Ночью жар спал, и приливы пота стали уже не такими сильными. На рассвете Анна проснулась и обнаружила сидевшую рядом с постелью мать, которая перебирала четки и шептала молитвы. – Хвала Господу, тебе лучше! – воскликнула леди Элизабет, когда Анна протянула к ней руку. На щеках матери видны были следы слез, под глазами залегли темные круги. – Я всю ночь не спала, следила за тобой, – сказала она. – У твоего отца тоже потница, но не такая сильная. Он поправится. – И устало обмякла в кресле. – Какое облегчение, – пробормотала Анна, она была слишком слаба, чтобы говорить больше. – Король… – Мы послали ему сообщение о твоей болезни. Прежде чем я лягу, отправлю ему еще одно письмо с известием, что ты вернулась к нам. – Элизабет Говард погладила Анну по щеке. – Как я счастлива видеть, что ты снова похожа на себя. Ужасно боялась, что мы тебя потеряем. Анна накрыла ладонью руку матери: – Думаю, Господь спас меня не просто так.
Прислав горничных, чтобы те быстро сменили постельное белье, обтерли Анну и переодели в чистую ночную рубашку, леди Болейн уснула. Часом позже приехал личный врач короля доктор Баттс. Подъемный мост был поднят, чтобы предотвратить распространение потливой лихорадки, и распоряжение впустить врача в замок отдала Мария. Она же провела посетителя в комнату больной. – Госпожа Анна, очень рад видеть, что вам уже лучше, – приветствовал Баттс. Она встречалась с этим человеком раньше и восхищалась его любезной и доверительной манерой держаться, а также его ученостью. Доктор задал ей несколько вопросов о болезни, потом улыбнулся: – Вам не нужны лекарства, госпожа Анна, но я привез укрепляющее средство, – и он передал письмо с королевской печатью. – Я осмотрю милорда вашего отца, – добавил Баттс и тихо удалился. Анна слабыми руками вскрыла послание. Генрих писал почти в помешательстве. Внезапные новости оказались худшими из всех, какие он мог получить. Короля шокировало известие о том, что потница поразила человека, который был ему дороже всего на свете и которому он желал здоровья так же, как самому себе. Он охотно разделил бы с ней болезнь пополам, лишь бы она поправилась. Это вызвало у Анны улыбку. Пополам! Как это типично для Генриха – сторониться недугов даже метафорически. В отчаянии король намеревался послать к ней доктора Чеймберса, своего лейб-медика, но тот был в отъезде – лечил больных. К счастью, доктор Баттс оказался под рукой. Если он вернет Анне здоровье, Генрих воспылает к нему еще большей любовью. Она должна руководствоваться советами Баттса во всем, и тогда он, Генрих, будет уверен, что увидит ее вновь, и это для него станет лучшим лекарством, чем все драгоценные камни на свете. В завершение Генрих еще раз нарисовал сердце вокруг ее инициалов, написав их между своими.
Отец и Анна уже шли на поправку и отдыхали в гостиной, когда пришло известие о смерти от потницы Уилла Кэри. Печальный конец настиг его с ужасающей быстротой: он промучился всего три часа. Мария казалась безутешной. – Ему было всего тридцать два! – завывала она. – Что я теперь буду делать? Куда мне деваться? Анна подозревала, что Мария больше печалилась о себе и об утраченных перспективах блестящего будущего, чем о человеке, который был ее мужем. Действительно ли сестра любила Уилла? Они ладили, но так можно охарактеризовать большинство брачных союзов. Сама Анна была глубоко опечалена, потому что зять ей нравился. Один из друзей Уилла написал Марии. Он был с ее супругом до самого конца и рассказал, как в последних словах Уилл молил кардинала Уолси оказать милость его сестре Элеоноре. «Ни к чему беспокоить Уолси, – подумала Анна. – Я прослежу за тем, чтобы его желание было удовлетворено». Прошло несколько недель, Анна поправилась и снова почувствовала себя такой же, как прежде. Тем не менее она оставалась в Хивере. Был разгар лета, лихорадка продолжала свирепствовать, король находился в постоянных переездах, и Екатерина, несомненно, делала все возможное, чтобы он забыл о разводе. Однако из любовных писем короля Анна знала, что этого никогда не произойдет. Вскоре выяснилось, что смерть Уилла оставила Марию в нужде и долгах. Земли, дарованные ему Генрихом, перешли по наследству к сыну Уилла Генри, апатичному, непослушному трехлетнему мальчику, который вечно скакал по замку на лошадке-палочке, размахивая деревянным мечом, чем немало досаждал деду. Должности Уильяма вместе с доходом, который они приносили, вернулись к королю. – Мне негде жить! – плакала Мария. – Комнаты Уилла при дворе отошли кому-то другому. Может быть, – она с надеждой взглянула на отца и громко всхлипнула, – я могу остаться здесь? – Нет, – возразил он, – ваше место – в семье мужа. Я дал Уиллу за вами достаточно хорошее приданое. – Но у меня ничего не осталось по брачному контракту, а Уилл умер, не успев составить завещание. Вы это знаете, отец! Но тот был непреклонен и особенно раздражителен после перенесенной болезни. – Моя ответственность за тебя, дочь моя, завершилась, когда я отдал тебя Уильяму Кэри! Ты не можешь жить здесь. Тебя должны поддерживать его родители, и я предлагаю написать им без промедления и договориться о переезде в – где там они живут? – в Уилтшир. Мария горестно раскачивалась из стороны в сторону. – Но я не хочу жить в Уилтшире, и я едва знакома с ними! Анна обняла ее одной рукой. – Отец, вы слишком суровы, – упрекнула она сэра Томаса. – Ты ведь так не думаешь, мама? Леди Элизабет подняла глаза от шитья. – Ваш отец прав, – тихо проговорила она. – Мария не может остаться здесь. Анну удивила ее реакция. Казалось, мать так же лишена сочувствия к Марии, как и отец. – Делай, как тебе говорят, Мария, и напиши письмо! – рявкнул отец. Пошатываясь и всхлипывая, Мария ушла к себе в комнату. Анну поразило, что привязанность отца к детям длилась ровно до тех пор, пока они были ему полезны. Мария бедна, и ей почти тридцать. Едва ли она найдет себе достойного мужа, а значит, может остаться на попечении отца. Но какой бы жалкой и вздорной ни была Мария, она все же его дочь. С этой мыслью Анна тоже заторопилась в свою комнату, чтобы написать Генриху.
Через два дня в Хивер прибыл гонец с подарком от короля – оленьим окороком. Было доставлено и письмо. На этот раз я пишу к Вам для того, отрада моего сердца, чтобы справиться о Вашем здоровье и благополучии, моля Господа, если Ему будет угодно, вскоре свести нас вместе. Уверяю Вас, я жажду этого. Видя отсутствие своей любимой, я посылаю Вам немного мяса, которое символизирует меня – часть плоти Генриха, – предвкушающего, что вскоре, по благоволению Господа, Вы насладитесь моей плотью, чего я бы хотел уже сейчас. Анна покачала головой, улыбаясь его дерзости. А потом исполнилась благодарности к нему, потому как он приказал своему секретарю написать отцу письмо и выразить в нем его, короля, отношение к тому, как сэр Томас обращается с Марией. Разумеется, это не делает чести Вашему отцу, который должен принять на содержание свою родную дочь в ее крайней нужде. На этом заканчиваю, моя дорогая, хотя мне хотелось бы провести с Вами весь вечер. Писано рукой Вашего Г. К. Когда отец прочитал письмо королевского секретаря, лицо его устрашающе побагровело и он сердито взглянул на Анну. Было очевидно, кто стоит за этим. Однако сэр Томас понял, что его обставили. Не особенно любезным тоном он сказал Марии, что передумал и из жалости позволяет ей остаться в Хивере. Мария обвила его руками и от души благодарила, но он холодно отстранил ее, и Анна начала понимать, что, вероятно, Марии лучше было бы в доме Кэри, потому что жить там, где тебе не рады, – это истинное наказание. И Анна снова написала Генриху, объясняя, в каком неприятном положении оказалась Мария. В ответ король согласился выплачивать Марии ежегодное содержание в размере ста фунтов, что составляло жалованье Уилла Кэри. После получения этой новости лицо Марии изменилось. Она больше не была скорбящей вдовой, но превратилась в женщину со средствами. Вдохновившись успехом, Мария накинулась на родителей и даже на Анну: – Вы все говорили, что я ушла ни с чем! Что позволила королю использовать себя и ничего не попросила взамен! Но он не забыл меня! Он не обязан оказывать мне эту денежную помощь. Но он помнит, что у него есть дочь. Это для нее – и для меня, и для маленького Гарри. Король обеспечивает нам приличный доход и тем самым спасает от жизни здесь в рабском состоянии! – Ты получила эту помощь благодаря мне, – заметила уязвленная Анна. – Ты живешь в моем доме только потому, что так распорядился король! – прорычал отец. – Необходимость обеспечивать тебя не главная причина моих возражений против твоего присутствия здесь. Разве тебе приходит в голову, что ты – живое напоминание о том, что эта семья предпочла бы забыть? Много есть людей вокруг, которые хотели бы навредить твоей сестре, и если они получат хотя бы намек на то, что ты делила ложе с королем, или заметят, что ребенок похож на него как две капли воды, то используют это против нее. Если бы ты жила в Уилтшире, где вас никто не увидит, это было бы лучшее решение. – Сэр Томас повернулся к Анне. – А ты, моя прекрасная леди, поступила бы мудрее, если бы не вмешивалась. – Я сделала то, что считала правильным, – возразила Анна. – И так же поступил его милость! Вы подвергаете сомнению мудрость короля? Отец бросил на нее взгляд, говоривший о том, какого он мнения о мудрости его милости, но больше ничего не сказал, и наконец жизнь в Хивере стала почти похожа на нормальную. Покой был нарушен, когда Генрих сообщил Анне о своем решении даровать ей опеку над юным Генри Кэри. – Но он мой сын! – возмутилась Мария. – Тебе что, не хватает короля? – Я его об этом не просила! – резко ответила Анна. – Тише, вы обе! – рыкнул отец. – Мария, тебе следовало бы знать, что, когда наследник земельных владений остается без отца, его берет под свою опеку король, и король вправе даровать опекунство, кому ему будет угодно. В данном случае его милость сделал мудрый выбор, потому что Анна пользуется его расположением, и это обеспечит мальчику большие преимущества. – Но он мой ребенок! – протестовала Мария. – Она его не получит! – Я не стану забирать его, – поспешила заверить сестру Анна. – Он может оставаться с тобой, и все будет как прежде. А когда Генри подрастет, найду хороших учителей, чтобы он получил приличное образование. Ты не можешь жаловаться на это. Смотри на меня как на добрую крестную, которая всегда будет заботиться об интересах своего крестника. Мария сдалась: – Ты будешь во всем советоваться со мной? – Буду, – пообещала Анна.
Она на самом деле не хотела брать на себя ответственность за племянника. Гораздо больше Анну занимали выборы в аббатстве Уилтон. Она была готова, вооружившись дубинкой, отстаивать интересы Элеоноры Кэри. По меньшей мере это показало Марии, что младшая сестра принимает близко к сердцу интересы семьи ее покойного супруга, и Мария в самом деле смягчилась, видя, как решительно Анна взялась выполнять последнюю волю Уилла. Однако Уолси – черт бы его побрал! – опередил ее. Генрих написал, что кардинал отправил доверенных лиц в Уилтон для проверки кандидатов с целью оценить их пригодность к должности аббатисы. Госпожа Элеонора призналась, что у нее есть двое детей от разных священников, и не утаила даже того, что недавно на время покидала монастырь и жила в грехе со слугой лорда Уиллоуби. Анна пришла в ужас, потому как эти открытия наверняка отразятся на ее собственной репутации. С какой радостью враги будут тыкать в нее пальцем и глумиться: вот, мол, она настаивала на избрании аббатисой шлюхи. Уолси, должно быть, от души веселится. Генрих – слава Богу! – проявил рассудительность. Дабы порадовать Анну – а он прекрасно знал, что она не потерпит победы на выборах ставленницы Уолси, – отдал распоряжение: аббатисой не станет ни Элеонора Кэри, ни Изабель Джордан. «За все золото мира я не обременю ни свою совесть, ни Вашу, поставив госпожу Элеонору во главе этого монастыря». Вместо этого король приказал поручить эту должность человеку добронравному. Это Анна не могла оспаривать, лишь удивлялась про себя: знал ли Уилл, что его сестра ведет столь аморальную жизнь? Потливая лихорадка постепенно отступала. Генрих сказал Анне, что ей нужно решить, лучше ли для нее воздух Хивера, но выразил надежду на скорую встречу. Анна считала, что ей стоит отложить возвращение ко двору. После болезни она все еще быстро утомлялась и не чувствовала в себе сил отражать атаки Генриха. Ее разозлило известие о том, что кардинал все-таки взялся проталкивать на пост аббатисы госпожу Изабель Джордан. Генрих строго поговорил с Уолси по поводу его дерзкого ослушания, и Анна с удовольствием представляла себе, каким жгучим был этот выговор. Кардинал униженно извинялся, и на следующий день в Хивер прибыло письмо с мольбой о прощении и с дорогими украшениями в подарок Анне. Выборы были признаны недействительными, и дело осталось нерешенным. Она победила!
Глава 15. 1528 год
Король вернулся в Гринвич, так как потливая лихорадка сошла на нет. Джордж снова был при дворе и явился в Хивер, переполненный новостями. – Меня назначили джентльменом в личных покоях! – объявил он. Анна с матерью обняли его, а отец похлопал по спине. – Забраться так высоко в двадцать пять лет – это очень хорошо, сын мой, – сказал он. – Анна, король просил меня передать тебе это, – Джордж протянул сестре письмо, – и предупредить, что о тебе ходит много слухов. Анна сломала печать. Дорогая, я немало озадачен известиями, которые передаст Ваш брат, и прошу Вас полностью довериться ему. О моей уверенности в скорой встрече с Вами лучше знают в Лондоне, чем здесь, при дворе, что меня изумляет. Кто-то проявил нескромность, но я надеюсь, в будущем наши встречи не будут зависеть от капризов других людей. Писано рукой жаждущего быть Вашим Г. К. Анна пожала плечами: подобных слухов стоило ожидать. Из Рима приезжает легат, как тут не начаться разговорам? В тот вечер после обильного праздничного ужина Анна и Джордж сидели в гостиной и обменивались новостями. – Как Джейн? – спросила Анна. – Рада возвращению ко двору, – ответил Джордж, и Анна почувствовала его желание уклониться от обсуждения этой темы. – А как вы с Джейн? – не отступалась Анна; ей давно было известно, что брак у них несчастливый. – Мы стараемся видеться как можно реже, – признался Джордж, и на лицо его набежала тень. – Если ты хочешь услышать правду: мы от души ненавидим друг друга, а иногда не только от души. – Но почему? Она довольно приятная. – Ее красота лишь поверхностная. Анна, ее воспитывали без уздечки. Отец Джейн, похоже, был настолько увлечен своими книгами, что пренебрег внушением своей дочери понятия о важности целомудрия. Она изменяла мне с несколькими мужчинами, поддаваясь порывам похоти и жажде грязных удовольствий, супружеская верность ей неизвестна. Анна была поражена: – Она действительно прелюбодействовала? Джордж фыркнул, его красивое лицо скривилось в гримасе отвращения. – Да,если ты хочешь окончательно все прояснить! Она не боится ни Бога, ни впасть в немилость. Ее поведение порочно. – Он допил остатки вина и налил еще. – Но я-то не лучше со своей охотой до женщин. Поверь, Анна, я тоже нечист. – Весь двор об этом знает, – тихо сказала она. – Они не все знают, – пробормотал он. – На что ты намекаешь? Джордж выглядел удрученным. Прошло много времени, прежде чем он снова заговорил: – Анна, меня снедает чувство вины. Я должен с кем-то поговорить, и ты единственный человек, которому я могу довериться. Тем не менее, если я расскажу о причине своих терзаний, ты меня возненавидишь. – Я не смогу тебя возненавидеть, – возразила Анна. – Говори! Он медлил и не смотрел ей в глаза. – Я как будто не могу насытиться женщинами: только о них и думаю день и ночь. Я не контролирую себя и не имею сил это изменить. Я… я даже брал силой вдов и лишал девственности девиц. Для меня все едино, – выдавил из себя Джордж. Это признание потрясло Анну до самых глубин существа. Ее брат, которого она любила, как саму себя, признавался в насилии – самом гнусном из всех преступлений. Это было непостижимо. Неудивительно, что Джейн от него отвернулась! – Нужно себя контролировать! – прошипела она и, подскочив, дала ему крепкую пощечину. – В тебе нет уважения к женщинам. – Я не могу удержаться. – У Джорджа был совершенно подавленный вид; щека покраснела от удара. – Такова моя натура, иногда я ненавижу себя за это. Но в любом случае я не могу любить Джейн. Она испорченная. Она… она хотела видеть меня с одной из моих любовниц. – Ради всего святого! – воскликнула Анна. – Что происходит с вами обоими? Джордж, эта несдержанность не доведет до добра. Ты хочешь подцепить сифилис? Ты должен следить за женой и положить конец ее дурному поведению. Перестань бросаться на других женщин! Мало найдется худших вещей среди того, что может сделать мужчина. Ты хоть представляешь, какую боль и какие несчастья это приносит? Посмотри на сестру Марию! Джордж повесил голову: – Я постараюсь, Анна. Честно, постараюсь. Он протянул руку, но сестра не приняла ее, а, резко бросив: – Я иду спать! – покинула брата. В эту ночь Анне не спалось, она лежала без сна и пыталась свыкнуться с мыслью, что ее любимый брат принадлежал к тому разряду мужчин, которых она больше всего презирала. К утру она поняла: хотя Джордж горько и убийственно разочаровал ее, она не перестанет любить его. Они были слишком близки, чтобы такое могло произойти.В середине августа Анна вернулась в свои гринвичские апартаменты рядом с турнирной площадкой. Генрих немедленно явился к ней и обнял так крепко, словно готов был не отпускать вечно: – Дорогая! Вы представить себе не можете, как целительно для меня видеть вас в столь добром здравии. Я каждый день благодарю Господа за то, что он вернул вас мне. – А я благодарю Его за ваше избавление от болезни. – Он всегда благосклонен к праведным, – заметил Генрих, наконец отпуская Анну. – Надеюсь вскорости услышать о прибытии в Англию кардинала Кампеджо. Очевидно, он отложил поездку, так как был нездоров, а потом, разумеется, не мог приехать из-за потливой лихорадки. Но я верю, скоро он появится, и тогда, дорогая, закончится наше томительное ожидание. Анна тоже отчаянно надеялась, что наступил конец всей этой неопределенности, домыслам и пересудам. – Прошло уже восемнадцать месяцев с тех пор, как вы попросили меня выйти за вас замуж, – напомнила она. – Я не рассчитывала, что придется ждать так долго. – И три года, как я влюбился в вас, – гладя ее по волосам, пробормотал Генрих и приподнял ее лицо за подбородок, чтобы поцеловать. – Но крепитесь, скоро все будет хорошо. – Потом взял лютню Анны. – В ваше отсутствие я написал для вас песню. Мелодия так и крутится у меня в голове, и это хорошо, потому что она постоянно вызывает у меня перед глазами ваш образ. Я так хотел исполнить ее вам, моя дорогая. – Жажду услышать ваше сочинение, – отозвалась Анна. Теперь она искусно умела заставлять Генриха верить, будто, как и он, пылает страстью. Однако песня, которую король исполнил своим чистым тенором, оказалась действительно волнующей.
Джордж и его неудачный брак продолжали тревожить Анну. Она хотела как-нибудь помочь, поэтому отыскала Джейн и пригласила на ужин в свои покои. Дамы начали с обмена любезностями, но Джейн вела себя настороженно, явно считая, что Анна примет сторону Джорджа или что все Болейны замараны одними грехами. Анна решила развеять эти иллюзии. – Джордж признался, что был неверен вам, – сказала она. Наступила тишина. – Полагаю, он сообщил вам, что я отвечала ему тем же, – ответила Джейн, обиженно выпятив губы. – Да. Дорогая сестрица, почему вы так несчастливы вместе? – Он животное! – взорвалась Джейн. – Я не могу сказать, что он делал со мной: вы наверняка не поверите. – Испытайте меня. – В душе Анна сомневалась, что действительно хочет это услышать. – Все сказанное останется между нами. – У него… такой чувственный аппетит. – Знаю. Это не секрет. Он всегда был любителем женщин, но я надеялась, все уладится после брака. – Я говорю не об изменах. – Джейн начала всхлипывать. – Я говорю о его пороках. Он заставлял меня… Стыд не дает мне произнести подобное вслух… О Боже, это было мерзко и отвратительно – позорище! – Она закрыла лицо руками. При французском дворе Анна наслушалась о разных сексуальных практиках, но понятия не имела, о чем толкует Джейн. Может быть, ее невестка слишком наивна и не понимает, что нормально, а что нет? Правда, Джордж называл ее порочной. – Честно говоря, я в затруднении, – призналась Анна. – Вам следует радоваться своему неведению, – отозвалась Джейн. – То, что несколько раз делал со мной Джордж, – гнусный грех против Господа. Анна пришла в еще большее недоумение: – Если вы не выразитесь более определенно, я не смогу помочь. Джейн покраснела. – Так делают животные! – выпалила она. Анна облегченно выдохнула, вспоминая эротические рисунки, которые видела во Франции. – Но здесь нет ничего противоестественного, – заметила она. – С каких это пор содомия естественна? – прошипела Джейн.
С Джорджем Анна говорить не стала. Отправила все, о чем узнала, в тайники своего сознания – так далеко, чтобы больше не иметь с этим дела. Она знала, что ей следует ненавидеть Джорджа как худшего из мужчин на всем белом свете, но не могла. Она попыталась выразить сочувствие Джейн, но та не приняла его. После первого признания она отказалась дальше распространяться о проблемах своего брака и вскоре попрощалась. С тех пор во время их редких встреч – а Анна подозревала, что Джейн ее избегает, – невестка выглядела еще более отстраненной, даже обиженной. Складывалось впечатление, будто она винит Анну за то, что та заставила ее разоткровенничаться. Впрочем, у Анны хватало и собственных дел. Королева Екатерина по-прежнему руководила двором. Когда они встречались лицом к лицу, она была достаточно корректна, но жизнь под одной крышей не доставляла радости им обеим. – Мое положение ненормально, – однажды вечером пожаловалась Анна Генриху, когда они ужинали с кардиналом. – Я не фрейлина и не жена. Для меня нет места при дворе. – Для соблюдения приличий, госпожа Анна, вам было бы лучше иметь собственный дом, – заметил Уолси. Человеку со стороны или не слишком осведомленному в те дни могло показаться, что они с кардиналом лучшие друзья, так умело Анна изображала симпатию к нему и благодарность за предполагаемые старания завершить Великое дело. – Согласен, – откликнулся Генрих. – Я мог бы посещать вас там, дорогая. Мы должны найти для вас дом. Анна на мгновение задумалась: – Раз ваша милость так часто бывает здесь, в Гринвиче, я бы хотела поселиться где-нибудь неподалеку. А еще рядом с Гринвичем находился дом Норриса. Каким благословением – и какой мукой – будет это близкое соседство!.. – Сир, я бы мог разузнать, какие есть возможности, – предложил Уолси. – Великолепно! – поддержал его Генрих. – Чем скорее это удастся организовать, тем лучше будет для всех. – Благодарю вас обоих, – улыбнулась Анна, – но вы не рассердитесь, сир, если я уеду в Хивер, пока дом для меня не подготовят? Генрих застонал: – Нет! Неужели опять! Клянусь, я сровняю это место с землей! – Если вы поступите таким образом, мне придется уехать к отцу в Норидж, что гораздо дальше, – сладким голосом ответила Анна. Иметь собственный дом и свое хозяйство – это прекрасно, будет похоже на собственный двор. Но лучше всего, что там не будет Екатерины.
Анну впечатлило, с какой скоростью доставили письмо от Генриха: прошло всего два дня после ее приезда в Хивер. Подходящего жилища неподалеку от Гринвича подыскать не удалось, однако кардинал нашел для нее другое – Дарем-Хаус на Стрэнде в Лондоне. И Генрих уже приказал ее отцу следить за подновлением дома. Анна незамедлительно отправилась в Лондон и вместе с отцом пошла осматривать новое жилище. Дом был большой, в просторных залах гуляло эхо. Из окна виднелся сад и лужайки, спускавшиеся к реке. Потом Анна вошла в помещение, которое когда-то, видимо, было опочивальней, и остановилась. На стене висел портрет юной королевы Екатерины. – Она жила здесь, до того как вышла замуж за короля, – сообщил отец. – Это нужно отсюда убрать! – потребовала Анна. – Не хочу никаких напоминаний о ней. В остальном осмотр прошел замечательно, и они потратили целый час, составляя список мебели, гобеленов, штор и домашних слуг, которые понадобятся Анне. – Король дал разрешение брать из королевских кладовых любые вещи для обстановки дома, – сказал отец. – Тогда я буду жить как королева! – воскликнула Анна и закружилась в центре зала, который вскоре станет главным в ее собственном доме. – Именно так. Его милость дал указания, что у вас должен быть дом, достойный его будущей невесты. На службу к Анне наняли целую армию слуг и фрейлин, чтобы она могла поддерживать в Дарем-Хаусе такую чинность, словно уже являлась королевой. Среди новых фрейлин была милая светловолосая девушка по имени Нэн Сэвилл. Она с такой неподдельной радостью служила своей будущей королеве, что невольно располагала к себе. Сестре Марии Анна предложила стать фрейлиной при ее дворе, но та отказалась, сославшись на необходимость воспитывать детей. Так же поступило и большинство других леди. Впрочем, те же самые причины не мешали им появляться при королевском дворе, с раздражением отмечала Анна, обиженная, что ее оливковая ветвь была отвергнута. Через три недели она переехала в новый дом. Придворные стекались стаями засвидетельствовать свое почтение и заявить о преданности. Джордж и отец оказались в числе постоянных посетителей, и в первый же вечер явился король – в сопровождении Норриса, тактично соблюдавшего дистанцию. Анна подавила в себе радость при виде сэра Генри. Единственным недостатком жизни в Дарем-Хаусе было то, что она не имела возможности видеть его каждый день. Как только король и Анна остались наедине, он поцеловал ее, и Анна почувствовала, что его распирает от восторженного волнения. – Сегодня я получил известие, – сообщил Генрих. – Кардинал Кампеджо скоро прибудет в Англию. Конец уж виден. – Это замечательная новость! – воскликнула Анна. – Я ничуть не сомневаюсь в исходе. Бог и моя совесть абсолютно согласны с тем, что дело мое правое. – Генрих снова привлек Анну к себе и запечатлел на ее губах поцелуй. – Скоро вы будете моей! – выдохнул он. Анна с большим удовольствием показывала королю и Норрису Дарем-Хаус, остро сознавая близость последнего, однако Генрих, занятый выражением сердечных похвал произведенным в доме улучшениям и вкусу Анны в выборе обстановки, ничего не приметил. Ужинали они наедине на серебряной посуде, которая когда-то украшала стол отца Генриха. – Вы угостили меня славным паштетом из оленины, – сделал комплимент Генрих. Он как раз вытирал губы салфеткой, когда раздался стук в дверь и вошел церемониймейстер с письмом. – От герцога Саффолка, – жестом отпуская слугу, пояснил Генрих. – Я отправил его в Париж встретить и сопроводить Кампеджо в Англию. – Король взломал печать, прочитал письмо и нахмурился. – Что там? – резко спросила Анна. – Полная чушь! Он говорит, что миссия Кампеджо будет простой насмешкой. Я в это не верю. Легат не отправился бы за тридевять земель понапрасну.
Генрих уехал охотиться, потому что наступил сезон дичи. Анна осталась в Дарем-Хаусе вся в переживаниях из-за легата и в ожидании новостей от Генриха. Его следующее письмо было радостным. Через неделю легат прибудет в Кале. Оттуда до Англии уже совсем недалеко, погода благоприятствовала. А потом очень скоро я буду наслаждаться тем, чего так долго жаждал, к удовольствию Господа и нашему взаимному утешению. Больше ничего Вам сообщить не могу, моя дражайшая, за недостатком времени, кроме того, что хотел бы заключить Вас в объятия или быть обнятым Вами, о чем думаю непрестанно с того момента, как поцеловал Вас. Генрих не мог долго находиться вдали от Анны. Он послал к ней гонца с просьбой тайно приехать к нему в Истхэмпстед, в его охотничий домик в Виндзорском лесу. Дом этот больше походил на дворец, и, если учесть, что в нем, кроме короля, находились только Норрис и конная королевская свита, казался пустым, но зато давал уединение. И все же присутствие Норриса было мукой для Анны. Прибытие возлюбленной безмерно порадовало Генриха, хотя он и так пребывал в отличном настроении. Охота шла удачно – они ели добытую им оленину, – и на предстоящие судебные слушания король смотрел весьма оптимистично. Он начал писать очередную книгу – «Сосуд истины», которую ему не терпелось показать Анне. В ней Генрих с большой убедительностью приводил аргументы против своего брака и наследования трона женщиной. У Анны возникло искушение оспорить последнее, но, разумеется, это было бы не в ее интересах. Позже Генрих взял книгу в красивом переплете с шелковой лентой-закладкой и передал Анне: – Я хотел показать вам это, дорогая. Нашел в своей книге хоралов. Она открыла томик и увидела очень изящное изображение розы Тюдоров и дату 1515, потом перевернула листы до отмеченной закладкой страницы. Текст под заголовком «Quam pulchra es»[40] был на латыни. – Я не знаю латинского, – возвращая книгу, сказала Анна. – Тогда я переведу вам, – ответил Генрих и прочитал дребезжащим от избытка эмоций голосом:
Только Анна вернулась в Дарем-Хаус, ее уже ждало письмо. Моя дражайшая, хочу рассказать Вам, как мне одиноко после Вашего отъезда. Сейчас время тянется еще медленнее, чем в тот раз, когда мы разлучались на целых две недели. Думаю, причиной тому – Ваша доброта, с какой Вы ответили на мою любовную горячность, потому что иначе я не мыслю для себя возможным впадать в такую глубокую печаль. Но теперь я направляюсь к Вам и думаю, что моя боль будет наполовину исцелена. Утешение мне дает также и книга, которой я занят. Сегодня я писал ее четыре часа. Вот почему послание мое к Вам столь кратко – немного заболела голова. Пожелаю себе, особенно по вечерам, оказываться в руках моей любимой, милые сосочки которой я надеюсь вскоре поцеловать. Писано рукой, которая была, есть и будет Вашей, по Его воле, Г. К. Король не мог жить без нее, и легат вот-вот будет здесь! – Я предложил кардиналу Кампеджо с почетом расположиться в Лондоне, – говорил Генрих Анне однажды вечером в конце октября, когда они под звуки лютней и шомов[41] плыли в королевской барке по Темзе. – Но он отказался. Я отдал в его распоряжение особняк Бат рядом с Темпл-бар. Ему там будет комфортно и удобно добираться в монастырь Черных Братьев, где состоятся слушания. Анна втянула в себя воздух. Долгожданное решение было уже совсем близко. Однако когда через три дня добрый кардинал прибыл, то сразу слег в постель. Генрих, в тот же вечер тайком посетивший Анну в Дарем-Хаусе, был раздражен: – Похоже, у него подагра, из-за чего и откладывалась поездка. Как мудро поступил Климент, отправив в Лондон кардинала, продвижение которого к цели путешествия неизбежно будет медленным. Анна не ответила Генриху: «Я же вам говорила». Вместо этого, собравшись с духом, приготовилась стать очевидицей того, что Кампеджо проинструктирован как можно дольше затягивать и откладывать окончательное решение по делу короля. У него ушло пять месяцев на то, чтобы добраться до Англии, хотя летом эта поездка обычно занимала около трех недель. – Что ж, дам ему вечер на отдых, – говорил между тем Генрих, – и завтра пошлю Уолси поговорить с ним.
На следующий вечер в гостиную Анны Генрих влетел, раскрасневшись от гнева. – Сегодня Уолси потратил много часов на обсуждение дела с Кампеджо, – кипел он, – и знаете, что сказал этот легат? Он заявил, что наилучшим решением будет мое примирение с королевой. Но Уолси, надо отдать ему должное, держался за свое и побуждал кардинала приступить к рассмотрению дела как можно быстрее. Он сказал Кампеджо, что в королевстве остановились и не ведутся государственные дела, и это верно. Великое дело затмило все остальные и должно быть решено. Анна смолчала. Все происходило именно так, как она и боялась. Они возложили надежды на этого папу, и чего ради? – Ну не надо так унывать, моя дорогая, – увещевал Анну Генрих. – Уолси выиграет. Нет такого государственного деятеля, который мог бы с ним сравняться. – Хотелось бы в это верить! – воскликнула Анна. Только вчера ее отец и дядя Норфолк снова выражали беспокойство по поводу истинных мотивов кардинала. Они подозревали его в тайном содействии королеве. И если это правда, тогда он будет потворствовать избранной легатом тактике затягивания дела. – Что вы, дорогая! – Генрих был сама забота. – Вы расстроены, я понимаю. Это ожидание слишком удручает. Но я уверяю вас, ни один человек не работал усерднее кардинала ради нашей пользы. – Тогда мне остается только принять заверения вашей милости, – согласилась Анна. Генрих поцеловал ее: – Для меня большая радость видеть вас столь мудрой и рассудительной. Постарайтесь обуздать тщетные мысли и фантазии здравомыслием. Дорогая моя, не теряйте решимости, ведь стараниями Уолси для нас обоих скоро должно наступить величайшее благоденствие в этом мире. Оставалось только уповать на то, что надежды Генриха на кардинала оправдаются. Они перешли к обсуждению других дел. Двор переезжал во дворец Брайдуэлл рядом с монастырем Черных Братьев, и Генрих, предвкушавший быстрый исход дела, распоряжался подготовкой апартаментов для Анны. – Но там будет королева, – сказала Анна. – Не бойтесь, дорогая, она вас не побеспокоит. – В глазах Генриха появился стальной блеск, предвещавший опасность. – Я намерен заставить ее прислушаться к моим сомнениям по поводу нашего фальшивого брака и отнестись к ним серьезно, в чем она мне всегда отказывает. Меня раздражает, что в то время, как я полон печали и беспокойства из-за слушаний, она ходит везде с улыбкой, побуждает своих приближенных танцевать и музицировать – все мне назло. И более того… По правде говоря, ее поведение убеждает меня в том, что она меня не любит. Анна постаралась не рассмеяться – или не заплакать. Какое Генриху дело, любит его Екатерина или нет? И почему королева должна любить человека, который изо всех сил старается от нее отделаться? Если она не приходится ему законной женой, он не может ожидать от нее супружеской преданности. Но он хотел и того и другого. – В чем еще она провинилась, кроме того, что выглядит веселой? – спросила Анна. Генрих поморщился: – Публично и в частной жизни она не выказывает достаточно любви ко мне. К тому же слишком часто появляется на людях и пытается присвоить их расположение ко мне. Какой еще я могу сделать вывод, кроме того, что она меня ненавидит? – Он сделал паузу, видимо, очень себя жалел. – Мой совет получил тайный доклад о заговоре с целью убить меня и кардинала. – Нет! – в ужасе воскликнула Анна. Без Генриха она была пустым местом, и волки тут же собьются в стаю, чтобы на нее накинуться… – Не тревожьтесь, дорогая, – утешил ее Генрих, – уверен, настоящей опасности тут нет. Но если выяснится, что королева причастна к этим замыслам, пусть не ждет пощады. «Тут нет настоящей опасности». Анна подозревала, что и реального заговора тоже не существовало. Генрих распалялся все больше: – Совет рекомендовал мне обособиться от королевы как в постели, так и за столом, и забрать у нее принцессу Марию. Не верилось, что Генрих способен пойти на такое. Если он это сделает, Екатерина будет сломлена. На мгновение Анна ощутила острый приступ жалости к королеве, но быстро напомнила себе, что Екатерина сама загнала себя в угол, ее вина, что она оказалась в такой ситуации. Вслух Анна сказала: – Это заставит ее сдаться. В такое время ей не пристало искать популярности. – Да, не пристало, – проворчал Генрих. – Ей и без того уже слишком сочувствуют. Простым людям дела нет до правды, особенно женщинам: они говорят, будто я намерен взять себе другую жену ради удовольствия. Всякий, кто возражает против этого, подвергается попрекам и осуждению. Екатерина предупреждена, что ей следует меньше показываться на людях и вести себя более сдержанно под страхом вызвать мое неудовольствие. Так что, дорогая, когда приедете в Брайдуэлл, она не причинит вам неприятностей. – Король поднялся. – Я должен идти. Утром встречаюсь с кардиналом Кампеджо. И лучше ему не заикаться о моем возвращении к королеве!
На следующий день после обеда Генрих явился в приподнятом настроении, поцеловал Анну и отвел ее в сад, где они уселись на скамью с видом на Темзу. – Начал я не слишком хорошо, – завел речь король. – Сперва легат настаивал, что я должен вернуться к королеве. Вы можете представить мою реакцию. Но потом показал папскую буллу, дающую ему право вынести решение по моему делу. Он сказал, что его святейшество издал этот документ не для использования, но для сохранения в секрете, так как желал продемонстрировать расположение ко мне. Честно, Анна, я думаю, папа Климент хочет, чтобы решение было вынесено, но не смеет делать это публично из страха перед императором. «Это всего лишь подачка, чтобы держать вас в узде, – подумала Анна. – Какой прок в этой булле, если ею нельзя воспользоваться?» Но она продолжала улыбаться. – Я показал ему, – повествовал далее Генрих, – что изучил это дело с большим тщанием и, вероятно, знаю о нем больше любого теолога или юриста. В самых ясных выражениях я изложил свою позицию: у меня нет другого желания, кроме как услышать заявление, законен мой брак или нет, хотя я и сказал легату, что в его недействительности не приходится сомневаться. И тогда он пришел к идеальному решению. Екатерину нужно склонить к уходу в монастырь. Она набожна и станет прекрасной аббатисой. Тогда папа сможет дать мне разрешение на повторный брак и императору будет не на что пожаловаться. А мы сможем пожениться, и у Англии появится перспектива обрести наследника. Это было самое лучшее, идеальное решение. Анна воспряла духом. – Вы думаете, королева согласится? – Не вижу причин, почему нет. Вступив в монастырь, она потеряет только меня. Ей известно, что я к ней не вернусь, как бы ни обернулось дело. Она сможет и дальше наслаждаться всеми удобствами, какими пожелает. Я удовлетворю любые ее просьбы и, кроме того, объявлю наследницей Марию. Разумеется, после всех детей, которые родятся у нас с вами, дорогая. – Король грозно прищурил глаза, это было знаком стальной решимости привести свою волю в исполнение. – И кому, как не ей, больше всех желать сохранения мира в Европе и духовного авторитета Святого Престола. – Генрих начинал горячиться. – Потому что, если Климент выскажется в ее пользу, я утрачу веру в его власть и то же случится со многими другими людьми. Я очень ясно дал понять Кампеджо: если мне не дадут развод, я упраздню власть папы в этом королевстве. Анна почувствовала, что ей не хватает воздуха. Сердце начало учащенно биться. Неужели король и правда намерен сделать то, о чем говорит? Решится ли он ради своего освобождения низвергнуть тысячелетнюю покорность Англии Римской церкви? А что будет с ней? На мгновение Анна онемела. Потом вновь обрела голос: – Вы сделаете это? – Без колебаний! – заявил Генрих. – Я не могу допускать, чтобы духовная власть над моим королевством принадлежала продажному папе. Но до этого не дойдет. Екатерина поймет мои резоны.
Слова Генриха привели Анну в задумчивость. В тот вечер за ужином, когда разговор перешел на другие темы, ее мысли то и дело занимали судьбоносные планы на будущее, которые приоткрыл ей король. Папа никак не решался выразить мнение по поводу дела Генриха, что означало скандал. Но, как ей было известно со времен пребывания при дворе регентши Маргариты, скандальным в Церкви было далеко не одно это. Торговля индульгенциями; священники, которые брали с бедняков деньги за таинства, необходимые для обретения Небес, и попирали обет целомудрия, заводя любовниц. И эти люди обладали правом толковать Священное Писание мирянам! Взгляните на несметные богатства Церкви, которые позволяют папам, кардиналам и епископам жить в сибаритской роскоши. Посмотрите на Уолси! Полюбуйтесь на духовенство, которое, как и он сам, добивается получения приходов и бенефиций ради наживы, а сами никогда не бывают там. Разве это та Церковь, которую основал Христос? Конечно, у Него и в мыслях не было, что она станет такой. К чему удивляться пылу реформаторов вроде Мартина Лютера, которые выступают против злоупотреблений в Церкви. Вера, говорил Лютер, должна основываться на Писании, и только. Человека следует судить по его вере в Иисуса Христа. И за одиннадцать лет, прошедших с того момента, как он прибил гвоздями к воротам церкви в Виттенберге свой список протестов, тысячи людей согласились с его доводами, хотя Церковь и объявляла этих смельчаков еретиками. Генрих порицал Лютера, и все же Церковь, которую он так яростно защищал, теперь сама доказывала, что прогнила до основания. И это была та самая Церковь, беспрекословную преданность которой выражали и королева Екатерина, и император, и несметное число других правоверных христиан, считая любую критику разложения внутри ее покушением на саму веру. Живым воплощением этой Церкви для Анны являлся Уолси. Она прочла несколько лютеранских трактатов, которые попали в Англию из-за границы. Придворные исподтишка передавали их друг другу и тайком обсуждали, потому как официально эти сочинения находились под запретом. Анна беседовала о них с отцом и Джорджем – оба они признавали, что в словах лютеран есть зерна мудрости. Однако традиционное воспитание в старой вере укоренилось в Анне слишком глубоко, чтобы она поверила в возможность достичь Неба честным трудом, а не через одну только веру, как утверждали лютеране. Она не могла принять отрицание Лютером пяти из семи священных таинств, из коих он оставлял неприкосновенными только крещение и Святое причастие. Однако в последние месяцы Анна начала подвергать сомнению неподкупность Церкви и даже самого папы. «Почему это, – рассуждала она, – толковать Писание могут только те, кто возведен в священнический сан? Почему людям не позволено самим читать слово Божье?» Казалось, светлые дни, когда Эразм Роттердамский мог свободно переводить Библию, остались в далеком прошлом, замутненные реакционной боязнью ереси. Как могут люди прийти к Богу, которого по-настоящему не знают? Некоторые нерадивые священники даже не владеют латынью! Реформы необходимы. И Анна оказалась в уникальном положении, чтобы поспособствовать их осуществлению. Каждое слово, слетавшее с ее уст, завораживало Генриха. Она могла заставить его прислушиваться к своему мнению, а значит, была способна заложить основы для реформ и строить на этом основании, когда станет королевой. Ее наполнял восторг. Она будет владычицей, подобной библейской Есфири. Еврейка Есфирь стала второй, любимой женой языческого персидского царя Артаксекса, после того как тот отверг свою первую супругу. Его всемогущий главный министр Аман пытался уничтожить евреев, но Есфирь вмешалась и спасла свой народ. И об Анне будут говорить так же, как о древней царице: «И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?»[42] – Дорогая? – жалобным тоном произнес Генрих. – Вы слышали, что я сказал? Вы были где-то очень далеко. – Простите, – опомнилась Анна, рывком возвращаясь к реальности. – Должна признаться, я сегодня устала. – Тогда вам надо отдохнуть, моя милая, – сказал король и любезно удалился. Анна была рада, что осталась одна и могла спокойно подумать. Часом позже она лежала в постели без сна, осознавая значение слов Генриха и своих собственных планов. К чему себя обманывать: Анна понимала, что ее замыслы опираются не на одни только чистые принципы. Противостояние с Церковью даст ей моральные основания предъявить претензии Уолси и королеве – защитникам устоев. Но действительно Генрих говорил всерьез об упразднении власти папы или бросил пустую угрозу в приступе раздражения?
Через два дня, когда к Анне пришли отец и Джордж, она усадила их и сказала: – Король говорил мне, что, если Климент не даст ему развода, он уничтожит власть Святого престола в Англии. Мгновение оба гостя безмолвствовали. На их лицах отображались изумление и неверие. – Отец, вы ведь согласны с необходимостью реформы Церкви. Вероятно, у нас появляется отличная возможность для этого. – Реформа, да. Но отрывать Англию от Святого престола? – Отец нахмурился. – Король и правда намерен это сделать? – Он так сказал. Думаю, говорил всерьез. – Анна встала и начала шагать взад-вперед по галерее. – Его милость решился добиться желаемого любыми средствами. И если дойдет до разрыва с Римом, тут настанет наше время. – Боже! – воскликнул Джордж. – Если кто и умеет держать нос по ветру, так это ты, Анна. Я уже готов пожелать, чтобы папа объявил брак короля законным, так мне хочется увидеть последствия. – Не будь беспечным, – упрекнул его отец. – Это не шутки, за тысячу лет ничего подобного не произошло. У короля должны быть очень серьезные мотивы для подобных угроз. Он ревностно посещает мессы и ползет на коленях к кресту в Страстную пятницу. Так что может и дрогнуть. Тут ты и появишься, Анна. Твое положение самое выгодное, чтобы направить короля на верный путь. Если Климент удовлетворит его просьбу – очень хорошо, мы продолжим перебирать четки и молить святых о заступничестве. Но если нет – я скажу, да благословит тебя Господь, дочь моя! Ты поведешь нас в Землю обетованную. Анна уставилась на него. Никогда прежде отец не выражал так откровенно своих надежд на нее и не побуждал использовать свою власть над королем в полную силу. Он фактически уступал ей верховенство и признавал, что теперь она, а не он возглавляет и придворную фракцию, и семью.
Реформы стали излюбленной темой разговоров, которые вела Анна с отцом и Джорджем темными осенними вечерами у камина в главном зале Дарем-Хауса. – Мы, миряне, должны иметь возможность самостоятельно судить, что говорится в Библии, – заявил Джордж. – Приведите мне хоть одну вескую причину, почему Библию нельзя перевести на английский и сделать доступной всем желающим, – с вызовом произнес отец. – Они боятся, как бы мы не обнаружили, что Писание не дает никаких оснований для продажности Церкви. – Джордж усмехнулся. – Помните, как епископ Лондона приказал сжечь все копии перевода Уильяма Тиндейла? Кардинал Уолси заклеймил Тиндейла как еретика. – Хорошо, что он живет в Германии. – Анна встала, чтобы принести еще вина. – Тиндейл был прав. – Отец осушил кубок. – Он говорил, что в наши дни ни один человек не может изучать Писание, пока не проведет лет восемь или девять под жестким давлением наставников и не вооружится ложными принципами, а к тому моменту он уже не способен ни в чем разобраться. – Церковь хочет сохранять контроль, подвергая цензуре доступные мирянам знания, – поддержала отца Анна. – Видимо, боится, как бы мы не начали подвергать сомнению ее авторитет, если сможем сами читать Писание. – А мы уже подвергаем, – заметил Джордж. – Нам недоступно для чтения не только Писание, – сказал отец. – Уолси составил длинный список запрещенных книг. – И что это за книги? – спросила Анна. – Трактаты лютеран? – Мне не известны все, но только на прошлой неделе он кудахтал что-то по поводу одной под названием «Моление нищих». Ее написал англичанин Саймон Фиш. Он живет в изгнании в Антверпене. Уолси назвал книгу вредной и подрывающей основы, сказал, что она подстрекает к ереси, убийствам и предательству. – Кажется, эта книга пришлась бы мне по вкусу. – Анна улыбнулась. – Если Уолси она не по душе, мне точно понравится. Где бы раздобыть экземпляр? Отец и Джордж уставились на нее. – Ты сошла с ума, дочь моя! – сердито произнес отец. – Хочешь быть обвиненной в ереси? – Давно уже в Англии никого не сжигали у столба, – съязвила в ответ Анна. – Закон еще в силе, – напомнил ей сэр Томас. – На Анну не распространяются законы, которые действуют в отношении всех нас, – с усмешкой произнес Джордж. – Бьюсь об заклад, ее влияние на короля так велико, что она может безнаказанно читать любые запрещенные книги. – Я бы не стал проверять это на деле, – возразил отец. – Не беспокойтесь, я не стану рисковать своей шкурой, – заверила его Анна. Тем не менее любопытство было возбуждено. Однако никто не должен знать, что она ищет «Моление нищих». Анна послала в Антверпен одного из своих слуг якобы для покупки бриллиантов, а на самом деле дала ему тайное поручение раздобыть книгу. Не прошло и недели, как запретный плод оказался у нее в руках. Анна хранила книгу под одной из досок пола и доставала, чтобы почитать, только ночью. Текст произвел на нее впечатление. Саймон Фиш обсуждал вопрос перевода Библии на английский. Он обращался к королю Генриху, которому была посвящена книга, и взывал о помощи бедным и нуждающимся, раз Церковь лишь увеличивает их бедность своей ненасытной алчностью. Половина богатств Англии находилась в ее руках – непропорциональное количество, если учесть, что на службе у Церкви меньше чем один человек из сотни. Фиш обвинял монастыри в разложении и взимании непомерных налогов с бедняков, которых они призваны поддерживать. Монастырские богатства слишком велики, даже непристойны! Чего на самом деле хотел Фиш, так это добиться их перераспределения для пользы королевства. Однако метил он не только в церковные богатства. Духовенство, по его мнению, узурпировало верховную власть в Англии и хитроумно ниспровергло законы, которые ограничивали его влияние. В старые времена короли Британии не подчинялись Риму и не платили налогов Святому престолу, иностранной власти. А теперь королевство находится в рабстве благодаря множеству наводнивших его клерикальных паразитов. Книга была убедительная и провокационная, даже подрывная, но била в самую точку, открывала глаза на правду. Неудивительно, что Уолси ее запретил! Генриху нужно познакомиться с этим сочинением, решила Анна. Он получит пищу для размышлений. Содержание книги так подходило к сложившимся обстоятельствам, что стоило рискнуть. Анна не думала, что король ее накажет. Когда они в следующий раз ужинали вместе, она подтолкнула к нему книгу через стол и наставительно порекомендовала: – Вашей милости следует прочесть это. Король нахмурился, и Анна поняла, что он слышал об этой книге. – Кардинал запретил ее, но мастер Фиш приводит несколько убедительных доводов. Генрих вскинул бровь: – Где вы это взяли? – В Антверпене. – Анна не стала лгать. – Мастер Фиш сбежал туда из страха, что кардинал подвергнет его гонениям. Я понимаю, почему Уолси не одобряет это сочинение, но, Генрих, для меня было бы очень ценно услышать ваше мнение. Вы читали? Король покачал головой, перелистывая страницы, но был явно заинтригован. – Сир, вас устраивает, что кардинал решает, какие книги попадут под запрет? Он делает это от вашего имени. – Я доверяю Уолси, – сказал Генрих. Не уловила ли она нотку сомнения в голосе короля? – Вы можете изменить свое мнение, когда прочтете сочинение мастера Фиша. – Очень хорошо, я это сделаю. Ни словом не упрекнув Анну в том, что она раздобыла запрещенный труд еретика, Генрих забрал с собой книгу. А через несколько дней прочел, о чем и сообщил Анне, добавив, что книга вызвала у него множество мыслей. Распоряжения об исключении этого сочинения из списка запретных книг не последовало, однако Анна сказала себе, что посеяла семена, которые могут дать всходы.
Екатерина не прислушивалась к разумным доводам и снова и снова отказывалась уходить в монастырь. Вместо этого она упорно заверяла двух кардиналов, что была верной супругой короля. Их мольбы, попытки задобрить и угрозы не приносили ни малейшего успеха. Ноябрьское небо висело низко, когда разъяренный Генрих, громко топая башмаками, сам пошел к Екатерине с криком: – Я заставлю ее! Я напялю ей на голову монашеский плат! Анна не видела его несколько часов. Вернулся он поздно вечером и в отвратительном настроении. – Что сказала королева? – отважилась спросить Анна. – Она непреклонна. Это противно ее душе, ее совести и ее чести. – Значит, придется ее заставлять? – Если до этого дойдет, да. Кампеджо целиком за. Я разрешу ему оказать давление. «Вы все еще боитесь ее, – подумала Анна. – Поручаете другим разбираться с ней». – Вы, вероятно, рассчитывали, что она с радостью удалится в монастырь, чтобы избежать стыда, который ей неизбежно придется пережить, если дело дойдет до разбирательства в суде, – сказала она вслух. – Такая щепетильная женщина должна внутренне содрогаться от мысли, что интимные подробности ее супружеской жизни будут вынесены на публичное рассмотрение. – Это я содрогаюсь, – вставил Генрих. – А ее ничто не смущает. Даже дядя Норфолк хвалил Екатерину за смелость. Однако ее отказ посмотреть в лицо реальности вызывал раздражение, так же как и народ, который продолжал стоять на стороне королевы. – Сир, кажется, теперь, когда легат здесь, люди выражают свою любовь к ней еще громче. И подают голоса против меня. – Анна слышала, как ее обзывают: «Шлюха! Потаскуха! Иезавель!» – Я знаю. – Генрих расхаживал взад-вперед, как лев, готовый к прыжку. – И я не потерплю глупых слухов и демонстраций. Созову лорд-мэра и моих лордов, советников, судей, олдерменов, шерифов, глав городских гильдий – вообще всех, кто захочет прийти сюда, – и решительно заявлю им об этом! Он так и сделал. Анна не присутствовала в главном зале дворца Брайдуэлл, когда король обращался к своим самым высокопоставленным подданным, нонашлись доброхоты, которые рассказали ей, как великолепен был Генрих, стоявший в коронационной мантии перед троном под балдахином, и как властно произносил он свою речь, напоминая всем, что благодаря его распорядительности за девятнадцать лет правления ни один враг не притеснял их, а также о необходимости сохранить мир, обеспечив законную передачу власти наследнику. Он похвалил королеву и сказал, что для него нет ничего более приятного, если ее считают его законной супругой, и, буде ему придется жениться еще раз, из всех женщин он выберет ее. При этих словах Анна испуганно вздрогнула, но сказала себе: эти прекрасные слова Генриха продиктованы политическими соображениями. И действительно, потому что потом король сообщил о сомнениях своей совести и страхе, не живет ли он столько лет в прелюбодеянии. При этом собравшиеся сочувственно закивали. Только в самом конце Генрих заявил, что не потерпит противодействия своему разводу и не найдется на свете головы столь почтенной, что он не снес бы ее в наказание за бунтарство. Разумеется, все это были пустые угрозы, Анна не верила, что он на такое решится. Речь короля стала единственной темой разговоров при дворе. Одни сопереживали затруднениям Генриха, другие выразительно хранили молчание, и очень немногие смельчаки высказывались в том духе, что лучше бы король не выносил это дело на суд публики. Однако кое у кого враждебность сменилась пониманием, и, когда слухи о королевской речи вылились на улицы Лондона, люди стали говорить о Великом деле более осмысленно, чем делали это раньше. Анна решила, что пока все не успокоится, ей лучше оставаться в Дарем-Хаусе. Она не хотела подрывать успех, достигнутый Генрихом в попытке утихомирить своих подданных. Пусть посещает ее тайком, на барке без опознавательных знаков, незаметно пришвартованной к берегу вдали от пытливых глаз. Конечно, будет грустно не видеть Норриса, но сейчас новые потрясения ей не нужны.
Анна давно смирилась с тем, что ради соблюдения внешних приличий Генрих время от времени должен посещать Екатерину, вкушать с ней пищу и даже делить постель. Он заверял, что в тех редких случаях, когда бывает у королевы по ночам, не прикасается к ней. Но зачем вообще спать с нелюбимой женой? Однако Генрих продолжал делать это, и Анна все больше злилась и беспокоилась. Действительно ли он хочет отделаться от Екатерины? Королева обладает некой властью над ним, и он никак не мог стряхнуть с себя эти оковы. Может, оттого, что она старше и власть ее сродни материнской? Или Екатерина связывает его с ушедшей юностью, напоминает о более счастливых и беззаботных временах, до потери сыновей? Или он просто трусит, не хочет провоцировать сцену – или гнев императора, – совершенно лишая Екатерину своего общества? Наконец настал момент, когда терпение Анны лопнуло. – Легат здесь! – воскликнула она, когда подошел к концу тихий вечер, проведенный за совместным музицированием в ее покоях, и Генрих объявил, что возвращается во дворец Брайдуэлл ужинать с королевой. – Дело скоро будет рассмотрено, а вы все еще делите с ней и стол, и постель! – Дорогая, не тревожьтесь. Это только для проформы. Но мне не хочется огорчать вас. Обещаю больше никогда не ложиться в постель Екатерины. Я хорошо понимаю, какие моральные последствия могут проистечь из этого для меня. Отныне и впредь она будет спать одна. И скоро, любовь моя, мы будем вместе. – Я молюсь об этом! – ответила Анна, которой слова короля не принесли успокоения. Она настояла на том, что останется в Дарем-Хаусе, протесты Генриха не возымели действия, и двор уехал в Гринвич без нее. Лишь в декабре Анна наконец уступила мольбам короля, заперла дом и явилась ко двору. И оказалась приятно удивлена: ее разместили рядом с покоями короля, в гораздо более красивых и просторных апартаментах, чем прежде. Генрих сам выбирал для нее обстановку, включая дорогие прикроватные занавесы и гобелены, а также огромный дубовый буфет, полный золотой и серебряной посуды. Эти комнаты были достойны королевы! Удовольствие доставили Анне и визиты людей самого высокого ранга, которые приходили засвидетельствовать свое почтение, очевидно предчувствуя ее скорый брак с королем. Долг вежливости королеве отдавали немногие. Екатерина появлялась на публике с неизменной благожелательной улыбкой, переносила пренебрежение к себе с терпеливым достоинством и не покидала своего места рядом с королем, чем приводила Анну в ярость. За стенами дворца отношение к фаворитке короля оставалось враждебным. Когда она ехала в Гринвич по реке, стоявшие на берегу люди глядели на нее угрюмо, некоторые выкрикивали: «Анке Буллен не бывать нашей королевой! Не хотим Анку Буллен!» Это было невыносимо! И Генрих, хотя и потрясал кулаками, был не в силах заставить народ умолкнуть. Признаков того, что два кардинала собираются провести слушания, по-прежнему не наблюдалось. Близилось Рождество, и, пока оно не минет, они ничего не предпримут. Анна начала сомневаться, а состоится ли вообще суд? О назначении аббатисой Уилтона госпожи Изабель Джордан Анна узнала уже как о свершившемся факте, да и то случайно: советник Генриха упомянул об этом в разговоре с одним придворным, а она краем уха услышала. Анна запылала злобой: наверняка дело рук Уолси. Знал ли Генрих о том, что кардинал его ослушался? Или Уолси убедил короля дать согласие и оба они рассчитывали, что она ничего не узнает? В любом случае кардинал скоро узнает, что с ней шутки плохи.
Генрих пригласил Уолси и Кампеджо провести с ним Рождество в Гринвиче в качестве почетных гостей. Анну это рассердило, и она решила остаться в своих великолепных, но пустых апартаментах. Генрих расстроился: – Но, дорогая, я организовал турниры, банкеты, представления масок и маскарад. Я держу открытый дом. Приходите и будьте со мной, прошу вас! – Нет, пока королева сидит рядом с вами и возглавляет торжества, – ответила Анна. Это была правда, но не вся. Об остальном лучше молчать, а то Генриха уже начали утомлять ее постоянные жалобы на Уолси. Король выглядел беспомощным. – Мне неприятно думать, что вы останетесь здесь совсем одна. Как я могу веселиться, зная, что вам грустно? – Мне не будет весело в обществе этих двух кардиналов. – Анна знала, что капризничает сверх меры, но не могла сдержаться, потому что кипела от досады и возмущения. Тогда король оставил ее, но вечером, по окончании пира, вернулся и принес украшения: бриллиантовые заколки для волос, золотые браслеты с узлами – символами верной любви; брошь в виде букета цветов, золотую кайму для рукавов платья, пуговицы со вставками из рубинов, изображениями роз и сердец. Анна приняла эти дары как должное: что бы там ни было, но разве ее не заставляли ждать корону бессовестно долго?
Глава 16. 1529 год
Подарки продолжали поступать по мере того, как зима, которая, казалось, никогда не закончится, уступала место весне. Когда Генрих и Анна вместе появлялись на людях, он открыто ухаживал за ней, будто она уже была его женой: держал за руку, гладил по щеке, обнимал рукой за талию, не заботясь о том, видит это кто-то или нет. И все равно Анна не чувствовала ни покоя, ни утешения. Она держалась отчужденно и удалялась в Дарем-Хаус, злясь на все новые и новые отсрочки. – Как же так? – негодовала она. – Неужели они не могут просто устроить слушания и покончить с этим? Наедине с Джорджем Анна давала волю чувствам и заканчивала истерическим хохотом. – В какой невероятной ситуации мы оказались! – задыхаясь от смеха, говорила она. – Кто мог предвидеть подобное? Анна продолжала размышлять о параллелях между своей судьбой и участью королевы Эстер. – Я буду второй Эстер, защитницей чистоты религии, – говорила она брату, – и спасу Церковь Англии от разложения. И пусть меня называют еретичкой! Я знаю, что люди говорят обо мне. Они думают, я последовательница учений Лютера. – Они считают меня и отца большими лютеранами, чем сам Лютер, – усмехнулся Джордж. – Я никогда не стану лютеранкой, – заявила Анна, – со временем это все осознают. А до тех пор, как Эстер, я должна осторожно идти в ногу с королем в вопросах религии. – Тем не менее про себя Анна отметила, что даже твердая ортодоксия Генриха начинала давать трещины от того, как вел Великое дело Климент. Ей удалось раздобыть еще одну запрещенную книгу – «Послушание христианина, и как следует править христианскому королю» Уильяма Тиндейла. В ней Тиндейл открыто бросал вызов авторитету папы и кардиналов, а также утверждал, что главой Церкви в каждом королевстве должен быть скорее король, чем папа, потому как король, миропомазанный во время коронации, стоит рядом с Богом и наделен божественной мудростью в отличие от простых смертных. Несколько девушек Анны, взяв пример с госпожи, начали интересоваться вопросами реформ, и одной из них – Нэн Гейнсфорд – она дала почитать книгу Тиндейла, предупредив, чтобы та никому ее не показывала. Но однажды Нэн пришла к Анне в слезах и призналась, что ее поклонник Джордж Зуш отнял у нее книгу во время игривой потасовки и унес, чтобы прочесть. – Но на него наткнулся старший священник из королевской капеллы, отобрал книгу и передал ее кардиналу, – причитала Нэн. – Не бойтесь, – успокоила ее Анна и приказала подать барку. Прибыв в Гринвич, она направилась к королю и застала его в личных покоях приятно проводящим время со своими джентльменами. При появлении Анны, которая, сделав реверанс, опустилась на колени, Генрих изумился. – Не вставайте передо мной на колени, дорогая, – сказал он, когда они остались одни, и хотел поднять ее, но Анна воспротивилась и поведала Генриху о случившемся, умоляя помочь ей вернуть книгу. – Потому что кардинал решит, будто я погрязла в ереси. А я всего лишь хотела понять, почему считают еретиком мастера Тиндейла, когда на самом деле его аргументы для меня вовсе не лишены смысла. Сир, я молю вашу милость о защите. Генрих взял Анну за руки и заставил подняться: – И вы ее получите. Предоставьте это дело мне. Из покоев короля Анна вышла, ликуя. Он снова не упрекнул ее за чтение запрещенной литературы. Еще большее удовлетворение она испытала, когда вечером в Дарем-Хаус явился Уолси собственной персоной: – Полагаю, это ваше, госпожа Анна. И передал ей книгу, будто невинную вещицу, не страшнее детской азбуки. – Благодарю вас, милорд, – ответила Анна и пригласила кардинала выпить с ней немного вина. Пока они угощались и вели вежливую беседу, объявили о прибытии Генриха. После недолгого разговора Уолси отбыл, униженно кланяясь. – Я буду благодарна вам вечно, – сказала Анна Генриху. – А то я уже воображала, как предстаю перед церковным судом! – Думаете, я допустил бы это? – спросил король, заключая ее в объятия и горячо целуя. – Надеюсь, нет! Но вот эту книгу я рекомендую вам прочесть. Вы будете удивлены, и, может быть, она даже произведет на вас впечатление. Она произвела. Когда они встретились в следующий раз, Генрих был полон изложенными в ней идеями. – Это убедительные аргументы, дорогая. Книга словно специально для меня, ее стоит прочесть всем королям. – Но если кардинал будет действовать как прежде, ее не прочтет никто, – заметила Анна. – Сир, разве это правильно, что Церковь обладает властью надо всем? Генрих задумался: – Хороший вопрос. В последнее время я задавал его себе несколько раз. Анна села прямо и, собираясь с духом, откашлялась. Настал момент, которого она ждала. – Церковь нуждается в реформировании, и король, не обремененный диктатом Рима, будет в состоянии подавить злоупотребления. Вы ведь уже говорили, что уничтожите власть папы в Англии, если он не успокоит вашу совесть. Генрих смотрел на нее во все глаза. Как она и подозревала, те слова были пустыми угрозами. – Вы полагаете, мне следует порвать с Римом? – Реформы – это одно, разрыв с Римом – другое. Кроме того, Рим все-таки может встать на нашу сторону в Великом деле. – Вероятно. Я уже не смею надеяться на это, потому что мои надежды слишком долго не сбываются. Меня тошнит от жизни в подвешенном состоянии. Из глаз Анны едва не пролились слезы, и, как обычно, Генрих поспешил ее утешить. Пока он прижимал любимую к своему расшитому драгоценными камнями дублету, она позволила себе роскошь расплакаться. Иногда Анна чувствовала, что больше не может бороться, но была не из тех, кто легко сдается. Она была бойцом и сегодня заложила в почву – в плодородную почву – еще одно семя, подумала она. Великое дело никак не разрешалось, могут понадобиться радикальные меры. Генрих сам это поймет.Король больше не питал прежнего дружелюбия к Уолси. Длительные отсрочки слушаний делали Генриха напряженным и раздражительным. Однажды вечером во время ужина в Дарем-Хаусе Анна возликовала, услышав, как король высказал подозрения, что кардинал втайне противится расторжению его брака. – Мы всегда этого боялись, – вставил слово Норфолк. – Он работает против вашей милости, считая, что решение, вынесенное в вашу пользу, подорвет авторитет Святого престола, – тихо произнесла Анна. – Все поступки папы правильны, по крайней мере, так нам говорят, а вы попросили его святейшество отменить решение предшественника. Если папа непогрешим, тогда разрешение на ваш брак с королевой правомочно. Но мы знаем, что оно расходится с Писанием, а значит, возбудив это дело, ваша милость продемонстрировали изъян в суждении папы, что может только навредить Церкви. Мужчины смотрели на Анну, ее заявление явно их впечатлило. – Теперь ваша милость может видеть, почему нельзя доверять Уолси, – заключила она. – Он слишком сильно предан Риму.
На следующий день Анна прибыла в Гринвич, разыскала кардинала и потребовала у него ответа, почему задерживается слушание дела. Уолси выглядел взволнованным. – Мы ждем документы, госпожа Анна. – Документы? – Да, подтверждающие показания королевы. – Милорд, – Анна рассердилась, – причина этой отсрочки – вы и кардинал Кампеджо, я в этом не сомневаюсь. Король недоволен. Я недовольна. Королева наверняка тоже хочет, чтобы дело разрешилось. – Я стараюсь изо всех сил! – покраснев от гнева, запротестовал Уолси. – Думаю, вы изо всех сил стараетесь затянуть дело! – бросила в ответ Анна. – Но я слежу за вами, и король тоже!
Все государственные дела замерли без движения. Разговоры велись только о Великом деле. Королева подала апелляцию в Рим, оспаривая полномочия суда легатов, но в Англии никто не обращал на это внимания. Анна все больше злилась из-за отсрочек. Королевство не могло вечно пребывать в состоянии неопределенности. – Скоро вы получите все, чего желаете, – заверял ее Генрих, но проходили недели и месяцы, а суд так и не созывали. И вот наступила Пасха. В Страстную пятницу Анна заняла место на королевской скамье над Королевской капеллой в Гринвиче и наблюдала, как Генрих, босой в знак смирения, на коленях полз к кресту во главе посетивших торжественную службу придворных. Она слушала, как архиепископ Уорхэм призывает благословение Девы Марии на своего суверена: «Помолись своему сладчайшему сыну Иисусу за нашего достойного короля Генриха Восьмого и попроси о даровании ему вожделенных радостей и неувядающей славы». «Аминь!» – горячо молилась Анна. После службы по распоряжению Генриха она встала, спустилась по лестнице в неф и заняла место перед покрытой бархатом скамьей, на которой лежало множество золотых и серебряных колец. Раздались возмущенные возгласы и ропот, но Анна старалась не обращать на них внимания. Обычно церемонию благословения колец, которые каждую Пасху раздавали страдающим от судорог, исполняла королева, но на сей раз Генрих настоял, чтобы это сделала Анна. Получить кольцо – большая честь, объяснил он. Анна понимала: это всего лишь очередной утешительный жест, компенсация за бесконечные отсрочки. Благословив кольца, она ощутила вокруг себя враждебность и осознала жестокий просчет Генриха, ведь всем было известно: Анна еще не коронована и не миропомазана. Но она не собиралась показывать недоброжелателям, что напугана их неодобрением. Сделав реверанс перед алтарем и Генрихом, Анна вернулась на свое место с высоко поднятой головой.
Генрих терял терпение. Он получал письма из Рима, но не сообщал Анне их содержания. Уолси ходил понурый, словно на плечах у него лежала вся тяжесть мира. Анна едва не лезла на стену от досады. Но наконец, по прошествии долгого-долгого времени, все подготовительные процедуры, необходимые для разбора Великого дела, были завершены. В конце мая Генрих дал формальное разрешение легатам собрать суд в главном зале монастыря Черных Братьев и заслушать его дело. Двор переехал во дворец Брайдуэлл. Началась страшная суета. Никогда еще короля и королеву Англии не вызывали в суд, и очень много внимания было уделено тому, чтобы обставить все с должной церемонностью. А люди продолжали роптать на короля и госпожу Анну Болейн. Анна была вся на нервах, то лила слезы, то злилась. Генрих старался, как мог, ее успокоить, оставался с ней до позднего вечера, пытался развеять ее страхи. И разумеется, об этом поползли слухи. Анна понимала: большинство убеждено, что теперь-то она стала возлюбленной короля в полном смысле слова, и ярилась: как же это несправедливо, ведь уже больше четырех лет она ревниво оберегает свою добродетель, и чего ради? Ей было двадцать восемь, она уже почти достигла среднего возраста! Каждый раз при взгляде в зеркало ей казалось, что она выглядит старше. Вокруг рта появились едва заметные недовольные линии, а на лбу – намеки на морщины. Она понимала, какая скверная у нее репутация и в Англии, и за границей. Власть и влияние, какими она пользовалась, не имели никаких законных оснований, они базировались на одной лишь великой любви к ней короля. Без него она была ничем, в отличие от Екатерины, за спиной которой стоял могущественный император. Генрих говорил, что, как только его дело начнут разбирать легаты, Анна должна покинуть Лондон. Перспектива казалась пугающей, потому что король оставался один на один с махинатором Уолси и ее врагами. Анны задержалась в Дарем-Хаусе, насколько это было возможно, откладывая отъезд до самого последнего момента. Генрих переживал грядущую разлуку не меньше, но продолжал настаивать на ее отъезде: – Вы должны ехать, дорогая. Не годится вам появляться при дворе, пока не будет вынесен вердикт. Так что когда по голубому июньскому небу стремительно понеслись облака и на весь мир легли золотые оттенки лета, Анна слезно попрощалась с королем и в сопровождении нескольких слуг и королевского эскорта отправилась в Хивер. Она так распереживалась, что сразу по прибытии домой написала Уолси, который, вероятно, был поражен, читая ее экстравагантные любезности и заверения в неизбывной любви и благосклонности к нему. Но, разумеется, кардинал понял: все это должно подтолкнуть его к принятию верного решения. Он достаточно хорошо знал Анну, чтобы догадаться: если он не справится, она ему этого не простит. Анна искала отдохновения в невинной компании детей Марии, но сама ее сестрица плевалась ядом: – Ради тебя король взбаламутил все королевство, но ты что-то не особенно счастлива. – Когда-нибудь мы все будем благодарны ему за то, что он сделал, – возразила Анна. – Поживем – увидим! – парировала Мария. К счастью, вскоре приехал отец с жизнерадостным письмом от Генриха, который сильно скучал, но был настроен оптимистично. Приближение момента, который так долго откладывался, радует меня, как будто он уже настал. Тем не менее он не настанет, покуда две наиболее заинтересованные персоны не сойдутся вместе, чего я желаю больше всего на свете. Ведь что может быть большей радостью, чем находиться в обществе самой любимой женщины и знать, что она по собственному выбору испытывает те же чувства, мысль о чем доставляет мне невыразимое наслаждение. «Но я не испытываю того же», – подумала Анна. И это навсегда должно было остаться тайной. Ее цель – корона, вещица из холодного металла, но бесконечно соблазнительная. Анна уже ощутила вкус власти и находила его головокружительным, как любовь. Чего только она не сделает, имея корону на голове! И она будет благодарна Генриху, станет любящей супругой, как ей и положено, лишь только они поженятся. У него не будет причин сомневаться в ней. Отец должен был вернуться ко двору с ее ответом, а потому Анна спешно сочинила теплое письмо, призывая Генриха не падать духом. Скоро они будут вместе навсегда, заверила она его.
Начались заседания суда легатов. Гонцы носились туда-сюда между дворцом Брайдуэлл и замком Хивер, держа Анну в курсе того, как развиваются события. Ее встревожило сообщение об отказе Екатерины признать компетентность суда для разбора дела: королева заявила, что он не сможет вынести беспристрастное решение. Она даже встала на колени перед Генрихом в зале монастыря Черных Братьев и обратилась к нему с очень эмоциональной речью, умоляя избавить ее от крайностей судебного разбирательства и публично заверяя, что пришла к нему девственницей. После этого королева удалилась, невзирая на призывы глашатая вернуться. К счастью, слушания продолжились без нее, однако становилось ясно, что длительные сессии суда, на большинстве которых Генрих не присутствовал, доводили его до пределов терпения. Анна была рада слышать, что он вызвал к себе Уолси и изливал на него потоки досады и раздражения в течение четырех часов. На четвертой неделе июля Генрих срочно потребовал приезда Анны ко двору, так как ожидалось, что в ближайшее время кардинал Кампеджо провозгласит решение суда. В словах Генриха звучала уверенность, он словно не сомневался, что вердикт будет в его пользу. Анна тут же приказала служанкам собирать вещи и со всей возможной скоростью примчалась в Брайдуэлл, где, сгорая от нетерпения, ее ожидал в своих покоях Генрих. – Теперь уже недолго, – сказал он, когда они обнялись. – Может быть, даже завтра. И тогда, моя дорогая, мы начнем планировать нашу свадьбу и вашу коронацию. Наконец-то вы будете моей! Анна не смела предаться надеждам. Очень хотелось пойти вместе с королем в монастырь Черных Братьев и присутствовать при оглашении вердикта, но это было бы неблагоразумно. Поэтому, когда Генрих поцеловал ее на прощание и удалился в сопровождении герцога Саффолка, она осталась в великолепных апартаментах, которые устроил для нее король, пила вино для успокоения нервов и старалась не думать о том, что происходит в монастыре, находившемся в каких-то нескольких ярдах от дворца, за рекой Флит.
Генрих ворвался в покои Анны с грозным лицом. Его трясло от ярости. – Отозвали в Рим! – прошипел он. В глубине души Анна боялась именно такого исхода. Малодушный папа никогда не даст королю свободы. Генриха обманули, обвели вокруг пальца! Все это было тщательно спланировано, чтобы обеспечить покладистость короля, пока Климент исполняет волю императора. Если кому-то нужны доказательства разложения Церкви, то вот они! – Что сказал Кампеджо? – глухим голосом спросила Анна. – Сказал, что не вынесет поспешного решения и должен обсудить это дело с папой. И еще заявил, что истину тут обнаружить трудно! – сердито выпалил Генрих, не глядя на Анну. – Мое дело правое, я знаю, и он тоже знает. Но теперь оно отложено на неопределенный срок. Говорю вам, Анна, это политическое решение. Не важно, какие теологические аргументы я выстраиваю, они не будут услышаны. Саффолк, который зашел в комнату следом за Генрихом, был зол не меньше. – Госпожа Анна, я накричал на этих легатов. Я сказал: «Кардиналы не принесли Англии ничего хорошего!» Его прекрасное лицо со следами распущенности – столь похожее на лицо короля – превратилось в звериный оскал. Анна знала его как горячего сторонника реформ; он с удовольствием сорвал бы злость на Уолси и Кампеджо. Но его жена, сестра Генриха, любила королеву и наверняка радовалась отсрочке. Это решение не добавляло гармонии семейным отношениям герцога. Генрих с пораженческим видом сел и заговорил хриплым голосом: – Сейчас летний перерыв. Папская курия соберется на заседания не раньше октября, и я прекрасно знаю, что дела там движутся не быстрее улитки, так что пройдут месяцы, если не годы, прежде чем папа придет к какому-нибудь решению. Но даже в этом случае ожидание может оказаться напрасным, так как Климент действует заодно с императором и, скорее всего, выскажется в пользу королевы. – Король обхватил голову руками и в отчаянии зарыдал. У Анны похолодело сердце. Она заглянула в будущее и увидела, как ее юность уходит, пока год за годом длится досадное ожидание. Нет! Ей этого не вынести. Должен быть какой-то выход. В ней разгорелся гнев против Уолси. Он подыгрывал Кампеджо и папе, одновременно закармливая Генриха искренними речами и фальшивыми обещаниями. – Мы должны благодарить за это кардинала! – выпалила она. Даже сейчас, опасалась Анна, Генрих не узрит истины. Но она ошиблась. – Да, и он за это ответит! – прорычал король, вскидывая голову. – Прежде чем покинуть монастырь Черных Братьев, я велел ему сообщить моим послам в Ватикане, что мое королевское достоинство не позволяет мне являться для дачи показаний в папский суд – мои дворяне и мои подданные такого не потерпят. Я приказал передать его святейшеству, что если и прибуду в Рим, то только во главе армии, а не как искатель справедливости. – Король поднялся и начал расхаживать по комнате. – Они меня не обставят, Анна! Я получу развод, даже если мне придется порвать с Римом! Это была их единственная надежда. Он говорил всерьез, Анна в этом не сомневалась.
А Уолси ждет ее месть, она поклялась в этом! И строптивую, надоевшую Екатерину, которая упрямо цеплялась за то, что уже потеряла, и делала жизнь невыносимой для всех. Но главный виновник, конечно, Уолси, этот неблагодарный Уолси. Предатель короля. Анне было необходимо сорвать на ком-нибудь злость, или она бы взорвалась. Уолси нужно дать понять, как сильно он раздосадовал ее. Только Генрих ушел консультироваться со своим советом, Анна приказала подать принадлежности для письма, взяла перо и яростно начертала: Милорд, хоть Вы и являетесь человеком глубокого понимания, Вы не можете избегнуть порицания со стороны всех и каждого за то, что навлекли на себя гнев короля, который вознес Вас до высочайшего уровня, о каком только может мечтать амбициозный мужчина. Я не могу понять, а король и того меньше, как Ваша Преподобная Светлость, введя нас в заблуждение сладкими обещаниями по поводу развода, могли отречься от них и как могли Вы совершить то, что сделали, дабы воспрепятствовать исполнению наших желаний. В чем тогда состоит Ваш способ ведения дела в суде? Дав мне убедительнейшие знаки своей привязанности, Ваша Светлость пренебрегли моими интересами ради королевы. Я полагалась на Ваши обещания и обнаружила себя обманутой, но в будущем я стану возлагать надежды только на покровительство Небес и любовь моего дорогого короля, ибо только она одна поспособствует приведению в порядок планов, которые Вы нарушили, и поставит меня в то счастливое положение, которого хочет Бог и так сильно желает король, что станет большим благом для королевства. Причиненные Вами неприятности доставили мне много горя, но я бесконечно больше огорчена, видя себя преданной человеком, который лишь притворялся, что преследует мои интересы. Искренне доверившись Вам, я была слишком разочарована в своих ожиданиях. Именно доверие к Вам побуждало и все еще побуждает меня быть более умеренной в отмщении за себя. Не имеющая сил забыть, что была Вашей слугой, Анна Болейн. Пусть этот удар заставит трепетать от страха сердце кардинала! Пусть земля содрогнется под ногами Уолси! Он знает, что ее слово – закон для короля. Больше никакого лицемерия. Она открыто заявила о своей враждебности и, отправив письмо, почувствовала себя лучше. Тем не менее ощущение хрупкости и разбитости не пропадало. Оставшись одна, Анна дала волю бурным слезам.
Куда бы она ни шла при дворе, повсюду слышалось назойливое жужжание голосов – сплетни да пересуды. Великий кардинал, который почти единолично правил Англией в последние двадцать лет, впал в немилость и благоразумно удалился в свое поместье Мор в Хартфордшире, явно осознавая, что вина за неудачу с вынесением желанного вердикта в суде падет на него. Генрих позволил ему уехать. – Я не хочу его видеть! – пылал он. – Он меня предал! Ситуацию ухудшили император и король Франции – эти опасные враги взяли и заключили мир. – Я теперь изолирован и лишен поддержки за границей, – удрученно говорил Генрих Анне с видом человека, получившего удар под дых. Больше не делалось заявлений о походе с армией на Рим, и, когда королю вручили папское бреве с вызовом в Рим, все, на что он был способен, – это метаться по дворцу в бессильной ярости. В отмщение за унижение он приказал Екатерине покинуть двор и отправиться в одно из своих полученных в приданое владений, чтобы он мог свободно взять с собой Анну в летний охотничий тур по стране. Отъезд из Лондона помог Анне справиться с депрессией. Приятно было ехать под теплым августовским солнцем по красивым, осененным листвой улицами и пропеченным жаром дорогам, видеть зеленую сельскую местность, расстилавшуюся по обе стороны на их пути в Уолтхэм, Титтенхангер и Виндзор. Вдали от города воздух был чище, и это оживило Анну. Генрих стал спокойнее: он принял решение найти выход и двигаться дальше. Даже заговаривал об осуществлении развода путем объявления своей абсолютной власти. С такими мыслями король в октябре и созвал парламент. Семена, посеянные Анной, наконец начали давать всходы. Труднее всего было бороться с враждебно настроенными толпами людей, которые сбегались посмотреть на проезд короля и приходили в ярость, видя, что он выставляет напоказ свою любовницу. Недовольство люди выражали громко и отчетливо. «А где же добрая королева?» – кричали они. «Мы не хотим потаскуху Буллен!» Раздавались даже призывы побить Анну камнями как прелюбодейку, каковой ее считали. В конце концов Генриху пришлось вызвать королеву, чтобы та следовала с ними дальше, в Вудсток. Радость Анны по поводу поездки немедленно улетучилась. Екатерина вернулась на свое место рядом с Генрихом. Она царственно улыбалась и, без сомнения, наслаждалась своим маленьким триумфом. Анна снова оказалась задвинутой в благоразумную безвестность. Все вернулось на круги своя. Неужели будет вечно существовать этот грешный триумвират – она, Генрих и Екатерина? Неужели они обречены быть скованными цепью навсегда?
Глава 17. 1529 год
К празднику Рождества Девы Марии королевская свита прибыла в Графтон-Реджис. Здесь, в деревенской глуши Нортгемптоншира, у Генриха имелся охотничий домик. Было оговорено, что кардинал Кампеджо приедет сюда получать от короля формальное разрешение на возвращение в Рим. Анна только-только покинула отведенные ей комнаты, как вдруг услышала во дворе топот копыт – прибыла целая группа всадников, ошибиться было невозможно. Выглянув из окна галереи, она увидела кардинала Кампеджо, который с трудом выбирался из конных носилок. Конюхи побежали отводить лошадей, слуги подхватили багаж кардинала, вперед торопливо и важно выступил рыцарь-вестник, чтобы сопроводить его высокопреосвященство в подготовленные для него покои. А потом Анна заметила еще одного человека – он вылезал из носилок с противоположной стороны. Это был Уолси! Кардинал постарел на сотню лет. Его больше не окружал ореол важности и самоуверенности, от изысканных манер не осталось и следа. Теперь это был пожилой, униженный человек, который боязливо озирал двор, явно не уверенный в том, что ему здесь рады. И не напрасно, потому как рыцарь-вестник, уводя за собой Кампеджо, не удостоил своего внимания еще одного визитера, и Уолси остался стоять во дворе один. Анна замерла. После удаления кардинала от двора Генрих почти не упоминал о нем. «С глаз долой – из сердца вон, вот и хорошо», – про себя радовалась она. И как удачно все сложилось для Уолси, ведь Генрих в порыве гнева грозился лишить его головы. По галерее прошествовал плотного сложения мужчина в черном, вежливо поклонился Анне, затем, следуя за ее взглядом, посмотрел в окно и, увидев Уолси, отпрянул. – Ваш прежний повелитель, мастер Кромвель, – сказала Анна. Несколько раз она видела среди слуг кардинала этого дородного человека со свинячьими чертами лица, знала, что это уважаемый законник, но они никогда не разговаривали. – Удивляюсь его безрассудству: как он посмел явиться сюда без приглашения? – Если бы я был на его месте, госпожа Анна, то посчитал бы большой неучтивостью по отношению к кардиналу Кампеджо не приехать. Это выглядело бы оскорблением. Но кажется, его не ждали. Уолси продолжал с потерянным видом в одиночестве стоять посреди двора. – Он обманул короля и должен понимать, что его здесь не станут ждать с распростертыми объятиями, – отозвалась Анна. – Он не обманывал короля, – возразил Томас Кромвель. – Я работал бок о бок с кардиналом и знаю, как он старался обеспечить развод. Никто не смог бы сделать больше. Невозможно, чтобы это было правдой! – Думаю, вы сами обманулись, – не желала соглашаться с ним Анна. Кромвель пожал плечами: – Я могу говорить только о том, что видел сам, госпожа Анна. – Потом он улыбнулся, обнаруживая перед собеседницей совершенно другое свое лицо. – Осмелюсь просить вас о снисхождении. Кардинал болен и всю жизнь отдал служению королю. Для меня он был хорошим господином, и я уважал его. Вы не можете себе представить, как печалила его неспособность оправдать ваши надежды. Он прислал мне это письмо. – Кромвель опустил руку в кожаную суму и передал Анне послание Уолси. В ту ночь я был на краю смерти. Если неудовольствие госпожи Анны сколько-нибудь утихло, о чем я молю Бога, прошу Вас использовать все возможные средства для обретения ее благосклонности… Она подняла глаза: – Мастер Кромвель, вы верный слуга и достойны похвалы за свой поступок, но я далеко не убеждена в том, что кардинал работал на пользу короля. Свидетельства указывают на обратное. На хитром лице Кромвеля появилось раздраженное выражение. – Какие свидетельства? Слухи, распущенные его врагами? Нет никаких свидетельств. Я был там. Я видел, чем он занимался. Видел, как он работал на износ, лишь бы добиться для короля желаемого. – Он причинил мне много зла, мастер Кромвель! Сделал все возможное, чтобы не позволить мне стать королевой, так как знал, что я уничтожу его. – Нет, госпожа Анна, все не так. Но я вижу, что над вами довлеют мнения завистников, которые ищут кардиналу погибели. Прошу вас, подумайте о моих словах. На этом Кромвель с поклоном удалился. Анна проводила его взглядом, потом, едва сдерживая гнев, повернулась к окну. Внизу появился Норрис. Как обычно, при виде этого прекрасного и полного жизни мужчины у нее перехватило дыхание. Она часто думала, что победила свои чувства, но потом снова встречала Норриса и понимала: это самообман. Анна не могла поверить глазам: сэр Генри приветствовал Уолси и указал на противоположное крыло здания. Мужчины немного поговорили, и потом Норрис увел Уолси. Очевидно, комнаты для кардинала в конце концов нашлись, но ему еще предстоит встретиться с Генрихом, и она не сомневалась: король не даст своему бывшему другу много времени для исповеди.До ужина оставалось еще два часа, и Анна немного отдохнула, после чего села писать матери, но тут у ее дверей появились отец и дядя Норфолк. Кипя от негодования, они потребовали разговора с ней. – Король принял кардинала Уолси! – выпалил Норфолк. – И так же тепло, как прежде, – скривившись, добавил отец. – Весь двор следил, опозорит ли он Уолси публично, некоторые даже заключали пари, но нет – все прошло так, словно кардинал вовсе не впадал в немилость. Лицо Норфолка было багровым. – Когда Уолси и кардинал Кампеджо вошли и опустились на колени перед королем, тот поднял их обоих с любезными словами и, держа Уолси за руку, отвел его к окну, где имел с ним беседу. Никто не мог в это поверить. Потом я услышал, как его милость достаточно отчетливо сказал Уолси, что тот может идти ужинать, после чего он снова поговорит с ним. – Только через мой труп! – вскричала Анна, которая слушала рассказ со все возрастающей яростью. – Уолси думает, что успешно ступил на порог, но я не позволю ему двинуться дальше. Он доставил мне немало хлопот. – Племянница, – сказал Норфолк, – вы находитесь в уникальном положении. Окажите влияние на короля. Нетрудно будет вновь возбудить в нем гнев против Уолси. Напомните ему, как кардинал обманул и подвел его. Используйте свои уловки. – В советах на этот счет я не нуждаюсь! – резко ответила Анна. – Король придет ко мне ужинать позднее. И тогда я расквитаюсь с Уолси!
Стол в отделанном деревянными панелями обеденном зале был накрыт для двоих – снежно-белая скатерть, сверкающее серебро и хрустальные кубки. Свечи мерцали в канделябрах, а в камине, чтобы рассеять прохладу сентябрьского вечера, горел огонь. Анна оделась продуманно. Длинные юбки черного бархатного платья подчеркивали стройность талии, а низкий вырез на груди, отделанный жемчужной каймой, выглядел невероятно соблазнительно. Алый дамастовый киртл добавлял костюму красок. Волосы она распустила – это напомнит Генриху о том, что она все еще не замужем и девственна. Когда король появился, Анна была с ним холодна и, пока подавали первую смену блюд, не сменила гнев на милость. – Слышала, этим вечером вы оказали теплый прием кардиналу Уолси, – с вызовом произнесла она, глядя Генриху прямо в глаза. Он отвел взгляд. Это Анну обрадовало. Она отложила нож. – Если бы кто-либо благородный по рождению совершил в этом королевстве половину того, что имеет на своем счету кардинал, то лишился бы головы. Генрих приуныл: – Понимаю, вы не особенно дружны с Уолси. Ну можно ли быть до такой степени наивным? – У меня нет причин считать его другом, – тихо произнесла Анна, – как и у любого другого, кто любит вашу милость, если вы рассудите здраво, вспомнив, что он сделал. – Дорогая, я говорил с ним и полагаю, он так же расстроен вердиктом суда, как и мы. Он заверил меня, что сделал все возможное, чтобы обернуть дело в нашу пользу, и я не сомневаюсь в нем. – Генрих говорил задумчиво, будто рассуждал сам с собой. – Ложь, все ложь! – бросила в ответ Анна. – Он послушный и усердный сторонник папы и готов во всем его оправдывать! Генрих потянулся через стол и попытался взять руку Анны, но она отдернула ее: – Вы не можете вернуть ему свою милость, не можете!.. – Анна, Уолси умен… – Слишком умен! – Выслушайте меня, прошу. Он единственный человек, который способен найти решение нашей проблемы. – Это он вам внушил? Ну тогда очень странно, что этот единственный способный помочь нам человек за два года так и не нашел решения. И что бы он ни делал, его влияние в Риме не так велико, как влияние императора. – Анна, я выслушаю то, что он хочет сказать, – произнес Генрих голосом, который обычно заставлял умолкнуть назойливых просителей. Продолжение ужина прошло в молчании. Анна злилась на короля за отказ склониться к ее мнению и ужасалась вполне реальной перспективе нового возвышения Уолси. Ситуация казалась достойной ироничной улыбки, если бы не пугала так сильно. Сперва ко двору вернулась Екатерина, а теперь, похоже, и Уолси вознамерился пойти по ее стопам. Они снова оказались в том положении, с которого начали! Трудно было удержаться от слез – тем более что слезы едва ли помогли бы, учитывая теперешнее состояние духа короля. Прожевав последний кусок, Генрих отложил в сторону салфетку: – Дорогая, будьте благоразумны. Я только пытаюсь сделать как лучше. По-моему, стоит выслушать Уолси. Вдруг это поможет нам соединиться? Анна не ответила. Генрих встал, сдавил рукой ее плечо и ушел.
Утром они собирались отправиться на охоту, однако Генрих провел много времени в своем кабинете наедине с Уолси, и уже миновал полдень. Анна расхаживала по галерее, убежденная в том, что кардинал, как червь, протачивает себе путь обратно к сердцу короля. Как только Генрих появился, она встрепенулась и жалобным тоном произнесла: – Вы обещали, что мы уедем после завтрака. А уже час дня. – Хорошо, хорошо, – сдался Генрих. – Я скажу кардиналу, чтобы продолжил обсуждение с лордами моего совета. – И пошел переодеваться в костюм для верховой езды. Анне тоже нужно было кое-что сделать. Справившись со своей задачей, она встретилась на крыльце с Генрихом, обутым в сапоги со шпорами. Тем временем двор наполнялся другими участниками охоты, лошадьми и собаками. Тут же находились и Уолси с Кампеджо, которые должны были уехать вечером после ужина. Анна, стоя рядом с Генрихом, улыбнулась им. Король вскочил на своего жеребца. – Я вернусь до вашего отъезда, – бросил он кардиналам. Двое церковников поклонились, и король развернул коня. Радуясь, что Екатерина в эти дни не ездила на охоту, Анна поправила украшенный перьями головной убор для верховой езды и поскакала следом за Генрихом. Она даже не обернулась. Немного удачи – и больше никогда не придется лицезреть Уолси.
Анна ехала рядом с Генрихом. Когда они оказались в нескольких милях от Графтона, она повернулась и сказала: – У меня для вас сюрприз. – Для меня? – Король выглядел смущенным и благодарным. – Могу я узнать какой? – Позже! – поддразнила Анна. Говорить сейчас было нельзя: он мог отменить ее распоряжения. Генрих засмеялся, но тут заметили добычу, и началась погоня. Время близилось к шести часам, когда послеполуденное развлечение закончилось и туши шести оленей погрузили в повозку. Вечер выдался прекрасный, лучи закатного солнца золотили окружающий пейзаж. – Прекрасная погода для ужина на природе, – заметила Анна. – Ужина на природе? – эхом отозвался Генрих. – Да. Это мой сюрприз. Я распорядилась приготовить ужин на открытом воздухе в парке Хартвелла. Это всего в нескольких милях вон в том направлении. Генрих заколебался. Анна видела его борьбу с собой.Продолжит ли он потакать своей возлюбленной и исполнять ее желания? Или рискнет рассердить, настаивая на возвращении в Графтон для встречи с Уолси перед его отъездом? Наконец Генрих улыбнулся и сказал: – Дорогая, вы все продумали. Ничто не доставит мне большего удовольствия. Поспешим! А то у меня от охоты разыгрался аппетит. Она выиграла битву – если не войну. Теперь нужно постараться сделать так, чтобы Генрих узрел правду об Уолси, а также убедить его больше никогда не допускать к себе кардинала.
Два дня спустя Генрих принимал в Графтоне нового императорского посла. Предыдущего своего представителя император отозвал еще до слушаний в монастыре Черных Братьев в знак протеста против того, что суд был пристрастен и заранее склонялся в пользу короля. Теперь, когда дело передали в Рим, Карл смягчился и прислал нового человека. Анна наблюдала за тем, как Юстас Шапуи, темноволосый, с аристократическими чертами лица, одетый в строгий костюм законника, приблизился к помосту и низко поклонился. Король принял нового посла сердечно, а королева еще теплее. Позже, во время приема, Генрих представил мессиру Шапуи Анну. Посланник императора, когда они обменивались любезностями, казался самой вежливостью, но он явно был в курсе, кто она, и Анна почувствовала, что посол относится к ней неодобрительно: а как иначе, если она должна была заместить любимую тетку его господина? Изысканные речи Шапуи свидетельствовали о том, что он очень высокого мнения о королеве. Анна поняла: несмотря на всю свою отточенную вежливость, этот господин никогда не станет ее другом. – Ему поручено добиваться примирения между мной и Екатериной, – сообщил вечером Генрих. – Он не сказал этого прямо, но это подразумевалось. Что ж, ничего у него не выйдет! – И король безрадостно усмехнулся. На следующий день Томас Болейн с встревоженным видом пришел в покои Анны. – Этот Шапуи умен, – предостерег отец, – уже дал понять членам совета, на чьей он стороне, и боюсь, этот человек может доставить нам проблемы. За его спиной мощь императора и Испании. Будьте осмотрительны.
В октябре двор вернулся в Гринвич, и Анна удалилась в Дарем-Хаус, для компании прихватив с собой мать. Хорошо было провести некоторое время вдали от двора и к тому же получить передышку от ссор с Генрихом из-за Уолси, однако Анна беспрестанно переживала: что же там происходит в ее отсутствие? Найдет ли кардинал способ перемудрить свою противницу? И что затевает этот новый посол Шапуи? Как обычно, Анна скучала по Норрису, хотя и продолжала сердиться на него за приветливость к Уолси в Графтоне. После этого она демонстрировала Норрису холодность и теперь жалела об этом. Лучше уж находиться при дворе, а не прозябать тут, поддерживая скучные разговоры о вышивке с матерью и своими девушками! Но редко что бывает напрасно: в поисках красных и голубых шелковых нитей Анна обнаружила, что шкатулка, где она хранила некоторые любовные письма Генриха, оказалась пуста. Замок был сломан! Она опросила слуг, которые оставались в доме в ее отсутствие, но все они пришли в замешательство, и ни один не мог припомнить, чтобы в доме появлялись незнакомцы или были замечены следы вторжения посторонних. Когда вечером приехал Генрих, Анна сообщила ему о пропаже писем. – Наверное, кто-то украл их, – сказала она, думая об Уолси. – Кто мог это сделать? Король нахмурился: – Кардинал Кампеджо, я подозреваю. Возможно, кто-то из его людей заплатил кому-нибудь за отыскание свидетельств, что мы вели преступные разговоры, как это любят называть в церковных судах. Мне не нужно напоминать вам, дорогая, но подобное может плохо сказаться на моем деле. – Я знаю, что Церковь развращена, но неужели кардинал опустился бы до кражи? – Если речь шла о возможности добыть подобные улики, то да. Нам с вами известно, что на нас нет греха, но любой, кто прочел бы украденные письма, мог прийти к другим заключениям, если это отвечало бы его целям. Если с ними ознакомится Климент, тогда надежды на его решение в мою пользу мало. Анна содрогнулась. Ужас! Только представьте, консистория кардиналов исследует письма, выносит на свет ее интимные секреты и делает неверные выводы! Еще страшнее было думать о последствиях. – Нельзя терять времени! – Генрих поднялся и вызвал гонца. – Передайте сообщение доктору Гардинеру. Пусть пошлет солдат в Дувр перехватить кардинала Кампеджо! Следует немедленно обыскать его багаж, даже седельные сумки. Объясните ему, что украдены письма, принадлежавшие леди Анне, и их нужно найти. Гонец спешно удалился. Генрих сел. От волнения он не находил себе места. – Надеюсь, я могу доверить Гардинеру организацию розысков и они окажутся успешными. Уолси бы знал, что делать. Он бы из-под земли достал эти письма. «О нет, – подумала Анна. – Это не должно стать предлогом для того, чтобы вы снова решили приблизить к себе кардинала». Она не даст Генриху послать за Уолси. На следующий день Анна вызвала отца, дядю Норфолка и герцога Саффолка.
Доктор Гардинер действовал невероятно быстро и решительно, однако без всякого толка. Через два дня Анна получила записку от Генриха с сообщением о том, что никаких следов писем обнаружить не удалось, несмотря на тщательнейший обыск багажа Кампеджо и всей его свиты. Анна сильно подозревала, что письма находятся у Уолси и он может использовать их против нее. Теперь больше, чем когда-либо, было необходимо уничтожить кардинала.
Отец и Норфолк ликовали. – Король согласился осудить кардинала по Статуту премунира[43] за допущение вмешательства иностранной силы в дела королевства. Нам не придется вести долгие розыски, чтобы получить доказательства против Уолси. Одно то, что он принял должность папского легата, уже делает его виновным. – Наказание – конфискация всех земель и имущества, – с торжеством добавил Норфолк. – И поделом ему. Они хорошо справились со своей работой. Чувство облегчения было всепоглощающим. Анна раздумывала над тем, как ожесточить сердце Генриха против бывшего друга, но даже в сладком сне ей не виделось, что король пойдет так далеко. Изгнание – вот самое большее, на что она рассчитывала. В тот вечер Анна с матерью в экстазе танцевали по комнате. Восемь дней спустя Генрих лишил Уолси должности лорд-канцлера. – Милорд Саффолк и я отправляемся требовать возвращения Большой печати Англии, – сообщил Анне Норфолк. – Уолси должен оставаться в своем доме в Эшере, пока против него составляется обвинительный акт. С великим кардиналом покончено. Король высвободился из его цепких когтей. И это она, та самая глупая девчонка, болтавшаяся при дворе, как он выразился, привела задуманное в исполнение.
Генрих пришел к Анне озлобленным на Уолси, но в то же время радуясь получению всей принадлежавшей кардиналу собственности. – Особняк Йорк теперь мой, – заявил он. – Много лет с тех пор, как сгорел Вестминстер, мне не хватало большого дома в Лондоне. Теперь он у меня есть! Я переименую его в Уайтхолл, и он станет, дорогая, нашим дворцом. Я обновлю его для вас. Он будет как те дворцы в Нидерландах, о которых вы так часто говорили. Завтра мы поедем туда и посмотрим, а вы решите, какие нужно произвести изменения. Анна жадно внимала словам короля об улучшениях, которые он намерен произвести. В Уайтхолле, бывшей резиденции архиепископа, не имелось покоев, подходящих для королевы, и Генрих не планировал устраивать там комнаты для Екатерины. У Анны будет свой двор, и она станет возглавлять его по-королевски, разве что королевой ее величать не будут. Мать, которая оставалась при Анне, отправилась вместе с ней осматривать дворец в качестве компаньонки и советчицы. Король ждал их на месте в десять часов утра – с ним был только Норрис. Как обычно, сердце Анны легонько екнуло, но сегодня следовало быть особенно осторожной и не выдать своих чувств: мать слишком хорошо ее знала, и глаза у нее оставались зоркие, как у ястреба. Приветствуя Анну, Генрих поцеловал ей руку, а она поинтересовалась здоровьем Норриса, отметив про себя, что тот одет во все черное. – Я чувствую себя довольно хорошо, госпожа Анна, – сказал он, встречаясь с ней взглядом светло-голубых глаз, – но вы застали меня в печали. Моя бедная жена скончалась. Новость поразила Анну, как удар молнии. – Мне очень жаль, сэр Генри, – произнесла она, вспоминая светловолосую Мэри Файнс веселой девушкой, какой та была четырнадцать лет назад во Франции. Генрих шествовал впереди, переходил из зала в зал и с энтузиазмом говорил о своих планах по переделке дворца. Анна медленно брела следом, едва замечая ошеломляющее великолепие, которое ее окружало. Судя по шутливому тону, каким Норрис разговаривал с королем, казалось, вдовец не слишком опечален смертью супруги. Брак его, без сомнения, заключался по сговору, ради удобства, как и большинство других. Теперь сэр Генри свободен. Это все, о чем Анна была в состоянии сейчас думать. Он мог принадлежать ей. Но корону, получить которую она так страстно желала, даст ей только Генрих. Над ними разливались нарисованные на высоком потолке лучи, и Генрих говорил: первое, что он сделает, – уберет отсюда гербы Уолси. Они были повсюду – эти неприятные напоминания о величии кардинала. Анна же тем временем спрашивала себя, почему для нее так важно стать королевой, когда представился шанс испытать подлинную любовь. И как всегда, возвращалась к аргументу, мол, корона – тоже шанс, который не стоит упускать. Она никогда не рассматривала брак сам по себе как положение, в котором исполняются все желания женщины. Ей всегда нужно было получить от жизни больше – и скоро, если будет угодно Господу, в руках у нее окажется больше, чем она могла мечтать. Она столько всего совершит, когда станет королевой, и дети ее будут принадлежать к королевскому роду. Это действительно важно. Только представьте: дитя ее крови, крови Болейнов, в один прекрасный день взойдет на трон Англии, ее потомки будут править страной в течение грядущих столетий! Это же своего рода бессмертие. Анна осознала, что перспектива обладать властью королевы и стать матерью наследника гораздо больше кружит ей голову, чем вероятность брака с Норрисом. Она посмотрела на Генриха и Норриса, стоявших рядом на помосте, и на нее снизошло откровение: любовь – это не самая важная вещь на свете. Власть для нее была ценнее удовольствий. И хотя она любила Норриса гораздо сильнее, чем Генриха, – и да, вожделела близости с ним, – но в то же время понимала: если быть до конца честной с собой, не судьба им стать супругами. Анна принадлежала Генриху, и он никогда ее не отпустит. Как там написал Уайетт: «Noli me tangere, ведь Цезарева я!» «Продолжать любить Норриса издалека – мне это очень подходит», – сказала себе Анна. Такая любовь добавит жизни пряных ноток и привнесет в нее радостное возбуждение, что так редко удавалось сделать Генриху. Она с решительным видом и улыбкой на устах повернулась к королю и произнесла: – Эти шторы нужно убрать!
Выяснилось, что даже теперь избавиться от Уолси не так-то просто. Завладение собственностью кардинала в значительной степени развеяло гнев Генриха и его неприязнь к бывшему другу. В конце октября Уолси воззвал к милости короля, и тот взял его под свое покровительство, великодушно разрешив остаться архиепископом Йорка, вторым лицом в иерархии Церкви Англии после архиепископа Кентерберийского. – Этого нельзя так оставлять! – прорычал дядя Норфолк, когда Анна, едва сдерживая собственный гнев, сообщила ему столь потрясающую новость. – Мы угомоним негодяя раз и навсегда. Норфолк, отец, Джордж, герцог Саффолк и другие затаившие злобу на кардинала начали собираться в Дарем-Хаусе во главе с Анной и плести заговор, чтобы покончить с Уолси. Времени терять было нельзя, ведь скоро начнет заседать парламент, и заговорщики надеялись провести через него Акт с осуждением кардинала в государственной измене. Тогда вдобавок к избавлению от имущества он лишился бы еще и жизни.
Генрих торжествовал. Едва успели доложить о его прибытии в Дарем-Хаус, как он уже ворвался в комнату Анны, где она упражнялась на лютне, а ее мать шила: – Фокс и Гардинер вернулись из Рима! Анна, они привезли новости! – Папа высказался в вашу пользу? – спросила она, поднимаясь. – Нет, не то, дорогая. – Лицо короля слегка омрачилось. – Они оба придерживаются мнения, что нам нечего больше ждать от Климента, но… – Генрих снова засиял. – Они нашли человека, который предложил прекрасное решение моего Великого дела. Его зовут сэр Томас Кранмер. Они встретились с ним случайно, когда по пути сюда остановились на ночлег в аббатстве Уолтхэм. Кранмер укрывался там от какой-то болезни, которая распространилась в Кембридже. Он член университетского совета, и оба – Фокс и Гардинер – знают его долгие годы. – Генрих подвел Анну к дивану у окна, из которого открывался вид на реку. – Это было воссоединение старых друзей, и Гардинер устроил для всех троих отличный ужин. Они завели беседу и спросили у этого доктора Кранмера его мнение по поводу моего дела. Тот сказал, что не изучал его в деталях, но уверен: о законности моего брака должны судить университетские доктора богословия, а не папа. Анна уставилась на Генриха, до нее постепенно доходил смысл его слов. Замечание Кранмера действительно было чрезвычайно мудрым, и дело должно продвинуться. А учитывая, что университетские люди часто придерживаются радикальных и передовых взглядов, эта затея не могла окончиться неудачей. – И если университеты выскажутся в вашу пользу, что будет тогда? – хотела знать Анна. – Спросите доктора Кранмера, дорогая. Я привез его сюда. – Король подошел к двери и командным голосом произнес: – Входите! Доктору было около сорока, строго одетый церковник со скорбными глазами, темной щетиной на подбородке и нервной улыбкой, которая моментально исчезла, стоило ему приступить к разговору об интересующем всех предмете. – В этом деле есть только одна истина, – тихим голосом произнес Кранмер, – и она открывается в Писании, когда его правильно истолковывают ученые мужи, подготовленные к таким занятиям. И подобное толкование, ваша милость, с тем же успехом может быть произведено в университетах, как и в Риме. Если бы мнение университетских докторов заслушали с самого начала, вы могли бы уже давно покончить с этим делом. – Но какой авторитет будет иметь их мнение, если они решат дело в пользу его милости? – спросила Анна. – Госпожа Анна, – ответил Кранмер, – это дело должно быть решено в соответствии с Божественным законом, а не с церковным правом, в связи с чем вмешательство папы необязательно. Если университетские знатоки богословия рассудят, что брак короля незаконен, значит так тому и быть, и все, что потребуется дальше, – это официальное заявление архиепископа Кентерберийского, которое даст королю свободу жениться снова. – Это звучит так просто, – выдохнула Анна. – Доктор Кранмер, – промурлыкал Генрих, обхватывая того рукой за плечи, – вы попали в самую точку! Я хочу, чтобы вы отложили в сторону все прочие дела и написали трактат, изложив в нем свои взгляды. Кранмер выглядел одновременно довольным и встревоженным, но согласился. В тот же день Генрих попросил отца Анны устроить доктора в Дарем-Хаусе, чтобы тот мог писать свой трактат с комфортом. Отец, разумеется, с радостью исполнил просьбу короля. Никогда еще комнаты не обставлялись с такой скоростью! И Кранмер сел за работу. В тех случаях, когда он появлялся из своих комнат, чтобы отобедать или разделить ужин с Анной, она находила, что новый гость образован и достоин доверия. Он интересовался гуманизмом и страстно высказывался за реформу Церкви, а споры об этом нередко возникали во время застольных бесед. Прошло немного времени, и отец сделал Кранмера их семейным капелланом. Так мрачный клирик стал важной частью домашней жизни Болейнов. Анна в самом деле начала считать его другом.
– Я думаю, – сказал Генрих, глядя огненным взглядом на плясавшие в очаге языки пламени, – что мне и вправду будет лучше без папы – моему королевству уж точно – и мои подданные будут вне себя от радости, если им не придется платить церковную десятину Риму. – Он стукнул кулаком по ладони. – Почему мы должны хранить духовную верность человеку, который по политическим причинам отказывает мне в аннулировании брака? Разве он не понимает, что мне нужен наследник, отчаянно нужен? – Генрих распалял сам себя; настроение у него в эти дни становилось все более переменчивым. – Почему Екатерина не дает мне свободы? – возглашал он. – Отчего она так упряма? Я не молодею, Анна, мне тридцать восемь. Вы понимаете, что я уже несколько лет не делю ложе с женщиной? – Он посмотрел на Анну с мукой и томлением во взгляде. – Мы не смеем рисковать… – начала она. – Я ни о чем не прошу! – перебил ее Генрих. – Мы теперь так близки к успеху. Я могу подождать. Богу известно, у меня было достаточно практики. – Сколько времени займет сбор мнений университетов? – поинтересовалась Анна. – Несколько недель, месяцев, может быть. В это время на следующий год вы, вероятно, будете носить под поясом моего ребенка. Подумайте об этом, Анна! – А как насчет папы? – спросила она. – Я намерен быть абсолютным правителем в своем королевстве. Мне опекуны не нужны, и я не потерплю вмешательства со стороны иностранцев. Анна улыбнулась, радуясь, что он наконец ощутил свою силу и власть во всей полноте. Другого Уолси больше не появится.
На должность лорд-канцлера король назначил сэра Томаса Мора. Анна много слышала о честности, строгих принципах и выдающейся учености этого законоведа. Несколько раз она встречалась с ним, так как Генрих высоко ценил его и считал другом. Мор был человек прямой, но опасный. Когда он говорил, его слушал весь мир. Мнения сэра Томаса уважали, ведь он придерживался их без страха и не ища выгоды для себя. Некоторое время Генрих настойчиво просил сэра Томаса согласиться с тем, что его брак ущербен. – Если он поддержит меня, это придаст веса моей позиции в деле, – говорил король Анне. – Даже папа прислушается. Однако после встреч с Мором Генрих всегда возвращался подавленным. – Я все еще не могу убедить его согласиться со мной, – сетовал он, прогуливаясь с Анной по саду в накидке и перчатках для защиты от ноябрьского холода. Тот факт, что Генрих был скорее печален, чем зол, показывал меру его любви к Мору. – Что вы ему сказали? – спросила Анна более резким тоном, чем намеревалась. – Я выразил нежелание понуждать его делать или произносить что-либо, идущее вразрез с совестью. Я сказал, что он должен прежде полагаться на Бога, а уже потом на меня. И это должно стать побуждением! – По крайней мере, он принял канцлерство, – продолжал Генрих. – Он не хотел соглашаться, но я сказал, что нуждаюсь в таких людях, как он. Анна не могла одобрить подобного подхода к делу. – Мудро ли это – назначать лорд-канцлером человека, который противостоит вам в самом важном из всех дел? – Дорогая, не бойтесь. Мы с Томасом договорились, что я не буду привлекать его к своему Великому делу, а он не станет вмешиваться. И я дал ему понять, что из-за этого его власть в качестве канцлера будет ограниченной. Ваш дядя Норфолк, как глава совета, возьмет на себя общую ответственность, а милорд Саффолк станет его заместителем. Хоть одна хорошая новость. А над всеми ними… она сама! Ухо короля полностью в ее власти, так что ни Норфолк, ни Саффолк не будут иметь влияния, кроме того, которое она им позволит в свое удовольствие. С такими мыслями в голове Анна нашла возможным натянуть на лицо улыбку, когда Генрих пригласил сэра Томаса Мора пообедать с ними в личных покоях короля, чтобы отпраздновать продвижение своего друга по службе. Мор приветствовал Анну весьма учтиво, принимая во внимание, что он давно был дружен с королевой и, вероятно, не раз сиживал за этим столом с Екатериной и Генрихом. Если он и был обескуражен появлением здесь новой спутницы короля, то виду не подал. За обедом сэр Томас демонстрировал остроумие и так мудро толковал разные события, что Анна не могла не отдать ему должное; ей стало понятно, почему люди тянутся к нему, отчего он повсеместно любим и вызывает всеобщий восторг. Анне хотелось узнать, каковы взгляды этого великого мужа относительно необходимости религиозных преобразований. – Сэр Томас, вы читали перевод Библии Уильяма Тиндейла? – спросила она. – Читал, госпожа Анна, – ответил Мор и, повернувшись к Генриху, добавил: – Ваша милость знает, что епископ Тунстолл дал мне разрешение читать еретические книги. – Вы единственный человек, кому я дозволил бы это, – улыбнулся Генрих. – Томас горяч, когда речь идет о ересях. – Библия Тиндейла – это не ересь, сэр, – заявила Анна. – Она открывает истину простым людям, чтобы они могли читать Святое Писание на родном языке. – Боюсь, дело тут не совсем в этом, – мягко возразил Мор. – Тиндейл не усовестился изменить текст, чтобы скрыть истину. Мне больно говорить это, госпожа Анна, но он и смутьян Роберт Барнс постоянно изрыгают оскорбления на Церковь, святые таинства и мессу. И если им позволят продолжать в том же духе, а их книги станут доступны всем, то, нет сомнения, ересь распространится бесконтрольно, отчего смуты и несчастья охватят это королевство. Мы являемся свидетелями самой мощной атаки на Церковь, какую когда-либо переживала Англия. Анна не удивилась: от Мора следовало ожидать именно такого ответа. Его консервативные взгляды ни для кого не были секретом. – Но разве вы не согласны, что каждый должен иметь право читать Писание – разумеется, должным образом переведенное – на английском языке? – не отступалась она. – Боюсь, что нет. Госпожа Анна, разве вы допустили бы, чтобы слово Божье толковал невежественный народ? – Я бы предпочла, чтобы простой пахарь мог читать его и составлять собственное мнение, чем наблюдать за тем, как Церковь манипулирует Библией в своих целях. – Моя компаньонка стала теологом, – пошутил Генрих. Анна едва сдержала гнев. Она не нуждается в покровительстве! – И очень хорошим, – добродушно заметил Мор. – В Риме необходима такая риторика. – Я говорю от сердца, – сказала Анна твердым как сталь голосом. – Эти вещи важны для многих людей. – Разумеется, они важны, – отозвался Мор, – но, может быть, предпочтительнее оставить такие дела тем, кто лучше в них разбирается? Его милость, к примеру, большой знаток теологии. Он никому не позволит впасть в ересь. – Значит, я еретичка, если хочу, чтобы Библию читали на английском? – Дорогая, Томас не имел этого в виду, – примирительным тоном произнес Генрих. «Да нет же, имел, – подумала она. – Не секрет, что он ненавидит еретиков. Он сжег бы их всех, если бы мог». – Совсем нет. – Мор улыбнулся, но глаза его остались холодными. – И тем не менее вам следует знать, что чтение Писания на английском – это ересь. – Да, – подтвердил Генрих, – и я намерен подавить ее в своих владениях. – В этом ваша милость будет иметь мою полную поддержку, – сказал Мор. Анна сдалась. Мужчины завладели нитью беседы. Какой смысл ей говорить что-нибудь. Но ее час еще настанет. Возможно, сегодня она нажила себе врага в лице Мора – ее не обманешь дружескими манерами, – но в конце концов она одержит победу. А чтобы добиться этого, самое важное – с помощью Генриха сделаться королевой, да поскорее.
Дворец Уайтхолл кишмя кишел рабочими, их была целая армия. Генрих настаивал на том, чтобы переезд состоялся в начале ноября, когда он будет открывать сессию парламента. Некоторые из великолепных апартаментов, предназначенных для Анны, уже были пригодны для житья – король посещал дворец ежедневно и поторапливал строителей, – так что Анна заняла их вместе с матерью, чтобы устранить повод для любых сплетен. На службу к ней было нанято еще больше дам и прислуги. Анна чувствовала себя обязанной предложить супруге Джорджа присоединиться к ее свите и очень удивилась, когда та согласилась. Для себя Анна решила, что отныне и впредь будет следить за любыми признаками распутного поведения со стороны Джейн, однако ничего подобного не происходило. Невестка, как обычно, держалась замкнуто, особенно когда Джордж являлся во дворец с визитами. Между супругами ощущалась враждебность. Среди служивших у нее конюших и гонцов Анна выбрала нескольких доверенных людей, которые должны были стать ее глазами и ушами при дворе. Не имея ливрей, они могли незаметно смешаться с толпой придворных и слуг, собирать сплетни, вступать в праздные разговоры и держать ее в курсе тех событий, о которых ей следовало знать. Гардероб Анны теперь ломился от роскошных нарядов, а ларцы от драгоценностей, какие могла себе позволить только королева. У дверей стаями вились просители. За исключением короны на голове, во всем остальном Анна уже была королевой. Но лучше всего, что здесь не было Екатерины, которая бы затмевала ее. Опальная супруга Генриха осталась в Гринвиче и вскоре, по воле Божьей, покинет двор навечно. Анне всегда твердили, что королева должна быть образцом добродетели. Много лет она ревностно оберегала свою девственность и при этом являлась мишенью такого чудовищного количества клеветнических сплетен. «Какая горькая несправедливость!» – думала Анна. Но ничего, она еще удивит своих хулителей. Она начнет добиваться проведения реформ в религии, открыто заявит о своих взглядах и станет движущей силой изменений. В те дни Анна много времени проводила за чтением религиозных книг и взяла за правило всегда носить с собой экземпляр Посланий святого апостола Павла, чтобы все могли видеть, какую праведную и благочестивую жизнь она ведет. Рассказ Генриха о том, как он вступился за священника, которого осудили на смерть за обрезывание монет, рассердил Анну. – Вы поступили неправильно, подав голос за священника! – упрекнула она его позже. – Их и без того слишком много, и все они поддерживают королеву! – Успокойтесь, дорогая, – отозвался король, – скоро все это останется позади. Однако она не могла быть спокойной и время от времени срывалась. Бесконечные отсрочки вызывали нестерпимую досаду, и Анна начинала терять самоконтроль, которого с такими усилиями добивалась и так долго сохраняла. Принимающей удары стороной оказывался Генрих, и он демонстрировал замечательное терпение, несмотря на то что дела продвигались со скоростью улитки. Кранмеру на завершение трактата и то потребовалось довольно продолжительное время. «Нужно все тщательнейшим образом выверить», – беспрестанно твердил он. Анне же просто хотелось, чтобы ее будущее наконец устроилось. Ей не нравились происходившие в собственном характере изменения. Трудно оставаться соблазнительной и легкой в общении, когда внутри у тебя все кипит. Она не хотела быть мстительной по отношению к тем, кто стал причиной ее теперешнего неустойчивого положения, – Екатерине, Уолси, Клименту, – но была. Иногда она даже желала им смерти. Она боялась, что их власть помешает ей и разрушит ее планы. «Время идет, а я остаюсь в стороне» – так думала Анна. – Долго еще вы будете заставлять меня ждать? – кидалась она на Генриха, когда на нее находило капризное настроение. – Я давно уже могла бы заключить выгодный брак и иметь детей! Такое заявление, разумеется, гарантированно подвигало Генриха на активные действия. Он понукал Кранмера, чтобы тот поторапливался, изводил Екатерину и ругал членов своего совета за то, что те прилагают недостаточно усилий для облегчения его положения. Каясь, он приходил к Анне с подарками: с отрезом лилового бархата на платье, или с черным бархатным французским седлом с бахромой из золотых и серебряных нитей и подходящим к нему табуретом, который можно использовать в качестве подставки для залезания на лошадь, или с белым дамским пристежным седлом, которое использовалось, когда они ехали вдвоем на одной лошади. Генрих тратил сотни фунтов на то, чтобы утешить и порадовать свою страждущую даму сердца. Но вот чего он не мог ей дать, так это ощущения стабильности и безопасности. Анне оставалось до боли очевидным, что исполнение всех ее надежд целиком и полностью зависело от великой любви к ней короля. Стоит этой любви ослабнуть, и у ее дверей соберется стая волков. И тем не менее она часто вела себя с Генрихом дурно. Взять, к примеру, историю с рубашками. Анна хорошо умела шить и вышивать. Ее работы иглой и нитью были изысканны, и она очень гордилась этим своим искусством. Так вот, когда Генрих между делом упомянул, что порвал рубашку, играя в теннис, и послал ее Екатерине в починку, Анна вспылила: – Если она вам не жена, не ее дело чинить ваши рубашки! Генрих озадаченно смотрел на свою пассию: – Но она всегда их чинила и украшала вышивкой. Как можно быть таким бесчувственным? Анна готова была убить его. – Это лишено всякого смысла, вы поступаете глупо! Вы не должны поощрять ее, изображая из себя верного супруга! В следующий раз посылайте свои рубашки мне. Я буду чинить их и вышивкой украшать тоже. Любой другой человек, который посмел бы так разговаривать с королем, без сомнения, закончил бы свои дни в Тауэре, но в тот момент Анну это не заботило. И Генрих просто стоял перед ней с вытянувшимся и побледневшим лицом: – Простите меня, дорогая, я не хотел вас обидеть. Вы правы. Я буду присылать рубашки вам. Анну уязвляло то, что Генрих до сих пор старался убедить всех и каждого в добрых отношениях с королевой, и всякий раз, как они появлялись на публике, Екатерина была рядом с ним. Они проявляли друг к другу столько любезности, что каждый, кто был знаком с ситуацией в этом семействе, наверняка считал поведение супругов героическим. Однако Генрих заверял Анну: что бы ни происходило на людях, в частной жизни он не уделял Екатерине внимания и предоставлял ее самой себе. Вскоре Анна обнаружила, что это не совсем так. Однажды холодным темным ноябрьским вечером Генрих прибыл в Уайтхолл сильно не в духе и плюхнулся в кресло в ее покоях. – Что случилось? – спросила она, встревоженная подавленным видом короля. – Екатерина! – прорычал Генрих. – Я обедал с ней – ради проформы, так что, прошу вас, не смотрите на меня так, – но лучше бы я не утруждал себя. Она только и делала, что причитала: мол, она терпит муки адовы на земле и я плохо с ней обращаюсь, отказываясь посещать ее наедине. Я осадил ее, сказав, что у нее нет причин жаловаться. Объяснил, что не обедал с ней, так как был занят; кардинал оставил государственные дела в большом беспорядке. А что касается посещений в покоях и разделения с ней ложа, то я заметил, что ей следует понять – я не супруг ее; и напомнил, что в этом меня убедили мнения множества ученых докторов. – Могу представить, что она ответила, – тихо произнесла Анна. – Она настаивала, что мое дело не имеет под собой никаких оснований. Тогда я сказал, что опрашиваю университеты и не премину оповестить об их мнении Рим. И если папа не объявит наш брак недействительным, я провозглашу его еретиком и женюсь, на ком пожелаю. – И это заставило ее умолкнуть? Генрих имел пораженческий вид, как это часто бывало после горячих споров с Екатериной. Супруга всегда оставалась спокойной и решительной, а король выходил из себя и сыпал угрозами. – Она сказала, что на каждого моего доктора или адвоката найдет тысячу таких, которые признают наш брак законным. Анна покачала головой: – Не говорила ли я вам, что всякий раз, как вы спорите с королевой, она непременно одерживает верх? – Анна горько вздохнула. – Полагаю, в один прекрасный день вы согласитесь с ее доводами и бросите меня! И увы! Прощай моя молодость, потраченная впустую! – Ради Бога, Анна, вы жестоки! – запротестовал Генрих. – Вы знаете, что я никогда не покину вас. Вы – вся моя жизнь! И вам ли не знать, что я держу свои обещания! Он встал и широким шагом направился к двери. Выросший в королевской семье и имеющий за плечами два десятилетия полновластного правления, Генрих не мог понять, как неуверенно чувствовала себя его возлюбленная. – Прощайте, – сказал он и даже не попытался поцеловать ее. – Я возвращаюсь в Гринвич, где буду искать умиротворения и тишины.
Не прошло и нескольких часов, как король был весь раскаяние. Чтобы загладить последствия своей несдержанности, он объявил, что делает отца Анны не только графом Уилтширом, но еще и графом Ормондом. Пирс Батлер умер, и Томас Болейн наконец-то получал вожделенный титул. Выражая благодарность Генриху, с любовью и от всей души, Анна думала о том, что` принесет это возвышение ей и всему семейству Болейн, а также понимала: таким образом король готовит ее саму к переходу на более высокое положение. Дочь графа, получившего меч и пояс от самого монарха, была гораздо лучшей партией для правителя, чем дочь виконта. Через неделю Анна присутствовала на церемонии возведения отца в графское достоинство. Она гордо сидела рядом с троном, а сэр Томас Болейн преклонил колена, чтобы получить атрибуты своего нового статуса, который превращал его в одного из главнейших пэров королевства. Джордж, как наследник отца, становился лордом Рочфордом, а Анна с этого момента – на короткое время, пока не получит корону, – будет именоваться леди Анна Болейн. Вместо быков Болейнов в качестве геральдической эмблемы они примут черного льва Ормондов. На следующий день, чтобы отпраздновать повышение Болейна-старшего, король устроил пир в Уайтхолле, настояв на том, чтобы Анна сидела рядом с ним на троне, который Уолси держал во дворце для Екатерины, и руководила свитой придворных дам. Анна заметила среди гостей имперского посла Юстаса Шапуи, который неодобрительно поглядывал на нее, но никак на это не отреагировала. Скоро он будет склонять перед ней колени. Такой же пир состоится в день ее свадьбы, решила Анна. На самом деле, учитывая сегодняшнюю праздничную атмосферу, роскошное угощение и ее девственно белое с серебром платье, казалось, не хватало только священника, который дал бы ей обручальное кольцо и благословил. Если бы только это был день ее свадьбы!
Генрих ввел Джорджа в число членов Тайного совета. Брату Анны предстояло пойти по стопам родителя и сделать карьеру дипломата, к которой – как сын своего отца – он имел замечательный талант. Джордж уже пользовался большим влиянием при дворе. Но его личная жизнь по-прежнему не складывалась. Анна знала, что он и Джейн оставались в прямом смысле слова чужими друг другу, и пыталась вызвать на откровенный разговор вечно обиженную Джейн, но безуспешно. В те дни Анна иногда встречала Джорджа при дворе в компании с одним очень привлекательным внешне молодым человеком – речь его была немного грубовата, со странным акцентом, но он отлично играл на лютне и клавишных инструментах. Она спросила у Норриса, кто это. – Марк Смитон, – ответил Норрис и тепло взглянул на нее; Анна знала, стоит дать малейший намек на поощрение, и он будет у ее ног, хотя до сих пор носил траур. – Почему вы спрашиваете? – Кажется, он нравится Джорджу, но, по-моему, это человек низкого происхождения. – Его недавно назначили грумом в личных покоях короля. А его отец вроде бы был плотником. – Над этим не стоит глумиться, – криво усмехнулась Анна. – Наш Господь тоже был сыном плотника. И все-таки в этом Марке Смитоне есть что-то вульгарное. Впрочем, и лукавое тоже. Анне, к примеру, не нравилось, каким оценивающим взглядом он на нее смотрит. – Думаю, он фламандец. Подвизался при дворе Уолси. И продвинулся далеко благодаря своему таланту к музыке. Дайте этому парню любой инструмент, и он сыграет на нем. Танцевать Марк Смитон тоже умел. Его часто можно было видеть щеголяющим в толпе броским костюмом, когда в присутственном зале устраивали танцы. Анна отметила, что его блузы, чулки, башмаки и головные уборы были самого лучшего качества. Очевидно, Генрих ему хорошо платил. Один раз по приказанию короля Смитон пел для развлечения двора, но переусердствовал с драматическими эффектами. – Даже мед, если его слишком много, становится тошнотворным, – пробормотал отец, сидевший рядом с Анной. – Что это за болван? Тем не менее Джорджа все чаще видели с Марком, иногда к ним присоединялся Фрэнсис Уэстон, другой юный джентльмен из личных покоев короля. Приятный молодой человек со светлыми волосами, голубыми глазами и экстравагантным вкусом в одежде, тоже умелый исполнитель на лютне. Иногда Анна и ее ближайшие наперсницы – кузина, прекрасная Мадж Шелтон, и дочь Норфолка Мэри Говард – присоединялись к ним вместе с Норрисом, Брайаном и другими галантными кавалерами. Однажды Анну заинтересовал принесенный кем-то рукописный сборник стихов. Она узнала в нем книгу, которую Джордж когда-то считал сокровищем. На ней стояла надпись: «Эта книга моя. Джордж Болейн. 1526», но ниже было добавлено: «Моя. Марк С.». Это встревожило Анну. Неужели Джордж настолько симпатизирует Марку, что отдал ему столь бесценный манускрипт? Был ли этот молодой красавец достоин дружбы аристократа? Не являлся ли Джордж причиной того, что Смитону удавалось держаться наравне с теми, кто выше его, подражать их образу жизни и вкусам в одежде? Он не только хорошо одевался, но и держал при дворе несколько собственных лошадей, имел слуг, носивших его ливреи. Как этот выскочка мог позволить себе такую роскошь? При французском дворе Анна слышала сплетни о мужчинах, которые любят других мужчин. В Англии о таких вещах никогда не заикались. Она не могла поверить, что между ее братом и Марком завязались подобные отношения. Анна видела, как Смитон кокетничает с придворными дамами, и сама не раз ловила на себе его дерзкие взгляды. Одному Богу известно, что сделал бы Генрих, заметь он это! К тому же Джордж, по его собственному признанию и всеобщему убеждению, был любителем женщин. Нет, скорее всего, их связывала любовь к музыке.
Парламент заседал уже месяц, и вот недели за три до Рождества лорды и члены палаты общин представили королю список из сорока четырех обвинений против Уолси. Анна возликовала: долгие недели стараний повергнуть кардинала принесли плоды. И Генрих согласился рассмотреть обвинения. Однако он не выказал особой охоты поднимать руку на своего бывшего друга и отказался даже обсуждать возможность дать делу ход. Анна кусала локти от досады. Думы о Рождестве угнетали. Она не могла перенести мысли, что ей предстоит провести в уединении еще один сезон праздников, пока Екатерина верховодит двором. А потому решила отправиться со своими родными в Хивер. К следующему Рождеству, по воле Божьей, ситуация изменится, и это она будет возглавлять празднование Йолетид. Генрих очень обеспокоился, увидев свою возлюбленную в столь подавленном состоянии, и умолял не уезжать. Анна решила, что останется угрюмой, пока король не образумится в своем отношении к Уолси. Однако Генрих не проявил достаточной тонкости души и ее посыла не понял. Тем не менее он подходил все ближе к решению взяться за радикальные перемены. Прежде чем Анна покинула двор накануне Рождества, они вместе осматривали расставленные рядами на столе посеребренные кубки, которые король преподнесет в подарок любимым придворным в первый день нового года. Генрих повернулся к Анне: – Знаете, дорогая, если папа вынесет решение против меня, я не послушаюсь его. Я ставлю Церковь Кентербери не менее высоко, чем люди за морем ценят Римскую церковь. Так и скажу Екатерине. Пусть не надеется на папу. – Англии будет лучше, если она освободится от оков Рима, – заметила Анна. – Я начинаю верить в это, – согласился Генрих. – Мое мнение на этот счет изменит только решение, принятое Римом в мою пользу.
Глава 18. 1530 год
В Хивере Анна думала только о том, что происходит при дворе, какие события она пропускает, и тревожилась от мыслей о Генрихе, который в ее отсутствие проводит время с Екатериной и их дочерью. Как только миновала Двенадцатая ночь, добровольная изгнанница тут же вернулась в Лондон. Генриха Анна застала в унынии. – Без вас тут был ад, – сказал он. – Когда я вспоминаю, сколько времени жду судебного решения, признаюсь, нахожу себя в столь сильном затруднении, что просто не могу больше так жить. Анна накрыла ладонью его руку: – Давайте доверимся университетам. Генрих колебался: – Если сохраняется хоть один шанс, что папа рассудит дело в мою пользу, я не стану искать решения на стороне. Анна впала в отчаяние. Генрих слишком долго был добрым сыном Церкви и ее защитником против ересей. Он мог сколько угодно бахвалиться и сыпать угрозы, но все же оставался ортодоксом. Чего стоила верность Генриха Церкви в сравнении со страхом Климента спровоцировать императора? Когда-нибудь король поймет, что человек в тройной короне[44] так же слаб и способен ошибаться, как любой смертный.Анна торопилась в личные покои Генриха, удивляясь, зачем ему понадобилось так срочно ее видеть. – Его милость расстроен, – предупредил Норрис, встречая ее у входа. Их глаза на мгновение встретились, и в них промелькнуло давно знакомое взаимное понимание. Анна отвела взгляд и пошла к Генриху, у которого находился доктор Баттс. При ее появлении врач поклонился. – Кардинал очень болен, – сообщил Генрих, поднимая на нее потрясенное лицо. – Я отправил доктора Баттса его проведать и, сказать по правде, был очень расстроен тем, что он мне сообщил. Не дай, Господи, чтобы Уолси умер! Я бы не хотел потерять его даже за двадцать тысяч фунтов! Анна обомлела. Он никогда не перестанет любить Уолси. Этого она и боялась. Но какая теперь разница, ведь кардинал на краю могилы. Заговорил доктор Баттс: – Я опасаюсь, леди Анна, что ему осталось не больше четырех дней, если он не получит утешения от его милости и от вас. В глазах Генриха стояли слезы. – Я пошлю ему этот перстень. – Он снял украшение с пальца и отдал доктору. – Кардинал хорошо его знает, потому что сам преподнес этот перстень мне. Передайте ему, что я не держу зла на него в своем сердце. Пусть не падает духом. Да продлит Господь его дни! – Король сжал руку Анны. – Моя дорогая, молю вас, из любви ко мне пошлите кардиналу какой-нибудь подарок инесколько слов утешения. Это не повредит, сейчас нет. И нужно проявлять сострадание к умирающим, даже к врагам. Анна отцепила от пояса маленький блокнотик в золоченой обложке и передала его доктору Баттсу со словами: – Я тоже желаю ему выздоровления. Помогли ли кардиналу слова утешения и знаки внимания короля и его пассии, или искусство доктора Баттса сделало свое дело, но Уолси день ото дня становилось лучше, и краткий всплеск симпатии к нему в душе Анны угас. Она снова начала твердить Генриху, что это кардинал в ответе за ту невыносимую ситуацию, в которой они оказались; вплетать в их разговоры намеки на обиды, которые нанес им Уолси, и всячески возбуждать гнев короля. Сначала Генрих не поддавался на ее уловки, но вскоре Анна заметила, что избранная тактика приносит успех. Воспоминания о том, как обманывал его Уолси, растравляли душу короля. И Анна улучила нужный момент. – Сочувствие к кардиналу со стороны вашей милости весьма похвально, – сказала она, – но он не стоит вашей снисходительности. Я прошу вас не встречаться с ним. Знаю, вы не удержитесь и пожалеете его, но такому изменнику, как он, не пристало появляться перед вами. – Но, дорогая… – начал Генрих. – Не называйте меня дорогой! – злобно оборвала его Анна. – Иногда я думаю, что вы любите его больше, чем меня! Что ж, вам придется выбирать между нами. Я терпела это ожидание достаточно долго. – Милая моя, – взмолился Генрих, вскакивая, чтобы обнять ее, – будьте благоразумны! Разве мое неудовольствие не достаточное наказание для него? Анна отстранила от себя короля: – Кто-нибудь другой и за менее значительные проступки уже отправился бы на плаху! Но вам не нужно заходить так далеко, Генрих. Я прикажу укладывать вещи. – Нет! – крикнул король, как только она двинулась к двери. – Нет, Анна. Не оставляйте меня! Во что превратится моя жизнь без вас? Я вас люблю! И обещаю, что не приму назад кардинала. Я сделаю все, что вы хотите, только останьтесь со мной. И тут она, конечно, смягчилась, и между ними снова воцарилась гармония. Если Генриха и возмущало то, что его вынуждают капитулировать, вида он не подавал. От мысли о возможности потерять Анну его страсть распалялась пуще прежнего. Норрис проводил ее к выходу. – Вы слышали, что сказал король? – спросила она. Он улыбнулся: – Я не мог не слышать, миледи Анна. – Я расквитаюсь с кардиналом раз и навсегда, – пробормотала она, – даже если это обойдется мне в двадцать тысяч крон на подкуп! – Этого не потребуется, – заверил ее Норрис. – Слишком многие готовы на все, лишь бы не допустить возвращения Уолси к власти. Анна не сказала ему, что послала соглядатая, который должен был под видом слуги проникнуть в дом Уолси и отыскать любые улики, хотя бы отдаленно подтверждающие преступления кардинала. Джордж усердно помогал ей устраивать эту ловушку, и шпиона отправили с полным кошельком золота. Вскоре тот подслушал разговор личного врача кардинала, сообщившего своему коллеге, что Уолси состоит в переписке с папой. Будучи преданным королю, слуга, естественно, поспешил известить обо всем Тайный совет. Врача арестовали. Рассказывая об этом Анне за ужином, Генрих сердился: – Кардинал просил папу отлучить меня от Церкви и наложить интердикт на Англию, если я не оставлю вас и не буду обращаться с Екатериной с должным уважением. Гнев Анны был непритворным. – Теперь вы видите, каков он! Гнуснейший из предателей. Когда я думаю о годах, которые мы из-за него потратили без толку и какая пошла обо мне слава… – Анна уже плакала. – Честно говоря, я так больше не могу. Я устала и часто думаю, что было бы лучше покончить со всем этим. Тогда мы оба смогли бы устроить свои жизни. Генрих тоже плакал: – Дорогая, прошу вас, не говорите, что оставите меня! – Вы не представляете, каково мне, – всхлипывала она. – Весь свет думает, что я сплю с вами, а некоторые даже убеждены, что я нарожала вам бастардов. Моя репутация разрушена благодаря Уолси и этому жалкому Клименту. Как, по-вашему, я себя при этом чувствую? Уолси должен заплатить за свои козни! Вам следует арестовать его. – Но я не могу этого сделать! – воскликнул Генрих, вытирая глаза и приходя в себя. – Письмо, о котором говорил врач, невозможно найти, а без него процесс против кардинала не начать. Я бы сделал для вас все, Анна, но преследовать Уолси без доказательств вины противно моей чести и справедливости. – Разве слов одного человека не достаточно? – в отчаянии крикнула она. – Людей обезглавливали на основании показаний свидетелей. – Их было больше, чем мы имеем в данном случае, – возразил Генрих. Анна не могла больше давить на него. Она проиграла, но завтра будет новый день. – Простите меня, если я не сдержалась. Все потому, что мне больно думать, как вас обманули и предали. – Вы не понимаете, как растравляете мою рану, Анна, – сказал Генрих.
Анна шла по Уайтхоллу следом за Норрисом в апартаменты короля, не ожидая, что ее примут. Генрих простил Уолси! О чем он думает? – Вам следовало вместо этого арестовать его! – крикнула она, укоряя Генриха за безрассудство, однако тот остался неколебим как скала. – Вы ведь не хотите, чтобы от моего имени вершилась несправедливость? – с вызовом спросил он. – Вы не должны демонстрировать такую благосклонность к нему! – бросила она в ответ. И все продолжалось в том же духе, шло по порочному кругу: он – ей, она – ему, отчего у Анны оставалось ощущение усталости и разбитости. Она больше не могла держать под контролем ни свои страхи, ни вспышки гнева и жила в постоянной тревоге: вдруг Генрих вернет назад Уолси, а тот, зная о ее враждебности, постарается устранить недоброжелательницу. Анна понимала, что доводит Генриха до крайних пределов терпения, но не могла придержать язык. Войдя однажды в личные покои короля, она застала его за разговором с сэром Джоном Расселом, придворным, за плечами которого была блестящая карьера, и услышала, как собеседник побуждает Генриха проявить доброту к кардиналу: – Он прекрасный государственный деятель, сир, и никто не служил вам более верно, даже если он не сумел довести до конца ваше… – Сэр Джон, – прервала его Анна, – меня удивляет, что вы хвалите в глаза королю человека, обвиненного в таком количестве нанесенных его милости обид и оскорблений. Прощение не означает, что о них забыли. Ждать ответа изумленного сэра Джона Анна не стала. Прекрасно сознавая, что Генрих сверкает на нее взглядом, она удалилась и поклялась себе, что больше никогда не заговорит с сэром Джоном. Однако Генрих пошел за ней. – Анна, я вас очень люблю, но не позволю третировать моих джентльменов, – с укором произнес он; стоявшие рядом придворные ухмыльнулись. – И да, прощение не означает, что совершенные человеком проступки забыты – мною, ибо в данном случае значение имеет мое мнение. – Тогда я тоже прошу у вашей милости прощения, – едко проговорила Анна, сделала изысканный реверанс и пошла прочь, прежде чем он успел сказать что-нибудь еще. Разумеется, Генрих явился к ней, как только смог, весь раскаяние и испуг: вдруг она снова начнет грозить, что бросит, – и Анна грациозно приняла его извинения. Как обычно, после ссоры Генрих был более страстен, чем когда-либо, поэтому она позволила ему поцеловать и приласкать себя. Анну беспокоило, что она так легко срывается и дает волю языку, но сдержаться не могла. Казалось, она все время борется с демонами. И главным из них сейчас был Уолси.
Перебранки продолжались, подпитываемые нежеланием Генриха прибегнуть к помощи трактата Кранмера, который уже был завершен. Вскоре наступила весна, за ней пришло лето, а король все колебался: ему не хотелось совершать последний отчаянный рывок, способный привести к разрыву с Римом. Сколько Анна ни подталкивала его, сколько ни изводила капризами и придирками, сдвинуть короля с мертвой точки не удавалось. – Вы были так одушевлены предложенным Кранмером решением, – напомнила она Генриху. – Да, но я думаю о том, какие могут быть последствия, если я встану на этот курс. Сейчас я собираюсь приказать своим лордам, духовным и светским, чтобы они обратились в Рим с прошением о решении дела в мою пользу. – И вы думаете, это тронет папу? – Анна была полна презрительной насмешливости. – Генрих, мне двадцать девять, и я не молодею. Если вы надеетесь обрести сыновей, вам надо действовать более решительно, а не слать петиции. – Анна, если я выберу какой-нибудь иной путь и не стану ждать решения папы, император может объявить войну. Вы понимаете, сколько врагов я нажил в стремлении к нашему браку? Не только за границей, но и здесь, в моем королевстве, при моем дворе! Вы хоть представляете, чем я рискую ради вас? Своей популярностью, безопасностью Англии, самого моего трона! – Это не имеет значения! – страстно возразила она, понимая: нужно остановить его, чтобы не думал о ней как о причине всех проблем. – Значение имеем мы и наш брак. Знаете, я читала о древнем пророчестве, что в наше время одна королева должна сгореть на костре. Это могу быть я! Я знаю, меня ненавидят, и сокрушаюсь об этом. Но даже если мне придется перенести тысячу смертей, моя любовь к вам не уменьшится ни на йоту! Тут Генрих поцеловал возлюбленную и на время позабыл о своих тревогах. Однако слова короля немного отрезвили Анну, она решила отныне проявлять к нему чуть больше почтения и постараться стать снова той женщиной, в которую он когда-то влюбился.
Генрих отправился в Хансдон навестить свою дочь принцессу Марию. Девочке исполнилось четырнадцать, а с тех пор, как возникло Великое дело, при дворе она появлялась редко, потому что оба родителя хотели оградить ее от душевных переживаний. – Я скучаю по ней, – говорил Генрих Анне, – и хотел бы быть уверенным, что она не заразится упрямством Екатерины. Домой он вернулся в дурном расположении духа. – Прекрасно, когда собственная дочь начинает говорить отцу, что тот поступает неправильно, – ворчал он. – И забывает о своем долге перед ним! Екатерина поработала над своей дочерью. Мария повторяет все те же старые, набившие оскомину доводы. Я сказал ей, что приеду вновь, только когда она начнет смотреть на вещи правильно. Дерзкая девчонка заявила, что готова слушаться меня во всем, кроме того, что противоречит ее совести. – Она что же, не уважает своего отца и короля? – возмущенно спросила Анна. – Никогда прежде она не перечила мне, – сокрушался глубоко опечаленный Генрих. Раньше Анна часто видела его с Марией в покоях Екатерины и не забыла об этом. Генрих обожал свою дочь, а она – его.
Прошение лордов было отправлено в Рим. В Генрихе снова зародилась надежда, но Анна ничего не ждала. Недели проходили, и ни слова в ответ. В сентябре Климент, который старательно избегал вынесения окончательного решения, предложил, чтобы королю было позволено иметь двух жен. – Двух жен! – взорвался Генрих. – Неужели теперь Церковь одобряет двоеженство? – Как он может предлагать такое? – ахнула потрясенная до самых глубин своего существа Анна. – Он пишет, что может разрешить это и скандал будет меньше, чем в случае аннулирования брака. Втайне Анна радовалась. Опустившись так низко, Климент утратил всякое доверие Генриха и, если есть на свете справедливость, всего света вообще. – Для меня с ним все кончено, – сказал Генрих, глаза его при этом были как сталь. – Мне всегда следовало полагаться на свою совесть, которая есть более высокий и справедливый судья, чем разложившийся Рим. Бог, мне это ведомо, руководит моими действиями. Климент заставил меня ждать три мучительных года, и теперь он узнает, что мое терпение истощилось. Пошлите за Кранмером!
Томас Кромвель неожиданно столкнулся с Анной, когда та прогуливалась вдоль берега реки в Гринвиче и размышляла, сколько может пройти времени, прежде чем университеты выскажут свое мнение. Теперь Кромвель являлся членом королевского Тайного совета. Генрих отзывался о нем очень высоко, впечатленный ревностным стремлением нового сподвижника порадеть на пользу короля. Анне этот человек не был особенно приятен, но они разделяли общее стремление к реформам и одобряли перевод Библии, так что, если Кромвель жаждал применить свои замечательные таланты и содействовать аннулированию брака, она была более чем готова отставить в сторону свои сомнения на его счет. Анна полагала, что Генрих едва ли станет снова так сильно полагаться на канцлера, как полагался на Уолси, – теперь король обрел подлинную самостоятельность, – но она знала о растущем влиянии Кромвеля. Пока он понимает, что ее воля – закон для короля, они будут ладить. Кромвель поклонился: – Леди Анна, я подумал, вы захотите узнать. Совету представили новые свидетельства против кардинала. – Новые свидетельства, мастер Кромвель? Тот огляделся по сторонам. Поблизости никого, кто мог бы подслушать их разговор, не было. В этот холодный первый день ноября большинство придворных не показывали носа на улицу и сидели вокруг каминов и жаровен. Кромвель понизил голос: – У нас есть послания Уолси, подтверждающие, что он писал императору и королю Франции, прося их содействовать его примирению с королем. Глупый шаг со стороны человека, осужденного по Статуту премунира, не правда ли, леди Анна? Апелляция к иноземным правителям будет истолкована как измена, и ему придется за это ответить. – Король верит в виновность кардинала? Всего несколько дней назад Анна слышала, как Генрих говорил, что Уолси был лучше любого из его теперешних советников, и хвалил изгнанника за отличное исполнение церковных обязанностей в Йорке. – Да. Уже во время нашего разговора был выписан ордер на арест. – В свинячьих глазках Кромвеля промелькнула мимолетная искра сожаления. – Вам жаль вашего бывшего господина, – заметила Анна. – Он был хорошим руководителем, – задумчиво произнес Кромвель, потом его губы сложились в знакомую, по-бычьи упрямую линию. – Но мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь думал, будто я испытываю хоть малейшую симпатию к человеку, который совершил измену. Вам, наверное, доставит удовольствие новость, что арестовать кардинала от имени короля отправлен граф Нортумберленд. К Гарри Перси теперь перешел титул и владения его отца! Наконец-то восторжествовала справедливость, хотя бы отчасти. – Это очень подходящее для него поручение, не так ли? – тихо спросил Кромвель, и вдруг Анна вспомнила, как стояла в объятиях Гарри под сенью липы неподалеку от монастыря Черных Братьев и за ними наблюдал какой-то человек в черном. – Вы видели нас! – воскликнула она. – Вы знали! – Я был доверенным лицом кардинала. Мне известно, что произошло. Не было никакой помолвки с Мэри Тальбот. Она обсуждалась, это верно, но настоял на ней Уолси. Таким образом он отомстил вам, Болейнам, за то, что вы глумились над ним. Будьте благодарны, что он остановился на этом. Глупца Бекингема он привел на плаху. Анна глядела на своего собеседника во все глаза: – Значит, мы с Гарри были помолвлены законно? – Да, у вас имелись свидетели. Но кардинал официально аннулировал помолвку. У Перси не оставалось иного выбора, кроме как смириться, либо ему пришлось бы испытать на себе гнев короля. Мне жаль вас, леди Анна. Это было жестоко по отношению к вам. Но теперь вы сможете расквитаться. – Вы считаете, я не вправе желать этого? – спросила потрясенная открытием Анна. Оказывается, ее мнение об Уолси было верным с самого начала. – Кто стал бы осуждать вас, – ответил Кромвель.
Погода стояла хмурая, но Анна находилась на улице – наблюдала за тем, как Генрих упражняется в стрельбе из лука по мишеням у Хэмптон-Корта – огромного, раскинувшегося на большой территории дворца, который Уолси построил, а потом подарил королю, так экстравагантно выразив свою преданность суверену. Король поразил мишень в самый центр – попал в глаз быку, как тогда говорили, и тут к нему подошел и низко поклонился джентльмен, служивший вестником у Уолси, – Джордж Кавендиш. – Ваша милость, кардинал умер, – сообщил он. Генрих моментально спал с лица. – Умер? – эхом откликнулся он. – Да, сир. Он болел много месяцев, и, пока его везли в Лондон, слег в Лестере, где монахи дали ему приют в аббатстве. Он скончался этой ночью. Кавендиш едва не плакал. Слуга был предан своему господину. На Анну он не взглянул. Генрих сглотнул и хриплым голосом спросил: – Он говорил обо мне перед кончиной? Кавендиш смутился. – Что он сказал? – потребовал ответа Генрих. – Говорите! – Сир, простите меня. Он сказал, что, если бы служил Богу так же усердно, как вашей милости, Господь не покинул бы его на закате дней. Повисла напряженная пауза. – Лучше бы он остался в живых! – выпалил Генрих и удалился, гордо выпрямив спину.
Анна предоставила Генриха самому себе. Она решила выждать время, пока тот освоится с новостью. Но король сам явился к ней и сказал: – Бог рассудит его. При этом вид у него был такой, будто он проплакал не один час. – Вы призвали бы его к земному суду, – напомнила Анна. – Он, должно быть, знал, что окажется в Тауэре. – Был ли он изменником? – спросил сам себя король. – Вы сами знаете, что был. – Я знаю только то, что говорят о нем враги. – У вас есть доказательства! В посланных им письмах. – Но были ли его намерения предательскими? – Короля терзали сомнения. – А какими еще они могли быть? Тут Генрих посмотрел на Анну, глаза его увлажнились, потом лицо посуровело. – Да, он был предателем, держался заодно с Римом. Можно сказать, Господь совершил свой суд. Анна подумала, действительно ли Генрих сподобился бы казнить князя Церкви. Если бы вопрос стоял так, он, наверное, простил бы Уолси, как делал много раз прежде. Он любил кардинала. Чего не скажешь о других придворных. Кардиналу страшно завидовали, им возмущались, так что его смерть обрадовала многих. Проводя время с Генрихом, Анна едва могла скрыть ликование – она испытывала чувство огромного облегчения: никогда больше Уолси не вернется и не спутает ее планы. Отец и Джордж чувствовали себя триумфаторами. – Счастливое избавление! – шипел дядя Норфолк. Джордж и весельчак Фрэнсис Уэстон схватили Анну за руки и потащили в сторону кабинета устроителя пиров. – У меня есть отличная идея для представления масок, – объяснил Джордж. – Фрэнсис меня поддерживает. – Маски? Сейчас? – Лучшего времени и быть не может. Я назову картину «Сошествие в ад кардинала Уолси». Анна подумала, что-то скажет Генрих, но восторг двух приятелей был заразителен, к тому же они поддались общему настроению, преобладавшему в тот момент. Поэтому Анна нарядилась особенно соблазнительной демоницей и присоединилась к остальным участникам празднования кончины Уолси, которые тыкали игравшего роль кардинала актера вилами, подталкивая его к геенне огненной, музыканты играли невпопад, а весь двор дружным хохотом выражал одобрение. И Генрих, что удивительно, не протестовал, но смеялся вместе со всеми, пряча за весельем свою печаль. А вот Кромвель отвернулся от всеобщего ликования. Анна это заметила.
С глубокой скорбью Анна выслушала новость о смерти от лихорадки Маргариты Австрийской. Только в прошлом году Маргарита искусно вела переговоры и добилась соглашения между Францией и Испанией, ставшего известным под названием Дамский мир, – сама она представляла интересы императора Карла, а мадам Луиза выступала со стороны короля Людовика. – Это была великая женщина, – сказал Генрих. – Она давала вдохновение, – подхватила Анна. – И доказала – как и Изабелла, – что женщина может управлять государством не менее успешно, чем любой мужчина. То же самое рассчитывала сделать Анна.
Екатерина лежала тяжело больная в Ричмонде. Казалось, неприлично надеяться, что она вслед за Уолси сойдет в могилу и Великое дело в одночасье разрешится. Тем не менее Анна невольно рассчитывала на такой исход. Генрих, терпение которого в отношении Екатерины истощилось, выказывал к ней мало сочувствия и оставался с Анной в Хэмптон-Корте. – Я не стану рисковать, еще подхвачу от нее инфекцию, – заявил он. – В Ричмонде чума. Он довольствовался тем, что посылал Екатерине оскорбительные письма, убеждая ее уйти в монастырь. Хотя королева и была слаба, однако упорно отказывалась сделать это. Скоро, Анна не сомневалась в этом, университеты выскажут свое мнение. И через несколько коротких месяцев – даже недель – она может стать королевой. Разумеется, раздадутся критические замечания: мол, ее род далеко не так древен и знатен, как род Екатерины или большинства других королев Англии, которые правили до нее. Недостаточно было принадлежать к потомкам древних королей через Говардов со стороны матери – главное значение имело, кто твой отец; и найдется немало людей, которые будут тыкать в нее пальцами и утверждать, что она слишком низкого происхождения и недостойна стать королевой. Однако в семье Анны из поколения в поколение передавалось предание, что Болейны – потомки норманнского лорда, обосновавшегося в Англии в XII веке. Она обсудила этот вопрос с главой Геральдической палаты и поручила ему составить свое фамильное древо. К удовольствию Анны, герольд протянул ее родословную до великого лорда Евстахия, графа Булонского, который женился на представительнице английской королевской семьи и внучка которого вышла замуж за короля Стефана. Генрих просмотрел масштабную таблицу, демонстрировавшую вереницу предков Болейнов, и нахмурился. – Что за мошенник составил это? – спросил он, весьма огорчив Анну. – Это все выдумки. Сыновья Евстахия стали правителями Иерусалима. – Генрих хорошо знал свою королевскую родословную. – Был еще другой сын, от которого происходит моя семья. – Гмм, – промычал Генрих, слова Анны его не убедили. – Лучше не трубить об этом на всех углах. – Но это правда! – возмутилась Анна. – Я сказал – нет. Не хочу, чтобы вас подняли на смех. – И он остался непоколебим. Так же недоволен был король и девизом, который Анна выбрала и приказала вышить на новых ливреях, заказанных для ее слуг: «Быть посему, и пусть негодуют негодующие». Это было послание всем тем, кто вздумает оспаривать ее право стать королевой. Однако Генрих не выказал одобрения: – Вы действительно хотите стать предметом насмешек, Анна? Вам, как никому другому, должно быть известно, что девиз императора: «Негодуйте негодующие, да здравствует Бургундия». Вы ведь жили при дворе его тетки. Люди уже отпускают шутки. Я видел, как вчера Шапуи усмехался, глядя на одну из этих эмблем. У Анны запылали щеки. Она забыла девиз, знакомый еще с того времени, когда жила в Бургундии, но теперь обмерла и мигом распорядилась, чтобы эмблемы, вызывающие ненужные ассоциации, спороли.
Екатерина не умерла. Пути Господни неисповедимы, королева выздоровела и на Рождество приехала в Гринвич к Генриху вместе с принцессой Марией. Анна снова была вынуждена праздновать – если такое слово здесь уместно – эти дни в Хивере. Еще год прошел впустую! Но он будет последним. Генрих заверил ее, что в следующем году они непременно поженятся.
Глава 19. 1531 год
Испанка леди Уиллоуби смотрела на Анну свысока, задрав свой аристократический нос. Из всех придворных дам Екатерины эта демонстрировала наибольшее неуважение. Женщина прямая и откровенная, леди Уиллоуби не делала секрета из своего отношения к разводу короля. Поэтому, когда Анна встретилась с ней в галерее в день своего возвращения из Хивера в Гринвич, прием ей был оказан столь же холодный, как воздух за стенами дворца. – О, леди Анна, – сказала баронесса, отступая в сторону и давая возможность пройти Анне и ее нагруженным багажом слугам, – мы надеялись, вы останетесь в Хивере. – А я, – не уступила в вежливости Анна, – хотела бы, чтобы всех испанцев утопили в море! – Такие речи – неуважение по отношению к нашей доброй госпоже королеве, – с упреком в голосе произнесла леди Уиллоуби. Анна решила сбить спесь с этой вздорной особы и резко бросила в ответ: – Мне до нее нет никакого дела. Она не настоящая королева, и я предпочла бы видеть ее на виселице, а не признавать своей госпожой! И проплыла мимо, не дав обидчице шанса ответить. Как обычно, Генрих приветствовал ее возвращение ко двору с распростертыми объятиями, и они обедали наедине в личных покоях короля. – Мне так хотелось, чтобы вы провели Рождество здесь, дорогая, – сказал он. – Торжества прошли великолепно, и двор был полон гостей. Но лучше всего, что со мной была Мария. Она теперь стала настоящей юной леди, очень образованной и воспитанной. Анна почувствовала, как в ней нарастает гнев. – Это та самая Мария, которая отказалась повиноваться вам и поддержала свою мать? – сорвалась она. – Удивляюсь, что вы так хвалите ее, когда она забыла свой долг по отношению к вам! Генрих смотрел на Анну в упор, и его шею заливала краска, что было опасным признаком. – Иногда я думаю, что это вы забываетесь, – сказал он. – Мы много дней провели в разлуке, и я жаждал увидеть вас, а вы меня уже корите. – Я была очень рада видеть вас! – выкрикнула Анна. – Но вы, кажется, обманываете сами себя. Или принцесса изменила свое мнение и стала послушной? – Нет, но, Анна, она моя дочь, и я очень люблю ее. Со временем она все поймет. Она молода, и ей пока не хватает мудрости, чтобы разбираться в подобных делах. Вам следует быть немного добрее, правда. Екатерина никогда в жизни не говорила мне столь обидных слов. – В глазах Генриха стояли слезы. – Ну что же, я уверена, она будет рада получить вас обратно! – едко произнесла Анна. – Давайте не будем ссориться, дорогая, прошу вас. Я разберусь с Марией, обещаю, но так, как посчитаю нужным. Мне сейчас не нужны новые неприятности. Климент приказал явиться в Рим, чтобы я защищал свое дело в суде. – Вы поедете? – Анна сжала руку Генриха, желая дать понять, что простила его. В эти дни она постоянно ловила себя на том, что невольно доводит короля до края терпения, а потом спохватывается и понимает: надо показать ему и более мягкую сторону своего характера. – Нет! И я намерен проигнорировать бреве, которое он издал: приказал отослать вас от себя и запретил моим подданным соваться в это дело. По правде говоря, Анна, я начинаю приходить к убеждению, что Английской церкви будет лучше во главе со мной, королем. «Хватит рассуждать! – мысленно вспылила Анна. – Сделайте что-нибудь!» А вслух сказала: – Я долго обдумывала это, и вы знаете, что у других в мыслях то же самое. – К примеру, у Кромвеля, – подхватил Генрих. – Мы с ним весьма интересно и содержательно дискутировали на этот счет. Он полагает, что оторвать Церковь Англии от Рима – значит дать ей массу преимуществ. Но пусть лучше он сам вам расскажет. Король тотчас же послал за Кромвелем и пригласил этого здоровяка с бычьей шеей разделить с ними трапезу, распорядившись подать новых блюд и вина. – Это неожиданная честь для меня, сир, – с улыбкой сказал Кромвель, – и какое удовольствие, что леди Анна тоже здесь. – Он склонил голову в ее сторону. – Расскажите ей то, что говорили мне, – попросил Генрих, опуская нос в тарелку с паштетом из оленины и тушеной зайчатиной. Кромвель повернулся к Анне: – Папа тянет с решением дела его милости. Зачем ждать вердикта Рима? Каждый англичанин – хозяин в своем доме, так почему же королю не быть хозяином в Англии? Разве обязан он делить власть с иноземным прелатом? Я сказал ему, не имея намерения выказать неуважение, что он только наполовину король, а мы лишь наполовину его подданные. Впечатляющий по силе аргумент! И Генрих, судя по лицу, жадно впитывал в себя слова гостя. – Я сама не могла бы придать этой мысли лучшую форму, – заявила Анна, потеплев к Кромвелю. – Римская церковь владеет здесь огромными богатствами и собственностью, – продолжил тот. – Если мне развяжут руки, я смогу сделать его милость богатейшим сувереном из всех, когда-либо правивших в Англии. Глаза Генриха заблестели. – Уверен, разрыв с Римом станет популярным шагом, – подхватил он. – Истинному англичанину претит платить Риму Петрово пенни[45]. Это обременительный налог. – Вашей милости было бы легче бороться с разложением среди духовенства, если бы вы стали во главе Английской церкви, – заметила Анна. – Ей-богу, я мог бы справиться с этой напастью! – согласился Генрих, загоревшийся идеей. – Мне следует править своим королевством без вмешательства Рима или любой другой иноземной силы. Анна трепетала от волнения, слыша от короля такие речи. Но, вспоминая прошлый опыт, сомневалась, насколько далеко он готов зайти? Генрих удивил ее. В конце января он созвал в Вестминстере Собор духовенства Кентербери и Йорка. Всем было ясно: грядет нечто грандиозное, потому что важные церковные реформы производились только с одобрения Собора. Через неделю король выступил перед парламентом и заявил, что Церковь Англии признает его своим единственным защитником и верховным главой. – Ни парламент, ни Собор не ослушаются меня! – сказал он после этого Анне. Каждый день король позволял отсутствовать на заседаниях тем членам парламента, которые поддерживали королеву. Потом старейший из архиепископов – Уорхэм объявил, что Собор готов признать короля верховным главой Церкви Англии, насколько это допускает закон Христов. – Они настояли на подобной формулировке, – сказал немного расстроенный Генрих Анне, когда приехал к ней в Уайтхолл в тот же вечер. – Все слегка выходили из себя, пока мы вели переговоры. Но дело сделано, дорогая. Отныне Английская церковь больше не признает папу, или епископа Рима, – я распорядился, чтобы отныне его называли так и только так. Он не будет пользоваться верноподданством моих епископов и не имеет никакой духовной власти в Англии. У Анны от радости закружилась голова. На такое она даже не надеялась. Она сознавала: ни один английский король никогда не решался на столь рискованное предприятие. Ее уважение к Генриху резко возросло. Он продемонстрировал отменную храбрость, взявшись за дело, которое по сути своей являлось революцией. Англия тысячу лет подчинялась Риму, и теперь извечный порядок будет опрокинут. Перспектива вырисовывалась великолепная, хотя и пугающая. Предугадать последствия было трудно. – Вместе, Анна, мы выстроим новую Церковь! – торжественно произнес Генрих, и глаза его засияли. В этот момент она любила его, любила по-настоящему.Парламент, не теряя времени, одобрил новый статус короля, и грандиозная новость была провозглашена по всей Англии. Подданным Генриха сообщили, что их суверен теперь фактически король и папа в своей стране, имеющий полномочия следить за материальным и духовным благополучием народа. Анна пришла в полный восторг, когда о том же объявили при дворе. Она у всех на глазах обняла Генриха. – У меня такое чувство, словно я обрела рай! – воскликнула счастливая Анна, потом поймала на себе враждебный взгляд Шапуи и вызывающе улыбнулась. Отец и Джордж были в экстазе. И когда во время состоявшегося позднее приема уважаемый Джон Фишер, епископ Рочестера, стал утверждать, что главенство короля над Церковью Англии противно Божественному закону, кровь в груди сэра Томаса вскипела. – Епископ, я могу доказать вам, вооружившись авторитетом Писания, что Господь, покидая этот мир, не оставил на земле преемника, или викария, – заявил он. – А кто же тогда сказал Его ученику: «Ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата Ада не одолеют ее»?[46] – возразил старик. – Давайте сегодня не будем спорить, – вмешался король. – Посмотрите, милорд епископ, большинство дворян присоединились к моему торжеству и немалое число ваших братьев-священников тоже. Пойдемте, милорд Уилтшир, выпейте со мной. – Генрих и Анна оставили Фишера размышлять над сказанным и присоединились к Кромвелю. – Моего канцлера здесь нет. – Генрих тщетно озирался по сторонам. – Я надеялся увидеть его. – Томас Мор не одобрит этого, – заметил Кромвель. – У него, вероятно, возникло расстройство желудка. Но тут появился Мор. Он торопливо вошел в приемный зал со стопкой бумаг под мышкой. Лицо Генриха озарилось радостью и облегчением. – Томас! – воскликнул он и обнял Мора, который даже не успел поклониться. – Жажду получить прощение у вашей милости. Меня задержали в канцелярии, а потом пришлось дожидаться барки в Вестминстере. – Мор любезно улыбался, но взгляд у него был настороженный. К ним подошел Норфолк. – Клянусь святой мессой, мастер Мор, я и не надеялся увидеть вас здесь! – воскликнул он и ударил канцлера по плечу. Они были давними друзьями. – Я верный слуга короля, – сказал Мор. – Мое место здесь. – А что думает ваше лордство о новом титуле его милости? – с вызовом спросил Кромвель у Норфолка. Генрих уперся взглядом в дядю своей возлюбленной, и Анна тревожно втянула ноздрями воздух. Норфолк, как и все Говарды ревностный католик, был противником реформ. – Не спрашивайте меня! – фыркнул герцог. – Пусть это дело решают те, у кого есть мозги в голове, как у его милости. – Вот слова истинного англичанина! – засмеялся Генрих. – Надеюсь, все мои подданные окажутся столь же мудрыми, как вы, милорд. И не будут походить на этого дурака Фишера. – Он повернулся к Анне, ее отцу и Кромвелю, оставив Норфолка и Мора беседовать друг с другом. – Его нужно остановить, – понизив голос, сказал король. – Я переговорю с ним потихоньку, – обещал Кромвель. – Этот доходяга-епископ был чертовски груб со мной, – встрял Томас Болейн. – Он может быть опасным противником, – предупредила Анна. – Люди уважают его как великого теолога. Не забывайте, он бесстрашно защищал королеву, не получая от этого никаких выгод. – Он продолжает писать книги в ее защиту, – недовольно буркнул Генрих. – Сторонники Екатерины считают его святым. Моя бабушка тоже так полагала, он был ее духовником. Но под внешностью святого – стальная воля. Кромвель, сделайте так, чтобы он держал рот на замке.
Фишер был только одним из несогласных. – Но таких может набраться легион, – горячо сказала Анна Джорджу, когда на следующее утро они, несмотря на февральский ветер, осмелились выйти прогуляться в сад. – Вчера вечером, уже после того, как король пытался утихомирить епископа, тот излагал свои взгляды всякому, кто готов был его слушать, – поделился с сестрой Джордж. – Распространял крамолу, не меньше. И некоторые внимали ему, особенно те, кто симпатизирует королеве. – Его надо заставить умолкнуть! – воскликнула Анна. – Никому не дозволено бросать вызов владычеству короля. Я поговорю с его милостью. – Теперь он может лишить епископа сана, – напомнил ей Джордж. Да, она поговорит с Генрихом.
Лицо короля было мрачным. – Кто-то пытался отравить епископа Фишера, – сказал он Анне однажды вечером после заседания совета. – Мы арестовали виновного, негодяя по имени Ричард Роуз, повара епископа. Он добавил какой-то порошок, который ему дали, в овсянку, приготовленную для милорда, его гостей и слуг. Двое из них умерли, семнадцать тяжело больны. Невозможно поверить, что человек способен совершить такое. Отравление – это страшное преступление, и оно заслуживает жестокого наказания. – Губы короля надменно изогнулись от возмущения. – А епископ Фишер? Он пострадал? – спросила Анна. Да простит ее Бог, но она подумала, что было бы очень кстати, если бы святой прелат оказался прикованным к постели и замолчал на некоторое время. – Нет, благодарение Господу. Он как раз решил поститься. Однако нет сомнения в том, что яд предназначался ему. Роуз сначала сказал, мол, считал эти порошки слабительным и добавил их шутки ради, но потом переменил показания и стал утверждать, что ему дали отраву, заверив, что большого вреда не будет: ну, может, кого-то стошнит, не больше. Но он не раскрыл, кто ему такое сказал. Анна похолодела. «Теперь все свалят на меня! Епископ – известный противник развода короля. Люди станут говорить, будто я пыталась убить его». – Вы надавили на Роуза, чтобы тот назвал имя передавшего порошок? – вслух спросила она. – Да, его допрашивали. И сегодня снова подвергнут испытанию, на этот раз более суровому. – Глаза Генриха сузились. – Думаю, он заговорит.
Генрих ушел на заседание совета, и Анна поспешила поделиться своими опасениями с Джорджем. Он слушал ее со все возрастающим гневом. – Роуза снова допрашивают, пока мы тут разговариваем, – сообщила Анна брату. – До сих пор он брал всю вину на себя. – А если он говорит правду? Он мог сам купить эти порошки, аптекарь ему описал, каково их действие, но Роуз добавил слишком много. – Или его предупредили, что, если он заговорит, его семье придется несладко. Джордж, это было намеренное покушение на жизнь епископа – наверняка; уж очень оно пришлось ко времени. И я не могу удержаться от мысли, что за этим стоит кто-то из наших друзей – кто-то достаточно могущественный, чтобы запугать Роуза и заставить его молчать. Джордж обвил ее рукой: – Сестра, думаю, ты слишком увлеклась игрой воображения. – Но какие мотивы мог иметь Роуз, чтобы совершить подобное? – Обозлился на кого-нибудь? Анна встала: – Хотелось бы мне в это верить. – Во дворе зазвенел колокольчик. – Мне пора. Скоро Генрих вернется с заседания совета. – Дайте мне знать, если Роуз заговорит, – попросил Джордж. Ужасный червь подозрения копошился в мозгу Анны. Отец был зол на Фишера. После приема он рвал и метал, осыпал епископа всевозможными ругательствами. И сама она делилась с Джорджем тревогами насчет того, насколько опасен может быть Фишер. К тому же Генрих сказал, что старика нужно остановить. Но не так же! Нет, Анна не могла поверить, что отец способен опуститься столь низко, чтобы пойти на убийство, к тому же с помощью яда, оружия женского, для использования которого не нужна грубая сила. Разумеется, он до такого не опустится! Джордж, конечно, тоже не способен на подобное злодеяние. Неужели он так сильно ее любил, что мог решиться на убийство? Разве он настолько глуп, чтобы не понимать, какие будут последствия? Порывистый и своевольный, Джордж – по его собственному признанию – уже совершал насилие. Из всех членов семьи Анны именно на Джорджа слава и возвышение повлияли сильнее всего. Он стал даже более амбициозным, чем она сама или их отец. Мог ли Джордж пойти на преступление, ошибочно полагая, что таким образом расчищает ей путь? Нет, Анна в это не верила. Роуз не заговорил. Он так и не назвал человека, который дал ему порошок.
Через несколько дней Генрих пришел к Анне. Он говорил неохотно, будто с трудом выдавливал из себя слова. – Лорд-канцлер Мор говорит, что ходят возмущающие спокойствие слухи, будто вы, моя милая, ваш отец и ваш брат причастны к попытке отравления Фишера, – с оттенком презрения в голосе произнес король. – Все это грязная ложь! – воскликнула встревоженная Анна. – Я бы никогда… – Дорогая, я знаю, – успокоил ее Генрих. – Боже, я уйму эти злые языки, даже если мне придется их отрезать! Никто не смеет клеветать на вас. Я сказал Мору… сказал, что на вас несправедливо возлагают вину за все, даже за плохую погоду. Кто-то намеренно старается очернить ее, в этом Анна не сомневалась. Само использование яда уже имело целью вывести на сцену в качестве подозреваемой ее, женщину. А какая еще женщина имела основания желать, чтобы Фишер умолк?
– Суда не будет, – сообщил Анне Генрих, после того как Роуза допросили в четвертый раз. – Но вы говорили… – Анна, я должен снять подозрения с вас и ваших близких. – Я бы предпочла, чтобы Роуза допросили на открытом судебном процессе и мое имя больше не трепали на всех углах, – заявила Анна. – Он должен признать свою вину. Генрих сидел неподвижно. Он не мог поднять на нее глаз. – Что он сказал сегодня? – потребовала ответа Анна. – Он мало что добавил, хотя на него давили. Упорно твердил, что действовал в одиночку. – И все равно Генрих избегал встречаться с Анной взглядом, сидел и теребил пальцами свой дублет. – Дорогая, слухи распространяются. Парламент, верховный суд королевства, издаст Акт с обвинением в государственной измене против этого негодяя, что продемонстрирует, как серьезно я отношусь к его проступку. И поскольку я питаю жестокое отвращение к подобным гнусным деяниям, то предложу парламенту принять новый закон, который будет расценивать намеренное убийство с помощью яда как государственную измену. Для меня они равны и вызывают одинаковое возмущение. Совершившие столь тяжкий грех будут сварены заживо. Ужасное наказание за ужасное преступление. Ладонь Анны взлетела ко рту. Какое варварство! Невообразимые мучения. И Генрих мог отдать такое распоряжение! Однако Анна понимала, почему он столь беспощаден. Наказание должно устрашить и отбить охоту к подобным преступлениям у других. Она надеялась, как же она надеялась, что Роуз претерпит эти мучения не за чужую вину в качестве козла отпущения. Сэр Фрэнсис Брайан уехал в Смитфилд смотреть на казнь Роуза и вернулся назад с чувством тошноты. – Его подвесили на цепях к блоку и макали в котел, – рассказывал Брайан. – Он орал во все горло, и некоторые женщины, которые были на сносях, падали в обморок. Несчастный долго не умирал. Анну передернуло. Она встретилась взглядом с Джорджем. В глазах у обоих застыл ужас.
Мнения европейских университетов относительно Великого дела наконец были собраны. Их окончательный вердикт привезли, когда Анна и Генрих играли в карты в ее покоях. – Двенадцать за меня, и четыре за королеву, – сказал Генрих, торжествуя. – Это стоило мне целого состояния, но оно потрачено не напрасно. Анна надеялась, что не все отзывы были куплены и хотя бы некоторые университеты принимали свои решения по совести. Хотя какая разница, если результат, которого они оба желали, наконец достигнут? – Дорогая, вы только подумайте, – говорил Генрих, – самые утонченные и образованные умы Европыобъявили мой брак кровосмесительным и противным Божественному закону, так что он может быть аннулирован и признан недействительным. Прежде всего, папа Юлий не имел права давать на него разрешение. – Значит, наш брак совершится? – спросила Анна. – Через некоторое время, – ответил Генрих. – Я надеюсь, Климент обратит внимание на эти вердикты и аннулирует мой брак, чтобы эта брешь была залатана. Анна не верила своим ушам: правильно ли она его поняла? Неужели и теперь он по-прежнему собирается согласовывать свои действия с Римом? Ведь он назначил себя главой Английской церкви! И что же, он и правда думает, что теперь папа с распростертыми объятиями примет его обратно в свою паству? Анна отчаялась, потеряла всякую надежду. В сердце своем король оставался верным сыном Римской церкви.
Когда Генрих зачитал вердикт университетов в парламенте и опубликовал его, поднялся неизбежный ропот протеста. – Самые громкие голоса раздаются со стороны женщин, которые скорее своенравны, чем умны или образованны, – отчитывался Кромвель. – Они обвиняют вашу милость в том, что вы подкупили ученых докторов. Будет разумно подождать, пока не утихнет этот шум, прежде чем действовать дальше. – Моя книга заставит умолкнуть злые языки, – заявил Генрих. «Зерцало истины» было готово к публикации. – Или мы изыщем более действенные способы добиться тишины. Книгу Генриха по большей части встретили презрительными насмешками, и Анна никогда еще не была столь непопулярна. Слухи и пересуды, окружавшие историю с Роузом, не смолкали. Когда Анна появлялась на публике, люди шипели ей вслед: «Убийца!» Все более глубокая печаль поглощала Анну. Она рассчитывала, что, как только университеты выскажутся, Генрих отдаст распоряжение архиепископу Кентерберийскому, тот объявит брак короля недействительным, и тогда они поженятся. Но Генрих ничего не предпринимал, даже сейчас он искал более привычные пути к осуществлению желаемого. В настоящее время король изо всех сил старался спровоцировать Екатерину, чтобы та покинула его и тем дала основания для развода. Когда заболела принцесса Мария и Екатерина билась в отчаянии, желая увидеться с ней, Генрих сказал несчастной королеве, что, если хочет, она может ехать и не возвращаться оттуда. Но Екатерина была неглупа и решила остаться при дворе. Она сказала королю, что не покинет его ни ради дочери, ни ради кого бы то ни было другого на свете. О, она была умна! Генрих применил иную стратегию. Когда пришло письмо из Ватикана с сообщением, что его дело может быть рассмотрено только в Риме, и нигде больше, король кричал и топал ногами: он никогда на такое не согласится. – И мне плевать на Климентовы отлучения! – бушевал он, направляясь к Екатерине, чтобы заставить ее отозвать свое обращение к папе. – Я говорила вам, что она откажется, – устало произнесла Анна, когда король вернулся от королевы в ужасном настроении. – Она пожалеет об этом, – горячился Генрих. – Я отправлю к ней депутацию членов Тайного совета, пусть призовут ее к благоразумию. Однако Екатерина отказалась быть разумной. Она твердила, что не подчинится никакому другому решению, кроме принятого Римом. Анне хотелось хорошенько встряхнуть эту несносную женщину. – Так не может продолжаться! – вспылила она. – Она постоянно вам перечит. – Согласен, но император – это сила. Шапуи наблюдает за каждым моим шагом. Я не должен спровоцировать войну. – Император занят битвой с турками на Востоке, – заметила Анна. – Ему не до того, чтобы идти войной на Англию. – Мне это известно, но будьте уверены, он проявляет пристальный интерес к происходящему здесь. И я не могу угадать, что он предпримет, если Екатерина попросит его вмешаться. Не забывайте, его владения обширны. Подумайте, какую армию он может собрать. Но вы правы, дорогая, эта ситуация не может тянуться и дальше.
В то лето они попеременно проводили время то в Виндзоре, то в Хэмптон-Корте, каждый день охотились, ловили рыбу в Темзе и наслаждались хорошей погодой. Екатерина и Мария приехали вместе с ними в Виндзор, но, к радости Анны, не покидали апартаментов королевы. После того как Екатерина незадолго до отъезда из Гринвича перед всем двором назвала ее бесстыжим созданием, Анна не могла ручаться за свою сдержанность. В конце июня Генриху исполнилось сорок. Какой-то юношеский задор еще сохранялся в нем, хотя за последнее время король раздался вширь, а волосы под беретом стали редеть. Зрелость шла ему. Высокий, элегантный, мускулистый и грациозный, он до сих пор привлекал к себе взгляды. Некоторые считали его совершенным образцом мужской красоты, но не Анна. Она не была очарована великолепием короля – слишком долго длилось ее знакомство с человеком, который скрывался под впечатляющей наружностью. Достигнув сорокалетия, Генрих стал задумываться о том, как летит время. В его возрасте достойному мужу полагалось иметь сына, который уже был бы способен орудовать мечом на поле брани. Король часто говорил о своем желании отправиться в новый Крестовый поход против турок, но не мог этого осуществить, пока не обеспечит себя преемником. Желание иметь наследника являлось постоянной темой разговоров и предметом размышлений, мысль эта стала настолько неотвязной, что Анна начала опасаться, а не поздно ли ей вообще вынашивать детей. Ей уже исполнилось тридцать. Вот еще предмет для беспокойства! – С меня хватит, – проворчал Генрих однажды вечером в июле, когда ввел Анну в приемный зал в Виндзоре и увидел уже сидевшую там Екатерину. – Я уеду от нее, так будет лучше. Приняв участие в обычном фарсе – реверансе перед королевой – и пройдя к своему месту подальше от центра главного стола, Анна выбросила из головы слова Генриха как очередные пустые угрозы, полагая, что тут нечему радоваться. Однако король доказал ошибочность ее мнения. – Упрямство Екатерины превратило мои угрызения совести в посмешище. Благодаря ей о моем Великом деле болтают по всему христианскому миру, – ворчал он позже. – Она покрыла меня позором, принесла мне бесчестье. Честное слово, я больше не стану терпеть ее непослушание. Когда мы через два дня переедем в Вудсток, я оставлю эту женщину здесь. – Вы действительно оставите ее навсегда? – Анна не могла поверить своему счастью. – Да, дорогая. Мне уже давно нужно было это сделать. Наконец-то! Наконец-то! – Вы предупредите ее заранее? Генрих покачал головой: – Я не могу вынести еще одну стычку. Когда мы уедем, я пошлю гонца, который передаст ей: мне угодно, чтобы она покинула замок в течение месяца и отправилась в дом, который сама для себя выберет. Она все поймет. Да, она поймет, однако Анна не могла удержаться от мысли, что это был несколько трусливый способ осуществить задуманное расставание с супругой. Окажись Анна на месте Генриха, она сказала бы Екатерине пару ласковых на прощание! Но король всегда боялся своей испанки и ее могущественных родичей.
Ранним утром прекрасного летнего дня Генрих и Анна верхом покинули Виндзор, оставив Екатерину в неведении, какой судьбоносный шаг предпринял Генрих. Два дня спустя перед ним, нервно переминаясь с ноги на ногу, стоял гонец и отчитывался: когда он передал королеве известие, что король ее покинул, королева попросила передать его величеству прощальные слова. Гонец откашлялся: – Ваша милость, она сказала: «Куда бы я ни уехала, я остаюсь его женой и буду возносить за него свои молитвы». Генрих взбесился: – Отправляйтесь назад! Скажите королеве, что мне не нужны ее прощальные напутствия! Своим упрямством она причинила мне проблем без счета. Я знаю, она сильно полагается на императора, но пусть поймет, что Господь Всемогущий пока еще сильнее. Пусть прекратит донимать меня и займется своими делами. Я больше не хочу получать от нее никаких посланий. Гонец удалился, заметно дрожа. Но дело было сделано, и оптимизм Анны дал новые побеги. Екатерина убрана с дороги – какое долгожданное облегчение! – и настало время обустроить по-настоящему королевский двор. Она попросила Эдварда Фокса быть при ней алмонером – подателем милостыни и назначила людей на другие посты. Генрих продолжал осыпать ее подарками. Часто у дверей покоев Анны с новыми приношениями появлялся добродушный сэр Уильям Бреретон, джентльмен из личных покоев короля, все еще красивый в свои пятьдесят с хвостиком; послы, прибывавшие ко двору, тоже не оставляли ее без даров. Весь мир сознавал: месяца через три-четыре она станет королевой.
– Вы бы лучше поостереглись, племянница, – ворчал дядя Норфолк, сидя рядом с Анной, пока та смотрела игру в теннис. – Вы стали слишком высокомерны. – Думаю, вам самим лучше последить за собой! – огрызнулась Анна. – Именно это я и делаю. Я вижу, как вы обращаетесь с его милостью; слышу, как вы с ним разговариваете. Вам кажется, что вы можете управлять им, но не забывайте, что он король. Глупо смотреть на него как на простого мужчину. Продолжайте в том же духе – и станете причиной краха всей вашей семьи. – Не будьте смешным, дядя, – отмахнулась Анна. – Его милость меня любит. Он ни на что не жалуется. – Он пожаловался мне. На то, что вы ему сказали. – А мне и словом не обмолвился, – заметила уязвленная Анна. – Он боится вас. И непременно настанет день, когда он возненавидит за это самого себя. Так что будьте осторожны. Умерьте вашу заносчивость, добавив к ней немного уважения. – Кто бы говорил! – бросила она в ответ.
Сэр Генри Гилдфорд, ревизор королевского двора, вел бесконечную беседу со своими приятелями в почти пустых личных покоях суверена, когда Анна, лелея в душе возмущение против Норфлока и Генриха, явилась туда, чтобы учинить королю допрос по поводу его жалоб. Сэр Генри уже давно выказывал дружелюбие к ней и был любим Генрихом, поэтому Анна удивилась, услышав, как он говорит Норрису, что очень сожалеет, но не может одобрить развод без санкции папы и восхищается стойкостью, с какой держится королева. Норрис, заметив Анну, предупреждающе кивнул сэру Генри, который резко обернулся. – Миледи Анна, – сказал он, кланяясь. Она была не в настроении прощать обиды. Подобные разговоры имели подрывной характер, и их следовало прекратить. – Весьма прискорбно слышать столь нелояльные мнения, высказываемые в личных покоях его милости, – резким тоном произнесла она. – Если я попрошу короля, он уволит вас с вашей должности. – Вам не стоит медлить с этим, – зло ответил сэр Генри. – Мне не нравится то, что творится в королевстве. Когда его милость вернется, я выражу ему свое возмущение. – Что тут происходит? – вмешался знакомый высокий голос, и появился Генрих, вспотевший, в теннисном костюме и короткой бархатной куртке, с ракеткой в руке. – Сэр Генри подает в отставку, – пояснила Анна. – Нет! – возразил Генрих. – Я не позволяю. Пойдемте поговорим, Гилдфорд. – И он повел ревизора в комнату, служившую ему кабинетом. Анна смотрела им вслед. Сквозь закрытую дверь она услышала, как Генрих сказал что-то в том духе, мол, не стоит обращать внимания на женскую болтовню. Анна едва не начала извергать из себя огонь. Она повернулась к Норрису и попыталась заполнить наступившую тишину, хотя чувствовала, что голос вот-вот сорвется: – Я слышала, король сделал вас управляющим Северным Уэльсом и богатым человеком. Говорят, вы состоятельнее многих аристократов. Поздравляю! – Вы несчастливы, – понизив голос, произнес Норрис. – Стоит ли все оно того, леди Анна? Теперь она уже давилась слезами: любимый человек выражал ей сочувствие – это уже было слишком. – Молю Бога, чтобы стоило, – сказала Анна, понимая, что разговор опасно балансирует на грани интимности. – Мне нужно идти. Я увижусь с королем в другое время.
В те дни ей не нравилось выходить за пределы дворца. Людская ненависть была очевидна и доходила до неприличия. Слыша, как из толпы ей вслед летят оскорбления, Анна пугалась не меньше, чем злилась. Во время любых прогулок ее обязательно сопровождал эскорт, состоявший из королевской стражи. Не играло ей на руку и то, что епископ Фишер и прочие друзья королевы, хотя постепенно и сокращавшиеся численно, постоянно писали памфлеты и неумолчно выражали протесты против развода. Незадолго до начала новой сессии парламента Анна передала Фишеру короткое послание с предупреждением, чтобы тот не появлялся на заседаниях, если не хочет повторно перенести недуг, поразивший его в феврале. Только когда гонец ушел, она поняла: фраза, которая по замыслу должна прозвучать сарказмом, на самом деле навлекала на нее подозрения. Но было слишком поздно возвращать гонца. О Боже, пусть думают, что хотят! Теперь Анна редко заглядывала в Дарем-Хаус, но там оставались кое-какие вещи, и в ноябре она отправилась туда отобрать те, что пригодятся, когда она станет королевой. Увы, подобная перспектива продолжала казаться довольно отдаленной. Анна побуждала Генриха заставить парламент обратиться с просьбой к архиепископу Уорхэму, чтобы тот объявил его брак недействительным, но король не проявлял охоты. Уорхэм уже был пожилым человеком и хотел на закате дней пожить спокойно. Генрих полагал, что старик долго не протянет, и не желал оказывать на него давление, но Анна, вздыхая, думала: «Почему бы этому трясущемуся старому дураку не написать заявление о расторжении брака или не отчалить потихоньку к своему Создателю?» Сидя одна среди великолепия своих покоев и поглощая приготовленный для нее обед, она снова и снова прокручивала в голове эту мысль, когда услышала отдаленные крики. Они становились громче и громче. – Что это? – спросила Анна слугу, который безучастно стоял за ее креслом. – Я не знаю, миледи, – встревоженно ответил тот, потому как шум к этому моменту начал звучать угрожающе. Голоса, много голосов, и явно озлобленных. Потом раздался звон разбитого стекла, и Анна подскочила. – Позовите стражу! – приказала она, стараясь не поддаваться панике. А потом различила среди общего шума возгласы: «Смерть шлюхе!», «На костер распутницу!» Внезапно в комнату, потрясая церемониальными пиками, ворвались королевские стражники. – Поторопитесь, леди Анна! Там собралась толпа, тысяч семь или восемь человек, они пришли за вами. Нужно уходить, быстрее! Следуйте за мной! Неудержимо дрожа, Анна побежала за стражниками на нетвердых ногах, которые будто превратились в желе, сначала на половину, где жили слуги, потом через кухню в прилегавший к ней, спускавшийся к реке садик. В любой момент могли настигнуть преследователи с жаждой насилия в глазах. Они разорвут ее на части, Анна в этом не сомневалась. Дыхание стало резким и прерывистым, но пристань была уже близко, а там пришвартована барка. Слава Богу, ноги донесли сюда! Крики стали громче и отчетливее. Толпа уже в саду! Охраны в доме не осталось, и разъяренные люди беспрепятственно ворвались внутрь. Оглядываться Анна не решалась. – Быстрее! – торопили стражники. Финальным рывком беглецы достигли лодки. Подобрав юбки, Анна прыгнула на борт, следом за ней – стража; барочник оттолкнул судно от берега, и как раз вовремя. Толпа сгрудилась на берегу, люди бросали вслед барке насмешки и потрясали кулаками, но намеченная жертва была уже вне досягаемости, посреди Темзы. – Господа, я благодарю вас, – задыхаясь, сказала Анна. – Если бы не вы, я была бы мертва. – Она тряслась как в лихорадке, содрогаясь при мысли о том, что могло произойти. – Леди Анна, мы отвечаем перед королем за вашу безопасность, – ответил стражник, высокий, сильный парень в красивой красной ливрее с вышитыми на ней инициалами короля. – Мы поклялись защищать вас ценой своей жизни. Барка уже совершала разворот в сторону Гринвича, а люди на причале продолжали бурно жестикулировать и кричать. – Поглядите на них, это просто животные, – заметил гребец. Анна смертоносным взглядом василиска уставилась на собравшуюся на берегу чернь: – Ого, большинство из них женщины! Но один с бородой и в чепце. Смотрите, там мужчины, переодетые в женские платья! – Сборище трусов, – процедил сквозь зубы стражник. – Король должен узнать об этом.
Генрих разъярился, когда Анна добралась до Уайтхолла и бросилась, бледная и дрожащая, в его объятия. – Они за это заплатят! Все до единого! – кричал король, крепко прижимая к груди Анну, словно готов был никогда ее не отпускать. К тому моменту, как солдаты добрались до Дарем-Хауса, толпа уже давно рассеялась, и не было никакой возможности выследить участников нападения. Услышав об этом, Анна пала духом. Отныне при каждом выезде в Лондон она будет думать, не затаился ли где-нибудь один из тех извергов и не выжидает ли удобного момента для нападения. На Рождество придется опять уехать в Хивер, а она-то надеялась в этот раз провести праздники королевой! Однако чудесное избавление от неминуемой смерти так потрясло Анну, что она решила удалиться из Лондона. Генрих, конечно, возражал, но Анна сказала, что не чувствует себя здесь в безопасности и ей нужно время, чтобы прийти в себя. Король неохотно отпустил ее.
Глава 20. 1532 год
На этот раз Хивер стал для Анны спасительной гаванью. В мирной тиши занесенного снегом Кента она начала обретать утраченное равновесие. Это был ужасный год, и как хорошо, что он подходит к концу! К Рождеству она начала испытывать скуку и тревожиться из-за того, что пропускает торжества при дворе. «На следующий год, прошу Тебя, Господи…» К концу декабря скука пересилила страх возвращения к придворной жизни. Генрих защитит ее. Если она захочет, то вся вооруженная мощь королевской гвардии будет у нее за спиной. В день Нового года Анна отправилась в Гринвич. Генрих, извещенный о приезде Анны, ждал ее и со страстью заключил в объятия: – У меня для вас сюрприз, дорогая. И проводил в апартаменты королевы, чем немало удивил. – Теперь они ваши, – провозгласил Генрих, делая широкий жест рукой. В великолепной приемной зале Анну ожидали фрейлины; число их увеличилось, и они обхаживали ее, словно она уже была королевой. Генрих не спускал с любимой глаз, ожидая реакции. – Это большая честь, – сказала она, думая про себя: «Если бы только я могла войти сюда королевой!» – Ваша милость бесконечно добры ко мне. Анна задумчиво огляделась и решила, что в будущем станет добрее к Генриху. Вероятно, дядя Норфолк отчасти был прав. – И готов сделать для вас еще больше, когда смогу, – пообещал Генрих. – А теперь откройте вон ту дверь. – (Она была сделана из дуба и вела в личные покои королевы.) – Это мой новогодний подарок. Анна ахнула. Вся комната была отделана новой золотой и серебряной парчой и богато расшитым атласом. – Здесь вы будете держать двор, как королева, – продолжал Генрих. Анна задыхалась, ее переполняли противоречивые эмоции: она была ошеломлена видом апартаментов и роскошью подарка, но почему, почему это постоянное «как королева»! – Мой подарок на этом фоне выглядит пустяком, – извиняющимся тоном произнесла она. – Это несколько красивых копий для охоты на дикого кабана, которые прислал король Франциск. И Мария передала вам рубашку, которую сама украсила вышивкой. Когда мой багаж будет разобран, вы все это получите. – Как мило! Буду с нетерпением ждать оба подарка, – галантно произнес Генрих. – Могу я взять к себе фрейлиной Марию? – спросила Анна. – Я правда должна пригласить ее. – Разумеется, – согласился Генрих, хотя было ясно, что ему это не по душе. Сказать по правде, Анна тоже не питала особых восторгов, но тем не менее было бы странно не пригласить сестру к себе на службу. Что бы ни говорили отец с матерью, она не оставит Марию прозябать в Хивере вдали от чужих глаз. Пока они с Генрихом обходили просторные комнаты, из которых удалили все следы пребывания бывшей владелицы, Анна не могла удержаться от мыслей о Екатерине. А когда достигли опочивальни с огромной кроватью, завешенной зеленым шелком, подумала, что Генрих провел здесь с Екатериной брачную ночь и еще много ночей, когда приходил разделить с ней ложе. Судя по неловкой тишине, повисшей между ними, король вспоминал о том же. – Екатерина прислала мне золотой кубок, – помолчав, сказал он, – но я отправил его обратно с приказом больше не делать мне никаких подарков, так как я ей не муж, и она должна это усвоить. – Как вы думаете, в этом году мы поженимся? – с волнением в голосе спросила Анна. – Боже, я надеюсь! – отозвался Генрих и с горячностью поцеловал ее руку.Тем временем оппозиция, похоже, не собиралась слагать оружие. Кузен Генриха, Реджинальд Поул, сын любимицы Екатерины леди Солсбери, до недавнего времени выступал в поддержку короля в его деле и использовал свое влияние, чтобы авторитетное мнение ученых мужей из Парижского университета сложилось в пользу Генриха. Однако теперь – без сомнения, под давлением своей матери – вдруг совершенно переменился, так сказать, вывернул платье наизнанку. – Он предупредил меня, что наш брак вызовет опасные последствия, и сказал, что добиваться развода – это ошибка с моей стороны, – бушевал Генрих. – После всего, что я для него сделал: оплачивал образование, возвысил всю семью! Я приказал ему объясниться, но он отказался и сбежал во Францию. Это невероятно. Кровный родственник бросает меня! Архиепископ Уорхэм тоже вступил в бой. Его неприязненное отношение к Великому делу ни для кого не было секретом, но тяжесть королевской власти давила на него слишком сильно. В феврале архиепископ выразил-таки в парламенте официальный протест против актов, которые умаляли авторитет папы. – Очевидно, Божьего суда он боится больше, чем меня, – заметил Анне мрачный Генрих. – Он ваш архиепископ Кентерберийский. Вам следует приструнить его. – Он умирает, Анна. Я не стану его трогать. – И короля было не сдвинуть с этой точки. Анна злилась: ведь без содействия архиепископа официального заявления о признании брака Генриха недействительным последовать не могло. Она пребывала в подвешенном состоянии, по-прежнему незамужняя, все та же несостоявшаяся королева, которая оставалась мишенью широко распространившейся ненависти. Распоряжение Генриха хватать без промедления всякого, кто назовет ее потаскухой или еще чем похуже, не давало результата: недоброжелатели Анны не умолкали, и полоумная кентская монахиня продолжала выкрикивать на людях свои зловещие пророчества в адрес короля. – Она заодно с епископом Фишером, – сказал Анне Кромвель. – Мои люди следят за ней. Не бойтесь, она навлечет на себя кару собственными речами. Критика раздавалась и в ближайшем окружении. В Пасхальное воскресенье Анна сидела рядом с Генрихом на королевской скамье в гринвичской Королевской часовне, и тут духовник принцессы Марии брат Уильям Пето взошел по ступеням на кафедру и направил соколиный взгляд на Генриха: – О король, услышьте мои слова! Истинно говорю вам, брак, который вы затеяли, незаконен. Внемлите мне, дабы, поддавшись заблуждению, не навлечь на себя наказание Ахава, кровь которого лизали собаки. Генрих побагровел от гнева. Не успел священник закончить свою обличительную речь, как король встал, схватил Анну за руку и вышел, ступая грузно и широко. На следующей неделе он велел одному из своих капелланов произнести проповедь с осуждением брата Пето. – Он собака, клеветник, низкий, жалкий мятежник и предатель! – метал громы и молнии священник. – Ни один подданный не должен так непочтительно разговаривать со своим государем! – А что, если государь имел дерзость отказаться от законной супруги? – подал голос кто-то из собравшихся на проповедь. Это был другой монах. – Молчать! – взревел Генрих. – Пусть этот человек и брат Пето предстанут перед моим советом! – приказал он после службы Кромвелю. В тот же день Анна услышала, что брат Пето посажен в тюрьму. Его товарищ отделался словесным внушением. «Слишком легко», – злобно подумала Анна. А теперь еще отец пришел ужинать с ней и Генрихом, и вид у него был, против обыкновения, встревоженный. – Честно говоря, сир, – сказал он, разламывая хлеб, – я сомневаюсь, стоит ли все это того. Генрих сдвинул брови: – Что это того стоит? – Решимость вашей милости жениться на Анне, каким бы лестным это ни было. – Отец! – вскрикнула шокированная Анна. – Вы с ума сошли? – Иногда я думаю, что лишусь рассудка, – признался Томас Болейн. – Мы в вечном долгу перед вашей милостью за великую честь, которую вы нам оказали, но мы ворошим гадючье гнездо. К изумлению Анны, Генрих протянул руку и похлопал ее отца по плечу. – Имейте терпение, дружище, – ободряюще произнес король. – Я доведу до конца начатое. Мой брак незаконен, кого бы я ни решил сделать своей следующей королевой. И Английская церковь крайне нуждается в реформировании. Мое Великое дело только выставило на всеобщее обозрение разложение Рима. И клянусь Богом, сэр, я сделаю Анну своей женой, вопреки любому противодействию! – Смело сказано, ваша милость, – одобрительно произнес сэр Томас, заметно оживляясь. – Вы должны простить мне тревогу за дочь. Все эти отсрочки вызывают невыносимое напряжение. А происшествие в Дарем-Хаусе? – покачивая головой, продолжал сэр Томас. – Оно потрясло нас. – Меня оно тоже потрясло, – Генрих подал знак, чтобы принесли еще вина, – но вы можете быть уверены: я никому не позволю причинить вред Анне. Она всегда будет находиться под моим особым покровительством. Тем не менее отсрочки и меня тоже утомляют. Возможности жениться на Анне я жду уже пять лет, и у меня до сих пор нет наследника. Я сказал парламенту: мне скоро сорок один год, а в этом возрасте желание в мужчине уже не возникает так быстро, как в ретивой юности. Анна угрюмо глядела на него, размышляя, не иссохли ли ее собственные жизненные соки, ведь ей уже тридцать один. До сих пор засидевшейся в девах Анне не приходило в голову, что Генрих, носивший расшитые и украшенные драгоценностями гульфики, которые выпирали из-под дублета, и докучливо требовавший некоторого сексуального удовлетворения, мог оказаться не столь уж энергичным в смысле проявления мужской силы. – Не беспокойтесь, – сказала Анна, – то, чего все мы так долго желали, скоро исполнится.
Весной духовенство на Соборе официально отреклось от верности папе, и Генрих наложил на священников большой штраф в качестве наказания за их былую преданность не тому повелителю – Риму. На следующий же день, сославшись на слабое здоровье, сэр Томас Мор ушел в отставку с поста лорд-канцлера. Ближе к вечеру Генрих, погруженный в уныние, встретился с Анной в ее приемном зале. – Со здоровьем у него все в порядке. Его тревожит совесть. Он говорит, что не может поддерживать меня в моем деле. – Король вздохнул. – Много бы я отдал за то, чтобы заручиться его помощью. – Он удалился и от общественной жизни? – с надеждой спросила Анна. – Да, он уехал домой, в Челси, к семье и книгам. Я назначу вместо него канцлером Томаса Одли. Он и свечу для Мора держать не достоин, зато верный сторонник моего дела. – Генрих наклонился и поцеловал Анну. – Не падайте духом, дорогая. Нам осталось ждать недолго. Уорхэм стоит на пороге смерти. Как только он уйдет, я поставлю на его место Кранмера. И тогда, Анна, вы увидите, все пойдет куда быстрее. Как будто для подтверждения серьезности своих слов, король вызвал портных, которые явились, нагруженные прекрасными одеяниями. – У моей королевы должно быть все только самое лучшее, – заявил Генрих, когда один из швецов демонстрировал платье из дорогой ткани с золотым орнаментом. Показали и еще одно – из черного бархата с жемчужной каймой, в комплекте с которым шел французский капор; и третье – королевского пурпурного цвета. Но больше всего Анну порадовала просторная ночная рубашка из черного атласа с бархатной оторочкой того же цвета. – Это для нашей брачной ночи, – промурлыкал ей на ухо Генрих. – Под нее ничего не надевайте.
В ту весну хитрыми дипломатическими маневрами Генриху удалось переманить на свою сторону короля Франциска и увести его от императора. Летом Англия и Франция подписали договор о союзе против Карла V. – Теперь я могу рассчитывать на поддержку Франциска в моем Великом деле, – торжествовал Генрих. – Осенью я встречусь с ним в Кале, чтобы обсудить это. И вы, дорогая, поедете со мной. Терпение Генриха в отношении Екатерины иссякло. Изгнанная от двора, но тем не менее живущая в почете и достатке, она оставалась непреклонной. Король надумал ослабить ее решимость, лишив общества дочери, но это спровоцировало общественное возмущение, так что он уступил и позволил принцессе Марии навещать мать, о чем широко оповестили публику. Екатерина продолжала настаивать на том, что она истинная королева, и было ясно: Мария все больше заражалась упрямством матери. – В будущем я разделю их! – рычал Генрих. – Мария взрослеет, ее могут склонить к интригам с императором против меня. – Разумеется, помимо этого, он хотел наказать Екатерину. «И поделом ей», – думала Анна.
Перспектива снова побывать во Франции Анну обрадовала. Она занялась выбором дам, которых хотела видеть в числе сопровождающих. Одной из них станет сестра Мария, которая теперь жила при ее дворе. Но потом – будет ли конец препятствиям, встающим на ее пути? – Мэри Тальбот, графиня Нортумберленд, подала в парламент прошение о разводе с Гарри Перси. Генрих тяжелым шагом вошел в комнату Анны и сообщил ей это известие. – Графиня утверждает, что существовала предварительная договоренность между вами и ее мужем, – сказал он, ревниво глядя на свою избранницу. – Это правда? Они никогда не говорили о ее отношениях с Гарри Перси. – Мы дали друг другу глупое обещание, не понимая, что делаем, – призналась Анна. – И знаю, что благодаря вмешательству кардинала дело уладилось. Он сказал, что Гарри Перси уже помолвлен. Несколько мгновений Генрих молчал. – Вы любили его? – спросил он после долгой паузы, напряженно вглядываясь в Анну. – Всего лишь юношеское увлечение, – не моргнув, ответила она. – Я не любила его так, как люблю вас. – По крайней мере, в последнем она не солгала. – Что ж, с этим делом нужно разобраться, – сказал Генрих, очевидно удовлетворенный ее ответом, и поднялся, чтобы уйти. – Я поручу Уорхэму и архиепископу Йоркскому допросить графа. – Вы мне не верите? – спросила Анна. – Ну что вы, дорогая, но если я женюсь на вас, то должен убедиться, что вы свободны от всех прежних компрометирующих связей, потому как не смею подвергать сомнению законность наших детей. Так что графа допросят в присутствии герцога Норфолка и моих адвокатов, просто чтобы обезопасить нас. Гарри отрицал существование каких бы то ни было прежних брачных сговоров. Он даже поклялся Святым Причастием, хотя и лжесвидетельствовал. Конечно, признаваться в любви к будущей супруге короля опасно. «Noli me tangere, ведь Цезарева я!» И парламент отказал его жене в удовлетворении прошения. Анне стало жаль их обоих. Графиня наверняка несчастна в браке, раз предприняла столь отчаянный шаг. Анне была отвратительна мысль, что Гарри пойман в ловушку брачных уз без любви и взаимопонимания. Он не заслуживал такой участи.
В августе пришла новость о кончине архиепископа Уорхэма. – Мне следовало бы скорбеть об уходе старика, но он был больше полезен Богу, чем своему королю, – сказал Генрих, обхватывая Анну руками и радостно кружа ее. – Теперь никто не сможет сказать нам «нет», дорогая! Сегодня же вечером я составлю распоряжение о назначении Кранмера архиепископом Кентерберийским. Я делаю вид, что считаюсь с Римом, дабы никто в христианском мире не мог усомниться в правах моего нового архиепископа. Анне с трудом верилось во все это. Когда Генрих отпустил ее, она постаралась осознать, какие последствия влекла за собой смерть Уорхэма. Теперь, наверное, и правда до свадьбы остались считаные недели. Ведь Кранмер не колеблясь объявит союз Генриха с Екатериной недействительным, к тому же он именно тот человек, который энергично возьмется за проведение религиозных реформ, которые так важны и для него самого, и для Анны. Генрих смотрел на нее, словно хотел проглотить. Она поймала на себе взгляд короля и прочла в нем годы подавляемого желания. Снаружи, за открытым окном, солнце садилось за деревья, бросая мягкий лучистый свет на очарованный мир и золотисто-рыжие волосы короля. Они были одни в этот благоуханный летний вечер. Генрих сделал к ней шаг, и она оказалась в его объятиях. – Я люблю вас, Анна. – Голос Генриха потяжелел от страсти. – Будьте моей, дорогая! Теперь нас ничто не остановит. «Почему нет? – подумала она, обвивая руками мощный торс короля и прижимаясь щекой к шершавому, расшитому золотыми нитями дублету. – Мы так долго отказывали себе! И пусть я не люблю его так, как он любит меня, но, по крайней мере, этот человек меня возвеличил». Анну вдруг охватило желание слиться с Генрихом воедино, дать что-то взамен за долгие годы по большей части односторонних ухаживаний и за недостаток любви, которой она одаривала своего обожателя очень скупо. – Вашей милости хочется увидеть меня в той прекрасной ночной рубашке? – проворковала она, глядя в горевшие огнем желания глаза Генриха. – Дорогая! – голос его дрожал. – Подождите здесь. Я скоро вернусь, – пообещала она.
Анна лежала на смятой постели, испытывая легкую боль и одновременно триумф. На улице стражник прокричал два часа ночи, в остальном все было тихо. Она потянулась и посмотрела на то место, где только что был Генрих. На подушке сохранился отпечаток его головы, на простыне – следы его семени, вытекавшего из нее. Нежно поцеловав на ночь любимую, король ушел составлять назначение Кранмера и обещал вернуться, как только управится с делом. Он хотел отправить документ в Рим на рассвете. Их первое соитие оказалось совсем не таким, как ожидала Анна. Было немного больно, удовольствие отсутствовало, ощущалось только трение двух потных тел. Прежде она ни разу не видела мужчину голым и в состоянии сексуального возбуждения, хотя представляла, как это выглядит, потому что слышала множество шуток и сопровождавшихся хихиканьем доверительных разговоров о мужской наготе. Однако реальный облик Генриха не вполне совпадал с тем, что она себе воображала. Его член был меньше, чем производимое гульфиком впечатление. Генрих сам стянул ночную рубашку с плеч Анны и некоторое время удерживал ее, чтобы рассмотреть тело возлюбленной, в первый раз ему открывшееся. Затем потащил Анну на кровать, глаза его потемнели от страсти. И тем не менее – этого она точно не могла себе представить заранее – король нервничал. Он без конца дотрагивался до своего мужского достоинства, теребил его. А потом вошел в нее, болезненно, тяжело дыша и бешено дергаясь взад-вперед. Все закончилось очень быстро. «И это оно?» – спросила себя Анна, когда они с Генрихом лежали вместе после акта любви; он обхватил ее сильными руками и зарылся лицом в ее волосы. И это воспевают в своих творениях поэты и сочинители песен? Ради этого Генрих порвал с Римом? Если так, должно быть, мужчины ощущают все как-то иначе! Нет, она не была так уж сильно разочарована, хотя предпочла бы, чтобы это произошло после свадьбы. Значение имели власть, основание династии и продвижение реформ. А секс – лишь средство достигнуть желаемого; и теперь в ее руках могло оказаться все. Она принадлежала Генриху; они даже могли зачать сына, который увенчает их благословенный союз. Внутри у Анны разрасталось ощущение триумфа. После любовного соития Генрих долго прижимал Анну к себе. Несколько раз повторил, что любит, и благодарил за позволение обладать ею. Встав с постели, чтобы написать письмо, король поцеловал ей руку и промурлыкал нежные прощальные слова. Он все сделал правильно. Тогда почему ее гложет беспокойство? Будто что-то не в порядке… Может, наступила и прошла кульминация долгих лет ожидания, отказов и отсрочек? Или она что-то сделала не так? Ее роль была пассивной, она позволила ему взять инициативу на себя. А разве не этого ожидают от женщины? И тут Анна вспомнила некоторые детали своей жизни при французском дворе: рельеф на дне золотой чаши, стенные росписи, непристойные книги, которые ходили по рукам. Нет, она вела себя неправильно. Женщины должны играть активную роль. Это способ поддерживать в мужчине интерес, когда он уже завоевал вас. Анна попыталась представить себе, как делает подобные вещи с Генрихом и для него. Это заставило ее понять, насколько мало она его знает. Что сделает для него любовь особенной? Стоит ли ей спросить или лучше удивить его? «Просто сделай это», – сказала она себе, улыбаясь. Потом, непрошеной, пришла предательская мысль: насколько восхитительнее было бы предаться любви с Норрисом. Если бы он оказался в ее постели, она бы точно что-нибудь почувствовала. Но этого никогда не случится, она не должна даже думать о таком. Тем не менее, когда через час Генрих вернулся, снова заявил права на нее и достиг кульминации в ее объятиях, Анна позволила себе представить на его месте Норриса, и тогда в ней зашевелилось желание.
Анна надеялась, что утром Генрих останется с ней в постели и она сможет порадовать его, как задумала, но, когда проснулась, он был уже на ногах и натягивал на себя ночную рубашку. Потом наклонился и поцеловал ее: – Доброе утро, дорогая! – Доброе утро, ваша милость, – улыбнулась она и с наслаждением потянулась. – Я хотел бы остаться, но должен уйти, – сказал Генрих, поправляя на голове колпак. – Сегодня утром я уезжаю в Хансдон. – В Хансдон? Зачем? – Навестить Марию. Анна села, хорошее настроение улетучилось. – Удивляюсь, что вы проявляете к ней такую благосклонность, учитывая, какой своевольной она была. Генрих наклонился обуть тапочки. Он сидел к ней спиной: – В сердце своем она хорошая, любящая дочь. Мягкими словами и уговорами я верну ее к послушанию. – Она таких милостей не заслуживает! – возразила Анна. – Ей шестнадцать, и она должна лучше знать свои обязанности. Будь я ее отцом, я бы высекла ее и положила конец этому сумасбродству. – Дорогая, дайте мне шанс. Я поговорю с ней. – Вы уже говорили с ней, и без всякого результата! Я надеялась, что именно этот день вы проведете со мной. Генрих повернулся и сжал ее руку: – Обещаю, что не останусь там надолго. К вечеру я вернусь, и тогда, моя милая, мы снова сможем побыть вдвоем. – Глаза его засветились. – Очень хорошо, – уступила Анна, – но смотрите прижмите ее к ногтю. Она может оказаться не менее опасной, чем мать. – Я ее отец. Она будет повиноваться мне, вот увидите.
После того как Генрих, любовно поцеловав Анну, уехал в Хартфордшир, она вместе с Джорджем отправилась в дворцовый сад смотреть игру в шары. – Ты слышал про Уорхэма? – спросила Анна, когда они уселись на траву в отдалении от других зрителей. – Слышал! Дела быстро поворачиваются в твою сторону, сестрица. – Знаю. Но король все так же снисходителен к принцессе. Сегодня он поехал навестить ее и поговорить, но, уверена, ничего не добьется. Эта маленькая мадам слеплена из того же теста, что и мать. Упаси меня Господь, но я готова задушить ее! Когда стану королевой – а этого теперь ждать недолго, – возьму ее в свою свиту и однажды перекормлю за обедом! Или выдам замуж за какого-нибудь проходимца! – Я мог бы им стать, если бы искал себе жену! – игриво сказал Джордж. – Уж я бы проучил ее! – Было бы неплохо, – поддержала его Анна, желая, чтобы брат освободился от своего несчастливого брака с вечно кислой Джейн.
Когда Генрих вечером вернулся домой, он довольно рассеянно обнял Анну. Кто бы мог подумать, что они стали любовниками только прошлой ночью? Король был напряжен и мрачен. – Не говорите ничего. – Анна со вздохом налила ему вина. – Разговор с принцессой оказался нелегким. Раздался ответный вздох Генриха. – Она так же упряма и непреклонна, как мать. Я предупредил, чтобы она позаботилась о своем будущем, ведь грядут большие перемены. Но, дорогая, я не хочу обсуждать неестественное поведение Марии. Я решил, что перед нашим визитом во Францию произведу вас в пэры. Вы будете сопровождать меня как миледи маркиза Пемброк. Это королевский титул, его носил мой дядюшка Джаспер. Ни одной женщине в Англии еще не даровали пэрство в собственном праве, так что считайте себя особенной. – Сир, это большая честь. – Анна обняла его и поцеловала от всего сердца. «И награда, конечно». – Я благодарю вашу милость. Анна перебирала в уме возможные последствия. Такой титул не только повышал ее статус для предстоящей поездки, но и таким образом будущей королеве присваивалось дворянство. – Я хочу, чтобы вы увидели, в каких словах составлен патент на присвоение пэрства, – сказал Генрих, передавая Анне бумагу, на которой нацарапал несколько фраз. Текст начинался так: «Монарху следует окружить свой трон множеством пэров, избранных из лучших людей обоих полов, особенно теми, в ком течет королевская кровь». Анне понравилось это напоминание о ее происхождении от Эдуарда I. Однако она встревожилась, увидев, что кое-что опущено в пассаже, где упоминались ее дети, к которым может перейти титул матери. – Разве тут не должно говориться «законно рожденным потомкам»? – спросила Анна. – Я размышлял об этом, но нужно побеспокоиться о будущем всех наших детей на случай, если я умру, не успев жениться на вас, – объяснил Генрих, встав у нее за спиной и потершись носом о ее шею. Анна расслабилась, у нее отлегло от сердца. На какой-то момент ужаснулась, что, овладев ею, король подумывал о том, чтобы выделить ей содержание и обеспечить статус любому бастарду, которого она родит. Ведь то же самое может прийти в голову и другим, когда патент будет зачитан на церемонии возведения в дворянство. Но скоро они поймут, как глубоко заблуждались.
Это свершилось в Виндзоре в первый день сентября – Анна получила пэрство. Зазвучали фанфары, и она вошла в приемный зал следом за главным герольдмейстером, который держал в руке патент на дворянство, и своей кузиной Марией, дочерью Норфолка, несшей мантию из алого бархата с горностаевой опушкой и золотой венец. По бокам от Анны шли графини Ратленд иСассекс, а позади тянулся длинный шлейф из придворных дам и кавалеров. Для этой торжественной церемонии Анне выдали традиционный костюм знатной англичанки, выполненный в стиле, который был введен в употребление столетия назад: сюрко из алого бархата с отороченными горностаем короткими рукавами, а под ним – облегающее платье с длинным рукавом; волосы Анна, как королева, оставила распущенными, и они, длинные и блестящие, свободно падали на плечи. Впереди восседал на троне король, рядом с ним находились Норфолк, Саффолк, французский посол и лорды из Тайного совета. Приблизившись к Генриху, Анна трижды сделала реверанс, потом опустилась на колени, и Стефан Гардинер, который был назначен епископом Винчестера в качестве награды за его старания в Риме, зачитал патент, дающий ей новый титул. Генрих встал, улыбаясь Анне. Накинул ей на плечи церемониальную мантию, возложил на голову венец, после чего передал в руки патент. – Я смиренно благодарю вашу милость, – тихо произнесла Анна, поднялась на ноги и снова сделала реверанс, после чего под новый взрыв трубного гласа покинула зал. Потом Генрих вместе с ней слушал мессу в капелле Святого Георгия, где в честь Анны пропели «Te Deum». И как только она могла думать, что жизнь ее не складывается? Ведь именно такое славное будущее рисовалось ей в воображении. Генрих был преданным, как всегда, даже больше, ведь они стали любовниками во всех смыслах и были ими каждую ночь. Казалось, король не может оставить ее ни на час.
До визита в Кале оставалось всего несколько недель. Генрих возлагал на него большие надежды. – Никогда и ничего я не желал так сильно, – заявил он. – Франциск рассчитывает встретиться с папой в начале следующего года, и я рад этой возможности увидеться с королем французов прежде и лично рассказать ему о решении университетов. Это даст Клименту повод задуматься! Даже теперь Генрих надеялся, что Климент в последнюю минуту примет решение в его пользу. – Дорогая, я хочу, чтобы во Франции вы носили украшения королевы, – сказал он Анне.
Она много раз видела их, когда прислуживала Екатерине, и знала, что эти драгоценности передавались от одной супруги монарха к следующей; некоторые были очень старыми, имели огромную историческую ценность и бередили чувства многих людей. Когда она станет королевой, они будут принадлежать ей, но получить эти сокровища сейчас – и таким образом дать понять Екатерине, что она больше не имеет на них права, – это вдруг приобрело первостепенное значение. – Я покажу всему миру, что наш брак все равно что свершился, – сказал Генрих и отправил гонца к Екатерине с требованием отдать украшения. Однако гонец вернулся с пустыми руками: Екатерина отказалась уступить их без письменного распоряжения короля, потому что он-де велел ей ничего ему не присылать. Анна стояла в своих личных покоях, щеки у нее пылали, а гонец повторял слова Екатерины: «Отдавать драгоценности ради того, чтобы ими украшала себя та, что является позором для всего христианского мира и обесславит короля, если тот возьмет ее с собой во Францию, обидно и оскорбительно для королевы и ляжет тяжелым грузом на ее совесть». – Я сейчас же напишу приказ! – в гневе прокричал Генрих. Не прошло и двух дней, как украшения оказались в распоряжении Анны. Но это не стало достаточным возмещением за испытанное унижение. Сердце ныло. – Если мне дозволено надевать украшения королевы, могу я пользоваться и ее баркой? – спросила она. Будет очень приятно плавать вверх и вниз по Темзе на этом богато отделанном, позолоченном судне, тогда все поймут: в нем сидит будущая королева. Генрих согласился, но после того как Анна распорядилась, чтобы герб Екатерины сняли с барки и сожгли, а на его место приделали ее собственный, с его лица сошла улыбка. – Это было не слишком тактично, – с усталым видом упрекнул Анну король, который только что долго беседовал с послом императора. – Шапуи жалуется, что судно изуродовали самым непочтительным образом. Он надеется, что вы удовлетворитесь баркой, украшениями и мужем королевы. Ради Бога, Анна, не провоцируйте его без нужды. – Я не собиралась никого оскорблять, – ответила она, – но некоторые разрушения были неизбежны. Пришлось сперва отодрать гербы, а потом сжечь обломки. И заметьте, я очень довольна мужем королевы! – Она взяла в ладони лицо Генриха и поцеловала.
– Дорогая, мы столкнулись с проблемой, – смущенно произнес Генрих, опустившись на кровать рядом с Анной. – Уже несколько недель мои послы обсуждают, какая дама из королевского дома будет принимать вас во Франции. Новая королева Франциска Элеонора – сестра императора, и, естественно, ее симпатии на стороне Екатерины. Франциск чувствует, что не может приказывать ей, а кроме того, я скорее готов познакомиться с дьяволом, чем встретиться с дамой в испанском платье! – Генрих взял Анну за руку. – Я попросил, чтобы почести были оказаны сестрой Франциска, королевой Наварры, которой вы когда-то служили. Маргарита! Как радостно было бы снова увидеть эту умную, одухотворенную женщину после стольких лет разлуки. – Это было бы великолепно, – ответила Анна. Генрих смешался: – Боюсь, она отказалась. Я бы ни за что на свете не стал вам говорить, но вы можете услышать об этом от кого-нибудь во Франции. Она сказала, что не хочет иметь дело с женщиной, поведение которой – скандал для христианского мира. Анна готова была заплакать. И это та самая Маргарита, которая держалась столь просвещенных взглядов и защищала правление добродетельных женщин? Та самая Маргарита, которая демонстрировала дружеские чувства к Анне? Генрих лег и обнял ее: – Во Франции многое изменилось с тех пор, как вы жили там. – Я знаю. Король больше не проявляет такой терпимости в делах религии, как прежде. Анна не сомневалась, что Маргарите пришлось отрешиться от своих передовых взглядов. Три года назад ее протеже сожгли как еретика в Париже вместе со всеми его книгами. Она не имела власти спасти несчастного. Ее саму допрашивали. Похоже, Маргарита изменилась и в других отношениях. Но Анна продолжала считать ее другом. – Если не найдется дамы моего ранга, которая меня примет, я не смогу покинуть Кале и отправиться во Францию, – заметила она. – Знаю, дорогая, и Франциск старался найти решение, которое удовлетворило бы всех. Он даже предложил, чтобы почести вам оказала герцогиня Вандомская. – Но она его любовница! – воскликнула Анна. – Мне это известно, и я сказал ему, что это будет бесчестьем и оскорблением для вас и наших английских леди. Очень жаль, дорогая, но я без всякого желания принял решение, что вы должны остаться в Кале, когда я поеду встречаться с Франциском. – (Анна задрожала от гнева и досады.) – Не расстраивайтесь так. Позже Франциск прибудет для встречи с нами в Кале, – утешал ее Генрих. – И бóльшую часть времени мы проведем вместе. Это будет как медовый месяц. – Его рука двинулась к ее груди. – Кромвель сказал, люди поговаривают о том, что мы поженимся во Франции. – А вы, разумеется, этого не хотите? – спросила Анна. – Нет, моя дорогая, – заверил ее Генрих. – Я бы никогда не согласилась на такое. Я хочу, чтобы наша свадьба состоялась здесь, в Англии, где выходили замуж и всходили на трон другие королевы. – Так и будет, я обещаю, – промурлыкал он, привлекая ее к себе.
Переход в Кале прошел гладко. Они отправились из Дувра с первым светом зари на красивом корабле, называвшемся «Ласточка». В главной каюте Марк Смитон развлекал Генриха, Анну и некоторых избранных придворных виртуозной игрой на лютне. Анна стояла у решетчатого окна со своей сестрой Марией, смотрела, как удаляется английский берег, и видела Тома Уайетта, который бесстрастно глядел на нее поверх голов собравшейся на пристани толпы. Когда их взгляды встретились, он отвернулся. Анна про себя подивилась: оказывается, страсть может превратиться в безразличие. В Кале они прибыли в десять утра того же дня и были встречены громовым королевским салютом. Состоялся прием, которым распоряжался лорд Бернерс, комендант Кале, после чего Генриха и Анну в сопровождении длинной процессии отвели в церковь Святого Николая на мессу. Затем они проследовали в Казначейский дворец, где на Анну произвели неизгладимое впечатление отведенные ей покои в семь комнат со спальней, примыкавшей к спальне Генриха. Пока слуги распаковывали багаж, они с Марией осматривали дворец – огромное сооружение с длинной галереей, теннисным кортом и обширными садами с обеих сторон. Анна не сказала Марии, что они с Генрихом стали любовниками, предоставив сделать собственное заключение на этот счет, исходя из того, как были устроены спальни. В ту ночь Генрих пришел к Анне. С их первой совместно проведенной ночи он всегда брал инициативу в их любовных занятиях на себя, и она еще ни разу не отважилась сделать это сама. Но теперь они были во Франции – атмосфера царила беззаботная, и Анна решила: пора что-нибудь предпринять. Так вот, когда Генрих потянулся к ней, она прижала любовника к постели и начала покрывать легкими поцелуями его тело, используя язык, чтобы доставить ему удовольствие. Он ахнул и почти сразу разрядился. Они лежали, тяжело дыша, и Анна уютно пристроилась у его бока. – Я хотела порадовать вас, – прошептала она. Он не ответил. Неужели уснул? Но нет, в мерцающем свете единственной свечи, которую они не затушили, Анна видела, что Генрих смотрит на нее и слегка хмурится. – Где вы научились это делать? – спросил он. – При французском дворе по рукам ходили книги, в которых были картинки, как люди по-разному занимаются любовью, – ответила Анна, понимая: он, видимо, решил, что ее научил какой-нибудь прежний любовник и она вовсе не так целомудренна, как внушала ему. – Я никогда не делала этого, Генрих! Просто вспомнила, и мне захотелось доставить вам удовольствие. Наступила тишина, в продолжение которой, к своему ужасу, Анна осознала, что вовсе его не порадовала. Конечно, Екатерина никогда бы… Но были же у него любовницы… – Дорогая, – наконец снова заговорил Генрих, – если мы хотим зачать сына, то таким образом ничего не добьемся. И Церковь неодобрительно смотрит на подобные занятия. Я ценю ваше желание порадовать меня. Но лучше бы вы пустили меня побыть внутри вас. – Тогда я в распоряжении вашей милости, – игриво отозвалась она, понимая, что ошиблась в расчетах. Никогда больше она не станет проявлять инициативу в постели с королем. Генрих поцеловал ее. – Запомните это! – произнес он более теплым тоном.
Досадно было сидеть в Кале, когда Генрих отправился дальше в Булонь, чтобы провести четыре дня с королем Франциском. Но Анна не теряла времени даром: ездила на охоту с соколами, играла в карты и кости, пировала, поглощая присланные французским королем деликатесы – карпа, морскую свинью, паштет из оленины, отборные груши и виноград. И старательно уклонялась от неприкрытого любопытства Марии, которой хотелось знать, в каком состоянии находятся ее отношения с Генрихом. Король вернулся в радостном настроении. – Франциск сочувствует нам, – сообщил он Анне. – Я пригласил его приехать сюда в пятницу. Анне не особенно хотелось привечать Франциска, этого великого развратника, и Мария, которая надеялась не встречаться с ним, вздрогнула при известии о его визите, но согласилась сопровождать Анну в обществе других дам, рассчитывая, что многочисленность свиты обеспечит ей безопасность. Под руководством Анны женщины репетировали представление масок, которое будет показано Франциску. Прево Парижа доставил присланный французским королем в подарок Анне бриллиант, и она выразила по этому поводу удовлетворение.
В честь прибытия короля Франции был дан салют из трех тысяч ружей. Два дня по требованию Генриха Анна не показывалась, но вечером третьего почтила своим присутствием стол для почетных гостей во время обильного ужина и банкета, который давал Генрих в главном зале Степл-Инн, где остановился Франциск. Зал, завешанный золотыми и серебряными тканями, выглядел великолепно. Украшавшие его золотые венки были унизаны блестящим жемчугом и драгоценными камнями, отражавшими свет двадцати серебряных канделябров с сотней восковых свечей на каждом. Внушительная выставка золотой посуды на семиярусном буфете служила демонстрацией богатства Генриха; впечатление дополняли его костюм из пурпурной золотой парчи, шейное украшение с четырнадцатью рубинами и две гигантские нити жемчуга, на одной из которых висел знаменитый рубин Черный Принц. На пиру подали семьдесят блюд из разных сортов мяса, дичи и рыбы, приготовленных по английским и французским рецептам. После этого Анна, одетая в костюм из золотой парчи со вставками алого атласа, подкладкой из серебряной парчи и золотой шнуровкой, вывела Марию, Джейн Рочфорд и еще четырех дам разыгрывать представление масок. В заключение Анна подошла к Франциску, сделала реверанс и спустилась с ним на площадку для танцев, куда Мария и ее компаньонки пригласили короля Генриха и других лордов. – За прошедшие десять лет вы не изменились, миледи маркиза, – сделал комплимент Франциск. – Мы скучали по вас при французском дворе. Сам он растолстел, черты его мрачного лица огрубели. Анне неприятно было брать Франциска за руку, но она продолжала улыбаться, решившись очаровать предводителя французов, ведь он желал быть другом Генриху и мог оказаться полезным. Новый союз с Францией создаст мощный противовес любым угрозам со стороны императора. Генрих, смеясь, обходил танцовщиц и снимал с них личины. Остановившись перед Анной, он убрал маску и с ее лица. – Теперь вы можете видеть, как красива миледи! – сказал он Франциску. Анна милостиво приняла комплимент, а Генрих тем временем увлек ее в новый танец. Она заметила, что Мария оживленно говорит о чем-то со своим партнером, молодым человеком, которого Анна не знала. – Кто это? – спросила она Генриха. – Юный Стаффорд, мой дальний родственник. Он здесь в моей свите. Казалось, партнеры ладят. Анна наблюдала, как сестра флиртует со Стаффордом, который, судя по виду, был на несколько лет младше Марии. Приятно было видеть сестру довольной после долгих лет печального вдовства. После отъезда французов во главе с Франциском, который обещал сделать все, что в его власти, для примирения Генриха с папой, в Английском канале разыгрался сильный шторм, а потому Генриху с Анной пришлось задержаться в Казначейском дворце еще на две недели. Это не имело значения. Генрих радовался вынужденному перерыву в делах государства и целиком посвятил себя Анне. Они подолгу, не спеша обедали и ужинали, совершали поездки за пределы городских стен, чтобы полюбоваться разбегающейся во все стороны сельской округой Кале – небольшой части Англии на окраине Франции, и занимались любовью каждую ночь и каждое утро. Анна даже надела бриджи и обыграла Генриха в теннис. Никогда еще она не чувствовала такой близости с ним. Идиллия закончилась однажды в полночь в середине ноября, когда Генрих решил, что им следует использовать возможность, которую давал благоприятный ветер, и отплыть в Англию. Переход получился жуткий – двадцать девять часов ада в бушующем море, и Анна, которая хорошо переносила качку, была вне себя от радости, когда завидела вдали скалы Дувра. Чинно и неторопливо королевский поезд двинулся на восток через Кент. Остановились в Лидсе – прекрасном замке, который словно вырастал прямо из озера, а потом поехали верхом в Каменный замок, где задержались погостить у старинной подруги Анны Бриджит Уингфилд; они были знакомы с детства и часто встречались в Хивере. После сытного обеда Генрих и Анна вместе с хозяйкой, сэром Фрэнсисом Брайаном и Фрэнсисом Уэстоном занялись их любимой карточной игрой «Папа Юлиан», и стонущий Генрих в пух и прах проигрался Анне. Потом все сидели у огня и беседовали, угощаясь вином со специями. Уэстон говорил, какое счастье он обрел в недавнем браке с Анной Пикеринг и как он ждет не дождется встречи с ней. – Вы намекаете, Уэстон, что распутница наконец утихомирилась? – пошутил Брайан. – Я хочу домой, в Саттон-Плейс, – вздохнул Уэстон. – Я слышала, это красивый особняк, – сказала Анна. – Великолепный, – заверил ее Генрих. – Я подарил его отцу Фрэнсиса за его добрую службу. Он должен гордиться вами, Фрэнсис. – Он гордится, сир, кроме тех случаев, когда выговаривает мне за то, что я обыграл вас в карты. – Тут он прав, – усмехнулся король. – Ну давайте, Фрэнсис, раз Марк уже в постели, сыграйте нам что-нибудь на лютне. Уэстон взял в руки инструмент: – Эта песня для вашей милости и леди Анны. – И он запел густым баритоном:
Во дворце Уайтхолл готовились к Рождеству. Анна обнаружила на столе в своих покоях тонкую книжицу. Это оказалась брошюрка о пророчествах с грубыми картинками, и кто-то оставил ее открытой на одном очень страшном рисунке, изображавшем женщину с отрубленной головой. Приглядевшись, Анна поняла, что нарисована она. Подпись предупреждала: такая участь ждет ее, если она выйдет замуж за короля. Нэн Сэвилл, подошедшая к Анне сзади и увидевшая рисунок, ужаснулась: – Если бы я поверила в такое предсказание, то не стала бы держаться за него, будь он даже император. Анна захлопнула книгу: – Тише, Нэн, это пустяк. И я намерена заполучить его, чтобы в моих детях текла королевская кровь, что бы со мной ни случилось. Несмотря на эту браваду, рисунок Анну расстроил, и она отправила книгу в огонь. Кто подложил ее? Доступ в личные покои Анны был открыт только избранным слугам и близким к хозяйке людям или тем, кого она сама допустила к себе. Анна подумала, не сделала ли это Джейн Рочфорд? Упомянула при ней о книге, но не заметила никакой ответной реакции. Дни шли, и Анна забыла об этом инциденте. Приближалось Рождество. В этом году, благодарение Господу, она проведет его не в хиверской ссылке, но во главе двора рядом с Генрихом.
Часть третья. Самая счастливая
Глава 21. 1533 год
Встав утром со стульчака и вымыв руки, Анна почувствовала нарастающий внутри восторг. Месячные задерживались уже на неделю, грудь стала чувствительной, и сегодня, проснувшись, она впервые почувствовала тошноту. Она носит ребенка, в этом не могло быть сомнений. Анна поспешила отыскать Генриха, но он заседал со своим советом. Она нетерпеливо и беспокойно стала ждать на галерее, пока он не выйдет. Наконец это произошло. Анна торопливо подошла к королю, державшиеся позади него лорды обратили на нее любопытные взгляды. – Я должна поговорить с вашей милостью, – тихо сказала Анна, едва способная сдерживаться. Что скажет Генрих, когда она объявит ему, что у нее под поясом спит наследник Англии? – Конечно, дорогая, – согласился он. – Джентльмены, мы встретимся завтра в то же время. И к тому моменту все изменится! Король отвел Анну в находившуюся неподалеку часовню. В глазах его был вопрос. – У меня будет ребенок! – выпалила Анна. Лицо короля изменилось – на нем засияла лучезарная улыбка. – Благодарю Тебя, Господи! – выдохнул он, затем поклонился распятию на алтаре и снова повернулся к Анне. – Вы понимаете, что это означает? Это оправдание всего, что я сделал. Небеса улыбаются нам обоим. Наш брак будет воистину благословенным. О моя дорогая, я так горжусь вами! – Заключив Анну в объятия, Генрих очень бережно и нежно поцеловал ее и наставительно добавил: – Вы должны беречь себя. У вас под поясом ценнейшая ноша. Благодарю вас, Анна, благодарю! Вам не понять, как важна для меня эта новость. – Он положил руку ей на живот. – Сын – наследник Англии и ее спаситель, не меньше. Теперь мы освободимся от угрозы гражданской войны. – Я счастливейшая из женщин! – ликовала Анна. – Моим королевским девизом будет такой: «Самая счастливая», он будет напоминать мне об этом дорогом сердцу моменте. – Нам нужно срочно пожениться, – забеспокоился Генрих. – Я сейчас же пойду и переговорю с Кранмером. В покои Анны Генрих вошел радостным: – Кранмер сказал, нет никаких препятствий к браку и мой союз с Екатериной окончательно аннулирован и недействителен. Он обещает официально подтвердить все в суде. Дорогая, нам незачем ждать и ни к чему терять время. Люди должны быть уверены, что наш ребенок зачат в законном брачном союзе. Нам нужно пожениться немедленно.В день празднования обращения святого Павла, двадцать пятого января, Анна поднялась с постели затемно. Анна Саваж была уже одета и ждала свою госпожу, чтобы наряжать ее к свадьбе. Дворец еще был погружен в дремоту. Анна выбрала наряд из белого атласа, а волосы пожелала оставить распущенными в знак символической девственности королевы. Чудесное платье с низким квадратным вырезом, свисающими рукавами, заостренным книзу корсажем и тяжелыми юбками. Его шили с расчетом произвести впечатление, но эта свадьба должна была состояться тайно, так что Анна позволила своим дамам спрятать эту красоту под просторной бархатной накидкой на меху. Анна Саваж несла шлейф за своей госпожой, пока та молча поднималась по пустынной винтовой лестнице в маленькую часовню, расположенную на самом верху башни. Здесь дам ожидал духовник короля доктор Ли в полном облачении. Потом появился и сам Генрих в сопровождении своих джентльменов, с которых взял клятву держать все в тайне: Норриса, который встретился с Анной немного хмурым и укоризненным взглядом; Томаса Хиниджа из личных покоев короля и Уильяма Бреретона. Анна Саваж сняла со своей госпожи накидку. Анна грациозно сделала реверанс перед Генрихом, тот взял ее руку и поцеловал. – Вы прекрасны, – сказал король, впившись в нее взглядом. Они вместе встали на колени перед алтарем, и доктор Ли начал нараспев произносить слова, совершая Святое таинство брака. Король неотрывно смотрел в глаза Анне, когда они давали обеты. – Я, Генрих, беру тебя, Анна… – Я, Анна, беру тебя, Генрих… – Тех, кого соединил Господь, да не разлучит никакой человек! – провозгласил доктор Ли и объявил их мужем и женой. Анна едва могла сдержаться. Ей хотелось прокричать всему миру, что она теперь супруга Генриха и королева, но этот порыв пришлось подавить. Ждать публичного оглашения их брака осталось недолго, ведь пройдет несколько недель, и ее беременность станет заметной. Она удовлетворилась сделанным друзьям признанием, что теперь уверена в скором браке с королем не меньше, чем в собственной смерти. После того как Анна стала его супругой, Генрих вознамерился не допускать никаких возражений против свершившегося брака. Дабы предотвратить любые выражения несогласия, он отослал Екатерину в замок Эмптхилл, расположенный в сорока шести милях от Лондона, желая тем сломить ее упорство. Анна радостно боролась с тошнотой, которая преследовала ее с первых дней беременности. Единственным действенным средством было поедание яблок – у нее вдруг развилось к ним пристрастие. Однажды, выходя из своих покоев с группой придворных, Анна увидела шедшего ей навстречу по галерее Тома Уайетта. Он остановился и сухо поклонился, избегая ее взгляда. Она проучит его. Ишь как холодно стал держаться, это он-то, с таким пылом увивавшийся за ней в былые времена! – Том, у вас есть яблоки? – игриво спросила Анна. – Мне страшно хочется яблок, никогда еще со мной такого не случалось! Король говорит, это признак того, что я жду ребенка, но дело не в этом. – При взгляде на лицо Тома она прыснула со смеху. Тот развернулся и пошел прочь. Анна искала его весь день, намереваясь извиниться, но Уайетт так и не попался ей на глаза.
– Я думаю, после Пасхи мне нужно отправиться в паломничество к Богородице Уолсингемской, – сказала Генриху Анна. – А я думаю, вам нужно побольше отдыхать, а не болтаться по стране, – ответил он. – Поезжайте к Богородице и возносите Ей благодарения, когда разрешитесь от бремени. Она поймет. – Но я чувствую себя прекрасно, разве что тошнит по утрам, – возразила Анна. – Нет, дорогая, – строго сказал Генрих, – вы не будете подвергать нашего сына даже малейшему риску. Столь решительный отказ дал Анне понять, что теперь, став супругой Генриха, она обязана во всем его слушаться. Будучи возлюбленной, она могла управлять им, а он имел власть над ней только как король, правда пользовался этим редко, обычно разыгрывая роль преданного слуги. Теперь они женаты, и Генрих, кажется, считал, что может быть господином Анны так же, как был господином для Екатерины. Что ж, придется ему поразмыслить об этом! Паломничество – мелочь, она не станет упорствовать, но в будущем не позволит командовать собой ни одному мужчине, будь он король или супруг. Они вместе принимали гостей на роскошном банкете в приемном зале Анны в Уайтхолле, и все собравшиеся догадывались, что это свадебный пир: Генрих вел себя как жених, вился вокруг Анны и не мог удержаться от ласк. К концу вечера он был настолько пьян, что бóльшую часть его слов было не разобрать, однако тетка Анны, герцогиня Норфолк, одарила его суровым взглядом, когда он начал размахивать руками, указывая на роскошную обстановку, и спрашивать ее: – Разве леди маркиза не получила богатое приданое, и выгодный брак, и все, что мы видим? Вся столовая утварь тоже принадлежит леди. Вот так тайна! Анна сильно ткнула Генриха локтем, чтобы тот замолк.
Король тайком отправил Джорджа во Францию, чтобы известить Франциска о женитьбе на Анне. Только посланец отбыл, как в Англию доставили буллу ничего не подозревающего папы, которая утверждала Кранмера в чине архиепископа Кентерберийского. Сразу после этого в соборе Кентербери был совершен обряд посвящения в сан доброго доктора богословия. Генрих и Анна втайне опасались, что Климент отвергнет Кранмера, но, какие бы сведения о нем ни доходили до его святейшества, казалось, папа был склонен не доводить дело до бесповоротного разрыва Генриха с Римом. Джордж вернулся ко двору в начале апреля, после чего король созвал Тайный совет и оповестил его членов о том, что два месяца назад заключил брак с Анной и она носит наследника английского престола. – Видели бы вы их лица! – рассказывал он Анне, когда пришел к ней обедать после заседания. – Ошеломленная тишина, а потом запоздалый шквал поздравлений. Лорды посоветовали мне сообщить о произошедшем Екатерине. Послезавтра я отправлю в Эмптхилл Норфолка и Саффолка. – Я им не завидую, – сказала Анна. – Вы знаете, как она воспримет эту новость. – Мне все равно, как она ее воспримет! Я не допущу, чтобы эта леди и дальше создавала мне проблемы. Ей следует смириться с тем, что я женат, и отныне она должна воздерживаться от использования титула королевы и именовать себя, как вдова Артура, вдовствующей принцессой Уэльской. Ни Анна, ни Генрих не удивились, когда два герцога вернулись и сообщили, что Екатерина не подчинилась их требованию и заявила, что, пока жива, будет называть себя королевой. – Ей-богу, я заставлю ее замолчать! – гневно воскликнул Генрих. – А что она может сделать? – спросила Анна. – Она изолирована от своих сторонников, просто всеми покинутая, несчастная женщина, протестующая без толку. Никто ее не услышит. – Вся Европа ее слушает! – бушевал Генрих. – Этот проныра-посол наверняка заслал агентов к ее двору. И хотя император сейчас занят войной с турками, мы не можем предсказать, какая последует реакция, когда он узнает о нашем браке. Может начаться война. Дорогая, я не шучу. Анна притихла, она начала осознавать, к чему мог привести их с Генрихом брачный союз. – Это может произойти, – сказал Генрих, – а особенно если Екатерина пожалуется Карлу. И хуже всего то, что на ее сторону встанет масса моих невежественных подданных. – Если она верная жена, какой себя выставляет, тогда ее первый долг – перед вами; и она, конечно, не сделает ничего такого, что послужит вам во вред, – заверила его Анна. – Да, но что, если она посчитает своим первейшим долгом убедить меня в ошибочности моих сомнений. – Генрих, она делала это много лет. А у императора полно других забот. – Знаю, но он все равно может создать нам проблемы. Почему Екатерина не хочет просто принять вещи такими, каковы они есть? Я никогда не вернусь к ней. Будем надеяться, что решение Кранмера убедит ее в этом. На следующий же день Генрих распорядился, чтобы Кранмер принялся за изучение Великого дела и привел его к окончательному разрешению.
В канун Пасхального воскресенья Анна должна была предстать перед публикой в качестве королевы. В то субботнее утро, одетая в платье из алого бархата, увешанная бриллиантами и другими драгоценностями, она прошествовала через весь дворец Гринвич на мессу в сопровождении шестидесяти фрейлин и слуг в ливреях с вышитым на них новым девизом: «Самая счастливая». Во всех королевских дворцах каменщики, плотники, стекольщики и швеи занимались тем, что меняли инициалы Екатерины на начальные буквы имени Анны, а испанский гранат – на сокола в короне, которого новая королева выбрала своей эмблемой. Медленно двигаясь на мессу мимо изумленных придворных, которые толклись в залах и галереях, Анна умышленно держала руки поверх слегка округлившегося живота, намекая, что там, у нее внутри, спит будущий принц. Некоторые из свидетелей этого шествия выглядели шокированными, другие будто не знали, смеяться или плакать. Большинство кланялись, когда Анна проходила мимо, остальные лишь молча таращились. После мессы Генрих с Кромвелем ожидали возвращения Анны в ее личных покоях. После пережитого испытания она обрадовалась, увидев короля. – Вас хорошо принимали? – спросил он. – Думаю, кое-кто из ваших дворян не испытывает особого воодушевления оттого, что у них теперь новая королева, – ответила она. – Я слушал мессу с личной галереи, – сказал Кромвель. – Некоторые говорили, что его милость зашел слишком далеко и вдовствующая принцесса – истинная королева. – Он повернулся к Генриху. – Немногие посмеют оказать сопротивление этому браку. Разве что люди вроде епископа Фишера. – Посадите его под домашний арест, – приказал Генрих. – Я хочу, чтобы он не вмешивался, когда Кранмер вынесет решение. – Король наклонился и поцеловал Анну. – Не беспокойтесь, дорогая. Я распоряжусь, чтобы мои лорды и джентльмены пришли и оказали вам почести, а кроме того, сообщу им о своем намерении со всей торжественностью короновать вас после Пасхи. Это был момент высочайшего триумфа, Анна так долго его ждала. – Вы не могли сообщить мне лучшей новости, – с улыбкой произнесла она, и душа ее воспарила. – Мы устроим такие празднества для народа, каких не было с момента моей коронации, – сияя, пообещал король. – Мои подданные смягчатся, а сам я таким образом заявлю всему миру, насколько ценю вас. Вы будете коронованы как правящая королева, Анна, а не просто как консорт. Все глаза будут устремлены на вас одну, я не стану отвлекать внимание на себя. Я приеду в Вестминстерское аббатство и буду наблюдать за церемонией из-за решетки. – Удостаивалась ли когда-нибудь женщина подобной чести? – улыбнулся Кромвель. Анна со слезами на глазах обняла Генриха: – Доброта вашей милости ко мне беспредельна. Я вам чрезвычайно признательна. Благодарю вас, благодарю! – Сколько бы почестей я ни оказал матери моего сына, все будет мало, – заявил Генрих.
Трон королевы уступал размерами трону короля. Они стояли рядом, под узорчатыми балдахинами с королевскими гербами Англии. Вновь одетая в церемониальное платье, на этот раз предназначенное для первого появления во главе двора в качестве королевы, Анна уселась сбоку от Генриха и расправила тяжелые юбки. Приемный зал был заполнен придворными и просителями, изгибавшими шеи, чтобы увидеть, как она держится. Анна с неудовольствием увидела, что первым человеком, который вышел вперед и поклонился, был Шапуи. – Я обещал дать ему аудиенцию, – пробормотал Генрих. – И не могу отказать, не нанеся обиды. Шапуи ни разу не взглянул в сторону Анны. Когда Генрих кивком пригласил его подойти ближе, посол, понизив голос, сказал: – Сир, я не могу поверить, чтобы государь столь мудрый и добродетельный, как ваше величество, согласился удалить от себя королеву. Раз ваше величество не считается с мнением людей, вам следовало бы уважать Господа. Лицо Генриха от злости залилось краской. – Господь и моя совесть находятся в добром согласии, – возразил он. – Вы уязвляете меня! – Тогда я прошу у вашего величества прощения, – извинился Шапуи. Генрих гневно взирал на него: – Если весь свет почитает этот развод таким сверхъестественным, тогда он должен находить странным и то, что папа дал мне разрешение на брак, не имея власти этого делать. Более того, мессир, я хочу иметь наследника, которому передам свое королевство. – У вашего величества есть дочь, одаренная всеми возможными достоинствами и добродетелями. К тому же она пребывает в том возрасте, когда возможно деторождение, – напомнил ему Шапуи. – Природа обязывает ваше величество оставить трон принцессе Марии. – Я желаю иметь сыновей! – прорычал Генрих, теперь уже не на шутку рассердившись. – Ваше величество уверены в том, что они будут? – дерзко спросил Шапуи. Анна затаила дыхание. – Разве я не такой же мужчина, как другие?! – рявкнул взбешенный Генрих. – Вы не посвящены во все мои секреты! Шапуи отвесил поклон, но не отступился: – Я должен предупредить ваше величество, что император никогда не признает леди Анну королевой. Расторжение брака, которое вы обеспечили себе в Англии, не может иметь законной силы. – Это не был брак! – огрызнулся Генрих. – Но ваше величество не раз подтверждали, что королева была девственницей, когда вы поженились. – Ха! Мужчина, когда шутит на пиру, чего не сболтнет. – Он угрожающе наклонился вперед. – Все ваши возражения бесполезны. Леди Анна, как вы называете ее, моя королева. Император не имеет права вмешиваться. Я могу устанавливать в своем королевстве любые законы, какие захочу. А теперь, мессир Шапуи, аудиенция окончена. Когда Шапуи откланялся, Генрих шепнул Анне: – Не слушайте его, дорогая. Он вечно грозит и горячится, я все это слышал уже много раз.
После того как все служащие и прочие члены двора Анны принесли клятву верности, она пригласила их на первое заседание совета. Сидя на троне во главе стола и оглядывая собравшихся, она отметила, что Генрих постарался на славу и ей было чем гордиться. Двор, который он составил для нее, мог сделать честь самой великой королеве. Здесь собрались все близкие Болейнам люди, жаждавшие служить Анне, а главные должности заняли ее единомышленники. Свиту придворных дам возглавляла племянница короля леди Маргарет Дуглас. Раньше она служила почетной придворной дамой у принцессы Марии, но, кажется, с удовольствием заняла тот же пост при Анне. Маргарет, наполовину шотландка, дочь старшей сестры Генриха Маргариты, была отменной красавицей и поэтессой. Обрадовало Анну и присутствие в свите Элизабет Браун, графини Уорчестер, которая хранила верность Анне, хотя ее сводный брат, сэр Уильям Фицуильям, казначей королевского двора, выказывал враждебность по отношению к новой госпоже своей сестры. Из Каменного замка, чтобы составить ближний круг Анны, приехала и ее давняя приятельница с хиверской поры леди Уингфилд. Анне не слишком приятно было видеть среди своих дам властную тетушку Элизабет, но так как дядя Анны, сэр Джеймс Болейн, явился из Норфолка, чтобы стать ее канцлером, она не могла отказать от места в свите его супруге. И разумеется, здесь же находилась вечно недовольная Джейн Рочфорд, назначения которой было не избежать. Мария могла бы нейтрализовать антипатию Джейн, потому что тоже не любила невестку, но Анна чувствовала себя неуютно, имея при дворе сестру. Теперь она поняла, что родители были правы: Мария останется вечным напоминанием о том, что могут найтись люди, которые посчитают брак Генриха с Анной таким же кровосмесительным, как его союз с Екатериной. Анна чувствовала себя обязанной пригласить сестру, она знала, что просто не может поступить иначе, но предпочла бы убрать ее с глаз долой. Дай Бог, чтобы никто не узнал о связи Марии с королем. В числе фрейлин находились также деятельные и хорошо выученные кузины Анны леди Мэри Говард и Мадж Шелтон, милая Нэн Сэвилл, застенчивая Нэн Гейнсфорд и бойкая Френсис Деверё, дочь графа Оксфорда. Пестуньей девушек была почтенная миссис Стонор, из Хивера на помощь своей бывшей воспитаннице прибыла и миссис Орчард. Анна понимала, что теперь, когда она стала королевой, очень важно опровергнуть наветы клеветников и исправить свою незаслуженно дурную репутацию. Люди должны увидеть ее покровительницей религии и учености, живым воплощением добродетели. Имея это в виду, она звонким голосом обратилась к своим придворным: – Милорды, леди и джентльмены, пока вы служите мне, я ожидаю от вас добропорядочного поведения. Джентльмены, вы должны воздержаться от посещения борделей под страхом немедленного удаления от двора. Вам следует подавать другим пример благочестия ежедневным посещением мессы и демонстрацией безупречных манер. Леди, вы тоже должны быть беспорочны. Я желаю, чтобы у вас на поясе всегда висело вот это. – Она кивнула камергеру, который раздал всем женщинам, находившимся в зале, изящные маленькие сборники молитв и псалмов. Отныне и впредь, распорядилась Анна, она сама и ее дамы будут ежедневно проводить по несколько часов, занимаясь шитьем одежды для бедняков. Раздалось несколько недовольных вздохов, на некоторых лицах промелькнуло удрученное выражение, однако прошла всего неделя, и старая вышивальщица, служившая до Анны двум королевам, повернулась к новой госпоже и сказала: – Мадам, я еще не видела, чтобы среди придворных леди и джентльменов был заведен лучший порядок! Это бесконечно порадовало Анну. Она надеялась, что ее враги тоже заметят нововведения.
Жизнь королевы Анны состояла не только из шитья и благотворительности, хотя эти занятия отнимали бóльшую часть времени. Много лет она ковала дружбу с остроумными, обходительными и образованными придворными, на которых можно было положиться в том, чтобы никогда не приходилось скучать, и теперь они сформировали ядро ее ближнего круга. Джордж, Норрис, Уэстон, Бреретон, Брайан и другие джентльмены из личных покоев короля стекались в апартаменты королевы, чтобы насладиться увлекательными разговорами и флиртом с ее дамами и девушками. Ничто не доставляло Анне большего удовольствия, чем затевать содержательные беседы и обмен остротами; в ее покоях формальности отставляли в сторону – она на этом настаивала. Иногда, когда Генрих освобождался от своих обязанностей, он присоединялся к этому кружку. Король приносил лютню и играл для всей компании, или танцевал с дамами, или искренне интересовался сборником любовных стихотворений, который составляли Маргарет Дуглас, Мэри Говард и Мадж Шелтон. Когда король отсутствовал, атмосфера была более непринужденной. Образовывались парочки: Нэн Гейнсфорд и Джордж Зуш; Френсис Деверё и кузен Анны, Генри Говард, граф Суррей, наследник Норфолка; Маргарет Дуглас и другой кузен, младший брат Норфолка, Томас Говард. Анна надеялась, что Генрих даст согласие на их браки. Это усилило бы связь ее родни с королевским двором. Она не сомневалась, что ей удастся убедить короля согласиться на союз Суррея с Френсис. Иногда Суррей приводил своего большого друга, незаконнорожденного сына Генриха, герцога Ричмонда, высокого, долговязого юношу, похожего на отца, но лишенного отцовского шарма вследствие гордыни, взбалмошности и обиды на свой статус бастарда. Герцог Ричмонд проявлял интерес к Мэри Говард. Анна подумала, что об этой паре тоже можно поговорить с Генрихом. Выдать замуж кузину за сына короля – это был бы последний штрих, все равно что украсить пером шляпку. Мадж Шелтон старалась привлечь внимание Норриса, впрочем без всякого успеха. Анна подозревала, что тот приходит на эти сборища ради нее одной. Между ними сохранялось то же не признанное ни им, ни ею взаимное влечение, но ситуация изменилась. Теперь Анна могла предаться невинному флирту с ним и другими окружавшими ее мужчинами, не забывая, однако, о том, что она жена Цезаря и должна быть безупречной. Нарастающие признаки беременности, похоже, совсем лишили ее сексуальности. Генрих продолжал каждую ночь разделять с ней ложе, но выказывал героическую сдержанность. Он ласкал ее, целовал, просил доставлять ему удовольствие с помощью рук, но не проникал в нее, боясь навредить ребенку. Первым человеком при дворе Анны стал, разумеется, Джордж, ему она доверяла больше всех. Генрих осыпал его милостями: Джордж теперь был констеблем Дувра, смотрителем королевской своры охотничьих собак, и его часто отправляли за границу с дипломатическими поручениями. Придет время, Анна в этом не сомневалась, и Генрих дарует ему пэрство в собственном праве. Она начала испытывать симпатию к Уильяму Бреретону после того, как тот однажды принес ей щенка грейхаунда. – Моя сука ощенилась, и этот самый лучший. Его зовут Уриан, – сказал он Анне, когда та взяла щенка на руки, издавая радостные возгласы. – Маленький дьявол, – шутливым тоном произнесла она, потому что в Бургундии Урианом называли сатану. – Ваша милость, его назвали в честь моего брата, который служит в личных покоях его милости. Поверьте, он настоящий маленький дьявол! Вскоре Анна и Уриан стали неразлучны. Пес всегда пристраивался у ее ног или следовал за ней по пятам. Анна зналаБреретона и с другой стороны. Он был намного старше всех, кто часто появлялся в ее покоях, человек с положением, представитель герцога Ричмонда на должности управляющего Валлийской маркой – территорией на границе Англии и Уэльса, где обладал большой властью. Анна слышала, как Кромвель, который не любил Бреретона, говорил о нем как о человеке, который слишком много на себя берет, но она намеревалась проследить, чтобы Бреретон оставался среди любимцев короля. Она зависела от таких верных сторонников, как он.
О браке Анны теперь было объявлено по всей Англии, но не везде эту новость приняли хорошо. Любовь к Екатерине и принцессе Марии продолжала вздыматься валами, громко звучали и сетования на то, что возвышение Анны до статуса королевы может означать войну с императором и крах прибыльной торговли, которую Англия успешно вела с империей. Тайному совету приходилось разбираться со шквалом публичных протестов против нового брака короля. Генрих не посвящал Анну в детали, но при дворе они были общеизвестны, и находились люди вроде подруги Екатерины, наполовину испанки леди Эксетер, которые, судя по всему, с большим удовольствием передавали их фрейлинам королевы. – Что говорят обо мне? – требовательно спросила Анна Джорджа, когда они сели обедать в ее покоях. Их беседу прервал королевский подавальщик: как обычно пунктуальный, он явился пожелать королеве от имени мужа приятного аппетита. Анна любезно улыбнулась ему: – Я благодарю его милость. – Когда посланец Генриха удалился, она повернулась к брату. – Только не вздумай отделаться, сказав, что идут мятежные разговоры! Мне нужна суть. – Ты и правда хочешь знать? – спросил Джордж с тревогой в темных глазах. – Король убьет меня, если я расскажу. – А я убью тебя, если не расскажешь! – возразила Анна. – Предупрежден – значит вооружен. Джордж сдался: – Некоторые глупцы сильно взбудоражены твоим замужеством. Один священник предстал перед судом за то, что назвал тебя позором христианского мира и еще кое-чем похуже. Другой хвалил тебя своей пастве и был обруган женщинами. А когда за тебя впервые молились в лондонских церквях как за королеву, прихожане покинули службу. Король лично сделал выговор лорд-мэру. Хочешь услышать больше? – (Анна внимала брату с растущим смятением, но согласно кивнула.) – Настоятель собора в Бристоле был отстранен от должности за то, что запретил священникам молиться за тебя. Одна женщина, кричавшая «Боже, спаси королеву Екатерину!» и назвавшая тебя – прости – пучеглазой шлюхой, отправлена в тюрьму, так же как миссис Амадас. Анна немного знала Элизабет Амадас, поскольку ее супруг был хранителем королевской сокровищницы. – Что она говорила? – спросила она, чувствуя легкое головокружение. – Я едва смею повторить ее слова. Она предсказала, что тебя сожгут как падшую женщину. Обвинила Норриса в том, что он был сводником между тобой и его милостью. И – мне трудно говорить это – утверждала, будто мать и Мария были любовницами короля, а отец сводничал и для них, и для тебя. Анна пришла в ужас. Обвинения против матери были чудовищны, но смехотворны. Гораздо хуже, что каким-то образом любовная связь Генриха с Марией стала известна публике. – Откуда миссис Амадас узнала про Марию? – Понятия не имею. – Джордж пожал плечами. – Чего я не могу простить, так это клеветы на нашу добродетельную мать. Конечно, в юности у нее была особая репутация. – Что ты имеешь в виду? – У нее были любовники. Отец говорил мне. Из-за этого отношения у них не сложились. – Но обвинять ее в том, что она спала с королем! Не намекают ли они, что я плод их запретной любви? Как такое возможно? Ему было десять лет, когда я родилась! Это грязный навет! А вот с Марией он был близок, и, если при дворе идут подобные разговоры, скоро об этом узнает весь свет. Джордж, дело серьезное. Это может все испортить, ведь никто не знает, что мы получили разрешение. – От папы, власть которого здесь больше не признается. Оно стоит не больше, чем разрешение, данное Екатерине. – Я должна поговорить с королем! – воскликнула Анна. – Не бойся, я скажу, что заставила тебя рассказать мне все это. Анна метнулась из своих покоев в спальню, откуда дверь вела в комнаты Генриха. К счастью, он был у себя, читал. – Дорогая? Что случилось? – спросил король, вскакивая на ноги. Она разрыдалась и повторила слова Джорджа. – И теперь люди узнают, что есть препятствие к нашему браку! – воскликнула она. – Я уже подумал об этом, – сказал король, прижимая ее к себе так нежно, будто она была стеклянным сосудом, который может разбиться. – Я проконсультировался с Кранмером, он говорит, что получение разрешения от папы может в корне подорвать мои претензии к Екатерине и я буду выглядеть лицемером. Я заметил ему: чрезвычайно важно, чтобы легитимность нашего брака не оспаривалась, и он порекомендовал провести это дело через парламент. А что касается протестов, они утихнут. Мои подданные признают вас королевой. Теперь успокойтесь, дорогая, и отдохните. Вы должны подумать о нашем сыне. Издание нового акта, который дозволял брак с сестрой бывшей любовницы, состоялось не так скоро. Однако и это не положило конец распространению слухов о Марии. Общественное неодобрение замужества Анны усиливалось. А после того как парламент постановил, чтобы Екатерину больше не называли королевой, но именовали вдовствующей принцессой, протесты зазвучали еще громче.
Генрих назначил коронацию Анны на Троицу, первый день июня. Он сам написал в лондонский Сити и распорядился, чтобы мэр и его люди подготовили по этому случаю живые картины, а также созвал дворян и духовенство для участия в торжествах. Анна ходила с улыбкой на лице. Тошнота ослабла, ребенок шевелился у нее под набрюшником, и она чувствовала себя как никогда хорошо. Счастливая, она выбирала материалы для платьев и мантий, которые понадобятся для участия в живой картине во время переезда из Гринвича в Тауэр, церемониального въезда в Лондон и самой коронации. Анна не могла дождаться этого момента. Венчание на царство осенит ее королевской святостью и отделит от обычных смертных, что, возможно, утихомирит ее врагов. Тем временем Кранмер созывал толкователей Божественного закона и каноников на специальный церковный суд в монастырь Данстейбл в четырех милях от Эмптхилла. Екатерине было велено предстать перед ним. Генрих не сомневался, что Шапуи изо всех сил старается подтолкнуть императора к войне и внушает Екатерине, что это наилучший способ вернуть мужа. – Стоит Кранмеру вынести вердикт, и у Карла появится повод, в котором тот нуждается, – с беспокойством говорил он. – Он никогда не признает меня королевой! – кипела Анна. – Признает! – задиристо восклицал Генрих. – Под замок мне Шапуи не посадить, но я могу надеть на него намордник! Имперского посла вызвали на заседание Тайного совета и предупредили, чтобы он больше не совался в дела Екатерины. Анна сомневалась, что это возымеет действие, хотя на некоторое время Шапуи, вероятно, притихнет. Однако Генрих был не властен заглушить взрыв возмущения, возникший в Европе, когда распространилась новость о его вторичной женитьбе. По всему христианскому миру раздавались голоса в защиту Екатерины, истинной королевы Англии. Анну же называли разнузданной выскочкой. Однажды за обедом с Анной и Генрихом Кромвель негодующе сказал: – Всюду насмешки. Один из моих корреспондентов в Антверпене сообщил, что – не стоило бы говорить об этом в присутствии ваших милостей – изображение ее милости было постыдным образом пришпилено к вашему, сир. В Нидерландах и Испании с большим удовольствием отпускают шутки по поводу вашей милости и королевы. В Левене распущенные и озлобленные студенты нацарапали непристойные стишки на дверях и углах домов. Я не стану посвящать вас в содержание этих виршей. Генрих бросил на стол салфетку: – Проинструктируйте моих послов за границей, как противостоять этому злоречию. Скажите им, пусть настаивают на том, что Анна – законная королева, и отказываются говорить с теми, кто отдает этот титул Екатерине. – Вы полагаете, это заглушит протесты? – спросила Анна. – Может быть, и нет, но вердикт Кранмера уж точно это сделает. Но сколько его ждать? Уже наступил май, и всем было видно, что Анна ждет ребенка. – Скоро я буду похожа на слона, – ворчливо говорила она отцу. – Придется вставлять клинья в юбки. Все платья малы. – Перестаньте жаловаться и благодарите Господа, что находитесь в таком положении, – недовольно оборвал ее сэр Томас. Анна вспылила: – В прошлом году вы и не мечтали, что я окажусь в таком положении! Вы сомневались, стоит ли все это подобных страданий. – Говорил, потому что устал и волновался за вас, – попытался успокоить ее отец. – Благодарение Господу, вы не послушались меня, и я рад, что вы так хорошо выглядите. – Мне было бы еще лучше, если бы суд объявил мой брак законным, – заметила Анна. – Вам известно, что Екатерина отказывается выполнить приказание Кранмера и говорит, что для нее нет другого судьи, кроме папы? Слава Богу, Кранмер объявил ее нарушительницей судебных правил и будет вести дело сам! – Аминь, – сказала Анна. Двадцать третьего мая Кранмер провозгласил союз Генриха и Екатерины недействительным и противоречащим Божественному закону. – Наконец свободен! – вскричал Генрих, подбросил в воздух свой берет и расцеловал Анну. – Слава Богу! Слава Богу! – Он немедленно приказал распространить брошюру, которую написал самолично, чтобы проинформировать своих верных подданных об истинном положении вещей в вопросе о его брачных союзах. – Я прослежу, чтобы Екатерина получила экземпляр, – злобно добавил он. Депутация членов Тайного совета была отправлена к принцессе Марии, дабы оповестить ее о решении Кранмера. – И? – потребовала отчета Анна, когда Генрих пришел к ней в тот вечер. Она видела из окна, как возвращались лорды. – Она отказалась повиноваться, – с удрученным видом сообщил король. – Сказала, что не признает королевой никого, кроме своей матери, после чего по моему приказанию ей запретили общаться с Екатериной любыми способами, пока она не одумается. Анна кипела от ярости. – Какая почтительная, сознающая свой долг дочь! Вы вскормили настоящую змею. – Будем надеяться, отлучение от матери приведет ее в чувство, – пробормотал Генрих, мрачно поджав губы.
Через пять дней после признания брака Екатерины недействительным Кранмер объявил союз короля с леди Анной состоятельным и законным. – Это заняло шесть лет! – воскликнул Генрих. – Долгих шесть лет! Но, дорогая, наконец мы обрели то, чего больше всего желали. Теперь вы моя по закону, и наш сын родится в браке, который никто не подвергнет сомнению. Анна радостно дала ему заключить себя в объятия. Решение пришлось очень кстати, ведь завтра она должна отправиться в Лондон на коронацию. Час, о котором она мечтала, уже почти настал. Приготовления к церемонии поручили дяде Норфолку как граф-маршалу Англии. Отношения с племянницей у него были натянутые – они почти не разговаривали с тех пор, как Анна услышала дядины похвалы смелости Екатерины, высказанные Шапуи. Какая обидная неблагодарность! Ведь Анна только что уговорила Генриха дать согласие на браки дочери Норфолка Мэри Говард с графом Ричмондом и его сына – с Френсис Деверё, к тому же в первом случае заставила короля отказаться от приданого. Однако, несмотря на враждебность и постоянное брюзжание, дядюшка спланировал все безупречно. Лорд-мэр Лондона, олдермены и шерифы должны были явиться в Гринвич, чтобы на барке сопровождать Анну в Тауэр, где она проведет ночь перед церемониальным въездом в Лондон. – Вы прекрасно выглядите, – сказал Генрих, когда Анна вышла к нему в наряде из золотой парчи; однако, пока они дожидались прибытия отцов города, король беспокоился насчет Томаса Мора. – Я послал ему приглашение на коронацию и деньги на новое платье, – в раздумье проговорил он. – Надеюсь, он приедет. Сегодня утром я отправил в Челси трех епископов, чтобы убедить его. Если он явится и тем признает наш брак, протесты оппозиции поутихнут. Ради Генриха Анна молилась, чтобы Мор согласился. Но, увидев мрачные лица вернувшихся епископов, поняла: их миссия не увенчалась успехом. – Что сказал сэр Томас? – нетерпеливо спросил Генрих. – Он не приедет, сир. Он сказал: есть такие, кто жаждет лишить нас девственности, а сделав это, не преминут пожрать нас. Но он постарается сделать так, чтобы его не лишили девственности. Генрих вскинул голову: – Так вот чем он отплатил мне за дружбу! Что ж, пусть так, но этот неблагодарный слуга не испортит ваш день, дорогая! Было три часа. Явился лорд-мэр. Времени на разговоры не осталось. Генрих поцеловал Анну на прощание. Сам он прибудет в Тауэр на крытой барке. Анна взошла на борт отнятого у Екатерины судна в сопровождении Марии и других дам, а также отца и группы привилегированных дворян. На водах Темзы тихо покачивались украшенные вымпелами кораблики лондонских гильдий, со многих судов доносилась музыка – ее исполняли ватаги менестрелей. Вдоль берегов собрались огромные толпы народа, что обрадовало Анну. Барка начала торжественное движение по реке, расшитые золотом геральдические вымпелы развевались на ветру. На лодке, плывшей слева, разыгрывалась живая картина с дикарями и ужасными чудовищами, изрыгавшими огонь, отчего девушки из свиты Анны вскрикивали. Однако слышалось очень мало приветственных кличей: толпа была как-то странно молчалива; некое оживление наступило лишь в тот момент, когда чудища кончили плеваться огнем и их сбросили в воду. Тут как раз вдали показался Тауэр, и Анна испытала облегчение. Она сошла на берег у Королевской лестницы, где ее встретил лорд-камергер и проводил к королю, ожидавшему за боковыми воротами в башне Байворд. – Дорогая! – воскликнул он и любовно поцеловал Анну. Трубы и гобои воспевали ее прибытие, а пушки оглушительно стреляли с пристани Тауэра. Анна поблагодарила мэра и горожан за их старания при организации такой восхитительной живой картины, после чего Генрих отвел ее в королевские апартаменты. – Я приказал Кромвелю обновить их для вас. На переделки и ремонт ушло больше тысячи фунтов, чтобы вы разместились с подобающей роскошью. Комнаты королевы были убраны в античном стиле. Анна с изумлением оглядывала позолоченные лепные фризы с изображением резвящихся херувимов, новые дорогие гобелены, на которых запечатлели картины из жизни королевы Эстер. Изготовить их распорядился Генрих в знак признания свойственного Анне стремления к реформам. – Ваш главный зал, – сказал он, – а вон там находится кабинет, который будет служить молельней. – Король провел Анну в столовую, украшенную огромным камином и отделанную красивыми деревянными панелями. За ней располагалась опочивальня с королевской постелью, завешенной красным бархатом, и встроенная в стену уборная. – Это были комнаты моей дорогой матери, – оглядываясь вокруг, задумчиво произнес Генрих. – Она умерла здесь. Конечно, теперь все выглядит совсем по-другому. Я надеюсь, вам нравится. Анна взяла его за руку: – Это великолепно! Поблагодарю мастера Кромвеля за отличную работу. Следующий день они провели в Тауэре, а вечером Генрих совершил обряд посвящения восемнадцати рыцарей Бата, объяснив Анне, что этот древний ритуал исполняется только при коронации правящих монархов, но специально для нее было сделано исключение. В числе прочих король удостоил этой чести Фрэнсиса Уэстона. Утром Анна поднялась рано, чтобы подготовиться к церемониальному въезду в Лондон. Для этого события она выбрала традиционный сюрко и подходящую к нему мантию из переливающегося белого шелка с горностаевой опушкой. На голову надела чепец, а поверх него – золотой обруч, усыпанный драгоценными камнями. Волосы оставила распущенными в знак девственности, обязательной для королевы, правда в случае с Анной девственность была символической – белое платье не скрывало округлости живота. Дамы помогли Анне забраться в обтянутые парчой носилки, которые везли две лошади, покрытые попонами из белого дамаста. Шестнадцать рыцарей Пяти портов заняли места вокруг носилок. Они держали на позолоченных шестах полог из золотой парчи, к которому были прикреплены серебряные колокольчики, позвякивавшие над головой Анны. Огромная процессия из лордов, священников, офицеров и придворных уже покидала Тауэр, направляясь к лондонскому Сити. Когда носилки Анны были подняты на Тауэрский холм, следом потянулась огромная свита из фрейлин в экипажах и верхом. Люди толпились на улицах, но по большей части просто стояли и наблюдали, некоторые с явно враждебным видом. Лондонский Сити не пожалел затрат на почетный прием Анны. Она проезжала по вновь засыпанным гравием улицам, под триумфальными арками, мимо зданий, увешанных алыми и малиновыми полотнищами. Из каждого окна высовывались дамы, которым не терпелось хоть краешком глаза посмотреть на Анну. Играла музыка, дети произносили речи, вино текло из фонтанов и городских водных источников, и все это создавало настроение праздника. Хоры распевали в ее честь:
Глава 22. 1533 год
Анна стояла у огромных западных ворот Вестминстерского аббатства, дамы суетились вокруг, проверяя, хорошо ли надеты отороченный горностаем сюрко и мантия из пурпурного бархата поверх алого бархатного киртла. Мария прикрепила к драгоценному головному обручу плат, украшенный жемчугом и самоцветами, а Мадж Шелтон в последний раз провела гребнем по длинным волосам Анны. Она была готова. Архиепископ Кранмер и помогавшие ему епископы и аббаты в богатых одеяниях и митрах двинулись вперед, чтобы приветствовать Анну и сопроводить ее к алтарю по проходу, застланному узорчатым ковром. Она шла под сверкающим пологом из золотой парчи, впереди шествовал Саффолк с сияющей короной Святого Эдуарда Исповедника в руках, а вдовствующая герцогиня Норфолк несла шлейф, который был столь длинен, что камергеру Анны приходилось поддерживать его посередине. Сзади следовали одетые в алое фрейлины, за ними тянулась огромная свита из лордов и леди, йоменов королевской стражи, монахов Вестминстера и детей из Королевской капеллы. Между алтарем и хорами была воздвигнута платформа, в центре которой установили дорогое кресло – в него и села Анна. В церкви собрались знатнейшие люди королевства. Анна заметила в толпе своих родителей, смотревших на дочь с нескрываемой гордостью, и Джорджа – он подбадривал сестру улыбкой. Поднявшись, чтобы идти к алтарю, Анна огляделась в поисках Генриха и уловила некое движение за решеткой, которая отгораживала стоявшую сбоку от святилища скамью. Хвала Господу, король находился рядом! С некоторым трудом – все-таки она уже была на шестом месяце беременности – Анна пала ниц на мозаичный пол перед алтарем и не шевелилась, пока произносились краткие молитвы, потом ей помогли подняться и усадили обратно в кресло. Кранмер вышел вперед и помазал ей голову и грудь миром. Потом взял корону Святого Эдуарда, которую с незапамятных времен возлагали на голову каждому правителю Англии, и надел на Анну. Корона была тяжелая, но Анну эта ноша только радовала. Вот и все, свершилось! Она стала королевой Англии. Получив в руки золотой скипетр и жезл из слоновой кости с голубем на верхушке, Анна вспомнила слова Кристины Пизанской. Они очень подходили к этому моменту. Как жена могущественного человека, она постарается быть просвещенной и мудрой правительницей. Знание было силой, она научится проникать в суть всего, и ее влияние сделается заметным. А еще нужно обладать храбростью мужчины. «И у меня есть эта храбрость», – сказала себе Анна, и сердце ее наполнилось восторгом. Хор запел «Te Deum», после чего снова вперед вышел Кранмер и снял с головы Анны корону, заменив ее другой, отлитой специально для нее: красивым золотым обручем, усыпанным сапфирами, розово-красными рубинами и жемчугом, с золотыми крестами и геральдическими лилиями по краю. В ней Анна и сидела, пока служили мессу. Она вошла в число великих королев и женщин-правительниц и поклялась себе, что своим правлением почтит память Маргариты Австрийской и Изабеллы Кастильской, будет вдохновляться их примерами и добьется такого же всеобщего уважения, как они. Фанфары протрубили конец церемонии, отец и лорд Тальбот подошли к Анне и, поддерживая с обеих сторон, медленно повели к выходу из аббатства. – Теперь благородная Анна носит священную корону! – пели дети из Королевской капеллы. В Вестминстер-Холле фрейлины поднесли Анне розовой воды, чтобы освежиться, расправили юбки и поудобнее пристроили на голове корону. Готовая к коронационному пиру, Анна восседала одна за установленным на помосте роскошным столом, за спиной у нее стояли графини Оксфорд и Уорчестер. Одна держала салфетку, другая – чашу для омовения рук. Анна была так напряжена от переполнявшего ее возбуждения, что не могла есть. На самом деле ее тошнило, и графиням пришлось заслонять свою госпожу от посторонних глаз, когда ее рвало на подставленный кусок чистой ткани. Архиепископ Кранмер, сидевший на краю главного стола по правую руку от королевы, озабоченно смотрел на Анну. – С вашей милостью все в порядке? – осведомился он. – Лучше никогда не бывало! – заверила она. – Просто я пережила слишком много эмоций и переела жирной пищи. В моем положении это не лучшая комбинация. О нет, опять еда! – Она поморщилась. Затрубили трубы, и новоиспеченные рыцари Бата внесли в зал очередную смену блюд. – Не выпьет ли ваша милость немного вина? – Это говорил Том Уайетт, исполнявший роль главного виночерпия. Вид у него тоже был озабоченный, и что-то в выражении его лица было от того старого Тома, который когда-то так нравился Анне. – Благодарю вас, Том, но нет ли тут ячменного отвара? – Я принесу, – ответил виночерпий и торопливо удалился. Через два часа Анна все еще сидела за столом и пила ячменную воду. Разместившиеся внизу за длинными столами гости продолжали угощаться, стоял оглушительный гул голосов, раздавались взрывы хохота. Из восьмидесяти предложенных блюд Анна отведала только три, и хотя сахарная фигура в виде сокола – ее эмблемы – вызвала восхищение, даже и от этого лакомства она отмахнулась. За первым столом справа от себя Анна видела Марию, та отклонилась назад и разговаривала со стоявшим у нее за спиной мужчиной. Лицо кавалера Марии показалось знакомым. Ну конечно, это же Уильям Стаффорд, с которым сестра флиртовала в Кале. Судя по всему, они хорошо проводили время – до Анны доносился смех Марии. В противоположность этой паре Джордж и Джейн игнорировали друг друга, общаясь с соседями по столу. Прием закончился поздно, гостям приказали подняться и стоять, пока Анна мыла руки и спускалась с помоста. Здесь ей подали вино и конфеты. Она съела пару штук, после чего подозвала к себе лорд-мэра, отдала ему золотой кубок и еще раз поблагодарила его и горожан за предпринятые ради нее старания. Бароны Пяти портов ждали с пологом в руках, готовые проводить Анну до дверей ее покоев, и она наконец покинула зал, уставшая, но переполненная радостными эмоциями. Это был самый замечательный день в ее жизни.Торжества продолжались еще несколько дней. В честь новой королевы были устроены танцы, турниры, охоты и спортивные состязания. Генрих сиял от удовольствия, а его придворные старались перещеголять один другого в оказании почестей Анне. Хотя, как она подозревала, не оттого, что им так хотелось, а оттого, что король следил за ними ястребиным взглядом. И тем не менее все равно было приятно, что к ней проявляли столько внимания. Генрих решил, что его наследник должен появиться на свет в Гринвиче – там, где родился он сам, – и подарил Анне для родов невероятно дорогую и роскошную кровать. Нечасто ей приходилось видеть подобные. Кровать была французская, с узорчатой резьбой и позолотой. Много лет назад она стала частью выкупа за одного герцога королевских кровей и с тех пор стояла без дела в королевской гардеробной. «Это самое великолепное ложе, каким когда-либо владела королева», – думала Анна, блаженствуя на широченной постели. Новость о смерти одной из ее главных критиков – Марии Тюдор – не тронула новоявленную королеву, но Генрих был опечален утратой сестры и полон сожалений, что она умерла, так и не помирившись с ним. Лето продолжалось, Анна тяжелела от своей бесценной ноши. Бóльшую часть времени она отдыхала в личных покоях или наслаждалась обществом избранных придворных в зале для приемов. Гости старались развлечь ее музыкой, стихами, игрой в карты или кости и отчаянно флиртовали с ее дамами. – Мне жаль Тома Уайетта и его товарищей по посольству: им приходится быть за морем в столь веселое время, – заметил Норрис, садясь рядом с Анной и наблюдая за любовными играми парочек. – Они, наверное, думали, что нравятся этим леди и те страдают в разлуке со своими верными слугами. Да уж, посмотрели бы они на этих ветрениц сейчас, – со смехом проговорила Анна. Норрис повернулся к ней и одарил милой улыбкой, которую она так любила: – А как ваша милость? Надеюсь, с вами все хорошо. – Скорей бы уже разродиться. Я становлюсь такой неуклюжей! Скоро придет пора затворяться в своих покоях. – Если я могу что-нибудь сделать для вашей милости, распоряжайтесь мной без стеснения. – Вы очень добры. А как вы сами, Норрис? Он пожал плечами: – Довольно хорошо. Работа в личных покоях короля не дает скучать. – Вам нужно снова жениться, – задорным тоном произнесла Анна. – Увы, мадам, мое сердце отдано одной необыкновенной женщине, имени которой я назвать не смею, так как она замужем. Норрис многозначительно взглянул на нее полными обожания глазами, и сердце Анны дрогнуло. Ее жизнь была бы совсем другой, отдай она себя этому верному, благородному и милому джентльмену. И наверное, полюбила бы его так, как никогда не любила Генриха. Но она не сожалела, что выбрала корону. Достаточно было заручиться дружбой Норриса и греться в теплых лучах его доброты. – Вы мудры, сэр, – сказал Анна, – ведь, будучи замужней дамой, она должна беречь свою репутацию, невзирая на то, любит вас или нет. А мужья иногда бывают очень ревнивы.
Депутация лордов Тайного совета известила Екатерину о решениях Канмера. – Она отказалась их признать, – рычал Генрих, расхаживая взад-вперед рядом с кроватью, на которой отдыхала Анна. – Я велел сказать ей, что не могу иметь двух жен и не позволю ей называть себя королевой. Екатерине дали ясно понять, что мой брак с вами свершился, одобрен парламентом, что никакие ее действия не могут его аннулировать и что она лишь возбудит мое неудовольствие и навлечет на себя гнев Божий, если продолжит упорствовать в своем неповиновении. И что она сделала? Взяла пергамент, где были изложены мои условия, которые она должна выполнить, и во всех местах, где встречались слова «вдовствующая принцесса», вычеркнула их, настаивая, что она моя верная жена и королева. – Неужели она никогда уймется?! – воскликнула Анна. – Она потеряла вас. Что еще вы должны сделать, чтобы убедить ее в этом? – Я отправлю ее дальше на север, в Бакден, и сокращу ее двор. Башня там сырая, построена пятьдесят лет назад. Это заставит ее вести себя разумнее. – Надеюсь на это! – горячо поддержала его Анна. – Вы должны запретить ей принимать посетителей. – Я уже отдал такое распоряжение. И писем она тоже получать не будет. Мы не хотим, чтобы Шапуи сговорился с ней и натворил каких-нибудь бед. – Или принцесса, – вставила словцо Анна. – Я слышала сегодня, что, когда Мария недавно отправилась на лодке за город, люди сбегались приветствовать ее, будто она сам Господь Бог, спустившийся с Небес. Генрих, вы должны остановить ее, пусть она больше не подстрекает людей к подобным демонстрациям. А участников этой демонстрации нужно примерно наказать. – Не думаю, что Мария их подстрекала, – возразил Генрих. – Просто люди сбежались посмотреть на нее. – Вы когда-нибудь узрите правду? Она ведет умную игру, усиливая симпатию к себе. Бедная маленькая принцесса, разлученная с матерью… Генрих, ей семнадцать! Меня разлучили с матерью, когда мне было двенадцать, и я не виделась с ней шесть лет. Мария должна считать себя счастливицей. И Генрих сдался. Там, где речь шла о его дочери, он давал слабину, но Анна вознамерилась добиться от короля строгости к принцессе. Пусть только Мария сделает еще один неверный шаг, и расплата наступит.
В июле король отвез Анну в Хэмптон-Корт, чтобы она провела там последние недели беременности. Они коротали дни в неспешных прогулках по прекрасным садам, устраивали пикники в маленьких банкетных домиках, которых настроил на лужайках Генрих, вместе читали в покоях Анны и весело пировали по вечерам. Король больше не разделял с ней ложе, потому что не хотел тревожить ее покой, и, по правде говоря, она стала такого размера, что предпочитала спать одна. Чувствовала себя Анна превосходно и никогда еще не видела Генриха таким счастливым. Только в эти последние недели перед родами Анна начала беспокоиться: а что, если ребенок окажется девочкой? Генрих всегда говорил о нем только как о сыне, и она сама тоже привыкла думать, что у них будет мальчик. А вдруг нет? Генрих совершил все, что клятвенно обещал: порвал с Римом, чтобы жениться на ней, короновал ее со всей возможной помпезностью, словно она была правящим монархом. Теперь настал ее черед исполнить свою часть сделки – подарить Генриху сына. В свои сорок два года король нуждался в нем более, чем когда-либо, – и не только ради обеспечения наследования власти, но и для того, чтобы оправдать рискованные шаги, на которые пошел ради нее. Благословение мужским наследником показало бы всему миру, что Господь благоволит к их союзу, и, без сомнения, привлекло бы на их сторону всех колеблющихся и раскольников. К тому же заставило бы умолкнуть раз и навсегда эту надоедливую бакденскую затворницу! Пол ребенка имел жизненно важное значение. Мысль, что может родиться не сын, была невыносима. День ото дня Анна тревожилась все больше, наслаждаться приподнятым настроением последних недель перед появлением на свет младенца не получалось. Эта мерзкая монахиня из Кента выбрала день коронации Анны, чтобы напророчить гибель королю и новой королеве. На сей раз представители власти вскинулись, и Элизабет Бартон предстала перед Кранмером для допроса. – Он не должен был отпускать ее, ограничившись одним предупреждением, – жаловалась Анна. – Эта женщина уже проигнорировала его угрозы. – Дорогая, не растравляйте себе душу, – с озабоченным видом заклинал Анну Генрих. Они сидели в банкетном домике на пригорке, откуда открывался вид на личный сад, и угощались холодным цыпленком, пирогом с начинкой, салатом и блюдом из вишен. – Утром по моему приказу ее снова арестовали, и Кранмер еще раз ее допросил. Она призналась, что никогда в жизни не имела никаких видений. – И что вы с ней сделаете? – Отпущу. Она сама себя опорочила. – Это ее не остановит. Безумная или нет, она и раньше никогда не молчала. – Если она и дальше станет распространять нелепицы, побуждающие к мятежу, то почувствует на себе все силу моего гнева, – заявил Генрих. – Но давайте не будем говорить о неприятных вещах. Вы ведь не хотите потревожить ребенка. Я придерживаюсь мнения, что мысли и чувства женщины могут повлиять на младенца в утробе, это кажется мне обоснованным. – Не знаю, – с улыбкой сказала Анна, – но скачет он так, будто готовится к турниру! – Она положила ладонь Генриха себе на живот. – Ей-богу, там будущий король, которым мы будем гордиться! – воскликнул он. – Дорогая, я знаю, что не могу быть с вами, когда родится наш сын, но хочу находиться поблизости. В этом году я не поеду на дальнюю охоту и останусь неподалеку от Лондона. – Для меня это большое утешение. – Анна пожала руку Генриха. Он улыбнулся: – Я распоряжусь, чтобы в каждой церкви совершались молебны о вашем благополучном разрешении от бремени, и попрошу своих любящих подданных молиться Иисусу, чтобы тот, если на то будет Его воля, послал нам принца. Я консультировался с врачами, и все они уверяют, что родится мальчик. Откуда им знать? Они ни разу не осматривали ее, только спрашивали, как она себя чувствует, и уговаривали о себе заботиться. Деторождение – дело женщин! Анна уже наняла повитуху, которая находилась при дворе, объедалась вкусными блюдами и дни напролет бездельничала, наслаждаясь дворцовой роскошью. Но этой женщине дала прекрасные рекомендации леди Уорчестер. Когда они закончили трапезу, Генрих повел Анну к астрологу, которого сам пригласил. Она слышала об Гловере, поскольку тот прославился на всю страну предсказаниями будущего. Гловер был не первым из провидцев, с кем советовался Генрих. Как и Анну, короля сильно волновал пол ребенка. Разумеется, все убеждали его, что родится мальчик, но суждение этого Гловера, снискавшего в народе большое уважение, имело особое значение. Астролог, мужчина с волосами цвета воронова крыла, худым лицом и кустистыми бровями, был полностью погружен в свой собственный мир. Гловер показал Генриху и Анне таблицы небесных конфигураций, потом заглянул в какой-то стеклянный сосуд и долго-долго молчал, прежде чем повернулся к Анне: – Я вижу, что ваша милость носит ребенка женского пола и правителя страны. У Анны перехватило дыхание. – Двоих детей? – резко спросил Генрих. – Принца и принцессу? – Нет, ваша милость. Я вижу только одного ребенка. – Как может младенец женского пола быть принцем? – удивился Генрих. – Мое видение не открывает этого. – Вы шарлатан! – тоном обвинителя заявил король. – Все говорят, что будет сын! – Господин король, я знаю только то, что говорит мое стекло, – не сдавался Гловер. – Не расстраивайтесь из-за него, дорогая, – сказал Генрих Анне, когда астролог удалился. – Он пройдоха! – Так и есть, – согласилась она, желая поскорее забыть этот неприятный эпизод.
– Генрих, я размышляла о крещении принца. Есть ли в королевской гардеробной специальные крестильные мантии и покрывала? – Возможно. Екатерина использовала очень дорогую крестильную пелену, которую привезла с собой из Испании, чтобы заворачивать в нее наших детей для совершения обряда. – Думаете, эта вещь все еще у нее? Какая сладкая месть – завернуть своего сына в эту пелену. – Вероятно, – предположил Генрих. – Вы попросите у нее? Король по-волчьи осклабился: – С удовольствием.
Ответ на просьбу пришел быстро. Господа не порадует, если Екатерина последует дурному совету и окажет содействие в столь ужасном деле. – Как она смеет! – возмущалась Анна. – Дорогая, она верно говорит, эта пелена – ее личная собственность. Не думаю, что в данном случае могу настаивать. Как обычно, Генрих оказался беспомощным перед злобой Екатерины. – Но это пренебрежение! К изумлению Анны, Генрих на нее накинулся: – Прежде всего, мы не должны были ее ни о чем просить. Анна, у меня есть более насущные дела. Я только что узнал, что папа объявил ничтожными все решения Кранмера, а наш брак незаконным и недействительным. И теперь весь христианский мир пребывает в убеждении, что мы с вами живем в грехе. Мало того, он пригрозил мне отлучением от Церкви, если я не расстанусь с вами к сентябрю. – Вы можете не обращать на него внимания! – воскликнула Анна. – Теперь он вам больше не нужен! – Я и не собираюсь! – крикнул Генрих. – Господь, которому известно мое чистое сердце, всегда благоприятствует моим начинаниям. Но Анна видела, что за этими громкими словами таился страх. В глазах верных христиан Генрих был раскольником-прелюбодеем, которого вскоре могут лишить благодати Господней. И его враги наготове – только и ждут момента броситься в атаку… Ах, как же важно, чтобы Анна родила сына и показала всем: Бог улыбается Генриху.
– Вчера вечером король много раз танцевал с леди Кэри, – сказала Джейн Рочфорд. – Они старые друзья, – отозвалась Анна, передавая корзинку с шелковыми нитками Нэн Гейнсфорд. Ходили слухи, что леди Кэри спала с Генрихом до того, как вышла замуж за сэра Николаса Кэри, но это было давным-давно, еще до истории с Бесси Блаунт. Тем не менее Джейн поглядывала на Анну искоса, со злорадным выражением, будто говоря: «Мне известно кое-что такое, чего вы не знаете». – Что вы хотите этим сказать, Джейн? – живо спросила Анна. Джейн, казалось, не хотела выдавать свой секрет, но Анна подозревала, что на самом деле фрейлина наслаждается этой ситуацией. – Мне не хотелось бы ничего говорить. Возможно, это вообще ничего не значит, но… К тому же ваша милость ждет ребенка… – И что с того? – потребовала ответа Анна. Другие дамы переглянулись. – Я видела, как он поцеловал ее, – сказала Джейн. Анна будто получила оплеуху и взъярилась: – Поцеловал ее? Так что, это выходило за рамки простой учтивости? – Мне показалось, это больше, чем просто учтивость, – ответила Джейн. Анна обвела испытующим взглядом испуганные лица женщин, стоявших вокруг: – Кто-нибудь из вас видел это? Нэн Сэвилл с виноватым видом произнесла: – Да, ваша милость. – Только один раз? – Я видела, как он поцеловал ее три раза, – снова подала голос Джейн. – Ну что же, – попыталась оправдать короля Анна, – вероятно, это был придворный флирт. А теперь займемся делом: какой узор мы должны вышить на этом алтарном покрывале? Как ей удалось дожить до вечера и вести себя так, будто ничего особенного не произошло, Анна и сама не знала, но к пяти часам она больше не могла выносить эту муку и отпустила всех прислужниц, сказав, что ей нужно отдохнуть. Потом послала за Норрисом – человеком, которому доверяла больше других. Из всех людей именно он должен знать, действительно ли Генрих ей неверен. – Что я могу сделать для вашей милости? – стоя перед Анной, спросил Норрис. Для соблюдения приличий в соседней с гостиной спальне, но вне пределов слышимости находилась Мария. – Сэр Генри, могу я спросить вас кое о чем в строжайшей тайне? – стараясь не заплакать, произнесла Анна. – Разумеется, мадам. – На лице Норриса отобразились напряженное внимание и тревога. – Король изменяет мнес леди Кэри? Норрис смутился. Замялся. – Ваше лицо дало ответ за вас, – сказала Анна, и из ее глаз полились слезы. – О моя дорогая леди! – В мгновение ока Норрис опустился на одно колено и взял ее за руки. – Ни за что на свете я не стал бы расстраивать вас. – Но я должна знать! – всхлипнула Анна. – Если об этом шушукаются мои дамы, то скоро заговорит и весь двор. Он никогда не изменял мне. Восемь лет был верен. Норрис заглянул в глаза Анне. Он продолжал держать ее за руки, и она все отдала бы за то, чтобы он заключил ее в объятия и успокоил от всего сердца. Ничто другое не могло утешить Анну. Гораздо сильнее, чем сердце, была задета гордость, потому что сердце ее никогда по-настоящему не принадлежало Генриху. Но ведь король обожал свою Анну! Она же особенная – не такая, как Екатерина, которой он изменял много раз. Непростительным был обман и то, что он сделал ее предметом насмешек для всего двора, особенно для врагов, которые будут смеяться в кулаки или даже более открыто. Анна не поддалась порыву растаять в кольце сильных рук Норриса и найти в них забвение. Она не опустится до уровня Генриха. – Они любовники? – спросила она, отнимая у сэра Генри свои руки и доставая платок. – Вы просите меня нарушить клятву служебной верности. Я обязан хранить секреты короля в любых делах. – Я должна знать! – настаивала Анна. – Просто намекните, да или нет. Слухи в любом случае поползут и до меня донесутся. Он спал с ней? Кивок Норриса был едва различимым. Глаза его наполнились сочувствием. – Благодарю вас. Пожалуйста, пойдите к королю и попросите навестить меня, когда освободится. И прошу вас, Норрис, не делайте ему ни намека.
Не прошло и часа, как появился Генрих в прекрасном расположении духа и с чашей отборных яблок. Анна сердечно приветствовала его, потом отослала своих дам в соседнюю комнату. Когда дверь за ними закрылась, она, внезапно изменив тон, обратилась к королю: – Верно ли то, что говорят мои фрейлины о вас и леди Кэри? Веселость Генриха как рукой сняло. Он прищурился: – Я танцевал с ней, это все. За кого вы меня принимаете? – Вас видели целующим ее! И слухи, которые до меня дошли, обвиняют вас в большем. Вы это отрицаете? – Я это отрицаю! – На лицо Генриха начала наползать устрашающая краснота. – Значит, вы лжете. Мне известно из достоверных источников, что вы с ней спали. Некоторые дамы не могут не давать воли языкам. – Вы скорее поверите слухам, чем слову короля? Ради Бога, Анна, вы допрашиваете меня! – Я имею на то причины – смиритесь с этим! – в ярости выкрикнула она и ощутила, как в утробе подскочило от страха бедное дитя. – Вы хвалитесь своей честью, но чего она стоит, когда вашей королевской волей управляет пенис? – Не забывайте, кто я! – разъярился Генрих. – Когда я думаю о том, что сделал для вас! Как боролся против всего мира, чтобы получить вас, и оказал вам честь, взяв в жены! Как осыпал вас подарками… Посмотрите, какую я дал вам кровать. Ей-богу, Анна, вы бы не имели всего этого сейчас, если бы говорили мне такие слова. Вы моя жена и должны закрыть глаза и все сносить, как это делали более достойные персоны. – Значит, вы признаетесь, – прошипела она. Лицо Генриха было мрачнее грозовой тучи, голос леденил. – Мадам, вам следует запомнить, что в моей власти унизить вас в одночасье, и притом сильнее, чем я вознес вас. Он вышел, оставив ее ошеломленной. Никогда он так с ней не разговаривал. Да еще сравнил с Екатериной, причем не в ее пользу! Как он мог? Анна разразилась рыданиями, вбежали фрейлины. Они успокаивали ее, опасаясь за ребенка. «Если бы его отец тоже думал об этом», – горько сетовала про себя Анна. Все это пустые угрозы, сказала она себе. В душе Генрих испорченный ребенок, который хочет иметь все, чего желает, и чтобы никто ему не противоречил. Он вернется и будет просить у нее прощения, она в этом не сомневалась. Но он не вернулся. Три бесконечных дня Генрих не навещал Анну, а когда, дыша воздухом со своими дамами, она наткнулась на него, упражнявшегося в стрельбе из лука по мишеням, то приветствовал холодно. Она дождалась, пока король не закончит свое занятие, и пошла с ним обратно во дворец. Слуги держались позади. Анна догадывалась, что Генрих предпочел бы, чтобы ее не было рядом, но не хотел устраивать ссору на публике. – Год назад вы были моим любящим слугой, – понизив голос, сказала Анна. – Тот человек никогда не говорил бы со мной так, как вы сделали это третьего дня. – Теперь мы женаты. Муж не слуга. Как моя супруга, вы обязаны повиноваться, и вы не в том положении, чтобы критиковать меня. Я этого не потерплю! Его слова ужаснули Анну. Неужели рядом с ней тот человек, который восстал против всего христианского мира, чтобы получить ее? Они поженились всего шесть месяцев назад, и он уже ей неверен. И он ждет, что она будет достойно хранить молчание! Ну что ж, она замолчит. У дверей Анна сделал реверанс и удалилась в свои покои. Генрих за ней не последовал.
По прибытии в Гринвич между супругами сохранялось напряженное затишье. Анна затворилась в своих апартаментах, чтобы ждать рождения ребенка. Генрих немного оттаял. На барке, которая везла их из Хэмптон-Корта, он сказал Анне, что устроит живую картину и турнир, чтобы отпраздновать появление на свет наследника, а утром, перед тем как она скрылась с людских глаз, поцеловал ее в первый раз после их размолвки. – Я приду навестить вас и буду постоянно молиться Господу, чтобы тот даровал вам счастливое разрешение от бремени, – сказал он. Анна почувствовала, как ее глаза наполняются слезами. Это должно было происходить не так. – Все будет хорошо, – подбодрил ее Генрих. – Что вы будете делать, пока я нахожусь в уединении? – спросила она. – Буду охотиться в округе. Я не уеду далеко. Хотел сказать вам, что уже подготовил письма к дворянам с сообщением о рождении принца. Анна предпочла бы, чтобы он с этим повременил. Зачем искушать Судьбу? – Анна… – Король тронул ее за подбородок. – Я люблю вас. Не забывайте об этом.
На сердце сразу полегчало, и она вместе со всем своим двором пошла на мессу. После этого Анну торжественно проводили в приемный зал, где она сидела под королевским балдахином и ей подали вино со специями и пирожные. Затем камергер Анны попросил, чтобы все молились за благополучный исход родов. Прозвучал трубный глас, и Анна прошла в свою гостиную и дальше – в спальню, Палату Дев, как ее называли, потому что стены здесь были увешаны гобеленами с изображением святой Урсулы и двенадцати тысяч девственниц. Тут, затмевая собой все, стояла огромная французская кровать. Анна с удовольствием опустилась на нее, пока дамы задергивали дверь тяжелой шторой. Большинство из них были назначены исполнять разные придворные должности, так как ни один мужчина, за исключением короля и духовника Анны, не должен входить в покои королевы, пока она пребывает в уединении. Вместе с изысканной пищей и всем прочим, чего желала фантазия Анны, они приносили ей и последние сплетни. Герцог Саффолк в свои почти пятьдесят собирался жениться на четырнадцатилетней девушке, с которой был помолвлен его сын! Анна хохотала в голос, когда услышала имя невесты – Кейт Уиллоуби, единственная дочь самой верной подруги вдовствующей принцессы, этой драконши леди Уиллоуби! Стоило ожидать, что этот брак станет настоящим фейерверком, ведь Саффолк издавна поддерживал короля… Рано утром семнадцатого сентября у Анны начались роды. Послали за повитухой. Все идет хорошо, заявила та, даже когда схватки превратились в невыносимую муку с краткими передышками. Казалось, это тянется много часов, но около трех пополудни, когда Анна уже подумала, что больше не вынесет, повитуха сказала, что ребенок выходит. – Прижмите подбородок к груди, ваша милость, дышите глубоко и тужьтесь! Анна тужилась, тужилась и тужилась. Родовые муки – верное название! – Я вижу головку! – воскликнула акушерка. – Теперь уже недолго! Стоявшие вокруг кровати дамы всячески подбадривали Анну. Она снова напряглась и почувствовала, как между ног проскользнул ребенок. Наступила тишина – потом раздался громкий плач.
Девочка. Анна была убита, сломлена разочарованием и страхом, что скажет Генрих. Он так уверился в предсказаниях докторов и астрологов, которые пророчили появление на свет мальчика. Только Уильям Гловер узрел правду. Возложит ли Генрих вину за это на нее? Станет ли считать рождение дочери знаком неудовольствия Божьего? Послали за королем. Анна лежала в напряжении на гигантской кровати, вымытая, освеженная, переодетая в чистую батистовую рубашку с красиво расшитой горловиной, и в страхе ждала появления Генриха. Рядом – в просторной позолоченной колыбели, украшенной гербами Англии, лежал спеленутый младенец, накрытый мантией из алого бархата и в атласном чепчике на головке. Анна один раз взяла малышку на руки, удивляясь, какая она крошечная. А опустив взгляд, увидела рыжие тюдоровские волосики, римский нос Генриха и свои собственные узкое личико и заостренный подбородок. Лицо казалось старым для такого юного создания. – Девочка сильная и здоровая, – сказала повитуха. Все женщины нахваливали ребенка, говорили, что ее благополучное появление на свет предсказывает длинную череду сыновей. А кормилица радостно восклицала, ах, как быстро ухватилась малышка за грудь и начала сосать. Анна чувствовала какую-то странную отчужденность. Она слышала, что матери испытывают лихорадочную любовь к своим новорожденным детям. С ней этого не произошло. Или была слишком разочарована, слишком охвачена ощущением краха всех надежд? Маленькое создание, лежавшее в колыбели, будет постоянным напоминанием об этом. Снаружи послышалось приглушенные звуки какой-то суматохи, потом шторы на дверях раздвинулись и вошел Генрих в охотничьем костюме, пропитанный запахом приволья. – Дорогая! Слава Богу, вы перенесли роды благополучно! – Он склонился над постелью и поцеловал Анну, потом заглянул в колыбель. – Привет, малышка! – Он взял на руки спящего младенца и нежно поцеловал маленькую головку. – Да благословит тебя Господь! – Сир, – прошептала Анна, – мне так жаль, что я не родила вам сына. Генрих оторвал взгляд от ребенка. В его глазах не было укоризны. – Вы подарили мне здоровое дитя. Вы и я, мы оба полны жизненных сил, и, по милости Божьей, сыновья у нас еще будут. Анна не могла сдерживаться. Облегчение было настолько велико, что она начала плакать. – Дорогая… – Генрих передал младенца повитухе и взял Анну за руки. – Я горжусь вами. Я скорее стал бы просить у дверей милостыню, чем покинул бы вас. – Благодарю вас! – улыбаясь сквозь слезы, произнесла Анна. Король отпустил ее руки и потребовал обратно ребенка. – Мы назовем ее Елизаветой в честь моей матери, – сказал он. – По счастливому совпадению это имя и моей матери, – поддержала его Анна. – Прекрасный выбор. – У нее мой нос, – заметил Генрих, снова целуя ребенка и укладывая его в колыбель, потом подозвал девушек, которые должны были качать люльку. – Теперь я оставлю вас отдыхать, дорогая. Я должен подготовить все к крещению. – А что будет с письмами, которые вы написали? – спросила Анна. – Там есть место, чтобы исправить «принц» на «принцесса». Их отправят сегодня же вечером. – Когда вы устроите турнир? – Еще не решил. – Впервые Генрих немного погрустнел. – Но мы проведем роскошный обряд крещения. Пока у нас не появится сын, Анна, Елизавета – моя наследница, и все должны признать ее таковой.
Елизавете исполнилось три дня, Анна следила за тем, как малышку заворачивают в отороченную мехом горностая пурпурную мантию с длинным шлейфом. Потом вдовствующая герцогиня Норфолк в сопровождении длинной процессии понесла ее на руках в церковь монастыря Черных Братьев, где вскоре состоится обряд крещения. Отец Анны будет поддерживать длинный шлейф своей внучки, а Джордж включен в число тех, кто должен держать королевский полог над ее головой. Анна в накинутой на плечи церемониальной мантии с горностаевым подбоем возлежала на своей огромной французской кровати. Генрих, облаченный в костюм из золотой парчи, пришел и сел рядом в ожидании возвращения дочери. Они не присутствовали на крестинах, это был триумф крестных. Генрих выбрал четверых: архиепископа Кранмера и вдовствующую герцогиню, а также двух сторонников Екатерины – маркизу Дорсет и маркиза Эксетера. – Это создаст видимость их одобрения, – злорадствовал Генрих. Пока они ждали, Генрих описывал Анне гобелены, которые были вывешены на наружных стенах дворца по всему пути процессии; фонтан из чистого серебра, установленный на высокой трехступенчатой платформе под алым атласным балдахином с золотой бахромой; рассказывал, какие будут проведены церемонии и кто из знатных гостей будет присутствовать. Анна одобрительно слушала. Никакие почести не были забыты. Наконец они услышали отдаленный звук фанфар. – Ее несут назад, – сказал Генрих. Вскоре принцессу доставили в опочивальню королевы и положили на руки королю. Он благословил дочь, потом передал Анне, которая сделала то же и впервые назвала ребенка крестильным именем, что являлось привилегией матери. Крестным и главным гостям подали закуски, затем Генрих отправил Норфолка и Саффолка передать его благодарности лорд-мэру и олдерменам за участие и помощь в организации церемонии. – Вечером будет фейерверк? – спросила Генриха Анна. – На этот счет я не распорядился, – со смущенным видом ответил король. Анна понимала: если бы крестили принца, палили бы изо всех пушек. На следующий день она с огорчением узнала, что на улицах Лондона тоже никто не зажигал праздничных костров, и ужаснулась, когда Джордж, пришедший навестить сестру и племянницу, сообщил ей об аресте двух монахов, которые сказали, что принцессу крестили в недостаточно горячей воде. – Как они могут говорить такое о невинном ребенке? – удивлялась Анна. – Не обращай внимания, – посоветовал Джордж. – Шапуи сказал мне в лицо, мол, нам не следует ждать, что люди будут праздновать. Он заявил, что тебя и твоих родных мало кто любит. – Поручаю тебе передать ему, чтобы он повесился, – прошипела Анна. – Передам что-нибудь в этом роде! – фыркнул Джордж. Генрих не особенно часто навещал Анну. Несмотря на громогласные заявления, сделанные им по поводу рождения Елизаветы, Анна была убеждена: король считал, что супруга не оправдала его надежд. Задавался ли он вопросом: а стоило ли так много ставить на карту ради нее? И не вопрошал ли в отчаянии: почему Господь отказывает ему в сыне? Тем не менее Генрих ясно давал понять Анне, что не намерен терять лицо и так же непоколебимо, как прежде, уверен в правильности женитьбы на ней и отказа от Екатерины. Словно в доказательство этого, он вдруг приказал арестовать и поместить в тюрьму монахиню из Кента и ее сподвижников. – Что с ней будет? – поинтересовалась Анна, впервые после родов садясь в кресло. – Ее допросят. Она наговорила достаточно и даже больше необходимого для обвинения в измене. Это было ново в Генрихе, и Анна такие изменения одобряла. Он проявлял слишком много терпения и всепрощения к своим противникам. Теперь она радовалась, видя его намерение покончить с ними. В постели он тоже вел себя более решительно. Как только Анна восстановилась после родов и была воцерковлена, король появился в дверях ее спальни. – Давайте сделаем сына, которого вы мне обещали, – сказал он, устремляясь к ней с вожделением во взгляде. Анне пока не хотелось, чтобы Генрих начал предаваться с ней любви. Она сбросила вес, набранный за время беременности, но живот и груди потеряли упругость, а на бедрах, в тех местах, где кожа сильно растянулась, появились сизые прожилки. Боялась проникновения внутрь себя так скоро после родов, и совсем не желала снова беременеть. А кроме того, продолжала терзаться мыслями о любовных утехах Генриха с леди Кэри. Продолжается ли их связь? Спрашивать Анна не осмеливалась и, как предписал супруг, хранила величавое молчание. Однако она знала свой супружеский долг и понимала насущную необходимость родить королю сына, поэтому отдалась ему и была удивлена силой его желания. Может быть, он с августа не знал женщин? По крайней мере, одно было ясно: он все еще желает ее.
Анну беспокоила неспособность полюбить собственную дочь. Она без особых сожалений оставляла Елизавету на попечение нянек в снабженной всем необходимым детской. Иногда из чувства вины отдавала распоряжение, чтобы принцессу принесли к ней в спальню и положили на подушку у ее ног: пусть все видят, какая она преданная мать, и не догадываются о тяжелом разочаровании, которое испытывала и никак не могла изжить. Нередко Анна размышляла: любила бы она Елизавету больше, если бы та родилась мальчиком? Прониклась бы теплым чувством к сыну с таким старческим личиком, делавшим младенца отстраненно-независимым, какое было у ее дочери? Маргарет, леди Брайан, которая умело верховодила в детской принцессы Марии и была назначена Генрихом заправлять в детской Елизаветы, отчитывалась, что принцесса в целом хороший ребенок, но склонна впадать в бурные истерики, если ей отказывают в чем-либо, чего она хочет. – Но девочка опережает в развитии свой возраст, мадам, и хорошо сосет. Анна успокаивала свою совесть, покупая ребенку милые игрушки – лошадку-качалку, тряпичную куклу, деревянное кольцо, чтобы грызть, когда режутся зубки, – и заказывая для дочери украшения: браслет для тоненьких запястий, маленькую нитку жемчуга и книжечку с псалмами в золотой обложке, которая понадобится принцессе, когда та подрастет. Анна делала все, что, по ее представлениям, должна делать хорошая мать. И молча страдала, потому что не хотела, чтобы кто-нибудь посчитал ее бессердечной и бесчувственной.
В конце ноября монахиню из Кента признали виновной в измене, и она была наказана в назидание другим вместе с несколькими монахами-францисканцами и священниками, которые поощряли ее юродство. Всех отступников подвергли публичной каре: провели по улицам Лондона к Павлову кресту, где они стояли на эшафоте с зажженными свечками в руках, пока против них читали охульную проповедь. Однако симпатии наблюдавшей за экзекуцией толпы оказались на стороне Святой кентской девы, как ее называли, и люди выкрикивали ей слова поддержки. Отрадно было думать, что свидетельства ее измены, оглашенные с кафедры собора Святого Павла, прозвучали с достойной убедительностью и что толпа видела, как обвиняемых затолкали в Тауэр ожидать вынесения приговора. Генрих пытался убедить свой неподатливый Тайный совет согласиться на то, чтобы парламент издал против заключенных Акт с осуждением в государственной измене. Он не хотел, чтобы их судьбу решали в открытом суде, опасаясь возможных демонстраций протеста. К тому времени Анна уже лелеяла в душе тайну. Она была уверена, что снова понесла. Только один раз после рождения Елизаветы, в середине октября, она видела у себя алый цвет женственности. К концу ноября вероятность беременности стала уже очень велика. – Я жду ребенка, – сообщила она Генриху. – Дорогая! – Он пришел в экстаз. – Это лучшая новость за долгое время! – Король заключил Анну в объятия и прижался губами к ее губам. – Когда это произойдет? – Летом. Вероятно, в июле. – Скорей бы! – Глаза Генриха сияли. – Как вы себя чувствуете? – Очень хорошо, – заверила она мужа, гордая и успокоенная. Если у Генриха были сомнения в том, что Господь одобряет их брак, эта новость должна их развеять.
В декабре, когда Елизавете исполнилось три месяца, Генрих устроил для нее двор в Хатфилде. Дворец хорошо сообщался с Лондоном и в то же время находился на достаточном удалении от зловонного, часто зараженного разными инфекциями городского воздуха. Под руководством Маргарет Брайан и при содействии армии нянек, прачек, распорядителей и слуг принцессу увезли из Гринвича на север кружным путем, чтобы люди видели ее и осознавали, что это наследница короля. Наблюдая за отъездом дочери, Анна ощущала знакомую боль вины, но испытывала облегчение. Когда у нее появится сын, она и Елизавету станет любить больше, уверяла себя молодая мать. Среди девушек на службе у Елизаветы была и Кэтрин Кэри, дочь Марии от Генриха. Она только-только появилась при дворе. Несмотря на очевидное сходство с отцом, король никогда не признавал ее, и она ничего не знала об их кровном родстве. Анна любила племянницу и радовалась тому, что смогла обеспечить ей хорошее место. Кэтрин с восторженным трепетом приняла известие о том, что будет служить принцессе – в отличие от другой дочери Генриха, Марии, которая беззастенчиво отказывалась признавать титул Елизаветы. Из Хартфорда, где бывшая наследница проживала со своим двором, она написала Тайному совету, что будет называть Елизавету сестрой, и никак иначе. Генрих пришел в ярость. – Ее следует лишить титула и всех атрибутов принцессы! – кричал он. – Она не моя законная дочь и не может быть наследницей. Она мой бастард, не более того. Отныне пусть ее называют леди Мария. И король без колебаний отправил депутацию Тайного совета поставить Марию в известность о понижении ее статуса. Анна внутренне аплодировала: наконец-то он проявил твердость по отношению к своей строптивой дочери. Советники вернулись в Гринвич с мрачными лицами. Мария настаивала на том, что она, и только она, есть истинная дочь короля, рожденная в законном браке. Она сказала, что не станет порочить свою мать, Святую Церковь и папу, и заявила, что обесчестит своих родителей, если ложно признает себя бастардом. Отцу она написала письмо, моля о его благословении. – Я скорее прокляну ее! – прорычал Генрих, читая послание Марии. – Она надеется, что я не причастен к сообщению, переданному ей советом. Она не сомневается в том, что я признаю ее своей законной дочерью, рожденной в законном браке. – Вы же не оставите это так? – с вызовом спросила Анна. Но Генрих не мог: Мария пользовалась популярностью, в то время как ее собственное дитя многие считали бастардом. Екатерину убрали с глаз, заточив в Бакдене, и Мария становилась центром притяжения для тех, кто противостоял королю. Так что решимость этой бунтарки следовало сломить любыми способами, честными или не очень. – Я напишу ей, не беспокойтесь, – заверил Генрих. – И не оставлю ей ни малейших сомнений, что это была моя воля – лишить ее титула принцессы. И еще скажу, что отдаю ее дворец Бьюли вашему брату Рочфорду. – Какая щедрость со стороны вашей милости. – Анна опустила глаза, чтобы Генрих не заметил в них триумфального блеска. – Мне бы хотелось получить ее украшения для Елизаветы. – Вы их получите. Бастарду не позволительно носить то, что по праву принадлежит законной наследнице. Подбодренной словами короля Анне в голову пришла идея. – Не включить ли Марию в штат придворных Елизаветы, где она будет под присмотром верных нам людей? – Великолепное решение! – одобрил все еще не успокоившийся Генрих. – Ее двор следует распустить. Эта создательница проблем леди Солсбери может катиться к дьяволу, а Мария пусть отправляется в Хатфилд и служит Елизавете. Это научит ее послушанию. Я заставлю ее преклонить колени перед моей истинной наследницей. Ликование в душе Анны смешалось с облегчением. – А кто будет ее наставницей вместо леди Солсбери? – А кто при дворе Елизаветы больше всего подходит на эту должность? – Моя тетка, леди Шелтон. Она исключительно лояльна нам. – Да будет так. Я издам распоряжение.
Анна лелеяла мысль о своем триумфе над Марией, когда прибыло послание от Екатерины с просьбой к королю о дозволении переезда в более здоровый дом, так как ее жилище в Бакдене сырое и холодное, зима приближается, а ее здоровье начинает ухудшаться. Она сама навлекала на себя эти невзгоды. Если бы Екатерина послушалась голоса разума, то могла бы жить в роскоши и иметь рядом с собой любимую дочь. Но может быть, суровые меры, принятые Генрихом, начали достигать цели. Без сомнения, прилежный Шапуи уже сообщил Екатерине о планах относительно Марии. Одно дело – страдать самой, и совсем другое – видеть, как без нужды страдает обожаемое дитя. Если мать сломается, дочь тоже не устоит. Затравить бывшую королеву до смерти не входило в планы Анны, хотя она продолжала думать, что уход Екатерины в мир иной решил бы все проблемы. Однако еще небольшая доза того же лекарства наверняка образумит упрямицу, и она поймет, в чем для нее благо. Надо было спросить Кромвеля. Казалось, он знает все. Анна вызвала его в свой личный кабинет. – Скажите мне, – начала она, – вам известны какие-нибудь большие дома, которые находятся в плохом состоянии, но все же обитаемы? – Это для вдовствующей принцессы? – поинтересовался Кромвель. – Вы, похоже, читаете мои мысли, – улыбнулась Анна. – Нет, мадам, я читал ее письмо к королю. «Кажется, он действительно в курсе всех дел». Анна объяснила, в чем состоит ее замысел, и Кромвель ненадолго задумался. – Епископский дворец в Сомерсхэме рядом с Или окружен водой и болотами, – сказал он. – Вашей милости, наверное, будет приятно предложить этот вариант королю. Анна отправилась прямиком к Генриху и сказала ему, что Кромвель предложил новое жилище для Екатерины: – Надолго ли она там задержится, зависит от нее самой. Когда Екатерина прибудет в Сомерсхэм и поймет, что ее положение не улучшится, если она не послушается ваших распоряжений, тогда она может сдаться. – Дорогая, боюсь, ваши надежды опровергаются накопленным опытом, – заметил Генрих. – Думаю, она скорее взойдет на костер, чем признает свою неправоту. – Это безумие! У нее могла быть приятная жизнь в уединении. – Если Екатерина не перестанет упорствовать, я прикажу объявить ее такой же безумной, как ее сестра Хуана. Люди в это поверят. Шапуи, на удивление хорошо осведомленный, разумеется, выразил протест. – Он жалуется, что Сомерсхэм – самое нездоровое и пагубное место в Англии, – обиженно пропыхтел Генрих. – Он нагородит всякой чепухи императору, если я не подыщу Екатерине какое-нибудь другое жилище. Я подумываю о ее замке Фотерингей. Пять-шесть десятков лет назад это была королевская резиденция. Я подарил его ей, и она пыталась привести дом в порядок. Но он уже тогда начал разрушаться и, несмотря на произведенные работы, сейчас находится в худшем состоянии, чем Сомерсхэм. – Отправьте ее в Фотерингей, – подстрекала Анна. Однако Екатерина, похоже, верно оценивала состояние когда-то подаренного ей замка. Из Бакдена пришел ответ: она туда не поедет. – Тогда пусть убирается в Сомерсхэм, – постановила Анна, и Генрих издал приказ. И снова Екатерина отказалась ехать. – Я ей покажу, как бунтовать! – шумел Генрих. Он распорядился сократить штат ее слуг, оставив только самых необходимых, и настоял на том, чтобы они называли Екатерину не королевой, но только вдовствующей принцессой. Чтобы принудить бывшую супругу к покорности и препроводить в Сомерсхэм, Генрих отправил в Бакден герцога Саффолка и отряд королевской стражи. Саффолку ехать не хотелось. Анна догадывалась, что он предпочел бы провести Рождество при дворе со своей юной невестой. Однако он отбыл на север, и Анна затаила дыхание, надеясь, что такая демонстрация вооруженной силы убедит Екатерину сдаться.
– Сэр Джон Сеймур просит, чтобы вы приняли к себе на службу его дочь. – Генрих передал Анне письмо. – Она служила при дворе вдовствующей принцессы и была с ней в Бакдене, пока сэр Джон не вызвал ее домой. – Я помню Джейн Сеймур, – сказала Анна, воспроизводя в памяти тихую, честную девушку с бледным лицом, настороженным взглядом и поджатыми губами. – Отец явно сожалеет о том, что отправил ее к Екатерине, и беспокоится, не потерял ли из-за этого мое благоволение, и еще его тревожит невозможность подыскать для дочери мужа. Но, как он объясняет, нелегко найти для Джейн новое место. Никто не хочет брать к себе девушку, которая была связана с Екатериной. – Джейн Сеймур дружна с ней? – Насколько я помню, она такая маленькая мышка, которая и мухи не обидит. Сэр Джон мне предан. Всегда отлично справлялся со службой. Так что его дочь будет делать то, что он ей прикажет. – Вот и прекрасно. Я возьму ее к себе фрейлиной, – согласилась Анна. Джейн Сеймур было двадцать пять, она отличалась скромностью и почтительностью. Обязанности исполняла умело и расторопно, вела себя осмотрительно и соблюдала этикет, не давая поводов для недовольства. Но Анне эта девушка не нравилась. Первые дружественные приветствия королевы были приняты ею любезно, но без теплоты, и вообще, Джейн, казалось, существовала словно бы в стороне от жизни двора, так и не став его частью. Когда в гостиной Анны затевались игры и развлечения, она редко показывалась, жила, не поднимая головы, замкнутая в себе. Нет сомнения в том, что она все еще лелеяла в душе верность своей прежней госпоже. Тем не менее враждебности к себе Анна не замечала, разве что отчужденность. Анна старалась, как могла, привечать новую фрейлину, но это оказалось нелегкой задачей. Правда, сейчас ее гораздо больше занимали тошнота ранней стадии беременности и происходящее в Бакдене. В первом письме Саффолк сообщил, что Екатерина заперлась в своей комнате и не открывает дверь. Ни угрозы, ни мольбы не убедили ее смириться. Герцог не смел применить силу и ограничился тем, что распустил слуг Екатерины, оставив всего нескольких для обеспечения нужд затворницы. Во втором письме Саффолк описывал, как он стоял под дверью Екатерины и умолял ее выйти. Несмотря на все уговоры, она отказалась, говоря, что не поедет в Сомерсхэм, если только он не свяжет ее веревками и не отвезет туда насильно. «Она самая упрямая женщина из всех, какие только бывают!» – жаловался герцог, добавляя, что нашел ситуацию в Бакдене совсем не такой, как ее представлял себе король, и обещал объясниться пространнее, когда вернется ко двору. Далее пришло известие о том, что вокруг Бакдена собралась толпа деревенских мужиков, вооруженных косами и садовыми ножницами. Они просто стояли на поле и с грозным видом наблюдали за происходящим. Саффолк опасался, что, если он станет принуждать Екатерину покинуть замок, они пойдут в атаку. Разъяренный Генрих велел Саффолку возвращаться ко двору. – Он ничего не может сделать, – объяснил король Анне. – Я не пойду на позорную стычку. Представьте, что будет, если Екатерина пострадает. Император в десять минут явится сюда во главе армии, и все турки побоку!
Глава 23. 1534 год
Как только Саффолк приехал в Гринвич, он тут же попросил о встрече с королем наедине. Анна присутствовала при их разговоре. Король тепло уверял герцога, что не винит его в произошедшем. – Лучше оставить вдовствующую принцессу в покое, пусть себе упирается, – заявил он. – Ваши милости, если бы только это. Ситуация гораздо сложнее, – ответил Саффолк, с благодарностью усаживаясь в указанное Генрихом кресло. – Прошу вас, оставьте нас, – приказала Анна слугам. – Я сама разолью вино. Она наполнила кубки, и Саффолк взял свой, жестом выражая признательность. Вид у него был крайне утомленный. Герцог уже не выглядел лихим героем поединков в Турне, но превратился в полнеющего мужчину средних лет; когда-то прекрасное лицо исчертили морщины, говорящие о пережитых тревогах и волнениях, волосы поседели. В сравнении с ним Генрих – зеркальное отражение Саффолка – был чистым бриллиантом, образцом зрелого мужа в расцвете сил. – Так поведайте же мне, Чарльз, каково истинное положение дел в Бакдене? – обратился к герцогу Генрих. – Вдовствующая принцесса очень больна, сэр. Я едва узнал ее. Камергер сказал, что у нее водянка и она долго не проживет. В это легко можно поверить. Анна невольно задержала дыхание. Может быть, Господь упрощает ее сыну путь к неоспоримому наследованию Англии. Ведь если Екатерина умрет, никто не посмеет отрицать, что она, Анна, истинная королева. – Видимо, она не настолько больна, раз продолжает выказывать непослушание, – сварливым тоном произнес Генрих. – Дух ее не сломлен, – подтвердил Саффолк. – Не думаю, что она когда-нибудь уступит. – Тогда чем скорее Господь заберет ее к себе, тем лучше, – прошептал Генрих. – Ее ожесточение и упрямство подкрепляют Марию. Вы знаете, что Мария устроила сцену, когда за ней пришли, чтобы отвезти в Хатфилд? Норфолк сказал ей, что подобное поведение противоестественно, и, будь она его дочерью, он бил бы ее головой об стену до тех пор, пока эта голова не стала бы мягкой, как печеное яблоко. – Могу представить себе, как он это делает, – заметил Саффолк. – Он прав, – сказал Генрих. – Она изменница и заслуживает наказания. Норфолк так ей и сказал. – Леди Шелтон воздаст ей по заслугам, – вставила слово Анна. – Я ей во всем доверяю. Марию следует приструнить. Анна начинала ненавидеть и бояться ее больше Екатерины. Елизавета – истинная наследница короля, и, какими бы несовершенными ни были ее материнские качества, она решительно нацеливалась на то, чтобы ее потомство заняло трон Англии. Именно Мария представляла самую страшную угрозу для будущего Елизаветы.В Хатфилде Мария провела две недели, и Генрих получил от нее письмо с просьбой об отпуске для встречи с ним. – Вы ведь не дадите согласия, верно? – вспыхнула Анна. – Нет, – ответил король после наикратчайшего колебания. – Но, дорогая, она моя дочь, и, хотя и проявляет непослушание, все-таки в ней много хороших качеств. Я не буду с ней слишком суров. Анна пристально смотрела на него. Что за резкий разворот! – Она изменница, вы сами так говорили. В этом королевстве с изменниками обходятся по всей строгости, и это справедливо! Генрих вздохнул: – Я не отвечу на письмо. Не стану расстраивать вас в такое время. Анна прекрасно понимала, что родительские узы могут быть очень прочны. Взять хотя бы ее саму: ведь она горячо отстаивала права Елизаветы. Предстоит трудная борьба, но нужно заставить Генриха относиться к Марии как к опасной мятежнице, какой та и была. Когда король однажды утром объявил, что едет в Хатфилд повидать Елизавету, Анна впала в сильное беспокойство: не решил ли он заодно встретиться и с Марией. Юность дочери и отцовская жалость могли смягчить короля. А вдруг он велит, чтобы с ней обращались лучше, и вернет ей титул. Этого Анна никогда не допустит. После отъезда Генриха она вызвала Кромвеля, приказала ему скакать вслед за Генрихом и любой ценой не допустить его встречи или разговора с Марией. Кромвель косо взглянул на Анну. Выражение его лица говорило, что он, вообще-то, канцлер казначейства, хранитель королевской сокровищницы и глава государственного архива; у него масса важных дел, чтобы исполнять еще и роль гонца, однако ничего не ответил, лишь поджал губы и вышел. Что бы ни сказал Генриху Кромвель – возможно, предупредил короля о необходимости сохранять спокойствие супруги, пока та в положении, – но сначала желаемый эффект был достигнут. Однако, как позже объяснил посланник Анны, в конечном счете все его уговоры оказались напрасными. – Когда король, готовый к отъезду, усаживался на коня, леди Мария появилась на верхней террасе дома и опустилась на колени, молитвенно сложив перед грудью руки. Обернувшись и увидев дочь, его милость поклонился ей и приложил руку к шляпе. Остальные не смели поднять голову, однако, следуя примеру его милости, мы все принуждены были салютовать ей. Анна не могла сдержать ярости. – Как вы могли сделать это?! – визгливо накинулась она на Генриха, стоило тому войти в дверь через несколько минут после ухода Кромвеля. – Сделать – что? – парировал он, но по его лицу Анна поняла: он знает, о чем она. – Вы приветствовали свою незаконную дочь, как будто она не совершила ничего дурного. – Анна уже была в слезах. – Это был всего лишь жест вежливости. – Она не заслуживает вашей вежливости! – огрызнулась Анна и упала в кресло, заливаясь слезами. – Дорогая, прошу вас! – молил Генрих, становясь на колени и обнимая ее. – Подумайте о ребенке. – Ребенке! Ребенке! Вы только и думаете, что о ребенке! А как же я? – Вам прекрасно известно, как драгоценно это дитя, – холодно заметил король, вставая. – Я пришлю к вам ваших дам. – И удалился.
Анна не могла уняться, не могла совладать с возбуждением. Ей до смерти надоело неповиновение Марии и неспособность Генриха справиться с дочерью. Ее съедала изнутри мысль, что эта гордая, упрямая девица была повсеместно любима простонародьем, а стоило ей самой появиться на улице, как люди кричали: «Шлюха! Еретичка! Распутница!» Причем клеветали на нее и злословили не только рядовые жители королевства. Однажды, услышав под своим окном голоса, Анна выглянула наружу и увидела Гарри Перси, который разговаривал с Шапуи. – Королева – недобрая женщина, – сказал Гарри. – Уверен, она собирается отравить принцессу. Вся дрожа, Анна прислонилась к стене. Ее до глубины души поразило, что даже Гарри, этот милый человек, который когда-то любил ее, говорит подобное. Она никогда и не думала травить Марию! В отчаянии Анна решила изменить тактику и использовать доброту, чтобы одержать победу над своей падчерицей. Если все увидят, что Мария настроена дружелюбно по отношению к ней, это опровергнет домыслы Гарри – да наверняка не только его – и заставит людей полюбить ее, Анну. Пришла пора навестить Елизавету.
Королевская детская Хатфилда была в образцовом порядке. Малышка – как же она выросла за два месяца! – безмятежно спала в колыбели, ее качали молодые служанки, и все вокруг пропитывала атмосфера спокойной деловитости. – Ее высочество развивается очень хорошо, мадам, – сообщила полная, по-матерински добродушная леди Брайан. – И мне кажется, мы сегодня видели первую улыбку! А молоко она сосет так жадно! Анна склонилась над колыбелью. Елизавета открыла синие глаза и заморгала, сосредоточенно и серьезно рассматривая новое лицо. Потом вдруг вся покраснела, открыла маленький ротик и заорала. – Ей нужно сменить пеленки, – с улыбкой пояснила кормилица. – Пойдем со мной, моя куколка. – И, взяв малышку на руки, унесла ее в соседнюю комнату. – Я вернусь сюда позже, – сказала Анна леди Брайан. – Вы не знаете, где я могу найти леди Марию? – Она в учебной комнате с леди Шелтон, мадам. Когда Анна появилась в дверях, обе дамы встали, но Мария бросила на вошедшую взгляд, пропитанный таким ядом, что гостья едва не забыла о своем намерении. – Ваша милость… – Леди Шелтон сделала реверанс. – Дорогая тетушка, надеюсь, с вами все в порядке. – Анна обняла ее и повернулась к злобно взиравшей на нее тоненькой рыжеволосой курносой девушке. – Миледи Мария… – Она выдавила из себя улыбку. – Я буду говорить с вами как друг. – Леди Анна… – Мария не желала признавать ее королевой. – Вы не можете быть мне другом. – Но я могла бы им стать. У вас сейчас трудные времена, но ситуация может измениться к лучшему. Я призываю вас ради вашего будущего благополучия посетить меня при дворе и оказать почести как королеве. – Никогда! – выпалила Мария, и правильные черты ее лица, так похожего на материнское, исказились от ненависти. – Выслушайте меня, – стараясь не терять самообладания, не отступалась Анна. – Это послужило бы средством примирения с вашим отцом-королем, который так же страдает от этого отчуждения, как и вы. Я стану посредницей между вами, и к тому же потом вы сможете ожидать улучшения в обхождении и даже рассчитывать, что оно станет лучше прежнего. Мария взирала на нее так, будто ее собеседница – ком грязи, который она только что счистила с башмака: – Я не знаю никакой другой королевы в Англии, кроме своей матери, но если вы сделаете мне такое одолжение и примирите с отцом, буду вам весьма признательна. Неужели эта девица никогда не образумится? – Я настоятельно рекомендую вам принять мое предложение, сделанное из добрых побуждений и в наших общих интересах, – с вызовом произнесла Анна. – Если я приму вашу сторону, мадам Болейн, это сослужит вам хорошую службу. Не считайте меня настолько наивной, чтобы я не понимала, какую игру вы ведете. Благодаря вам я повзрослела очень быстро. – Поговорите со мной еще в таком тоне – и ваше положение станет хуже, чем сейчас, – предупредила Анна. – Но стоит вам принять мою руку дружбы – и вы найдете меня ревностной защитницей ваших интересов. – Вы бы защитили их лучше, если бы убрались вместе со своим последышем куда-нибудь подальше и освободили моего отца от своих чар, чтобы он мог вернуться к моей матери, истинной королеве! – резким тоном отчеканила Мария. – Не смейте так разговаривать с королевой! – крикнула леди Шелтон. – Королева находится в Бакдене! – гневно бросила ей в ответ Мария. Это было невыносимо. – Я усмирю необузданную гордыню вашей испанской крови! – пригрозила Анна. – А что касается приема вас при дворе, то я об этом и слышать не желаю. Вы застелили себе ложе, теперь покойтесь на нем. – Ну вот видите, что вы натворили, глупая девчонка, – прошипела леди Шелтон. Мария пожала плечами: – Давить на меня – напрасный труд. И вы заблуждаетесь, если думаете, что плохое обращение со мной или даже угроза смерти заставят меня изменить своему решению. – Это мы еще посмотрим, – кинула в ответ Анна и вышла из комнаты. Леди Шелтон торопливо засеменила следом: – Ваша милость, в душе она неплохая девушка. Она в смятении, напугана и глубоко переживает разлуку с матерью. К тому же она в сложном возрасте, когда молодые склонны бунтовать. Ей не следовало говорить с вами так, она сама свой злейший враг. – Мне это все равно, – сказала Анна. – Я умываю руки. Но ей было не все равно. По дороге домой, трясясь в носилках под грохот лошадиных копыт, она металась в отчаянии. Генрих рассердится, когда узнает, как Мария говорила с ней, но он так уязвим, если дело касается его дочери. Анна не верила, что король подвергнет ее достаточно суровому наказанию. С другой стороны была Мария, непокорная, уверенная в своих правах, популярная, любимая, которой все сочувствуют. Имелся еще иимператор, который мог решиться на применение вооруженной силы ради поддержки своей кузины. Что тогда станет с ней самой и Елизаветой? Отправят их действительно куда-нибудь подальше или распорядятся их судьбой еще более сурово? Как и предполагала Анна, Генрих взорвался от ярости. Новый взрыв произошел, когда Мария отказалась сопровождать двор Елизаветы при его переезде во дворец Мор в Хартфордшире. Ее пришлось заталкивать в носилки. Терпение короля истощалось. – Я распоряжусь так, что она больше никогда не вздумает мне прекословить! Ни она, ни кто другой! – ревел Генрих. – Этим займется парламент! В ту весну он приказал издать акт, который наделял Анну в случае его смерти правами регентши королевства и абсолютной властью над своими детьми. Другим актом Екатерина лишалась своих земель, принадлежавших ей как королеве, но взамен ей возвращались владения, на которые она имела право как вдова принца Артура. Имения королевы отошли Анне. Был издан Акт с обвинением в государственной измене против епископа Фишера: его осудили на заключение в Тауэре. Кромвель узнал, что епископ расспрашивал кентскую монахиню о ее пророчествах, но ничего не сообщил об этом королю. Генрих с готовностью принял это за свидетельство вовлеченности Фишера в изменнический заговор. Однако Фишер оказался слишком болен для того, чтобы совершить путешествие в Лондон. Сама монахиня и четверо ее приспешников были обвинены в государственной измене. Однако для Анны наибольшее значение имел еще один акт парламента, который объявлял наследниками английской короны ее детей от Генриха. Еще лучше было то, что этот новый акт требовал от всех подданных короля, буде последует такое распоряжение, приносить клятву верности королеве Анне и признавать ее законной женой Генриха VIII, а принцессу Елизавету – его легитимной наследницей. Отказавшихся принести клятву обвинят в совершении измены и отправят в тюрьму. Перспектива, что недоброжелателей силой вынудят признать ее, успокоила нервы Анны. Однако солнечным апрельским утром в начале апреля Генрих ворвался к ней в покои. – Этот папа – сучий сын! – Беленясь от гнева, он изрыгнул ругательство. Король так побагровел лицом, что Анна опасалась, не случилось бы с ним удара. Быстро поднявшись из реверанса, она усадила супруга в кресло, которое только что освободила: – Что он сделал? Генрих выглядел совсем больным. – Французский посол сообщил, что Климент высказался в пользу Екатерины. Заявил, что наш брак всегда был и остается нерушимым и законным и Мария его полноправный отпрыск. Анне стало плохо. Это решение могло сплотить многих колеблющихся вокруг Екатерины и ее дочери, а императора подтолкнуть к заключению, что объявление войны в защиту интересов тетки более достойное дело, чем битва с турками. Акт о престолонаследии был принят как раз вовремя. – Но он проигнорировал все постановления университетов! – воскликнула Анна. – Очевидно, мнения умнейших людей Европы не имеют для него никакого значения. Он позорит папский престол, его нужно низложить! Генрих кивал, отчаянно выражая согласие: – Он приказал мне немедленно возобновить супружеские отношения с Екатериной. Я обязан содержать ее и относиться к ней как подобает любящему мужу и приличествует королевской чести. В случае отказа меня отлучат от Церкви. И – это уж последнее оскорбление – я должен оплатить судебные издержки! Король явно был потрясен, и Анна поняла: несмотря на все совершенное для разрыва с Римом, он до последней минуты продолжал уповать на возможность как-то залатать эту брешь. Однако Климент своим вердиктом разрушил все надежды. Если Англия впадет в схизму, виноват будет папа. – Это политическое решение, – заметила Анна. – Увы, но Климент придерживался подобной линии в течение всех этих долгих лет. Его не волнует, о чем говорит Писание, о чем толкуют теологи, которые гораздо более сведущи в этих делах, чем он. Но он еще поплачет о дне, когда принял такое решение. Суждения епископа Рима больше не имеют веса в Англии. Я прикажу, чтобы в каждой церкви в стране произнесли проповеди против его вероломства. Распоряжение было издано. В день Пасхи прихожан по всей Англии оповестили о злонамеренности папы Климента, и верным подданным было велено каждую неделю молиться за короля Генриха VIII как ближайшего к Богу, единственного главу Церкви, а также за супругу его Анну и принцессу Елизавету. Это не остановило народных гуляний, которые устроили кое-где в предвкушении скорого возвращения Екатерины. Генрих рассылал посланцев по всему королевству для приведения к присяге в поддержку нового Акта о престолонаследии тех, кто занимал публичные должности, и всех прочих, чья лояльность находилась под вопросом. Анна переживала, ожидая, что скоро отовсюду начнут поступать отчеты о выражениях недовольства, однако ее страхи довольно быстро рассеялись, так как большинство – даже члены религиозных орденов – давали клятву без возражений. Отказались лишь некоторые, в том числе епископ Фишер, наказание которого смягчили, заменив штрафом, и сэр Томас Мор. Анну это не удивило. Причем Томас Мор дважды отказался приносить клятву, и никакими силами не удалось выудить у него ответ – почему? Генрих был глубоко уязвлен. – Я считал Мора другом. Его отказ дурно отзовется на мне, ведь его все уважают. Мои посланцы советуют оставить его в покое. – Вы имеете в виду оставить без внимания нарушение закона? – изумилась Анна. – Генрих, его надо примерно наказать. Если другие увидят, что он ослушался вас и это сошло ему с рук, они тоже откажутся присягать. Генрих обхватил голову руками: – Как я могу затеять процесс против Мора? Я любил его, Анна. Наказав его, я возбужу ненависть к себе. – Кто бы он ни был, ваш закон не делает для него исключения. Дозволив ему уклониться от присяги, вы подрываете ее значение, а также силу Акта о наследовании и основания нашего брака. – Хорошо, – сдался Генрих. – Я снова потребую от него принести присягу.
Когда Мор ослушался в третий раз, король отправил его в Тауэр. Анна не ожидала, что Генрих сподобится совершить такое, и подозревала, что сделал он это больше из боязни ее реакции на его нерешительность, чем от гнева или ощущения своей правоты. Король не хотел вызывать неудовольствие супруги, носившей его ребенка. Как и предсказывал Генрих, заключение Мора в тюрьму вызвало ропот недовольства, который, без сомнения, в скором времени эхом разнесется по всей Европе. Еще большее возмущение возникло, когда кентскую монахиню и ее сторонников протащили на волокушах до виселицы в Тайберне, где на глазах у огромной толпы Святая дева была повешена, потом обезглавлена, а мужчины, ее сподвижники, претерпели все ужасы смерти, уготованной изменникам: повешение, потрошение и четвертование. Это была первая кровь, пролитая из-за нее, поняла Анна. Что ж, пусть она послужит людям примером и предупреждением: да не смеют они ослушаться короля, или им будет хуже.
Кромвель, по наблюдениям Анны, набирал силу. В апреле его статус повысился благодаря переводу на должность главного королевского секретаря. Он вознесся над всеми, кроме ее самой, и пользовался бóльшим доверием короля, чем в свои лучшие годы кардинал Уолси. – Никто теперь ни за что не отвечает – только Кромвель, – сказал Джордж, сидя с Анной в ее покоях на диванчике у окна. – Он становится самым влиятельным из всех приближенных короля. Будь настороже, сестрица. – Генрих прислушивается ко мне больше, чем к Кромвелю, – уверенно заявила она, однако слова брата огорчили. Что будет, если она снова родит дочь? Станет ли Кромвель еще ближе к королю и потеснит ее? Он мог оказаться грозным противником. – Кромвель на нашей стороне, – добавила Анна. – Он все еще мой человек, и мы ему многим обязаны за введение в жизнь тех изменений, которые задумал Генрих, и за продвижение идеи верховенства короля. Джордж нахмурился: – Я лишь прошу тебя проявлять осмотрительность. Этот человек процветает благодаря своей власти. Он держит под контролем доступ к королю. Пользуется услугами целой армии шпионов, а благодарные клиенты так и рвутся оказывать ему услуги. Знание – сила, Анна, а Кромвель позаботился о том, чтобы занять и сохранить за собой пост, который делает его невероятно влиятельным. Он может попытаться ослабить твое положение. – Генрих ему этого не позволит, – заверила брата Анна. – Он не любит Кромвеля так, как любил Уолси. К тому же у нас с Кромвелем общие цели. Мы оба поддерживаем реформы и главенство короля над Церковью. – Ну, просто следи, чтобы он не входил в противоречие с тобой, – предупредил Джордж. – А то он уже недоволен Бреретоном. Бреретон обвинил одного человека в том, что тот убил его уэльского вассала, но суд в Лондоне оправдал этого парня, тогда истец взял дело в свои руки и повесил оправданного. – Господин секретарь возмущен поступком Бреретона и, очевидно, тобой. Отец слышал, как Кромвель говорил, что это чистое злодейство, а он любил несчастного повешенного и пытался спасти его. – Бреретон говорит, он был негодяй. Он пожаловался мне, что правосудие обмануло его ожидания, и я разрешила ему снова арестовать и допросить виновного. – Это объясняет, почему Кромвель упоминал твое имя. – Ну что ж, придется ему смириться, – сказала Анна. – Теперь правосудие свершилось. К ним присоединился Норрис. Он принес лютню. – Слышал, тебя можно поздравить. – Джордж хлопнул сэра Генри по спине. – Хранитель королевского кошелька, смотритель охотничьих собак и соколов! И Черный Жезл в доме парламента![47] – Все это исключительно благодаря доброте ко мне вашей милости и короля, – скромно ответил Норрис. – Боюсь, я не достоин подобных щедрот. – Это нелепо! – Анна улыбнулась. – Король любит вас, как никого другого. А я – я доверяю вам во всем. Норрис опустился на одно колено, взял руку Анны и поцеловал. – Для меня благословение – служить такой любящей госпоже! – с горячностью произнес он. Анна отняла у него руку. Она заметила, что Джордж смотрит на них с любопытством.
– Мария больна, – прибыв вечером на ужин, сообщил Генрих. – Шапуи умоляет отпустить ее к матери, но я не доверяю ему или им. Не говорите ничего, Анна, я никогда не соглашусь на это. Кромвель советует послать к Марии моего личного врача. «Боже, пусть этот мой ребенок окажется сыном», – молилась про себя Анна, садясь за стол и дожидаясь, когда ее плечи накроют салфеткой. Пока она не родит принца, трон под ней будет шататься, и к тому есть причины. В моменты наибольшего отчаяния тихими ночами Анна тревожилась, что Генрих ее разлюбит, если она произведет на свет еще одну дочь. Самым страшным ночным кошмаром было возвращение Генриха, уступившего решению папы, к Екатерине. Через несколько дней пришло известие, что Мария поправилась, но Анна не могла уняться, в голове вертелась мысль: «Ах, насколько было бы лучше, если бы она умерла и ее мать тоже. Это решило бы все проблемы». Генрих обдумывал, не совершить ли ему официальный визит во Францию. Анна с ним не поедет, так как она в положении, но ей это было очень кстати. – Если во время отъезда короля Мария сляжет, я не стану посылать к ней своего врача, – сказала она Джорджу, когда однажды после обеда они отдыхали в ее покоях. – Лучше избавлюсь от нее. Например, заморю голодом. – Она вся кипела от гнева и досады. Джордж сдвинул брови: – Я не возьмусь предсказать, как отреагирует король, если ты это сделаешь. – А мне все равно, даже если бы меня за это сожгли заживо! – крикнула она, чувствуя, что близка к истерике. – Ш-ш-ш, сестрица, ты не должна такое говорить. – Но, Джордж, она прямая угроза для меня и для Елизаветы. Я желаю ей смерти! – Анна уже почти плакала. – Скоро она угомонится. Сегодня король сказал, что леди Марию и вдовствующую принцессу должны привести к присяге. Он отправляет к ним архиепископа Йорка, а тот не потерпит никаких глупостей. Сначала он посетит вдовствующую принцессу. – Слава Богу! – торжествуя, воскликнула Анна и исполнилась облегчения. – Если они принесут присягу, очень хорошо. Если откажутся, Генрих должен принять против них меры. Как бы они ни поступили, мы в любом случае их одолеем!
Екатерина отказалась присягать, заявив, что, если она не жена королю, как тот утверждает, тогда не является и его подданной, а в таком случае от нее нельзя требовать клятвы. – Но ведь эта женщина всегда настаивала, что она ваша жена, а значит, ей должно быть ясно: таким поведением она дает повод для наказания, – заметила Анна Генриху, когда они ехали во главе кавалькады по украсившимся весенним цветом аллеям во дворец Элтем, где находилась Елизавета. – Ее заставят, – пообещал Генрих.
Весь двор принцессы склонился в реверансах при появлении в детской короля и королевы. Дочь родители обнаружили на руках у воспитательницы. Елизавете было семь месяцев, и она уже вовсю лепетала на своем младенческом языке. – Иди-ка к своему папочке, – сказал Генрих, взял малышку из рук леди Брайан и стал качать на колене. – Папа! – радостно крикнула девочка и ухватила Генриха за бороду. – Ух! У тебя крепкие ручки, милашка. Это самый прекрасный ребенок на свете, вы согласны со мной, Анна? Анна наклонилась и поцеловала Елизавету в пушистую головку. – Действительно, – согласилась она и ощутила внутри знакомую пустоту. Но все исправится, когда у нее будет сын. Тогда Елизавета перестанет быть живым напоминанием о ее неудаче с рождением принца. Оставив дочь на попечении нянек, отец и мать пошли осматривать детскую, которую готовили для второго ребенка, и, удовлетворенные видом золоченого потолка и роскошной обстановки, проследовали в церковь на вечерню. Только они вышли после службы, к Анне приблизилась леди Рочфорд. – Мадам, я должна вам кое-что сказать. Леди Мария находилась в капелле и сделала реверанс вашей милости. – Жаль, что я этого не видела! – воскликнула Анна, а Генрих засиял. – Я бы ответила ей тем же. Где она? Она нетерпеливо оглядела заполненную народом галерею и заметила спину Марии, исчезающую за дверями в дальнем конце прохода. – Пойдите за ней, Джейн, – забыв о своих злых намерениях по отношению к Марии, приказала Анна. – Передайте, что я приветствую ее с большой любовью и прошу извинения, потому как если бы видела, что она сделала мне реверанс, то ответила бы тем же. Скажите ей, я желаю, чтобы это стало началом нашей дружбы, которая найдет с моей стороны самый теплый прием. Леди Рочфорд торопливо удалилась. Когда Генрих и Анна явились в главный зал дворца с высоким сводчатым потолком и уселись ужинать за стол для почетных гостей, Анна заметила свою падчерицу за одним из длинных столов, установленных под прямым углом к главному. Совсем недавно место Марии было рядом с королем. Подали первую смену блюд. Анна чувствовала, что падчерица следит за ней. А потом, когда вся компания приступила к трапезе и наступила пауза в разговорах, то услышала, как Мария обратилась к леди Рочфорд и произнесла очень отчетливо: – Не может быть, чтобы королева передала мне подобное послание. Ее величество находится так далеко отсюда. Вы, должно быть, имели в виду, что это слова леди Анны Болейн, так как я не признаю никакой другой королевы, кроме своей матери. В часовне я сделала реверанс перед Создателем леди Анны и моим, а тот, кто описал ей эту сцену иначе, ошибся и ввел ее в заблуждение. Это было унизительно и обидно. Генрих вспыхнул от злости, но не успел он открыть рта, Анна повернулась к нему и таким же высоким и внятным голосом, как Мария, заявила: – Клянусь, я смирю эту гордячку! – Я с нею разберусь, – пробурчал король. – А пока оставим это. Перед отъездом Генрих отвел Марию в кабинет и продержал там несколько минут. Однако, когда он оттуда вышел, по выражению лица и слезам на глазах Анна поняла, что дочь опять взяла над ним верх.
Теперь живот у Анны стал большим, и она быстро уставала. Месяца через три, по воле Божьей, она родит сына, живое воплощение своего отца. Генрих постоянно суетился вокруг супруги. Он предупредил архиепископа Кранмера, чтобы священники не утомляли королеву слишком долгими проповедями в церкви. Подарил ей для развлечения павлина и пеликана, которого привезли из какой-то далекой земли под названием Ньюфаундленд. Но лучшим подарком для нее стало распоряжение перевести Библию на английский язык. Толчком к этому послужило обращение духовенства, руководимого семью епископами-реформистами, которые были назначены на свои посты благодаря стараниям Анны, после того как она стала королевой. За перевод взялся ученый-реформатор Майлс Ковердейл, свою работу он собирался посвятить Генриху и его новой супруге. Анна обняла и расцеловала короля, когда тот сообщил ей о своем решении. Она была рада получить от леди Лайл, жены коменданта Кале, пару ржанок к столу, певчую коноплянку в клетке и милую маленькую собачку. Разумеется, у леди Лайл имелись дочери, которых она надеялась пристроить ко двору, а потому желала снискать к себе расположение, но так как доброжелателей у Анны было крайне мало, этот жест внимания согрел ей сердце. Собачка оказалась презабавная. Она глядела на хозяйку задушевным вопрошающим взглядом, и Анна тут же придумала ей имя. – Я назову тебя Маленькая Почему, ведь ты все время смотришь на меня, будто спрашиваешь почему! Порадовало Анну и решение Генриха наказать Екатерину за отказ давать клятву верности: ее отправили под домашний арест в замок Кимболтон, который находился еще дальше от Лондона, чем Бакден. Потом король разослал по всей стране герольдов, чтобы предупредить своих подданных: любой, кто станет злословить о его любимой супруге и законных наследниках, будет обвинен в государственной измене. Наказание – смерть.
На второй неделе июля Джордж, теперь лорд-смотритель Пяти портов, отправился с посольством во Францию. Анну он оставил в подавленном состоянии. Ей не хотелось, чтобы брат уезжал накануне рождения ее долгожданного сына. Она нуждалась в Джордже: он всегда разгонял ее страхи или хотя бы просто выслушивал. Мария уехала домой в Хивер, впрочем, от нее было мало проку, да и какая она утешительница? Даже выходки Маленькой Почему или покорная преданность грейхаунда Уриана перестали развлекать Анну. Неделей позже Генрих обрушил на супругу новость, что его дочь отказалась давать клятву. Когда он ушел, рыча сквозь зубы, что заставит ее заплатить за неповиновение, Анна взяла перо и написала леди Шелтон: «Поколотите ее хорошенько, потому что эта девица – проклятый бастард». Мария получит по заслугам, даже если Генрих этого не одобрит. Вскоре вернулся Джордж. – Решено, что в этом году я во Францию не поеду, – сообщил Генрих Анне. – Екатерина и Мария обозлены на вас и могут в мое отсутствие устроить какие-нибудь неприятности. – Слава Богу! – воскликнула Анна. – Я чувствую себя намного спокойнее, когда вы рядом. Генрих погладил ее по щеке: – Осталось уже недолго, дорогая. Доктора говорят, обычно второй раз роды проходят легче. Они и прошли легче: все заняло не больше двух часов. Ребенок появился раньше, чем рассчитывала Анна. Она еще даже не успела отправиться в уединение. Но страдания оказались напрасными. Когда повитуха завернула крошечного младенца в пеленку и накрыла его мертвое личико, Анна откинулась на подушку, сотрясаясь от рыданий. – Почему? Почему? – сквозь слезы вопрошала она. – Почему у других женщин есть сыновья, а у меня нет? Фрейлины пытались утешить ее, но, когда услышали, что идет Генрих, в страхе отпрянули, восклицая: – Король! Король! Анна вся сжалась на смятой постели. Она знала, что наверняка выглядит ужасно: лицо влажно от слез, тело взмокло от родовых потуг – ее еще не вымыли, – и на ней окровавленная сорочка. Она накрылась простыней и покрывалом. Маленькая Почему вскочила на постель и свернулась калачиком рядом, будто чувствуя, в каком отчаянии пребывает хозяйка. Генрих смотрел на жену обиженно и укоризненно. Взгляд его не оставлял сомнений в том, кого он считает виновником неудачи. – Мне так жаль! – всхлипнула Анна. – Он родился слишком рано. – Где он? – требовательно спросил Генрих. – Здесь, ваша милость. – Акушерка нервно передала королю сверток с мертвым тельцем. Генрих откинул покров с личика. – О Боже, мой сын, мой маленький мальчик, – бормотал он, убитый горем, и по лицу его струились слезы. – Заберите. – Король сунул сверток обратно в руки повитухе, с усилием возобладал над своими эмоциями и обвел взглядом всех, кто стоял в комнате. – Вы никому об этом не скажете. Если спросят, вы должны отвечать, что у королевы произошел выкидыш. Не говорите, что это был мальчик. Все всё поняли? Было ясно, что Генрих не хотел выглядеть глупцом в глазах всего христианского мира. Женщины нервно закивали, выражая согласие. – Я оставлю вас отдыхать, – сказал король супруге. – Дамы, позаботьтесь о королеве. Анна лежала и тихо плакала. Все должно было сложиться иначе. Напрасны ее мечты о власти и правлении добродетельных женщин. Все это одни иллюзии, исполнение которых зависит от воли мужчин. Потому что, когда доходит до дела, оказывается, власть женщины обеспечивается только телом – лишь оно позволяет ей удержаться наверху.
Оправилась Анна быстро. В конце июля она уже могла сопровождать Генриха в ежегодном летнем охотничьем туре по королевству. Но дух ее был надломлен: после того как она потеряла сына, король оставался с ней холоден. Ну почему, почему, ведь она тоже оплакивала ребенка? И конечно, переживала, какие последствия эта трагедия будет иметь для нее самой. Если до родов Анна находилась в подавленном состоянии, то теперь впала в отчаяние. Казалось невозможным подняться надо всеми невзгодами и снова стать той изысканной, остроумной женщиной, в которую когда-то влюбился Генрих. Но тем не менее она должна была снова завоевать его. Он тоже перенес горькое разочарование, но под внешней отстраненностью сердце его продолжало биться любовью к ней. Она должна в это верить. Особой охоты к любовным утехам Анна не ощущала, однако Генрих вернулся в ее постель. Правда, в его поведении ощущалась натужность, будто он занимался любовью из чувства долга. Анна охотно уступала, зная, что единственный способ удержать при себе короля – это зачать сына. Она себя не обманывала: для них обоих время, проведенное в постели, было безрадостным. А вскоре Анне открылась и истинная причина. Очевидно, при дворе не было особой тайны в том, что король ей изменяет – и притом с ее собственной фрейлиной! Семнадцатилетней Джоан Эшли, милой девушкой, которую Анна считала скромницей, но более подходящим словом для нее оказалось «проныра». Сама Анна мало доверяла королю, да и хватало тех, кто бросал прозрачные намеки. Один раз она даже застала Джейн Рочфорд за сплетнями об этом деле и была встречена смущенной тишиной. Судя по всему, история тянулась уже довольно долгое время. Анну поглотил гнев. Когда Генрих в следующий раз пришел к ней обедать, она отпустила слуг и встала спиной к двери. – Почему вы тратите свое семя на эту дрянную телку Джоан Эшли? – с вызовом спросила она. – Вы МОЙ муж и по возрасту годитесь ей в деды! – Не забывайтесь, Анна, – ледяным голосом ответил Генрих. – Я ваш король, и у вас есть основательные причины быть довольной тем, что я для вас сделал и чего не стал бы делать теперь, если бы пришлось начать все сначала. – Это презабавно! Вы совершаете измены и при этом имеете нахальство упрекать меня! – Посторонитесь! – покраснев от гнева, приказал Генрих. – Пообедаю в другом месте, где мне точно будут рады. – Идите к своей шлюхе! – прошипела Анна, уступая дорогу. Когда Генрих ушел, а она, тихо всхлипывая, села на пол. Как случилось, что все пошло прахом? Почему Господь отказывает ей в благословении иметь сына? И куда подевался обожающий слуга, который так страстно за ней ухаживал? Как мог он превратиться в этого жестокого и равнодушного мужчину? Три дня Анна не виделась с Генрихом. Очень хотелось кому-нибудь довериться, поделиться своим горем. Джордж был в Дувре – председательствовал в комендантском суде; а Мария оставалась в Хивере. Лучше бы она вернулась. Конечно, Мария не Джордж, но в сердце своем она хранила верность сестре. В тот вечер намечался пир в честь прибывших французских послов. Анна заняла свое место в приемном зале рядом с Генрихом, который кивнул головой, но даже не взглянул на нее. Ей хорошо был виден строгий профиль короля, по большей части обращенный в сторону ее отца и других гостей. Недовольство монарха супругой было очевидно всем. Отец хмурился. Он знал о трагедии, которая с ней произошла. После пира начались танцы. Генрих встал, поклонился Анне и вывел ее на площадку. Она старалась, как могла, танцевать соблазнительно и грациозно, сознавая, что все взгляды прикованы к ней, но это не дало результата, потому что по завершении первого танца Генрих проводил ее на место, а сам встал в пару с Джоан Эшли. Глядя на эту глупую кокетку, победоносно улыбавшуюся, Анна дорожала от гнева. Люди глазели на нее – одни с жалостью, другие глумливо. Нет, больше она терпеть этого не станет, решила про себя Анна. Как только танец закончится и начнется смена партнеров, она ускользнет отсюда. А потом Анна увидела свою сестру. Мария входила в зал, живот ее заметно округлился, и вся она была воплощением цветущей плодовитости. Все взгляды обратились к ней. Сестра королевы без смущения заявляла о своем положении всему миру, и придворные, даже сам король, уставились на нее кто в изумлении, кто с торжеством… Анна мигом поднялась и, надев на лицо улыбку, пошла приветствовать Марию; сделала реверанс королю и как можно быстрее утащила сестрицу прочь. Следом за ними с лицом мстителя поспешил отец. Он прошел за дочерьми в апартаменты Анны и, не успела та раскрыть рта, накинулся на Марию: – Ты опять взялась за распутство, дочь моя?! Мария смело взглянула на него: – Нет! Я замужем. – Замужем? – переспросил он. – Без моего разрешения? – Или моего! – встряла Анна. – Я твоя королева! Кто он? – Уильям Стаффорд, – ответила Мария, дерзко сияя улыбкой. – Я познакомилась с ним в Кале и встретилась вновь на вашей коронации. Он навещал меня в Хивере. – Он делал не только это! – взревел отец. – Простите меня, – взмолилась Мария, – но мы любим друг друга. – Стаффорд из гарнизона Кале?! – гремел отец, его обрюзглое лицо побагровело. – Человек незначительный и без состояния! Ты могла бы, по крайней мере, выходя замуж, подумать о выгодах нашей семьи. – Он на двенадцать лет младше тебя, – с отвращением добавила Анна. – Уильям меня любит! Он охотно женился на мне. Марию так и распирало от гордости. Анна ее такой никогда не видела. – Любит, поди ж ты! – выпалил отец. – Брак по любви оскорбляет Господа, старый добрый порядок и всех вообще. Это неприлично и глупо. Пренебречь нашим дозволением – это уже негодное дело, но у тебя не хватило учтивости даже на то, чтобы спросить короля! А что твоя мать? Снизошла ты хотя бы до того, чтобы поставить ее в известность? Мария покачала головой. Храбрость ее улетучилась. – Мы заплатили священнику в Тонбридже, и он обвенчал нас. Мама так разозлилась, когда мы ей сказали. Она написала вам. Вот почему пришлось явиться сюда. – И Мария заплакала. Но отец был неумолим. – Ты просто поступила по-своему, невзирая на наше мнение и вполне вероятное неудовольствие короля. Ты сестра королевы! Тебе не приходило в голову, что скандал, который произведет этот брак, плохо скажется на ее репутации? – Ты не подумала обо мне, – вторила Анна, которая и сама была готова разрыдаться. – Скандала мне только сейчас и не хватало. За дверью послышался звук шагов. Дверь распахнулась, возгласили появление короля. Генрих вошел размашистым шагом, лицо его потемнело от гнева. – Госпожа Кэри, весь двор говорит о вас, – резко произнес он. – Прекрасное зрелище устроили вы моим гостям. Вся дрожа, Мария сделала реверанс, по щекам ее в три ручья лились слезы. – Она тайно вышла замуж за Уильяма Стаффорда из гарнизона Кале, – сообщила Анна. – Правда? – отозвался Генрих. – Удивляюсь, что кто-то из вашего семейства так продешевил, вступив в брак, притом с человеком, имя которого запятнано связью с изменником. Я не забыл, что родственник этого Стаффорда Бекингем лишился головы, решив устроить заговор против меня, а еще эти Стаффорды поддерживали вдовствующую принцессу. – Сир, Уильям предан вам, и он ваш кузен, – обрела наконец дар речи Мария. – Он хороший человек и любит меня. – Пусть так, но все равно вы должны были спросить разрешения на брак с ним. Вы поскупились на уважение и послушание, которым обязаны милорду отцу вашему и вашей королеве. Они имеют полное право быть недовольными этим мезальянсом. – Сир, – взмолилась Мария, – что у меня есть в этом мире! Я от всех завишу. Родные стыдятся меня. А господин Стаффорд был добр ко мне, добрее всех, а доброта значит больше, чем родовитость или положение. «Как верно сказано», – с завистью подумала Анна. Ей стало понятно, насколько предпочтительнее ситуация, в которой оказалась Мария, по сравнению с ее собственным плачевным положением. У Марии был любящий супруг, тогда как Генрих проявлял неверность и даже жестокость. Мария жила надеждой на ребенка, а Анна только что безвозвратно потеряла своего. Хотя и безрассудно, но Мария обрела свое место в мире, в то время как сама она долгое время томилась ожиданием, что-то выгадывала и вымаливала себе лучшую участь, но так и не обрела ни истинной любви, ни сына, который обеспечил бы ей уверенность в завтрашнем дне. В Анне разгорелась ненависть к сестре. – Ты никогда не ценила меня, – обвинила ее Мария. – Всегда считалось, что успех ждет тебя, а я скомпрометировала свою репутацию и запятнала фамильную честь, хотя это была не моя вина. Анна чувствовала присутствие Генриха, который беспокойно переминался с ноги на ногу сбоку от нее. «Поделом ему! – злорадствовала она про себя. – Пусть помучается!» – Лучше бы вы не говорили таких слов своей сестре, – предостерег Марию Генрих. – Она тут ни при чем. Главное – неравный брак, в который вы вступили. Ребенок был зачат в браке? Мария покраснела: – Нет, сир. – Тогда ты не получишь от меня ни пенни! – презрительно фыркнул отец. – И я уверен, его милость согласится, что я поступил правильно, перестав выплачивать тебе содержание. – Теперь это обязанность вашего супруга, – одобрил Генрих. – И я не хочу видеть тебя под крышей моего дома! – прокричал отец. – Но куда же нам деться? – жалобно спросила Мария. – Это не мое дело, – ответил сэр Томас. – При дворе ты мне не нужна, – сказала Анна. Ситуация скандальная, но не это главное: ей не хотелось иметь перед глазами постоянное напоминание о том, в чем не преуспела она сама. Наблюдать, как вьется вокруг Марии обожающий жену Стаффорд, было выше ее сил. Анна повернулась к Генриху: – За свой проступок они заслуживают изгнания, сир. Генрих кивнул: – Согласен. Госпожа Стаффорд, это несчастье вы навлекли на себя собственным неразумием. Вы покинете двор и не покажетесь здесь, пока вас не вызовут. – Нет! Прошу вас! – воскликнула Мария, но Генрих уже отвернулся, собираясь уходить, Анна двинулась следом. – Проследите, чтобы она уехала сегодня же, отец, – бросила через плечо королева, и дверь за ней закрылась.
Осенние листья толстым ковром покрыли землю, когда пришло известие о кончине в Риме папы Климента. – Великий грешник мертв! – заметил Кромвель, сообщив новость Анне. – Преемник уже избран – Павел Третий. И он сразу дал понять, что не намерен поощрять королевское непослушание, как ему угодно это называть. Павел пригрозил, что приведет в действие указ об отлучении от Церкви, составленный Климентом, но так и не преданный огласке. Его милость, естественно, намерен проигнорировать эти угрозы, но нужно быть настороже. Если епископ Рима решит опубликовать вердикт и тем побудит императора к войне, король, как отлученный от Церкви, останется один. Ждать помощи от других христианских держав ему не придется. – Вы считаете, епископ Рима исполнит свою угрозу? – спросила Анна, представляя, как Екатерина и Мария триумфально возвращаются в Уайтхолл, а она сама… О Боже, что они сделают с ней? – Нам не стоит благодушествовать, – сказал Кромвель, – но думаю, это вполне может оказаться политическим бахвальством.
Генрих поддержал Анну в ее противостоянии с сестрой и постепенно теплел к ней, однако слухи подтверждали, что его шашни с Джоан Эшли продолжаются. Это глодало Анну изнутри. В отчаянии она решила положить конец этой любовной связи. Джейн Рочфорд получала удовольствие от распускания сплетен о похождениях короля, так пусть поможет теперь в качестве компенсации. Анне никогда не нравилась невестка, и неприязнь была взаимной, но это не имело значения. Джейн заплатит за свое тайное злорадство. – Я хочу избавиться от Джоан Эшли, – сказала ей Анна. – И нужен предлог, чтобы отослать ее прочь. Можем мы придумать какой-нибудь повод, чтобы ее срочно вызвали домой? Широко раскрытые глаза Джейн засверкали. Анна подозревала, что от недостатка удовольствий в собственной жизни она получала их опосредованно, через сплетни, – отсюда и ее желание участвовать в предложенной интриге. – Она, вообще-то, заслужила увольнение, – заметила Джейн. – Разумеется, – согласилась Анна. – Если распространится молва, что она отдается всем и каждому, тогда у меня будут основания отослать эту потаскуху, и король прогневается на нее за то, что она разбрасывается своими милостями направо и налево. Он не потерпит соперничества. Джейн, вы в курсе всех последних сплетен. Никто лучше вас не сможет пустить слух.
Не прошло и нескольких дней, как двор уже на все лады шептался: до чего же странно, что король одаривает вниманием такую любвеобильную даму. Анна про себя улыбалась. Месть была сладка! Она подождет еще день или два, а потом отправит эту девицу паковать вещи. Однако в тот же вечер к ней явилась, утирая слезы ярости, Джейн Рочфорд. – Меня прогнали от двора! – воскликнула она. – Я должна уехать немедленно, и все из-за вас! – На каком основании вас изгоняют? – За распространение слухов! Меня вызвал к себе господин секретарь. Он сказал, что некоторые люди утверждают, будто я все это выдумала, чтобы вы могли избавиться от Джоан Эшли. Думаю, за мной следили. Лучше бы я не соглашалась помогать вам в вашем безрассудном замысле! – И, не сделав реверанса, Джейн, шурша юбками, кинулась в комнаты, которые занимала вместе с Джорджем. «Легко отделалась», – подумала Анна. Однако ее встревожило подозрение Джейн, что за ней следили. Ведь если это правда, тогда и сама Анна могла находиться под наблюдением. Невестка права. Она действительно поступила безрассудно. – Я сожалею, – поспешила сказать Анна, когда Джордж пришел в ее покои и сообщил, что Джейн уехала домой в Гримстон. – А я нет! – Он поморщился. – Я с облегчением смотрел на ее спину. Она портила мне жизнь своими постоянными колкостями. Хотелось бы не видеть ее больше никогда. – Суровое выражение его лица смягчилось. – Но меня больше беспокоишь ты, сестрица. Как воспринял это король? – Не знаю, – ответила Анна, холодея от мысли о возможной реакции Генриха. – Я с ним не виделась. – Когда увидишься, продемонстрируй ему любовь и раскаяние. Скажи, что сделала это в отчаянии, из страха потерять его. – Так я и сделаю, – согласилась Анна. Генрих не пришел распекать супругу или выяснять подробности, но его неудовольствие вскоре было выказано явно и открыто. Страдая от чувства вины, что не видела дочь в ее первый день рождения, Анна поехала навестить Елизавету в Ричмонд. Вместе с ней отправились дядя Норфолк, герцог Саффолк и целая свита лордов и леди. Некоторое время Анна провела, играя с ребенком, весьма разговорчивым и любопытным. Девочка, одетая в бархатные юбки и расшитый лентами чепчик, топала на неуверенных ножках и скакала на терпеливой Маленькой Почему, а леди Брайан и прочие няньки стояли вокруг, готовые подхватить малышку, если та вдруг упадет. Елизавета с интересом рассматривала Анну, тянула к ней пухлую ручку, щипала за щеку и повторяла: – Милая леди. Два герцога, высказав положенное количество похвал принцессе, начали приходить в нетерпение. – Я не останусь надолго, – сказала Анна. – Темнеет быстро. Мы уедем не позднее четырех часов. Тут Норфолк шокировал ее заявлением: – Ваша милость, король приказал нам посетить леди Марию, пока мы здесь, и передать ей его приветствия. Произнесено это было тоном, не терпящим возражений. – Вы не пойдете! – вспыхнула Анна, не в силах поверить, что Генрих отдал такое распоряжение. – Это повеление его милости, – напомнил Саффолк. – Мы не смеем ослушаться. И с этими словами оба удалились, а другие лорды и даже некоторые ее дамы потянулись следом. Анна встала и передала Елизавету леди Брайан. Анна была потрясена, осознав, что ее власть идет на убыль и все это понимают. Возможно ли, чтобы Генрих, даже сейчас, размышлял о восстановлении Марии в правах на наследование престола? Если так, где окажутся они с Елизаветой? Она должна была что-то предпринять. Если бы только она была беременна! Однако Генрих не посещал ее ложе с тех пор, как она укорила его связью с Джоан Эшли, и эта маленькая стерва все еще обреталась при дворе. В Уайтхолл возвращались по воде, Анна сидела в каюте за зашторенными окнами. Она не могла разговаривать с предавшими ее слугами. А оказавшись в убежище своих покоев, бросилась на постель и залилась горючими слезами. Немного оправившись, Анна решила, что будет благоразумно исполнить желание Генриха. Если она проявит дружелюбие к Марии, это может способствовать возвращению ей королевских милостей. Поэтому мачеха написала падчерице теплое письмо с пожеланием не падать духом. Ответа не последовало, хотя Анна подозревала, что Генрих прослышал о ее послании, так как начал снова посещать ее по ночам. Король сохранял отстраненность и проводил с ней лишь время, необходимое для того, чтобы супруга зачала ребенка, но в данный момент этого было достаточно. Когда она забеременеет, он вернется к ней, как уже бывало, а Джоан Эшли пусть пойдет и повесится! А когда родится сын, никто не посмеет тронуть Анну.
В Англию с официальным визитом прибыл французский адмирал. Целью посещения было развитие дружеских отношений между двумя королевствами. В честь гостя Генрих устроил пышный банкет и пригласил ко двору множество прекрасных дам. Анне предстояло сидеть во главе стола, а потому наряд она выбирала с особой тщательностью. Взгляд в зеркало сказал, что она выглядит напряженной, несчастной и на все свои тридцать три года. Анна пощипала щеки и покусала губы, чтобы стали поярче. Важно было явиться в лучшем виде и не затеряться на фоне других женщин. Она хотела произвести впечатление на адмирала, который являлся близким другом французского короля и обладал большой властью в своей стране. Следовало убедить его, что нет лучшей невесты для младшего сына короля Франциска – Карла, герцога Ангулемского, – чем принцесса Елизавета. Согласие французского монарха на их брак послужило бы на пользу общественного признания Анны королевой, а Елизаветы – законной наследницей Генриха. Стоит обручить Елизавету с сыном Франциска, и он наверняка станет таким же влиятельным другом для Анны, каким был император для Екатерины. Попытку договориться о браке Елизаветы Анна предприняла с одобрения Генриха. Он сам заговорил об этом союзе некоторое время назад. Король сказал немного, но Анна догадалась, что он задумывался о том времени, когда Елизавета станет королевой Англии. Брак с младшим сыном Франциска, который не имел обязательств перед своей страной и мог жить на чужбине, не поставит Англию в прямую зависимость от Франции. Главный зал освещала тысяча свечей, посуда на буфетах сверкала. Во время банкета адмирал, образованный и довольно красивый аристократ, вежливо слушал рассуждения Анны. Он ничего не отрицал. Видя, что уговорами большего не добиться, Анна спросила, встречался ли он с Леонардо да Винчи, и тот ответил утвердительно, добавив, что любимый портрет старого мастера «Мона Лиза» теперь висит в купальне короля Франциска. Анна предавалась воспоминаниям о своей жизни при французском дворе и наблюдала за танцующими, когда к ним присоединился Генрих. – Милорд адмирал, я собираюсь привести вашего секретаря и познакомить его с королевой, – сказал он. Анна смотрела вслед королю, который, виляя, пробирался мимо кружащихся пар, и вдруг увидела, как Генрих остановился и поклонился какой-то даме. Это была Джоан Эшли! Через мгновение они уже танцевали. Пораженная этим зрелищем, Анна громко рассмеялась. Адмирал обиделся: – Мадам, вы смеетесь надо мной? Анна быстро покачала головой, указала рукой туда, где находился король, и пояснила: – Он пошел за вашим секретарем, но натолкнулся на даму, и та заставила его совершенно позабыть, куда и зачем он шел! Она снова засмеялась, но глаза ее наполнились слезами. Адмирал смущенно отвернулся.
Мария прозябала в деревне уже три месяца. Джордж узнал, что они с Уильямом уехали жить к Стаффордам. – Я все еще зла на нее, – призналась брату Анна. – Пусть лучше здесь не появляется! Но тут пришел Кромвель и показал Анне письмо Марии, в котором та молила о заступничестве. Анна прочла послание сестры, потом с отвращением сунула его назад в руки Кромвелю и резко бросила: – Так она ничего не добьется! Никогда не слышала, чтобы проситель высказывался в столь заносчивом тоне, не выражая ни малейшего раскаяния. С чего она решила, будто ее тяжелое положение заслуживает большего сочувствия, чем несчастья других людей? Мастер Кромвель, она слишком многого требует от вас. Если она действительно рассчитывает на примирение со мной, то использует для этого неподходящий способ. Анна не призналась, как сильно уязвили ее слова Марии: «Конечно, я могла бы связать свою судьбу с человеком более высокогопо рождению статуса, но уверяю тебя, мне не найти другого, который бы так меня любил. Я скорее стала бы просить подаяние вместе с ним, чем стала бы венчанной на царство королевой». Насмешка задевала слишком глубокие чувства, обнажала ревность Марии и выявляла горькую иронию сложившейся ситуации. – Никогда впредь не приму ее при дворе, – сказала Анна Кромвелю. – Бесполезно просить за нее. – Я и не собирался этого делать, мадам, – ответил тот. – Письмо пропитано ядом, я это почувствовал. Посоветую леди Стаффорд отправляться с мужем в Кале и оставаться там.
Приближалось Рождество. Анна и ее дамы шили одежду для бедняков, когда вдруг появился Генрих. Вид у него был необычайно серьезный. – Можете идти, – сказал он, и дамы поспешили удалиться. Король сел в кресло напротив Анны, потом встал и, подойдя к камину с той стороны, где было кресло супруги, присел на корточки и взял ее за руки. Анну так поразил этот жест, что, когда Генрих замешкался, будто подбирая слова для начала разговора, она решила: сейчас он скажет, что между ними все кончено. Именно так случилось с Екатериной. – Я знаю, вы очень дорожили Маленькой Почему, – наконец произнес он. – Анна, мне больно это говорить, но час назад она выпала из окна. Спасти ее было невозможно. – О нет! – воскликнула безутешная Анна. Генрих замялся, потом положил руки ей на плечи, и, несмотря на печаль по поводу ужасной кончины бедной Маленькой Почему, было приятно чувствовать его близость и доброту после столь долгого охлаждения. Бесценный момент, когда Анна ощутила себя в безопасности. – Никто не смел сообщить вам, – произнес Генрих ей в волосы. – Моя милая племянница Маргарита пришла и спросила, не возьму ли я это на себя. Мне очень жаль. Все произошло так внезапно. Король отстранился. Анна поискала глазами его взгляд, но прочла в нем только сожаление. Рождество прошло ужасно. При дворе был Гарри Перси и, когда Анна встретилась с ним лицом к лицу в галерее, бросил на нее презрительный взгляд и прошел мимо, даже не дав себе труда поклониться. Анна почувствовала, будто ей дали пощечину. – Не унывайте, племянница! – журил ее за обедом дядя Норфолк. – С таким кислым лицом вы не заманите короля в свою постель! – Подите и сами кого-нибудь заманите в свою! – не дала ему спуску Анна. Все замерли. Потом Норфолк поднялся, бросил на стол салфетку и направился к выходу. – Понимаю, почему вас называют великой блудницей! – прошипел он, оказавшись у дверей. В этот самый момент явился король. Норфолк едва не столкнулся с ним. Генрих посмотрел на герцога, потом на Анну. Она ждала, что сейчас он взъярится и изругает дядюшку за то, что тот так грубо с ней разговаривал, – он должен был слышать слова Норфолка, – однако король ничего не сказал и, без сомнения решив, что любовница будет для него более подходящей компанией, удалился. Анна была близка к отчаянию. Один раз он пропустил мимо ушей нанесенное супруге жестокое оскорбление, но больше такого допускать нельзя.
Глава 24. 1535 год
Однажды вечером в конце января Генрих пришел к Анне ужинать. Казалось, он был настроен на примирение. – Это вас порадует, – заговорил король. – Я назначил Кромвеля главным викарием с правом осмотра всех религиозных сооружений в королевстве. Как и вы, я озабочен искоренением злоупотреблений в моей Церкви, но поступает много сообщений о разных нарушениях в монастырях. Более того, Кромвель говорит, что некоторые мелкие обители не имеют средств на содержание. Анна воспряла духом: – Вы реформируете монастыри? – Я хочу оценить их богатства и выявить недостатки в деятельности. – Вы закроете те, что слишком бедны или пользуются дурной славой? Генрих поколебался. Налил себе вина и сделал большой глоток. – Я намерен со временем закрыть их все. – Все? – Такого Анна не ожидала. – Тут нет ничего нового, Анна. Генрих Пятый сделал это сотню лет назад. Уолси закрыл несколько самых незначительных или разложившихся обителей. Вы знаете, что за последнее столетие в Англии появились только два новых монастыря? – Но монастыри помогают бедным. Они заботятся о больных… – Это рассадники папства! – перебил Генрих. – Оплоты смуты и предательства. Они жиреют на богатствах, которые должны принадлежать мне как главе Церкви. И это даст средства на поддержку моих реформ – реформ, которых желали вы, Анна. Я могу продать монастырские земли тем, кто поддерживал меня в противостоянии с Римом, а остальное пойдет на пополнение казны. Она почти пуста. Анна это знала. Генрих растратил богатства своего отца на развлечения и бесполезные войны. Во многих отношениях Анна одобряла планы короля и его намерение уничтожить папство. Но что ждет монахов и монахинь, которые окажутся выброшенными на улицы? Что станет с больными, о которых некому будет заботиться? С нищими, которые начнут голодать, лишенные милостыни, раздаваемой у монастырских ворот, и путниками, которым негде будет остановиться на ночлег? Не меньшее зло – трагическая утрата монастырей, которые славились высокими достижениями в образовании и являлись хранителями знаний, накопленных в огромных библиотеках. Это дело рук Кромвеля, Анна была уверена. Разве не обещал он сделать Генриха богатейшим из английских монархов? Но хорошо ли он все продумал? Неужели нельзя придумать что-то другое? – Не сомневаюсь, что ваша милость сделает все как нельзя лучше, – сказала Анна, решив посмотреть, что из всего этого проистечет, и попытаться найти компромиссное решение. В ту ночь Генрих остался с ней. Он быстро получил свое удовольствие и как раз надевал ночную рубашку, чтобы вернуться к себе, но тут Анна поймала его за руку и спросила: – Как вы думаете, Франциск согласится на брак Елизаветы? Анна надеялась, что Генрих не заметит, какие большие надежды она возлагает на это. Он вздохнул и высвободил руку: – Не знаю, Анна. Франциск стал таким добрым сыном Церкви: уничтожает ереси и свободомыслие. Он может воспротивиться женитьбе своего сына на дочери той, чей брак так часто ставился под сомнение. Сердце Анны пронзили ледяные осколки. И это Генрих, столь ревностно добивавшийся признания ее истинной королевой, говорит теперь такие слова! Неужели он уже и сам сомневается? А не собирается ли он развестись? Лежа одна в постели, Анна говорила себе: даже если Генрих жалеет, что женился на ней, все равно она в безопасности, потому как сторонники Екатерины любой признак близящегося разрыва короля с супругой восприняли бы как признание того, что он с самого начала ошибался, и как повод начать подталкивать его к воссоединению с бывшей женой. А этого они не дождутся, Анна была уверена.Только в конце февраля Пальмедес Гонтье, секретарь адмирала Франции, попросил аудиенции у короля и королевы. – Это, должно быть, по поводу брака Елизаветы! – воскликнула Анна. – Если он попросил, чтобы вы тоже присутствовали, наверное, да, – улыбнулся Генрих. – Принято советоваться с королевой, когда речь идет о поиске супруга для ее дочери. Анна сидела рядом с Генрихом на помосте в заполненном людьми приемном зале и улыбалась приближающемуся Гонтье. Он поклонился и передал ей письмо адмирала. Анна начала жадно читать, но настроение ухудшалось по мере того, как становилось ясно, что в этом послании не содержится ни единого слова о помолвке Елизаветы. Генрих взял письмо, прочел, потом хмуро посмотрел на Анну, будто она была во всем виновата: – Прошу меня извинить, но я должен проконсультироваться со своим советом. И, оставив Анну в обществе Гонтье, отошел. Она попросила Гонтье подойти ближе. Нужно было что-то сказать. Со стороны Франциска проигнорировать сделанное предложение – это равносильно грубости. Анна сознавала, что лорды и придворные внимательно за ней наблюдают, некоторые с плохо скрываемой враждебностью. Когда посол подошел ближе, она понизила голос: – Скажите вашему господину, сэр, что столь долгая отсрочка с ответом на предложение о браке возбудила в короле, моем супруге, множество странных мыслей, которые необходимо срочно развеять. Я надеюсь, что король, брат мой, не желает свести меня с ума неведением, к чему я уже близка, и поставить меня в еще более трудное положение, чем то, в котором я нахожусь с момента замужества. Гонтье вздрогнул, очевидно, смущенный ее несдержанностью. Анна понимала, что непростительным образом нарушает дипломатический этикет, но ей было все равно. Она боролась за будущее дочери и свое собственное. – Прошу вас, поговорите с адмиралом от моего имени, – молила Анна. – Я не могу говорить с вами так обстоятельно, как мне хотелось бы, – здесь неподходящее место; и за мной следит множество глаз. Я не могу написать, не могу встретиться с вами еще раз и не могу больше вести эту беседу. Анна встала – секретарь смотрел на нее с изумлением – и присоединилась к Генриху, который взял супругу за руку и вывел из зала. – Я сказала ему, что мы с нетерпением ждем согласия на брак, – беззаботным тоном прочирикала она.
Уже несколько дней всегда бывшая настороже Анна видела, что Джоан Эшли ходит с унылым лицом. – Думаю или, скорее, надеюсь, что король от нее устал, – сказала Анна Мадж Шелтон. Вместе с Мэри Говард и Маргарет Дуглас они просматривали стихи, которые Мадж и ее подруги собрали в своих альбомах. – Так и есть, – откликнулась Мадж. – Сегодня утром она из-за этого плакала. – Он всегда был переменчив! – Анна горько усмехнулась. – Знаешь, Мадж, я уже перестала ждать от него верности. Мне невыносима заносчивость этой маленькой сучки. – Она больше не задирает нос, – заметила Мадж. – Вам повезло, что у вас такой поклонник, как Норрис, – сказала Маргарет. – Он хороший человек. И не склонен к изменам. Анна обомлела. Норрис ухаживает за Мадж? Быть этого не могло! Он любил ЕЕ, она это знала. Но она для Норриса запретный плод… а он мужчина со своими мужскими потребностями. Следует радоваться, что сэр Генри ищет счастья на стороне. Тем не менее эта мысль не утолила боль от полученной раны. Мадж с любопытством поглядывала на Анну. Взгляды их скрестились. – Он не может быть верен мне, – прошептала Мадж. – Потому что любит другую. Если она догадалась, то и другие тоже могли! – Чепуха! – Маргарет улыбнулась Мадж. – Он говорил мне о своих надеждах на брак с вами. – Ну и напрасно он надеется, – заявила Мадж. – Если король должен иметь даму сердца, то вашей милости нужно поставить на его пути такую, которая любит свою госпожу и завоюет для нее его симпатию. – Глаза их снова встретились. – Вы делаете предложение? – после долгой паузы спросила Анна. – У меня уже были любовники. – Мадж пожала плечами. – Под одеялом даже король такой же, как другие мужчины. – Вы сделаете это для меня? – спросила Анна, глубоко тронутая. – Конечно сделаю. Ведь вы мне родная. Мы все многим вам обязаны. – Вы уверены, что хотите это сделать? – уточнила Анна. – Это рискованно. – Беременность можно предотвратить, – рассмеялась Мадж. – Женщина должна испытывать удовольствие, чтобы зачать. Я буду думать о чем-нибудь печальном, если у меня начнет кружиться голова! Какой причудливый замысел – соблазнить собственного мужа. До чего же она докатилась! Но если Мадж удастся убедить короля лучше обходиться с супругой, затея может оказаться стоящей.
– Сработало! – шепнула Мадж Анне через два дня по пути на мессу. Анна не знала, что и чувствовать: радоваться или ревновать. Она должна была испытывать благодарность к Мадж, но не могла отделаться от ощущения обиды. Генрих, вероятно, пытался добиться благосклонности ее кузины. Анна его больше не заботила. Однако еще через два дня Мадж впала в уныние: – Его не интересуют разговоры, а когда я упомянула вас, он сказал, что у нас есть более приятные занятия. Неделей позже все было кончено. – Не знаю, как вы терпели это, Анна, – сказала Мадж, перебирая украшения в шкатулке королевы; Уриан тыкался носом в ее руку. – Он самый скучный любовник из всех, какие у меня были. Слава Богу, я ему надоела!
Леди Мария снова заболела. Генрих застал Анну в ее кабинете за написанием писем. – Доктора опасаются за ее жизнь, – с убитым видом сказал он. – Шапуи умоляет, чтобы ее отправили лечиться к матери, но я не смею позволить. Что, если Мария сбежит за границу? Это ей легко удастся, если она будет с Екатериной. Император придет ей на помощь и припрет меня к стенке. – Генрих сел и обхватил голову руками. – Если бы Екатерина решилась встать на защиту Марии, то могла бы развязать против меня такую же ожесточенную войну, как те, что вела в Испании ее мать Изабелла. – Обе они бунтарки и изменницы, заслуживающие смерти, – заявила Анна, – и, пока живы, всегда будут доставлять вам проблемы. – Если вы подарите мне сына, они ничего не смогут сделать! – выкрикнул король. – Небесам известно, я старалась, – бросила она в ответ. – Я каждый день молюсь о сыне, но, боюсь, это напрасный труд. Позавчера я видела сон, в котором Господь открыл мне, что мне не зачать ребенка, пока живы Екатерина и Мария. Генрих взглянул на нее с неприязнью: – Иногда я задумываюсь, действительно ли Господь одобряет этот брак. Вы должны исполнять свой долг, мадам, а не выдумывать оправдания. И, не сказав больше ни слова, вышел.
Анна чувствовала себя как никогда несчастной и затравленной. Не помогали и рассказы отца об участи ее клеветников. Женщину заключили в тюрьму за то, что та называла Анну шлюхой и проституткой, священника – за слова, что от Анны воняет хуже, чем от совокупляющейся свиньи. Еще отвратительнее было заявление представшего перед Тайным советом монаха, который говорил, что юный Генри Кэри – сын сестры Анны от короля. К счастью, мальчик, находившийся после отъезда Марии и Уильяма Стаффорда в Кале под опекой Анны, жил с бабушкой в Хивере и не ведал ни о каких слухах. Однако преступление всех этих мелких людишек состояло в мятежных разговорах. Гораздо больше беспокойства вызывало открытое неповиновение влиятельных людей. Что бы ни говорил Генрих Анне наедине, на публике он не хотел терять лица. Все должны были признать, что его решение оставить Екатерину и жениться на Анне было правильным, что Елизавета – его законная наследница, а он – высший глава Церкви Англии. Когда дело касалось тех, кто уклоняется от клятвы верности, король становился жестоким. В мае в Тайберне были казнены настоятель картезианского монастыря в Лондоне, два приора-картезианца и брат из обители Сион – их повесили, тела выпотрошили и четвертовали. Норрис присутствовал на казни и после передал Анне, что монахи вовсе не выглядели напуганными и шли на смерть с радостью. Он опустил в своем рассказе мрачные подробности, и она с трудом могла представить себе, каково это – быть привязанным к волокуше и протащенным по улицам города, повешенным до полуудушения, а потом претерпеть ужасы кастрации, потрошения и обезглавливания. По крайней мере, когда тела казненных разрубали на четыре части, чтобы выставить на обозрение публики, несчастные уже ничего не чувствовали. – Как реагировали люди? – спросила Анна. Норрис поморщился. – Они обвиняли меня, – прошептала Анна. Кивок Норриса был едва заметен, а его глаза полны сочувствия. Анна отвернулась. Она не смела думать о том, как много значил для нее Норрис. Если бы подумала, могла сломаться.
На той же неделе Генрих снова предложил Фишеру и Мору произнести клятву верности, и оба в очередной раз отказались. – Они изменники и заслуживают смерти, – твердила Генриху Анна, отчаянно желавшая, чтобы эти двое умолкли навеки. – Их подвергнут допросу, – с мрачным видом обещал король. – Закон будет исполнен. – Никто не должен подвергать сомнению права нашего сына. – Нашего сына? – Сир, я жду ребенка! – триумфально сообщила Анна. Она еще была не до конца в этом уверена, но так хотела вернуть себе любовь и уважение короля, что не могла сдержаться. Генрих взял ее руку и поцеловал: – Я благодарю Господа. Вы должны заботиться о себе, Анна. Мы должны сделать все, чтобы не потерять этого ребенка. Конечно, Анна ждала несколько иной реакции, но все же усматривала в ней начало новых отношений. Удача снова на ее стороне, убеждала себя Анна и с нетерпением ожидала возвращения Джорджа из нового посольства во Францию в надежде, что брату удалось склонить короля к согласию на брак Елизаветы с герцогом Ангулемским. Однако хватило одного взгляда на его лицо по возвращении в Гринвич, чтобы догадаться о неудаче посольства. – Как смеет Франциск столь пренебрежительно относиться ко мне! – кипела от возмущения Анна. Разочарование не должно омрачить ее радость, ведь скоро родится сын! Анна устраивала пиры, спортивные состязания и танцы. Настроение ее улучшилось, а вместе с ней немного развеялся и Генрих. Наметились признаки изменений, о которых молилась Анна. Пока она танцевала и веселилась, десять монахов-картезианцев, отказавшихся признавать главенство короля над Церковью, по приказу Генриха были прикованы цепями к столбам в стоячем положении и оставлены умирать от голода. Пусть это послужит назиданием ее врагам. Жаль, что Генрих не велел приковать так же Фишера и Мора, чтобы те тоже отправились в мир иной. Но она еще своего добьется. Анна устроила пышный банкет для Генриха в подаренном ей роскошном доме в Хэнворте, в двенадцати милях от Лондона. Любимое королем легкое и сладкое анжуйское вино лилось рекой, и вскоре виновник торжества был пьян, обнимал Анну, горячо целовал и на глазах у всех поглаживал ее живот. – Есть люди, которые желали бы убрать меня с дороги, – прошептала она ему на ухо. – Пока они живы и распространяют злонамеренные речи, титул не будет обеспечен малышу, которого я ношу под поясом. – О ком вы говорите, дорогая? – едва ворочая языком, спросил Генрих. – О епископе Фишере и сэре Томасе Море! Ради нашего сына, сир, прошу вас, отправьте их на смерть. Заставьте замолчать тех, кто имеет власть помешать нам! – Будет сделано, – обещал Генрих. – Я ни в чем не могу отказать матери моего сына.
Через два дня епископа Фишера судили в Вестминстер-Холле и приговорили к каре, достойной изменника. Вскоре после этого пришло известие из Рима: папа Павел назначил Фишера кардиналом и посылает для него в Англию дзукетто – красную шапочку. – Силы небесные! – бушевал Генрих. – Он будет носить эту шапку на плечах, потому что, когда ее привезут, головы у него уже не будет! Еще три картезианских приора умерли жестокой смертью в Тайберне. Поднялись публичные протесты, люди были возмущены тем, что такое же наказание предстоит вынести семидесятишестилетнему Фишеру. Генрих заменил его на обезглавливание. Епископ принял смерть на плахе на Тауэрском холме, а его голову в назидание всем выставили на Лондонском мосту. В день смертных мук Фишера Анна пошла на мессу, борясь с неожиданным чувством вины, поэтому приказала капеллану молиться об упокоении души епископа. Ту ночь она провела без сна. На следующий день Анна твердо сказала себе, что казнь была оправданной. Фишер – опасный враг. Успокоив тем свою совесть, она приказала устроить представление масок для развлечения короля и изобразить восседающего на небесах Господа, который подает знаки, что одобряет недавнюю казнь. Генрих смотрел представление, сияя от удовольствия, и громогласно хохотал при виде себя самого, отрубающего головы священникам. Не был ли его смех слишком громким? Ощущал ли он на душе ту же тяжесть, что и она?.. После того как король распорядился, чтобы она организовала такое же увеселение в канун Петрова дня – в этот день в Англии было принято чествовать папу, – Анна решила, что нет. Когда ей передали, что голова Фишера не разлагается, Анны почувствовала, как по телу поползли мурашки. Некоторые называли это признаком святости, отчего становилось еще тревожнее: ведь если Господь на стороне епископа, то Он, разумеется, не одобряет ее, Анну! Услышав, что голова Фишера была сброшена в Темзу и утонула, королева испытала невероятное облегчение.
Объявление о том, что Анна скоро родит, изменило все. Никто теперь не смел пренебрегать ею, с ее мнением вновь стали считаться, и люди кинулись искать милости и заступничества дражайшей супруги короля. Когда шут Генриха, разыгрывая дурную шутку, крикнул: «Анна – потаскушка, а ребенок – бастард!» – король так разъярился, что Анна подумала, он прибьет его. Дураку было велено скрыться с глаз и не показываться. В конце июня Анна уже ослабляла шнуровку на платье, чтобы приспособить его к растущему вместе с ребенком животу, и чувствовала себя превосходно. Но однажды утром, наблюдая за игрой в теннис Норриса и Уэстона, она почувствовала тянущую боль в пояснице. Анна вернулась обедать в свои покои, и боль переместилась в чрево. Она приходила и уходила. Анна упорно старалась не замечать ее. Это ничего. Скоро пройдет. Но стоило подняться, и она ощутила влагу между ног, а путь в уборную отметили кровавые пятна на полу. Вскоре кровотечение усилилось; кровь выходила сгустками, а спазматические боли стали невыносимыми. Дрожа от страха, Анна закричала – прибежали дамы. Вскоре она родила крошечного, прекрасно сформировавшегося мертвого мальчика.
Генрих сидел у постели Анны, убитый горем. – Почему Господь отказывает мне в сыновьях?! – восклицал он. Выносить его печаль было тяжелее, чем гнев, которого он не выказывал. Анна лежала на постели и даже не могла плакать от потрясения. Все произошло так внезапно. Она старалась, как могла. – Мы попытаемся снова, Генрих. – Сколько еще раз нам пытаться? – бросил он в ответ. – У многих знакомых мне мужчин сыновей целый выводок. Я веду праведную жизнь, я люблю Господа, расстался с незаконной женой, так почему мне не дается это благословение? – Не знаю. Я берегла себя, ела как полагается, не перенапрягалась, отдыхала. Это просто случилось, и мне очень жаль, очень, очень жаль. – Это не ваша вина, – согласился Генрих. – Но если станет известно, что вы родили мне двоих мертвых сыновей, наши враги скажут, что Бог нас проклял и это мне в наказание за мои деяния. Я не смею во всеуслышание объявить об этой новой неудаче, и вы проследите, чтобы ваши фрейлины держали рот на замке под страхом вызвать мое высочайшее неудовольствие. – Король устало поднялся, выглядел он сейчас на все свои сорок четыре года. – Я приду к вам, когда вы оправитесь. Анна потянулась и схватила его за руку: – Генрих, вы же не думаете, что Господь нас проклял? – Я больше не знаю, что и думать, – пробормотал он.
В первый день июля сэра Томаса Мора судили за измену в Вестминстер-Холле и приговорили к смерти. Шесть дней спустя он взошел на плаху на Тауэрском холме и умер под топором. Анна поднялась рано, чтобы вместе с Генрихом дожидаться новостей в его личных покоях. Она видела, что с течением времени король становится все более беспокойным и взволнованным. В девять – час, назначенный для казни, – он вызвал хранителя винных подвалов, одного из своих любимых партнеров по игре в кости, и они сели играть. Анна наблюдала, едва следя за ходом партии. С поклоном вошел Норрис: – Ваша милость, Томас Мор мертв. Генрих бросил кости. Хранитель винных подвалов кивнул. – Он говорил с эшафота? – Он заявил, что умирает верным слугой вашей милости, но прежде всего – Господа. Генриха затрясло. – Что я наделал… – едва слышно произнес он. – После смерти Фишера люди возмущались. Насколько громче заговорят они теперь? И не только в Англии. Новость разнесется по всему христианскому миру. – По лицу короля текли слезы. – Оставьте нас! – приказал он. Анна собралась уходить, но король схватил ее за запястье. – Стойте! Когда все прочие удалились, Генрих на нее накинулся. – Это все из-за вас! – орал он. – Честнейший человек в моем королевстве мертв! Видя его искаженное гневом лицо, Анна дрогнула, а из груди короля вырвалось громкое надрывное рыдание: – Вас следует винить во всех ужасных событиях, которые произошли за последнее время в этом королевстве! Как несправедливо! – Сир, ни один мужчина не может быть обязан женщине больше, чем вы мне, – возразила она. – Разве не я вывела вас из состояния греха? Разве не я была причиной реформирования Церкви для вашей личной выгоды и на пользу всем? – Вы натравили меня на этих добрых людей, и они мертвы! – Вы сами жаждали наказать их! – не сдавалась Анна. – Убирайтесь! – взревел Генрих. – Меня от вас тошнит!
В тот месяц посланцы короля начали объезжать монастыри и посылать отчеты об инспекциях, которые Кромвель собирал в одну большую книгу. Оставшись наедине с Джорджем в своих покоях, Анна поделилась с братом опасениями: – Меня беспокоит план закрытия монастырей. Надо позаботиться о том, чтобы их богатства использовались на благие цели. – Думаю, король считает благой целью пополнение своих сундуков, – заметил Джордж. – А я бы лучше отправил всех монахов и монахинь гнить в аду. Анна знала, что в душе ее брат лютеранин, многие и ее тоже считали таковой. Конечно, она стала надеждой для тех, кто втайне принимал заповеди Лютера. Для таких, к примеру, как пламенный Роберт Барнс, который покинул Англию из страха подвергнуться преследованиям, но благодаря ее протекции четыре года назад вернулся, открыто проповедовал в Лондоне, и никто не чинил ему препятствий. В те дни Генрих исполнял любое желание Анны. Еще в прошлом году он согласился отпустить осужденного еретика, а четыре месяца назад одобрил назначение капелланом лютеранина Мэтью Паркера. – Никто не может сказать, что я не друг истинной религии, – сказала Анна Джорджу. – Я считаю себя ревностной защитницей Христова Евангелия. Но использование монастырских богатств на подкуп людей, которые будут поддерживать верховенство короля над Церковью, кажется мне неправильным. У меня есть стойкое убеждение, что конфискованные сокровища следует направить на просветительские и благотворительные цели, это пойдет на пользу всем. – И ты думаешь, король на такое согласится? – Постараюсь его убедить. Это будет непросто, учитывая, что они почти не разговаривали. Джордж фыркнул: – Кромвель этим точно не станет заниматься. Он сделает короля богатым и тем добьется больших милостей для себя. – Кромвель забрал себе слишком много власти. – Боюсь, его могущество превосходит твое. – Пока я снова не забеременею. – Ты полагаешь, у тебя есть шанс забеременеть? Анна, я вижу, какие у тебя отношения с королем. Она не заплакала. – Не беспокойся, я заставлю его вернуться ко мне. И тогда Кромвелю лучше будет поостеречься, потому что я найду способ с ним управиться! – Вперед, сестрица! – зааплодировал Джордж.
Желая накопить сокровища на Небе и надеясь, что вместе с Генрихом, Анна проводила дни за совершением добрых дел, которые обеспечат ей спасение и улучшат ее счеты с Господом. Каждую неделю она раздавала бедным милостыню и кучи одежды, сшитой вместе с придворными дамами. Снабжала вдов и обедневших домохозяев, выделяя им средства на покупку скота и прочей домашней живности. Не страшась обидных выкриков, посещала города и веси, посылая вперед своего подателя милостыни, чтобы тот узнал у приходских властей, есть ли в округе нуждающиеся семьи. Когда Анна прибывала на место, то выдавала деньги на их поддержку. Она помогала бедным студентам, обеспечивая им возможность получать образование. И даже оказала поддержку незаконнорожденному сыну Уолси, когда тот вернулся из Падуанского университета, не имея в кармане ни пенни. Благодаря ее письменному обращению к королю Франциску получил свободу заключенный в тюрьму как еретик французский гуманист Николас Бурбон. Когда он прибыл в Англию, Анна сделала его наставником своего племянника Генри Кэри. Бурбон не находил слов, чтобы выразить свою вечную признательность: – Ваша милость, вы одна из возлюбленных чад Господа! Анне очень хотелось бы в это верить. Несмотря на множество благих дел, ее все равно ненавидели, и она это знала. Генрих редко посещал Анну в эти дни, но как-то пришел в ее покои и сообщил, что наконец уговорил короля Франциска начать переговоры о браке Елизаветы с его сыном. Это известие подбодрило Анну, ведь если бы король намеревался развестись с ней, то не стал бы заниматься устройством замужества их дочери. Но однажды, когда она отдыхала в своем личном саду с книгой в руках – у ног спал Уриан, а вокруг на траве расположились болтающие и смеющиеся дамы, – за высокой живой изгородью послышались голоса. – Заглядывая в будущее, люди надеются на леди Марию. – (Анна узнала голос Кромвеля!) – Принцессе Елизавете нет еще и двух лет, и, если что-нибудь случится с королем, у Марии гораздо более реальные шансы на то, чтобы занять и удержать за собой трон. Я принял решение оказать поддержку Марии, что будет соответствовать интересам всех. – Рад слышать, господин секретарь, – произнес в ответ Шапуи. – Кто-то должен отстоять права принцессы. Многие не признают ребенка Леди законным. – Это мне прекрасно известно. Я ищу возможность внести изменения в Акт о престолонаследии, чтобы назвать наследницей короля Марию. Да как он смеет! Это измена! Анна подскочила, бросила книгу и выбежала из сада. Завидев приближающуюся к ним разгневанную королеву, мужчины в испуге замерли, потом Кровель опомнился и низко поклонился, а Шапуи пошел прочь, не удостоив ее приветствием. – Вы предатель! – дрожа от ярости, накинулась на Кромвеля Анна. – Я сниму вашу голову с плеч! Что вы говорили о поддержке леди Марии? Отрицать права моей дочери на титул – это измена, вам ли не знать. Кромвель сохранил невозмутимость: – Мадам, как главный министр короля, я должен смотреть на вещи прагматично. Не дай Бог, но, если король умрет, двухлетняя девочка не сможет взять вместо него в свои руки бразды правления. – Кажется, вы кое о чем забыли. Его милость распорядился, что в подобном случае – пока Елизавета не войдет в возраст – абсолютной властью в королевстве буду обладать я. Лицо Кромвеля осталось бесстрастным. – И ваша милость полагает, что лорды согласятся видеть вас регентшей? Мадам, вы не продержитесь и четверти часа. Поверьте, я говорю как друг, желающий вам добра. – Поиски способов лишить мою дочь законных прав, по-вашему, дружеский акт?! Вы превышаете свои полномочия, господин секретарь. Король должен об этом узнать! Кромвель пожал плечами: – Полагаю, вы поймете, что он тоже придерживается прагматичного взгляда на вещи. Ему известно, что я принимаю интересы этого королевства близко к сердцу. – Посмотрим! – крикнула Анна. Генриха она нашла в его личных покоях, он что-то искал в шкафах. На полу валялись собачьи поводки, теннисные мячи и скрученные в рулон карты. – Подождите минутку, Анна, я ищу план военных укреплений Кале. Скоро поеду туда с инспекцией. – Наконец король выпрямился, держа в руках большой свиток. – Ну что там у вас? Она передала слова Кромвеля. – Он изменник, и его следует наказать! – потребовала Анна. Генрих устало сел, поглаживая бороду: – Он самый способный человек во всем королевстве и очень мне полезен. Не хотелось бы терять его. Если он говорил подобное мессиру Шапуи… – Если? – перебила Анна. – Я сама слышала это так же ясно, как слышу вас! – Мадам! – Взгляд короля заставил Анну умолкнуть. – Я не сомневаюсь в том, что господин Кромвель говорил так из сильного желания обеспечить в будущем безопасность королевства. Вы же пока не родили мне сына. – Это не моя вина. И я не могу поверить, что вы остаетесь глухи к его предательству. – Мадам, не в вашем положении предъявлять претензии. А теперь идите и оставьте меня в покое. У меня есть дела. Анна проглотила слезы: – Как я могу родить вам сына, если вы не приходите на мое ложе? – Я приду к вам позже, – сказал Генрих таким тоном, что это прозвучало скорее угрозой, чем обещанием.
Он пришел, как и говорил. Анна изо всех сил старалась быть соблазнительной и приветливой, надела полупрозрачную ночную рубашку и лежала на постели с рассыпанными по подушке длинными волосами. Генрих буркнул что-то в качестве приветствия, забрался в постель и, не снимая ночной рубашки и не произнеся ни слова, совершил действия, необходимые для того, чтобы она забеременела. Полежав немного рядом, чтобы отдышаться, король поднялся и собрался уходить. К тому моменту Анна уже отвернулась и беспомощно плакала, не заботясь о том, слышит он или нет. Внезапно она ощутила на своем вздрагивающем плече руку Генриха. – Анна? Простите, если я был резок. Возможно, вы не виноваты в гибели наших сыновей, а вина лежит на мне? Может быть, я чем-то прогневил Бога? Признаться, я так зол, так смущен и расстроен. Я человек прямой и открытый, иногда грубый. – Он вздохнул. – Удивляюсь, что с нами случилось. Где мы потеряли друг друга? Анна повернулась к нему, села в постели и вытерла глаза: – Я думала, вы вините меня в смерти наших сыновей, что из-за этого я утратила вашу любовь. И когда я увидела, что вы любите других, сердце мое разбилось. Он должен верить, что страдало именно ее сердце, а не гордость. – Вы остаетесь моей госпожой. – Генрих глядел с нежностью, чего не случалось уже много месяцев. – Я хочу показать всему миру, что не ошибся, женившись на вас. Молю Господа, чтобы работа, проделанная этой ночью, принесла плод. Я приду к вам завтра и на следующий день, чтобы быть уверенным. – Он улыбался. На Анну волной накатило облегчение. Она все еще имела над ним власть!
Эта новая нежность между супругами оказалась не мимолетной. Когда Генрих отправился в ежегодную поездку по стране – на сей раз на запад, – он взял с собой Анну. Ее присутствие важно, сказал он, и его цель не только зачать с ней ребенка. – Я решил посмотреть, как проводится в жизнь моя реформаторская политика. Король собирался инспектировать монастыри, разговаривать с епископами и духовенством, выказывать благосклонность, лично посещая тех, кто поддерживает его реформы, а также и традиционалистов, расположение которых хотел сохранить. Все это предпринималось с целью заручиться одобрением грядущего закрытия монастырей. Кромвель, совершавший путешествие отдельно, должен был проверять, соблюдаются ли новые королевские указы, оценивать доходы и общее состояние посещаемых монастырей. Присутствие Анны являлось свидетельством поддержки королевой начинаний короля. Генрих с нетерпением ожидал начала поездки. Он любил появляться перед подданными, наслаждаться собственной популярностью и зарабатывать еще бóльшую, выслушивая обращения людей и удовлетворяя их просьбы. Но больше всего он любил хорошую охоту в этот обильный дичью сезон. Анна заразилась настроением супруга. Она чувствовала себя счастливой, чего с ней уже давно не случалось. Огромная процессия тронулась в путь из Виндзора. Анна скакала на лошади рядом с королем. Следом медленно тянулся длинный хвост из лордов, леди, официальных лиц, слуг, повозок и мулов, навьюченных предметами обстановки, которые король всегда брал с собой во время поездок по стране. В конце июля они прибыли в Уинчкомб в Глостершире. Остановиться предстояло в принадлежавшем Генриху замке Садели. Это великолепное здание возвели по желанию двоюродного дедушки Генриха Джаспера Тюдора, герцога Бедфорда. Анна отправила Джорджа и нескольких служащих своего двора инспектировать аббатство Хейлз, где хранился знаменитый фиал со Святой Кровью – кровью самого Христа, пролитой на Кресте. Люди столетиями стекались поклониться этой святыне. – Это кровь утки, – сообщил ей по возвращении Джордж. – Монахи регулярно заменяют ее свежей. – И они берут с паломников деньги за то, чтобы увидеть это?! – возмутилась Анна. – Передайте им от моего имени, пусть уберут эту пустую приманку с публичного обозрения или почувствуют на себе мой гнев. Джордж проследил, чтобы монахи исполнили приказание. Однако, когда Генрих и Анна были на пути в Тьюксбери, они с раздражением услышали от Кромвеля, что фиал вернулся на место. – Скоро у них не останется четырех стен, где они смогут выставлять его! – прорычал Генрих. Объезд страны продолжался. Они остановились неподалеку от Глостера, в поместье Пейнсвик, потом отправились дальше в замок Беркли, за ним – в Торнбери – красивый, но недостроенный дворец, конфискованный у покойного герцога Бекингема, и в Актон-Корт, где сэр Николас Пойнц, реформатор и друг Кромвеля и Тома Уайетта, специально к их приезду выстроил роскошный новый жилой дом в добавление к старому, отделанному в античном стиле. В начале сентября они прибыли в Вулфхолл, поместье рядом с лесом Савернейк в Уилтшире. Это была резиденция сэра Джона Сеймура, шерифа и мирового судьи графства, дочь которого Джейн находилась в свите Анны. Она с гордостью рассказывала другим фрейлинам о своем фамильном гнезде, оказавшемся совсем не таким великолепным, как они представляли себе по ее словесным описаниям. Анна увидела перед собой крепкий деревянный дом. Они въехали на вымощенный булыжником двор, где их встречали сэр Джон и его супруга. Их рослые сыновья и бледнолицые дочери, выстроившиеся в ряд за спинами отца и матери, кланялись и делали реверансы. Генрих любезно приветствовал хозяина, поцеловал руку леди Сеймур. После чего родители обняли дочь, и безмерно обрадованный хозяин проводил короля и Анну в приготовленные для них комфортабельные апартаменты. По пути сэр Джон с огромным удовольствием показывал гостям впечатляющих размеров построенную им галерею и увешанную гобеленами семейную часовню. Поездка была долгой, поэтому Анна отпустила своих дам и легла отдохнуть. Генрих почти сразу присоединился к ней, и вскоре они занялись любовью, ощущая дуновения теплого сентябрьского ветерка, проникавшего в комнату сквозь раскрытое окно и ласкавшего их сплетенные тела. Потом Генрих налил им обоим вина, которое оставил заботливый сэр Джон. – Он старый плут, – сказал король. – Способный управляющий, немного дипломат, но большой охотник до женщин. – Как? Ему, должно быть, уже лет шестьдесят! – Анна села в постели и взяла у Генриха кубок. – Это старый Приап! Вы же знаете его сына. Не этого шута Томаса или простака Генри, а Эдварда – очень серьезного молодца. Ну, который служил у меня пажом и еще пять лет жил при дворе. Эдвард был очень молод, когда отец нашел ему невесту, и та родила двоих сыновей. А потом я услышал, что ее отправили в монастырь. В прошлом году она умерла, и Эдвард женился снова, и когда я давал ему разрешение, сказал, что отец соблазнил его жену и, возможно, сделал ей сыновей. – Бог мой! – воскликнула Анна. – Теперь он лишил их наследства, и кто его станет винить? Разве вы не заметили холодности между сэром Джоном и Эдвардом Сеймуром? – Нет. Мне было интереснее познакомиться с леди Сеймур, потому что в юности моя мать служила вместе с ней при дворе герцогини Норфолк. Поэт Скелтон посвящал стихи им обеим. – Мой старый учитель, – сказал Генрих. – Я знаю одно его стихотворение: «Госпоже Марджери Уэнтворт». Бедной леди пришлось многое вынести. – И тем не менее она выглядит достаточно веселой. Какой ужас иметь супруга, который забавлялся с женой их сына – и, вероятно, под крышей ее дома! – Мы не будем упоминать об этом. Такое лучше позабыть. – Но это несправедливо, – задумчиво произнесла Анна. – Что именно? – Генрих погладил ее по волосам. – Если бы леди Сеймур совокуплялась с мужем ее дочери, на нее ополчились бы все силы ада. Но если инцест совершает мужчина, это сходит ему с рук. – Его ждет более серьезная расплата, Анна. С него взыщет Господь, которому известно все. – Думаю, скорее земные владыки осудили бы леди Марджери, причем сурово. – Это потому, что женщина не должна компрометировать потомство, которое производит на свет. Супругу нужна уверенность, что дети от него, иначе все законы о наследовании окажутся никуда не годными. – Верно. Но я считаю, сэра Джона следовало привлечь к ответу. – Он и был привлечен, без сомнения, – своей женой!
– Какой впечатляющий рог, – заметила Анна, указывая на огромный, оправленный в серебро охотничий рог из слоновой кости, прикрепленный железными скобами к стене большого зала, где они поглощали обильный и изысканный ужин, приготовленный под надзором леди Сеймур. – Он хранится в нашей семье много поколений, ваша милость, – с гордостью пояснил сэр Джон. – Мы, Сеймуры, наследственные смотрители леса Савернейк, и это символ нашего служения. – Тут мы славно поохотимся, – лучась от удовольствия, сказал Генрих и положил себе на тарелку очередное пирожное с заварным кремом. – Они восхитительны, леди Марджери. – Сезон как раз начался, сэр, – продолжил разговор хозяин. – Мы выедем завтра утром, и ваша милость сможет славно поразмяться. Боюсь, в этих краях живы только зверь да птица. Урожай-то пропал из-за плохой погоды. – Слышал, – отозвался Генрих и помрачнел. Анна знала, что простые люди винят его – и ее, естественно, – за дожди и скудную жатву, видя в том знак Божьего неудовольствия ими обоими. Ропот неодобрения по поводу совершенных в этом году казней тоже не смолкал. Сэр Джон повернулся к Анне: – Ваша милость, надеюсь, вы довольны Джейн. Анна улыбнулась девушке, которая скромно сидела в отдалении от нее за длинным столом и слабо улыбнулась в ответ. – Мне не на что пожаловаться, – ответила Анна, а про себя подумала: «За исключением того, что она никогда ничего не говорит, а должна бы, хотя бы из вежливости. Похоже, она меня не любит, да и сама я тоже не слишком ей симпатизирую». – Она хорошая девушка, – вступилась за дочь леди Марджери. – У вас прекрасная семья, – с задумчивым видом произнес король. – Я родила десятерых, сир, и похоронила четверых, упокой, Господи, их души. Мы считаем себя счастливцами. – Да… Быть сельским джентльменом и притом иметь полный дом детей и такой стол! – не выходя из раздумий, произнес Генрих. Ему нравилось предаваться фантазиям.
Когда она впервые заметила, что Генрихоказывает слишком много внимания Джейн Сеймур? Может быть, увидев их стоящими вместе в саду? Генрих смотрел на Джейн сверху вниз, а она показывала ему растения на грядке с целебными травами, которую устроила сама? Или когда в третий вечер их визита к Сеймурам Генрих склонился над стулом Джейн и похвалил ее вышивку? Та подняла взгляд и одарила короля редкой для себя улыбкой. Эти мелкие детали могли ничего не значить, но по прибытии в Винчестер Анна обратила внимание, что Генрих все чаще находится поблизости от Джейн, а та словно обрела какую-то новую уверенность в себе. Анна решила не придавать значения своим подозрениям, стараясь быть веселой и получать удовольствие от ежедневных выездов на охоту с соколами. Винчестер постепенно начал ей нравиться, как и Генриху. Король был очарован висевшей в главном зале картиной «Круглый стол принца Артура». Иногда Анна думала, что он воображает себя перерождением легендарного короля. По вечерам они пировали, а после дамы Анны и некоторые из джентльменов короля собирались в гостиной королевы, играли в карты или музицировали. Анне было больно наблюдать, как Мадж флиртует с Норрисом, но тот, вероятно сообразуясь с присутствием ее самой или сидевшей сбоку от него Нэн Сэвилл, не отвечал на заигрывания фрейлины, и это радовало. Однажды вечером послали за Марком Смитоном, который находился в свите Генриха, чтобы тот сыграл на вёрджинеле[48]. Джордж стал аккомпанировать ему на лютне, и Анна тайком наблюдала, радуясь, что не замечает между ними признаков более глубоких отношений, чем просто дружеские. Смитон бросал на нее дерзкие взгляды, отчего Анне становилось неловко. В конце концов она отослала его, сказав, что уже поздно и музыка может потревожить короля в его расположенных внизу покоях, а про себя решила, что больше не будет звать Смитона. Они продолжали с удовольствием предаваться охотничьим забавам, которые с избытком предлагал Гэмпшир, и однажды их нагнал Кромвель. Одежда его была в грязи, а конь в мыле. – Ваша милость, мне необходимо срочно переговорить с вами. Тунис пал под натиском императора, турки потеряли большую морскую базу. – Кромвель выглядел необычайно встревоженным. – Фактически они полностью разбиты, потому что их вторжение в восточные пределы империи остановлено. Беспечное настроение мигом улетучилось. Анна задрожала. Генрих побледнел. – Это освобождает Карлу руки для войны с Англией, если он того захочет, – после долгой паузы хриплым голосом произнес король. – Именно так. Не пожелает ли ваша милость, чтобы я проверил, как обстоят дела с защитой королевства? – спросил Кромвель. Генрих кивнул: – Многие укрепления я осмотрел сам, хотя Дувру, вероятно, потребуется усиление. Да, пошлите топографов. Всю ночь король проворочался в постели. – Не можете устроиться удобно? – спросила Анна. – Нет. Слишком много мыслей вертится в голове. – Генрих встал, зажег свечу и справил нужду в уборной в углу спальни. Потом тяжело опустился на кровать, потирая ногу: беспокоила старая рана, полученная много лет назад при падении с лошади. – Сомневаюсь, что Карл сейчас затеет войну ради Екатерины. Ему наверняка известно о ее болезни, однако он может вступиться за права Марии, как он их себе представляет. – Если бы вы приняли против них меры, когда они оказывали неповиновение, то сейчас не испытывали бы этих тревог. – Если бы я пошел на то, к чему вы меня толкаете, Карл со своей армией уже давно стоял бы у моего порога. – Генрих вздохнул. – Нам остается только ждать его дальнейших шагов и молиться, чтобы турки нашли способ отыграться. Хотя, Бог свидетель, я не думал, что когда-нибудь произнесу такие слова.
К моменту, когда они добрались до Вайна, красивой резиденции королевского камергера лорда Сэндиса, у Анны возникли опасения, не отдалился ли Генрих от нее вновь. После получения новостей из Туниса он все время был чрезвычайно озабочен, иногда резок, а в последние две ночи не приходил к ней. Должно быть, его мысли занимала вполне вероятная перспектива войны – войны, которая могла лишить его трона. Бог свидетель, Анну это тоже ужасало. Однако не вызвано ли отчуждение короля более обыденными причинами в лице тихой госпожи Сеймур? Ну ничего, скоро это не будет иметь никакого значения! Анна лелеяла в душе тайную надежду, что снова ждет ребенка, и ожидала момента, когда уверится в этом окончательно, чтобы сообщить Генриху. Только бы на этот раз Господь проявил к ней благосклонность! Анна молилась в маленькой часовне Вайна о даровании сына. В помещении было темно, окна над алтарем затянули холстиной. Лорд Сэндис с глубокими извинениями объяснил, что их ремонтируют, но работа заняла больше времени, чем рассчитывали. Правда, если в часовне и работали стекольщики, следов их присутствия не было заметно – ни инструментов, ничего вообще. Из любопытства Анна вошла в святилище и приподняла холст. Под ним сверкали и переливались всеми красками драгоценных камней выполненные из цветного стекла портреты молодых Генриха и Екатерины. Неудивительно, что Сэндис их спрятал, кому захочется разрушить такую красоту. Сказать Генриху? Обладание этими витражами можно было рассматривать как свидетельство нелояльности, однако Анна знала, что Сэндис всей душой предан королю. Нет, она промолчит и позволит хозяину сохранить это бесценное сокровище.
На следующий день, когда они готовились садиться на лошадей перед началом охоты, Генрих подозвал к себе Джорджа. – Лорд Рочфорд, – очень строго сказал король, – вы должны следить за своей женой. Джордж поморщился: – Что она еще натворила, сир? – Мне сообщили, что, когда леди Мария на днях покидала Гринвич, собралась большая толпа женщин – без ведома мужей, в чем я не сомневаюсь. Они ожидали ее выхода, плакали и кричали, что она их истинная принцесса, несмотря на мои законы, утверждающие обратное. В основном это были простолюдинки и жены горожан, но нашлось среди них и несколько особ благородных кровей, среди которых, милорд, оказалась ваша супруга. – Проклятье! – выругался Джордж, качая головой. – Она рождена создавать проблемы. – Да уж, себе она их создала точно, – согласился Генрих. – В числе главных нарушительниц закона за упрямство и неповиновение, а также чтобы показать, какой ошибочный путь она избрала, я отправил ее в Тауэр. Ваша тетка, леди Уильям Говард, тоже там. Джордж вздрогнул: – Я могу лишь принести извинения за поведение жены. Вашей милости известно, что наш брак крайне неудачен. С тех пор как ваша милость прогнали ее от двора, она жила в Гримстоне, и мы старались не встречаться. Будь иначе, я бы не дал ей совершить столь непростительную глупость. – В Гримстоне ей и следовало оставаться! – Генрих прищурил глаза. – Мне кажется странным, что ваша жена поддерживает леди Марию. – Это не так удивительно, если ваша милость примет во внимание, что ее отец, лорд Морли, всегда любил леди Марию и знал ее еще ребенком, а сама Джейн росла и воспитывалась при дворе вдовствующей принцессы. Она всегда высоко ценила леди Марию. – Ей ненавистна наша семья, – сказала Генриху Анна, – но до сих пор она не изменяла нам. – Думаю, для этого протеста есть причина, – вмешался Джордж. – Лорд Морли когда-то служил у бабушки вашей милости, леди Маргариты Бофорт, и был большим другом ее духовника, покойного епископа Фишера. Думаю, на Джейн повлияла его казнь. – Может быть, и так, – сурово произнес Генрих, – но я возлагаю на вас ответственность за правильное поведение супруги в будущем. Исполните это, милорд, и вы увидите ее на свободе. – Я за нее ручаюсь, – обещал Джордж таким тоном, будто для него это самое неприятное дело на свете.
Слава Богу! Слава Богу! Свершилось то, о чем Анна молилась, что могло спасти ее и сделать непобедимой. – У меня будет ребенок, – тихо сказала она Генриху, когда в первое воскресенье декабря они возвращались с мессы. – Правда? Хвала Создателю! Это ответ на наши мольбы. – Король сжал ее руку и поднес к своим губам на глазах у придворных. Анна с видом победительницы улыбнулась им, не обращая внимания на тонко завуалированную враждебность, написанную на многих лицах. Скоро у них появятся причины сожалеть о своем недружелюбии. В эту беременность Анну замучило ощущение дурноты. На людях Генрих был весь заботливость: посылал за деликатесами, чтобы побаловать ее, настоятельно просил, чтобы она не утруждалась и побольше отдыхала, составлял лекарства, чтобы облегчить ее страдания от тошноты. Внешне Генрих делал все, что положено делать внимательному мужу, но у Анны сложилось впечатление, что стоило им остаться наедине, и его отношение к ней менялось. Однажды, глядя в окно, она увидела в окружении небольшой группы Джейн Сеймур. Это были сэр Фрэнсис Брайан и сэр Николас Кэри, которые оживленно беседовали с братьями Джейн Эдвардом и Томасом. Последний быстро завоевывал расположение короля. К удивлению Анны, к ним присоединился Шапуи. Подобное зрелище вызвало у Анны нехорошее предчувствие: с чего бы всем этим мужчинам уделять так много внимания невзрачной малышке Джейн? Но вот показался закутанный в меха – было холодно – Генрих. На почтительном отдалении от него держалась свита. Вившиеся вокруг Джейн мужчины, как по команде, поклонились и исчезли. Анна смотрела, как Джейн делает реверанс, а Генрих поднимает девушку, берет ее руку и порывисто целует. После чего – вот так сюрприз! – Джейн отдергивает руку, что-то говорит, снова приседает в реверансе и торопливо уходит в сторону дворца, оставляя короля стоять с весьма обескураженным видом. Значит, правда: он преследовал Джейн ухаживаниями. А она, коварная бестия, вела умную игру – такую же, как когда-то Анна. Ведь стоило в чем-либо отказать Генриху, и он готов был перевернуть небо и землю, лишь бы получить желаемое. Пришлось даже сесть – такую слабость ощутила Анна. Стоило подумать о ребенке. Нет, она не будет упрекать Генриха. Джейн бессильна, пока она, Анна, вынашивает наследника для Англии. К тому моменту, как появится ребенок, Джейн Сеймур, вероятно, превратится в отдаленное воспоминание, мимолетную досаду, не более. Бóльшую озабоченность вызывала вероятность обрушения на Англию мстительной длани императора. – Не могу передать, как меня тревожит мысль, что в случае вторжения в Англию наших детей могут отстранить от трона в пользу леди Марии, – сказала Анна Генриху, когда тот пришел отдать беременной жене обязательный ежедневный визит вежливости. – Перестаньте беспокоиться. Если император высадится на наши берега, мы его встретим как полагается. Эта бравая тирада, на взгляд Анны, прозвучала несколько натужно. – Сир! – заговорила она страстно, отчаянно. – Леди Мария всегда будет доставлять нам неприятности. Ее неповиновение вашим справедливым велениям лишь придает силы нашим врагам. Умоляю вас, пусть закон возымеет над ней власть! Это единственный способ отвратить войну. Какую выгоду получит Карл, если ему не за кого будет сражаться? Ему нужна наша дружба и торговля с нами. Заботливое выражение на лице короля сменилось хмурым. – Вы просите меня отправить на эшафот собственную дочь? – Она изменница и опасна для вас. Пока она жива, нашему сыну не жить спокойно! Генрих смотрел на нее с отвращением: – Возможно, угроза казнить Марию послужила бы серьезным предостережением для императора. Анна ничего не ответила. Пока этого было достаточно, а в стратегическом плане могло иметь развитие. Она будет выжидать, пока не родится ребенок. Однако Генрих ее удивил. – Вы правы, – сказал он. – Я решился. Это нужно сделать.
На следующий день король пришел к Анне перед обедом и сообщил: – Только что я виделся со своими советниками. Я заявил им всем, что больше не намерен испытывать проблемы, страх и терзаться подозрениями из-за возможных козней Екатерины и Марии. Я поставил их в известность, что на следующей сессии парламент должен издать против них Акт с обвинением в измене, или, клянусь Богом, я не стану ждать дольше и расправлюсь с ними сам! – И что они ответили? – Они были шокированы, но я сказал им, что тут не о чем плакать и ни к чему кривить лица. Сказал, что, даже если из-за этого потеряю корону, все равно исполню свое намерение. Исполнит ли? Анна сомневалась. – Вы поступили правильно, Генрих, – похвалила она супруга. – Нет другого способа обеспечить безопасность нашим детям. – Да, но, ей-богу, какой ценой! – воскликнул король. Он уже колебался.
Позднее Анна послала за Джорджем и передала ему разговор с Генрихом. – Даже если сейчас король даст слабину, когда родится сын, он мне не откажет. Но меня беспокоит настоящее. Боюсь, мои недруги готовятся меня уничтожить. Они уже лебезят перед этой девицей Сеймур. – Тебя не тронут, раз ты носишь сына короля, – успокоил сестру Джордж. – Да, не тронут, но что, если Господь откажет мне в этом благословении? – Молись, чтобы Он послал тебе этот дар. Анна закусила губу: – Не могу избавиться от страха, что, пока жива Екатерина, мне не выносить жизнеспособного сына. И даже если он родится, всегда найдутся те, кто назовет его бастардом. Вот если бы мой статус королевы был неоспоримым… Джордж ничего не ответил. Он сидел, погрузившись в раздумья. – Екатерина – моя смерть, а я – ее, – сказала Анна. – Я позабочусь о том, чтобы она не смеялась надо мной, когда меня не будет. – И как ты намерена это сделать? – Что-нибудь придумаю. Брат скептически взглянул на сестру. Он слишком хорошо ее знал. Из всех огульных обвинений, которые предъявляли ей люди, явно несправедливым было одно – «убийца». В душе она такой не была.
А потом будто вмешался сам Господь. Генриху сообщили, что Екатерина тяжело больна. Это казалось ответом на мольбы Анны. Ее сын мог стать бесспорно законным. Однако в следующем донесении говорилось, что Екатерине стало лучше. – Молю вас, – в отчаянии говорила Анна Генриху, – покончите с ней и ее дочерью! Ради нашего ребенка! Генрих обозлился: – Такие чувства и слова не к лицу женщине. – Тон его был уничижительным. – Вы не будете знать покоя, пока не освободитесь от этих изменниц! – воскликнула Анна. – Я не успокоюсь, пока обе они не сойдут в могилу. – Тогда вы обретете покой очень скоро – по крайней мере, наполовину. Прочитав это донесение, я подумал, мне не нужно ничего предпринимать для ускорения кончины вдовствующей принцессы. Успокойтесь, Анна. Пусть свое дело сделает природа.
Глава 25. 1536 год
– Шапуи просит о встрече со мной, – сказал Генрих Анне. Прошла неделя после Нового года, и тошнота, связанная с началом беременности, к счастью, отступала. А Шапуи наверняка доставил известия, которые ее интересовали, ведь он только что вернулся из Кимболтона. Поверив, что конец Екатерины близок, Генрих позволил Шапуи с ней повидаться. – Теперь это не принесет вреда, – объяснил свое решение король. Анна заняла место рядом с Генрихом в приемной зале, который был полон придворными, предвкушавшими драматическую сцену. Отец и Джордж также находились здесь, и им не терпелось услышать, что Анна стала королевой Англии безоговорочно. Объявили о прибытии Шапуи. Он вошел, одетый во все черное, с лицом серым и строгим. – Ваше величество, – произнес посол, поднимаясь из поклона. – С глубоким прискорбием сообщаю вам, что королева мертва. Архангел Гавриил едва ли приносил когда-либо более желанную весть. – Теперь я действительно королева! – заявила Анна. – Хвала Господу, мы свободны от подозрений, что кто-то затевает войну! – ликующим тоном произнес Генрих. Шапуи бросил на него быстрый испепеляющий взгляд: – Я привез вам ее последнее письмо. Он передал королю сложенный лист бумаги, скрепленный печатью с гербами Англии и Испании. Генрих сломал печать и стал читать. Взгляды всех, кто находился в зале, были прикованы к нему. Вдруг король замер, и Анна увидела, что по его щеке медленно сползает слеза. Но он скрепился. – Господь да упокоит душу вдовствующей принцессы, – сказал Генрих и перекрестился. Анна услышала, как ее отец пробормотал: «Жаль, что леди Мария не составила компанию своей матушке».Позже Анна отдыхала в своих покоях, едва способная поверить, что ее грозной соперницы больше нет на свете, повидаться с ней пришел Джордж. – Все вышло так, как ты хотела, – заметил он. – Тебе следует радоваться. – Я не знаю, как и благодарить Господа. Если мы нуждались в доказательстве, что Он улыбается нам, так вот оно. – Иногда Ему требуется небольшая помощь, чтобы Его воля исполнилась, – проговорил Джордж. – Что ты имеешь в виду? – резко спросила Анна, садясь прямо, чтобы посмотреть ему в глаза. – Он помогает тем, кто и сам о себе заботится. Анну объял ужас. – Брат, что ты хочешь этим сказать? – Думаю, ты знаешь, Анна. – Джордж улыбнулся. – Несколько правильно подобранных трав… Но не бойся, теперь все хорошо. И она умерла бы так или иначе. Мы не могли рисковать, позволяя ей протянуть до рождения вашего сына. Анна была в смятении. Неужели Джордж, ее любимый Джордж, пошел на такое страшное преступление – и ради нее! А хуже всего, что она собственными устами произнесла слова, которые подвигли брата к преступному замыслу. Да, она желала смерти Екатерине, но путем применения законов, а не от руки убийцы. Ведь после этого кто же он, ее брат, как не убийца? Господь тут ни при чем. – Я ни о чем таком не просила! – сквозь зубы процедила она. – Это сделано не от моего имени! Как ты мог?! Теперь мы все будем прокляты. Господь больше не улыбнется мне. Убитая горем, ослепленная слезами, Анна с трудом слезла с постели и убежала в маленькую молельню, которая примыкала к ее покоям, и, не обращая внимания на мольбы Джорджа выслушать его, заперла за собой дверь. – Уходи! – крикнула она. – Ты причинил мне зло, которого уже не исправить. – И опустилась на колени, заливаясь слезами. Бог, конечно, ее накажет, хотя она была к этому непричастна. Ее сын, если это сын, проклят. А если он родится мертвым, как остальные, надежд останется совсем мало. Генрих избавится от нее, как избавился от Екатерины, и враги, не тратя времени даром, подыщут ему новую жену. Он легко поддается внушению. Анна прекрасно это знала; и нужно посмотреть в глаза реальности: страсть Генриха к ней умерла. Внезапно она поняла, что, пока Екатерина была жива, король и не задумался бы о том, чтобы оставить свою вторую супругу. Это стало бы равносильно признанию: женитьба на ней, Анне, была ошибкой и Екатерина его законная жена. Но теперь вдовствующая принцесса умерла, и Анну отделял от катастрофы только пока еще не рожденный ребенок.
К вечеру Анна немного успокоилась. Генрих пришел к ней ужинать. Следы потрясения от содеянного братом не исчезли окончательно, и король заметил состояние супруги. – Что это вы так серьезны? – шутливо пожурил он. – Нынче вечером вы должны веселиться. Анна заметила, что Генрих не оделся в черное. Она взяла себя в руки: – Я не перестаю беспокоиться, что император может вторгнуться в пределы Англии ради Марии. – Не тревожьтесь. Я разговаривал с Шапуи перед вечерней. Высказал ему свое желание, чтобы Карл перестал поддерживать Марию и аннулировал вердикт папы. Он усомнился в том, что такое возможно, но я ответил, что теперь, когда ее мать умерла, Мария смирится, и я надеюсь, император пожелает предложить дружбу, раз реальной причины нашей вражды более не существует. Судя по поведению Шапуи, ему известно, что Карл предпочитает быть в союзе с нами. Его торговые люди страдают не меньше, чем наши. Так что взбодритесь. Анна попыталась улыбнуться. Она никогда не сказала бы Генриху правды. Могла ли она обречь Джорджа на ужасную смерть, какая постигла Ричарда Роуза? К тому же он ее брат, и люди станут указывать на нее пальцами как на соучастницу или даже вдохновительницу преступления. О ней и без того думали только самое плохое, и ясно, что в подобном обвинении усомнятся немногие. Люди будут требовать ее смерти. Мысль о Роузе напомнила о попытке отравления епископа Фишера. Не стоял ли и за ней Джордж? Анна не смела спрашивать, потому как не хотела ничего знать. Нет, нужно молчать. Она должна нести эту ношу одна. Генрих приказал доставить в Гринвич принцессу Елизавету и на следующее утро триумфально внес ее на мессу. Послание было ясно всем: вот она, его бесспорная наследница. Звучали фанфары, и Елизавета – ей исполнилось два с половиной года – торжественно восседала сначала на руках у отца, а потом между родителями и вела себя очень хорошо. На скамью подложили подушку, чтобы девочка все видела поверх барьера, и Анна заметила, что дочь уже знает, когда подавать ответные реплики во время службы. Остаток утра Анна провела за играми с Елизаветой. И чем лучше она узнавала свою дочь, тем большей проникалась симпатией к этой незнакомке, которую так редко видела. Девочка росла необыкновенная: обладала живым умом и неутолимым любопытством, разговаривала, как четырехлетний ребенок, и могла прочесть все буквы в азбуке, которую носила на поясе. Маленькая принцесса казалась такой самостоятельной, отличалась таким внутренним достоинством и была настолько сама себе госпожа, что Анна начала меньше корить себя за недостаток любви к дочери. Елизавета в ней не нуждалась. Леди Брайан, очевидно, представлялась ребенку гораздо важнее. Зато Анна, как могла, защищала ее права. И скоро она будет радоваться, готовясь к браку Елизаветы с герцогом Ангулемским. Днем Генрих пришел в зал, где танцевали Анна и ее дамы. Одет он был вызывающе: с головы до ног в желтое, что символизировало радость, надежду и обновление, с белым пером на берете. С собой он привел компанию джентльменов. – Леди, давайте отпразднуем избавление Англии от угрозы войны! – провозгласил король и взял Анну за руку. Давно уже она так не танцевала; другие пары кружились вокруг них, а король вел ее вперед такт за тактом. Если бы Анна полностью отдалась этому удовольствию, то могла бы забыть об ужасной тайне, которая угнетала ее. Прошел час, и Генрих удалился в свои апартаменты, наказав всем продолжать веселиться. А через минуту явился вновь с Елизаветой на руках и с гордым видом показывал девочку всем присутствующим. Джентльмены целовали маленькую царственную ручку, а дамы щебетали над малышкой-принцессой. Анна приободрилась, ее обрадовало, что Генрих так подчеркивает важность Елизаветы. Следуя его примеру, она и сама оделась в желтое для вечернего банкета и явила миру лицо победительницы, однако позже, когда фрейлины готовили ее ко сну, страхи вернулись. – Что-нибудь случилось, мадам? – осмелилась поинтересоваться Мадж, озабоченно глядя на свою госпожу. – Ваша милость плохо себя чувствует? – с милым шотландским акцентом спросила Маргарет. – Нет, ничего, – ответила Анна. – Я все думаю: теперь весь христианский мир считает его милость вдовцом. И если я не рожу сына, боюсь, меня ждет та же участь, что и вдовствующую принцессу. – Глупости! – воскликнула Мадж. – Стоит только припомнить, каким гордецом ходил сегодня король и как он любит принцессу, и сразу станет ясно, что вам такое не грозит. – Но если этот ребенок окажется девочкой или… – Анна запнулась. – Его милость любит вас, – заверила ее Мадж. – Он ухаживает за Джейн Сеймур, – сказала Анна. Наступила тишина. – Вижу по вашим лицам, что это правда. – Анна вздохнула. – Но пока он уважает меня как мать своего наследника и не унижает прилюдно, я довольна.
На второй неделе января Генрих пришел в комнату Анны после ужина и отослал ее служанок. – Я получил отчет об исследовании тела вдовствующей принцессы, – с мрачным видом произнес он. – Мне нужно поговорить с вами наедине. Сердце у Анны тяжело забилось. Нельзя пугать ребенка. Надо успокоиться. – Зачем? – спросила она, стараясь не выдать голосом, насколько страшен для нее этот разговор. – Затем, что я обеспокоен и Шапуи задает вопросы, – ответил Генрих. – Все внутренние органы найдены здоровыми, кроме сердца. На нем обнаружена ужасная на вид черная опухоль. Свечник вымыл его, но цвет не изменился, и внутри оно тоже было все черное. Я не знаю, что и думать, Анна, но стараюсь, как могу, держать этот отчет в секрете. Люди и без того уже говорят, что Екатерина убита. Они даже обвиняют меня: мол, я подослал к ней гонца, чтобы тот приложил к ее губам отравленный золотой кубок. Шапуи полон подозрений. – Без сомнения, и меня кое-кто считает причастной, – сказала Анна, внутренне содрогаясь при мысли, как близко подобрался Генрих к раскрытию истины. «Теперь он вполне может догадаться», – подумала она, и волоски у нее на шее от страха встали дыбом. – Мне неприятно это говорить, – признался Генрих, – но некоторые обвиняют вас и вашу семью. Говорят, вы больше всего выгадали от смерти Екатерины. Не слушайте их, Анна, они невежды. Но я пришел предупредить вас о том, какие идут слухи, так что не обращайте внимания. Мы должны думать о ребенке. Анне не нравилось, как он на нее смотрит, будто вспоминает все те случаи, когда она подталкивала его к действиям против Екатерины, и размышляет, не правдивы ли на самом деле эти слухи.
В том же месяце леди Мария слегла от тяжелой болезни в Хансдоне. Весть о смерти матери она восприняла трагически и находилась в глубокой печали и отчаянии. Анна почувствовала, что настало время опровергнуть слухи и протянуть оливковую ветвь. Хотя она и ненавидела Марию, но не могла не ощутить жалости к девушке, потерявшей горячо любимую мать. К тому же теперь, когда Екатерины больше не было на свете, Мария, наверное, могла бы признать ее королевой. Анна отправила гонца к леди Шелтон и попросила передать Марии: если та послушается отца как хорошая дочь, то она, Анна, станет ей лучшим другом и, заменив мать, постарается обеспечить всем, чего той хочется. И если Мария приедет ко двору, ей не придется носить шлейф королевы, вместо этого она всегда будет идти рядом с ней как равная. Большего Анна предложить не могла. Ответ Марии был как пощечина. Согласиться на условия Анны – значит войти в конфликт с собственной честью и совестью. Что ж, упрямица не использовала свой шанс. Разъяренная Анна передала леди Шелтон: она изъявляет желание, чтобы та больше не пыталась заставить леди Марию слушаться его милость короля. Сделанное мной скорее из доброжелательства, чем из-за того, что меня или короля заботит, какой образ действий она изберет. Когда у меня родится сын, а это произойдет очень скоро, я знаю, что случится с ней. Помня заповедь Божью, что мы должны проявлять доброту к своим врагам, я намеревалась предупредить ее заранее, так как мне известно: король не оценит ее раскаяния или прекращения бунтарства и неразумного упрямства, когда у нее не останется возможности делать выбор. Леди Шелтон, молю Вас, не утруждайте себя попытками отвратить ее от своенравного поведения, потому что она не может этим ни причинить вреда мне, ни сделать блага. Анна вручила письмо гонцу и пошла прилечь. Затраченные на разбирательство с падчерицей усилия ее утомили. Разбудил ее лай Уриана и едкий запах паленого. Горел лежавший перед очагом турецкий ковер. Анна подскочила и бросилась в соседнюю комнату, призывая на помощь. Прибежали слуги и затушили огонь, не дав ему распространиться. Никто не пострадал. На полу остались пятна гари, и комнату следовало хорошенько проветрить. Анна сидела в приемном зале, поглаживая собаку и содрогаясь при мысли о том, какая ее могла ожидать участь. Из головы не шло одно подстрекательское пророчество, о котором сообщили Тайному совету: «Когда Тауэр бел, а вокруг зеленеет трава, на костер попадут королева да епископа три или два». Это предсказание открыто – и с надеждой – повторяли ее клеветники, и только что оно едва не исполнилось. Анну это потрясло. От рук убийц могла пострадать Екатерина, но не она. Вспомнилось другое пророчество, сопровождавшее отвратительный рисунок, изображавший ее саму с отрубленной головой. Страшно было думать, что есть люди, алчущие ее смерти. Через несколько дней Анна получила еще один тяжелый удар. К ней явился дядя Норфолк – редкое событие в те дни, потому что они давно не разговаривали, – и в самых мягких выражениях, на какие только был способен этот грубый вояка, сообщил, что король упал на турнире. – Все посчитали чудом, что король не разбился насмерть, но, к счастью, он не пострадал. Тем не менее, мадам, он нас напугал: видевшие падение подумали, что оно может оказаться фатальным. Анну пробрала дрожь, и даже Норфолк встревожился. – Племянница, с вами все в порядке? – пролаял он. – Да, дядя. Я испытала такое облегчение. Ужасно думать о том, что могло произойти. На мгновение внутреннему взору представилась ужасная перспектива жизни без Генриха, который защищает ее от враждебного мира. Она подумала о себе и Елизавете, брошенных на произвол судьбы, захваченных в водоворот гражданской войны, или еще хуже… – Я должна пойти к королю. – Анна поднялась на нетвердых ногах. – В этом нет нужды, – сказал Норфолк. – Он не хочет, чтобы поднималась суматоха. Его милость достаточно бодр, и сейчас с него снимают доспехи. Потом он собирается вернуться в дом обедать. – Благодарю Господа, что слышу это, – ответила Анна, немного успокоившись, дурное предчувствие внезапного вдовства развеялось.
Генрих решил, что Екатерину похоронят в аббатстве Питерборо со всеми почестями, полагавшимися ей как вдовствующей принцессе Уэльской. Он не жалел усилий на организацию торжественной похоронной церемонии, в ходе которой за гробом должна была следовать длинная процессия дам, которых он снабдил черной тканью на платья. Шапуи высказал мнение, что величию короля будет приличествовать воздвижение монумента в память Екатерины, и тот ответил, что создаст для нее один их лучших монументов в христианском мире. Строптивая испанка мертва, Генрих мог позволить себе быть щедрым и распорядился сделать кенотаф с объемным скульптурным портретом покойной, однако, чтобы покрыть расходы на похороны, конфисковал все личные вещи Екатерины. – Я назначил день торжественных похорон, – сказал король Анне. – И буду присутствовать на них со всеми своими слугами, одетыми в траур. Мне подобает отдать честь памяти невестки. С подобными рассуждениями Анна не могла не согласиться. В утро похорон ее вдруг потянуло составить Генриху компанию во время церемонии. Это вызвало бы доверие к ней сторонников империи и проложило путь к дружбе с императором. Анна приказала дамам одеть себя в черное, но, прибыв в апартаменты короля, не нашла в приемном зале ни одного джентльмена. Наверное, все уже были в церкви. Потом Анна услышала женский смех в соседней комнате, которую Генрих использовал в качестве кабинета. Все ее чувства обострились. Анна подкралась к двери, открыла – и обнаружила там Генриха в утреннем туалете. На коленях у короля сидела Джейн Сеймур, которую он держал рукой за грудь. Из всех потрясений, пережитых Анной за последнее время, это было наихудшим. Одно дело знать о неверности мужа, и совсем другое – застать его с любовницей. – Как вы могли?! – закричала она почти в истерике. Все ее самые страшные опасения оправдывались. Джейн – это она сама девять лет назад, а ей, по какому-то дьявольскому замыслу, уготовано место Екатерины. Колесо фортуны повернулось в другую сторону. Генрих не слишком нежно столкнул Джейн с колена и подскочил. – Уйдите! – велел он девушке, и та выбежала, но успела гаденько улыбнуться Анне, которая влепила бы ей пощечину, если бы нахалка не скрылась так поспешно. – Дорогая, мне очень жаль. – Генрих беспомощно развел руками. Анна рыдала, даже не пытаясь сдерживаться. – Вы хоть понимаете, как меня обидели? – сквозь слезы говорила она. – Я люблю вас больше, чем Екатерина, и мое сердце надрывается, когда я вижу, что вы отдаете свое другой. У Генриха хватило вежливости, чтобы изобразить смущение. – Это ничего не значит. – Ничего? Я видела вас собственными глазами. Внезапно Анна почувствовала спазматическую боль в чреве. Рука мгновенно прикрыла живот, словно для того, чтобы защитить ребенка. – Что случилось? – встревожился Генрих. Боль утихла. – Это из-за того, что вы заставили меня страдать! – выкрикнула Анна. – Успокойтесь, дорогая, и с вами все будет хорошо. Подумайте о нашем сыне. – Жаль, что вы этого не делаете! – бросила она в ответ и ушла, а Генрих остался стоять с открытым ртом. Не успела Анна дойти до своих покоев, как боль вернулась.
Генрих склонился над ней. На его лице читались горькое разочарование и печаль. – Мальчик! – стенал король. – Мертворожденный плод на пятнадцатой неделе развития, так мне сказали. Это величайшее несчастье для всего королевства, – терзался он. – Я была на грани жизни и смерти, – пробормотала Анна, вспоминая боль и кровь. «Я выкинула своего спасителя», – думала она про себя. Никогда еще не чувствовала она такого глубокого горя. – Я потерял моего мальчика! – выл Генрих. – Всему виной ваше поведение! – не сдержалась Анна. – Вам некого винить, кроме самого себя, потому что причиной послужили мои переживания из-за этой девицы Сеймур. Генрих поднялся. – Больше у меня от вас сыновей не будет, – холодно произнес он. – О чем это вы?! – крикнула Анна. Взгляд короля заставил ее умолкнуть. – Я вижу, что Господь не позволяет мне иметь мужское потомство. У меня нет желания обсуждать это сейчас. Я поговорю с вами, когда вы оправитесь. И ушел, сверкая очами и с видом человека, с которым обошлись очень дурно. От слов короля Анне сделалось страшно, и ей стоило большого труда улыбнуться своим плачущим дамам. – Это все к лучшему, – сказала она им, – тем скорее я снова буду вынашивать ребенка, и уж тот сын будет бесспорно законным, в отличие от этого, зачатого при жизни вдовствующей принцессы. Нэн Сэвилл взяла руку королевы и пожала. Два дня Анна пролежала в тягостных раздумьях, желая, чтобы Генрих пришел к ней, и опасаясь, не потеряла ли его навсегда. Когда она наконец встала с постели и посмотрела в зеркало, то ужаснулась, увидев смотревшую оттуда худую, изможденную старую женщину. Ей было тридцать пять, она больше не та соблазнительная юная дева, завлекшая короля в ловушку, и никогда ей теперь такой не быть. Много раз Анна раскаивалась в необдуманных, полных упрека словах, которые бросила королю, и боялась, вдруг он решит, что она так же не способна вынашивать сыновей, как Екатерина. Неужели он сейчас ищет предлог для аннулирования брака и объявления их дочери бастардом? У Анны не было таких могущественных друзей, как у Екатерины, – и вообще было мало друзей, – так что защитников у нее найдется немного. Без Генриха она станет предметом насмешек, объектом клеветы и ненависти; некоторые захотят ее крови.
В начале февраля Анне сообщили, что король уехал в Лондон на празднование Масленицы и для участи в заседаниях парламента. Генрих не взял ее с собой. Значит, он все еще зол на супругу. Она плакала, вспоминая то время, когда он не желал расстаться с ней даже на час. Единственным утешением было то, что король не имел возможности взять с собой эту стерву Сеймур. Двор королевы находился в Гринвиче, и королю пришлось ради приличия оставить Джейн здесь. Все это время она где-то пропадала, стараясь лишний раз не показываться на глаза своей госпоже. Компанию Анне составляли только ее дамы, которые, казалось, ни о чем другом не могли говорить, кроме как о помолвке и грядущей свадьбе Мадж. Норрис поддался обольщению и попросил ее руки. Их семьи дали согласие, и Мадж, забыв о сдержанности, сияла от счастья. Анне хотелось кричать. Норрис не любил Мадж. Он любил ее, Анну. Это можно было прочесть в его глазах всякий раз, как он заговаривал с ней. Ревность, как острый нож, пронзала насквозь. Каждый день Анна горевала о своих утратах: ребенке, любви Генриха и Норриса. Спокойствие и счастье стали для нее почти недостижимыми. Теперь она жила в постоянном страхе и под давлением всепоглощающего чувства жизненного поражения. Из дворца Йорк один за другим прибывали гонцы, доставлявшие пакеты и письма. – Это все для Джейн, – шепнула Мадж. Ревность терзала Анну. Она постоянно следила за Джейн и набрасывалась на нее за мельчайшее упущение в исполнении обязанностей, однако это не стирало довольной улыбки с лица девушки. Однажды ей даже хватило наглости надеть новый, украшенный драгоценными камнями медальон. Догадываясь, кто его прислал, Анна пошла на открытое столкновение. – Это дорогая вещь. Дайте мне посмотреть, – потребовала она. Джейн глядела на нее с вызовом, явно не желая подчиняться, тогда Анна потеряла терпение и сорвала украшение. Она дернула за цепочку с такой силой, что поранила ладонь. Из пореза сочилась кровь, но Анна дрожащими руками открыла медальон и обнаружила внутри миниатюрный портрет Генриха. Слезы затуманили ее взгляд. Она сунула медальон в руки Джейн: – Возьмите это! И его тоже! Он вас приветит!
Невероятным облегчением стало сообщение Джорджа, приехавшего сказать, что парламент отдает в распоряжение Анны два королевских поместья. – Значит, я еще не окончательно впала в немилость, – заметила она, стараясь не вспоминать о том, что сделал ее любимый брат. – Король одобрил дарение. Кажется, его гнев утих, и он не намерен разрывать брак с тобой. – Значит, госпожа Сеймур – всего лишь еще одно преходящее увлечение. Слава Богу! Эта девица причинила мне столько страданий, выставляя напоказ подарки короля. – Анна, послушай, – Джордж смотрел на нее с каким-то особенным сочувствием, – я поражен, в какой печали застаю тебя. Ты так исхудала. Ешь побольше. Следи за волосами и платьем. Пусть у тебя на лице будет смелая улыбка. Ты можешь отвоевать короля! Один раз ты уже завладела его сердцем, так сделай это снова. – Это нелегко, когда он в Лондоне, а я здесь. – Я постараюсь, чтобы он тебя вызвал, – обещал Джордж. – Положись на меня.
Через несколько дней пришел вызов. Джордж сыграл свою роль. Теперь очередь за ней. Анну нарядили в роскошное платье из черного бархата с меховыми нарукавниками и низким вырезом, расшитым черным шелком и жемчугом. На шею в знак гордости своим происхождением и статусом королевы она надела подвеску в форме буквы «Б» – одно из своих любимых украшений. Она была все еще слишком худа, но черное платье ей шло. Чтобы подчеркнуть свой ранг, волосы Анна оставила распущенными, но их, как обычно, унизали драгоценными камнями. Генрих принял ее любезно, окинул с ног до головы одобрительным взглядом, но все же избегал встречаться с ней глазами. – Для меня большая радость вновь видеть вашу милость, – сказала Анна. – Надеюсь, вы вполне оправились. – Держался он отстраненно. – Я чувствую себя очень хорошо, сир. – Ваш брат сказал, что вы несчастны в Гринвиче, и я подумал, вам будет приятно отпраздновать вместе со мной день Святого Матфея. – Для меня это будет большой честью и радостью, – ответила Анна. Порадовало ее и то, что в день торжеств нигде не было видно Джейн.
Генрих был добр с Анной. Почти каждую ночь приходил в ее опочивальню, и она начала надеяться, что еще не все потеряно. Судя по прошениям, которые Анна получала, многие продолжали верить, что она имеет влияние на короля. И она старалась никому не отказывать. Решив быть хорошей матерью, Анна послала за Елизаветой и потратила много денег на наряды для маленькой девочки: чепчики из пурпурного, белого и алого атласа, золотые сетки для волос, ленты для кос и миниатюрные придворные платья из бархата и дамаста. Она научила дочь обращаться со шлейфом. Наблюдая за тем, как Елизавета ходит по комнате на нетвердых еще детских ножках, высоко подняв голову, а следом за ней волочится по полу длинный дамастовый шлейф, Анна почти любила дочь. Появились признаки того, что император рассчитывает на союз с Генрихом. – Если он сделает мне предложение и условия буду приемлемыми, я охотно соглашусь, – сказал Анне Генрих. – От своего агента в Риме я узнал, что папа Павел готов объявить об отлучении меня от Церкви. Дружба Карла может предотвратить это. Не то чтобы я беспокоился из-за действий епископа Рима, но остальной христианский мир к нему прислушивается. Со мной могут начать обращаться нечестно, раз я выброшен из их стаи. «А что будет со мной? – подумала Анна. – Император меня ненавидит, я камень преткновения для этого альянса». Ничего этого она не сказала. Пусть Генрих решает все сам. Или, скорее, Кромвель. Вместо этого Анна спросила, как воспримет подобный союз Франциск. – В последнее время наши отношения с ним неопределенны, – ответил Генрих, – и боюсь, надежд на то, что брак Елизаветы будет заключен, мало. Франциск скользок, как угорь, он болен сифилисом и настроен мрачно. Вот до чего довели его любовные похождения. – Генрих чопорно поджал губы. «Кто бы говорил!» – подумала Анна. – Они с Карлом враждуют, – добавил король. – Скоро между ними начнется война. Дружба с императором принесет нам большие надежды на безопасность этого королевства. «Да, – снова подумала Анна, – а как насчет моей безопасности?»
– Сэр Эдвард Сеймур назначен на службу в личные покои короля, – объявил отец однажды вечером, когда они ужинали наедине в его комнатах. – Предупреждаю тебя, Анна, влияние этих Сеймуров возрастает с каждым днем. В Анне вскипела ярость. – Что я могу сделать, если он обхаживает ее почти у меня под носом?! Отец фыркнул: – Мне ни к чему учить тебя, что нужно делать, дабы вернуть его. – Это нечестно! – Тебе надо взбодриться, черт возьми! – Ну конечно, если бы вы потеряли троих сыновей подряд, видели, как ваш муж увивается за другими женщинами, и чувствовали, что враги готовы кинуться на вас, уверена, вы ощущали бы себя бодрым! Но, отец, я постараюсь. И может быть, теперь, когда мой брак не подвергается сомнениям, Господь дарует мне сына. Когда это произойдет… – Анна, будь реалистичной. Екатерина потеряла пятерых детей. Ты – троих. Это тебе ни о чем не говорит? Рука Анны машинально взлетела ко рту. Ее вдруг осенила мысль: вероятно, что-то не так с Генрихом. – Но если это правда, что я могу сделать? Отец пожал плечами: – Ничего, только молиться. И быть настороже. Братья Сеймуры жадны, безжалостны и хитры, к тому же они в постоянном контакте с королем. Есть еще кое-что, о чем тебе следует знать. Наш приятель Кромвель охотно сделал вашему мужу одолжение и освободил свои покои, чтобы там могли разместиться сэр Эдвард Сеймур и его супруга. Король имеет доступ в эти покои из своих апартаментов. Может пройти туда по особой галерее, и никто не заметит. Догадываетесь, каковы его намерения? – Вы намекаете, что Кромвель поощряет неверность короля? – От этой мысли Анна похолодела. – Он всегда был услужлив. Но вот что беспокоит меня больше: эта девка и ее семейка настаивают, чтобы король оказывал ей знаки внимания только в присутствии родственников. Предполагалось, что о подобном условии никто не должен знать, но молва идет по всему двору, будто об этом объявил городской глашатай. – Боже правый! – прошептала Анна, откидываясь в кресле. – Раз она играет в эту игру, какой иной исход намечен, кроме брака? Если только она ему не надоест, о чем я горячо молюсь. Но подобные меры для сохранения ее девственности намекают, что ее готовят занять место королевы. Уж мне ли не знать! И если Кромвель с радостью этому содействует, значит и впрямь относится к такой возможности серьезно. Я давно подозревала, что он стал моим врагом, и теперь появились доказательства. Что ж, он услышит об этом от меня! Пылая гневом, Анна вызвала в свой кабинет Кромвеля. – Ваша милость… – Он низко поклонился. – Какой приятный сюрприз! – Не пытайтесь обмануть меня, господин секретарь. Я только что узнала о вашей любезности по отношению к Сеймурам. Вы с готовностью уступили им свои покои, чтобы мой муж мог развлекаться с любовницей. – Ваша милость не должны ее так называть. Госпожа Сеймур – очень добродетельная леди. Будь иначе, я бы не согласился. – Добродетельная или нет – а мне хотелось бы не иметь в этом сомнений, – но пытаться увести супруга у своей госпожи. Отличный пример достойного поведения! – Нет, мадам, нет. – Кромвель посмотрел на Анну в упор. Ей-богу, он зашел слишком далеко! – Могу я дать вам совет? Не вмешивайтесь в государственные дела. Король этого не любит. Возмутительно! – Вы имеете в виду, господин секретарь, что не хотите, чтобы я помешала вашим планам относительно монастырей? Парламент одобрил их закрытие, и теперь вы сделаете короля богатым и благодарным. Но он прислушивается и к моему мнению, я еще пользуюсь его расположением, что вам, вероятно, не по нраву, и намерена яростно противиться расходованию монастырских богатств на подкуп поддержки главенства короля над Церковью. Думаю, король будет шокирован, узнав, что, прикрываясь Евангелием и рассуждениями о религии, вы преследуете собственные интересы. – Все не так! – запротестовал Кромвель, и Анна почувствовала, что он начинает сердиться. Приятно было пробить эту стену напускной внешней невозмутимости. – Значит, вы не строите планов распродать все? И не берете взяток за передачу церковной собственности и бенефиций врагам истинной доктрины? – Я верный слуга короля, – холодно ответил Кромвель. – Думаю, сэр Томас Мор говорил то же самое, и посмотрите, что с ним приключилось! Послушайте, господин секретарь, поскольку меня поддерживают и другие сторонники реформ. Один из них – Джон Скип, мой податель милостыни. Мы намерены добиться того, чтобы значительная часть конфискованных богатств была потрачена на образовательные цели и благотворительность. Это пойдет на благо всем. – И вы думаете, король с вами согласится? – Кромвель покровительственно улыбнулся, будто Анна – ничего не понимающая дурочка. – Казна пуста. Король любит жить на широкую ногу. Я не могу представить, чтобы он отказал себе в возможности разбогатеть. – Король добродетелен, – возразила Анна. – Он почитает образованность. Я знаю, что смогу убедить его прислушаться ко мне, и вам это тоже известно. Кромвель продолжал улыбаться: – Мы это увидим, мадам. – Увидим! – (Перчатка была брошена.) – А вы тем временем перестаньте потакать госпоже Сеймур или у вас будут большие проблемы. – С этими словами Анна отпустила его.
Когда на следующий день Генрих пришел к ней ужинать, Анна завела разговор о монастырях: – Сир, я знаю, вам нужны деньги, но не стоит ли направить часть монастырских богатств на образование и благотворительность? Мне на ум приходит масса достойных причин сделать это. Генрих, вы прославитесь основанием школ и поддержкой ученых. Вы сможете создавать кафедры в университетах и организации для помощи бедным, которые находятся в отчаянном положении, ведь им станет еще труднее после закрытия монастырей. Генрих смотрел на нее с новым восхищением. – Мне нравятся ваши идеи, Анна. – Вас будут вспоминать через много столетий как короля, который вместе с чтением Библии на английском языке даровал своим подданным возможность получать образование. И это будет более значительным свершением, чем любая военная победа. – Клянусь Святой Марией, вы говорите правду! Монастыри владеют невообразимыми богатствами – так мне говорят, – их хватит и на пополнение казны, и на все то, о чем вы говорите. – Такие цели гораздо более достойны, чем продажа земель ради подкупа лордов. – Может быть, и придется кое-кого умаслить, Анна, но вы правы. Часть денег нужно использовать на достойные цели. Они увлеченно обсуждали эти цели в деталях и чувствовали себя как в старые добрые времена. Общие интересы создавали ощущение близости. Но самое главное – Генрих к ней прислушался. Ее влияние оставалось силой, с которой другим следовало считаться. Хотелось бы ей посмотреть на лицо Кромвеля, когда Генрих с энтузиазмом станет расписывать ему эти новые перспективы. Тогда он поймет, что она его обошла! И на этом она не остановится. Как королева Эстер, она избавит королевство от продажных министров и в то же время покажет Генриху, что не потерпит неверности. Анна возвращала себе власть и влияние. В Страстное воскресенье она велела своему подателю милостыни произнести проповедь в Королевской часовне на тему текста: «Кто из вас обвиняет меня в грехе?» Анна сидела рядом с Генрихом, когда отец Скип поднялся на кафедру. – Королю следует быть мудрым и не поддаваться уговорам злонамеренных советников, которые подталкивают его к неблаговидным поступкам, – начал он. – Советник короля должен хорошо подумать, какие советы он дает по поводу изменений в давно заведенных порядках. – Отец Скип сделал паузу и огненным взглядом обвел размещавшуюся внизу паству, не оставляя сомнения в том, кого он имеет в виду. Анна покосилась на Генриха – тот сидел с задумчивым видом. Именно на это она и рассчитывала. Кромвель нахмурился. – Посмотрите на пример царя Агасфера, которого коварный министр подтолкнул к избиению евреев, – продолжал Скип. – Министр этот был Аман, который пытался уничтожить Агасферову королеву Эстер. Но после того как Эстер раскрыла его гнусный замысел и спасла евреев от преследований, Амана повесили по закону и справедливости. Таким образом эта добрая женщина, которую царь Агасфер очень любил и которой верил, потому что знал ее как своего всегдашнего друга, вышла победительницей. Генрих кивал с видом мудреца. Он прекрасно знал эту историю – даже заказал гобелены с изображениями сцен из нее. Скип добрался до самой сути истории: – Среди прочих своих злодеяний Аман убедил Агасфера в том, что уничтожение евреев принесет ему десять тысяч талантов, которые перейдут в царскую сокровищницу и послужат к личной выгоде царя. – (Анна почувствовала, как Генрих заерзал.) – Так и в наши дни мы имеем причины сетовать, что Корона, введенная в заблуждение дурными советниками, возжелала получить церковную собственность и получит ее. Мы можем только сожалеть об упадке университетов и молиться о том, чтобы необходимость в обучении не была упущена из виду. Все взгляды обратились к Анне. Глаза Кромвеля были полны угрозы и – она была рада это видеть – страха. Теперь у него не могло остаться сомнений: она поставила себя в оппозицию его политике. Мечи вынуты из ножен. Теперь настал черед Генриха съежиться. Скип строго посмотрел на паству: – Однако порок кроется не только в обирании Церкви. Посмотрите на пример Соломона, который утратил подлинное благородство из-за чувственной и плотской невоздержанности, он брал себе слишком много жен и наложниц. Дыхание Генриха участилось. Он стал похож на разъяренного быка, готового кинуться в бой. Только недавно придворный художник Ганс Гольбейн нарисовал его в образе царя Соломона, источника всей мудрости. Скип очень кстати завершил свою речь и призвал паству встать на колени для молитвы. Несмотря на закипевшую внутри ярость, Генриху пришлось послушаться. После службы он схватил Анну за руку и затащил в одну из ниш за королевской скамьей. – Это вы приказали? – зло спросил он. – Или он сам решился подстрекать к бунту и клеветать на меня, моих советников и весь мой парламент? Не успела она ответить, как в нишу, забыв о своем положении, ввалился Кромвель. Анну он проигнорировал. – Ваша милость, разумеется, не оставит это без ответа! – прошипел он. Никогда еще Анна не видела господина секретаря таким возбужденным. – Я намерен приказать совету, чтобы этому священнику сделали выговор и предупредили: пусть следит за своим языком, если хочет остаться на службе у королевы. – Но ваша милость были согласны с ним, – вмешалась Анна. – Только позавчера вечером вы говорили, каким достойным деянием было бы направить богатства монастырей на образование и благотворительность. Это ведь не вы преследуете личные выгоды. – Он представил все так, будто это я! – прорычал Генрих. – Уверена, подобного не было у него и в мыслях, и вашей милости не стоит беспокоиться, потому что скоро мир узнает правду. – Ваша милость, мне нужно поговорить с вами наедине, – настойчиво попросил Кромвель. – Нужно? Господин секретарь, вы разговариваете с королем, – напомнила Анна. – Я встречусь с вами позже, – сказал Генрих. – Мы сейчас будем обедать, – сладким голосом произнесла Анна и вышла.
За столом Генрих не упоминал о намеках Скипа на его неверность, поскольку не мог отрицать правдивость этих слов, боясь спровоцировать очередную ссору. Однако настроение у короля весь остаток дня было кислое, и несчастный податель милостыни получил словесный выговор от совета. Анна не знала, о чем говорили между собой Генрих и Кромвель. Какая разница? Она готовилась снова взбаламутить общественное мнение. На следующий день той Святой седмицы Хью Латимер, страстный сторонник реформ, который регулярно проповедовал перед королем, согласился вступить в борьбу на стороне Анны. – Вспомните притчу об арендаторах, которые отказались платить ренту хозяину виноградника, – призывал он в своем поучении в Королевской капелле. – Когда арендаторов изгнали, виноградник перешел к более достойным людям, которые смогли найти ему лучшее применение. Никто не усомнился бы в том, что проповедник намекал на закрытие монастырей. Генрих никак не отреагировал. После службы он бросил на Анну испепеляющий взгляд и вышел, громко топая ногами, так что ей пришлось немедленно заручиться поддержкой архиепископа Кранмера, который согласился защищать ее в любых спорах с королем и написать его секретарю, выражая поддержку взглядов королевы. Вскоре благодаря Кранмеру Анна с радостью обнаружила, что энтузиазм Генриха относительно ее планов – и в ее постели – заметно возрос. Но хотя они достигли взаимопонимания и давно уже не жили так дружно, это не отвратило Генриха от ухаживаний за Джейн Сеймур. В Великий четверг Анна видела их вместе играющими в кегли. Они улыбались друг другу с особой интимностью, свойственной любовникам, и ей хотелось плакать, а внутри все клокотало, когда она исполняла традиционную обязанность королевы: раздавала деньги нищим и омывала им ноги, которые были тщательно отмыты заблаговременно, в память о Тайной вечере. Неужели эта маленькая сучка всегда будет портить ей жизнь?
– Мы постепенно сближаемся с императором, – сказал Анне Генрих в тот вечер. Они лежали в постели. – Но сохраняются препятствия, которые нужно преодолеть. Я намерен добиться, чтобы Карл признал вас королевой, и для этой цели пригласил Шапуи ко двору в пасхальный вторник. Пусть получит возможность оказать вам положенные почести. Анна испытала облегчение и восторг. Это доказывало, что хотя Генрих и не любит ее так, как раньше, но все еще считает своей королевой. – Весьма кстати! – отозвалась она. – Шапуи никогда не преклонял передо мной колени, никогда не целовал мне руку. Как же она насладится своей победой! – Теперь он это сделает, причем публично! – прорычал Генрих. – И таким образом признает, что я не ошибся, когда отдалил от себя Екатерину и женился на вас. Ни на каких других условиях соглашение с Карлом я не подпишу.
Встречать Шапуи у ворот дворца Гринвич король отправил Джорджа, чтобы посол не сомневался: судьба вожделенного альянса зависит от того, выкажет ли он сердечное расположение по отношению к Болейнам. Джордж получил инструкции оказать Шапуи теплый прием и дать ему понять, что Анна, ее семья и друзья благоволят к возобновлению дружественных отношений с императором. Кромвелю было велено идти следом и передать Шапуи приглашение короля посетить Анну и приложиться к ее руке – честь, которой удостаивались только избранные. – Он скажет: «Для меня это будет большим удовольствием», – удовлетворенно потирая руки, проговорил Генрих. Следом за Генрихом Анна прошла в часовню, и они вместе сели на королевскую скамью, находившуюся на галерее, куда нужно было подниматься по лестнице. Под ними, в основном помещении церкви, собралось множество людей. Слух о визите Шапуи распространился быстро, и всем было любопытно посмотреть, как поведет себя посол императора. Анна знала: некоторые надеются, что он выкажет ей пренебрежение. Когда пришло время делать подношения, Генрих первой к алтарю отправил Анну, а сам двинулся за ней по пятам. Внизу она едва не столкнулась с Шапуи, который стоял за дверью. Возникла пауза, затем он поклонился. В ответ Анна любезно улыбнулась. Теперь ее никто не тронет. Скоро император станет ей другом. Сегодня обходительность была обязательной. Анна сделала глубокий реверанс перед Шапуи как представителем императора и удивилась, когда тот проявил любезность и подержал две ее свечи, необходимые для выполнения ритуала. Из церкви Анны выходила с ощущением ликования и глубокого облегчения. А двигаясь рядом с Генрихом по галерее во главе длинной процессии придворных, не могла сдержать восторга. – Мне жаль, что Испания воюет с Францией, – громко сказала она, чтобы все услышали, – но я твердо стою на стороне императора. Король Франциск больше не друг мне. Такое впечатление, что, устав от жизни из-за своей болезни, он хочет сократить свои дни, затевая войну. – На мой взгляд, он их сокращает недостаточно быстро, – буркнул Генрих. Он проводил Анну на обед в ее апартаменты, что было у него в обычае после мессы; часто он приглашал разделить с ними трапезу почетных гостей. – Шапуи присоединится к нам? – поинтересовалась Анна. – Я просил его прийти, – ответил Генрих, когда они уселись за главный стол. Комната наполнялась, но посол все не показывался. Напрасно Анна искала его глазами среди группы иностранных посланников, ожидавших у дверей, когда объявят об их прибытии. Неужели Шапуи уже раскаивается в своем жесте доброжелательства? – Почему не пришел мессир Шапуи? – спросила она Генриха. – Без сомнения, у него есть на то веские причины, – ответил король. – Его любезность по отношению к вам возбудит много разговоров, особенно в среде сторонников империи, и некоторые будут недовольны им за то, что он признал вас. – Пусть лучше смирятся с этим, – сказала Анна и отправила церемониймейстера на поиски Шапуи. Вернувшись, тот сообщил, что посол обедает с ее братом и другими знатными господами в приемном зале короля. Весьма довольная этим известием, Анна улыбнулась Генриху.
На следующий день Джордж сообщил ей, что между Генрихом и Кромвелем произошла яростная стычка по поводу переговоров с Испанией. Судя по тем сведениям, которые Джорджу удалось узнать у людей, находившихся в пределах слышимости, Кромвель превысил свои полномочия. Джордж видел его сидящим на сундуке за дверями приемного зала короля. По лицу господина секретаря струился пот, и вообще выглядел он так, будто только что сбежал от адских псов. – Очень похоже, что он больше не в фаворе, – торжествуя, заметил Джордж. Анна улыбнулась: – Я не упущу шанса воспользоваться этим. На следующее утро Генрих сказал ей, что Кромвель заболел и уехал лечиться домой в Степни. «Скатертью дорога!» – подумала Анна, которую сейчас заботило близящееся ежегодное собрание рыцарей ордена Подвязки. Освободилось место для нового рыцаря, и она поинтересовалась у Генриха, не может ли его занять Джордж. Разумеется, избрание происходило голосованием, но Анна надеялась, что король выразит рыцарям ордена свое пожелание. С большим неудовольствием она узнала, что выбрали сэра Николаса Кэри, которого она невзлюбила за дружбу с Сеймурами. Анна знала: люди начнут шептаться, мол, у нее недостало влияния, чтобы обеспечить своему брату столь престижное и почетное место. – Но, дорогая, – запротестовал Генрих, когда супруга наедине стала упрекать его, – много лет назад я обещал Франциску, что не забуду сэра Николаса, которого он любит, когда освободится место в ордене Подвязки. Так что я был просто обязан его выдвинуть. «Да, и раз всем стало известно, что он в числе королевских фаворитов, за него и проголосовали», – подумала Анна. Тяжело было смириться с тем, что враги одержали над ней эту маленькую победу.
На следующий день, войдя в свою гостиную и наткнувшись на Фрэнсиса Уэстона, флиртующего с Мадж, Анна потеряла терпение. Ей было обидно видеть, как из Норриса делают дурака. Мадж не должна поощрять эти ухаживания. Она не заслуживает в мужья такого хорошего человека, как сэр Генри. – Идите в мои покои и закончите шить рубахи! – приказала она. Мадж скрылась с глаз. Уэстон робко глядел на Анну: – Ваша милость, конечно, не откажет мне в маленьком невинном развлечении? Она такая милая девушка. – Если она столь мила, то я удивляюсь, почему Норрис все еще не женился на ней, – резко ответила Анна. Улыбка сошла с красивого лица Уэстона. – Вашей милости угодно знать правду? – Что вы имеете в виду? – настороженно спросила Анна. – Всем известно, что Норрис приходит в вашу гостиную скорее ради вас, чем ради Мадж. Сердце Анны запело, но она не должна была себя выдать. – Чепуха! – бросила она. – Вы просто хотите смутить Норриса, потому что сами любите Мадж, а не свою жену. Уэстон посмотрел на нее дерзко: – Из всех ваших дам одну я люблю больше их обеих. – Кого же это? – Вас. Наступила тишина. Уэстон ее любит? А она и не догадывалась… Нет, он просто проверяет свои шансы в старой придворной игре! – Попробуйте сказать об этом королю! – ошарашила его Анна и оставила стоять, где стоял.
– Я беру вас с собой в Кале, – сказал Генрих, наблюдая за тем, как Анна поднимает лук и целится в мишень. О визите стало известно несколько недель назад, и она уже решила, что король поедет один. Приятно было услышать о желании Генриха видеть ее рядом. После получения опечаливших известий из Хивера о тяжелом недуге матери, сопровождавшемся жестоким кашлем, это стало необходимым для Анны лекарством. Болезнь началась зимой, и, казалось, леди Болейн становилось все хуже. Анна написала, что приедет навестить ее, как только вернется из Кале, и отчаянно молилась о скором выздоровлении родительницы. – В яблочко! – зааплодировал Генрих. Его поддержали придворные. – Мы превратим этот визит в объезд страны, – сказал король, беря в руки свой лук. – Поедем через Дувр. Я хочу осмотреть новую гавань и укрепления. – На этот раз вы не намерены встречаться с Франциском? – осторожно спросила Анна. – Еще не решил. Сначала нужно определиться, вступать в союз с Карлом или с Франциском? Карл настаивает на том, чтобы Мария была восстановлена в правах на престол и поставлена перед Елизаветой, но я велел своим послам не уступать этим требованиям. – Я не хочу, чтобы права Елизаветы были пересмотрены, – встревожилась Анна. – Я никогда этого не допущу, – заверил ее Генрих.
Последняя неделя апреля выдалась мягкой и теплой, природа расцветала. Анна каждый день гуляла по саду со своими дамами, часто компанию им составляли Джордж, Норрис и другие джентльмены, которые пользовались благосклонностью королевы. Пока Генрих занимался делами государства, Анна смотрела теннисные матчи, играла в кегли, устраивала пикники, куда по ее приказу доставляли корзины со снедью. Встречаясь с Джейн Сеймур, королева всякий раз окидывала ее ледяным взглядом и проходила мимо. Положение Анны, казалось, вновь упрочилось, и она не потерпит, чтобы Джейн причиняла ей беспокойство. Однажды ясным тихим вечером, когда сумерки приходили на смену золотому закату, Анна забралась на самый верх холма за дворцом к Майрфлор, старой башне, которая была частью дворца Плацентия, который Генрих перестроил, но использовал редко. – Идите сюда, вы, улитки! – крикнула Анна своим дамам, которые, пыхтя от натуги, медленно тащились следом. – Ну тогда ждите там! – рассмеялась она, и ее спутницы с облегчением попадали на поросший травой склон. Перед Анной высилась мощная квадратная башня, она четко вырисовывалась на фоне темнеющего неба. Вблизи постройка выглядела зловещей и неприступной, но Анна не боялась призраков. Она открыла обитую железом дверь – ключ дал сержант-привратник – и оказалась в полутемном сводчатом зале, стены и потолок которого покрывали росписи. Было что-то отталкивающее в застывших черных силуэтах изображенных на фресках людей. Казалось, сюда уже очень давно никто не заглядывал. Стрельчатые окна покрывала паутина, в неподвижном воздухе пахло плесенью. Анна поднялась по винтовой лестнице в углу. Она вела в опочивальню, но на широкой деревянной кровати с балдахином не было ни белья, ни матраса. На полу валялся пыльный женский чулок. Ничего интересного. Анна уже собиралась уйти, когда услышала наверху звук шагов. Сердце ее учащенно забилось. А вдруг кто-нибудь из недоброжелателей, увидев, что она вошла в башню, забежал вперед и спрятался, намереваясь подкараулить и убить? Шаги раздались на лестнице – кто-то спускался. Инстинкт подсказывал Анне как можно скорее бежать вниз, на первый этаж, но тут в дверном проеме появился мужчина. – Норрис! – с облегчением вскрикнула она. – Анна! – радостно отозвался он, от удивления даже забыв произнести титул. – Я пришла осмотреть это место. А вы? – Я… Мне нужно забрать кое-какие вещи. Анна отметила про себя, что в руках у него ничего нет: – А что там наверху? – Еще одна спальня. Там особо нечего смотреть. Похоже, Норрису не хотелось двигаться с места, поэтому Анна проскользнула мимо него и побежала вверх по лестнице. Представшее глазам зрелище поразило: просторная, роскошно обставленная комната с кроватью, застланной так же богато, как ее собственная. На полу лежал дорогой турецкий ковер. Норрис поднялся следом. – Эта комната подошла бы королю! – воскликнула Анна. – Его милость иногда пользуется ею. – Для свиданий с Джейн Сеймур? Не беспокойтесь, Норрис, мне об этом известно. – Голос Анны был пропитан горечью. – Но я не знала, что они изображают из себя зверя с двумя спинами. Норрис снова замялся. – Джейн Сеймур здесь не бывала, – наконец сказал он. Анна все поняла: – Но он приводил сюда других. Норрис не ответил. – В мое время? – Анна повернулась. – Не заставляйте меня причинять вам боль, – взмолился он, с трудом произнося слова. – Я слишком сильно люблю вас. Так легко было упасть в его объятия и ощутить – на один волшебный момент – покой и ласку. Поцелуй с ним стал бы таким же естественным, как дыхание, и ощущался бы как нечто прекрасное и правильное. С Генрихом она ни разу ничего подобного не испытывала. И пускай он приводил сюда даже сотню женщин, сердцем ее он все равно никогда не владел. Однако она оставалась его королевой и – что необыкновенно важно – не хотела потерять уважение Норриса. Она не девка, которую можно завалить на эту роскошную постель, хотя на какое-то мгновение возникло искушение оказаться там. Прекрасная была бы месть – сделать Генриха рогоносцем на той самой кровати, где он совершал свои измены. Но бесценное чувство, существовавшее между ней и Норрисом, нельзя марать местью или другими низостями. Голос Анны прозвучал нежно, но твердо: – Вы не можете себе представить, как сильно мое желание оказаться в ваших объятиях. – (Норрис жадно внимал ей.) – Но мы никогда не станем любовниками. – Я стыжусь, что заговорил о своих чувствах. Король считает меня другом. Он всегда хорошо относился ко мне. Но увидев вас, я не выдержал. Подумал, мы здесь одни и никто не узнает. – Никто не должен знать. То, что мы сказали, останется нашей тайной. Мне будет достаточно хранить ее в своем сердце. У вас есть Мадж. Будьте счастливы. – Анна почувствовала, что вот-вот заплачет. Слава Богу, становилось темно. Она не хотела, чтобы Норрис видел ее слезы. – Мне пора возвращаться. – Анна пошла к лестнице. – Мои дамы могут прийти сюда за мной. Я пойду вперед, а вы немного задержитесь. Когда она оказалась в дверях, Норрис схватил ее руку, поднес к губам и поцеловал: – Анна, вы самая прекрасная леди из всех, живших на этом свете! Если когда-нибудь вам понадобятся мои услуги, только поманите меня своим мизинчиком. – Я запомню это. А теперь прощайте. Дайте мне несколько минут. Она выскользнула за дверь и почти бегом начала спускаться с холма, сердце разъедала горькая печаль.
Совесть не давала Анне покоя. Интересно, ощущал ли Генрих такую же потребность признаться в грехах со своими любовницами? А ведь сама она была неверна только в сердце. Анна разыскала отца Скипа и облегчила душу. Он дал ей отпущение грехов и наложил легкое наказание, так как почувствовал ее искреннее раскаяние. И словно камень упал с души. Решив больше никогда не оставаться наедине с Норрисом, Анна приказала доставить из Хатфилда ко двору Елизавету, позвала портного и заказала для девочки новые наряды. Принцесса была очень непоседлива и любопытна, могла в любой момент кинуться куда-нибудь без предупреждения, поэтому Анна велела изготовить две шлейки с большими пуговицами и длинными кистями. Потом подумала, что дочь будет очень мило выглядеть в новом чепце из тафты с отделкой из золотистого дамаста. Генриха она тоже не забыла – купила золотую бахрому и пуговицы для седла.
В тот день Анна заметила, что весь ее двор пронизывает какое-то неопределенное беспокойство. Ничего явного не происходило, просто казалось, что все обращаются с ней слишком осторожно. А кроме того, начали без всякого объяснения исчезать слуги: сразу несколько – на прошлой неделе, сегодня – еще двое. В числе их была и Джейн Сеймур. Это игра воображения или действительно что-то происходит? Казалось, всем, кроме Анны, известен некий секрет. Снова всплыли на поверхность прежние опасения. Анна чувствовала, что вот-вот произойдет какое-то непредвиденное несчастье. Но ведь это абсурд. Все хорошо. Генрих был добр с ней, защищал права ее и Елизаветы, скоро возьмет с собой в Кале. Так чего же бояться? Пришедший повидаться с дочерью отец несколько минут восхищался Елизаветой, улыбался ее детским выходкам. Но Анна не могла не заметить, что он встревожен. – Ваш дядя Норфолк и я назначены членами Большого жюри Мидлсекса, – сообщил сэр Томас. – И что вас так печалит? Это, разумеется, почетное назначение. – Я не знаю, – сказал сэр Томас. Елизавета бросила в деда мяч, и тот катнул его обратно. – Мы должны заседать в комиссии, которая будет разбирать все виды измен, но больше мне ничего не известно, и я не должен об этом распространяться. Но ты королева, тебе я могу сказать. – Наверное, Генрих решил заставить своих оппонентов замолчать раз и навсегда, – предположила Анна. – Может статься, он затевает процесс против леди Марии. Отец покачал головой: – Ну, это окончательно погубило бы его надежды на entente с императором. Нет, тут что-то другое. – Может быть, он планирует возбудить дело против Кромвеля? Глаза отца засверкали. – Вероятно! Кромвель все еще в Степни. Вот будет сюрприз для него, а?! – Он это заслужил сполна, – заметила Анна. Только когда она лежала в постели одна, в темноте, в голову пришла ужасная мысль. Предположим, Генрих решил жениться на Джейн Сеймур? Император предпочел бы видеть королевой ее, ведь она известная сторонница империи. Но все же Генрих едва ли захочет пройти через еще один развод. Неужели он ищет другой способ избавиться от нее, Анны? О Боже, неужели их с Норрисом выследили? Подстроенная ловушка? А что, если отца назначили в это жюри, дабы создать у нее ложное чувство безопасности, пока враги строят свои козни? А врагов был легион. Кромвель, Сеймуры, Шапуи, паписты, Фрэнсис Брайан, Николас Кэри… Разрозненная группа, объединенная общей идеей. Нет, нужно успокоиться. Это только ночные страхи. Утром она почувствует себя лучше. Надо помнить: Генрих не выказывал никаких признаков неудовольствия ею, скорее наоборот. Но утром лучше не стало. Анну преследовал безотчетный страх перед какой-то неясной угрозой. Очень хотелось, чтобы здесь был Генрих, тогда она могла бы отвести душу, поговорив с ним. Кто, кроме него, мог дать ей чувство безопасности? Но Генрих не посещал ее ложе уже три ночи, и это само по себе казалось зловещим. А если с ней произойдет нечто страшное? Елизавета станет такой уязвимой. Что она может сделать для защиты дочери? Анна послала за своим капелланом Мэтью Паркером, убежденным реформатором и великим проповедником. Генрих любил его так же, как она, и прислушается к его словам. – Мне страшно! – сказала она священнику. – Надеюсь, что я ошибаюсь, но боюсь, что меня могут обвинить в измене. – И Анна заплакала. Молодой капеллан подождал, пока она не справится со своими эмоциями, на его открытом лице появилось выражение тревоги. Он попытался утешить Анну, говоря, что подобные страхи – лишь игра воображения, но ее это не успокоило. – Вы должны мне помочь! – настоятельно попросила Анна. – Если случится худшее, вы позаботитесь о моей дочери? Никому другому я не доверяю так, как вам. Отец Паркер взглянул на нее с сочувствием. – Ваша милость, вы можете на меня рассчитывать! – клятвенно обещал он. – Даю слово.
Анна сидела со своими дамами, пыталась сосредоточиться на шитье, но подворачивать края бедняцких рубах не слишком увлекательное занятие. Она украдкой поглядывала на Мадж, Мэри Говард, Маргарет Дуглас и остальных фрейлин. Известно ли им, что происходит? И что это за необъяснимые отлучки? Спросить напрямую? Но они могут решить, что она лишилась рассудка. Впервые Анна пожалела, что рядом нет сестры. Уже почти два года они не обменивались письмами. Мария так и жила в Кале. Джордж поддерживал с ней связь и говорил, что с виду она всем очень довольна. Счастливица Мария! Генрих к Анне так и не приходил. Каждый день до позднего вечера он заседал со своим советом. Анна нетерпеливо спросила Джорджа, не затевается ли что-нибудь? – Думаю, какие-то проблемы с Францией, – ответил он. – Французский посол доставил важные письма. Нет причин для такого беспокойства. Может быть, Франциск грозит войной? Если так, визит Генриха с инспекцией в Кале придется очень кстати. Они должны были отправиться в путь через три дня после традиционного турнира в Майский день, и Анна отвлеклась на планирование своего гардероба, выбирая платья, которые больше всего ей шли. А вдруг страсть, которую Генрих демонстрировал во время их первого совместного пребывания в Казначейском дворце, разгорится вновь? И наверное, она пошлет за Марией и дарует ей прощение. Оставив горничных и камеристок паковать наряды в дорожные сундуки, Анна вернулась в свой приемный зал и нашла там играющего на лютне Уэстона, погруженную в разговор с Томасом Говардом Маргарет Дуглас и Марка Смитона, стоявшего с несчастным видом в эркере. – Что это вы так грустны, Марк? – быстро спросила Анна, не любившая этого молодца за напускное нахальство и заносчивость. После того как Смитон позволил себе фамильярничать с ней в Винчестере, Анна его избегала. – Так, ничего, – ответил он и плотоядно взглянул на нее. «Боже, он пытается вести со мной любовную игру – этот жалкий музыкант!» – Можете не рассчитывать, что я буду разговаривать с вами, как с благородным человеком, вы мне не ровня, – ледяным голосом произнесла Анна. Однако Смитон продолжал улыбаться. – Нет-нет, что вы, мне достаточно взгляда. – Он поклонился. – Прощайте, ваша милость. И развязной походкой покинул зал. Наглец! «Ну что ж, – сказала себе Анна, – еще одна такая выходка – и об этом узнает Генрих».
Утром в последнее воскресенье апреля после мессы Анна взяла с собой на прогулку в Гринвичский парк Уриана и остановилась посмотреть собачьи бои. Сделала ставку и выиграла, после чего, немного приободрившись, вернулась во дворец. По окончании обеда она собрала своих дам и особо близких к ее двору джентльменов и повела всех в личный сад насладиться солнышком. Норрис тоже находился в этой компании, и Анна догадывалась, что он, как и она, изо всех сил старается делать вид, будто между ними ничего нет, кроме дружбы. Теперь, когда они открылись в своих чувствах, скрывать их было не так легко. Анна попросила Норриса сесть рядом с ней на каменную скамью в беседке, но на безопасном расстоянии. В нескольких футах от них по дорожке прогуливались остальные придворные; они болтали, смеялись и даже целовались. – Почему вы не женитесь на Мадж? – спросила Анна. – Я решил немного подождать, – после недолгого молчания ответил Норрис. Она понизила голос: – Дожидаетесь, когда будет можно надеть башмаки мертвеца? Если что-нибудь нехорошее случится с королем, станете искать способ получить меня? Снова наступила тишина. – Нет, – тихо произнес Норрис. – Если бы у меня были такие мысли, пусть бы мне лучше отрубили голову. Мадам, это опасный разговор. Упоминать о смерти короля, даже в шутку, не безобидное занятие. Анна это знала. Представлять себе смерть суверена или планировать ее, может быть, даже просто говорить о ней считалось изменой. – Да, но я вам доверяю, – сказала она. – Не забывайте, я могу погубить вас, если захочу. Это было сказано в шутку, однако Норрис посмотрел на нее с ужасом. – Мадам, прошу, чтобы я тоже мог вам доверять, – сказал он, вставая и отвешивая поклон. – Не уходите, – прошептала Анна. – У меня есть обязанности в личных покоях короля. Доброго дня вашей милости. Когда сэр Генри ушел, Анна увидела брата леди Уорчестер Энтони Брауна. Он поклонился Анне и пошел поговорить с сестрой. Оба с любопытством поглядывали на королеву. Похолодев от страха, она поняла, что Браун, наверное, подходил к саду по дорожке, огибавшей беседку. О Господи, неужели он слышал их разговор с Норрисом? Сэр Энтони был близок к Генриху, и тот глубоко уважал его. Если Браун расскажет королю об этом разговоре, он наверняка поверит. Тогда обвинением ей будут служить ее же собственные слова. И Норрису… Из их беседы могу сделать вывод, что они с Норрисом хранят какую-то общую постыдную тайну. Покушение на честь жены короля расценивалось как измена государству. Любой, осужденный за подобное преступление, претерпит невообразимо ужасную смерть через повешение, потрошение и четвертование. Только не Норрис! Не верный, добрый, преданный Норрис, который не сделал ничего дурного, кроме того, что без всякой надежды любил ее, держась на почтительном расстоянии. Нужно его предупредить! Приказав слугам оставаться на месте, Анна заторопилась во дворец, направляясь прямиком в апартаменты Генриха. Норриса она нагнала в комнате пажей, где тот делал внушение за лень незадачливому мальчишке. Когда паж ушел, вылупив глаза при виде королевы, она прикрыла за ним дверь. На лице сэра Генри появился испуг. – Кажется, нас подслушали, – начала Анна; Норрис продолжал взирать на нее с ужасом. – Сэр Генри, молю вас, пойдите к моему подателю милостыни и поклянитесь: что бы он обо мне ни услышал, я честная женщина. – Анна, разумно ли это? – спросил глубоко взволнованный Норрис. – Это походит на желание оправдаться. Я могу поклясться в этом, если возникнет необходимость. – Идите! – взвизгнула она. – Нельзя терять ни минуты!
– Мадам, вас хочет видеть король, – сообщил Анне ее камергер. Проведя последние два часа в терзаниях по поводу судьбы Норриса, она ожидала худшего. Вот оно – возмездие, которого она ждала. Генрих все узнал. Ну что ж, без борьбы она не сдастся! Для защиты Анна взяла с собой Елизавету. С ребенком на руках, несомненно королевским, она будет взывать к Генриху как оболганная мать. Короля она застала глядящим сквозь открытое окно на двор. Генрих хмурился, вид у него был обеспокоенный. Анна сделала реверанс, прижимая к себе дитя, и он обернулся. – Я слышал о вас странные вещи, Анна. – Король пронзил ее стальным взглядом. – Ваш податель милостыни сообщил вашему камергеру, что вы посчитали необходимым послать к нему Норриса, чтобы тот заявил ему о вашей добродетельности. – Сир, это было сделано, чтобы противостоять ужасным слухам, будто я развратная женщина, а мне не хотелось, чтобы в подобное поверил отец Скип. Я подумала, лучшим опровержением послужат слова Норриса, ведь он известен честностью и верностью вам. – Если бы я заподозрил, что вы меня обманывали, то никогда бы не простил, – не сразу, но ответил король. – Как вы могли такое подумать? Я люблю вас, Генрих. Этот ребенок – дитя нашей любви. Я никогда не променяла бы вас на другого. Генрих навел на нее тяжелый взгляд: – Не допускайте сплетен о том, что благодаря вам я стал рогоносцем, мадам! – Почему папа злится? – спросила Елизавета, когда Анна выносила ее из комнаты. – Ничего страшного, – заверила ее Анна, глотая слезы и молясь про себя, чтобы это было правдой. – Все будет хорошо, моя дорогая.
В тот вечер состоялся банкет, и Генрих вел себя как обычно: был любезен и охотно поддерживал компанию. Гнев его, к облегчению Анны, перегорел. Они первыми пошли танцевать, и Генрих восхищался платьем Анны – новым, из серого дамаста с алым киртлом. В десять он ушел, сославшись на необходимость заняться важными государственными делами. Когда король удалился, Анна обратила внимание, что люди в приемном зале все время перешептываются. Около одиннадцати часов кто-то сказал, что заседание совета еще не закончилось. Ясно, что решался некий серьезный и важный вопрос. Неужели война неизбежна? Анна дождалась окончания совещания и на выходе из зала поймала отца. Лицо его посерело, и выглядел сэр Томас так, будто нес на плечах всю тяжесть мира. – Что случилось? – нетерпеливо спросила она. – Я не могу тебе сказать, Анна, – прохрипел отец. – Мы все поклялись хранить молчание. Но визит короля во Францию откладывается на неделю. Скоро об этом объявят. – Это касается меня? – Анна слышала страх в голосе отца. – Это касается всех нас. А теперь спокойной ночи. Если так, значит речь шла о войне.
Часть четвертая. «На мне нет греха»
Глава 26. 1536 год
Анна всегда любила Майский день и празднования в честь него при дворе. Обычно его отмечали большим турниром. В этом году состязания должны были пройти в Гринвиче. День выдался теплый, и легкий ветерок трепал разноцветные вымпелы, когда Анна занимала свое место в первом ряду на королевской трибуне. Дамы плотной группой стояли у нее за спиной. Наконец под громкие овации появился Генрих. Он сердечно приветствовал супругу, но, когда садился в кресло, казалось, был занят своими мыслями. Король собирался сам принять участие в ристалище, однако старая рана на ноге давала о себе знать, и залечить ее окончательно не удавалось. Они смотрели, как участники состязания с копьями в руках и в блестящих доспехах торжественно объезжают по кругу турнирную площадку. Джордж ехал во главе тех, кто бросает вызов на бой, приводя в восторг толпу зрителей умением ломать копья и вольтижировать на спине лошади. Норрис возглавлял защищающихся, однако его темпераментный конь артачился и не шел на площадку, пока Генрих не крикнул, чтобы сэр Генри в знак уважения к нему взял его собственного коня. Анна обрадовалась, что король не держит зла на давнего друга. Том Уайетт превзошел сам себя и всех остальных, хотя Норрис, Уэстон и Бреретон тоже показали, что прекрасно владеют оружием. Генрих громко выражал одобрение и аплодировал. Анна с высоты своего места ободряюще улыбалась галантным рыцарям. Где-то в середине состязаний появился паж и подал Генриху сложенный лист бумаги. Король прочел записку, опасно побагровел, потом встал, едва не опрокинув кресло, и тяжелой поступью двинулся прочь. Отец и Джордж были в числе джентльменов, которые поспешили за королем. Неужели Генрих уходит? Анна не могла в это поверить. Поднялся гомон голосов, отовсюду посыпались комментарии. Что случилось? Французы вторглись в Англию? Король, столь редко забывавший о вежливости, даже не удосужился с ней попрощаться! Значит, произошло нечто серьезное. Анна не могла не увидеть дурного предзнаменования в столь поспешном уходе короля. Она дала знак продолжать состязания, но шепот и обмен мнениями между зрителями продолжались. Когда через несколько часов, недоумевающая и напуганная, Аннавернулась во дворец и узнала, что король уехал в Уайтхолл, то поняла: близится катастрофа. И не у кого было спросить. Как только турнир завершился, Норрис поспешил присоединиться к королю. Все могущественные защитники королевы исчезли. В ту ночь Анна спала урывками. Утром, надеясь на возвращение Генриха и одновременно страшась этого, как, впрочем, и получения новостей о происходящем, она приказала дамам одеть себя в пышное платье из алого бархата и золотой парчи и попыталась развлечься, наблюдая за тем, как ее придворные играют в теннис. Тот, за кого она болела, выиграл, и это немного подняло настроение. – Жаль, что я не сделала ставку на него, – сказала Анна сидевшей рядом с ней на галерее для зрителей Мадж. Фрейлина кивнула и подала знак, что за спиной у госпожи кто-то есть. Анна обернулась и увидела стоявшего в ожидании гонца в королевской ливрее. – Ваша милость, я пришел просить вас по приказанию короля сейчас же явиться на заседание Тайного совета, – сообщил он. Тайный совет собрался в Гринвиче? Она думала, все уехали с королем в Уайтхолл. – Очень хорошо, – ответила Анна, едва справляясь с волной охватившей ее паники. Странно, что королеву вызывают вот так. Входя в зал совета, Анна трепетала. За столом сидели трое мужчин с очень мрачными лицами: дядя Норфолк, напустивший на себя непримиримый вид; сэр Уильям Фицуильям, который никогда не нравился Анне, и это чувство было взаимным; и сэр Уильям Паулет, королевский ревизор, только он один приветствовал Анну с изысканной вежливостью, когда все они встали. Норфолк без лишних слов перешел к делу: – Мадам, властью, дарованной его милостью королем, нам, его доверенным лицам, мы официально обвиняем вас в совершении прелюбодеяния с сэром Генри Норрисом, Марком Смитоном и еще одним лицом. У Анны закружилась голова. Ее самый страшный ночной кошмар воплощался в реальности. Как можно поверить в столь абсурдное обвинение? Со Смитоном? Неужели они думают, что она могла пасть так низко? А Норрис… Их точно подслушали! Но она не сделала ничего дурного. Вся дрожа, Анна открыла рот, чтобы возразить, однако Норфолк поднял вверх руку, не давая ей заговорить. – Прежде чем вы ответите, вам следует принять во внимание, что Норрис и Смитон признали свою вину. – Значит, они солгали, потому что тут не в чем признаваться! Я верная супруга короля, и ни один другой мужчина ко мне не прикасался. – Ну, ну, ну! У нас есть показания свидетелей, данные под присягой. Все эти люди лгут? – Кто-то просто хочет от меня избавиться! – в страхе пыталась оправдаться Анна. – Вы дали им повод своим дурным поведением, – ухмыльнулся Норфолк. – О, вы жестоки, дядя, раз верите в такой поклеп на невинную женщину, к тому же одной с вами крови! Лицо Норфолка было непроницаемым. – Я служу королю, мадам. И верен прежде всего ему, а он отдал приказ о вашем аресте. Обвинения, выдвинутые против вас, очень серьезны. Если они будут доказаны, вы получите справедливое наказание. Генрих распорядился устроить эту пародию на правосудие! Неужели он и впрямь верит в худшее, что говорят о ней? Анне стало страшно, ведь ее супруг предпочел склонить слух к обвинениям и не хочет дать ей шанс их опровергнуть. Но обиднее всего было то, что расследование, вероятно, шло все последние дни, а Генрих и словом об этом не обмолвился. О, ее враги не теряли времени даром! – Что со мной будет? – спросила Анна. – Я должна увидеться с королем. Он меня выслушает. – Он не хочет вас видеть! – огрызнулся Фицуильям. – Он миропомазанный властитель и не станет марать себя общением с изменницей. – Изменницей? – Анна боялась, что у нее подкосятся ноги. – Я не изменница. – Компрометация наследников короля – это измена, мадам, – прорычал Фицуильям, а Норфолк скорбно зацокал языком. – Мы проводим вашу милость в ваши покои, – сказал Паулет. – Вам подадут ужин, и вы останетесь там до дальнейших распоряжений. Дорога из зала заседаний обратно в покои была для Анны кошмаром. По обеим сторонам от нее с каменными лицами шагали лорды, а спереди и сзади двигалась королевская стража. Новость о том, что она впала в немилость, должно быть, очень быстро распространилась за пределы ее двора, потому люди вовсю глазели на Анну, причем большинство враждебно и неодобрительно. Они готовы были поверить любой сплетне о ней. Возвращение в свои покои не принесло Анне облегчения, так как фрейлины встретили ее зловещим молчанием, а слуги с трудом сдерживали слезы, что раздражало Анну еще сильнее, как и присутствие за дверями стражников, которые скрестили алебарды, чтобы не дать войти ни одному человеку, не имевшему на то разрешения. Стражники подняли оружие, чтобы пропустить слуг, принесших ужин, который состоял из обычного набора изысканных блюд, но Анну так расстроило отсутствие королевского подавальщика, который не пришел с привычным пожеланием ей приятного аппетита, – едкое напоминание о том, в каком ужасном положении она оказалась, – что никакого желания прикасаться к еде не было. Она могла только сидеть и вести со своими дамами пустые и напыщенные разговоры о детях, собаках и теннисе. Анна подумала, не послать ли за Елизаветой, но испугалась, что, увидев и взяв на руки свое дитя, может сломаться, а это расстроит малютку. И возможно, ей все равно не позволят видеться с дочерью. Возникнет еще больше глупых домыслов о позорной измене. В два часа Анна все еще сидела за столом, на троне под королевским балдахином, когда вернулся Норфолк с Паулетом, лорд-канцлером Одли и еще несколькими членами Тайного совета. Норфолк держал в руках пергаментный свиток. Анна в тревоге встала: – Зачем вы пришли, господа лорды? – Это, мадам, – Норфолк помахал свитком, – приказ о вашем аресте. По распоряжению короля мы должны сопроводить вас в лондонский Тауэр, где вы будете находиться, пока его величество не распорядится иначе. Тауэр! Внутри у Анны все сжалось при мысли о заключении в этой мрачной крепости. Она посещала ее всего один раз во время коронации, и на обновление королевских апартаментов потратили огромные средства. Однако Анна знала, что другие помещения в Тауэре далеко не так роскошны и уютны. Томас Мор провел в заключении целый год и, говорят, вышел оттуда стариком… А лет пятьдесят назад в Тауэре пропали два малолетних принца, которые, по слухам, были убиты их коварным дядей. Неужели ее ждет та же участь? Анна постаралась собраться с духом и не трусить. – Если так угодно его милости, я готова подчиниться. Что я могу взять с собой? – Вы должны идти как есть, – откликнулся Норфолк. – В этом? – Анна посмотрела на свое пышное королевское платье. – Ни к чему переодеваться. – Вам дадут все, что понадобится, – пояснил Паулет. Это прозвучало зловеще. Анна вспомнила разговоры о том, что узники Тауэра должны сами платить за свое содержание и любые удобства, какие пожелают иметь. – А что будет с моими придворными? – Они останутся здесь. В Тауэре у вас будут новые слуги. – Ожидайте здесь, пока не начнется прилив, – сказал ей Норфолк. – Мы планируем отбыть в половине пятого. На этом они оставили Анну, и она провела послеобеденное время, пытаясь собраться с мыслями, снова и снова прокручивая в голове, что такого могла сказать или сделать, чтобы люди решили, будто она хоть как-то поощряла Смитона. Норрис – это еще можно понять. Хотя они виновны только в неосторожных разговорах и мимолетном признании, что между ними существует нечто большее, чем позволительно выражать в словах. Но Смитон! От одной мысли Анну выворачивало наизнанку! Как мог Генрих поверить в подобный вздор? И как он мог так обойтись с ней, ведь он страстно любил ее, а она рожала его детей? Если бы Анна не знала, что Кромвель лечится в Степни, то могла бы поклясться: без него здесь не обошлось. Его враждебность уже давно сделалась явной, и Анна была для него угрозой. Может, он вовсе и не болен? Может, это просто прикрытие, чтобы составить заговор для ее свержения. Чем больше Анна размышляла, тем сильнее уверялась в справедливости такого заключения. Все лучше, чем взваливать вину на Генриха. Фрейлины обращались к ней со словами утешения, но держали осторожную дистанцию. Боялись, чтобы и на них не легла тень измены! Анна взялась за вышивание, но руки были слишком нетвердыми, чтобы управляться с ниткой и иглой. Она засомневалась, сможет ли когда-нибудь закончить эту работу. Около четырех часов, когда сердце Анны уже выскакивало из груди от тревожных предчувствий, графиня Уорчестер вдруг издала стон. Она была беременна и уже некоторое время держала руки на своем округлом животе. – Ребенок не двигается, – с трагическим лицом сообщила графиня. – Давно вы это заметили? – спросила Анна. Фрейлины столпились вокруг страдалицы. – В тот момент, как за вами пришли, – прошептала графиня. – Это был шок. – Вам нужно лечь в постель, – твердо сказала Мэри Говард и увела ее. Анна снова ощутила головокружение. Вскоре после этого за ней явились лорды в сопровождении более многочисленного отряда королевской стражи и сэра Уильяма Кингстона, констебля Тауэра, высокого представительного мужчины средних лет, который давно служил Генриху и был у него на хорошем счету. – Мадам, – с поклоном произнес сэр Уильям, – я буду отвечать за вас, пока вы находитесь в Тауэре. Сейчас вы должны пойти со мной. В его серых глазах читались доброта и человечность, седая голова уважительно склонилась. Хотя Анна знала, что Кингстон был дружен с кардиналом Уолси и, по слухам, восхищался покойной вдовствующей принцессой, она почувствовала в нем симпатию к себе. Анна коротко попрощалась со слугами, погладила напоследок Уриана. Бедный песик, он смотрел на нее так, будто сочувствовал всей душой, вероятно ощущая ее подавленность. Потом под охраной прошла по дворцу к причалу, где ее дожидалась барка, спустилась по личной лестнице королевы между двумя рядами статуй, изображавших геральдических животных, и ступила на борт. Лорды погрузились на судно вслед за Анной. Норфолк жестом показал, что ей следует удалиться в кабину, затем тяжело опустился рядом на мягкий диван и задвинул шторки, чтобы Анну не увидели с берега. Хоть это было хорошо. Барка отчалила. Анна старалась не обращать внимания на лицемерное, напускное неодобрение Норфолка, выражавшееся вздохами и причитаниями: «ну и ну», «вот ведь как» и прочими. – Помните, что ваши любовники признали свою вину, – сказал дядюшка. Анна вспыхнула: – Я ни в чем не виновата! У меня нет любовников! Молю вас, отведите меня к его милости. – Ну и ну! – повторил Норфолк и закачал головой, и Анна подумала, что сейчас закричит. – Мы приближаемся к Тауэру, – наконец произнес он, и пленница вздрогнула от оглушительного пушечного залпа, вызвавшего легкую качку. – Это оповещение о вашем прибытии. Так делают всякий раз, когда в Тауэр доставляют арестанта высокого ранга. Снаружи раздались крики и гомон голосов. Герцог выглянул наружу сквозь щель между оконными шторками: – Люди сбегаются отовсюду поглядеть, что происходит. Анна тоже посмотрела на улицу, и вид возвышавшейся впереди огромной крепости почти лишил ее присутствия духа. Она вспомнила, что Мор, Фишер и монахиня из Кента покинули это место, чтобы отправиться на эшафот. И пока гребцы подводили судно к Королевской лестнице, которая вела к боковому входу, через который она прошла в Тауэр во время коронации, думала только об этом. Мысль о том, насколько отличаются тот день и настоящий, представлялась слишком грандиозной. Вынести такое казалось невозможным. Тогда Генрих ждал ее здесь с приветствиями, поцеловал у всех на глазах. Теперь она была одна и тряслась от страха при мысли о том, что он может с ней сделать. У двери каюты появился сэр Уильям Кингстон: – Прошу вас следовать за мной, мадам. Поднявшись, Анна пошла за ним сквозь строй таращившихся на нее гребцов. Норфолк и остальные лорды замыкали шествие. Поднимаясь по Королевской лестнице, Анна слышала рев толпы, собравшейся на Тауэрском холме. Наверху их ждал заместитель Кингстона, сэр Эдмунд Уолсингем, лейтенант Тауэра, с отрядом стражников. Оказавшись в темном переходе под древней башней Байворд, Анна осознала жестокую реальность своего теперешнего положения. Обвиненным в измене крайне редко удавалось избежать смерти. Ее так затошнило от страха, что она едва не упала. С трудом сохраняемое самообладание покинуло ее, и Анна опустилась на колени. – О Господи, Боже мой, помоги мне, ведь я не виновата в преступлениях, которые ставят мне в вину! – стенала она. Стоявшие рядом советники смотрели на нее сверху вниз безжалостными взглядами. – Сэр Уильям, мы передаем королеву, заключенную здесь, на ваше попечение, – сказал Норфолк Кингстону, потом повернулся к своим коллегам, кивнул, и они собрались уходить. Анна с трудом поднялась на ноги: – Милорды, прошу вас, вымолите у короля сострадание ко мне! Голос ее поднялся до верхней ноты и перешел в рыдание, но это не тронуло лордов. Они вышли через боковую дверь, которая вела на свободу. Знали бы они, какое это для них благословение! – Сэр Уильям, могу я написать королю? – с мольбой в голосе спросила Анна. – Вы никому не можете писать, – ответил Кингстон. – Прошу вас! Он мой господин и супруг. – Порядок есть порядок, – проворчал сэр Эдмунд Уолсингем. – Пройдите сюда, – сказал Кингстон. Стражники окружили Анну, и она следом за констеблем пошла вдоль наружного пояса Тауэра, это был путь к королевским апартаментам. – В предыдущий раз меня принимали здесь с большими церемониями, – вспомнила Анна. – Господин Кингстон, меня отведут в подземелье? Тот посмотрел на нее с удивлением: – Нет, мадам, вы пройдете в комнаты, где останавливались во время коронации. Неописуемое облегчение. Генрих по каким-то непонятным ей причинам решил преподать ей урок. Изменников не держат во дворцах. Но и ни одну английскую королеву еще не обвиняли в измене… Анна подумала о Норрисе, о том, как близка была к тому, чтобы согрешить с ним, а в сердце своем и правда согрешила. Но его-то зачем впутывать? Он этого не заслужил. – А где содержат тех, кого обвиняют вместе со мной? – спросила она. – Мне не позволено обсуждать это с вами, мадам, – ответил констебль. – Они в подземелье, можете мне ничего не говорить. – Нам не позволено говорить! – рыкнул сэр Эдмунд. – Порядок есть порядок. – Тогда эти покои слишком хороши для меня! – крикнула Анна, представляя себе Норриса в цепях и возвращаясь от оптимизма к ужасу. Что они намерены с ней сделать? – Господи Иисусе, помилуй мя! – воскликнула она, в изнеможении опускаясь на колени на каменный пол, и громкие рыдания сотрясли ее тело. Кингстон и сэр Эдмунд в смятении смотрели на Анну, не осмеливаясь помочь ей подняться. Простым смертным не полагалось прикасаться к королеве Англии. Эта мысль вызвала у Анны приступ истерического хохота. Они, наверное, готовятся предать ее смерти, но не могут набраться храбрости и помочь ей встать. Анна с трудом поднялась на ноги, и они пошли дальше – мимо Лейтенантского дома к входу во дворец. Потом Кингстон провел Анну вверх по лестнице в ее покои. Неужели прошло три года? В комнатах пахло сыростью, но они остались точно такие же, какими их помнила Анна, когда с триумфом отправилась объезжать город. Казалось, только вчера она восхищалась просторными залами, огромным камином и озорными ангелочками, резвившимися на античном фризе. Анну ожидали отобранные для услужения ей люди. Главными среди них были четыре дамы, которых она не любила. Это пленница отметила про себя с неудовольствием. Тут присутствовали тетка Анны, жена дяди Джеймса Болейна, который недавно рассердил племянницу тем, что продемонстрировал верность леди Марии, и леди Шелтон, которая приветствовала заключенную с нескрываемой злобой. Вперед вышла и сделала реверанс леди Кингстон. Она тоже была дружна с леди Марией и раньше служила вдовствующей принцессе. От нее сочувствия ждать не приходилось. И наконец, миссис Коффин, жена главного конюшего Анны. Неужели, назначив в услужение к опальной супруге женщин, которые ее терпеть не могли, Генрих проявлял дополнительную, утонченную жестокость? Как он мог! Однако, кроме этих четырех мегер, король прислал также старую няню Анны, миссис Орчард, которая печально качала головой, и добродушную миссис Стонор, опекуншу служивших у Анны девушек. Эти две дамы, объяснил Кингстон, будут исполнять обязанности камеристок и спать по ночам на соломенных тюфяках в ее опочивальне. – Мадам, узники высокого ранга, по обычаю, принимают пищу за моим столом, – сообщил сэр Уильям. – Ужин готов, и я буду рад, если вы присоединитесь к нам с женой. Анну удивила неожиданная любезность констебля, и она согласилась, чтобы ее проводили в Лейтенантский дом – обветшалое старое здание, смотревшее фасадом на Тауэр-Грин и церковь Святого Петра ад Винкула. Стол, сервированный серебром, и прекрасный ужин, которым угощали Анну, невольно располагали к хозяевам. Проникшись сердечной симпатией, она немного поела под их внимательными взглядами, но разговор не клеился, то и дело возникали напряженные паузы. Было столько всего, о чем Анна хотела – нет, ей было необходимо – спросить, но не смела, страшась того, что может услышать в ответ. Но сильнее всего жгла изнутри потребность заявить о своей, Норриса и Смитона невиновности. И еще она жаждала духовного утешения. – Мастер Кингстон, не окажете ли вы мне любезность? Попросите его величество короля разрешить мне принимать Святое причастие у себя в кабинете, чтобы я могла молиться о Божественной милости, – сказала Анна. – Это я могу организовать, мадам. – Кингстон промокнул рот салфеткой. – Хотите, позову священника Тауэра причастить вас после ужина? – Очень бы хотелось, – запинаясь, произнесла Анна и едва не заплакала. – Бог свидетель, в этих обвинениях нет ни капли правды, потому что я так же свободна от мужского общества, как и от греха, и я верная, венчанная жена короля. Мастер Кингстон, вам известно, почему я здесь? Похоже, вопрос Кингстона озадачил. – Если бы я знал, то все равно не имел бы права обсуждать это с вами. – Когда вы в последний раз видели короля? – не отступалась Анна. – На турнире в Майский день. – Прошу вас, скажите, где находится милорд отец мой? – молила Анна. Отец имел влияние. Он, конечно же, мог за нее вступиться. – Я видел его перед обедом при дворе. Знает ли отец о том, что происходит? Он был членом королевского Тайного совета, и его назначили в это Большое жюри. Анна вспомнила, каким озабоченным выглядел отец в момент их последней встречи. Неужели он знал о готовящемся аресте и не предупредил ее? А Джордж? Если бы Джордж знал, то перевернул бы ради ее спасения небо и землю. Поговорил бы с королем и бесстрашно бросился бы на ее защиту. Анна не могла вынести мысли о том, как будет переживать брат, услышав о ее аресте. – А где мой милый брат?! – в отчаянии воскликнула она. – Я оставил его во дворце Йорк, – ответил Кингстон. Леди Кингстон потянулась и положила ладонь на руку Анны: – Мадам, бесполезно сходить с ума. Но Анну обуял страх. Она вспомнила, что еще кто-то неназванный был обвинен в измене. Кто это мог быть? – Я слышала, что вместе со мной обвинили троих мужчин, – сказала она, – но не могу ответить на это ничем иным, кроме «нет»! Я не сделала ничего дурного, даже если мне придется в доказательство этого обнажить свое тело! Сказав это, Анна изобразила, будто распахивает лиф платья, а потом истерически расхохоталась над абсурдностью своих слов. Кингстон напомнил ей, что Норрис и Смитон свидетельствовали против нее. От Смитона этого можно было ожидать, потому что он не джентльмен, но не от Норриса. Он ни за что бы ее не предал. – О Норрис, неужели вы обвинили меня? – выпалила она, и плач перешел в слезы. – Вы теперь вместе со мной в Тауэре, и нам суждено умереть. И вы, Марк, тоже здесь, – сетовала она, вспоминая, что тот тоже невинен. Потом подумала о матери, которая до сих пор лежала больной в Хивере. Новость об аресте дочери и все эти шокирующие наветы плохо скажутся на ней. – О мать моя, ты умрешь от горя! – воскликнула она. Мысль была невыносимой, и Анна быстро сменила тему, заговорив о своих опасениях за леди Уорчестер, ребенок которой мог умереть во чреве. – А что стало причиной? – спросила леди Кингстон. – Огорчение из-за того, что случилось со мной. Наступила тишина. Анна повернулась к констеблю. Ей отчаянно хотелось узнать, совершат ли над ней правосудие. – Мастер Кингстон, я умру без суда? Тот покачал головой: – Самым ничтожным подданным короля не отказывают в этом. Анна засмеялась. И не могла остановиться.Было десять часов. Священник давно ушел, и Анна у себя в кабинете заканчивала читать молитвы, предписанные ей в качестве легкого наказания, когда услышала, как леди Кингстон сказала в соседней комнате ее теткам, что Смитону наконец нашли комнату в Тауэре и что она хуже, чем у Норриса. Боже, знать бы, где разместили Норриса. Однако, упав в изнеможении на кровать после самого ужасного дня в своей жизни, Анна почувствовала, что даже присутствие его где-то рядом – слабое утешение. Спать было невозможно. Анну и до ареста мучили кошмары, но теперь они стали в сотню раз хуже. Она не сомневалась: Генрих хочет от нее избавиться, чтобы взять себе третью жену, которая родит ему сыновей, не создавая проблем, возникших, когда он пытался отделаться от Екатерины. Но она, Анна, согласна уйти тихо – если только ей представится такой шанс – и заявит об этом, как только сможет. Вероятно, это единственный способ сохранить жизнь. Или Генрих просто пытается запугать ее, чтобы добиться покорности? Сколько раз его угрозы оказывались пустыми словами… Не может быть, чтобы он хотел ее смерти, ведь когда-то она так много для него значила. Анна старалась побороть страшные видения того, как встает на колени перед колодой и ждет, когда опустится топор… Ужасно! И она еще думала, что изнасилование – самое страшное, что может сотворить мужчина с женщиной! Мысли шли по одному и тому же кругу – бесконечная, вьющаяся спиралью пытка. Наконец за окном забрезжил свет еще одного яркого майского дня.
Через несколько часов Анне разрешили посидеть в обнесенном со всех сторон стеной Саду королевы с нестриженой лужайкой и неухоженными цветочными клумбами. Ее сопровождали четыре стражницы, и Анна заметила, что леди Кингстон, якобы занятая шитьем, пристально следит за ней. Открытая враждебность леди Шелтон ничуть не смягчилась. Это было обидно, особенно после того, как Анна оказала ей честь, назначив ко двору Елизаветы. – Почему вы так злитесь на меня, тетушка? – рискнула спросить Анна. – Вы сами знаете! – прошипела леди Шелтон. – Не хватило вам того, что вы опозорили нашу семью, так еще разрушили репутацию моей Мадж! Вы будете отрицать, что толкнули ее в руки короля? Или что этот Норрис – человек, которого она любила, изменил ей с вами? Благодаря вам ее доброе имя опорочено и счастье разрушено. – Все это неправда, – возразила Анна. – Я не позорила честь нашей семьи, потому что была верна королю. Все эти обвинения – ложь. Я никогда не обманывала ни его, ни Мадж с Норрисом. А соблазнить его милость предложила мне она сама. – Лжете! Моя дочь никогда не сделала бы такого. – Прошу прощения, но я вынуждена вас огорчить. Спросите ее сами. – Я знаю, какой получу ответ. Но ваши злодеяния этим не исчерпываются, что мне прекрасно известно. Вы заставляли меня портить жизнь леди Марии, этой бедной доброй девушке, которая жила в постоянном страхе, что вы с ней расправитесь. Вам бы понравилось, если бы подобным образом обходились с вашей дочерью? Подумайте об этом, мадам, потому что, возможно, скоро вас здесь не будет и вы не сможете ее защитить. – Леди Шелтон, думаю, вы сказали достаточно, – подала голос леди Кингстон. Анна вся дрожала. Она действительно могла встретить смерть, и если что и тяготило совесть, так это ее обращение с Марией. Леди Кингстон смотрела на Анну с жалостью. – Полагаю, вам следует воздержаться от угроз, – заметила она леди Шелтон. – Нам пока не известно, что произойдет с королевой. Мы ждем распоряжений короля. Значит, надежда все-таки была. Анна не знала, сколько еще сможет продержаться в обстановке неуверенности и постоянно переходя от надежды к отчаянию, но твердо решила: если Генрих освободит ее, она будет по-настоящему добра к Марии и постарается загладить вину за все неприятности, которые ей причинила. Миссис Коффин, которая кормила птиц крошками со стола, села рядом с Анной: – Мне очень жаль, что вы оказались в столь трудном положении. Я не могу понять, почему так случилось. Говорят, все произошло из-за каких-то слов вашего камергера. Зачем сэр Генри Норрис клялся отцу Скипу в том, что вы добродетельная женщина? К чему вообще заводить разговор о подобных вещах? Анну осенило: миссис Коффин и остальные дамы были приставлены следить за ней и выуживать признания в прегрешениях, чтобы она собственными устами подтвердила обвинения. Без сомнения, всякое ее слово передавали Кингстону, а потом и Генриху! – Я попросила его сделать это, – сказала Анна, решив, что наилучшая тактика – говорить правду. – Мы с ним в шутку обменялись несколькими фразами, не больше, и боялись, что нас могли подслушать и неправильно истолковать наш разговор. – Она вспомнила ту злополучную беседу с Норрисом. – Вам следует знать, что прямо сейчас Тайный совет допрашивает сэра Фрэнсиса Уэстона на предмет его отношений с вашей милостью, – пристально вглядываясь в нее, сообщила миссис Коффин. Еще и Уэстон! Не он ли тот третий мужчина? – Боюсь, он расскажет больше других, – призналась Анна. – Он считает, что Норрис в меня влюблен. – И она передала содержание своего разговора с Уэстоном о том, почему Норрис не спешит заключить брак с Мадж. – Вот и вся так называемая измена. – Она сверкнула глазами в сторону леди Шелтон и снова повернулась к миссис Коффин. – Меня не обвинят. Нет никаких доказательств. Что они могут мне предъявить? Если они пытаются выжать что-то из таких пустых разговоров, то просто роются в грязи в надежде найти способ от меня избавиться. Но мой брат за меня заступится, и Норрис тоже объявит о моей невиновности. Так же должны поступить Уэстон и Смитон. – Лорд Рочфорд тоже арестован. Он здесь, в Тауэре. – Леди Кингстон не смотрела Анне в глаза, в которых застыл ужас. И Джордж тоже? В этом не было никакого смысла. Его-то зачем арестовывать? Не дай Бог, раскроется его роль в смерти Екатерины. Если об этом известно Шапуи, Генриху придется примерно наказать Джорджа, чтобы удовлетворить императора, дружбы которого он добивался. А она, Анна, как честно признавался сам Карл, оставалась препятствием к этому. Или ради заключения союза с империей ее враги пытались представить дело так, будто она и ее друзья являются соучастниками убийства? Что тут главнее: прелюбодеяние или убийство? – Это уже напоминает фарс, – заявила Анна. – Прошу вас, леди Кингстон, пошлите за вашим мужем, мне нужно поговорить с ним. Вскоре перед Анной стоял со шляпой в руках сэр Уильям. – Мне сказали, что милорд брат мой находится здесь, – начала разговор Анна. – Это правда, – подтвердил констебль. – Но почему? – Вы знаете, что я не могу обсуждать это с вами. Анна вздохнула: – Очень рада, что мы оказались рядом. Анну вдруг поразила мысль: если Джордж и Норрис оба здесь, то за нее действительно больше некому заступиться, она осталась совершенно одна, без друзей. Кингстон прочистил горло: – Мадам, я могу также сообщить вам, что в Тауэре находятся еще четыре джентльмена по вашему делу: сэр Фрэнсис Уэстон, сэр Уильям Бреретон, сэр Томас Уайетт и сэр Ричард Пейдж. Значит, всего шестеро, помимо ее брата! Уайетт – это еще можно было понять, ведь когда-то он любил ее, а вот Пейдж… Анна едва представляла, как он выглядит. Какой же сексуальной хищницей ее считали? Или пытались доказать, что, отчаянно желая иметь сына, она без конца меняла любовников в надежде не оставить пустой королевскую колыбель? Просто смешно. Неужели они забыли, что она без всяких проблем зачинала сыновей с Генрихом? Или они намекали, что эти сыновья – и, не дай Бог, даже Елизавета – не от Генриха? Кое-что прояснялось. Все это грязное дело затеяно не одним Генрихом: без Кромвеля тут не обошлось, Анна была в этом уверена. Он боялся ее враждебности и нанес удар первым. Это доказывал арест Бреретона. У Кромвеля имелись с ним свои счеты. Рука господина секретаря слишком явственно читалась в этом деле. Ни прелюбодеяние, ни убийство тут ничего не значат! Что ж, она с ним разберется! – Мастер Кингстон, я желаю, чтобы вы передали письмо от меня господину секретарю. – Мадам, скажите на словах, и я все ему передам. – Тогда прошу вас сказать ему, что меня крайне удивляет отсутствие у королевского совета желания со мной встретиться. Меня вообще не допрашивали, но тем не менее арестованы семеро джентльменов. Я бы хотела получить возможность объясниться и оправдать свое честное имя. Кингстон ничего не сказал. Анна посмотрела вверх на безоблачное небо: – Если добрые люди ничего не сделают, чтобы исправить мое положение, Бог продемонстрирует свое неудовольствие. Могу поспорить, что мы не увидим дождя, пока меня не выпустят из Тауэра. – Тогда я буду молиться о ниспослании дождя, потому что нам нужна хорошая погода для посевов, – сказал Кингстон и оставил Анну. Когда он ушел, леди Кингстон дала узнице пяльцы, кусок ткани, шелковых ниток, и Анна попыталась сосредоточиться на вышивании. Делая стежок за стежком, она все больше убеждалась в правильности своей теории насчет Кромвеля. Ни одну из ее дам не арестовали за содействие прелюбодеянию, а череда любовных связей была бы невозможна без помощи хотя бы одной доверенной служанки. Обвиняя Анну в преступлениях, которые она, предположительно, совершила, Кромвель шел на большой риск, и это показывало, в каком он пребывал отчаянии. Однако Кромвель не дурак: какие бы доказательства он ни предъявил Генриху, они должны быть убедительными, а иначе господина секретаря ждут ужасные последствия.
За вечер Анне так надоела навязчивая бдительность и едкие замечания окружавших ее дам, что она больше не могла молчать. Когда все собрались обедать, узница повернулась к Кингстону: – Король знал, что делал, когда поместил рядом со мной моих тетушек и госпожу Коффин. Леди Болейн фыркнула: – Вас привела сюда любовь к интригам, племянница. – Я никогда не плела интриг против короля, – возразила Анна. Наступила тишина. Паузу заполнила миссис Стонор: – Вы знаете, из всех узников хуже других здесь обращаются с Марком Смитоном – он в кандалах. Анну встревожили эти слова. – Потому что он не джентльмен, – заметила она. – Я не знаю за ним никаких дурных поступков. Он всего один раз приходил в мои личные покои в Винчестере, когда я послала за ним, чтобы он сыграл для нашей компании. После этого я не разговаривала с ним до субботы перед Майским днем, когда обнаружила его у окна в моем приемном зале. – Анна рассказала, что произошло. – За это его арестовали? Дамы молчали. Анна надеялась, они передадут, куда нужно, ее слова, сказанные в защиту Смитона. После обеда настроение пленницы снова ухудшилось: ей предстояло провести еще одну ночь, терзаясь неопределенностью своего положения. Кингстон собирался проводить Анну в покои королевы, и тут ее прорвало: – Милорд брат мой умрет! – Это ни в коем случае нельзя считать решенным, – сказал констебль. – Никогда не слышала, чтобы с королевой обошлись бы столь жестоко. Думаю, король хочет меня испытать. – И Анна залилась смехом. И было из-за чего: Генрих, который постоянно изменял ей, проверяет ее на прочность и преданность! Усилием воли она взяла себя в руки. – Мне нужно правосудие. – Не сомневайтесь, вы его получите, – заверил Кингстон. – В чем бы меня ни обвинили, я отвечу только одно – нет! И никто не сможет представить никаких доказательств. Тем не менее хотелось бы сделать заявление о своей невиновности. Если у меня появится такая возможность, я выиграю дело. Если бы Господь допустил, чтобы со мной были мои епископы, они, зная правду, пошли бы к королю и просили за меня. – Анну ужаснула мысль, что знавшие ее как защитницу истинной религии вдруг поверят худшим словам о ней. Кингстон смотрел скептически, и это разозлило Анну. – Думаю, бóльшая часть англичан должна за меня молиться. И если я умру, на вас обрушатся кары небесные, равных которым Англия еще не испытывала. Но я буду на Небесах, потому что совершила за свою жизнь много добрых дел. – И Анна снова заплакала.
В Тауэре Анна провела около недели, когда к ней пришла депутация членов Тайного совета. – Признайтесь в ваших преступлениях, и вам будет лучше, – убеждали они. – В каких преступлениях? – Анна смело взирала на них, держалась с королевским достоинством. – Милорды, я больше ни на что не надеюсь в этом мире, но ни в чем не признáюсь, особенно в том, чего не совершала. Сейчас я желаю только одного: быть избавленной от этого чистилища на земле, чтобы я смогла отправиться на Небеса. Смерть меня больше не страшит. Анна не кривила душой. Она стала спокойнее и смирилась с неизбежным. Ее жизнь превратилась в настоящий ад, и смерть казалась желанным избавлением от страданий. Лорды смотрели на нее в изумлении. А чего они ждали? Слез и униженной мольбы? Анна обвела их взглядом: – Мне не в чем признаваться. Я все сказала.
Через два дня перед ней предстал Кингстон: – Я пришел сказать вашей милости, что сегодня получил приказание в ближайшую пятницу доставить сэра Фрэнсиса Уэстона, сэра Генри Норриса, сэра Уильяма Бреретона и Марка Смитона в Вестминстер-Холл, где их будут судить за измену. То есть через два дня. – А что насчет лорда Рочфорда и меня? – Об этом никаких указаний я не получал, мадам. – Это возмутительно! – вспыхнула Анна. – Нас всех должны судить в одно время. Исход одного суда может повлиять на другой. – Мадам, – начал терпеливо объяснять Кингстон, – эти мужчины не знатного происхождения, и их будут заслушивать те, кому поручено выдвигать против них обвинения. Вы и лорд Рочфорд имеете право на суд пэров, равных вам. Анна знала: кто будет вершить суд, значения не имеет. Закон по отношению к подозреваемым в измене суров. Она слышала только об одном оправданном по такому делу. – А что с господином Уайеттом и господином Пейджем? – спросила она. – Насчет них никаких приказаний не поступало.
В день суда Анна была на грани отчаяния и беспрестанно посылала узнать, не вернулся ли Кингстон. Ближе к вечеру он явился. При виде его мрачного лица Анна начала опасаться худшего. – Скажите! – взмолилась она. – Их признали виновными? – Всех, – произнес констебль и сглотнул. – В чем?! – вскричала Анна. – Я не могу обсуждать вердикт с вашей милостью. – Тогда, по крайней мере, скажите, заявили ли они о моей невиновности? – Только Смитон признал свою вину. Но вердикт был вынесен единогласно. Это было хуже ночных кошмаров, которые преследовали ее по ночам. – Что с ними будет? – прошептала Анна, боясь услышать ответ. Кингстон выглядел подавленным: – Они претерпят смерть, которая полагается изменникам. «Только не Норрис!» – кричало ее сердце. Не этот честный, преданный человек. Не Уэстон, ведь он так молод и полон жизни; и не Бреретон, единственное преступление которого состояло в том, что он нанес обиду Кромвелю; и не Смитон, несмотря на всю его невыносимую заносчивость! Этого не должно произойти. И что тогда ждет ее и Джорджа? Все они обречены.
На следующий день Кингстон вернулся: – Мадам, я получил приказ от короля в понедельник доставить вашу милость и лорда Рочфорда к лорду-распорядителю суда пэров для судебного разбирательства, которое состоится здесь, в Королевском зале. Значит, из Тауэра ей не выйти. Они, несомненно, опасались демонстраций в ее поддержку или, скорее, против нее. – Но мне так и не сказали, какие преступления вменяют в вину! – воскликнула Анна. – Как я могу подготовиться к защите? – Мадам, вы услышите обвинительный акт в суде, где будут зачитаны и показания свидетелей. – Мне не назначат адвоката, который будет выступать от моего имени? Кингстон чувствовал себя все более неуютно. – Мадам, обвиняемым в измене запрещено иметь законных представителей в суде. Также вы не имеете права сами привлекать свидетелей. Тут Анна горько рассмеялась: – В любом случае сомнительно, чтобы кто-нибудь согласился вступиться за меня. Так как же мне защищаться? – Вы можете спорить с обвинителями. – Вы говорили, что я получу правосудие! – напомнила Анна. – Это выглядит пародией на него. Кингстон немного ослабил служебную сдержанность, и Анна увидела в его глазах сочувствие. – Как сказал однажды мой добрый друг кардинал Уолси: если обвинителем выступает Корона, суд вынесет вердикт, что это Авель убил Каина. Осознание того, что она сама попала в столь же отчаянное положение, какое подстроила для Уолси, было горьким. – Тогда мне придется сражаться без оружия, – прошептала Анна. Кингстон поспешил удалиться, сославшись на занятость, и оставил пленницу наедине с ее страхами и разочарованиями. Остаток дня и все воскресенье Анна провела, наблюдая из окна за тем, как внутренний двор Тауэра превращался в арену бурной деятельности: рабочие несли доски и деревянные шесты в соседний Королевский зал для создания помоста, возбужденный Кингстон руководил ими, служители бегали туда-сюда, выполняя его распоряжения. Глядя на дорогую мебель, которую вносили в зал: огромный позолоченный помост с гербами Англии, столы, турецкие ковры, мягкие стулья и сундук с серебряными кубками, Анна осознала, что суд пройдет в обстановке, соответствующей ее статусу: торжественно и с церемониями. Все-таки она была королевой Англии.
Глава 27. 1536 год
Анна ждала на крыльце с Кингстоном, сэром Эдмундом Уолсингемом, четырьмя своими надсмотрщицами и – приятный сюрприз – четырьмя бывшими фрейлинами: Нэн Сэвилл, Марджери Хорсман, Мэри Зуш и сестрой Норриса – еще одной Мэри. Видеть их всех было большим утешением. Анна едва не расплакалась, обнимая девушек, хотя явное смятение, запечатленное на лицах фрейлин, ее встревожило. Они слышали, что говорят при дворе. Известно ли им нечто такое, чего не знает она? Наконец-то у Анны приличная свита, но это не придворный церемониал. Главный тюремщик Тауэра находился рядом, а впереди и позади Анны стояли стражники. Из зала доносился гул голосов. Внутри, наверное, яблоку негде упасть. Еще до рассвета перед входом выстроилась целая очередь из простолюдинов, которые хотели попасть на суд. По крайней мере, ее будут судить на глазах у народа. Анна услышала голос, призывавший к тишине, потом грубоватые интонации Норфолка. По словам Кингстона, дядя исполнял роль лорда-распорядителя. – Господин главный тюремщик Тауэра, введите заключенную! – провозгласил он. В дверях появился распорядитель и кивком подал знак. Анна высоко подняла голову, как подобает королеве, и прошла вслед за ним в просторный зал, уставленный скамьями. Она понимала, что на нее смотрит тысяча глаз. Лавки и трибуны, установленные вдоль стен, были заполнены зрителями. Анна, облаченная в платье из черного бархата поверх алого дамастового киртла и в маленьком берете, на котором бойко торчало черно-белое перо, знала, что являет собой величественную фигуру. Эти предметы гардероба оказались среди тех, что уложили в сундук и доставили в Тауэр вскоре после ее ареста. Она была искренне рада, что не поддающаяся контролю истерия, которой сопровождалась первая неделя заключения, сошла на нет. Анна чувствовала себя спокойной, полной достоинства и готовой встретить любой исход, который Судьба – или Генрих – припасли для нее. Господь идет рядом с ней, это она отчетливо ощущала, и в Нем собиралась черпать силы. На главного тюремщика Тауэра Анна старалась не смотреть. Он чинно вышагивал сбоку с церемониальным топором в руках; лезвие было повернуто в сторону от нее в знак того, что подсудимая еще не признана виновной. Впереди, на троне под балдахином с королевскими гербами восседал представлявший короля дядя Норфолк. Он опирался на длинный белый жезл – атрибут его должности; в кресле у ног Норфолка расположился его сын, кузен Анны Суррей, с золотым жезлом, которым Норфолк владел как граф-маршал Англии. По правую руку от герцога находился лорд-канцлер Одли, по левую – герцог Саффолк; оба верные служаки, которым можно доверить исполнение желаний короля. С обеих сторон от главных судей стояли пэры, пришедшие допрашивать Анну. Их было человек двадцать, даже больше, все знакомые лица. Одних она когда-то считала друзьями, другие являлись ярыми приверженцами леди Марии, третьи – родственниками или фаворитами короля. От них помощи не жди. Анна заметила Гарри Перси. Выглядел он изможденным и больным. И да упасет ее Господь, отец тоже был здесь – багров лицом и взглядом с дочерью не встречается. При виде его Анна на мгновение замедлила шаг. Каким же надо быть чудовищем, чтобы заставить отца судить своих детей? Неужели Генрих пал так низко? Или за это нужно благодарить Кромвеля? Господин секретарь тоже присутствовал и вид имел важный и самодовольный. Его триумфальный взгляд опустился на Анну. «Победа осталась за мной», – как бы говорил Кромвель. Ему теперь нечего бояться, она для него не опасна. Анна решила обличить негодяя. Перед ее глазами проплыли лица лорд-мэра Лондона, олдерменов, шерифов и глав гильдий. Тут же присутствовали французский посол и другие иностранные дипломаты, но Шапуи, презрительной насмешливости которого она опасалась, нигде не было видно. В центре зала соорудили большую платформу. Анна поднялась на нее по ступенькам, подошла к барьеру и сделала реверанс перед судьями, окинув каждого испытующим взглядом. Она не покажет им страха. Все поклонились в ответ, и Норфолк предложил подсудимойзанять установленное на платформе изящное кресло. Анна села, элегантно расправив юбки. Рядом с креслом стоял маленький столик, на котором лежала ее корона, словно в напоминание зрителям о высоком ранге представшей перед судом. Должно быть, корону доставили из сокровищницы, благо она находилась неподалеку. Пошуршав бумагами и старательно откашлявшись, сэр Кристофер Хейлз, генеральный прокурор, встал, чтобы зачитать обвинительный акт. Голос его разнесся по всему залу. – Королева Анна, будучи супругой короля Генриха Восьмого в течение трех лет и более, презрев законный, прекраснейший и благороднейший брак с владыкой нашим королем, злоумышляя в сердце своем против владыки нашего короля, поддавшись дьявольскому искушению и забыв Бога, ежедневно удовлетворяла свои нездоровые плотские аппетиты, вела себя лживо и предательски, вела низкие разговоры, награждала поцелуями, ласками, подарками и прочими постыдными приманками многих приближенных короля, чем соблазнила их стать своими любовниками. Анна подняла вверх руку. – Не виновна, – твердо произнесла она. – Все это ложь. Сэр Кристофер гневно взглянул на нее: – Мадам, у вас будет время ответить. Позвольте мне закончить. Гм… Некоторые из слуг поддались на ее гнусные провокации… Он назвал Норриса, Уэстона, Бреретона и Смитона, потом зачитал длинный список дат, в которые прелюбодеяния якобы имели место. Анна слушала с возрастающим изумлением: составитель обвинения позволил себе возмутительную небрежность. Стыдно было слушать описания того, как она сладкими речами, поцелуями, ласками, и не только, побуждала обвиняемых мужчин вступать в незаконные половые сношения с ней. Но больше всего озадачили даты. В списке значилось много таких, когда контакты между нею и предполагаемыми любовниками вообще не могли происходить, так как в эти дни она или имевшийся в виду джентльмен либо вовсе не находились в указанном месте, либо там присутствовал кто-то один из них. Тем не менее дело обставили так, что опровергнуть обвинительный акт было совершенно невозможно, поскольку в нем часто повторялось: прелюбодеяния совершались много раз до и после указанных дат. Как и боялась Анна, это была пародия на правосудие. – Не виновна, – повторила она. Анна размышляла, какую роль в этой игре отвели Джорджу и когда наконец сэр Кристофер доберется до обвинений в заговоре, и тут услышала имя брата. – Помимо этого… – генеральный прокурор сделал паузу для усиления эффекта, – королева обвиняется в том, что побуждала своего родного брата, Джорджа Болейна, рыцаря, лорда Рочфорда, осквернять ее, соблазняя поцелуями, подарками и украшениями, а также языком, который засовывала в рот упомянутого Джорджа, а упомянутый Джордж проникал языком ей в рот, что противно велениям Господа Всемогущего, равно как и законам человеческим и Божественным. Тогда как он, Джордж Болейн, презирая Божьи установления и все прочие нормы, принятые среди людей, осквернял и познавал плотски названную королеву, свою собственную сестру. Анна едва не умерла от стыда. Ее так сильно затрясло, что она подумала: смерть близка. Возмутительно! Неужели им мало выставить ее самым низким распутным чудовищем? Нет, невозможно, чтобы ее всерьез подозревали в плотской связи с Джорджем! Это было подло, позорно, тошнотворно, и если щеки Анны пылали, то лишь оттого, что все внутри у нее восставало против столь грязных обвинений. – Не виновна! – в очередной раз громко повторила она. Однако сэр Кристофер еще не закончил. – Более того, – продолжил он, – королева и другие изменники обсуждали и представляли себе смерть короля, и королева часто обещала выйти замуж за одного из предателей, когда король покинет этот мир, утверждая, что никогда не будет любить короля в сердце своем. – Никогда такого не было! – провозгласила Анна. – Это величайшая из клевет! Сэр Кристофер разошелся, и его невозможно было сбить. – Милорды, подумайте о том, какое воздействие произвело все это на нашего суверена и владыку короля. Только недавно услышав об этих постыдных, отвратительных преступлениях, пороках и изменах, совершенных против него, он испытал такое внутреннее неудовольствие и такие тяжелые чувства, что это нанесло вред его здоровью и телу, а также подвергло опасности наследников короля и королевы, породило их унижение. Генрих страдал? А каково ей, Анне, на которую при всем честном народе обрушили столь грязные и несправедливые обвинения? Знал бы кто-нибудь, чего ей стоило спокойно сидеть на месте, слушать судей и при этом сохранять вид безвинно оскорбленной особы, каковой она и являлась! Анна чувствовала себя замаранной, оплеванной, будто ей и впрямь было чего стыдиться. Наконец сэр Кристофер умолк. – Теперь вы можете ответить на обвинения, мадам, – обратился он к Анне. Важно было сохранять спокойствие и не возражать слишком многословно, хотя Анна долго терпела и сдерживалась. Она обвела взглядом выжидательно смотревших на нее людей. – Я никогда не обманывала короля, – заявила она. – Я хорошо помню, что в половину из тех дней, когда, согласно обвинению, совершала измены, даже не находилась в одном доме с упоминаемым мужчиной, или была беременна, или недавно родила. Спросите ваших жен, милорды, какой женщине захочется развлекаться с мужчиной в такие моменты? В зале раздался гомон голосов и смешки. Хорошо. Хоть кого-то она привлекла на свою сторону. – Но подумайте, что влекут за собой обвинения в прелюбодеяниях в эти дни? – продолжила Анна. – Они пятнают моих детей от короля, намекают, что не он зачал их, и меня это шокирует. Оспаривать законность рождения наследников короля – измена, и, возводя на меня подобные поклепы, мои обвинители ее совершают! Мне известно, что по крайней мере в один из дней, когда я якобы соблазняла своих любовников, я находилась под постоянным наблюдением. Милорды, я не так глупа. Снова послышался смех. Анна подождала, пока он стихнет: – Теперь я должна опровергнуть серьезное обвинение в злом умысле причинить смерть королю. Оно самое отвратительное из всех – государственная измена первого порядка. Будь я виновна в ней, мне пришлось бы признать себя достойной смерти. Но когда я будто бы планировала эту измену, вдовствующая принцесса была еще жива, и что дала бы мне смерть короля? Если бы он ушел из жизни тогда, вполне мог начаться бунт в поддержку леди Марии или даже гражданская война. – Анна сделала паузу, чтобы ее слова были осмыслены. – Какую пользу принесло бы мне убийство моего главного защитника и вступление в брак с любым из обвиняемых мужчин? Ни один из них не мог дать мне того, что дал король. – Она собралась с духом, чтобы продолжить. – А что касается обвинений в инцесте, то совершенно очевидно: мои враги измыслили его, чтобы возбудить ненависть и возмущение против меня. Относительно обвинений в изменах могу добавить, что совершение подобных преступлений было бы невозможным без содействия служивших у меня женщин, которые являются свидетельницами всей моей частной жизни. А ни одну из них не привлекли к ответственности за недонесение о преступлении. – Анна обвела дерзким взглядом судилище и оказалась вознаграждена за смелость несколькими негромкими одобрительными возгласами. – Более того, – расхрабрившись, вновь заговорила она, – я знала, что мне угрожали враги. Понимала, что за мной неотступно следят и что мои недоброжелатели всегда начеку. Нужно быть крайне недалеким человеком, чтобы совершать проступки, зная, что с вас не сводят злых глаз. Генеральный прокурор и Кромвель встали. – Признайтесь! Обвинения доказаны! – прорычал сэр Кристофер. – Я опровергаю их все! – твердо заявила Анна. Слово взял Кромвель. – Было ли заключено устное соглашение между вами и Норрисом, что вы поженитесь после смерти короля, на которую вы надеялись? – Нет, не было. Взглядом Анна его не удостоила. – Вы танцевали в своей опочивальне с джентльменами из личных покоев короля? – Я танцевала с ними в своей гостиной, и при этом всегда присутствовали мои дамы. – Вас видели целующейся с вашим братом, лордом Рочфордом. – Милорды, я протестую! – выкрикнула Анна. – У кого из вас есть жена, сестра или дочь, которая не целует иногда своего брата? Кромвель пропустил это мимо ушей: – Вы не можете отрицать, что в письме к брату сообщали о своей беременности? – А почему бы мне не написать ему? Я сообщила об этом всей семье. С каких пор это стало преступлением? – Некоторые могут посчитать это доказательством того, что ваш брат является отцом вашего ребенка. Анна ответила на это заявление презрительным молчанием, которого оно заслуживало, и лишь изумленно выгнула брови. Атаку возобновил сэр Кристофер: – Вы с вашим братом смеялись над костюмом короля и его стихами. Эти слова Анна тоже гордо оставила без ответа. Ее обвинители действительно рыли носом землю в поисках всякой дряни. – Вы разными способами демонстрировали, что не любите короля и устали от него. Милорды, разве это не поразительное поведение со стороны женщины, которой король оказал честь, женившись на ней? Лорды мудро закивали. – Я люблю милорда короля, как мне велит честь и душевная склонность, – громко выразила протест Анна. – Я всю жизнь блюла свою добродетель, как полагается королеве. Все это дело, состряпанное против меня, – сплошная ложь и клевета! Заявление возбудило ропот среди зрителей, и Анна почувствовала: многие из них выражают сомнения в обоснованности обвинений. Некоторые смотрели на Анну и одобрительно кивали. – Но ваши любовники признались. – Четверо из них заявили о своей невиновности, – напомнила Анна судьям. – Остается только несчастный Смитон. Одного свидетеля недостаточно для обвинения человека в государственной измене. – В вашем случае достаточно, – возразил Кромвель. – Кроме того, у нас есть письменные показания свидетелей. Пусть их зачитают. Ничего нового к делу Короны они не добавили, но Анну глубоко задели упоминания о том, что леди Уорчестер дала показания о ее мнимых отношениях с Джорджем и Смитоном, а леди Уингфилд по секрету сообщала своей приятельнице, что королева – распутная женщина. – Но леди Уингфилд умерла, – возразила Анна, – так что ее слова могли быть переданы только через третьих лиц, и я полагаю, их нельзя принимать в качестве свидетельских показаний. Повторяю, все, что вы приписываете мне, неправда. Я не совершила никаких проступков. Генеральный прокурор смотрел на нее так, будто она изъяснялась на иностранном языке. – За сим рассмотрение дела Короны завершено, – провозгласил он. – Милорды, нужно ли вам время, чтобы вынести вердикт? Лорды кивнули в знак согласия и начали переговариваться друг с другом. Едва способная вынести напряжение момента, Анна следила за тем, как несколько пэров перешли на другую сторону зала, чтобы обменяться мнениями со своими визави. Она вглядывалась в их лица, пытаясь определить, что у них на уме, но прийти к какому-либо заключению было невозможно. Своих намерений пэры ничем не выдавали. Во рту у Анны пересохло, ладони стали липкими. Ей хотелось только одного: чтобы это испытание завершилось. Наконец Саффолк подал знак сэру Кристоферу Хейлзу. – Милорд Суррей, призываю вас первым произнести свой вердикт, – произнес генеральный прокурор. – Виновна! – заявил Суррей. – Милорд Саффолк? – Виновна! – Милорд Уорчестер? – Виновна! – Милорд Нортумберленд? Гарри Перси встал. Лицо его было мертвенно-бледным, но голос не дрогнул. – Виновна! А потом – чего еще она ожидала? – один за другим бароны и графы поднимались со своих мест и повторяли одно и то же, пока сэр Кристофер не подошел к отцу Анны, который выглядел совершенно убитым. – Милорд Уилтшир? Отец медленно поднялся на ноги. Ему было никак не раскрыть рот. – Милорд? – Виновна! – буркнул тот. Его заставили. Анна понимала и одновременно ужасалась, что отец вынес ей смертный приговор: купил себе безопасность, предав собственных детей. Это казалось страшнее той жестокой участи, которая ждала ее саму. Но все же отец должен был подумать о матери. Он спасал осколки своей жизни, хотя ему придется жить под грузом совершенного предательства. Сэр Кристофер Хейлз строго посмотрел на Анну: – Узница, встаньте у барьера, чтобы выслушать решение суда. Анна встала. Все казалось ей нереальным. По рядам заполненных публикой скамей волной прокатился возбужденный гул голосов, но она едва слышала его. Саффолк подошел к барьеру и обратился к Анне: – Мадам, вы должны передать корону в наши руки. Анне стало ясно, что ее ждет самое худшее. Она взяла корону и протянула Саффолку, понимая, что это символический акт, которым она лишает себя атрибутов своего высокого статуса. Властью она больше не обладала. – Я не виновна в преступлениях против его милости, – заявила Анна, но Саффолк никак на это не отреагировал. – От имени короля я лишаю вас титула леди маркизы, – провозгласил он. – Я охотно уступаю его господину моему супругу, который даровал мне его, – отозвалась Анна, отмечая, что королевский титул не был упомянут. Этого они не могли у нее отнять, по крайней мере сейчас. Он принадлежал ей, согласно Акту о престолонаследии, который объявлял ее королевой по закону, а не только по праву брачного союза с королем. Наступила тишина. Сидевший в кресле Норфолк выпрямил спину. Анну поразило, что по его щекам текли слезы. Несомненно, они были вызваны не сожалением об участи племянницы, а скорее скорбью по потерянной семейной чести и утраченному статусу. Кроме того, этот скандал ставил под угрозу его собственную карьеру. Норфолк сосредоточил на Анне неумолимо суровый взгляд: – Так как вы оскорбили нашего суверена его милость короля, изменив ему, закон этого королевства гласит, что вы достойны смерти. И приговор вам такой: вы будете сожжены у столба здесь, на Тауэр-Грин, или же вам отрубят голову. Это зависит от желания короля. С дальнего ряда трибун раздался крик, и Анна краем глаза увидела насмерть перепуганную миссис Орчард. Судьи возмущенно перешептывались, явно недовольные таким приговором. – Должно быть либо то, либо другое, – услышала Анна чьи-то слова. – Это несправедливо по отношению к осужденной. Норфолк гневно взглянул на говорившего, но в этот момент завалился набок в своем кресле Гарри Перси. Очевидно, упал в обморок. Сидевшие рядом лорды сделали движение, чтобы помочь, потом подбежали распорядители и вынесли страдальца из зала. Видно, слишком уж тяжким бременем оказалось для него осознание, что он обрек на смерть женщину, которую в юности очень любил. Теперь все ждали ответного слова Анны. Она была спокойна. Сопоставить весь этот ужас со своей жизнью не получалось. Казалось, судебное разбирательство происходило во сне. Анна опустила взгляд на свои юбки и подумала: интересно, ей придется идти на костер в королевском наряде? Жаль будет понапрасну испортить хорошую одежду. И вдруг до нее дошел весь ужас того, что ждало впереди. – О Отец, о Создатель, Ты, который есть стезя, жизнь и истина, Тебе известно, заслужила ли я эту смерть! – воскликнула Анна, возводя глаза к небу. Она в отчаянии взирала на судей. – Милорды, я не стану называть ваше решение несправедливым, не буду настаивать, что сказанное мной в свою защиту могло поколебать вашу убежденность в моей виновности. Мне хочется верить, что у вас есть достаточные основания сотворить то, что вы сотворили, только они должны отличаться от обсуждавшихся в суде, потому как я не совершала поставленных мне в вину преступлений. Я всегда была верной супругой короля, хотя и не утверждаю, что неизменно демонстрировала покорность, которой заслуживала его доброта ко мне. Признаюсь, я ревновала и подозревала его, и у меня не хватало сдержанности и мудрости, чтобы неизменно скрывать это. – Анна сделала паузу, смиренно склонив голову, потом ее голос зазвучал вновь, громко и уверенно. – Но Господу известно, и в этом Он мне свидетель: ни в каких других грехах против короля я не повинна. Не думайте, будто я говорю это ради того, чтобы продлить себе жизнь, ведь Тот, кто спасает от смерти, научил меня умирать, и Он укрепит мою веру. Я знаю, эти мои последние слова не принесут пользы, но говорю их для подтверждения своей добродетельности и оправдания чести. – Она посмотрела в упор на отца, который отвел взгляд. – А что касается моего брата и других, неправедно осужденных, я бы охотно претерпела множество смертей, лишь бы избавить их от злой участи, но так как вижу, что это угодно королю, то с готовностью приму смерть вместе с ними, уверенная, что войду в жизнь вечную, и буду вести ее в мире и радости с молитвами Богу за короля и вас, милорды. Слова Анны были встречены гробовым молчанием. Пэры снизошли до того, чтобы принять удрученный вид. Действительно ли они искренне считают ее виновной? Ясно, что Генрих был в этом убежден, а раз его воля явлена, никто не смел ей противиться. Анна снова взглянула на своих обвинителей, задержалась на Хейлзе и Кромвеле: – Судья всего мира, средоточие правды и справедливости, ведает истину, – напомнила она, – и я молюсь, чтобы в своей безмерной любви Он проявил сострадание к тем, кто осудил меня на смерть. – Она помолчала и добавила: – Я прошу только дать мне немного времени, чтобы облегчить свою совесть. До Анны донеслось несколько приглушенные всхлипов. Норфолк снова проливал слезы. Даже у Кромвеля в глазах промелькнула жалость. Суд встал. Анна сделала реверанс перед пэрами, потом вперед вышел Кингстон, чтобы вывести ее из зала, за ними последовала леди Кингстон. Главный тюремщик вышагивал рядом, теперь его церемониальный топор был повернут к Анне, чтобы показать ожидавшей на улице толпе, что она осуждена на смерть. Анне сказали, что теперь будут судить ее брата, и она молилась о возможности увидеть его хоть на миг и сказать несколько слов утешения, но Джорджа нигде не было видно. Когда она покинула зал, позади поднялся шум голосов. Вернувшись в свои покои, Анна с облегчением узнала, что отныне прислуживать ей будут только леди Кингстон, тетя Болейн, миссис Орчард и четыре фрейлины. Леди Шелтон и миссис Коффин отстранены от своих обязанностей. Анна упала на кровать, и только теперь ее охватил ужас. Внутренне она вся сжималась, представляя жар пламени, опаляющего плоть, и терзалась мучительным, неописуемым страхом быть сожженной заживо. Пришлось даже заткнуть рот углом одеяла, чтобы не закричать.Джорджа тоже осудили и приговорили к смерти как изменника. – Но так как он благородный человек, король почти наверняка заменит ему недостойную казнь на отсечение головы, – мягким тоном сказал Кингстон. Он осторожно ходил вокруг Анны с того момента, как она, изможденная и слабая, появилась из своей спальни. – Он отрицал обвинения? – с тревогой ожидая ответа, спросила Анна. Теперь, когда вердикт был вынесен, констеблю, похоже, захотелось поговорить. – Да, он отвечал судьям так благоразумно и мудро, что любо-дорого было слушать. Он ни в чем не признался, но ясно дал понять, что не совершал никаких проступков. Сам Томас Мор не мог бы ответить лучше. Храбрый Джордж! Он не смалодушничал и не подвел ее. – Это жена дала против него показания и обвинила в инцесте, – добавил Кингстон. Джейн, маленькая мегера! Как подло она отомстила Джорджу за дурное отношение и за смерть Фишера. – Похоже, она раскрыла эту постыдную тайну больше из ревности, чем из преданности королю, – продолжил Кингстон. – С чего бы ей ревновать? – воскликнула Анна. – Кажется, она считает, что муж любил вас больше, чем ее, мадам. – Она хочет, чтобы все так думали. А на самом деле просто выступает за леди Марию. И стремится уничтожить меня и весь мой род. – Думаю, многие согласились бы с вашей милостью, – поддакнул констебль. – Говорят, на кону стояли большие деньги, если бы лорда Рочфорда оправдали. – Как отреагировал на приговор мой брат? – Храбро. Он сказал, что всякий человек грешен и все заслуживают смерти. Потом добавил: раз уж ему суждено умереть, то он не будет настаивать на своей невиновности, но признается, что достоин казни. Анна собралась было возразить: мол, Джордж никогда не возвел бы обвинение на них обоих такими словами. Но потом ее осенило: он говорил вовсе не об инцесте, а об убийстве.
Миссис Орчард, которая оставалась в зале суда и следила за процессом над Джорджем, поспешила утешить Анну. – Он не позволит им убить вас, – сказала она, прижимая Анну к своей пышной груди, будто та снова стала маленькой девочкой. – Когда придет время, вы получите отсрочку, вот увидите. – Да. – Анна всхлипнула. – Молюсь, чтобы вы оказались правы. – Во время суда над вашим братом произошло кое-что странное, – продолжала миссис Орчард. Анна села прямо: – Что? – Его обвинили в распространении слуха, будто вы по секрету говорили леди Рочфорд что-то про короля. Что именно, произнесено не было, но они написали на листе бумаги какие-то слова и показали лорду Рочфорду, приказав не произносить их вслух. Но он произнес. Он прочитал, что вы сказали леди Рочфорд, будто король не может совокупляться с женщиной, так как не обладает ни потенцией, ни жизненной силой. – Никогда я такого не говорила! – вспыхнула Анна. – Это неправда, и зачем я стала бы такое придумывать? Однако она знала ответ. Если Генрих не мог зачать ее детей по причине импотенции, значит это должны были сделать другие. Хотя могло быть и более зловещее объяснение: всему миру известно, что мужское бессилие вызывают колдовством. Так вот почему сэр Кристофер произнес загадочные слова о том, что телу короля причинили вред. Неужели они намекали, что это она навела на Генриха порчу, чтобы сделать неспособным зачинать сыновей, которых она сама так страстно желала иметь? Полная бессмыслица. – Вот что ответил им ваш брат. Он сказал: «Я этого не говорил!» И настойчиво повторил, что никогда не стал бы возбуждать подозрений, которые могли поставить под сомнение законность потомства короля. Нет, он не стал бы, но это изо всех сил старались сделать другие. Анна не смела думать, какие последствия это может иметь для Елизаветы. Она вообще не смела думать о Елизавете, а то сошла бы с ума.
На следующий день после суда Кингстон сообщил Анне, что отправляется в Уайтхолл для встречи с королем. В ней загорелась слабая надежда, особенно когда констебль сказал, что осужденные мужчины должны умереть на следующий день, а по поводу ее казни не поступало никаких инструкций и дата еще не определена. – Сэр Уильям, вам сказали, как… как я умру? – запинаясь, спросила Анна. – Нет, мадам. Сегодня я рассчитываю выяснить, как будет угодно королю распорядиться насчет вас, ваших удобств и того, как следует с вами обращаться. – Молюсь, чтобы он вывел меня из этого ужасного положения. Больше всего меня терзает неизвестность. Если бы я знала, чего ожидать, то смогла бы подготовиться и достойно встретить свою судьбу. Серые глаза Кингстона были полны сочувствия. Анна подозревала, что он начал симпатизировать ей и не верил возведенным на нее обвинениям. – Я постараюсь ради вас, – обещал он.
В тот же вечер в приемный зал Анны ввели архиепископа Кранмера. Увидев его, Анна в слезах упала на колени, схватила и стала целовать подол его облачения: – О мой дорогой друг! Какое утешение видеть вас! Кранмер преклонил колена рядом, его грубоватое лицо исказилось от волнения. – Король назначил меня вашим исповедником. Ох, Анна! Мне невероятно жаль, что выдвинутые против вас обвинения были доказаны. Я говорил, что не могу поверить в это. Сказал, что никогда не имел лучшего мнения ни об одной женщине и любил вас за вашу любовь к Господу и Евангелию, но они мне такого наговорили! – Все это ложь, – заверила Анна. – Мои враги объединились, чтобы избавиться от меня, и настроили против меня короля. Скажите, он действительно верит во все эти обвинения? У Кранмера был жалкий вид. – Боюсь, что верит. Но я с ним почти не встречался в последнее время. И никто другой тоже. Он затворился от всех и согласен принимать только меня и Кромвеля. Когда я сегодня виделся с его милостью, он был задумчив. Но вы давно знаете его, Анна. Невозможно понять, что у него на уме. Он говорил о наследовании престола. Сказал, что принцесса Елизавета не может стоять на пути потомков, которых он может заиметь от своей будущей жены. – Значит, он действительно намерен от меня избавиться, – прошептала Анна, снова ощущая, как в ней волной поднимается с таким трудом взятый под контроль страх. Генрих собирается сделать королевой Джейн Сеймур. Хорошая же получится королева из столь хитрой и лживой особы, которая к тому же и двух слов толком не умеет связать! – Могу только сообщить вам, что он поручил мне отыскать повод для расторжения брака, – сказал Кранмер. – Тот брак, который вы признали благим и законным всего три года назад! – с горечью проговорила Анна. – И что будет с моей дочерью? Ее признают бастардом? – Боюсь, что так, – признал Кранмер, заламывая руки. Анна встала: – Кто-нибудь указал Генриху, что абсурдно обвинять меня в супружеской неверности, если я никогда не была его законной женой? – Она безрадостно засмеялась. – Ну конечно, какая им разница? Они ведь разумно добавили к обвинениям заговор с целью умерщвления короля, а это, по всеобщему признанию, является государственной изменой! Она смотрела на Кранмера. Он любил ее. Но восхищение ею мало значило в сравнении с желанием угодить королю, чувством самосохранения и усердием в проведении реформ. Теперь Анна, со своей подорванной репутацией, стала препятствием к этому. Но надо быть справедливой. Кранмер находился в сложном положении: ее падение могло плохо сказаться на нем – человеке, который содействовал ее браку с королем. Ему нужно было выжить, чтобы и дальше бороться за достижение поставленных целей. – Так что же это будет? – спросила Анна. – Кровное родство? Помолвка с Гарри Перси? Безумие? Кстати, как чувствует себя Гарри Перси? – Боюсь, он смертельно болен. – Кранмер поднялся на ноги. – Мадам, не могу же я теперь доказывать законность союза короля с вдовствующей принцессой. Нас поднимут на смех. И Перси отрицал существование между вами договоренности о браке. Остается вспомнить отношения короля с вашей сестрой. Мне известно, что епископ Рима издал разрешение на брак, в котором закрывает на это глаза, но недавний Акт о дозволении брачных союзов в особых случаях утверждает, что изданное в Риме распоряжение не считается законным, так как противоречит Святому Писанию и Божьим заповедям. Таким образом, ваш брак может быть объявлен недействительным и аннулирован. Я пришел, чтобы вызвать вас и короля во дворец Ламбет, где состоится суд и я вынесу решение. Советую вам его не оспаривать. Анна думала только о том, что увидит Генриха. У нее появится последний шанс убедить его в своей невиновности, заверить, что она не станет поднимать шума, если он с ней разведется, а уедет за границу и скроется за монастырскими стенами. Какая разница? Все это лучше, чем встретить смерть на костре. – Король будет там? – нетерпеливо спросила она. – Там не будет ни его, ни вас, – ответил Кранмер. – Обоих ответчиков будут представлять поверенные. Какое разочарование! Но потом надежда загорелась вновь. Если Генрих собирался казнить ее, зачем утруждать себя расторжением брака? К несчастью, ответ был очевиден. Он должен обеспечить своему потомству непререкаемое право на наследование престола. – Моя дочь родилась до того, как был издан Акт о дозволении брачных союзов, тогда мы с королем оба полагали, что вступили в брак в полном доверии друг к другу. Елизавету безусловно должны признать законной дочерью короля. – Анна, сейчас не время вдаваться в тонкости законов, – предупредил Кранмер. – Я пришел получить от вас признание в существовании препятствий к вашему браку и согласие на его расторжение, что повлечет за собой лишение вашей дочери права на наследство. Мне также поручено передать вам, что в обмен на это король обещает вам более легкую смерть. Проявляя сострадание, он уже послал в Кале за лучшим палачом, который управится с делом быстро. Мадам, я призываю вас хорошо все обдумать и принять предложение. Если вы это сделаете, тогда, надеюсь, вы избегнете самого сурового наказания. Спорить не стоило. Перспектива смягчения наказания выглядела слишком привлекательной. Даже если Генрих не простит ее, Елизавете будет легче расти с сознанием того, что ее мать сложила голову на плахе, а не сожжена на костре. Девочка была сообразительной, мыслила самостоятельно и, казалось, могла за себя постоять. К тому же Генрих бесспорно любил ее; он ее защитит. Как незаконнорожденной дочери, Елизавете будет угрожать меньше опасностей, чем если бы она соперничала за престол. Посмотрите, какие несчастья выпали на долю леди Марии. Анна возблагодарила Господа за то, что, несмотря на все выпады Марии против отца, Генрих так и не исполнил своих угроз. Отцовская любовь пустила в нем слишком глубокие корни. Анна верила, что и на Елизавету он не перенесет свой гнев против ее матери. Но кто же еще станет теперь заступаться за Елизавету? – Я согласна, – сказала Анна. – Томас, вы примете у меня последнюю исповедь? Кранмер замялся. Естественно, ему не хотелось взваливать на свои плечи бремя ответственности за казнь невиновной. Однако он удивил Анну, ответив: – Конечно. Я еще приду к вам.
За ужином Анна почувствовала себя бодрее, чего с ней не случалось уже много дней. Она все время размышляла: неужели Генрих и правда пошлет ее на смерть? И теперь начинала приходить к убеждению, что он этого не сделает. – Я уверена, что отправлюсь в монастырь, – сказала она. – Надеюсь, мне сохранят жизнь. Все сидевшие за столом посмотрели на нее с жалостью. – Джентльменов казнят завтра, мадам, – тихо произнес Кингстон. Анна поняла, что ее жестоко обманули. Генрих все время вел дело к тому, чтобы она умерла. И никакого смягчения наказания не предвидится. Она попала в ловушку, поддавшись искушению встретить смерть легко, и сама согласилась на лишение дочери права наследовать престол. Анна сохранила самообладание, хотя в животе у нее бурлило при мысли о том, что ждало ее в ближайшие дни, а может быть, часы. – Надеюсь, эти несчастные джентльмены не претерпят смерти, уготованной изменникам, – ответила она. – Мне только что сообщили, мадам: король смилостивился и заменил наказание на обезглавливание. – Слава Богу! – выдохнула Анна. – Это особая снисходительность по отношению к Смитону, – заметила леди Кингстон. – Ему повезло: наказание смягчают только людям знатным. – Возможно, потому, что он признался в том, чего не совершал, и это всем известно, – предположила Анна, вспоминая, как торговался с ней Кранмер. – Мастер Кингстон, я желаю исповедаться и получить отпущение грехов. Его милость архиепископ Кентерберийский обещал вернуться и принять у меня последнюю исповедь. – Я пошлю за ним, когда придет время, – пообещал Кингстон. – Он сказал, что вызван палач-француз. – Он не француз, мадам. Это подданный императора из Сент-Омера. Анна выдавила из себя улыбку: – Это порадует мессира Шапуи. – Король щедро платит палачу, чтобы вы перешли в мир иной гуманно, – пояснил Кингстон. – Этот Меч из Кале известен быстротой и ловкостью. Как может быть гуманным отрубание человеку головы? – Хоть это хорошо, – вслух произнесла Анна, снова ощущая приступ панического ужаса. – По крайней мере, все произойдет быстро. Однако жаль, что он не окажется здесь раньше, чтобы отправить на тот свет моего брата и остальных. – Увы, это так. Но они все готовы и, надеюсь, примирились с Господом. Утром они получат доброе напутствие. Анну передернуло. Невыносимо было думать, что Джордж и Норрис умрут из-за нее. Завтра утром она останется одна, и счет пойдет на часы…
Рано утром миссис Орчард разбудила Анну: – Мадам, леди Кингстон здесь. Доставлен приказ. Вы должны присутствовать на казни. Сон мигом улетучился. – Нет! Я не могу! – Моя дорогая, вам придется сделать это. Таково желание короля. Пусть этот Генрих отправится в ад! Будь он навеки проклят! Разве мало боли он причинил ей? Это уже чистое издевательство. Анна приказала дамам надеть на нее черное платье, в котором была на суде, и вышла к ожидавшему ее Кингстону. – Мне очень жаль, мадам, – извиняющимся тоном сказал тот, – но я получил приказ. – Я понимаю, – дрожащим голосом ответила Анна. Констебль повел ее – леди Кингстон двинулась следом – через внутренний двор и ворота Колдхарбор к Уотер-лейн, по ней они прошли вокруг наружного пояса стен к одной из старых башен. Сэр Уильям отпер дверь, и они поднялись по каменным ступеням в пустой и очень пыльный круглый зал. – Отсюда ваша милость сможет все увидеть через вот это окно, – сказал Кингстон. – Сожалею, что не могу остаться с вами, но я должен проводить узников к эшафоту. – Он поклонился и поспешно вышел. Окно было маленькое, проделанное в толстой стене. Смотреть в него Анне не хотелось вовсе, однако ее внимание привлекла огромная толпа народа, собравшаяся на Тауэрском холме, за стенами крепости. Людей сдерживали солдаты, выстроившиеся вокруг эшафота, и в первых рядах Анна увидела много знакомых придворных. Через несколько минут толпа притихла, и все головы повернулись к входу в Тауэр. Люди расступились, и она увидела Джорджа в окружении стражников, потом Норриса, за ним следовали Уэстон, Бреретон и Смитон. Все, кроме музыканта, выглядели спокойными. Даже глядя с башни, Анна заметила, как испуган Смитон. При виде своего брата и любимого человека она начала плакать; слезы текли ручьями, без остановки. Леди Кингстон по-матерински обняла Анну рукой за плечи. Под бесстрастной наружностью этой молчаливой женщины скрывалось доброе сердце. – Молюсь, чтобы они достойно встретили смерть, – сказал она. – Жаль, мы не услышим их прощальных слов, но мой супруг обязательно передаст нам, что они сказали. Анна громко вскрикнула, когда на эшафот взошел Джордж. Глядя на брата, как обычно спокойного и уверенного, она начала всхлипывать. Джордж обращался к толпе, говорил долго и громко, голос Анна отчетливо слышала, но слов было не разобрать. При мысли о том, что это в последний раз, разрывалось сердце. Какие-то несколько минут, и этот голос умолкнет навеки. Вот Джордж встал на колени и положил голову на колоду. Палач занес над ней топор. – Нет! – закричала Анна и закрыла лицо руками. – Все кончено, кончено, – утешала ее леди Кингстон. – Теперь ему ничто не может причинить боль. – О Боже мой, прими милостиво его душу! – сквозь рыдания вскричала Анна. – Можно теперь смотреть? – Подождите… Да, его уже унесли. Анна открыла глаза. Ее сильно трясло, и она понурилась от горя. Выглянув в окно, узница увидела плаху и помощника палача, который плескал воду из ведра на эшафот. Она стекала вниз, розоватая от крови Джорджа. Анне стало дурно. Скоро этот деревянный помост обагрится и ее кровью. Сквозь туман слез, застилавших глаза, она увидела Норриса. Он обращался к людям. Слово его было кратким, так что Анне недолго пришлось любоваться в последний раз любимыми чертами. Когда Норрис встал на колени, она опустилась на пол и завыла, не заботясь о том, что подумает о ней леди Кингстон. Анна так и сидела у стены, причитая и всхлипывая, оплакивая единственных двух мужчин, которые любили ее искренне и без всяких условий. Ей не хотелось жить в мире, где их нет. Утешало только одно: скоро она последует за ними. Осталось лишь как-то пережить время разлуки, пока не наступит желанное воссоединение. Она не смотрела, как умерли остальные мужчины, а леди Кингстон не заставляла. Когда все закончилось, супруга констебля помогла Анне подняться, обняла за плечи и поддерживала, пока несчастная спускалась по лестнице. Анна так дрожала, что не могла держаться на ногах самостоятельно. Не прошло и десяти минут, как появился Кингстон. Лицо его было мрачным, и, увидев Анну, он нахмурился. – Для всех них смерть была очень милосердной, – сообщил констебль. Леди Кингстон предостерегающе покачала головой. Супруги молча проводили Анну в ее покои. Когда они оказались на месте, Кингстон повернулся к узнице: – Моя тяжелая обязанность, мадам, сообщить вам, что вы примете смерть завтра утром. Анна испытала облегчение: – Для меня это радостная новость. Я желаю только одного – составить компанию на Небесах своему брату и остальным джентльменам. – Но ей нужно было кое-что узнать. – Прошу вас, скажите, кто-нибудь из них заявил о моей невиновности? – Лорд Рочфорд сказал, что заслужил позорную смерть, потому что он несчастный грешник и не знает более гнусного человека, чем он сам. – (Анна закрыла глаза; только ей было известно, что имел в виду ее брат.) – Он просил всех нас учиться на его примере и призывал не поддаваться мирской суете, особенно соблазнам придворной жизни. Еще он сказал, что если бы следовал велениям Божьим в своих поступках, то не дошел бы до такого конца, и молил, чтобы его простили все, кому он причинил зло. Это было странно, мадам. Он признался, что заслужил более суровую кару за другие свои грехи, но не от короля, которого ничем не обидел. – Он говорил правду, – прошептала Анна. – Он заявил о нашей невиновности. Кингстон едва заметно кивнул. Разумеется, он не мог открыто соглашаться с Анной. – А что сказал Норрис? – Сказал, что, по его мнению, ни один придворный джентльмен не обязан королю больше, чем он, и ни один не был столь неблагодарным, как он. Еще он заявил, что по совести считает вашу милость невиновной в том, в чем вас обвинили. И добавил, что скорее принял бы тысячу смертей, чем разрушил жизнь невинного человека. Норрис тоже с последним дыханием оправдал ее. Познала ли хоть одна женщина такую благодать в любви мужчины? Кингстон завершал отчет: – Остальные говорили мало, мадам. Смитона, так как он низкого происхождения, казнили последним. Он признал, что его справедливо наказывают за прегрешения. Он выкрикнул: «Господа, прошу вас всех молиться за меня, потому что я заслужил смерть». – Значит, он не очистил меня в глазах людей от скверны, которой запятнал мое имя?! – воскликнула Анна. – Увы, боюсь, его душа терпит за это муки и он наказан за ложные обвинения, так как его слова дали повод для многих домыслов. Но я не сомневаюсь, что мой брат и те, другие, сейчас предстали перед великим Владыкой, у которого я окажусь завтра. Скорее бы уже настал этот момент.
Позднее в тот же день к Анне снова явился Кингстон с сообщением, что архиепископ Кранмер объявил ее брак с королем недействительным. Анна улыбнулась. Ирония состояла в том, что на расторжение брачного союза, которого Генрих упорно добивался шесть лет, хватило всего нескольких минут. И посмотрите, где оказалась она! Ее лживо обвинили в гнуснейших преступлениях, она потеряла почти все, что было важно для нее: мужа, ребенка, брата, статус, друзей, богатство и репутацию. Дочь ее объявлена бастардом, и она ничего не может с этим поделать. Пятеро мужчин умерли из-за нее. Отец ее предал. Горе матери было невозможно вообразить. И теперь ее ждала жестокая смерть. Супруг, получивший ее такой дорогой ценой, исполнил свою угрозу и втоптал ее в землю настолько же глубоко, насколько высоко вознес. Ей незачем больше жить. Анна не жалела о потере Генриха. Он превратился в чудовище и не заслуживал ее любви и верности. Печали по поводу окончания их супружества Анна не испытывала. Оглядываясь на три года замужества, она вспоминала только ссоры, жуткий страх, который заставлял ее проявлять жестокость к Екатерине и Марии, отчаянное желание родить сына и медленное умирание любви Генриха. Она радовалась, что все это осталось позади. Но заливалась слезами при мысли о невинной и совсем еще юной Елизавете, которую объявили незаконнорожденной и которая будет расти в убеждении, что ее мать распутница и изменница. Эти мысли изводили Анну.
В тот же вечер к Анне пришел отец Скип, чтобы предложить духовное утешение в ее последний час. Они молились вместе до глубокой ночи. Анна все равно не могла уснуть, потому что отдаленный стук молотков и звук пил, доносившийся с пустой турнирной площадки и Тауэр-Грин, постоянно напоминали о строительстве нового эшафота, где наутро она примет смерть. Публичный эшафот на холме Тауэр не для нее. Спать ей не хотелось, ведь скоро она почиет во Христе и насладится вечным покоем. Оставшееся ей на Земле время можно использовать с большей пользой для успокоения души. Анна все еще молилась, когда разгорелась заря и появился Кранмер, как и обещал, дабы принять ее последнюю исповедь, отслужить мессу и дать узнице Святое причастие. Анна попросила Кингстона присутствовать при совершении таинства. Ей хотелось, чтобы он услышал, как она будет заявлять о своей невиновности перед Господом. Принять волю небесного Владыки она была готова и шла на встречу с Ним с горячей верой, зная, что очень скоро окажется рядом с Ним. – Я хочу отправиться к Нему, – сказала Анна. – Лучше бы я перенесла муки вчера вместе с братом, тогда мы могли бы отправиться в рай вместе. Но мы воссоединимся сегодня. А теперь я призываю Бога в свидетели, что под страхом вечного проклятия моей души я никогда не оскорбляла короля своим телом. Это была правда. То, что она нарушала верность ему в своем сердце, – другое дело, и его скроет общая исповедь во всех грехах. Потом Кранмер совершил таинство причастия, и Анна снова подтвердила свою невиновность, чтобы Кингстон, архиепископ и все слуги видели – совесть ее чиста. Анна надеялась, что весть об этом достигнет ушей Генриха и Кромвеля. Пусть покопаются в своей совести. Кингстон ушел делать последние приготовления к казни. Анна снова опустилась на колени и стала молиться. Ее час настал, и она непрестанно думала о моменте смерти. Она боялась не умирания, а того, как оно произойдет. Все случится быстро, она знала, но отвратительно грубо и жестоко. «Не трусь! – говорила она себе. – Все кончится в одно мгновение, а потом ты покинешь эту юдоль страданий и познаешьвечное блаженство». Время подходило к назначенному часу – девяти утра, – и она была готова. Испугана, но собралась с духом, чтобы вынести испытание. Появилась леди Кингстон: – Мне очень жаль, мадам, но ваша казнь отложена до полудня. – О нет! – выдохнула Анна. Три часа – ужасно долгий срок для мучительного ожидания конца. – Почему? – Мой супруг только что получил распоряжение удалить из Тауэра всех иностранцев, и ему пришлось послать за шерифом Лондона, чтобы тот проверил исполнение приказа. Он понимает, что вас огорчит отсрочка, но ничего не может сделать. – Конечно огорчит! Прошу вас, отправьте его ко мне, когда он освободится. Анна снова призвала к себе отца Скипа. Никогда еще она не нуждалась в духовной поддержке так сильно, а потому крепко сжала его руки, когда они опустились на колени в ее кабинете и стали молиться. Анна просила Бога укрепить ее решимость и дать продержаться еще немного. Вскоре появился Кингстон. К тому моменту Анна начала волноваться и паниковать: – Мастер Кингстон, мне сказали, что я умру не раньше полудня, и я сильно расстроилась, ведь я думала, что к тому времени мои страдания уже останутся позади. – Никаких страданий не будет, мадам, – заверил Кингстон. – Один легкий удар. – Я слышала, вы говорили, что палач очень опытен, а у меня короткая шея. – Она обхватила себя за горло руками и нервно засмеялась. – Я видел много казненных мужчин и женщин, и все они пребывали в большом унынии, но вижу, что ваша милость радуется смерти. – У меня ничего не осталось в этом мире. Я жажду умереть, но мое бедное тело сжимается от страха, и я искренне рада, что все свершится быстро. – Так и будет, – сказал Кингстон и подал ей руку. Это неожиданное и непозволительное проявление доброты едва не сломило Анну. – Буду очень благодарна, если никто не обеспокоит меня этим утром и не прервет моих молитв. – Она сморгнула слезы. Кингстон пообещал, что Анну оставят наедине с ее подателем милостыни, и удалился. Время тянулось медленно. В продолжение этого ужасного утра Анна постоянно боролась с нервозностью. Наступил и прошел полдень. Она измучилась от неизвестности. Наконец прибыл Кингстон: – Мне очень, очень жаль, мадам. Ваша казнь откладывается до девяти утра завтрашнего дня. Нам потребовалось больше времени, чтобы оповестить людей, которые должны присутствовать. – О, господин Кингстон, мне так горько слышать это, – посетовала Анна, и глаза ее вновь наполнились слезами. – Умоляю вас, ради всего святого, я сейчас нахожусь в хорошем состоянии и расположена принять смерть. Попросите короля, чтобы меня казнили немедленно. Я настроилась и готова умереть, но боюсь, отсрочка лишит меня решимости. Кингстон выглядел крайне опечаленным: – Мадам, я получил приказ. И могу только заклинать вас молиться о ниспослании вам терпения, чтобы продержаться до завтра.
В эти последние часы Анну поддерживали твердая воля и вера. Она вновь обратилась за стойкостью к молитве. Самыми тяжелыми были моменты, когда ее дамы и девушки заливались слезами и ей приходилось утешать их. – Христианину не годится сожалеть о смерти, – напоминала она. – Помните, я избавлюсь от всех неприятностей. Странно было заниматься обычными делами: есть, или, скорее, клевать, пищу, ходить в уборную, пить вино, – когда кошмарный финал все приближался и приближался. После обеда они все сидели вокруг стола и вышивали. Анна закончила свою работу, самую последнюю, отложила ее в сторону и постаралась завести непринужденную беседу со своими помощницами. Даже пробовала шутить. – Остроумные люди, которые изобретают прозвища для королей и королев, легко найдут подходящее для меня. Станут называть Анна Безголовая! – Она нервно рассмеялась, дамы слабо откликнулись на шутку. – Знаете, я никогда не хотела близости с королем. Это он меня преследовал, – призналась Анна. Дамы ничего не ответили: слишком опасной была тема. – Но есть одна вещь, о которой я действительно сожалею, – продолжила Анна. – Я не считаю, что на меня пало Божественное правосудие: виновата я лишь в том, что устроила тяжелую жизнь леди Марии и замышляла свести ее в могилу. Я бы хотела примириться с ней. Леди Кингстон, вы передадите ей от меня послание? – Да, я это сделаю, – согласилась леди Кингстон. – Тогда пойдемте со мной в главный зал. Я облегчу свою совесть наедине с вами. Анна отвела леди Кингстон в соседнюю комнату и затворила дверь. Ее трон все еще стоял здесь, над ним нависал балдахин. Ни то ни другое не убрали. – Пожалуйста, сядьте сюда. – Анна указала на трон. Леди Кингстон изумилась: – Мадам, я обязана стоять, а не сидеть в вашем присутствии, тем более на троне королевы. – Я осуждена на смерть и по закону уже ничем не владею в этом мире. Мне осталось только очистить совесть. Прошу вас, сядьте. – Хорошо, – ответила леди Кингстон. – В молодые годы я часто дурачилась. Сделаю это еще раз в зрелые, чтобы исполнить ваше желание. Она села. Анна смиренно опустилась на колени и молитвенно протянула к ней руки. Добрая женщина смотрела в изумлении. – Я прошу вас, леди Кингстон, отвечайте мне, как вы отвечали бы перед Господом и Его ангелами, когда предстанете пред Его божественным судом. Вы вместо меня упадете ниц перед леди Марией, так же как я сейчас стою перед вами, и попросите у нее от моего имени прощения за все те несчастья, которые я ей причинила? Пока это не будет сделано, совесть моя не успокоится. – Будьте уверены, мадам, я сделаю это, – пообещала леди Кингстон. – А теперь, мадам, прошу вас, встаньте и давайте вернемся к остальным.
С наступлением темноты Анна села за стол и написала письма матери и Марии, прося у сестры прощения. Она отложила перо и задумалась о том, чего добилась за свою жизнь. Что скажут о ней потомки? Будущие поколения станут говорить, что она повлияла на колоссальные изменения в стране, причем к лучшему. Она помогла освободить Англию от оков коррумпированного Рима и сделать Библию доступной обычным англичанам на родном языке, а это немалое достижение. Без нее ни того ни другого могло бы никогда не произойти. Однако мало кто готов был признать за ней эти заслуги сейчас. Все ее успехи затмил позор, и вспоминать будут скорее его и кровавую сцену на эшафоте. Ее дочь вырастет под гнетом этого ужаса и будет плохо думать о матери. Анна вздрогнула. Через несколько часов… Желая отвлечь мысли от надвигающейся судьбы, она стала сочинять стихотворение. Это помогло ей изложить свои мысли на бумаге. Слова полились:
Глава 28. Пятница, 19 мая 1536 года
Служанки надели на Анну красивое ночное платье из серого дамаста, а под него – красный киртл с низким вырезом, который был на ней в вечер перед арестом. Потом тетя Болейн накинула на плечи племянницы короткую накидку из меха горностая. – На случай, если снаружи холодно, – сказала она. После того как Анну осудили, тетя Болейн изменилась: стала добрее, проявляла больше уважения, а сейчас вообще выглядела взволнованной. – Леди Кингстон и я не будем помогать вам. Этой чести должны удостоиться молодые дамы. Те посмотрели на нее с испугом. Тетушка заплела волосы Анны, скрутила косы высоко на затылке и надела на голову капор, по форме похожий на фронтон. Потом дала в руки Нэн Сэвилл полотняный платок: – Положите себе в карман. Вы знаете, для чего он понадобится. – Я хорошо выгляжу? – спросила Анна. – Мне сказали, что людям позволят смотреть на казнь. – Вы выглядите до кончиков ногтей королевой! – ответила тетя Болейн. Вскоре пришел отец Скип, чтобы отслужить мессу. Приняв причастие, Анна повозилась с завтраком – отщипнула немного белого хлеба, чтобы порадовать своих дам, – но аппетита у нее не было. Ее все время тянуло в уборную. От нервозности кишечник извергал из себя воду. Голова слегка кружилась от недосыпания. В восемь часов у дверей появился Кингстон. – Мадам, ваш час приближается, – хриплым от волнения голосом произнес он. – Вы должны приготовиться. – Бросьте эти формальности, я уже давно готова. Кингстон протянул ей кошелек: – Там двадцать фунтов, которые вы можете раздать как милостыню. Это будет ее последним королевским деянием. Кингстон прочистил горло: – Мадам, позвольте дать вам совет. Когда вы опуститесь на колени, стойте прямо и не шевелитесь. Это для вашего же блага. Вы понимаете меня? Палач опытный, но если вы шевельнетесь, удар может прийтись не в то место. – Я буду стоять смирно, – обещала Анна, отчаянно стараясь не думать о том, что ей предстояло вынести. – Теперь я должен уйти, – сказал констебль. Леди Болейн крепко обняла Анну. – Господь да пребудет с вами! – горячо проговорила она. Леди Кингстон похлопала Анну по руке, когда та проходила мимо нее. Было очень заметно, что она едва сдерживает слезы. Спускаясь по лестнице, Анна слышала, как у нее за спиной четыре юные дамы горько оплакивают ее судьбу. Во внутреннем дворе Анну ожидали две сотни йоменов из королевской гвардии, чтобы доставить на казнь. Она не ожидала таких церемоний. Как только узница появилась, начался торжественный марш к воротам Колдхарбор, за йоменами следовали офицеры Тауэра, за ними Кингстон и Анна, замыкали шествие ее фрейлины и отец Скип. Проходя между двумя массивными башнями ворот Колдхарбор, Анна увидела собравшуюся вокруг эшафота толпу людей, которые стояли на Тауэр-Грин перед Артиллерийским домом. Эшафот был построен высокий, его затянули черной тканью. Поднялся шум голосов – люди увидели медленно приближающуюся к ним Анну. Инстинкт подталкивал ее броситься в бегство, однако она заставила себя не терять королевского достоинства. Вдруг подумалось, что даже сейчас Генрих еще может ее помиловать. Может быть, вся эта жуткая сцена была разыграна для того, чтобы продемонстрировать широкий жест милосердия и снискать любовь своих подданных? Раздавая милостыню беднейшим из зрителей, Анна слышала за спиной плач своих фрейлин. Несколько раз она оборачивалась и шикала на них, чтобы прекратили лить слезы. А сама не переставала напряженно вслушиваться, не раздастся ли стук копыт скачущего галопом королевского гонца, который везет прощение. Но напрасно. В глубине души Анна знала: помилования не будет. На турнирной площадке собралось не меньше тысячи человек. Подойдя ближе, Анна увидела лорд-канцлера Одли и господина секретаря Кромвеля; рядом с ними стоял бастард Генриха, герцог Ричмонд, которого, без сомнения, привели, чтобы он передал отцу отчет о казни. Глядя на осужденную, юный Ричмонд злобно ухмылялся. Что ж, Генрих услышит только о ее храбрости. Она не станет критиковать короля или его правосудие. С Господом она примирилась, а навлекать королевский гнев на свою семью ни к чему. Были тут также Норфолк и Саффолк с множеством дворян и лорд-мэр Лондона с олдерменами и шерифами, а вот отца Анна искала взглядом напрасно. Процессия приближалась к эшафоту. Он был посыпан опилками, на нем в ожидании стояли несколько человек, одетых в обычные костюмы, так что Анна не могла определить, который из них палач. Меча тоже нигде не было видно. На земле, у дальнего края помоста, она заметила деревянный короб. Господи Иисусе, это же ее гроб! Анна заставила себя сохранять спокойствие. Недолго ей осталось храбриться. Кингстон подал осужденной руку и помог взойти наверх по пяти деревянным ступеням. Следом поднялись четыре девушки. Изо всех сил стараясь сохранять на лице улыбку и не выдавать страха, Анна с высоты эшафота посмотрела вниз, на толпу, потом повернулась к Кингстону: – Позволено ли мне говорить с людьми? Обещаю, что не скажу ничего двусмысленного. И прошу вас, не давайте сигнал к началу казни, пока я не закончу говорить. Констебль кивнул: – Прошу вас, говорите и будьте кратки. Анна повернулась к толпе, от волнения у нее перехватило дыхание. – Добрые христиане! Я пришла сюда, чтобы умереть в соответствии с законом. Законом осуждена я на смерть, а потому ничего не скажу против него. Я пришла сюда только для того, чтобы принять смерть и покорно склониться перед волей господина моего короля. И если я когда-нибудь обидела его милость, то своей смертью расплачусь за это. – Она склонила голову; сердце колотилось, ведь стоит произнести последние слова, и жизнь ее закончится, но Анна заставила себя продолжить, молясь, чтобы голос не дрожал от страха. – Я пришла сюда не для того, чтобы кого-то обвинять, и не для того, чтобы говорить о том, в чем меня обвинили. Я прошу всех вас, добрые друзья, молиться за жизнь короля, моего и вашего повелителя, одного из лучших правителей на земле, который всегда хорошо со мной обращался и лучше которого не найти. Вот почему я принимаю смерть с готовностью и смиренно прошу прощения у всего мира. Если кто-нибудь станет разбираться в моих делах, прошу судить о них с лучшей стороны. Засим я покидаю этот мир и вас всех и от чистого сердца желаю, чтобы вы молились за меня. По кивку Кингстона вперед вышли ее дамы, но все они находились в таком смятении, что Анне самой пришлось помогать им снимать с себя накидку, верхнее платье и капор. Она осталась в одном красном киртле. Нэн Сэвилл вытащила из кармана полотняный платок и отдала Анне. Та повязала его на голову, покрыв все волосы, но одна коса упрямо выбивалась наружу. Это испугало Анну. Она подколола ее шпилькой и молилась, чтобы коса оставалась на своем месте. Ничто не должно препятствовать удару меча. – Молитесь за меня! – попросила она своих дам. – Прошу у вас прощения за любую резкость, которую я позволила себе по отношению к вам. Пока я была жива, вы всегда проявляли усердие у меня на службе, и теперь вы здесь в мой последний час и увидите мои смертные муки. Как вы были верны мне в счастливое время, так не покинули меня и в мой последний час. – Дамы с болью смотрели на нее, по щекам их струились слезы; Анна слабо улыбнулась. – Я не могу наградить вас за преданность, но прошу, утешьтесь. Не жалейте о моей смерти. Не забывайте меня и всегда храните верность его милости королю и той, которая окажется счастливее меня и станет вашей королевой и госпожой. Всегда цените вашу честь больше жизни и не забудьте в своих молитвах к Господу Иисусу поминать и мою душу. Крупный мускулистый мужчина в скромном, но хорошо сидевшем костюме вышел вперед и встал на колени перед Анной. Он заговорил с сильным акцентом, и она поняла, что это палач. Сердце бешено забилось. – Мадам, – сказал он, – я прошу у вашей милости прощения, но мне приказано исполнить свою обязанность. – Охотно даю, – ответила Анна. – Мадам, прошу вас встать на колени и произнести молитвы, – проинструктировал палач. Момент настал. Анна опустилась на колени в опилки и постаралась стоять прямо, как советовал Кингстон. – Пожалуйста, дайте мне немного времени для молитвы, – попросила она, скромно оправляя юбки, чтобы, когда ее тело упадет, не открылись ноги. – О Христос, прими мою душу! – снова и снова взывала Анна. – Все на колени, уважим отходящую душу! – крикнул внизу лорд-мэр. Толпа опустилась на колени. Стоять остались только Саффолк и Ричмонд. Анна пыталась молиться, но боялась, что удар ее настигнет, когда она еще не будет готова, а потому все время испуганно оглядывалась. – Мадам, не бойтесь. Я подожду, пока вы не подадите мне знак, – сказал палач. Анна потрогала платок, проверила, на месте ли коса, и продолжила молиться. Вся в слезах, с куском полотняной ткани к ней подошла Нэн Сэвилл, чтобы завязать глаза. Однако руки у девушки так тряслись, что пришлось взять у нее повязку. Взглянув на мир и море взиравших на нее лиц, Анна сама завязала себе глаза. Последнее, что она увидела, было ясное небо над крышами Тауэра. – Иисус, сжалься над моей душой! Боже мой, сжалься над моей душой! – горячо молилась Анна. – Отдаю свою душу Иисусу Христу! Палач попросил ее дам отойти подальше; раздалось шарканье ног, затем новый взрыв громких рыданий. Страшно было не видеть того, что происходит вокруг. – Бейте! – воскликнула Анна. Сердце стучало тяжело и болезненно, и подумалось, что, наверное, можно было бы обойтись и без палача. – О Господь, сжалься над моей душой! Отдаю свою душу Христу! – Принесите меч! – произнес голос палача. Послышалось какое-то движение в том месте, где находились ступени, и Анна инстинктивно повернула туда голову. Она поверила Кингстону, когда тот говорил, что боли не будет, и молилась, чтобы удар оказался молниеносным и принес мгновенное забвение, но, когда он был нанесен, ощутила удушающий взрыв жгучей боли, потом тепло заливающей тело крови, ее вкус на языке и почувствовала, как струйки потекли из ноздрей, а голова, невероятно легкая, с глухим стуком ударилась о помост, и с нее слетела повязка. Анна закричала бы, но не получалось – из губ выходило лишь ужасное тихое бульканье. Захотелось зажать руками смертельную рану, но рук больше не было – они остались на той темной окровавленной груде, что лежала рядом с ней на эшафоте. Анна моргнула и попыталась отвести глаза. Сквозь смертные муки все еще различались смутные образы стоявших на эшафоте людей. Потом свет померк, и опустилась блаженная тьма.От автора
Я могла бы написать еще одну книгу о том, как из разрозненных исторических источников постепенно собирался материал для этого романа. Долгие годы я изучала заявленную в нем тему и видела, как кардинально меняется восприятие Анны Болейн. Я знаю, что в определенных кругах, особенно в интернет-сообществе, она приобрела статус знаменитости и начала много значить для разных людей, причем значение это противоречиво. В процессе написания мной этой книги один восторженный поклонник Анны Болейн выразил надежду, что я создам ее правильный портрет, и я ответила ему: историки могут сильно различаться в своих подходах к тому, что называть правильным. Слишком много места остается у исследователя для догадок и предположений. Проблема, с которой встречается любой историк или романист, пишущий об Анне Болейн, состоит в том, что в некоторых отношениях она остается нам совершенно неизвестной. Мы не располагаем богатым собранием ее писем, как в случае с Екатериной Арагонской, мысли которой часто находим со страстью излитыми на бумаге. Большинство сведений об Анне Болейн исходят от человека, настроенного враждебно по отношению к ней, – императорского посланника Юстаса Шапуи. Тем не менее последние исследования его жизни и деятельности показывают, что он был свидетелем происходящего, хорошо информированным наблюдателем, близким к центру событий, к тому же он цитирует свои источники информации, а потому мы часто имеем возможность судить, насколько точны его сведения. Это воздвигает еще одно препятствие на пути к тому, чтобы освещать жизнь Анны Болейн сочувственно: можно ли вывести ее за пределы круга, очерченного иногда убийственными свидетельствами Шапуи? Излагая события романа с точки зрения Анны, я стремилась примирить противоречия в отношении к ней и показать ее как небезупречную, но наделенную всеми человеческими достоинствами и недостатками героиню, женщину с большими амбициями, не лишенную идеалов и смелости, которая оказалась в ситуации нарастающего неблагополучия. Стало модным рассматривать Анну Болейн как феминистку. Этот концепт до недавнего времени я отвергала как анахроничный, возражая его сторонникам, что в Англии времен Тюдоров феминизм был неизвестен. Это верно, но в начале XVI века в Европе, где прошли годы становления Анны, имело место интеллектуальное движение и велись споры, в которых ставились под сомнение традиционные представления о женщинах и высказывалась надежда, что в будущем они будут пользоваться большей властью и автономией. Это была эра женщин-правительниц и мыслителей, и Анна имела перед глазами два блестящих примера: Маргариту Австрийскую и Маргариту Валуа. (Два источника приводят сведения о ее службе у Маргариты Валуа, правда без указания дат; я отнесла жизнь Анны при дворе Маргариты к временнóму промежутку между 1520 и 1522 годами.) Я поместила свою героиню в этот европейский контекст и сфокусировалась на культурных влияниях, которым она подвергалась. Так что да, ее можно рассматривать как феминистку, намного опередившую свое время: эти идеи она вполне могла воспринять, что объясняло бы ее амбиции и представления о себе. Именно культурный багаж эпохи Ренессанса, а не одно только следование французским модам и манерам сделали ее заметной при английском дворе. Анна провела семь лет во Франции на службе у королевы Клод, жены Франциска I, и у Маргариты Валуа, однако во французских источниках того времени упоминаний о ней не встречается. Я считала, что будет полезно проследить, насколько это возможно, передвижения по стране ее госпожи, королевы Клод, которая установила почти монастырские правила для своих дам и избегала большого двора, когда ей представлялась такая возможность, предпочитая находиться в замках Амбуаз и Блуа на Луаре. Анна, несомненно, должна была хорошо знать эти резиденции, но, вероятно, она побывала и в других местах Франции. В 1515 году во время кампании по завоеванию Милана Франциск I выиграл битву при Мариньяно. Задержавшись в Италии, он познакомился с великим художником Леонардо да Винчи, и на следующий год мы находим Леонардо живущим за счет короля в поместье Кло-Люсе, неподалеку от замка Амбуаз. Леонардо оставался в этом доме и умер во Франции в 1519 году. В начале 1516 года королева Клод вместе с сестрой Франциска Маргаритой Валуа и его матерью Луизой Савойской совершила поездку в Прованс, чтобы встретить героя и сопровождать его при триумфальном возвращении во Францию. Анна Болейн почти наверняка была с ними. Очень вероятно, что и Леонардо да Винчи она знала если не лично, то, по крайней мере, видела его, так как часто бывала в Амбуазе, а художник имел тесные связи с двором. Описанные в романе сцены вымышлены, но вполне могли происходить. Легенда связывает Анну Болейн с замком Брии-Су-Форж к югу от Парижа. Существует множество версий того, почему главную башню замка стали называть Анна Болейн, и для этой книги я проработала еще одну. Однако она оказалась слишком длинной и будет опубликована отдельно. Уловили ли вы на этих страницах намеки на то, о чем может быть эта история? В романе она не описана, но в кратком электронном варианте книги вы можете ознакомиться с альтернативной версией этой главы в жизни Анны. Все персонажи этой книги – реальные люди, за исключением нескольких вымышленных слуг при бургундском и французском дворах. Я строго придерживалась исторических документов, лишь иногда позволяя себе легкие вольности, чтобы не замедлять ход повествования. Учитывая непривычный синтаксис писем и других источников эпохи Тюдоров, я в некоторых местах осовременила язык, чтобы сделать смысл высказываний более понятным. Некоторые цитаты были вырваны из контекста или вложены в уста других людей, но мнения и чувства соответствуют характерам персонажей и ситуациям, при которых они были выражены. Все стихотворения подлинные. Понять, как строились отношения Анны Болейн с мужчинами в период ухаживаний, можно только в контексте придворной игры в любовь, которая описана в книге и является постоянной темой, определяющей отношения между мужскими и женскими персонажами. В библиотеке Ватикана хранятся семнадцать любовных писем Генриха VIII к Анне Болейн. Учитывая, как много времени пара проводила в разлуке – а длительность этих периодов действительно поражает, – я пришла к убеждению, что на самом деле писем было больше, так что некоторые, приведенные в этом романе, я придумала, другие процитировала. Ответы Анны утрачены. Если бы мы их имели, то смогли бы лучше понять ее характер и чувства по отношению к Генриху VIII. Согласно обвинительному акту, она якобы говорила, что в сердце своем никогда не желала выбирать короля. Анне ставили это в вину в числе прочих явно ложных обвинений, но именно оно, как мне кажется, могло быть справедливым. Это согласуется с тем, что нам известно об отношениях Анны и Генриха. Такой подход позволил мне создать более цельный и непротиворечивый портрет Анны, чем если бы я придерживалась мнения, что она любила Генриха. Думаю, ее интересовала только власть. Разумеется, это лишь предположение. Несомненно, найдутся люди, которые не согласятся с ним, но рассматривать всю историю под таким углом зрения было интересно. Это сделало ее более неоднозначной. Щемящего чувства добавляет истории Анны произошедшее только в самом конце признание во влечении друг к другу между ней и Норрисом. О его существовании говорят слова Анны из ее последней исповеди. Она настаивала, что «никогда не совершала проступков телом» против короля, отсюда можно заключить, что она совершала их в сердце или в мыслях и тайно любила другого, но никогда не заходила настолько далеко, чтобы увенчать это чувство прелюбодеянием. Свидетельства подтверждают, что из всех мужчин, осужденных вместе с Анной, Норрис был наиболее вероятным объектом ее привязанности. И вновь это лишь гипотеза, но весьма соблазнительная и правдоподобная. Норрис в чем-то признался после ареста – в чем именно, мы не знаем, – но позже отрекся от своих слов. Враждебные по отношению к Анне источники упоминают о шестом ногте на мизинце ее руки, но о том же пишет в панегирических мемуарах и Джордж Уайетт, внук поэта Томаса Уайетта. Джордж Уайетт всю жизнь изучал историю Анны Болейн, основываясь на семейном предании и полученных из первых уст воспоминаниях людей, которые лично знали Анну, в их числе была Анна Гейнсфорд. Его труды могут считаться в основном достоверным источником. В написанной мной биографии «Мария Болейн. Великая и бесславная шлюха» приводится свидетельство, что Мария была принуждена стать любовницей Генриха VIII. В той же книге я оспаривала мнение, что Элизабет Говард пользовалась дурной репутацией. Некоторые на основании отрывков из «Гептамерона», сборника новелл Маргариты Наваррской, пришли к выводу, что сама Маргарита была изнасилована, хотя другие увидели в этом литературный вымысел. Мужчиной, не названным в тексте прямо, был Гийом Гуфье, сеньор де Бониве. Соперничество между Анной и ее сестрой Марией явственно читается в письмах Марии к Томасу Кромвелю от 1534 года. Отношение к содомии, выраженное в книге, соответствует мнению на этот счет современников: в ту эпоху считалось, что в сексуальные сношения люди вступают для продолжения рода, а предотвращение зачатия – грех. При изучении любовных писем Генриха VIII к Анне я заметила, что они распадаются на три категории. В первых он склоняет ее стать его любовницей в физическом смысле, они относятся к начальному периоду их отношений. Во вторых он настойчиво просит ее стать его возлюбленной в придворном смысле. И в третьих он выражает желание жениться на ней и таким образом скрепить их союз, в этих случаях он не докучает ей попытками склонить к немедленной близости. Мной в более ранних работах и многими другими исследователями уже давно подсчитано, что Анна семь лет не подпускала к себе Генриха, однако чтение писем короля убеждает нас: это он принял решение не вступать в близкие отношения с Анной, чтобы она не забеременела, поскольку это породило бы скандал в то время, когда он без конца твердил папе о ее целомудрии. Я не думаю, что формулировка, использованная в разрешении на брак, изданном в 1528 году, особо оговаривает, что Генриху, когда бы он ни стал свободным для нового супружества, позволительно взять в жены любую женщину, «любой степени [родства], даже первой, ex illicito coito [зачатую незаконно]», подразумевает, что Генрих уже вступил в плотскую связь с Анной. Скорее всего, оно относится к его незаконным любовным сношениям с Марией Болейн. Ничто в письмах Генриха к Анне не подтверждает того, что они быстро стали любовниками в полном смысле слова. Нет сомнений в том, что Анна Болейн была непопулярной королевой. В государственных бумагах содержится множество наветов на нее. Все упомянутые в романе взяты из подлинных источников того времени. Личности женщин, которые были любовницами Генриха VIII в 1533 и 1534 годах, остались неустановленными. Первой из них, предположительно, была Элизабет Кэри, а второй, и это моя догадка, – Джоан Эшли. Она была незамужней и служила фрейлиной у Анны Болейн. Много сожалений высказывалось по поводу того, что после смерти Анны без матери осталась ее дочь двух лет и восьми месяцев от роду. На самом деле Анна очень редко видела ее, будущую Елизавету I. У девочки с трехмесячного возраста был собственный двор, и Анна нечасто навещала ее, а при большом дворе Елизавета появлялась крайне редко. От королев династии Тюдоров не требовалось, чтобы они самолично воспитывали своих детей, хотя в романе мы видим, что Анна интересуется браком Елизаветы, чего от нее и ожидали. Мы располагаем списком предметов одежды, которые она купила дочери. Ее вовлеченность в жизнь дочери была невелика, и это подсказало мне, что, разочаровавшись полом ребенка, Анна испытывала трудности с тем, чтобы ощутить привязанность или любовь к дочери. В романе для нее это дополнительный источник печали. Некоторых читателей могло удивить мое предположение, что банкетный зал в замке Садли построил Джаспер Тюдор, хотя обычно эту работу приписывают Ричарду III. Ричард действительно владел замком, однако нет свидетельств того, что он хоть раз посещал это место. Джаспер Тюдор был его хозяином с 1486 года до своей смерти в 1495 году, поэтому более вероятно, что постройка была произведена по его инициативе. Не существует исторических свидетельств причастности Джорджа Болейна к смерти Екатерины Арагонской. Читатели, которым интересно узнать больше об этой истории, могут обратиться к моей электронной книге «Почерневшее сердце», где продолжается линия, лишь намеченная в первом романе серии «Екатерина Арагонская. Истинная королева». После вскрытия тела Екатерины появились слухи об отравлении, и отчет был засекречен. Попытка отравить епископа Фишера действительно предпринималась (хотя Ричард Роуз в действительности был другом епископского повара), и Болейнов подозревали в том, что за этим покушением стояли они. Анна Болейн предупреждала епископа, чтобы тот не посещал заседания парламента, если не хочет повторения недуга, вызванного ядом. Конечно, Екатерина умерла очень вовремя, если иметь в виду потребности Анны, которая была беременна и желала родить наследника, законность которого никто не станет оспаривать. Узнав о смерти Екатерины, Анна плакала в своей часовне. Но в сумме эти факты не дают оснований утверждать, что Екатерину отравили Болейны. Компрометирующие разговоры Анны Болейн с Норрисом, Уэстоном и Смитоном, а также ее беседы в Тауэре воссозданы на основании детальных отчетов Кингстона, представленных Кромвелю. Некоторые из этих разговоров выглядят бессвязными и несут в себе мало смысла. Я подозреваю, что записывалось не каждое высказывание узницы, а потому, пользуясь творческой свободой романиста, попыталась придать им бóльшую логичность. Крылатую фразу «Порядок есть порядок» лейтенант Тауэра сэр Эдмунд Уолсингем на самом деле сказал сэру Томасу Мору. В некоторых источниках упоминается, что отец Анны был среди пэров, которые осудили ее на смерть. Этот вопрос я подробно обсуждала в своей книге «Леди в Тауэре. Падение Анны Болейн». Речь Джорджа Болейна, произнесенная с эшафота, выходила далеко за пределы обычного в таких случаях и ожидаемого от тех, кто готовится умереть, признания своих грехов. Его слова содержали намек, что он несет на совести тяжесть вины за какое-то ужасное деяние(я). Доказательства его сексуальных отношений я привела в книге «Леди в Тауэре». Я не придерживаюсь мнения, что Генрих VIII, будучи в браке с Анной, страдал импотенцией, как утверждалось на суде над Джорджем Болейном. Тот факт, что за три года замужества Анна четыре раза была беременна, вызывает сомнения в мужском бессилии короля. Я не являюсь сторонницей и популярной теории, что характер Генриха VIII внезапно изменился после падения с коня в январе 1536 года. Источник, где утверждается, что король два часа пролежал, ничего не говоря, не заслуживает доверия. Описание последних сцен жизни Анны было изнурительным делом, и я долго не могла забыть о нем. Если кого-нибудь удивляет то, как я представила момент обезглавливания Анны, должна заметить, что судья сэр Джон Спелман, свидетель казни, записал, что он видел, как двигались ее глаза и губы после усекновения головы. В книге «Леди в Тауэре» ведется дискуссия на тему, сохраняется ли сознание после отрубания головы. В 1983 году одно медицинское исследование пришло к следующему заключению: «Не имеет значения, насколько эффективен метод казни, все равно невозможно избежать по крайней мере двух или трех секунд интенсивной боли». Другое исследование, произведенное в конце XIX века, утверждает, что большинство жертв гильотины умирают в течение двух секунд, но более современные оценки продлевают это время в среднем до тринадцати секунд. В 1905 году один французский врач наблюдал за смертью лишенного головы преступника, процесс умирания занял от двадцати пяти до тридцати секунд. Разрыв спинного мозга вызывает смерть, только когда мозг совершенно лишен поступления питающего его кислорода из-за обширного кровоизлияния. В 1956 году два французских врача сделали вывод: «Смерть не наступает мгновенно: каждая составная часть организма переживает обезглавливание отдельно. Это жестокая вивисекция». Вероятно, Анна Болейн испытала несколько ужасных моментов, в которые она сознавала, что с ней происходило. Как у меня бывало и в случае с написанием других исторических романов, изложение вымышленной версии событий жизни Анны с ее точки зрения позволило мне по-новому взглянуть на них. Мне кажется, я лучше поняла, что сделало ее такой, какой она была, ее враждебность по отношению к кардиналу Уолси и Томасу Кромвелю, почему не сложился ее брак с Генрихом VIII и почему она проявляла такое недоброжелательство к Екатерине Арагонской и леди Марии. Это дало мне возможность описать главную героиню в более сочувственном свете, чем я могла бы сделать это как историк, если бы держалась строго внутри рамок источников и обоснованных ими предположений.Я хочу выразить огромную благодарность моим редакторам Мэри Эванс из «Headline» и Сюзанне Портер из «Ballantine» за их вдохновляющий энтузиазм и творческую поддержку. Тепло благодарю также моего агента Джулиана Александера, который был направляющим вектором и столпом силы в моей литературной карьере. Я в большом долгу перед Сарой Гриствуд за то, что она нашла время прочесть этот роман, когда сама находилась под давлением необходимости закончить свою замечательную книгу «Игра королев». Сара щедро делилась со мной результатами своих исследований феминизма в ренессансной Европе и правительниц-феминисток того периода, а также делала творческие предложения. Она обладает замечательной интуицией и большим талантом широко и последовательно мыслить, что вкупе с эмоциональной тонкостью, которая прослеживается во всех ее работах, добавляет новое понимание событий и оживляет всех, о ком она пишет. Моя книга очень выиграла оттого, что ее прочел и откомментировал такой опытный эксперт. Мне также хочется от души поблагодарить фантастическую группу поддержки из «Headline»: моего великолепного редактора Флору Рис, которая сделала множество предложений о том, как улучшить мою книгу; Кейтлин Рейнор, заместителя директора по рекламе и прекрасного журналиста; Джо Лиддьярд, главного маркетолога, за ее энтузиазм и техническую поддержку; Сиобан Хупер, главного дизайнера, и Патрика Инсоула, арт-директора, за прекрасное оформление моей книги; Луизу Ротвелл, менеджера по производству, Сару Адамс, ассистента редактора, Франсес Дойл, директора по цифровой стратегии, Барбару Ронан, директора по продажам, Джейн Селли, технического редактора, корректоров Сару Ковард и Каролин Претти за всю их тяжелую работу, которую они проделали, находясь за сценой. И еще я благодарю восхитительных «Бальбуссо Твинс» за их чудесную художественную работу. Последнюю, но не самую маленькую благодарность я выражаю Питу Рендейро, который придумал подзаголовок книги. И наконец, говорю спасибо от всего сердца моему замечательному мужу Ранкину, который, несмотря на тяжелый год после операции, продолжал оказывать мне огромную поддержку и мужественно восстанавливал силы, чтобы вдохновлять меня на работу.
Действующие лица
В порядке появления или первого упоминания. Курсивом набраны имена вымышленных героев.Анна Болейн, младшая дочь сэра Томаса Болейна; Мария Болейн, старшая дочь сэра Томаса Болейна; Маргарет Батлер, леди Болейн, дочь Томаса Батлера, графа Ормонда; бабушка Анны со стороны отца; Элизабет Говард, леди Болейн, дочь Томаса Говарда, второго герцога Норфолка; мать Анны; Джордж Болейн, позже виконт Рочфорд, младший брат Анны; Сэр Томас Болейн, владелец замка Хивер, Кент; позже виконт Рочфорд, граф Уилтшир и Ормонд, отец Анны; Отец Дэви, музыкант, учитель младших Болейнов; Томас Болейн, старший брат Анны; Эдвард Стаффорд, герцог Бекингем; сосед Болейнов, живший в Пенсхерсте, Кент; Генри Болейн, средний брат Анны; Маргарита, эрцгерцогиня Австрийская, герцогиня Савойская, регент Нидерландов, дочь императора Священной Римской империи Максимилиана I; Генрих VIII, король Англии, второй монарх из династии Тюдоров; Семейство Уайетт, соседи Болейнов, жившие в Аллингтоне, Кент; Семейство Сэквилл, родственники Болейнов из Бакхерст-Парка, Сассекс; Семейство От, соседи Болейнов из Итем-Моата, Кент; Эразм Роттердамский, известный голландский ученый, гуманист и писатель; Мастер Джонсон, торговец; Джон Скелтон, придворный поэт, в прошлом наставник короля Генриха VIII; Семейство Говард, графы Суррей и герцоги Норфолк, могущественные родственники Болейнов; Томас Батлер, 7-й граф Ормонд, ирландский пэр, прадед Анны со стороны отца; Генрих VII, король Англии с 1485 по 1509 год, первый монарх из династии Тюдоров, отец Генриха VIII; Сэр Джеффри Болейн, прадед Анны со стороны отца; Эдуард I Длинноногий, король Англии с 1272 по 1307 год; Вильгельм Завоеватель, король Англии с 1066 по 1087 год; Томас Говард, граф Суррей, позже 2-й герцог Норфолк, дед Анны со стороны матери; Томас Говард, граф Суррей, позже 3-й герцог Норфолк, дядя Анны со стороны матери; Анна Йоркская, дочь короля Эдуарда IV, первая жена Томаса Говарда, 3-го герцога Норфолка, тетя Генриха VIII и Анны Болейн; Эдуард IV, король Англии с 1461 по 1483 год, дед Генриха VIII со стороны матери; Елизавета Йоркская, дочь короля Эдуарда IV, королева Англии как супруга Генриха VII, мать Генриха VIII и сестра Анны Йоркской; Екатерина Арагонская, дочь Фердинанда V, короля Арагона, и Изабеллы I, королевы Кастилии, королева Англии как первая супруга Генриха VIII; Миссис Орчард, няня Анны; Сэр Джон Бротон, рыцарь из Уэстморленда; Максимилиан I, император Священной Римской империи из дома Габсбургов; Мария, герцогиня Бургундская, первая жена императора Максимилиана I, мать Филиппа Красивого и Маргариты Австрийской; Филипп Красивый, эрцгерцог Австрийский, герцог Бургундский и король Кастилии; сын императора Максимилиана I от Марии Бургундской; Хуана I, королева Кастилии; дочь Фердинанда V, короля Арагона, и Изабеллы I, королевы Кастилии; жена Филиппа Красивого; мать Карла V, императора Священной Римской империи и короля Испании; Фердинанд V, король Арагона, прежде король Испании; отец Хуаны I, Хуана, принца Астурийского, и Екатерины Арагонской, первой жены Генриха VIII; Карл Габсбург, эрцгерцог Австрийский, инфант Кастилии, позже Карл I, король Испании, и Карл V, император Священной Римской империи; Уильям Кекстон, издатель, первым запустил печатный пресс в Англии в 1476 году; Месье Семмоне, учитель Анны в Бургундии; Изабо, fille d’honneur Маргариты Австрийской; Кристина Пизанская (1364 – ок. 1430), итальянская писательница при французском дворе, ранняя феминистка; Изабелла I, королева Кастилии и Испании; мать Хуаны I, Хуана, принца Астурийского, и Екатерины Арагонской; Филиберт II, герцог Савойский, третий муж Маргариты Австрийской; Герда, горничная Анны в Бургундии; Карл, дофин Франции, позже Карл VIII, король Франции с 1483 по 1498 год; первый муж Маргариты Австрийской; Хуан, принц Астурийский, сын и наследник Фердинанда V, короля Арагона, и Изабеллы I, королевы Кастилии; второй муж Маргариты Австрийской; Этьенетта де Лабом, fille d’honneur Маргариты Австрийской; Чарльз Брэндон, виконт Лайл, позже герцог Саффолк, друг и турнирный партнер Генриха VIII; Якуба, фрейлина Маргариты Австрийской; Мария Тюдор, дочь Генриха VII, сестра Генриха VIII, королева Франции как третья супруга Людовика XII; первая жена Чарльза Брэндона, герцога Саффолка; Людовик XII, король Франции; Франциск Валуа, граф Ангулемский, дофин Франции, позже Франциск I, король Франции; Луиза Савойская, графиня Ангулемская, мать Франциска и Маргариты Валуа; Мадам д’Омон, dame d’honneur Марии Тюдор, королевы Франции; Жанна Валуа, королева Франции, первая жена Людовика XII; Леди Элизабет Грей, сестра маркиза Дорсета, фрейлина Марии Тюдор; ФлорансГастингс, фрейлина Марии Тюдор; Мэри Файнс, фрейлина Марии Тюдор, позже жена сэра Генри Норриса; Клод Валуа, дочь Людовика XII, короля Франции, королева Франции как первая супруга Франциска I; Элизабет Грей, виконтесса Лайл, невеста Чарльза Брэндона, виконта Лайла; Джейн Буршье, фрейлина Марии Тюдор; Кардинал Томас Уолси, архиепископ Йоркский, лорд-канцлер Англии, главный министр Генриха VIII; Маргарита Валуа, сестра Франциска I, жена Карла IV, герцога Алансонского, позже – Генриха II, короля Наварры; Луиза Валуа, дочь Франциска I и Клод Валуа; Леонардо да Винчи, итальянский художник и изобретатель; Жанна де Лотрек, фрейлина Клод Валуа; Мадам де Ланжеак, фрейлина Клод Валуа; Мария Тюдор, дочь Генриха VIII и Екатерины Арагонской, позже королева Мария I; Франциск, дофин Франции, сын Франциска I и Клод Валуа; Мона Лиза Джерардини, дама, чей портрет написал Леонардо да Винчи; Уильям Кэри, кузен Генриха VIII, джентльмен из личных покоев короля, первый муж Марии Болейн; Джейн Паркер, дочь Генри Паркера, лорда Морли, позже жена Джорджа Болейна; Генри Паркер, лорд Морли, аристократ-гуманист; Пирс Батлер, 8-й граф Ормонд, дальний родственник Томаса Батлера, 7-го графа Ормонда, прадеда Анны; Джеймс Батлер, позже 9-й граф Ормонд, сын Пирса Батлера, 8-го графа Ормонда; Сэр Генри Норрис, хранитель королевского стула, управляющий личными покоями короля, близкий друг Генриха VIII; Маргарита Плантагенет, графиня Солсбери, кузина Генриха VIII, фрейлина Екатерины Арагонской, наставница принцессы Марии; Уильям Корниш, музыкант, устроитель пиров на службе у Генриха VIII; Элизабет (Бесси) Блаунт, фрейлина Екатерины Арагонской, любовница Генриха VIII и мать его побочного сына Генри Фицроя; Генри Фицрой, герцог Ричмонд и Сомерсет, побочный сын Генриха VIII и Бесси Блаунт; Генри (Гарри) Перси, наследник Генри Перси, 5-го графа Нортумберленда, позже 6-й граф Нортумберленд; Томас Кромвель, позже государственный секретарь и главный министр Генриха VIII; Джеймс Мелтон, джентльмен из свиты кардинала Уолси, друг Гарри Перси; Катберт Тунстолл, епископ Лондона; Джордж Кавендиш, джентльмен на службе у кардинала Уолси; Леди Мэри Тальбот, дочь графа Шрусбери, жена Генри Перси, 6-го герцога Нортумберленда; Кэтрин Кэри, дочь Марии Болейн от Генриха VIII; Сэр Томас Уайетт, поэт и дипломат; Сэр Фрэнсис Брайан, джентльмен из личных покоев Генриха VIII; Маргарет Уайетт, сестра сэра Томаса Уайетта, жена сэра Генри Ли; Генри Кэри, позже лорд Хансдон, сын Уильяма Кэри и Марии Болейн, подопечный Анны; Элизабет Брук, жена сэра Томаса Уайетта; Сэр Генри Уайетт, владелец замка Аллингтон, Кент, отец Томаса и Маргарет Уайетт; Сэр Николас Кэри, главный конюший Генриха VIII; Габриель де Граммон, епископ Тарба, французский посол в Англии; Матильда, римская императрица, королева Англии на короткий период в 1141 году; Артур Тюдор, принц Уэльский (1486–1502), старший сын Генриха VII, брат Генриха VIII, первый муж Екатерины Арагонской; Джон Лонгленд, епископ Линкольна, духовник Генриха VIII; Уильям Уорхэм, архиепископ Кентерберийский; Ювелир из Тонбриджа; Папа Климент VII; Мария де Салинас, леди Уиллоуби, придворная дама Екатерины Арагонской; Мод Грин, леди Парр, придворная дама Екатерины Арагонской, мать королевы Екатерины Парр; Сэр Томас Мор, личный советник короля, позже лорд-канцлер Англии; известный ученый, гуманист и писатель, мученик и святой; Доктор Уильям Найт, секретарь Генриха VIII; Кардинал Лоренцо Кампеджо, папский легат; Эдвард Фокс, капеллан Генриха VIII; Доктор Стефан Гардинер, секретарь Генриха VIII; позже епископ Винчестера; Элизабет Бартон, монахиня и провидица, Святая дева из Кента; Госпожа Изабель Джордан, аббатиса аббатства Уилтон; Элеонор Кэри, сестра Уильяма Кэри, монахиня в аббатстве Уилтон; Доктор Уильям Баттс, врач Генриха VIII; Доктор Джон Чеймберс, лейб-медик Генриха VIII; Нэн Сэвилл, фрейлина Анны; Мартин Лютер, монах из Виттенберга, Германия, религиозный реформатор и основатель протестантизма; Уильям Тиндейл, реформатор и мученик, автор «Послушания христианина» и переводчик Библии на английский язык; Саймон Фиш, реформатор и автор имевшей большое влияние на людей еретической книги «Моление нищих»; Анна (Нэн) Гейнсфорд, фрейлина Анны; Сэр Джордж Зуш из Коднора, будущий муж Анны Гейнсфорд; Юстас Шапуи, испанский и императорский посол в Англии; Доктор Томас Кранмер, реформатор и мученик, капеллан Болейнов, позже архиепископ Кентерберийский; Роберт Барнс, реформатор и мученик; Марк Смитон, музыкант, слуга из личных покоев Генриха VIII; Сэр Фрэнсис Уэстон, джентльмен из личных покоев Генриха VIII; Мэри (Мадж) Шелтон, дочь сэра Джона Шелтона и Анны Болейн, сестры Томаса Болейна, фрейлина Анны, недолгое время любовница Генриха VIII; Мэри Говард, дочь Томаса Говарда, 3-го герцога Норфолка, и жена Генри Фицроя, герцога Ричмонда и Сомерсета, придворная дама Анны; Доктор Августин, врач кардинала Уолси; Сэр Джон Рассел, джентльмен из личных покоев Генриха VIII; позже хранитель личной печати короля и граф Бедфорд; Евстахий, граф Булонский (ум. ок. 1087), вероятный предок Анны Болейн; Стефан, король Англии с 1135 по 1154 год; Джон Фишер, епископ Рочестера, мученик и святой; Ричард Роуз, повар Джона Фишера, епископа Рочестера; Папа Юлий II; Сэр Уильям Бреретон, джентльмен из личных покоев Генриха VIII; Сэр Генри Гилдфорд, ревизор двора Генриха VIII; Реджинальд Поул, сын Маргарет Поул, графини Солсбери; позже кардинал Поул и архиепископ Кентерберийский; Брат Уильям Пето, исповедник принцессы Марии; Сэр Томас Одли, лорд-канцлер Англии; Джаспер Тюдор, граф Пемброк, герцог Бедфорд, дядя Генриха VIII; Элизабет Ловель, графиня Ратленд, придворная дама Анны; Маргарет Стенли, графиня Сассекс, придворная дама Анны; Элеонора Австрийская, дочь Филиппа Красивого и Хуаны Кастильской, сестра императора Карла V, королева Франции как вторая супруга Франциска I; Франсуаза, герцогиня Вандомская, считалась любовницей Франциска I; Джон, лорд Бернерс, комендант Кале; Уильям Стаффорд, дальний родственник Эдварда Стаффорда, герцога Бекингема, второй муж Марии Болейн; Бриджит, леди Уингфилд, подруга и придворная дама Анны; Анна Пикеринг, позже леди Беркли, придворная дама Анны; Роланд Ли, капеллан Генриха VIII, позже епископ Ковентри и Личфилда; Томас Хинидж, джентльмен из личных покоев Генриха VIII; Леди Маргарет Дуглас, дочь Арчибальда Дугласа, графа Ангуса, от Маргариты Тюдор, сестра Генриха VIII, придворная дама Анны; позже жена Мэтью Стюарта, графа Леннокса, и мать Генри, лорда Дарнли, второго мужа Марии, королевы Шотландии; Элизабет Браун, графиня Уорчестер, придворная дама Анны; Сэр Уильям Фицуильям, казначей при дворе Генриха VIII; Элизабет Вуд, леди Болейн, жена сэра Джеймса Болейна, придворная дама Анны; Сэр Джеймс Болейн Бликлингский, брат сэра Томаса Болейна, дядя и советник Анны; Френсис Деверё, дочь графа Оксфорда, позже жена Генри Говарда, графа Суррея, придворная дама Анны; Маргарет Фолиот, миссис Стонор, пестунья фрейлин Анны; Генри Говард, граф Суррей, сын и наследник Томаса Говарда, 3-го герцога Норфолка, кузен Анны; Лорд Томас Говард, младший брат Томаса Говарда, 3-го герцога Норфолка; Уриан, грейхаунд Анны; Гертруда Блаунт, маркиза Эксетер, жена кузена Генриха VIII Генри Куртене, маркиза Эксетера; Элизабет Амадас, жена Роберта Амадаса, хранителя королевской сокровищницы; Святой Эдуард Исповедник, король Англии с 1042 по 1066 год; Анна Говард, вдовствующая графиня Оксфорд, придворная дама Анны; Уильям Гловер, астролог; Элизабет Брайан, леди Кэри, жена сэра Николаса Кэри; считалась любовницей Генриха VIII; Кэтрин Уиллоуби, дочь Уильяма, лорда Уиллоуби де Эрзби и Марии де Салинас, вторая жена сэра Чарльза Брэндона, герцога Саффолка; Елизавета Тюдор, дочь Генриха VIII и Анны Болейн, позже королева Елизавета I; Агнес Тилни, вдовствующая герцогиня Норфолк, вдова Томаса Говарда, 2-го герцога Норфолка, приемная бабушка Анны; Маргарет Уоттон, вдовствующая маркиза Дорсет, вдова Генри Грея, 2-го маркиза Дорсета; Маргарет, леди Брайан, мать сэра Фрэнсиса Брайана; главная воспитательница сперва принцессы Марии, затем принцессы Елизаветы; Анна Болейн, леди Шелтон, сестра сэра Томаса Болейна, жена сэра Джона Шелтона, мать Мадж Шелтон и тетя Анны; Сэр Джон Сеймур из Вулфхолла, лесничий леса Савернейк, отец Джейн Сеймур, фрейлины Анны; Джейн Сеймур, фрейлина Анны; Майлс Ковердейл, ученый-реформатор, переводчик Библии на английский язык; Онор Гренвилль, леди Лайл, жена Артура Плантагенета, виконта Лайла, побочного сына Эдуарда IV, коменданта Кале; Маленькая Почему, собачка Анны; Джоан Эшли, фрейлина Анны; Папа Павел III; Филипп де Шабо, адмирал Франции; Карл Валуа, герцог Ангулемский, третий сын Франциска I, короля Франции; Пальмедес Гонтье, секретарь Филиппа де Шабо, адмирала Франции; Джон Хотон, приор картезианского монастыря в Лондоне; Роберт Лоуренс, приор картезианского монастыря Боваль; Августин Уэбстер, приор картезианского монастыря Аксхольм, – картезианские мученики; Ричард Рейнольдс, монах из аббатства Сион, мученик; Хэмфри Миддлмор, Уильям Эксмью и Себастиан Ньюдигейт – картезианские монахи и мученики; Мэтью Паркер, капеллан Анны, позже архиепископ Кентерберийский; Николас Бурбон, французский ученый-гуманист, наставник Генри Кэри; Сэр Николас Пойнц из Актон-Корта, придворный и реформатор; Маргарет (Марджери) Уэнтворт, жена сэра Джона Сеймура, мать Эдварда, Генри, Томаса и Джейн Сеймур; Сэр Эдвард Сеймур, старший сын сэра Джона Сеймура и Маргарет Уэнтворт, позже граф Хартфорд, герцог Сомерсет и лорд-протектор Англии; Сэр Томас Сеймур, сын сэра Джона Сеймура и Маргарет Уэнтворт, позже барон Сеймур из Садели и лорд главный адмирал; Генри Сеймур, сын сэра Джона Сеймура и Маргарет Уэнтворт; Кэтрин Филлол, первая жена сэра Эдварда Сеймура, брак с которой был аннулирован; Элизабет Тилни, герцогиня Норфолк, первая жена Томаса Говарда, 2-го герцога Норфолка, бабушка Анны со стороны матери; Уильям, лорд Сэндис, камергер Генриха VIII; Маргарет Геймедж, леди Уильям Говард, жена лорда Уильяма Говарда, младшего сына Томаса Говарда, 2-го герцога Норфолка, тетя Анны; Леди Маргарет Бофорт, графиня Ричмонд и Дерби, мать Генриха VII и бабушка Генриха VIII; Джон Скип, податель милостыни при дворе Анны; Хью Латимер, священник-реформатор, позже епископ Уорчестера и мученик; Сэр Энтони Браун, придворный и дипломат; Сэр Уильям Паулет, ревизор двора Генриха VIII; Сэр Уильям Кингстон, констебль лондонского Тауэра; Сэр Эдмунд Уолсингем, лейтенант лондонского Тауэра; Мэри Скроп, леди Кингстон, жена сэра Уильяма Кингстона; Маргарет Даймок, миссис Коффин (или Козин), жена Уильяма Коффина, главного конюшего Анны; Сэр Ричард Пейдж, джентльмен из личных покоев Генриха VIII; Марджери Хорсман, фрейлина Анны; Мэри Норрис, сестра сэра Генри Норриса, фрейлина Анны; Главный тюремщик Тауэра; Сэр Кристофер Хейлз, генеральный прокурор; Генри Сомерсет, 2-й граф Уорчестер; Меч из Кале, палач.
Хронология событий
1485 год Август – битва при Босуорте. Генрих Тюдор наносит поражение Ричарду III, последнему королю из династии Плантагенетов, и становится Генрихом VII, первым сувереном королевского дома Тюдоров. 1491 год Рождение Генриха VIII. 1499 (?) год Рождение Марии Болейн. 1501 (?) год Рождение Анны Болейн. 1509 год Апрель – восшествие на престол Генриха VIII. Июнь – брак и коронация Екатерины Арагонской и Генриха VIII. 1513 год Анну отправляют в Бургундию на службу к Маргарите Австрийской, регенту Нидерландов. 1514 год Брак сестры Генриха VIII Марии Тюдор с Людовиком XII, королем Франции. 1515 год Смерть Людовика XII; восшествие на французский престол Франциска I. Анна прибывает к французскому двору на службу к Марии Тюдор. Брак Марии Тюдор с Чарльзом Брэндоном, герцогом Саффолком. Анна переходит ко двору королевы Клод, жены Франциска I. 1516 год Рождение принцессы Марии, дочери Генриха VIII и Екатерины Арагонской. 1517 год Мартин Лютер публикует в Германии свои девяносто пять тезисов и инспирирует протестантскую Реформацию. 1519 год Рождение Генри Фицроя, побочного сына Генриха VIII от Елизаветы Блаунт. 1520 год Поле золотой парчи – роскошная дипломатическая встреча Генриха VIII с Франциском I. 1522 год Между Англией и Францией разгорается война; Анна возвращается домой, чтобы служить у Екатерины Арагонской; происходит ее дебют при английском дворе. 1523 год Анне запрещают выходить замуж за Гарри Перси и удаляют от двора. 1525 год Генри Фицрой получает титул герцога Ричмонда и Сомерсета. Генрих VIII начинает ухаживать за Анной. 1526 год Генрих VIII домогается благосклонности Анны Болейн. 1527 год Генрих VIII поднимает вопрос о законности своего брака с Екатериной Арагонской и просит папу аннулировать его. Генрих VIII решает жениться на Анне. 1528 год Анна выздоравливает после потливой лихорадки. Кардинал Кампеджо, папский легат, прибывает в Англию для разбирательства дела короля. 1529 год Суд легатов заседает в монастыре Черных Братьев в Лондоне; Екатерина Арагонская обращается к Генриху VIII за справедливостью; дело возвращают в Рим. Кардинал Уолси попадает в опалу; сэр Томас Мор назначен лорд-канцлером. Юстас Шапуи назначен послом Карла V в Англии. Томас Болейн получает титул графа Уилтшира и Ормонда. 1530 год Генрих VIII начинает опрашивать университеты с целью выяснить их мнение по его делу. Смерть кардинала Уолси. 1531 год Екатерина Арагонская удалена от двора. Томас Кромвель становится главным советником Генриха VIII. 1532 год Сэр Томас Мор уходит в отставку с поста лорд-канцлера. Август – смерть Уильяма Уорхэма, архиепископа Кентерберийского, открывает путь к назначению на его место радикала Томаса Кранмера. Анна становится любовницей Генриха VIII. Сентябрь – Анна получает титул леди маркизы Пемброк. 1533 год 25 января – Генрих VIII тайно женится на Анне. Апрель – парламент издает Акт об ограничении апелляции (к папе), который становится краеугольным камнем законодательного обоснования Реформации в Англии. Апрель – Анна Болейн появляется при дворе как королева Англии. Май – Кранмер объявляет брак Генриха VIII и Екатерины Арагонской кровосмесительным и незаконным и подтверждает действительность брака Генриха с Анной Болейн. 1 июня – коронация Анны Болейн. 7 сентября – рождение принцессы Елизаветы, дочери Генриха VIII и Анны Болейн. 1534 год Март – папа объявляет брак Генриха VIII и Екатерины Арагонской действительным. Парламент издает Акт о супрематии, который провозглашает Генриха VIII верховным главой Церкви Англии, и Акт о правопреемстве, которым законными наследниками объявляются дети королевы Анны и короля. Заключение в тюрьму сэра Томаса Мора и Джона Фишера, епископа Рочестера, за отказ клятвенно подтвердить признание верховенства короля над Церковью. У Анны рождается мертвый ребенок. 1535 год У Анны рождается второй мертвый ребенок. Казнь Джона Фишера, епископа Рочестера, сэра Томаса Мора и нескольких монахов-картезианцев. 1536 год 7 января – смерть Екатерины Арагонской. 29 января – у Анны раньше срока рождается сын. 2 мая – Анна арестована и заключена в лондонский Тауэр. 15 мая – суд признает Анну виновной в измене и приговаривает к смерти. 17 мая – брак Анны и Генриха VIII расторгнут. 19 мая – Анна обезглавлена в лондонском Тауэре.Элисон Уэйр Джейн Сеймур. Королева во власти призраков
© 2018 Alison Weir © Е. Л. Бутенко, перевод, 2019 © Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2019 Издательство АЗБУКА®* * *
Эту книгу я посвящаю трем своим прекрасным редакторам – Мэри Эванс, Сюзанне Портер и Флоре Рис
Это очень кроткая дама, насколько мне известно, и добродетелью не уступает любой другой королеве в Христианском мире. Уверяю Вас, милорд, король вознесся из ада на небеса благодаря ее мягкости в сравнении с той проклятой, которая принесла ему столько несчастий. Когда будете снова писать его милости, скажите, что Вы радуетесь его союзу с такой милой женщиной.Письмо сэра Джона Расселла лорду Лайлу, 1536 год
Что дарят королевские венцы и яркие скипетры? Предвестники они трагедии и смерти…Из поэмы автора
 Королевский дом Тюдоров. 1518 г.
Королевский дом Тюдоров. 1518 г.
 Семья Сеймур
Семья Сеймур
Часть первая. Некая юная леди
Глава 1
1518 год– За здоровье молодой! – Сэр Джон Сеймур с улыбкой поднял кубок, и вся компания подхватила тост. Джейн отхлебнула немного вина, наблюдая за своей новой невесткой, а та вся зарделась. Эдвард был без ума от юной жены. Еще бы, семнадцатилетняя Кэтрин – девушка очень миловидная и всего на год моложе жениха. Джейн не переставала удивляться, как же эта красотка преуспела в искусстве кокетства и с какой теплотой во взглядах смотрели на нее мужчины. Даже сэр Джон, казалось, находился под властью ее чар. Отец Кэтрин, сэр Уильям Филлол, насытившись, откинулся в кресле. Этот союз явно был ему по вкусу, а как иначе, ведь Эдвард, наследник своего отца, имел блестящие перспективы и все шансы преуспеть. Десятилетняя Джейн и та уже понимала: амбициозному молодому человеку женитьба на родовитой сонаследнице богатого землевладельца сулила большие преимущества. Сэр Уильям похвалялся тем, что Филлолы могут проследить свою родословную до соратников Вильгельма Завоевателя. – Как и мы, Сеймуры! – надменно заявил отец, не сомневавшийся в своем высоком положении в мире. Что ни говори, а это был во всех отношениях достойный и выгодный брак, и он стоил того, чтобы устроить шикарное угощение. Длинные столы в Широком зале Вулфхолла были уставлены изысканными яствами, приготовленными под бдительным оком самой леди Сеймур. Пиршество украшали разнообразные блюда из мяса и дичи, но главным блюдом был великолепный запеченный павлин, заново одетый в свое роскошное оперение. Сэр Джон привез лучшее вино из Бордо, а гости облачились в новые пышные наряды, предназначенные специально для свадьбы. Обычно сэр Уильям жил в Вудлендсе, рядом с Уимборном, меньше чем в пятидесяти милях от Вулфхолла, но для свадьбы он открыл Филлолс-Холл, и все семейство Джейн: мать, отец и семеро детей – приехали в Эссекс на свадьбу. Отцу очень понравилась новая невестка, он даже настоял, чтобы сэр Уильям и леди Дороти сопровождали Кэтрин, когда Эдвард повез ее обратно в Вулфхолл для продолжения торжеств. Из-за этого мать начала в спешке готовиться к приему гостей, и все сошлись на том, что она справилась прекрасно. Сгустились сумерки, на каминной полке и подоконниках зажгли свечи; их мерцающие огоньки отражались в ромбовидных стеклах, заполнявших оконные проемы в каменных стенах. Пока Джейн смотрела на Кэтрин и Эдварда, которые разговаривали друг с другом и украдкой целовались, ей вдруг пришло в голову, что пройдет немногим больше восемнадцати месяцев, и она сама достигнет брачного возраста. К счастью, у отца пока не было на ее счет каких-то определенных планов. Потому что девочка выходить замуж не желала. Ей хотелось стать монахиней. Все дразнили ее этим, не принимая такое странное намерение всерьез. Ну и пусть. Скоро они узнают, что она так же упорна в достижении жизненных целей, как и ее брат Эдвард. Джейн не могла представить, что ее сердечный, веселый нравом отец или обожаемая мать станут возражать. Им было известно о сне дочери, в котором она, надев монашеский плат, преклоняла колени перед Богородицей. Эта сцена приснилась ей год назад, после того как родители отвезли их всех в усыпальницу Святого Мелора в приорате Эймсбери. Джейн ошеломило величие церкви с возносящимся ввысь восьмигранным шпилем, и она истово молилась у алтаря невинно убиенного мальчика-принца, встав на колени рядом со своими братьями и сестрами и сложив руки, как ее учили с детства. С тех пор девочка прочно связывала свое будущее с этими двенадцатью акрами святой земли. Она представляла, как проводит свою жизнь в трудах и молитвах: поет в хоре на службах вместе с сестрами, собирает яблоки в саду или ловит рыбу в прудах, посвященных Господу. В следующем году она будет достаточно взрослой, чтобы вступить послушницей в монастырь Эймсбери. А пока ей было приятно находиться в кругу семьи, она смеялась застольным шуткам, наслаждалась расставленной перед ней обильной едой и обменивалась шутливыми ударами с братом Томасом, который был моложе ее меньше чем на год и, сидя за столом, бросал засахаренные сливы в новобрачных. Мать нахмурилась. – Кэтрин, простите моего младшего сына, – сказала она. – Он никогда не знает, где нужно остановиться. Том, немедленно прекрати! – Малыш заразился общим духом веселья, – снисходительно заметил сэр Уильям, а его жена фыркнула. – От него не знаешь чего ждать, – без улыбки произнес Эдвард. Джейн услышала вздох матери. Эдвард никогда не уделял времени младшему брату, всегда относился к нему как к досадной помехе. А тот искусно доводил старшего до белого каления, решительно вознамерившись не допускать, чтобы Эдвард затмил его. Борьба была неравной: Эдвард – наследник, а Томас на восемь лет моложе. Ясно, кто из них всегда будет первым откусывать от яблока. Когда Джейн было шесть лет, Эдварда отправили пажом в свиту сестры короля, принцессы Марии, вышедшей замуж за Людовика. В следующем году Эдвард посещал университеты в Оксфорде и Кембридже, потом оказался при дворе и оказался полезным королю Генриху и его главному министру кардиналу Уолси, который, по мнению многих, являлся истинным правителем страны. В Широком зале было жарко. Лето было в разгаре, но, несмотря на это, мать настояла, чтобы в камине зажгли огонь, вдруг кому-нибудь станет холодно. Джейн сняла с головы венок (цветы подвяли) и пригладила распущенные длинные волосы цвета соломы, которые волнами мягкого шелка струились по плечам. Эдвард, Томас, Энтони и малышка Элизабет были темноволосыми, унаследовали отцовскую масть, а Джейн, Гарри и Марджери взяли свою от матери. На мгновение Джейн стало жаль своих прекрасных локонов, которые обрежут, когда она станет монахиней, ведь волосы были ее единственной претензией на красоту. Скулы у нее слишком закругленные, нос великоват, подбородок чересчур острый, ротик маленький, кожа очень белая. Поглядев на своих братьев и младшую сестру Марджери, девушка осознала, без зависти или злобы, что все они гораздо привлекательнее и веселее – в них больше жизни. Вынашивая детей, мать Джейн исполняла свой долг супруги так же безупречно, как и все прочие домашние обязанности. Прежде чем на свет появилась Джейн, леди Сеймур родила пятерых сыновей, хотя старший, Джон, которого Джейн едва помнила, умер в одиннадцать лет, а другой Джон тоже ушел из жизни совсем юным. Гарри и Энтони были слеплены из другого теста: Гарри отличался беспечностью и не имел видов на славное будущее за пределами Вулфхолла, а Энтони имел склонности к учебе; вскоре он вслед за Эдвардом отправится в университет: поговаривали, что его ждет церковная карьера. Джейн это воодушевляло. Раз ее родители искали сокровища на Небесах, отдавая сына Господу, насколько больше заслуг они накопят, если посвятят Ему же и свою дочь. Шестилетней Марджери позволили присутствовать на пиру, а крошка Элизабет, которую принесла няня, чтобы гости повосторгались малышкой, теперь уже сладко спала наверху в комнате, называемой детской. Это был весьма населенный и счастливый дом. Джейн обвела взглядом просторную комнату, полную веселых и довольных родственников, и ее охватило чувство благополучия и радостного спокойствия. Что бы ни принесло ей будущее, она гордилась тем, что принадлежала к семье Сеймур из Вулфхолла.
Когда Джейн была маленькой, то думала, что в Вулфхолле должны водиться волки. Девочка в трепете выглядывала из-за углов, открывала двери кладовых и шкафов, опасаясь, не выскочит ли оттуда серый разбойник. По ночам она нередко лежала без сна и размышляла, что станет делать, если когда-нибудь столкнется со страшным зверем. Но однажды, услышав крики Джейн, после того как Томас выскочил из кладовой с воплем: «Я – волк!» – отец, дав сынку затрещину, утешил дочь, сказав, что название Вулфхолл не имеет ничего общего с этими животными. – Раньше это место называлось Ульф-Холл, по имени главы шотландского клана, который построил здесь дом много столетий назад, – объяснил отец, посадив Джейн к себе на колени. – С годами название немного изменилось. Тебе лучше, милая? – Он поцеловал ее и отпустил играть, вполне успокоенную. Джейн знала, что Вулфхолл несколько раз за прошедшие годы перестраивали. Теперешнему зданию было лет триста, у него имелись два внутренних двора: Малый, где находились домашние службы, и Большой, где жила семья. Низ стен был сложен из старого, осыпающегося камня, и на этом мощном основании покоился верхний этаж из крепких брусьев, между которыми виднелась белая штукатурка. С крыльца можно было попасть в просторный Главный зал. В дальнем его конце находилась дверь в Широкий зал размером поменьше. Семья предпочитала проводить время там: его было легче отапливать. В солнечные дни оконные стекла в Широком зале и часовне искрились тысячью огоньков, живые цвета витражей с гербовыми щитами переливались, как драгоценные камни. В одном из углов Большого двора стояла высокая башня, оставшаяся от старого дома. Сэр Джон был богат, владел обширными землями в Уилтшире, что позволило ему пристроить к дому модную длинную галерею, где члены семьи могли прогуливаться в дождливые дни. Их портреты, нарисованные странствующими художниками, которые заглядывали в поместье в поисках работы, смотрели вниз с побеленных известью стен. Среди картин имелось созданное по вымышленным хозяевами описаниям изображение нормандского рыцаря Уильяма де Сент-Мура, заложившего основы благосостояния Сеймуров. «О нет! – подумала Джейн. – Сейчас отец начнет надоедать всем рассказами об истории семейства». – Он прибыл с Вильгельмом Завоевателем во время нормандского нашествия тысяча шестьдесят шестого года, – хвастался сэр Джон. – С тех самых пор Сеймуры верно служат короне. Мы были фермерами и землевладельцами; занимали посты на государственной службе и исполняли свой долг с честью. Некоторые заседали в парламенте как представители графства. – Хозяин заново наполнил свой кубок, увлекаясь темой; дети слышали все это уже много раз. – Я был возведен в рыцари восемнадцати лет от роду, после того как участвовал в сражении с корнишскими бунтарями бок о бок с отцом. Как вам известно, я был назначен Рыцарем Тела короля Генриха во время коронации. – Трудно поверить, что тому минуло уж десять лет, – кивнул сэр Уильям. – Все эти разговоры о победе над Францией обратились в ничто. Отец сражался за короля во Французской кампании и, вероятно, преувеличивал свои подвиги, как не раз с любовной улыбкой говорила у него за спиной мать. – Да, было время, – сказал сэр Джон, явно намереваясь произвести на гостей еще большее впечатление семейными достижениями. – Видите, что там на стене? – Он указал на отделанный серебром охотничий рог из слоновой кости, укрепленный железными скобами над очагом. – Я имел честь носить его как наследственный смотритель леса Савернейк. Взгляните на эти деревья за окном. – Он сделал жест в сторону густых зарослей на вершине пологого холма. – Этот древний лес тянется на запад до самого Мальборо и Бедвин-Магны, нашего ближайшего прихода. Джейн предвкушала, что сейчас отец начнет превозносить свои способности в качестве управляющего, которые он проявил, когда дни сражений для него миновали, и распространяться о дипломатических миссиях за границей, с успехом исполненных им для короля Генриха. Не случайно он стал шерифом Уилтшира, Дорсета и Сомерсета; не зря занимал должность мирового судьи в Уилтшире. Но нет. – Теперь я доволен тем, что веду сельскую жизнь, – сказал сэр Джон. – Не нужно страшиться перемен. У меня тысяча двести семьдесят акров земли только здесь, в Вулфхолле, и я всю ее превратил в овечьи пастбища. Сэр Уильям приподнял кустистые брови: – И у вас не было проблем? Некоторые из моих знакомых джентльменов, кто отдал земли под пастбища, встретили жестокое сопротивление. Даже сэр Томас Мор, с которым я беседовал при дворе, сказал, что скоро овцы съедят людей. И это верно. Потому что, выращивая овец ради самой лучшей, самой дорогой шерсти и множа свои богатства, вы, благородные джентльмены, и даже служители Господа не оставляете места под пашни. Из-за этого многие бедняки остались без работы. – Некоторые из моих арендаторов ворчали, – признался отец, – но я заверил их, что никто не будет нуждаться, и нашел им другую работу, чтобы они не впали в нужду. Таким образом – говорю это с гордостью – я сохранил их любовь. Джейн, хоть и была мала, из общения с жившими в их владениях людьми знала, что к отцу относятся хорошо; по словам Эдварда, о его успехах в управлении хозяйством говорили даже при дворе. Наступал вечер, на землю опускалась душистая ночь позднего лета. Мужчины начинали шуметь, опорожняя все новые кубки, и мать отправила младших детей спать. Кэтрин зевала, и сэр Уильям спросил, не пора ли ей на покой. Эдвард немедленно вскочил с места, чтобы составить ей компанию. Джейн тоже встала и попросила позволения уйти. В соседнем зале было также жарко, поэтому она вышла на улицу подышать свежим воздухом и испытала облегчение. Больше всего в Вулфхолле девочка любила три сада, которые окружали здание. Джейн неспешно вошла в сад Старой миледи, который находился прямо перед домом и именовался в честь ее бабушки, урожденной Элизабет Даррелл, умершей вскоре после рождения внучки. Джейн имела страсть к выращиванию растений, и созданный ею сад сейчас по сезону был расцвечен розами, левкоями и анютиными глазками, имелись тут и красивые кусты, подстриженные в форме шахматных фигур. С восточной стороны был расположен сад Молодой миледи, где всегда хозяйничала мать. Грядки с целебными травами, которые она засадила после свадьбы, не пустовали и сейчас; собранные с них семена, цветки, листья и корневища использовали как приправы на кухне, из них готовили лечебные отвары и мази, их добавляли как отдушку к тростнику, устилавшему полы в доме. Сев на скамейку и наслаждаясь вечерней прохладой, Джейн подумала о том, как ей повезло: такой прекрасной матери нет больше ни у кого на свете. Леди Сеймур была душой всего дома. Несмотря на мужской авторитет сэра Джона, жизнь Вулфхолла вращалась вокруг нее. Почти каждое утро Джейн и Марджери на кухне или в винокурне получали от матери наставления, как управлять большим хозяйством. – Это пойдет вам на пользу и подготовит к тому моменту, когда Господу будет угодно послать вам мужей, – говорила дочерям леди Сеймур. Видя, что Джейн открывает рот и собирается возражать, она добавляла, подмигивая: – Монахиням тоже нужно уметь вести хозяйство! Хлопотливо перемещаясь по дому, мать следила, чтобы вовремя перевернули мясо на вертелах и дали хорошо подняться хлебу перед выпечкой. Несмотря на благородное происхождение, а среди ее предков имелись короли, мать не гнушалась вникать в такие дела и даже выполняла их сама. Она очень серьезно относилась к своим обязанностям хозяйки рыцарского дома. А какой стол держала леди Сеймур! Об этом ходили легенды. Репутация ее была безупречной. Горе постигало любою кухарку или девчонку с кухни – или дочь, если уж на то пошло, – усердие которой в работе не оправдывало ожиданий хозяйки Вулфхолла. Нельзя сказать, что слуги не любили или боялись ее. Она была женщина гуманная и добрая, но требовала послушания и уважения к себе. Ей редко приходилось повышать на кого-нибудь голос или прибегать к телесным наказаниям, столь часто используемым другими людьми, облеченными властью. Даже взбалмошный Томас выполнял ее требования беспрекословно. Дети обожали мать, слуги благословляли благочестивую и щедрую госпожу. Очень немногие покидали службу у леди Сеймур по собственной воле. Мать неизменно стремилась внушать всем, кто был под ее началом, добродетели целомудрия, честности, смирения и покорности. Дочерей она растила преданными и послушными родителям, а когда придет время, то и мужьям, приучала их вести себя достойно, как подобает христианкам благородного происхождения. Но прежде всего она учила своих детей любить Господа, уважать тех, кто лучше их, почитать короля и папу римского. Часто, стоя у большого, дочиста выскребенного кухонного стола, перегоняя духи или лечебные настойки в винокурне, мать предавалась воспоминаниям о прошлом, поскольку верила, что ее дети впишут свои страницы в семейную историю. Все они наизусть выучили, что она родилась в семье Уэнтворт в Саффолке и ее предками были король Эдуард III, представители могущественного дома Невилл и сэр Генри Горячая Шпора Перси, герой стародавней битвы при Шрусбери. В молодости она слыла красавицей. Даже сейчас, в сорок один год, леди Сеймур отличалась округлыми, как у куропатки, формами, имела чистое румяное лицо и густые светлые волосы. – В семнадцать лет, – любила она повторять Джейн и Марджери, – я была девушкой в свите герцогини Норфолк в Йоркшире. В Майские дни в замке шерифа Хаттона устроили живые картины, и молодого поэта мастера Скелтона в знак признания его таланта наградили гирляндой из шелка, золота и жемчуга. Он посвятил мне стихотворение. – Взгляд леди Сеймур становился отстраненным, словно перед ее глазами представали те давно минувшие дни, и она вновь ощущала себя юной девушкой, только вступающей в жизнь. – Оно было надписано: «Госпоже Марджери Уэнтворт». Он называл меня нежной примулой. Джейн считала, что такое сравнение уместно и сейчас. В семейных бумагах до сих пор хранилась копия этого стихотворения, переписанная чьим-то острым почерком. Несколько раз при случае ее доставали и показывали. Ловкими пальцами лепя розы из теста, мать любила вспоминать период ухаживаний: – Через два года после того, как мастер Скелтон написал то стихотворение, я познакомилась с вашим отцом. Его только что произвели в рыцари, и он попросил моей руки. О, он был прекрасен и обожал меня! Я просто потеряла голову! Его считали одним из новых людей при дворе, к которым благоволил старый король; они проложили себе путь преданностью, трудом и усердием, а не получили место благодаря родовитому происхождению. Ваш дед Уэнтворт разглядел в нем эти качества и верно рассудил, что он будет для меня хорошим мужем. Вашему отцу этот союз, конечно, давал большие преимущества, к тому же он продолжал семейные традиции: ваши предки Сеймуры, заключая выгодные браки, расширяли земельные владения, прирастали богатством и упрочивали положение в обществе. Но наш брак был самым удачным. И то, что он оказался счастливым, – величайшее благословение. – Тут у матери на щеках появлялись ямочки, и она слегка краснела, несмотря на то что была уже немолода. Родители Джейн жили в любви, это видели все, но, наблюдая за другими супружескими парами, девочка пришла к заключению, что не в каждой из них царили мир и согласие. Казалось, брак – это такая же азартная игра, как те, в которые ее домашние играли зимними вечерами.
Наутро после свадебного пира почти все долго спали, многие боролись с головной болью. Джейн встала с постели, которую делила с Марджери, надеясь улучить момент и помолиться в одиночестве, пока не появится мать с просьбой помочь на кухне. Часовня находилась за Широким залом. Под окном с вырезанной из камня ажурной решеткой и витражом со сценой Благовещения стояли алтарь, украшенный вышитой шелковой напрестольной пеленой; инкрустированное драгоценными камнями распятие и старинная, весьма почитаемая статуя Мадонны с Младенцем. Лицо Марии казалось Джейн самым прекрасным из всего, что она видела в жизни, – такое спокойное, серьезное и возвышенное; ей самой нужно всегда стараться подражать Святой Матери. Воздух благоухал ароматом цветов, которыми леди Сеймур украсила часовню в честь новобрачных. Преклонив колени на скамеечке перед алтарем, молился отец Джеймс, семейный священник, который учил Джейн и ее братьев с раннего детства. Она прекрасно помнила роговую книгу[49], которая тогда висела у нее на шее, и упорное заучивание букв, цифр и катехизиса. Когда она капризничала и отказывалась заниматься, то слышала увещевания в том духе, что ей очень повезло иметь прозорливых родителей, которые полагали необходимым и полезным для маленьких девочек изучение букв. Сама Джейн гораздо больше любила вышивание: этому искусству ее обучала мать. Расшитые собственными руками шапочки и лифы, которые она дарила друзьям, становились предметом их гордости. Алтарное покрывало тоже было украшено ею, и она верила, что ее способностям в качестве вышивальщицы найдется достойное применение в Эймсбери. В глубине души Джейн не сомневалась, что ее будущее решено. Отец Джеймс осенил себя крестным знамением, поднялся и, приветствуя девушку, протянул вперед руки: – Джейн, дочь моя! Он был хороший человек, немногочисленная паства очень его любила, а Джейн считала другом, которому можно доверять. – Отец, – сказала она, – я пришла помолиться, но, раз уж застала вас здесь, буду просить о помощи. – Садитесь, дитя мое, – сказал отец Джеймс, указывая на обитое кожей кресло сэра Джона. – Чем я могу вам помочь?
Мать находилась в Широком зале – присматривала за тем, как слуги наводят там порядок после пира, возвращая все вещи на свои места. – Могу я поговорить с вами? – спросила Джейн. – Что случилось? – отозвалась леди Марджери, хмуро поглядывая на одну из горничных. – Нелл, пожалуйста, протри этот стол хорошенько! – Давайте уйдем куда-нибудь, где мы будем одни. Прошу вас, мама. – Хорошо. – Леди Сеймур знаком подозвала управляющего. – Проследите, чтобы здесь был порядок, – распорядилась она и отвела дочь в кабинет – маленькую комнату, отданную в ее полное распоряжение. Тут хранились все документы и бумаги, отсюда хозяйка дома руководила своим «королевством». – Ну, – сказала она, садясь за стол. – Что тебя беспокоит, Джейн? Та заняла место на табурете, который стоял здесь специально для тех, кто хотел потихоньку перекинуться словом с госпожой. – Мама, я не шучу. Я хочу быть монахиней в Эймсбери. Леди Сеймур посмотрела на нее долгим взглядом: – Знаю. Но, Джейн, тебе нет еще одиннадцати лет, и такие решения не принимаются наобум. Когда станешь старше, какой-нибудь молодой человек может попросить твоей руки, и тогда все мысли о монашестве мигом вылетят у тебя из головы. Я знаю, сама не раз видела, как это происходит, – мгновение, а потом уж поздно. Одна девушка, моя кузина, влюбилась в молодого человека, когда тот приехал вместе с ее родными посмотреть, как она принимает монашеский обет. Он был помолвлен с ее сестрой, она увидела его после церемонии и пришла в полное смятение. Для нее это стало крахом. Я бы не хотела, чтобы такое приключилось с тобой. Джейн почувствовала, что от досады у нее на глаза наворачиваются слезы. – Но я знаю, что у меня есть призвание. Я только что говорила с отцом Джеймсом, и он не пытался меня разубеждать. Он благословил меня на разговор с вами. Мама, вы знаете, как я хочу стать монахиней и мирно жить в этом прекрасном монастыре. У меня нет желания выходить замуж. – Дорогое дитя, может случиться, что в монастыре ты не встретишь мира, а внутренний покой достается очень дорогой ценой. Это тяжелая жизнь, а не бегство от трудностей. Ты должна это понимать. – Почему все так хотят сделать для меня этот шаг трудным? – вздохнула Джейн. Мать улыбнулась: – Если у тебя действительно есть призвание, Господь подождет. Но тебе надо еще очень многое осознать до принятия окончательного решения, хотя бы оценить то, что ты собираешься бросить. Дитя, не смотри на меня так. Я прошу лишь о том, чтобы ты оставалась в миру и узнала о нем больше, прежде чем его покинешь. Если твои намерения не изменятся, когда тебе исполнится восемнадцать, тогда я поговорю с твоим отцом. – Восемнадцать? – эхом отозвалась Джейн. – До этого еще восемь лет. – Джейн, послушай, – мягко сказала мать, – многое в тебе изменится за эти годы. В восемнадцать ты будешь другим человеком, гораздо более зрелым. Имей терпение, не торопись. Хорошего стоит дожидаться. – Но… – Пока это мое последнее слово. И не бегай к отцу. Мы с ним одного мнения на этот счет.
Глава 2
1526 годДжейн не утратила убежденности в своем призвании. После восемнадцатого дня рождения дочери, видя ее твердую решимость, родители наконец дали ей благословение. Произошел обмен письмами с Флоранс Боннёв, приорессой Эймсбери, и та разрешила сэру Джону привезти дочь в монастырь. Когда семья собралась на Большом дворе, чтобы попрощаться с ней, девушка испытала трепет сомнения. Разумеется, она понимала: надеть монашеский плат – значит покинуть семью и отречься от мира; Джейн много раз спрашивала себя, способна ли принести такую жертву, и ощущала уверенность – да, способна, если Бог попросит ее об этом. Но сейчас, когда вокруг тесным кругом столпились родные, а мать и сестры плакали, не скрывая слез, Джейн обнаружила, что колеблется. «Они нуждаются в тебе», – шептал в голове предательский голосок. Эдвард и Кэтрин явно несчастны вместе, хотя постичь отчего, было нелегко. Что между ними пошло не так? В первые месяцы после свадьбы они выглядели радостными и довольными. Кэтрин была такая хорошенькая со своими кудряшками медового цвета и ямочками на щеках, однако улыбка на лице молодой супруги появлялась все реже, по мере того как Эдвард терял интерес к ней. Теперь Кэтринулыбалась только их маленькому сынишке. Джон – точная копия деда, в честь которого его назвали, – родился через год после свадьбы. Теперь ему было семь, столько же, сколько и самой юной из его тетушек, Дороти, о которой сэр Джон всегда говорил, что ее следовало назвать Маленьким Сюрпризом, потому как леди Сеймур полагала, что прибавления в семействе закончились на Элизабет. Мать особенно нуждалась в старшей дочери. По мере того как Джейн взрослела, леди Сеймур начинала возлагать на нее все больше своих обязанностей, что было для нее нехарактерно, а в последнее время она вообще стала сама на себя не похожа. Ее что-то сильно тревожило. Даже отец, казалось, беспокоился за нее. Джейн опасалась, не скрывает ли мать от родных какую-нибудь тяжелую болезнь. Но когда наседала на родительницу с расспросами, та неизменно отвечала, что чувствует себя превосходно. Кэтрин плакала, обхватив руками извивавшегося в ее объятиях Джона. Бедняжка стала очень легка на слезу. Отец положил руку ей на плечо, стараясь утешить. Трогательно было видеть, как нежно он привязан к невестке. Джейн обняла Эдварда, зная, что за суровой маской на его лице прячется печаль: брат был расстроен отъездом сестры. Томас наклонился поцеловать ее и выглядел при этом подавленным. Гарри усиленно моргал глазами, чтобы не расплакаться, и тепло обнял Джейн, а Энтони благословил. Как же она будет скучать по ним! С трудом ей удалось оторваться от сестер, а потом мать крепко прижала ее к груди. – Господь да пребудет с тобой, мое дорогое дитя, – сквозь слезы проговорила она. – Я приеду навестить тебя очень скоро.
Приоресса оказалась женщиной видной, с широкой костью. Она величественно и спокойно восседала в монастырской приемной, из белоснежного вимпла выглядывали румяные щеки. Настоятельница сделала разумное предложение: пусть Джейн поживет в общине несколько недель, чтобы проверить, верно ли она распознала свое призвание. – Мы не будем обсуждать твое приданое, пока ты не решишь остаться с нами, но взнос на твое содержание мы примем с радостью, поскольку члены нашего ордена дают обет бедности. Стоило посмотреть на кабинет, в котором сидела приоресса, – турецкий ковер, резная дубовая мебель, серебряная посуда, – и можно было усомниться в справедливости последнего утверждения, но сэр Джон быстро протянул настоятельнице увесистый кошель. Потом он пожал руку Джейн, благословил ее и ушел. Под строгим руководством приорессы юная послушница очень скоро поняла, какой свободой наслаждалась в Вулфхолле и как снисходительны к детям были ее родители. Приехав в обитель из шумного дома, где кипела жизнь, Джейн находила монастырскую тишину почти невыносимой. Пища готовилась скудная и простая, она не шла ни в какое сравнение с тем изобилием, которое царило на столе у ее матери; тюфяк в келье был тонкий и комковатый, а черное облачение из грубой шерсти, которое ей выдали, неприятно натирало кожу. Однако Джейн была готова к этим испытаниям и знала: не стоит ожидать мирского комфорта в религиозной жизни. Она понимала, что придется вставать по ночам, чтобы присутствовать на службах, хотя не представляла, насколько изматывающим для нее будет постоянное прерывание сна. От нее потребуют целомудрия – к этому Джейн была готова, – но она не осознавала, что никогда больше ей не будет позволено прикоснуться к другому человеку, разве что в случае крайней необходимости. Она готовилась испытать себя в умерщвлении плоти, но не думала, что дрожать от холода придется почти постоянно, за исключением одного часа в день, который монахиням позволялось проводить в единственной обогреваемой комнате, где имелся очаг. Юная послушница крепилась. Под чудесное пение хора сестер дух ее воспарял к небесам. Часами она молилась в церкви, обращаясь к Господу и стремясь обрести внутренний покой, который позволит ей услышать Его голос. Девушка благоговейно поклонялась статуям святых и пришла к убеждению, что, как и Мария в домашней часовне, они были ее друзьями. Она постепенно привязывалась к другим послушницам, с которыми знакомилась ближе в моменты дневного отдыха, и радовалась, когда они хвалили ее вышивки. Однако, когда испытательный срок в Эймсбери подошел к концу, Джейн отправилась домой. Надежды на обретение мира и покоя оказались иллюзорными. Казалось, мирские желания никогда не отпустят ее и ей придется бороться с ними вечно. Она чувствовала, что на это у нее не хватит жизненных сил. Но было и еще кое-что – одна тревожившая ее мысль. Если монахини давали обет бедности, почему тогда приоресса Флоранс носила облачение из дорогого шелка и ей подавали любую еду на выбор в уютном приемном зале? Почему-то ей позволено иметь карманную собачку – отвратительную, злобно тявкающую бестию, которая обнажала зубы и рычала, стоило кому-нибудь приблизиться к ней, и только хозяйка могла брать ее на колени и нежно поглаживать. – Я не знаю, есть ли у меня призвание, – призналась Джейн в последнее утро, но на самом деле ей хотелось сказать, что Эймсбери оказался совсем не таким, каким она его себе воображала. – Монастырская жизнь накладывает обязательства, – сказала приоресса. – Я готова принять в обитель монахиню, которая точно знает, что таково ее призвание, но ты сомневаешься. Поезжай домой и подумай еще раз, благословляю тебя. И Джейн отправилась домой в легком смятении чувств. Чем дальше она ехала, а до Вулфхолла было шестнадцать миль, тем больше убеждалась, что жизнь в Эймсбери не для нее. Конечно, там было кое-что, по чему она будет скучать, но многое с радостью оставит позади навсегда. Родные страшно обрадовались встрече. – Нам тебя очень не хватало! – воскликнул Гарри, тепло обнимая Джейн. – Вулфхолл стал совсем не тот. – Ты не создана для монашеской жизни, – улыбнулся Энтони. Мать покачала головой и заключила дочь в объятия. Джейн поцеловала ее, скрывая раздражение: – Я не знаю. Может статься, в будущем я поступлю в какой-нибудь другой монастырь. А про Эймсбери много чего расскажу вам. Вероятно, это не лучшее место для проверки своего призвания. Но мне все равно хочется стать монахиней. Как же ей хотелось доказать им всем, что они ошибаются на ее счет.
Глава 3
1527 годЗавернувшись в подбитую мехом накидку, Джейн следила, как ее ястреб бросился на обреченную куропатку. У них наберется хороший мешок пернатой дичи для материнского пирога. Приятно было отправиться на охоту в веселой компании взрослых братьев и пятнадцатилетней Марджери. Джейн нравилось наблюдать, как ее птица взлетала в лазурное небо, а потом камнем падала вниз. Какой восторг – свободно скакать на лошади, дыша вольным воздухом! Приятного возбуждения добавляло и предвкушение знатной добычи. Энтони поехал подобрать убитую птицу, а Эдвард галопом поскакал к ним вниз с холма. Теперь он был сэр Эдвард, в рыцари его произвел герцог Саффолк, под чьим началом старший брат Джейн четыре года прослужил во Франции. У родителей он появлялся нечасто, и это был один из тех редких случаев. Бо́льшую часть времени Эдвард проводил при дворе или на севере. Два последних года он в основном находился в замке шерифа Хаттона в Йоркшире в качестве главного конюшего при дворе незаконнорожденного сына короля Генриха герцога Ричмонда, мальчика восьми лет; столько же исполнилось сыну Эдварда Джону. Это была желанная должность, дарованная самим королем. – Браво! – крикнул Эдвард. – Но нам пора домой. – Давай поохотимся еще полчаса, – предложил Томас. Братья и теперь ни в чем не могли согласиться друг с другом. – Мать будет ждать нас, – не терпящим возражений тоном отрезал старший. Молодые люди натянули поводья, Томас хмурился. – Поехали, Марджери! – крикнула Джейн. И они помчались по просторам Уилтшира к Вулфхоллу. Вдали показался дом; они перешли на рысь, и Джейн поскакала вперед, чтобы поравняться с Эдвардом. – Я должна поговорить с тобой, – сказала она. – Сегодня утром Кэтрин опять была в слезах. Я не могла добиться от нее никаких объяснений. Эдвард, что с ней происходит? Брат поджал губы: – Тебя это не касается. Вдруг рядом с ними оказался Томас: – Это из-за Джоан Бейкер. Не пытайся изображать невинность, брат. И я могу держать пари: она не первая. Эдвард вспыхнул. Джейн не сразу сообразила, о чем говорит Томас. Джоан Бейкер была прачкой в Вулфхолле, жизнерадостная девушка со светлыми косами и пышной грудью. Если мать услышит об этом – сразу отправит ее собирать вещи, в этом можно не сомневаться. – Я был бы благодарен вам, если бы вы не совались в чужие дела, – прошипел Эдвард. Томас усмехнулся. – Но знаешь ли, Эдвард, это становится нашим делом, когда нам приходится утешать твою супругу, – ровным голосом произнесла Джейн. – Все мы уже давно замечаем, что она несчастлива и при этом совсем недавно встала с родильного ложа. В такой момент о ней нужно особенно нежно заботиться. Прошу тебя, прояви к ней немного внимания. – Ради Бога, Джейн, ты слишком много на себя берешь! – прорычал Эдвард. – Что ты знаешь об отношениях между мужем и женой или о том, что – в нашем случае редко – происходит между ними? Ты собираешься в монастырь. – Я знаю одно: мне очень грустно так часто видеть ее плачущей, – не отступалась Джейн. – А что касается моего намерения стать монахиней… – Она позволила себе недомолвку. Ей было девятнадцать, и, хотя религиозная жизнь по-прежнему сохраняла для нее привлекательность, мать оказалась права: ее дочь изменилась и теперь не была так уверена в своем призвании, как в прошлом году. Они продолжили путь в ледяном молчании. Джейн не переставала думать о бедняжке Кэтрин, надеясь, что Эдвард, когда немного поостынет, сделает что-нибудь, чтобы ободрить свою жену. И может быть, кто-нибудь – не она сама, но, к примеру, мать – напомнит Кэтрин: мужчина должен быть счастлив в супружеской постели и в ее власти доставить ему радость. Джейн подозревала, что причина их проблем кроется в этом. Дома она повесила накидку, сменила кожаные сапоги на мягкие туфли и пошла в спальню, чтобы взять там корзинку с рукоделием. Эдвард протопал вверх по лестнице впереди нее, и когда Джейн вышла из своей комнаты, то услышала его громкий сердитый голос, отрывочные возгласы Кэтрин и плач малыша Нэда, их второго ребенка. Все знали, что их брак уже давно идет к краху. Долгая жизнь порознь не спасала его, и когда Эдвард изредка заглядывал домой, то вел себя беспокойно и проявлял все признаки того, что ему не терпится поскорее уехать. Вся семья старалась поддержать Кэтрин, особенно отец, он был для нее настоящей опорой, но они ничего не могли поделать ни с равнодушием Эдварда, ни с подавленным состоянием его жены. Отец не стеснялся напоминать Эдварду, в чем состоит долг мужа, и приказывал ему заботиться о жене, но это не шло на пользу, только портило отношения между отцом и сыном. В последнее время Кэтрин все больше грустила и томилась, удовольствие ей доставляла только забота о детях. Мать думала, что она опять на сносях, однако Джейн подозревала, что Кэтрин узнала о Джоан Бейкер и других девицах, с которыми делил постель Эдвард.
В ту ночь, лежа на кровати под пологом и слушая ровное дыхание Марджери, Джейн вспоминала проведенное в Эймсбери время и размышляла, не оправдает ли ее надежд другой известный в Уилтшире монастырь – аббатство Лакок. Однако правда состояла в том, что теперь она уже не была уверена, подходит ли ей вообще религиозная жизнь, и подозревала, что эти сомнения никогда не развеются. – Если ты не можешь решиться… – начала мать и оставила фразу не завершенной. – Я всегда говорила: как только появится привлекательный молодой человек, ты сразу поймешь, чего хочешь в жизни. Но в том-то и состояла проблема. Никакой молодой человек не появлялся. И причиной этого была не скудость приданого; отец мог позволить себе щедрость. Джейн опасалась, что никто не просит ее руки, потому что она такая невзрачная. Даже предварительных разговоров с намеками на возможность сватовства не было. И неудавшаяся монахиня начала готовиться к тому, что останется старой девой, проведет всю жизнь как преданная дочь в родительском доме, заботясь о стареющих отце и матери. Бо́льшую часть времени такая перспектива ее не сильно расстраивала, она любила их обоих и была привязана к Вулфхоллу. Джейн казалось, что браки случаются только между другими людьми и к тому же не всегда складываются удачно. Посмотреть хотя бы на Эдварда с Кэтрин. Но иногда девушка страшилась будущего без детей и любви, той особенной любви, которая возникает между мужчиной и женщиной. И то и другое мать всегда называла величайшим Божьим благословением. Вдруг Джейн поняла, что плачет. Стараясь заглушить всхлипы, она уткнулась носом в подушку. Но Марджери все равно проснулась. – Что случилось? – пробормотала она. Джейн шмыгнула носом: – Скажи мне честно, я некрасивая? Марджери протянула ладонь и погладила сестру по руке: – Конечно нет, дорогая Джейн. Я считаю, ты очень милая. И такая светлая. – То есть слишком бледная. – Некоторые девушки могли бы позавидовать тебе. У тебя цвет лица совсем-совсем алебастровый и глаза голубые. Ты похожа на святую. – Марджери старалась, как могла. – Тогда почему ни один мужчина не ухаживает за мной? – Мы живем здесь слишком уединенно и тихо, – вздохнула сестра. – Редко кого-то видим. А когда нас куда-нибудь приглашают, все люди там взрослые и скучные. Говорят только о земле и налогах, да еще о том, как они ненавидят кардинала Уолси. Джейн села на постели и уставилась на затухающие в жаровне угли: – Думаешь, отец не слишком старается найти нам мужей? – С чего бы он стал заниматься этим, – фыркнула Марджери, – если ты годами убеждала его, что хочешь уйти в монастырь. Джейн была вынуждена признать замечание сестры справедливым. – Но ты-то этого не делала, а он ничего не предпринял. – Может быть, ему нравится, что мы живем дома. А я вообще не тороплюсь. Не хочу оказаться в положении бедняжки Кэтрин: выйти замуж за такого, как Эдвард, который демонстрирует полное равнодушие к ней. Но тебе, Джейн, надо сказать отцу о своем желании вступить в брак. Тогда он, наверное, что-нибудь сделает. А теперь давай спать. Джейн успокоилась. Марджери права. Нужно поговорить с отцом завтра же утром. Однако, когда это утро настало, она снова впала в нерешительность.
В мае сэр Уильям привез из Вудлендса леди Филлол посмотреть на их нового внука. На крыльце гостей приветствовали сэр Джон, леди Сеймур, Эдвард, Кэтрин и остальные члены семьи, включая стайку детей. Спеленутого младенца с гордым видом принес на инспекцию с верхнего этажа отец. После рождения второго сына Эдвард получил отпуск со службы у герцога Ричмонда и прискакал на юг из Йоркшира, чтобы провести какое-то время с женой и детьми. Джейн было ясно, что ему не терпится вернуться. В Широком зале подали вино и засахаренные фрукты. Лучи вечернего солнца лились в окна. Семьи обменивались новостями. Джейн с беспокойством отмечала, что Кэтрин почти ничего не говорит, а сэр Уильям озабоченно поглядывает на дочь. – Ты как-то осунулась, Кэт, – сказал он. – У тебя что-то болит? Лицо Эдварда застыло. Кэтрин робко улыбнулась: – Ничего, сэр. Я здорова, благодарю вас. – У нее сейчас трудное время, – вступила в разговор леди Сеймур. – Это верно, – шепнул Джейн Энтони, – но не в том смысле, какой имеет в виду мать. – Вслух он сказал: – У меня есть хорошие новости. Мне предложили должность секретаря у моего дядюшки, сэра Эдварда Даррелла в Литлкот-Хаусе. Я приступаю к работе в сентябре. Отвлеченные этим известием, сэр Уильям и леди Филлол поздравили Энтони, и разговор принял менее опасный оборот. Кэтрин попыталась поучаствовать в разговоре, а Эдвард перестал сердито сверкать глазами. Мать приготовила очередной пир: в комнату внесли обильное угощение. Джейн смутилась, увидев, что Джоан Бейкер вызвали из прачечной помогать прислуживать за столом. – Мать наверняка не знает, что происходит между прачкой и Эдвардом, – шепнула она Томасу, который занял место рядом с сестрой на скамье. – Молю Бога, чтобы он не осрамился! – усмехнулся Томас. Ничто не доставляло Томасу большего удовольствия, чем вид старшего брата в стесненных обстоятельствах. Джейн задержала дыхание, когда Джоан наклонилась над столом и поставила перед матерью и Эдвардом блюдо с дичью. Лицо девушки оставалось безучастным, но, отстраняясь, она мимоходом коснулась грудью щеки Эдварда, с едва заметной фамильярностью сказала: – Простите, сэр, – и ушла. Эдвард с трудом сдерживал гнев, а Томас с трудом подавлял смех. Сэр Уильям громко нахваливал мясо, но леди Филлол хмурилась. Джейн сидела, почти не дыша, и лелеяла надежду, что больше никакие происшествия не омрачат застолья, устроенного по такому радостному поводу. Она пыталась придумать, чем бы поднять настроение гостям. Мать так старалась устроить им радушный прием. Но когда со стола убрали остатки трапезы, сняли скатерть и принесли последний кувшин с приправленным пряностями вином, Кэтрин вдруг разрыдалась. – Что это значит? – пробасил сэр Уильям. Мать бросилась утешать несчастную. Все столпились вокруг, умоляя ее сказать, что случилось. Эдвард похлопал Кэтрин по руке и попытался изобразить заботливость, но взгляд у него был холодный и недобрый. Отец выглядел смущенным. То, что невестка несчастна, выставляло его сына в плохом свете. – Пойдемте, Кэт, поговорим наедине, – обратилась к дочери леди Филлол, прошла в часовню и затворила за ними дверь. – Она немного не в себе после родов? – спросил сэр Уильям. – Я и сам так думаю, – ответил Эдвард. – Лжец, – пробормотал Томас. – Он прекрасно знает, что ее мучает. – В последнее время Кэтрин выглядела немного рассеянной, – сказала мать, качая головой. – Мы, как могли, старались подбодрить ее. – Не сомневаюсь в этом, миледи, – заверил ее сэр Уильям. – Могу поспорить, это просто какие-то женские фантазии; к тому же она только недавно родила. Ну, я откланиваюсь. Жена все мне расскажет, когда придет, я уверен. Желаю всем вам спокойной ночи. Когда он ушел, остальные немного посидели за столом, прислушиваясь к приглушенному звуку женских голосов за закрытой дверью. – Идите спать, – сказал Гарри, всегда готовый прийти на помощь. – Я подожду здесь и прослежу, чтобы все было в порядке. – Я останусь с вами, – предложила Джейн, испытывая облегчение оттого, что Гарри с ними. Он часто отлучался из дому в Тонтон, где служил управляющим замка епископа Винчестерского, и пробыл на этом посту уже несколько лет. – Мама, у вас утомленный вид. Вам нужно отдохнуть. – Но мне нужно удостовериться, что с Кэтрин все хорошо, – запротестовала леди Сеймур. – Здесь останусь я, – заявил отец не допускающим возражений голосом, который заставлял умолкать многих спорщиков в суде. – Всем спать!
Когда они собрались к завтраку на следующее утро, атмосфера была напряженная. Мать утром встала первой, проверила, достаточно ли приготовлено хлеба, мяса и эля. Эдвард спустился вниз с Джейн и Марджери. Он подготовил все необходимое к выезду на ястребиную охоту, которую планировалось устроить в честь свойственников, но выглядел так, будто не спал всю ночь. – Доброе утро, – произнес он. Филлолы едва удостоили его взглядами, из чего Джейн заключила, что Кэтрин рассказала матери о Джоан Бейкер. – Кэтрин осталась в постели, – объяснил Эдвард. – У нее разболелась голова. Но она просила меня не лишать вас удовольствия поохотиться. Мы отправляемся после завтрака. К этому моменту лошади будут оседланы. – Весьма сожалею, что не смогу присоединиться к вам, – сказал отец. – У меня есть неотложные дела по имению, и я буду в разъездах весь день. Уверяю вас, в такой погожий день я предпочел бы поехать с вами на охоту. – Он поклонился гостям и скрылся в крошечной комнатке, которая служила ему кабинетом. О вчерашней маленькой драме не было сказано ни слова. Джейн надеялась, что никаких последствий не будет. Хозяйка собиралась устроить обильное угощение для всех на свежем воздухе. Когда Джейн появилась на Малом дворе, куда привели лошадей, то увидела большую повозку, нагруженную корзинами, табуретами и скатанным в рулон ковром. Вокруг, приплясывая от восторга, толпились дети. – Лиззи! Джон! Дороти! – крикнула им мать. – Залезайте в носилки. Вы поедете со мной. Предполагалось, что дети проведут утро, резвясь на поляне в лесу, под надзором леди Сеймур, в то время как она сама будет готовить трапезу. Джейн, одетая в предназначенное для верховой езды платье цвета буйволиной кожи, взобралась на лошадь, одернула юбку, поправила на голове шапочку с пером и надела длинные перчатки. Вытянув вперед руку, она ждала, чтобы отцовский сокольничий посадил на нее кречета и зацепил за путы. Потом Джейн вместе с Марджери поскакала рысцой вслед за братьями и Филлолами; они выехали через главные ворота и направились по тропе, которая шла вдоль сада. Достигнув широкой дороги, все отпустили поводья и позволили скакунам нестись галопом. Как приятно было ощущать бодрящий воздух и наслаждаться лихой скачкой по лесу! Пусть охота сегодня будет удачной. Небесам известно, им всем нужно отвлечься от царившего в доме напряжения, замаскированного тонкой вуалью вежливости.
Они сидели на ковре посреди леса и поглощали угощения, которые мать разложила на длинной белой скатерти. Леди Филлол выглядела какой-то притихшей. Сэр Уильям старался быть милым и обходительным, но от Джейн не укрылось, что он не разговаривает с Эдвардом, который намеренно сел как можно дальше от тестя и тещи. Хорошо еще, что их было одиннадцать человек и все громко разговаривали, исподволь желая создать иллюзию полной гармонии. Леди Филлол как-то нехотя возилась с едой. Это Джейн тоже заметила и отнесла на счет ее беспокойства за дочь. Через некоторое время хмурая дама поставила тарелку и сказала: – Простите меня, леди Сеймур, но мне что-то нехорошо. Я, пожалуй, вернусь домой и прилягу. – Она поднялась на ноги. – Надеюсь, это не из-за еды? – встревоженно спросила мать. – Нет-нет. У меня просто немного кружится голова. – Я поеду с вами, – напросился ее супруг. – Прошу нас извинить. Наблюдая за тем, как Филлолы идут к деревьям, где были привязаны их лошади, Джейн испытывала облегчение. Сэр Уильям держался молодцом, а вот его жена вызывала беспокойство: с ней явно что-то было неладно. Джейн повернулась к Томасу и тихо проговорила: – Думаю, Кэтрин рассказала ей о Джоан Бейкер. – Ее голос заглушал смех детей. – Несомненно, – ответил брат, уклоняясь от удара деревянным мечом, который пытался нанести ему Джон. – Эй, ты, любезный! Поосторожней с оружием! Мальчик, хохоча, отскочил. – Скорей бы они уехали, – сказала Джейн. – Эдвард тоже будет этому рад, – усмехнулся Томас.
Они вернулись в Вулфхолл к четырем часам и обнаружили носилки сэра Уильяма и леди Филлол стоящими на Большом дворе, их багаж – на крыльце, а самого рыцаря и его даму – ожидающими возвращения хозяев в Широком зале. Мать остановилась в изумлении: – Почему вы так быстро уезжаете? – Леди Сеймур, – мрачно отозвался сэр Уильям, – сегодня я стал здесь свидетелем такого, чего не рассчитывал увидеть за всю свою жизнь. – О Господи, что же это?! – вскрикнула мать. – Ради собственной чести, мадам, я не могу, мне совестно говорить об этом. Я гость в этом доме, и вы были более чем гостеприимны. Было бы весьма неуместным упоминать о таких ужасных вещах в присутствии столь благородной леди. Но мы больше не можем оставаться под этой крышей ни мгновения. – Боже мой, сэр! – вскипел Томас. – Вы заходите слишком далеко. – Тише, Томас. Но Кэтрин, она так расстроится, если вы уедете. – Мать в отчаянии протянула вперед руку, будто хотела тем остановить отъезд Филлолов. – Вы не можете покинуть дочь, когда она больна. – У меня нет дочери! – рявкнул сэр Уильям. – Думаю, вам следует объясниться, сэр, – грозно проговорил Эдвард и положил ладонь на рукоять меча. Джейн больше не могла сдерживаться. – Сэр Уильям, прошу вас. Если здесь, в нашем доме, произошло что-то плохое, с вашей стороны нехорошо утаить от нас, что именно случилось. Филлол злобно взглянул на нее: – Госпожа Джейн, вам лучше спросить об этом Кэтрин. Пойдемте, моя дорогая, мы уезжаем. Эдвард заслонил собой дверь. Лицо его было мрачно. – Значит, она рассказала вам о моем бесчестье. – Мне не о чем с вами говорить, – буркнул его тесть. – Позвольте нам пройти. – Кэтрин не сделала ничего дурного! Почему вы заявили, что у вас нет дочери? – Спросите ее! – Сэр Уильям протолкнулся мимо Эдварда и потащил супругу к ожидавшим их носилкам. – Пусть едут, – сказал Энтони. – Когда они успокоятся, то начнут рассуждать более здраво. Что бы там ни было, они, вероятно, преувеличили размер несчастья. – Он повернулся к старшему брату. – Это не ваше дело! – бросил Эдвард. – Я должен поговорить со своей женой. – И он кинулся вверх по лестнице. Мать плакала. Джейн и Марджери поспешили утешить ее, а Томас быстро отправил детей в сад. – О чем он говорил? – без конца спрашивала леди Сеймур. – Подождем, когда ваш отец вернется домой. Пусть услышит об этом. Эдвард спустился вниз, качая головой: – Она ничего не говорит. Только плачет. Я оставил ее с горничной.
Часом позже явился сэр Джон. Увидев все семейство собравшимся в Широком зале и заметив заплаканное лицо супруги, он пожелал узнать, где лорд и леди Филлол и что случилось. Томас быстро все ему объяснил. Эдвард молчал. Мать беспрестанно повторяла: «Почему? Почему?» Отец тяжело опустился в стоявшее перед очагом кресло с высокой спинкой. Он выглядел усталым, да и как еще можно выглядеть, когда возвращаешься домой после целого дня разъездов по своим владениям и споров с управляющими и арендаторами. – Кэтрин объяснила, за что родители так разозлились на нее? – спросил сэр Джон. – Она ничего не говорит. Слишком расстроена, – сквозь зубы процедил Эдвард. – Я поговорю с ней, – сказал отец. – Она в постели? – Нет, когда я оставил ее, она сидела за столом в нашей комнате. Сэр Джон встал: – Я поднимусь к ней.
Что бы ни сказал отец Кэтрин, содержание их беседы по большей части осталось известным только ему. Джейн думала, что он постарался загладить прегрешения Эдварда. Тем не менее мать попыталась вызнать правду. Когда сэр Джон присоединился к ней и старшим детям в Широком зале, а младшие были отправлены ужинать, она спросила: – Но почему сэр Уильям сказал, что у него больше нет дочери? Отец прочистил горло: – Понятия не имею. – И Кэтрин не знает? – Кажется, она в таком же недоумении, как и все мы. Мать резко повернулась к Эдварду: – А что ты на все это скажешь? Эдвард вспыхнул: – Матушка, я не всегда был хорошим мужем. Может быть, из этого сэр Уильям заключил, что Кэтрин дала мне повод уклониться от верного супружеского пути. Лицо матери побагровело. – И ты уклонялся? Помоги мне Бог. Если бы ты не был взрослым мужчиной, я бы задала тебе трепку! Бедная девочка. У Эдварда хватило приличия повесить голову. Джейн, увидев глумливую усмешку на губах Томаса, сердито глянула на младшего братца. – Ну так что же, супруг мой, вы не хотите отчитать своего сына? – обратилась леди Сеймур к сэру Джону. – Не думаю, что я должен объяснять Эдварду, какому стыду и бесчестью подверг он свою жену и всю семью. Пусть живет один. Это достаточное наказание, – сказал отец и сердито поджал губы.
Башню Вулфхолла использовали редко, да и то в основном как хранилище. Это была реликвия прежних времен, через нее можно было перейти из одного крыла дома в другое. Однако дети любили играть в верхних покоях, прятались среди поломанной мебели и прочих ненужных вещей, покрытых пылью десятилетий, если не столетий. На следующий день после отъезда Филлолов Джон куда-то пропал. Ребенок был живой, розовощекий и отличался тягой к приключениям. Все домашние были уверены, что он где-то спрятался. Отец Джеймс в нетерпении дожидался ученика, чтобы начать утренний урок. Но мальчик не был усидчивым. Кэтрин, Джейн и Марджери разошлись по дому, окликая сорванца по имени. – Он наверняка в башне, – сказала мать. – Крикните ему, что он будет наказан, если не явится сейчас же, – проворчал отец, усмехаясь при этом. Сэр Джон обожал внука и восхищался его проделками. Джейн проверила закуток под винтовой лестницей внизу башни, потом подобрала юбки и начала подниматься по ступеням, продолжая звать Джона. Правда, она знала, что постреленок не откликнется на зов. Девушка заглянула в комнату на втором этаже. Там стояли кровать, заваленная старыми тюфяками, и несколько древних сундуков. Под кроватью никого не оказалось, но внутри сундуков, вероятно, хватит места для маленького юркого мальчишки. Джейн открыла первый. Внутри обнаружилось несколько побитых молью меховых накидок, джеркин и потертое бархатное платье с высокой талией и широким воротником, расшитым почерневшей от старости серебряной нитью. Но не Джон. В другом лежали старинные документы и свитки с записями обо всех делах поместья, в третьем – ломаные игрушки и домашние вещи, а в четвертом – снова одежда. У стены стоял старинный портрет – незнакомая женщина в высоком, как колокольня, головном уборе, какие носили лет семьдесят назад. Краска на полотне потрескалась и местами осыпалась. Джейн потянула картину на себя: вдруг за ней спрятался шалунишка Джон? Но нет, его там не оказалось. Зато в щели за отвалившейся от стены деревянной панелью лежал носовой платок. Джейн подняла его. Весь в желтых пятнах, на ткани вышиты литера «К» и затейливый узор из узлов. Сразу ясно, чей он. Платок принадлежал Кэтрин. На кровати лежала гора одеял и подголовников, накрытая старым, потертым покрывалом. Джейн отогнула его край, ожидая увидеть Джона, свернувшегося калачиком среди тряпья. А потом сняла всю эту кучу с кровати, чтобы удостовериться, что мальчика там нет, и заметила на матрасе пятна, похожие на те, что были на платке. Джейн с отвращением отбросила платок в сторону, догадавшись о происхождении следов. Может быть, Кэтрин тоже совершала измены? Она определенно была здесь, но не с Эдвардом. Джейн начала перебирать в голове возможные варианты. И тут услышала шум над головой. Джон! Бросившись наверх, чтобы поймать сорванца, она решила про себя пока ничего никому не говорить. «Не злословьте», – учило Писание. А мудрая мать любила повторять: «Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь».
Сэр Джон находился в Солсбери на заседании суда, и в доме с трудом установился мир, но через два дня относительного покоя Кэтрин получила письмо, доставленное слугой ее отца. Джейн, только недавно проснувшаяся, узнала ливрею. Она стояла на крыльце дома рядом с Кэтрин и ждала, пока та взломает печать и развернет бумагу. Прочтя послание, Кэтрин ахнула и с плачем повалилась на колени. – Что случилось? – спросила Джейн, опускаясь рядом и обнимая невестку. У них за спинами послышались шаги. Кэтрин в ответ только беззвучно шевелила губами. Появился Эдвард, а за ним – мать, Марджери и дети. – Дайте мне бумагу! – потребовал муж, забирая у жены письмо. Пробегая его глазами, Эдвард мрачнел. – Клянусь, он за это ответит! – Что там? – спросила Джейн. – Скажи нам! – крикнула мать. – Он пишет, что изменил завещание и по разным причинам и соображениям распорядился, чтобы ни Кэтрин, ни ее отпрыски, ни я сам ни при каких условиях не получили ни пяди из его владений. Все, что он оставляет ей, – это сорок фунтов в год, если она согласится вести праведную жизнь в какой-нибудь монашеской обители. – Кэтрин разразилась слезами, Эдвард отшатнулся от нее. – Это возмутительно! Я заставлю его отменить это завещание! Никто не лишит меня того, что принадлежит мне по праву. – Но Кэтрин сонаследница сэра Уильяма! – воскликнула шокированная мать. – Все должно быть поделено между ней и ее сестрой. А когда родился Джон, сэр Уильям назвал его одним из исполнителей своего завещания вместе с Кэтрин. Эдвард, кажется, я понимаю, почему из числа наследников исключили тебя, но отчего та же участь коснулась твой жены и сыновей? Джон вправе наследовать вслед за матерью ее долю! Кэтрин, почему отец так обошелся с тобой? Моя дорогая девочка, отчего все это? Ты должна рассказать нам. Джейн тут же вспомнила пятна на матрасе и платок, брошенный за стенную панель. – Кэтрин?! – рявкнул Эдвард, сверкая на нее свирепым взглядом, но она была совершенно ошеломлена и не могла отвечать. – Я все равно узнаю, обещаю вам! – крикнул взбешенный супруг с искаженным от ярости лицом и ушел прочь, громко топая сапогами. Остальные свидетели сцены начали утешать его жену. Мать опустилась на колени и заключила невестку в объятия. Слава Богу, что Томас находился в отъезде по делам поместья, а то все могло обернуться еще хуже. Джейн встала и пошла вслед за Эдвардом. Он сидел в столовой за столом и смотрел в окно, его трясло от злости. Джейн села напротив брата. – Она предала меня, я уверен, – прорычал Эдвард, – и это наверняка случилось здесь, в этом доме, в тот день, когда ее родители уехали. Они что-то видели. Это не мог быть один из братьев, они все охотились вместе с нами. О Господи, если я узнаю, что она спала с кем-нибудь из слуг, то сам отвезу мерзавку в монастырь и избавлюсь от нее! Джейн боролась с собой. Сказать ли Эдварду о сделанном ею открытии? Платок и пятна на матрасе не были окончательным подтверждением неверности Кэтрин. Стоит ли без достаточных оснований рисковать будущим Джона и малыша Нэда? У Джейн на глаза навернулись слезы. – Эдвард, а что будет с двумя невинными детьми? Потеря матери станет для них страшным испытанием, им придется расти с убеждением, что она распутница. Поговори с ней по-хорошему. Пусть скажет правду, и потом подумай о своих сыновьях. Эдвард повернулся к сестре, его голубые глаза сверкали. – Я думаю! Меня беспокоит их моральное благополучие. Если Кэтрин изменила мне, она недостойная мать. А в таком случае, мои ли это дети? – Он был вне себя от гнева. Джейн переборола желание напомнить брату, что не в его положении учить других морали. – Если, Эдвард. Если! Поговори с ней. – Она поднялась. – Ты только что стал мировым судьей, так что тебе, как никому другому, должно быть известно: по закону подозреваемый считается невиновным, пока его вину не докажут. Поговори с ней – ради детей, ради матери. – Хорошо, – пробурчал Эдвард, и Джейн вслед за ним вышла из столовой. Они застали Кэтрин плачущей в зале, мать утешала ее, дети робко выглядывали из-за двери. Джейн прогнала их. – Пойдем, – сказал Эдвард, – я хочу поговорить с тобой. – И он повел расстроенную жену вверх по лестнице в их комнату.
Примерно через час Эдвард вышел. Он передал Джейн и матери, что Кэтрин, пролив немало слез, заверила его: мужа она не предавала и отец их сыновей – он. – Однако она противится тому, чтобы я оспаривал завещание, – продолжил Эдвард, – поэтому я ей не верю. Думаю, мне стоит поехать в Вудленд и потребовать от сэра Уильяма объяснений, пусть расскажет, что произошло в тот день. – Разумно ли это? – засомневалась Джейн. – Это единственное, что я могу сделать, – упирался Эдвард. Раздался стук в дверь, и вошел слуга. – Сэр, миледи, прибыл посланец от кардинала Уолси и спрашивает сэра Эдварда. Все поспешили в Главный зал. Там стоял мужчина в кардинальской ливрее. Он поклонился и протянул Эдварду письмо: – Сэр, его высокопреосвященство требует, чтобы вы немедленно прибыли в Хэмптон-Корт и сопровождали его во время посольства во Францию. Это был приказ, но Джейн видела, что он пришелся весьма кстати. Эдвард был готов выполнить любое поручение, которое привело бы его к продвижению по службе; они с отцом оба знали, что многие люди поднялись высоко, работая на Уолси, и от него перешли к королю. – Я благодарю его высокопреосвященство, – сказал Эдвард. – Если вы соблаговолите дать мне час, я соберу свой дорожный сундук и поеду вместе с вами. И еще мне нужно написать письмо милорду Рочестеру. – Его уже проинформировали, сэр. – Очень хорошо, – обрадовался Эдвард. – Миледи моя мать позаботится о том, чтобы вы хорошо подкрепились. Леди Сеймур уже распорядилась, чтобы слуга принес гонцу побольше еды и бутыль эля. Джейн побежала наверх, вслед за Эдвардом. – Как ты поступишь с Кэтрин? – спросила она. – Пусть это дело подождет моего возвращения, – ответил он. – Но тебя, вероятно, не будет много недель… – Слава Богу! Скорей бы уехать. Мне нужно время все обдумать и принять решение. А теперь, Джейн, если ты не возражаешь, мне нужно собираться. Она оставила его, чувствуя внутри странное беспокойство, имевшее мало отношения к разладу между Эдвардом и Кэтрин. Нет, это было какое-то неожиданное возбуждение от радостной вести, что Эдварда вызывают в Хэмптон-Корт, смешанное с разочарованием. Она-то остается дома. Джейн вдруг осознала: мир наконец поманил ее и ей без оглядки на прошлое хочется испытать все то хорошее, что он предлагает. Однако и тяга уйти в монастырь, погрузиться в тихое соблюдение религиозных обрядов не оставляла ее. Джейн разрывалась на части. С этой нерешительностью пора было покончить. Если бы только она могла получить ответ на свои молитвы. Джейн проскользнула в пустую часовню и опустилась на колени, сосредоточив взгляд на прекрасном лике Мадонны. Можно ведь жить в миру и при этом оставаться благочестивой и набожной. Она знала много таких женщин. К примеру, королева – о ее добродетели ходили легенды, – и мать тоже. Они обе испытали радости супружества и материнства и при этом не лишились спасительного утешения веры. Нет никаких сомнений в том, что она, Джейн, навсегда останется преданной Господу, но были и другие способы служить Ему, уход в монастырь – не единственный. Необязательно целиком посвящать себя религиозной жизни. Джейн поняла, что решение принято, и прошептала: – Благодарю. Спасибо, что указала мне путь.
Кэтрин не пришла протянуть супругу прощальный кубок и пожелать счастливой дороги к подставке для посадки на лошадей. Эту обязанность пришлось исполнить матери. – Храни вас Господь, сын мой, – сказала она, внимательно вглядываясь в Эдварда. – Пишите нам. – Напишу, – обещал он и уехал вместе с гонцом кардинала, а родные махали ему вслед. Жалея, что не отправилась вместе с Эдвардом в Суррей, Джейн вернулась в дом и постучала в дверь Кэтрин. Не получив ответа, она откинула задвижку и вошла. Невестка, сидя на стуле, качала в колыбели Нэда и глядела в окно. Щеки ее были влажными. – Ты не доверишься мне? – спросила Джейн, присаживаясь рядом. – Я никогда не разглашу того, что ты скажешь мне по секрету. – Я не хочу говорить об этом, – ответила Кэтрин. – Прошу, оставь меня в покое. – Ты не можешь вечно сидеть здесь и грустить, – возразила Джейн. – Подумай о детях, если до других тебе дела нет. Умой лицо и спускайся вниз. Там есть чем заняться. – Я спущусь немного позже, – пообещала Кэтрин. Когда она наконец появилась на кухне, где при участии матери, Джейн и Элизабет готовился ужин, то выглядела бледной и говорила мало. В течение нескольких следующих дней она бродила по дому, как бесплотный дух, призрак себя прежней, или жадно обнимала детей, игнорируя попытки Джона вырваться. Даже шутки Гарри, которыми он сыпал из лучших побуждений, не ободряли ее. – Так продолжаться не может, – сказала мать однажды вечером, после того как Кэтрин рано ушла спать. – Вы пытались поговорить с ней? – спросила Джейн. – Конечно пыталась. Она не откроет сердца ни мне, ни кому бы то ни было другому. Ты ведь тоже пробовал, да, Энтони? – Она сказала, что это меня не касается, – ответил тот. – Я тоже пытался, – вступил в разговор Гарри. – И получил краткую отповедь. – Знаете, пожалуй, я сама поеду в Вудлендс и повидаюсь с леди Филлол, – сказала мать. – Мы должны выяснить, в чем причина всего этого. – Но дотуда пятьдесят миль! – напомнил ей Гарри. – И они нам до сих пор ничего не объяснили. – Она может вообще не принять вас, – встревожилась Джейн. – Стоит попытаться, – со вздохом ответила мать. – Мы не можем жить так и дальше. – Да, мы не можем, – эхом подхватила слова матери Марджери. – Это всех делает несчастными. – Я отправлюсь в Вудлендс завтра, – решила леди Сеймур. – Тогда я буду сопровождать вас, – вызвался Гарри.
Глава 4
1527 годМать едва успела приступить к сборам в поездку, как прибыл гонец из Вудлендса. Сэр Уильям скончался. – Он умер от апоплексического удара, – сообщил им вестник, и Кэтрин разразилась слезами. Все начертили знак креста у себя перед грудью. Джейн подумала, не стала ли злость причиной смерти сэра Уильяма. Что за ужасное время настало! Беда за бедой. Джейн захотелось – и она сама не могла в это поверить – оказаться где-нибудь подальше от Вулфхолла, хотя бы ненадолго. – Мы поедем на похороны и выкажем уважение к покойному, – объявила мать. Щеки гонца вспыхнули. – Прошу прощения, миледи, но моя госпожа была бы рада, если бы вы все остались дома. – Что ж! – выпалила мать. – Я всего лишь пыталась соблюсти приличия, и, полагаю, в сложившихся обстоятельствах это был жест великодушия. Но когда мне бросают в лицо такое… Это оскорбление. Лицо посланца покраснело еще сильнее. – Мои извинения, миледи. Я всего лишь повторяю то, что мне было велено передать. – Это я понимаю, – ответила мать. – Можете идти. Дети переглянулись. Никогда еще не случалось, чтобы леди Сеймур отпускала визитера, не накормив. Такова была мера ее гнева, а гневалась она крайне редко.
Томас вернулся домой, вскоре вслед за ним появился глава семьи, уставший после недели, проведенной за вынесением приговоров убийцам и ворам. Сэра Джона, казалось, больше поразили слова матери о том, что сэр Уильям изменил завещание, чем известие о его кончине. – Эдвард намерен оспаривать это, – сказала леди Сеймур, когда они сидели послеужина в общей комнате. Кэтрин уже давно извинилась и ушла к себе. Печальная маленькая фигурка в траурном одеянии. – Он не должен так поступать! Будет скандал, – ответил отец. – Мне надо обдумать свое отношение к этому вопросу. Мать со стуком опустила на стол кубок: – И вы будете спокойно наблюдать, как вашего сына лишают части наследства его жены? Вам следует задуматься о судьбе двух бедных ягнят, которые спят наверху. Почему эти невинные души лишают того, что им положено по праву рождения? Отец с пристыженным видом положил ладонь на руку жены: – Полагаю, это дело ему не выиграть. – Но ведь нет никаких доказательств или признания недостойного поведения, – заметил Энтони. – Что, если сэр Уильям неправильно разобрался в ситуации? Из-за этого ни в чем не повинные дети должны страдать? Джейн прикусила язык. Станет ли то, что она обнаружила в башне, серьезным доказательством? Следует ли ей рассказать обо всем? И что случится, если она это сделает? Вероятно, лучше промолчать. И снова ей захотелось оказаться где-нибудь подальше от всех этих неприятностей. – Муж мой, – сказала хозяйка дома, – почему бы вам не съездить в Вудлендс и не расспросить настойчиво леди Филлол о том, что случилось в тот день? – Сомневаюсь, что она это сделает, и мне бы не хотелось вторгаться непрошеным гостем в дом скорбящей вдовы. Думаю, лучше всего мне поговорить с Кэтрин. А пока давайте переключимся на более приятные темы. – Отец, я была бы очень вам обязана, если бы вы оказали мне помощь, – быстро проговорила Джейн, улучив удобный момент. – Я решила – если это можно организовать, – что хотела бы поехать ко двору и служить королеве или принцессе Марии. Отец явно испытал облегчение, и все заговорили разом. – Ты, маленькая мышка? – засмеялся Томас. – О мое дорогое дитя! – Это была мать. – Какой сюрприз для меня! – Я буду скучать по вам! – воскликнула Марджери. – Двор – место, где царят завистники, – заметил Энтони. – Ты будешь овечкой среди волков. – Не могу понять, почему тебе хочется покинуть Вулфхолл, – удивился Гарри. – А я могу, – буркнул Томас. – Это не оттого, что я хочу покинуть вас всех, – заверила родных Джейн, понимая, что это не совсем правдиво. – Но я позавидовала Эдварду, когда он отправился на службу к кардиналу, и мне стало ясно, что я сама тоже хотела бы поехать ко двору, если это возможно. Королева – об этом часто говорили отец и Эдвард – благосклонная к слугам и добродетельная госпожа, а принцесса известна своей образованностью и красотой. Если есть при них место, пусть даже самое незначительное, я с радостью заняла бы его. Отец задумчиво слушал дочь: – Значит, ты больше не хочешь стать монахиней, правильно я понял? – Правильно, отец. Думаю, уже год, как я это осознала. А теперь уверена точно. – Хм. – Сэр Джон огладил бороду. – За места при дворах королевских особ идет состязание. Получить там должность не так-то просто. Нужно иметь знакомства, и эти люди наверняка захотят получить компенсацию за свои услуги. Джейн вздохнула. Значит ли это, что дорога ко двору для нее закрыта? – Дочь моя, ну не надо так унывать, – улыбнулся отец. – Это можно как-нибудь устроить. Юные леди, которые служат королеве, имеют прекрасные шансы найти себе достойных мужей, а тебе как раз пора вступать в брак. Я давно хотел организовать твое замужество, но ты стремилась к религиозной жизни. Не стоит и говорить, как мы рады, что ты пришла к такому решению, а, Марджери? – Я молилась о том, чтобы ты когда-нибудь вышла замуж и завела свою семью, – кивнула мать. Отец немного подумал: – Кажется, я знаю человека, который нам поможет. Когда я был при дворе, то подружился с одним нашим отдаленным кузеном, сэром Фрэнсисом Брайаном. Возможно, ты слышала о нем от меня. Он вице-камергер королевы и, наверное, обладает определенным влиянием. Предоставь это дело мне, Джейн. Я напишу ему. Девушка вновь ощутила знакомое возбуждение: такое же чувство она испытала, когда гонец привез Эдварду вызов к кардиналу. «И все-таки, – напомнила она себе, – дело еще не решилось, надо держать в узде свои надежды. Но, Господи, прошу тебя, пусть сэр Брайан ответит „да“!»
Отец имел беседу с Кэтрин, но, по его словам, невестка уклонилась от серьезного объяснения. Неделя шла за неделей. Эдвард был в отъезде. Джейн надеялась и молилась, чтобы сэр Фрэнсис Брайан ответил на письмо отца. И все это время в Вулфхолле почти не упоминали о том непонятном деле, которое темным облаком нависло над домом. Джейн удивлялась, почему Кэтрин никому не рассказывает, что случилось, отчего ее родители так внезапно уехали. Если, как она заверила Эдварда, речь не шла об измене и дети – его, почему она скрытничает? Или тут вообще не о чем говорить? В таком случае злость и обида на несправедливость, скорее всего, заставили бы ее искать способ оправдаться, а она уклонялась от объяснений, робела и сторонилась всех и вся, упорно отказываясь заводить речь об этой истории. Она как будто стала чужой в доме. А потом в жарком августе, раньше, чем ожидалось, из Франции вернулся Эдвард. Любовного воссоединения с семьей не последовало. На лице у него было написано: случилось страшное. Увидев это, мать отослала детей в Старую комнату, где они обычно слушали уроки и играли. У Джейн мелькнула мысль, не прогневал ли Эдвард кардинала, но потом увидела, как брат отшатнулся от вышедшей приветствовать его жены и бросил на нее такой взгляд, будто она была куском грязи, который нужно поскорее с себя счистить. Когда же Эдвард не опустился на колени перед отцом, чтобы получить благословение, а вместо этого пронзил его таким же полным ненависти и презрения взглядом, Джейн испугалась. Что происходит? – Сэр, я хотел бы поговорить с вами наедине, – стальным голосом произнес Эдвард. – Разумеется, – кивнул сэр Джон. – Пойдемте в мой кабинет. Кэтрин была похожа на пойманного в ловушку зверька: вся сжалась и испуганно таращилась на обоих мужчин. Джейн поймала взгляд матери, но она тоже была совершенно сбита с толку. Джейн виновато подумала о том, что видела в башне. Может, все-таки нужно было рассказать? Отец и Эдвард провели в кабинете всего несколько минут, после чего младший из Сеймуров вылетел наружу, хлопнув дверью, и зашагал к остальным. Он указал пальцем на Кэтрин. – Прочь из этого дома! – приказал он. – Я ни мгновения больше не потерплю твоего присутствия под этой крышей. Иди и собери свои вещи. Лицо Кэтрин побелело от страха. Громко всхлипнув, она повалилась на колени: – Эдвард, умоляю тебя! Пожалуйста, не прогоняй меня. Что станет с детьми? – А что с ними станет? Тебе следовало подумать об этом, когда ты вступила на путь злодеяний. – Эдвард, о чем ты?! – закричала мать. Он повернул к ней перекошенное мукой лицо, рыдания Кэтрин стали громче. – О Боже, мама, я не знаю, как сказать вам. Это самое тяжкое из всего, что мне приходилось говорить в жизни. Джейн охватил приступ дрожи. Она не хотела этого слышать. Рядом с ней заливалась слезами Марджери. – Ты должен мне сказать! – потребовала мать властным голосом, который заставлял утихнуть любого расшумевшегося ребенка или возражающего слугу. Кэтрин тихонько всхлипывала. Глаза ее превратились в темные омуты ужаса. Эдвард зажмурился, словно от боли: – Отец был ее любовником все эти девять лет, почти с того момента, как мы поженились. – Он с трудом проговорил эти слова, голос его звучал сдавленно. – Мальчики, скорее всего, его дети. У Джейн возникло ощущение, будто ее ударили. Мать, бедняжка, опустилась на скамью, а старшие дочери бросились обнимать ее. – Нет, – упавшим голосом проговорила леди Сеймур, которую мгновенно покинула властность. – Нет, нет, нет, не Кэтрин, жена его родного сына. Я уже давно догадывалась. Помоги мне Бог, я знала, что у него есть другая женщина, но такого не могла себе даже представить. О Благая Дева, помоги нам! – Она разразилась бурными рыданиями. Даже Томас смаргивал с глаз слезы. Джейн была не в силах поверить в такое. Только не отец, их любимый отец, который был защитой и опорой для всего семейства – каменной стеной. Но и камни иногда оказываются слепленными из глины. Как он мог совершить поступок столь низкий и гнусный? И продолжал беспутство целых девять лет? Ведь если Джон – его сын, значит греховная связь началась в тот год, когда Эдвард и Кэтрин поженились. Она отчаянно пыталась припомнить какие-нибудь намеки на то, что происходило у них под самым носом, и, разумеется, подумав хорошенько, обнаружила кое-какие признаки, сами по себе невинные, но теперь они обрели новый смысл. Конечно, это имело отношение к внезапному отъезду Филлолов в тот злосчастный день. Вероятно, они увидели нечто такое, что возбудило у них подозрения. Или Кэтрин во всем призналась родителям? О Господи, наверное, там, в башне, развлекались они с отцом, и не единожды, судя по тем пятнам! От стыда у Джейн заалели щеки. Она не могла представить себе своего родителя участником такой непристойной сцены. Это было отвратительно. Однако объясняло его неизменную расположенность к Кэтрин, его злобу на Эдварда и то, что он остался дожидаться окончания разговора невестки с матерью в тот вечер. Наверное, отец тревожился, не выдаст ли любовница их тайну. А когда сам пошел говорить с ней, то, скорее всего, предостерегал от ненужных откровений и убеждал, что лучше обо всем этом молчать. Какая мерзость! А мать… Она знала, что отец изменяет ей. И при этом сохраняла бодрость духа и вела себя так, будто все хорошо, продолжая, по своему обыкновению, ставить интересы других выше собственных? Такая показная стойкость унизительна, она просто шокировала. Но разумеется, в глубине души Джейн и сама понимала: в доме что-то неладно. Однако, оправдывая себя неопытностью, предоставила матери одной страдать от жизненных перемен. – Теперь вы понимаете, почему она должна покинуть дом, – сказал Эдвард. В ответ на это Кэтрин бросилась к нему и обхватила руками его колени. – Умоляю тебя, не прогоняй меня! – крикнула она. – Прошу! Прошу! Я не могу оставить детей! Эдвард, молю тебя! Он высвободился из ее объятий, причем не слишком мягко. – Делай, что я велю, – прошипел он. – Встань. И уходи. Мир, казалось, переворачивался вверх дном. Джейн не могла вынести мысли о встрече с отцом, когда он покажется из своего кабинета, где трусливо прятался. И что бы ни натворила Кэтрин, Джейн не могла не чувствовать жалости к несчастной женщине. – Я отвезу тебя к приорессе Флоранс в Эймсбери, – сказала она. – Гарри, ты проводишь нас? – Непременно, – согласился он. – Марджери, позаботься о матери, – распорядилась Джейн. – Я постараюсь вернуться как можно скорее. Кэтрин, прошу тебя, встань. Нужно собрать твои вещи. Томас и Гарри подняли несчастную на ноги. – Я должна увидеть мальчиков! – закричала она, вырываясь из их рук. – Я не могу оставить своего малыша! Мне нужно видеть его! – У нее началась истерика. – Нет! – отрезал Эдвард. – Пусть кто-нибудь соберет ее вещи. – Я сделаю это. – Мать направилась к лестнице; вид у нее был убитый, она как будто разом постарела. Джейн не удержалась и заплакала. Она легко могла представить, какая это боль и мука – быть разлученной с ребенком и что ощутят Джон и Нэд, когда поймут, что их мама больше не вернется. И это будет только начало. Тут мать споткнулась о нижнюю ступеньку лестницы и упала. – К чему все это?.. – сквозь слезы проговорила она. – Я не могу… Все это так ужасно. Джейн и Марджери поспешили помочь ей. Гарри отпустил Кэтрин и сжал руку Джейн. – Я сам отвезу ее в Эймсбери, – сказал он. – А ты оставайся с матерью. Джейн вытерла глаза, ужасаясь тому, что видит мать в таком состоянии. – Наверное, так будет лучше, – согласилась она. – Я напишу записку приорессе. – Пожалуйста, позволь мне увидеться с детьми! – молила Кэтрин, глаза у нее были совершенно дикие. Она пыталась оттолкнуть Эдварда, но тот держал ее крепко, игнорируя крики. Джейн взяла перо и бумагу, но рука у нее так дрожала, что ей удалось вывести всего несколько неровных строк. – Я сообщила приорессе Флоранс лишь о том, что ты была неверной женой, – сказала она Кэтрин. – Ни к чему раскрывать всю правду и покрывать позором семью. – Это мудро, – хриплым голосом заметил Энтони. – Нам всем нужно продолжать в том же духе. Дела и так идут хуже некуда, не стоит усугублять проблему. Представьте, как скажется на нас этот скандал, если вскроется, что тут творилось. – Ты имеешь в виду, что внутри семьи мы должны вести себя так, будто ничего не случилось? – спросила мать, нетвердо вставая на ноги. – И ты полагаешь, я на это способна? Бледное красивое лицо Энтони зарделось. – Мама, я всего лишь пытаюсь оградить вас от дальнейших неприятностей. Если мы не станем разглашать эту тайну, вы сможете без стыда смотреть в глаза друзьям и знакомым. И сказать по правде, что еще вам остается? Мы все обязаны сохранять преданность отцу и слушаться его. Если вы его бросите, общество вас осудит как предавшую мужа жену. – Обсудим это позже, – сказала леди Сеймур. Тяжело ступая, она поднялась по лестнице, и все сели ждать ее. Тишину прерывали только всхлипы Кэтрин. Наконец мать спустилась, неся суму, набитую одеждой. Позади нее шел слуга, тащивший обитый кожей сундук. По решительному виду леди Сеймур Джейн поняла, что та почти оправилась и вернулась к прежнему самообладанию; она изо всех сил старалась быть сильной. – Кэтрин, вот твои вещи, – холодно проговорила мать. – Гарри, ты не мог бы распорядиться, чтобы подали носилки и лошадей? – Они уже ждут, – сказал Томас. – Я приказал. – Ты должна ехать, – сказала леди Сеймур, поворачиваясь к плачущей невестке. – Такова воля Эдварда, и я не стану ему перечить. Надеюсь, Кэтрин, ты осознаешь чудовищность того, что совершила, и сожалеешь об этом. Из милости я помолюсь за тебя. – Прошу вас! – взмолилась Кэтрин, зубы у нее стучали. – Прошу, позвольте мне увидеть детей! – Уведи ее! – приказал Эдвард и, так как Гарри колебался, сам потащил жену к дверям. Она начала кричать в голос, но он дал ей пощечину. – Тихо! Что подумают слуги? Гарри крепко обхватил Кэтрин за плечи и быстро вывел за дверь. Джейн последовала за ними и стояла рядом, пока брат сажал невестку в носилки. Заглянув внутрь, она увидела, что Кэтрин смотрит на нее полубезумным взглядом. – Послушай, – начала Джейн, – если ты будешь хранить семейную тайну и никогда не назовешь отца своим любовником, я постараюсь сделать так, чтобы ты виделась с детьми. В противном случае я стану считать тебя самым неблагодарным созданием из всех когда-либо живших на свете и ничего больше для тебя не сделаю. Понимаешь? Гарри смотрел на сестру с новым уважением. Кэтрин сжала ее руку: – Обещаю, я никогда не заикнусь о нем! Даю слово, клянусь! Я сделаю все, если ты привезешь ко мне детей или позволишь мне навещать их. – Я постараюсь, – пообещала Джейн. – Господь с тобой! Она стояла на Большом дворе и смотрела, как носилки увозят прочь Кэтрин. Ее крики затихли в отдалении. Потом Джейн пошла искать Эдварда.
Все так и сидели в Главном зале, пытаясь свыкнуться со страшной правдой, которая им открылась. – Она уехала, – сообщила Джейн. – Эдвард, тебе следует знать, что ценой за ее молчание могут быть встречи с детьми. Эдвард понуро сидел на скамье, его гнев прошел. – Я не хочу, чтобы они с ней виделись. Пользы от этого не будет. – Зато она скорее проявит благоразумие! Кроме того, я пообещала: если она будет молчать про отца, то я постараюсь помочь ей встретиться с детьми. – Ты не имела права! – крикнул Эдвард. – Джейн говорит разумные вещи! – вмешалась мать. – Ты хочешь, чтобы о нашем позоре трубил весь свет? Слухи распространяются быстро, сам знаешь. Монахини любят посплетничать. Дня не пройдет, как новость разлетится по всей стране. Подумай обо мне и об этих бедных детях. Они будут скучать по матери. Мальчики без нее и дня не прожили. – Я подумаю, – буркнул Эдвард. – Тогда думай быстро, – сказала леди Сеймур. – Я только одного не могу понять, – подал голос Энтони, – как ты узнал, что отец и Кэтрин любовники. Джейн увидела, как мать поморщилась. Эдвард замялся: – В это трудно поверить, но, когда я был во Франции, меня без конца терзали сомнения по поводу Кэтрин. Мне нужно было знать, изменяет ли она мне и мои ли дети. В такое время лучше находиться дома. Мне не давало покоя то, что я никак не мог разрешить сомнения, пока не вернусь в Вулфхолл. Я даже спать перестал из-за этого. – Он помолчал. – В свите кардинала был один джентльмен. Когда мы находились в Амбуазе, я услышал его рассказ о неком ученом человеке, который живет в городе и считается большим знатоком магии. – Колдун! – воскликнул Энтони. Эдвард сердито глянул на него: – Радуйся, мальчик, что ты не оказался в моем положении. Ты ничего не смыслишь в том, о чем говоришь. – Он повернулся к остальным. – Про этого человека рассказывали, что у него бывают видения и он способен предсказывать будущее. Я подумал, вдруг он мне поможет. Пришел в его дом на узенькой улочке неподалеку от того места, где жил художник Леонардо. Сперва он сказал, что вызывать видения запрещено, и если он это сделает, то рискует быть обвиненным в колдовстве или ереси. Я поклялся, что никому ничего не скажу. Предложил деньги. Короче, упрашивал его, как мог, потому что отчаянно хотел узнать правду. – Но откуда тебе известно, что он не шарлатан и не мошенник? – спросил Гарри. – Люди при дворе говорили о нем с уважением, как об ученом муже, человеке неподкупной честности. О его занятиях магией упоминал только тот джентльмен из свиты кардинала, но он заверил меня, что в этом отношении мне беспокоиться не о чем, как и во всех прочих. Итак, я с радостью заплатил ему за помощь, причем немало. – Не могу поверить, – покачала головой мать, – что мой сын занимался такими сомнительными делами. Отец Джеймс пришел бы в ужас. – Я вижу, вы не одобряете моего поступка и сомневаюсь, что вы мне поверите. – Эдвард встал. – Нет смысла рассказывать вам, что произошло. Пойду на конюшню. – Подождите! – воскликнула Джейн. – Мы тебя выслушаем. Я уверена, ты действовал из лучших побуждений. Все согласны со мной? – Она быстро окинула взглядом родных. – Я выслушаю тебя, – сказала мать, – хотя шокирующих новостей уже хватило для одного дня. Эдвард сел на место: – Матушка, никто не говорил, что этот человек занимается дурными делами; скорее о нем отзывались как о муже трезвомыслящем и искреннем. Он понял, что меня тревожит, и проявил сочувствие. Сказал, что использует магическую перспективу и попытается узнать, что происходит у меня дома. Потом отвел в маленькую комнату, завешенную черной материей, и предложил сесть вместе с ним за стол. На нем стояли две серебристые свечи и плошка, наполненная водой, с каким-то кристаллом. Он попросил воду открыть нам правду о моей жене, потом достал из кармана пять лунных камней и опустил их в плошку. Мать перекрестилась, но сохранила спокойствие. – Сначала ничего не происходило, – продолжил рассказ Эдвард, – но затем, к моему изумлению, на воде начали появляться образы. Там была женщина в зеленом платье, какое часто носит Кэтрин, но… Скажу только, что с ней был мужчина и они находились в позе, которая говорила о близости, мало приличествующей чести обоих. Видение длилось всего несколько мгновений, но я узнал его. Это был отец. – Откуда такая уверенность? – скептически спросил Томас. – Я не сомневался. Но даже если я ошибся или тот человек использовал какие-то хитрости, все равно правда открылась, и отцу пришлось это признать. Им обоим пришлось. – Значит, ты поспешил домой из-за того, что увидел, – подвел итог Томас. – А как отреагировал на это кардинал? – Я не открыл ему правды. Сказал, что моя жена после смерти отца помутилась рассудком и я очень беспокоюсь за нее. Кардинал проявил понимание и благословил на отъезд. Не думаю, что он затаил на меня обиду. Эдвард уткнулся лицом в ладони. Некоторое время все молчали. – И что ты теперь будешь делать? – робко спросила Джейн. – Если Кэтрин примет обет, ты легко добьешься аннулирования брака и сможешь жениться снова, – сказал Энтони. – Думаешь, мне этого захочется? – с горечью спросил Эдвард. – Не торопись, пусть пройдет время, – сказала мать. – Нам всем нужно время, чтобы пережить случившееся. – Она снова заплакала. – Ваш отец стал чужим для меня. Я не знаю, как жить дальше. И что теперь будет с детьми? – Я долго думал об этом, – вздохнул Эдвард. – Я люблю их обоих. Может быть, они и мои сыновья, но даже если отцовские, в них течет та же кровь. По закону муж считается отцом всех детей своей жены, так что нет смысла объявлять их бастардами. И я не сделаю ничего, что принесет им вред. Джейн заметила, что при этих словах Эдварда мать испытала облегчение, как и она сама. – Хорошо, что ты не лишаешь их своей отцовской любви, – сказала леди Сеймур. – Дети нуждаются в ней, особенно Джон. И ведь они ни в чем не виноваты. – Я не перестану любить их, хотя они напоминают мне об их матери и ее злодеяниях, – ответил Эдвард. – Но я намерен оспорить завещание сэра Уильяма; нет никаких причин, по которым я или дети Кэтрин должны лишиться положенного ей по наследству. Томас поднял взгляд: – Если ты это сделаешь, брат, то рискуешь вызвать гнев леди Филлол, которая может в отместку раструбить по всему миру, что наш отец покрывал ее дочь. – Томас! – протестующим хором воскликнули братья и сестры. – Имей уважение к матери! – бросил Гарри. У Томаса хватило такта, чтобы принять сокрушенный вид. – Простите, матушка. – И меня тоже простите, я сожалею больше, чем могу выразить словами. – Это был сэр Джон. Он стоял в дверном проеме, растерянный и сломленный, искательно заглядывал в глаза жене и детям, будто хотел вызнать, осталась ли в них хоть капля любви и уважения к нему. – Сможете ли вы когда-нибудь простить меня? Дети встали, повинуясь воспитанной в них с детства привычке. Послушание, уважение и привязанность, которыми пользовался отец на протяжении всей их жизни, невозможно было отменить за одно мгновение. И все же Джейн теперь смотрела на него другими глазами. Он оставался человеком, которого она любила, и тем не менее стал чужаком, все греховные слабости которого вдруг раскрылись. Ум Джейн не мог вместить в себя все это. – Марджери? – обратился сэр Джон к жене. Мать не смотрела на него. Эдвард вышел за дверь. – Марджери, пройдемте в Широкий зал, – сказал отец и отступил в сторону, пропуская ее вперед, его глаза были мокры от слез. Джейн ужаснулась. Она никогда не видела отца плачущим.
Ни отец, ни мать никому не открыли, о чем они говорили в тот августовский вечер, но было ясно: оба старались, чтобы жизнь шла как прежде, только это было совершенно невозможно. За ужином сэр Джон занял свое обычное место на высоком кресле во главе стола. Леди Сеймур села на противоположном конце, как делала всегда. Они вели разговор друг с другом, и дети последовали примеру родителей. Не их дело – осуждать отца. Сердце Джейн обливалось кровью: ей было жаль мать, которая вела себя так стойко, несмотря на свою боль, и она прекрасно понимала, как стыдно отцу. Девушка силилась делать вид, будто все идет нормально, но никак не могла примириться ни с тем ни с другим. У Эдварда внутри все пылало, словно в горне, из которого вот-вот вырвется наружу расплавленный металл. Напряжение было осязаемым. Ели все очень мало, хотя блюда на столе стояли отменные. – Сегодня я получил послание от сэра Фрэнсиса, – сказал сэр Джон в конце трапезы таким тоном, будто случайно вспомнил об этой «мелочи». – Он пишет, что охотно займется поиском места для тебя, Джейн. И намекает, что я могу облегчить его труды, если подам надежду на вознаграждение. Так принято при дворе. Патронаж – дело прибыльное. Завтра я пошлю ему деньги. – Благодарю вас, отец. – Сердце Джейн учащенно забилось. Неужели она и вправду отправится ко двору? О, насколько сильнее обрадовала бы ее эта новость, если бы пришла в более благоприятный момент! Разве сможет она оставить мать в такое время? – Это хорошая возможность для тебя, – решительно заявила леди Сеймур. – Ты наверняка найдешь себе достойного супруга. Молюсь, чтобы это случилось. Джейн испытала облегчение. Но вот бесконечный ужин завершился, благодарственные слова произнесены, и можно укрыться в постели. Джейн взяла свечу и пошла вверх по лестнице вместе с Марджери. В спальне с низкими потолочными балками и деревянной кроватью, завешенной вышитыми шторами, которую они делили на двоих, девушки разделись, сложили платья, натянули ночные сорочки и забрались под одеяло. Джейн задула свечу. Сестры лежали молча; комнату заливал лунный свет, проникавший внутрь сквозь окно с тонкой решеткой. – Я не хочу, чтобы ты уезжала ко двору, – произнесла Марджери. – Может быть, я еще и не уеду, – отозвалась Джейн. – Пока нет окончательной уверенности. Но если я там окажусь, то спрошу королеву, нет ли у нее места и для тебя. – Правда? – В голосе Марджери слышалась томительная надежда. – Конечно, дорогая сестрица. Я так люблю тебя. И буду ужасно скучать. – Всегда легче уезжать, чем оставаться, – сказала Марджери, и это мудрое замечание выдавало, что ей всего пятнадцать. – Да, – согласилась Джейн, – к тому же, боюсь, жизнь тут не наладится еще очень долго. – Думаешь, отец и мать смогут забыть о том, что случилось? – А что им остается? Они женаты. Отец – важный человек в наших краях. Мать постарается избежать скандала. Мы все согласились, что лучше сохранить это в тайне. А все начинается с дома. – Я попытаюсь жить и дальше, как ни в чем не бывало, – заявила Марджери, переворачиваясь на бок, – и молюсь, чтобы все остальные вели себя так же. Спокойной ночи, сестрица. Джейн не могла уснуть. Она ворочалась в темноте, пытаясь совладать с тревожными мыслями. Через какое-то время она встала, надела ночной халат и на цыпочках прошла в соседнюю пустую комнату, где находилась уборная. Выйдя оттуда, совсем не расположенная ко сну, Джейн тихонько спустилась по лестнице в Старую комнату. Там найдется какая-нибудь книга, которая наверняка развеет ее душевное смятение. Отец Джеймс был снисходительным наставником, а потому в помещении для учебных занятий стояли лошадки-качалки, на стульях сидели куклы, в углах валялись волчки, на столах лежали забытые роговые книги и исписанные листы бумаги. Джейн улыбнулась, краем глаза заметив корявые буквы, выведенные рукой юного Джона, и тут же ощутила болезненный укол в сердце при мысли о том, с какой потерей скоро столкнется ее ничего не подозревающий племянник. На полке из любимых с детства книг Джейн выбрала «Кентерберийские рассказы» Чосера, села и раскрыла том. Начав читать, она услышала какой-то тихий шум в дальнем конце комнаты, за дверью, которая вела в кабинет отца. Неужели он не спит в такой поздний час? Джейн подождала, размышляя, не лучше ли ей уйти, но тут дверь открылась, и появился сэр Джон: – Джейн! Что ты тут делаешь? Он едва решался встретиться с ней взглядом. – Я не могла уснуть, отец. И пришла сюда за книгой. – Она встала. – Увы, бедное дитя, я сомневаюсь, что сегодня кому-нибудь из нас удастся выспаться. – Сэр Джон сглотнул и направился к ней. – Моя дорогая девочка, – сказал он и заключил ее в объятия. – Я так виноват. Что я наделал?! – Голос его тонул в волосах дочери, плечи вздрагивали. Не зная, что сказать или сделать, Джейн наконец прошептала: – Все будет хорошо. Дайте нам время. – Постарайтесь не думать обо мне слишком дурно, – пробормотал отец. – Я был глупцом, вообразил себе эту любовь. Эдвард пренебрегал ею, а я воспользовался ее несчастьем. – Он отпустил Джейн и заглянул ей в лицо. И что же? Оказалось, что ее сильный, величавый отец плакал, он даже как будто стал ниже ростом. – Хотя она не противилась, – продолжил сэр Джон, – вся вина на мне. И никогда мне ее не загладить. Джейн натужно улыбнулась: – Я не сомневаюсь, что Небеса уже простили вас, раз вы так искренне раскаиваетесь. Я прощаю вас от всего сердца и постараюсь обо всем забыть. Сэр Джон шумно втянул в себя воздух: – Я не заслуживаю такого снисхождения, но благодарю тебя, Джейн, от всей души. Леди Марджери сказала, что по твоему настоянию было решено сохранить тайну внутри семьи, и за это я благодарю тебя отдельно. Для меня истинное благословение – иметь такую дочь. Сэр Джон уже совладал с чувствами и протянул Джейн руку. Она замялась. Больше всего ей хотелось, чтобы отец снова стал таким, как прежде. И первым шагом к этому должно стать прощение. Девушка протянула ему ладонь в ответ.
Через неделю пришло письмо от сэра Фрэнсиса Брайана. Сэр Джон вошел на кухню, где Джейн с матерью пекли пироги, и громко объявил: – Джейн, ты отправляешься ко двору. Королева милостиво согласилась принять тебя в качестве фрейлины, и король тоже выразил одобрение. Сердце Джейн заскакало от восторга. – Прекрасная новость! Я и не думала, что это свершится. Она едва могла сосредоточиться на списке вещей, которые понадобятся ей при дворе. Мать радостно засуетилась, и это отвлекло ее от тяжелого уныния. – Тут говорится, что ты можешь носить только черное или белое. Ничего цветного. Надо будет послать за торговцем тканями в Мальборо, пусть приезжает, да побыстрее, ведь вам нужно быть в Гринвиче к концу месяца. Почему ты не можете носить свои лучшие платья, этого мне не понять! Эдвард стоял за спиной отца и слушал разговор или, скорее, монолог леди Сеймур. – Только королева и ее придворные дамы носят цветные платья, матушка. А все фрейлины одеты в черное и белое. – Почему? – спросила Джейн. – Чтобы вы не затмевали ее. Большинство фрейлин – молодые прекрасные девушки, а королева, честно говоря, не красавица. Но она очень величественная и одевается роскошно. – А какая она, королева Екатерина? – сыпала вопросами Джейн. – Мне не довелось говорить с ней, но я видел ее не раз. Она всегда мила и улыбчива, хотя ей приходится нести тяжелый крест. – Да, у нее нет сына, – заметил сэр Джон, садясь в кресло у очага, – и она уже не женщина в этом смысле. Эдвард ничего не ответил. Он не хотел говорить с отцом. Атмосфера в доме оставалась напряженной, и Джейн чувствовала себя виноватой за чувство облегчения, которое испытывала при мысли о грядущем отъезде и о том, что оставит родных разбираться со всеми проблемами без ее участия. – А королева красивая? – встряла в разговор восьмилетняя Дороти. – В молодости была, – ответил отец. – Увы, теперь она уже немолода. Она старше короля. – Я хочу поехать ко двору, – продолжала болтать Дороти. – Хочу надеть красивое платье, танцевать, петь и увидеть короля. – Всему свое время, – сказал отец. – Мало мне одной дочери, которую нужно собрать ко двору, – вздохнула мать. – Джейн, поднимемся наверх и разберем вещи в твоем сундуке. Посмотрим, что из этого можно использовать. Тебе понадобятся новые капоры. Нельзя же при дворе ходить простоволосой. И ты можешь взять мой жемчуг… – Я отвезу тебя, Джейн, – перебил ее Эдвард, – а потом отправлюсь на север, в замок шерифа Хаттона. Скоро я должен вернуться туда. – Последние слова он произнес с нескрываемым облегчением.
После ужина Джейн и Эдвард прогуливались по саду Вулфхолла. – Какая радость находиться за пределами этого дома, – сказал он; лицо его выглядело усталым, глаза запали. – Скорей бы уж нам уехать. – Ты не будешь скучать по детям? – спросила Джейн. – Им будет хорошо с матерью. – Но ты нужен им сейчас. – Джейн, не вмешивайся! – вспылил Эдвард. – Если я вмешиваюсь, то потому, что забочусь о них, – возразила она, уязвленная. – Они только что остались без матери. – И это моя вина? Не я девять лет скакал по чужим постелям, совершая инцест. – Она скакала? – медленно проговорила Джейн. – Или боялась отказать отцу? Кэтрин никогда не была здесь счастлива, верно? Влюбленная женщина, которая согласна на эту любовь, должна выглядеть счастливой. По-моему, вся любовь была со стороны отца. – Похоть, ты имеешь в виду! – прорычал Эдвард. – В течение девяти лет? Говорят, похоть удовлетворяется быстро. Нет, Эдвард, я уверена, против Кэтрин тут согрешили больше, чем согрешила она сама. – А ты не забыла, как она вела себя в самом начале! – с горечью воскликнул Эдвард. – Почище Евы. Она обворожила меня. И вовсе не была невинной овечкой; она знала, к чему готовится. Ты огорчаешь меня тем, что берешь ее сторону. – Нет, Эдвард! – крикнула Джейн, понимая, что ей не стоит сейчас злить брата или враждовать с ним. Да, временами он превращался в холодного моралиста, но все равно оставался ее братом и со следующей недели будет ее единственной связью с домом. Джейн коснулась его руки. – Мне очень жаль вас обоих, но, какова бы ни была роль во всем этом Кэтрин, она сполна заплатила за грех разлукой с детьми, и для нее это наверняка катастрофа. Эдвард опустил плечи: – У тебя слишком мягкое сердце, Джейн. Кэтрин сама виновата, она потеряла право общаться с детьми из-за своего поведения. Я не могу допустить, чтобы они заразились ее порочностью. Она не подходит для того, чтобы растить и направлять их. И тебе стоит подумать обо мне. Я женат, и у меня нет жены. Я не могу снова вступить в брак, если Кэтрин не примет обет или я сам не обращусь за разводом, но это будет непомерно дорого. Потребуется акт парламента. Так что придется мне жить в одиночестве. «Или не в полном одиночестве», – подумала про себя Джейн, но посчитала за лучшее придержать язык. – Мне действительно очень жаль тебя, – сказала она и взяла брата под руку. Они молча пошли дальше. – А каков из себя король? – спросила Джейн, чтобы сменить тему разговора. – Очень красив, по крайней мере так говорят дамы, – ответил Эдвард. – Он высок и величествен, как подобает могущественному правителю, и держится с большим достоинством. Не прочь перекинуться шуткой со слугами, я даже видел, как он играл в кости с хранителем винных погребов. Как-то на приеме один посол сильно нервничал, король положил руку ему на плечо и говорил с ним, как со старым знакомым, чтобы тот расслабился. – Это вдохновляет. Джейн, пожалуй, боялась встречи с королем. – Он не кусается. – Эдвард через силу улыбнулся. – Тебе нечего бояться.
Наконец все было готово. Сказав прощальные слова, Джейн крепко обняла мать. Отец поцеловал ее, благословил и дал кошелек с монетами. Мать старалась сохранять бодрый вид, улыбалась и просила дочь писать почаще. Вокруг столпились братья и младшие сестры с детьми, чтобы сказать «до свидания». Обнимая Марджери, Джейн сказала: – Я не забыла о своем обещании. Она забралась в носилки и устроилась рядом с сундуком, где были аккуратно сложены ее новые платья, поверх которых лежали завернутые в старый шелк капоры. В сундуке поменьше уместились нательное белье, меха, зимняя накидка и небольшая шкатулка с драгоценностями: материнский жемчуг, который перешел ей по наследству от бабки Уэнтворт, три кольца, маленькая подвеска с бриллиантом и эмалевая брошь в форме ромба с изображением Пяти ран Христовых. Под боком у Джейн пристроилась корзина с едой в дорогу. Эдвард вскочил на коня, два грума замкнули шествие, и кавалькада, сопровождавшая носилки, медленно покинула Большой двор, пересекла Малый, проехала через гейтхаус и направилась в сторону Мальборо, Ньюбери и Мейденхеда, где путники пересядут на лодку, идущую в Гринвич. Джейн приказала себе не оглядываться.
Часть вторая. Арена гордыни и зависти
Глава 5
1527 годСмотритель гостевого дома в монастыре Харли тепло встретил путников и позвонил в висевший у входа церковный колокольчик, какой обычно используют на мессах. После чего, лучась улыбкой, сказал: – Отец приор любит сразу узнавать о прибытии важных гостей. Распорядитель дома для гостей был круглым, розовощеким парнем, этакий монах-весельчак, вылитый брат Тук[50], как представляла его себе Джейн, – подходящий человек для такой службы. Он провел приезжих в назначенные им покои. Комнаты были маленькие и скромно обставленные, но безупречно чистые. Тем временем грум принес багаж. Они переночуют здесь всего одну ночь. Завтра Эдвард и Джейн сядут на корабль в Мейденхеде, а слуги вернутся домой с носилками и лошадьми. Приор Томас оказался таким же живым и веселым, как и смотритель монастырского постоялого двора. Однако Джейн подозревала, что под его внешним очарованием таилась суровость. За обедом, которым их как гостей кормили в приемном зале дома настоятеля, хозяин слегка разгорячился, заговорив о кардинале Уолси: – Негоже служителю Церкви владеть такими богатствами. Он архиепископ Йоркский, но ни разу там не появился. Эдвард положил себе и Джейн еще ростбифа, они ели с одной пропитанной мясным соком хлебной доски. – Люди говорят, Англией управляет он, а не король. Не уверен, что это абсолютно верно. Я видел их вместе. Они большие друзья, и создается впечатление, что кардинал почти как отец для его милости. Несомненно, он очень способный человек, но у него слишком много власти, и есть масса недовольных этим. Наш Господь, которому он служит, был бедным плотником. Он не владел ни великолепными дворцами, ни другими богатствами. Я видел дворцы Хэмптон-Корт и Йорк. Духовному лицу не приличествует такая роскошь. Джейн нравилась искренность этого человека. Девушка сравнивала комфорт, которым наслаждалась приоресса Флоранс в Эймсбери, со старой мебелью в столовой приора Томаса, его залатанным нарамником и простым деревянным крестом – единственным украшением стен, и размышляла: если бы приоресса была такой же святой женщиной, как этот добрый пастырь, осталась бы она в Эймсбери или нет? Джейн подозревала, что, решись она на такой шаг, светский мир продолжал бы настойчиво манить ее к себе. Девушка подумала о бедняжке Кэтрин: каково ей там сейчас? За всю поездку Эдвард ни разу не упомянул о жене. – Уолси не единственный прелат, который копит богатства и стремится к мирскому успеху, – говорил тем временем брат Джейн. – Церковь нередко открывает путь к власти, – заметил приор Томас, – так было всегда. Разложение в Церкви велико, и если уж папы в Риме подают дурной пример, кто станет ограничивать в излишествах такого человека, как Уолси? – Папы подают дурной пример? – изумилась Джейн. Всю жизнь ее учили почитать Святого Отца в Риме, который был наместником христиан на земле, источником всей духовной мудрости и власти. – Боюсь, что да, – ответил приор. – Вы наверняка слышали о невоздержанности Борджиа? Наш нынешний папа Климент и предыдущий Юлий – оба имели незаконнорожденных детей и… Ну, об остальном я не стану упоминать в вашем присутствии, госпожа Сеймур. Однако папам властью христиан дано право выносить суждения о делах морали. Если сами они нечисты, на что надеяться нам, грешным? – Отец настоятель, когда мы имеем перед глазами примеры таких добрых людей, как вы, истинно следующих за Христом и соблюдающих Его закон, у нас есть надежда. – Джейн улыбнулась. – Я невежественная женщина. Ничего не знаю про Борджиа и не думаю, что хочу знать, но я уверена, есть много людей вроде меня, которые стараются блюсти нашу веру скромно и покорно. Скандалы, куда вовлечены немногие, широко обсуждаются, но почему никто не говорит о благочестии большинства? Приор Томас ответил на ее улыбку: – Мое дорогое дитя, может статься, что простая девушка вроде вас обладает большей мудростью, чем такой старый, лишенный иллюзий человек, как я. Молюсь, чтобы жизнь при дворе не изменила вас. Там нельзя давать слабину. Берегите свою невинность. По крайней мере, вы будете служить нашей самой добродетельной королеве. Она зерцало благочестия и очень милосердная леди. – Воистину, – поддержал приора Эдвард. – Ее очень любят. Жаль, что у нее нет сына. – Это большая трагедия. – Настоятель встал, взял с подоконника миску с фруктами и поставил перед гостями. – Принцесса Мария – единственная наследница короля. До сих пор Англией ни разу не управляла женщина, и любой из потомков старого королевского дома Йорков может оспорить ее право на престол. Мы можем стать свидетелями повторения гражданской войны, которую я видел в юности, когда Ланкастеры и Йорки боролись за корону. – Не дай Господи! – выдохнула Джейн. Откушенное яблоко вдруг показалось ей кислым. – Я служу герцогу Ричмонду, – сказал Эдвард. – При дворе поговаривают, что король хочет вынудить парламент признать мальчика своим законным сыном и объявить его преемником. Приор нахмурился: – Но примут ли англичане бастарда в качестве короля? Это большой вопрос. – Некоторые полагают, народ так любит короля, что предпочтет его побочного сына любому отпрыску Белой розы Йорков. Но есть и изменники, которые называют Тюдоров узурпаторами и жаждут возвращения на трон старого королевского рода. Кто знает, что может случиться? – Должно быть, это сильно беспокоит короля, – со вздохом произнес приор. – Есть мнение, что ему надо выдать принцессу замуж за одного из Йорков и надеяться на обретение внука, – поделился соображением Эдвард. – Мудрая идея! – Глаза приора засверкали. – Вам бы быть советником его милости, а не Уолси. Разговор сосредоточился на короле. – Джейн хочет знать о нем все, – сказал Эдвард. – Я старался подготовить ее к новому месту. – Наш повелитель очень набожный человек, верный друг Церкви, – сообщил гостье хозяин. – Лет шесть назад он написал трактат против ереси Мартина Лютера, и за это папа даровал ему титул «Защитник Веры». Я слышал, он усердно соблюдает церковные обряды, в знак смирения каждую Страстную пятницу ползет к Кресту на коленях. – Его милость весьма учен в теологии, – добавил Эдвард. – Он читает святых Фому Аквинского и Августина. Джентльмены из его личных покоев говорят: ничто не доставляет ему большего удовольствия, чем добрый спор о вопросах веры. – Похоже, он образец во всех отношениях, – заметилаДжейн. – Иметь такого короля – истинное благословение, – заявил приор Томас. – И ты очень скоро познакомишься с ним, – улыбнулся Эдвард.
Было восхитительно оказаться впервые на реке. Джейн еще никогда не плавала на барках, и ей очень понравились мягкое скольжение по упругим волнам и плеск весел за бортом. Лодка шла быстро. Какой восторг! Лондон предстал перед глазами Джейн не менее прекрасным, чем она воображала: в небе рисовались силуэты сотни шпилей, а вдоль берегов Темзы выстроились в ряд прекрасные здания. Барка спускалась вниз по течению. По мере движения Эдвард показал сестре Хэмптон-Корт – огромный дворец, выстроенный кардиналом Уолси; дворец Ричмонд с остроконечными башенками и куполами, упоминание о которых было бы уместным в какой-нибудь легенде; а потом, когда они проплывали мимо Вестминстера, Джейн увидела огромный главный собор аббатства; затем показался и сам город. Лондонский мост скрипел под грузом лавок и часовен, и надо всем этим возвышался собор Святого Павла. Чуть дальше на берегу Темзы разлегся, как лев, дворец Гринвич из красного кирпича. Он был огромным, с гигантскими эркерами, глядящими на воду, и мощной башней. Его окружали прекрасные сады с фонтанами, лужайками, цветами и плодовыми деревьями. Количество всего этого заставило Джейн разинуть рот. Она-то считала Вулфхолл большим! Как же ей не заблудиться здесь? – Сэр Фрэнсис Брайан должен ждать нас, – сказал Эдвард, когда барка стала приближаться к берегу. – Будь осмотрительна. Он сделал тебе большое одолжение и может ожидать чего-нибудь взамен. – Ничего подобного! – Джейн почувствовала, как ее лицо заливает жаром. – Отец заплатил ему за это одолжение. – Будь настороже, вот и все. Ему не напрасно дали прозвище Викарий Ада. Он печально известен порочностью и склонен к свободному обхождению с женщинами. Но его никто не может тронуть, ведь он близкий друг короля и джентльмен из личных королевских покоев. Его мать – Маргарет, леди Брайан, тоже пользуется уважением, она была воспитательницей принцессы Марии. О, и вот еще что. Он носит повязку на одном глазу, которого лишился во время прошлогоднего турнира. – Какой ужас! – воскликнула Джейн. В животе у нее заурчало, как бурлила вода под днищем лодки. Девушка встала, опираясь на скамью впереди, встряхнула юбки нового черного платья и белого киртла, поправила на голове сшитый матерью капор в форме фронтона и подцепила на руку шлейф. Она поднялась по каменным ступеням на пристань, закинув за плечо край черной вуали. Наверху их встретили вопросами королевские стражники в роскошной красной форме. Эдвард объяснил, что Джейн приехала на службу к королеве и сэр Фрэнсис Брайан ожидает их. К сэру Фрэнсису тут же был отправлен грум с известием о прибытии гостей, а самих визитеров проводили в башню и ввели в покои такой немыслимой красоты, что Джейн подумала: может быть, она умерла и вознеслась на небеса? Все здесь было покрыто позолотой или расписано яркими красками. Герб на центральном стекле эркера сверкал в лучах солнца; на стенах висели огромные гобелены, а на фризах под потолком резвились голые лепные херувимы. Пол был устлан коврами – мать хватил бы удар, если бы она увидела, что их топчут ногами; имевшимися в доме леди Сеймур двумя турецкими накрывали столы, и горе грозило тому, кто их испачкает. Джейн пришлось подобрать для сохранности шлейф платья: они свернули направо в длинную галерею, увешанную портретами и картами, и стали петлять между столпившимися здесь в ожидании королевы придворными. В дальнем конце галереи стоял высокий темноволосый мужчина. Один его глаз скрывала повязка. Незнакомец был одет в модную короткую накидку из тонкого серого дамаста поверх дублета и баз[51]. Когда они подошли, он вежливо поклонился и, сверкая волчьей улыбкой, произнес: – Госпожа Джейн. Девушка испуганно сделала реверанс, держась на расстоянии от галантного придворного и с ужасом сознавая, что квадратный вырез ее нового платья открывает грудь гораздо сильнее, чем ей хотелось бы. – Добро пожаловать ко двору, – лучился радушием сэр Фрэнсис, обшаривая Джейн взглядом с головы до ног. – Ваш вид совершенно приличествует моменту. Надеюсь, батюшка в добром здравии? – Да, сэр, спасибо, – ответила Джейн. – Мы все очень благодарны вам за то, что вы нашли мне место. – Для меня это было удовольствием, – заверил ее он. – Пойдемте. Королева ждет нас. Тут Джейн по-настоящему занервничала. Как встретят при этом великолепном дворе деревенскую девушку? Удастся ли ей не попасть впросак? Она не могла поверить, что сейчас встретится с королевой Англии, которая отныне будет ее госпожой. Может быть, она даже короля увидит сегодня! От этой мысли Джейн затрепетала. Ей захотелось развернуться и убежать обратно на барку. Она не знала, как справиться с собой. Сэр Фрэнсис провел их в апартаменты королевы через две великолепные комнаты, по пути с совершенным изяществом и очарованием рассказывая о выставленных здесь драгоценных вещах и картинах. За время краткого знакомства с этим человеком Джейн успела оценить его познания в области искусства и стала бояться, не будет ли она слишком уступать в образованности окружающим, если при дворе все окажутся столь же эрудированными. Прислушиваясь к разговору Эдварда с сэром Фрэнсисом, она поняла, что даже не подозревала, какой ученый у нее брат. И от этого еще сильнее почувствовала себя не в своей тарелке. Приемный зал королевы был пустым, если не считать стражи у дверей. В одном его конце под балдахином, расшитым королевскими гербами Англии и Испании, стояло крестообразное кресло с алой бархатной обивкой; в другом находилась дверь, у которой посетители ждали, когда распорядитель объявит об их прибытии. – Ее милость в своих личных покоях, за этим залом, – объяснил сэр Фрэнсис Джейн. – Туда могут входить только самые привилегированные люди, и теперь вы в их числе. – Он снова одарил спутницу волчьей улыбкой, но в ней ощущалась теплота. – Не робейте, госпожа. Королева – добрая леди. Джейн начала понимать, почему он нравится женщинам. – Здесь я оставлю тебя, сестрица, – сказал Эдвард, поцеловал ее и отступил назад. – Удачи! Джейн вдруг объял страх, она чуть не бросилась вслед за братом, но сделала глубокий вдох и напомнила себе, что он будет рядом. Они последовали за распорядителем в большую комнату, обставленную так же роскошно, как и остальные. Джейн огляделась. В дальнем конце на высоком помосте в просторном кресле сидела королева. Лиловая дамастовая юбка платья была широко разложена вокруг ее ног. На голове у повелительницы англичан красовался капор в виде фронтона, украшенный золотой тесьмой; на пышной груди поблескивала подвеска из трех каплевидных жемчужин. Великолепно одетые придворные дамы и фрейлины в черных и белых платьях устроились рядом с госпожой на стульях или на полу, подогнув под себя ноги. Все они оторвались от шитья и посмотрели на Джейн, опустившуюся в глубоком, трепетном реверансе. – Добро пожаловать, госпожа Джейн, – приветствовала ее королева. Говорила она с сильным акцентом, который выдавал ее испанское происхождение. Джейн поднялась и увидела, что госпожа с улыбкой протягивает ей пухлую руку со сверкающими кольцами. – Поцелуйте ее, – шепнул сэр Фрэнсис. Джейн вышла вперед, опустилась на колени и сделала то, что ей велели, думая про себя: какой же старой и печальной выглядит королева. К тому же она была полной, чего Джейн совсем не ожидала, и подбородок у нее сильно выдавался вперед. Тем не менее в ее улыбке читалась приятная мягкость, глаза излучали доброту, а манеры были неторопливые: она обращалась к новой фрейлине спокойно и ласково, так что у Джейн сразу стало легко на душе. – Сэр Фрэнсис, я весьма признательна вам за то, что вы порекомендовали мне госпожу Джейн, – сказала королева. – Ей улыбнулась удача, она будет служить вашей милости, – отозвался он. – Это большая честь для меня, ваша милость, – тихо проговорила Джейн, замечая на себе любопытные взгляды женщин, которые отныне будут ее компаньонками. – Госпожа Элизабет, прошу вас, отведите Джейн в спальню девушек и позаботьтесь о ней, – распорядилась королева. Одна из придворных дам встала. Это была молодая женщина с темными волосами, румяным овальным лицом и голубыми глазами. – Пойдемте со мной, – сказала она. Оставив сэра Фрэнсиса беседовать с королевой, Джейн сделала реверанс и пошла вслед за провожатой по винтовой лестнице, которая вела на верхний этаж, в просторную палату с люкарнами[52] по обеим сторонам. Вдоль стен тянулись длинные ряды соломенных тюфяков, рядом с каждым стоял сундук, а над ним имелись крючки для одежды. В комнате пахло по́том, духами, обувью и – слабо – лоскутками с месячными кровями. Джейн это не беспокоило. Она привыкла делить комнату с Марджери. – Я Элизабет Чеймберс, главная фрейлина, – представилась молодая женщина. – Все зовут меня Бесс. Я отвечаю за всех фрейлин королевы, их обустройство и благополучие. Если у вас возникнут какие-нибудь проблемы, приходите ко мне. – Она улыбнулась. – Я вижу на вас платье положенных цветов. Джейн испытала облегчение от ее дружелюбия: – Мать сделала для меня еще два – одно белое, другое черное. – (Тем временем двое мужчин в зелено-белых ливреях принесли ее багаж.) – Я покажу вам. – Не нужно, – сказала Бесс Чеймберс. – У вас есть немного времени, чтобы разложить свои вещи. Король обычно слушает вечерню вместе с королевой, так что вам нужно быть внизу в шесть часов, чтобы сопровождать ее. После этого в личных покоях королевы будет подан ужин. Если король не остается, то главные придворные дамы двора королевы присоединяются к ней за столом. Мы, девушки, едим вместе с хранителями покоев и другими служащими двора ее милости в караульном зале[53]. После ужина мы обычно немного отдыхаем, а потом помогаем королеве при отходе ко сну. Вы будете по очереди с другими фрейлинами проводить ночь на соломенном тюфяке в спальне королевы на случай, если ей что-нибудь понадобится. Это ясно? – Да, госпожа Бесс, – ответила Джейн. – Утром вы будете вставать в шесть часов, чтобы быть готовой помогать королеве одеться, когда она проснется. Вы будете с ней и со всем двором слушать мессу, после чего подается завтрак, который мы едим вместе с королевой в ее личных покоях. В течение дня мы прислуживаем ее милости по мере необходимости и в зависимости от того, чем она занята. Часто мы все занимаемся вышиванием или шьем одежду для бедняков. Все это звучало очень определенно и радовало. – Я люблю вышивать, – призналась Джейн. – Ее милости это будет приятно. – Бесс немного помолчала. – Госпожа Джейн, простите меня, но я обязана говорить каждой вновь поступающей на службу к королеве девушке, что добродетельное и пристойное поведение требуется от нее постоянно. Первенство всегда следует отдавать главным придворным дамам, так как они являются женами знатнейших пэров королевства. И когда появляется король, а он может прийти без предупреждения, вы должны сделать глубокий реверанс и оставаться в нем, пока вам не разрешат подняться. Не заговаривайте с ним, если он сам не обратится к вам. – Да, госпожа, – сказала Джейн, надеясь ничего не забыть. – Сколько вам лет, Джейн? – спросила Бесс Чеймберс. – Девятнадцать. – А мне двадцать два. Я верно служу ее милости с тринадцати лет, вот почему сейчас занимаю это место. Вы узнаете ее как добрую и любящую госпожу. Мы все с радостью выполняем ее просьбы не столько по обязанности, сколько из любви к ней. Король тоже весьма милостив. Он дружелюбен со всеми нами. О, это напомнило мне одну вещь: юных джентльменов всегда привечают в апартаментах королевы. Ей нравится, когда они приходят, и она не пресекает их попыток оказывать знаки внимания нам, молодым дамам, если считает этих молодых людей подходящей для нас компанией. Но если кто-нибудь сделает вам предложение о браке или предложит что-то менее почетное, вы должны немедленно сообщить королеве, потому что она для нас in loco parentis[54] и любой скандал плохо скажется на ней. – Разумеется, – согласилась Джейн. – Теперь я вас оставлю, – сказала Бесс. – Увидимся внизу около шести часов.
Стараясь унять сердцебиение, Джейн вместе с двадцатью девятью другими фрейлинами стояла в отделанном дубовыми панелями кабинете королевы, который использовался как часовня. Она оглядывала своих компаньонок – девушек и молодых женщин, которые отныне станут частью ее повседневной жизни. Некоторые из них окидывали оценивающими взглядами новую фрейлину, некоторые улыбались ей, другие, казалось, не замечали ее присутствия. Джейн надеялась подружиться со всеми. Алтарь был накрыт дорогим покрывалом и украшен завесой из золотой парчи, распятие инкрустировано драгоценными камнями. Место впереди фрейлин заняли придворные дамы. Королева сидела на меньшем из двух обращенных к алтарю кресел, ноги ее покоились на бархатной подушке, лежавшей на полу; голову она склонила над молитвенником. Послышался звук приближающихся шагов. Кто-то прокричал: – Дорогу его милости королю! И появился он – человек, который правил Англией, сколько Джейн себя помнила, король Генрих собственной персоной, восьмой по счету из носивших это имя правителей страны. Таким она и ожидала его увидеть: высокий, статный, уверенный в себе, розовощекий, чисто выбритый, с волосами цвета красного золота, на широких плечах дорогая дамастовая мантия. У него был римский нос с горбинкой и пронзительные голубые глаза. Король влетел в часовню, прошел мимо ряда присевших в реверансе дам; за ним следовали джентльмены из его свиты и йомены личной королевской стражи. Монарх поднял королеву из реверанса и поцеловал ей руку. Затем оба они опустились на колени, и капеллан королевы начал литургию. Джейн вместе со всеми преклонила колени, не в силах поверить, что в нескольких шагах от нее молится сам король Англии. После службы Генрих проводил королеву в ее покои, дамы парами следовали за ними. Джейн оказалась рядом с милой голубоглазой молодой женщиной, у которой из-под капора выбивались темные кудри. Она улыбнулась напарнице и шепнула: – Я Марджери Хорсман. – Джейн Сеймур. – Может быть, король задержится ненадолго, – пробормотала Марджери. – Тогда вас ему представят. Тут сердце у Джейн забилось по-настоящему быстро.
– Госпожа Джейн Сеймур, – произнес король Генрих, когда она поднялась из реверанса. Он посмотрел на нее с высоты своего немалого роста, в его стальных голубых глазах читалось одобрение. – Не сомневаюсь, что вы будете хорошо служить ее милости королеве и славно проведете время при дворе. – Я буду стараться, как только могу, – заверила его Джейн. Король благосклонно кивнул и принял кубок с вином, поднесенный одной из придворных дам. Вскоре его окружили восхищенные женщины, они болтали и перешучивались, а королева, глядя на это, улыбалась со своего кресла. Джейн робко стояла рядом с Марджери Хорсман и ждала, пока с ней заговорят. Но король не задержался в покоях супруги. Поставив недопитый кубок, он попрощался, поцеловал руку королевы и ушел. Женщины обменялись взглядами, королева выглядела расстроенной. – Она снова отсутствует, – услышала Джейн шепот одной из дам. – Какое неуважение! – прошипела вторая. Джейн была поражена: неужели кто-то осмеливается проявлять неуважение к королеве! И подумала: кого же это нет? Пока они все слушали вечерню, стол в личных покоях был накрыт на четыре персоны и ослепительно сверкал золотом и серебром. Слуги стояли наготове с салфетками и кувшинами с водой. Когда королева села за стол с тремя придворными дамами, остальные, сделав реверанс, покинули комнату и торопливо направились через приемный зал в караульный, где их ждали служители двора королевы. Они стояли у своих мест за главным столом и с торцов двух дополнительных, приставленных под прямыми углами к первому. Те придворные дамы, которым не посчастливилось быть приглашенными отужинать с ее милостью, сели рядом с ожидавшими их прибытия офицерами двора в порядке старшинства, затем, ближе к дальнему концу, разместились фрейлины и горничные. Марджери Хорсман объяснила Джейн, что грумы, распорядители и пажи всегда едят в большом зале вместе со слугами более низкого ранга. После тихой жизни в Вулфхолле придворный обиход ошеломлял Джейн, и она мысленно молилась о том, чтобы здесь о ней не сложилось дурного мнения. Вдруг она вспомнила, как Томас однажды довольно грубо заметил, что строгое выражение ее лица отталкивает людей, но в доме Сеймуров дочерям прививали девичью стыдливость, учили не поднимать глаз и вести себя скромно. Джейн наблюдала за другими девушками, они вроде бы и соблюдали приличия, но при этом оживленно беседовали, много смеялись, и она тоже осмелилась улыбнуться. Джейн сидела рядом с двумя сестрами-близняшками, которые представились на английском с сильным акцентом как Исабель и Бланш де Варгас. Обе они имели кожу с оливковым оттенком и были намного старше Джейн, но проявляли доброжелательность. – Мы приехали из Испании вместе с ее высочеством двадцать пять лет назад, – объяснила Бланш, – и с тех пор всегда при ней. – Она, должно быть, добрая госпожа, если ей так верно служат, – заметила Джейн. – Лучшей хозяйки и желать нельзя, – сказала Исабель. – А вы, госпожа Джейн? Где ваш дом? – спросила Бланш, когда на столе появились деревянные блюда с крольчатиной и какой-то жареной рыбой. Все принялись за еду. Кушанья были хорошо приготовлены и обильны, но с домашней едой их было не сравнить. При мысли о том, как родные ужинают без нее в Широком зале, с аппетитом уплетая вкуснейшие блюда, Джейн вдруг задохнулась: всепоглощающей волной ее захлестнула тоска по Вулфхоллу. – В Уилтшире, – ответила она, не отваживаясь сказать больше, чтобы не разрыдаться. Очень симпатичная девушка, сидевшая напротив, наклонилась вперед и спросила: – А ваш отец? Он кто? Джейн сглотнула. – Сэр Джон Сеймур, – ответила она, пытаясь вызвать в себе аппетит к пище, которую положила на свою деревянную доску, но почти не ела. – Он служит при дворе? – Служил, – ответила Джейн, – и еще был с королем во время Французской кампании, но сейчас он шериф и мировой судья в Уилтшире. Мой брат Эдвард – главный конюший у герцога Ричмонда. Симпатичная девушка выглядела заинтересованной. – Джоан Чепернаун к вашим услугам, госпожа Джейн, – сказала она, протягивая руку через стол. – А это Дороти Бэдби. – Она повернулась к своей соседке, похожей на куклу. Та тоже пожала руку новой компаньонке и улыбнулась. – У меня есть сестра, которую зовут Дороти, – сказала ей Джейн. Она старалась не вспоминать о доме, обмениваясь с девушками историями о своем происхождении. Как и Джейн, большинство происходили из рыцарского сословия, за исключением близняшек Варгас, отец которых был каким-то служителем высокого ранга при испанском дворе. – Бесс Чеймберс, кажется, добрая леди, – осмелилась заметить Джейн. – Да, она хорошая, – согласилась Джоан. – Все ее любят. Она справедлива, и к ней всегда можно обратиться за помощью. Джейн обратила внимание на одну довольно громко смеявшуюся даму за противоположным столом. – Госпожа Нан Стэнхоуп, – мрачно проговорила Джоан, видя, что Джейн смотрит в ту сторону, откуда доносились взрывы хриплого хохота. Сестры Варгас покачивали головами. – Ее гордость и высокомерие нестерпимы! – разгорячилась Бланш. – Она просто невозможна, – буркнула Исабель. Нан Стэнхоуп была на несколько лет старше Джейн, имела желтовато-коричневые волосы, решительный острый подбородок, красные, как вишня, губы и широко поставленные глаза. Она была по-своему привлекательна, но выдающейся красавицей ее не назовешь. Девушка смеялась, разговаривая с сидевшим рядом молодым человеком, но, заметив на себе взгляд Джейн, сердито сверкнула глазами. – Она не особенно популярна, – сказала Джоан. – Лучше ее не злить. У нее ужасный характер. – Кажется, ей нравится быть в центре внимания, – заметила Джейн. – И не только ей, – пробормотала Бланш. – Ш-ш-ш! – шикнула Джоан. – Не здесь! Джейн откусила кусочек от кроличьей лапки. Она была заинтригована. – Вы говорите о той женщине, которая не появилась на службе? – тихо спросила она. – Я слышала, как дамы шептались об этом, когда мы выходили из личных покоев. Бланш де Варгас заговорила ей на ухо: – Они говорили о фрейлине, которая сегодня отсутствует. О госпоже Анне Болейн. Джоан мрачно поджала губы: – Вы скоро с ней познакомитесь, Джейн.
Джейн стояла и следила за тем, как дамы и девушки снуют вокруг королевы: распускают шнуровку, расстегивают крючки, слой за слоем снимая с госпожи одежду, затем облачают ее в ночную сорочку из тончайшего шелка, расшитую по вороту и манжетам черной нитью. Когда поверх сорочки было надето дамастовое ночное платье, застегнутое под самое горло, Бесс Чеймберс велела Джейн расчесать королеве волосы. Выпущенные из-под капора, они оказались очень длинными и имели цвет потускневшей меди. Осторожно распутывая волнистые пряди, Джейн заметила в них седину. Королева улыбнулась ей: – У вас нежные руки, госпожа Джейн. Завтра вы тоже расчешете меня. На лице Нан Стэнхоуп промелькнуло недовольное выражение, остальные девушки едва сумели подавить довольные улыбки. Сердце у Джейн упало. Она не хотела с первого дня наживать себе врагов. Когда около полуночи новая фрейлина королевы поднялась по лестнице в спальню, то была сильно утомлена и думала: неужели они с Эдвардом еще этим утром были в Мейденхеде? К своему неудовольствию, она обнаружила, что от постели Нан Стэнхоуп ее отделяют всего два соломенных тюфяка. – Между вами спит Фридесвида Найт, – сказала за спиной Джейн Марджери. – Она горничная и прислужница Нан, всегда у нее на побегушках. Помочь вам расшнуровать платье, Джейн? – Спасибо, вы так добры. Пока Джейн раздевалась, на нее накинулась Нан: – Кем вы себя возомнили, маленькая мышка, что смотрели на меня свысока за ужином, а потом еще посягнули на мою обязанность при королеве? – Я не хотела никого обидеть, – защищалась Джейн. – Это я попросила ее расчесать волосы королеве, – тихо произнесла Бесс Чеймберс. – Вам должно быть известно, что эта привилегия зарезервирована для тех, кто уже давно на службе! – выпалила Нан Стэнхоуп. – Я служу королеве шестнадцать лет! И не позволю, чтобы меня лишали положенного мне по праву. – За шестнадцать лет вам следовало бы выучить, что вы исполняете то, что поручает вам главная фрейлина, – возразила Бесс. – Я хотела дать госпоже Джейн шанс показать нам свои способности, и если королева захочет, чтобы она расчесывала ей волосы завтра, и послезавтра, и послепослезавтра, полагаю, вам нужно пожаловаться самой ее милости. Глаза Нан вспыхнули. – Вероятно, именно так я и поступлю. И кроме того, скажу ей, что, прослужив при дворе дольше, чем вы, я имею больше прав быть главной фрейлиной. – Не дай Бог! – фыркнула Дороти. – Посмотрите на себя, сами увидите, почему вместо вас назначили Бесс! – Заткнитесь! – рявкнула Нан. – Госпожа Нан, могу поклясться, вы заносчивее самого Люцифера! – воскликнула Бланш де Варгас. – Тогда вам лучше поостеречься моих вил, – бросила в ответ Нан. – Фридесвида, дайте мне ночную сорочку. – Ложитесь спать, все! – распорядилась Бесс. Джейн помолилась, затушила свечу и легла в полном изнеможении. Похоже, сбежав от домашних проблем, она тут же впуталась в сеть мелких придворных склок. Господи, не допусти, чтобы так было всегда! По крайней мере, большинство девушек проявляли дружелюбие. Ей понравились Марджери, Джоан и Дороти. Бесс Чеймберс была добра, сестры Варгас – как родные. Она задумалась об отсутствовавшей Анне Болейн. Возможности расспросить о ней кого-нибудь пока не представилось. Единственная неприятная нота была сыграна Нан Стэнхоуп. Джейн про себя решила избегать эту даму. «Проблемы найдут тебя, – говорила мать, – если ты сама станешь их искать». При мысли о ней Джейн тихо заплакала и уснула в слезах.
Ее вывел из глубокого сна какой-то шум, когда было еще темно. В полумраке она различила темную фигуру, которая возилась с одеждой, а потом легла на пустую постель рядом с ней. Несомненно, это была эфемерная Анна Болейн. «Интересно, где она пропадала?» – подумала Джейн, но ей так хотелось спать, что долго задерживаться на этой мысли она не стала, просто перевернулась на другой бок и закрыла глаза. Утром девушка проснулась в испуге с мыслью: «Где я?» Увидела Бесс, которая трясла за плечо Анну Болейн, чтобы разбудить. По подушке рассыпалась копна темных волос. Видя, что другие девушки торопливо умываются и одеваются, Джейн с трудом выбралась из постели и прошлепала по голым доскам пола к столу, где стояли тазы с водой. – Доброе утро, – сказала Бесс. – Доброе утро, – эхом подхватили Джоан и Исабель, вытирая лица. К ним присоединилась Анна Болейн – молодая женщина с заспанными глазами и желтоватым худым лицом. Бесс познакомила их. – Госпожа Анна Болейн, это госпожа Джейн Сеймур, новая фрейлина. Она прибыла вчера в ваше отсутствие. – Последние слова сопровождались едва заметной эмфазой. – Доброго дня, Джейн, – сказала Анна и зевнула. – Простите меня, я так устала. Бесс поджала губы, но ничего не сказала. За спиной Анны девушки обменялись многозначительными взглядами. Во время обильного завтрака, состоявшего из мяса, хлеба и эля, Джейн спросила Марджери, где была Анна. – С королем, конечно, – пробормотала та. – Это не секрет. – С королем? – удивленно повторила Джейн. – Ну да. При дворе королевы мы не упоминаем об этом, но при большом дворе все знают, что его милость хочет избавиться от нашей дорогой госпожи и жениться на другой. Говорят, кардинал ездил во Францию, чтобы организовать брак с французской принцессой, но ничего не вышло. Все ждут, пока папа аннулирует брак короля. Если вы спросите меня, я скажу, что госпожа Анна нацелилась на корону. Джейн показалось, что мир перевернулся. – Но как может король думать о том, чтобы оставить королеву? Они так давно женаты, и у них есть дочь, принцесса Мария… – Да, но нет сыновей. Женщина не может управлять! Королю нужен сын, который унаследует трон. – Но вчера вечером они выглядели такими счастливыми вместе. В это невозможно было поверить. – Это его тактика. Он вежлив и обходителен с королевой, чтобы, когда их видят вместе, никто не подумал, будто он замышляет развод. Она его обожает, а потому не подает вида. Я сама, по правде сказать, верю, что и он ее по-своему продолжает любить. Но другую любит больше. – Она бросила взгляд на госпожу Анну и понизила голос. – Вот чем она платит королеве за доброту, снует туда-сюда, как ей вздумается, и изо всех сил старается увести от нее короля. Она была здесь вместе со всеми нами в июне, когда его милость вошел к королеве и объявил, что хочет расстаться с ней. Слышала, как ее милость горько плакала. Была тут, когда мы пытались успокоить госпожу, и знала, что эту боль причинила ей она. Джейн смотрела на Анну и ощущала, как внутри у нее поднимается волна неприязни. Возмутительно, что девушка, принятая на службу, могла нанести такую страшную обиду мягкой и доброй хозяйке.
Вокруг Джейн бурлила придворная жизнь. Устраивались пиры, представления масок, танцы, пантомимы и банкеты. Хотя дамам королевы полагалось вести себя скромно, они не скучали и часто предавались развлечениям. В покоях Екатерины много смеялись. Дни нередко проходили за игрой в карты с королевой или музицированием, в их распоряжении имелись просторные сады для прогулок и уличные забавы: стрельба из лука, игра в шары и наблюдение за теннисными матчами. Король регулярно навещал жену в ее апартаментах, хотя Джейн подозревала, что не так часто, как той хотелось. Девушка со стороны наблюдала за Екатериной и Генрихом, ощущая напряженность отношений между супругами, хотя внешне они были неизменно вежливы и приветливы друг с другом. Их связывала дочь, в которой оба души не чаяли, общим был также интерес к учению и музыке. Время от времени Джейн даже слышала, как они вместе чему-то смеялись. В те первые недели, когда Джейн знакомилась с обычаями двора королевы и привыкала к своим новым обязанностям, ей стало понятно, что все здесь болтают о госпоже Анне и короле; услышала она и другие истории из жизни Анны. Несколько лет назад эта девушка пыталась заключить помолвку с сыном герцога Нортумберленда и была удалена от двора за дерзкую самонадеянность. Еще раньше побывала при дворе во Франции, и о том, чем она там занималась, горячие спорщики высказывали очень разные предположения. Сама Анна проявляла полное безразличие к этим слухам и сохраняла безмятежное спокойствие. Где бы она ни появилась, все внимание было приковано к ней. Джейн удивлялась, как с виду неприметная девушка сумела вызвать к себе такой острый интерес, граничивший с поклонением. Анна не была красавицей: плоскогрудая, с худым лицом и шестым ногтем на одной руке, который она безуспешно пыталась скрыть длинными рукавами. Но в глазах ее сверкали веселые искры, и это облако темных волос, и вкус к моде. Анна приковывала к себе взгляды тщательно продуманными нарядами, и, что бы ни говорили о ней между собой девушки, в ее присутствии они всячески демонстрировали, что наслаждаются ее обществом, и вились вокруг нее, как мотыльки у огня; так же вели себя и юные джентльмены, проводившие вечера в покоях королевы. Анне стоило только сверкнуть глазами в их сторону, и все они, как зачарованные, тянулись к ней, восхищаясь ее умом и талантами. Пела и танцевала она несравненно, а кроме того, искусно играла на лютне и писала стихи. Даже великий кардинал Уолси, шествовавший по двору с многочисленной свитой и прижатым к носу апельсином, сдобренным специями и защищавшим его от смрада простонародья, казалось, скрывался в тени славы, восходящей к вершине новой фаворитки. Однако Екатерина оставалась истинной королевой, примером для подражания. Она была королевой вдвойне, дочь испанских соверенов Фердинанда и Изабеллы, о которых часто говорила с глубоким уважением и любовью. Хорошо образованная и благочестивая, щедрая и милостивая. Она принимала сердечное участие в судьбе Джейн, как и в судьбах всех прочих людей, находившихся у нее на службе, и очень хвалила результаты ее работы иглой. Очень скоро Джейн почувствовала, что королева заботится о ней, как о родной. Екатерина заменила ей мать, которая была так далеко. Прошел всего месяц, а Джейн уже готова была отдать жизнь за королеву. Она старалась иметь как можно меньше общего с Анной, соблюдая необходимую вежливость и не давая поводов к обидам. Ей уже довелось стать свидетельницей того, к каким несчастьям приводят измены: она видела, в какое отчаяние привела неверность мужа ее мать. Было до слез жаль, что у Екатерины нет сына, и Джейн истово молила Бога, чтобы Он даровал королеве такое благословение, пока Марджери Отвелл, одна из горничных, следивших за бельем королевы, не сказала ей, что у Екатерины четыре года как прекратились месячные крови. Значит, отец был прав. Надежды на сына нет. К счастью, большинство фрейлин, даже Нан Стэнхоуп, поддерживали королеву. Три придворные дамы были особенно близки к Екатерине: леди Уиллоуби, вспыльчивая женщина с оливковой кожей, вдова, которая восемнадцатилетней девушкой приехала вместе с будущей королевой из Испании; леди Парр, другая вдова, очень услужливая и обходительная дама; и юная маркиза Эксетер, черноволосая и пылкая, наполовину испанка, истово преданная королеве. Бесс Чеймберс сообщила Джейн, что у Екатерины есть еще одна близкая подруга – Маргарет, герцогиня Солсбери, кузина короля и наставница принцессы Марии. – Но она живет в Ладлоу, где воспитывается принцесса, – пояснила Бесс. Дело было в сентябре, они вдвоем спешили на кухню распорядиться, чтобы их госпоже приготовили салат на ужин. – Разлука с дочерью причиняет королеве большие страдания, как и отсутствие леди Солсбери, но наследников престола принято отправлять на воспитание в Ладлоу. Принцы Уэльские должны научиться там управлению страной. Как только король понял, что у него больше не будет детей, он сделал свою дочь принцессой Уэльской и отправил ее туда. Королева очень скучает по ней, но не противится, понимая, что так нужно. Джейн редко участвовала в доверительных беседах между Екатериной и ее подругами, но позже, на той же неделе, когда она прибиралась в одной из комнат, дверь личных покоев королевы отворилась и появилась леди Эксетер. Джейн услышала, как у нее за спиной Екатерина со страстью в голосе сказала кому-то, находившемуся с ней в комнате: – Я никогда не соглашусь с тем, что мой брак кровосмесительный и незаконный, и не сделаю ничего, что поставит под сомнение права моей дочери! Джейн молчаливо аплодировала смелости королевы. Противостоять королю, перед которым все благоговели, было непросто. Но ее озадачил вопрос: с чего это брак королевы кто-то считает кровосмесительным? Она спросила об этом Марджери, улучив момент, когда они остались одни в спальне Екатерины и отбирали одежду, которая требовала починки. – Ее милость была замужем за старшим братом короля, покойным принцем Артуром, который был бы королем, если бы не умер, – сказала ей Марджери. – Очевидно, замужество с братом покойного супруга не допускается, но, насколько я слышала, это не было настоящее супружество, если вы понимаете, что я имею в виду, поэтому папа позволил ее милости вступить в брак с королем, который тогда был принцем Уэльским. Он дал им особое разрешение на это. – Значит, нельзя заключать брак с братом или сестрой умершего супруга? – Нельзя, если первый брак совершился окончательно. Ее милость настаивает, что этого не было. Его милость, очевидно, уверен в обратном. Вот почему он считает их брачный союз инцестом, противоречащим Писанию и законам Церкви. Но, – Марджери понизила голос, – я знаю, кому верю! Джейн согласилась с ней. Она не могла представить, чтобы их преданная Господу, твердая в принципах госпожа лгала.
Кавалеры не докучали вниманием Джейн, а самой ей не хватало смелости поднять на них глаза, как делали Анна Болейн и Нан Стэнхоуп. Некоторые из ее наперсниц, например Джоан Чепернаун и Бесс Чеймберс, были такими хорошенькими, что им не приходилось ничего делать: мужчины сами толпились вокруг. Среди тех, кто частенько захаживал в покои королевы, был и сэр Фрэнсис Брайан. Джейн провела при дворе около месяца, и ее очень тронуло, когда однажды он на глазах у всех отозвал ее в сторонку и поинтересовался, как у нее идут дела. Она была благодарна ему за проявленный интерес, потому что обычно ей приходилось лишь наблюдать за тем, как другие флиртуют и смеются, а это не слишком приятно. – Постепенно привыкаю, – ответила Джейн, – я люблю королеву, но никогда не думала, что при дворе плетется столько интриг. – Вы шокированы, юная леди? – засмеялся сэр Фрэнсис. «Мало же он меня знает, – подумала она, – или не осведомлен о том, с какими безнравственными людьми я столкнулась еще до приезда сюда», а вслух сказала: – Думаю, меня шокирует человеческая натура, сэр Фрэнсис: некоторые люди с такой легкостью причиняют боль другим. – Джейн бросила взгляд на Анну Болейн, громко смеявшуюся над шуткой своего брата Джорджа, развязного молодого человека, который имел очень высокое мнение о себе и с которым – как, хихикая, говорили фрейлины – ни одна девушка не могла чувствовать себя в безопасности. – Не судите так поспешно о госпоже Анне, – сказал Брайан. – Она необыкновенная женщина, великий мыслитель и политик, многие ее поддерживают. – В том, чтобы увести супруга у своей госпожи? – спросила Джейн. Вокруг них вертелась, сверкая глазами, Бланш де Варгас, пришлось понизить голос. – Вы даже не представляете, какую боль это причиняет… Сэр Фрэнсис нахмурился: – Ш-ш-ш! Не стоит обсуждать это здесь. Пойдемте в личный сад королевы. Джейн с легкой опаской спустилась вслед за свои кавалером по лестнице туррета[55], потом Брайан предложил ей руку, и они стали неспешно прогуливаться по гравийным дорожкам между аккуратными огороженными клумбами, среди которых возвышались полосатые постаменты с ярко раскрашенными скульптурами королевских геральдических животных. Джейн радовалась, что они здесь не одни: в дальнем конце сада, вне пределов слышимости, прогуливались еще две пары. – Вы не можете снисходительно относиться к тому, что делает госпожа Анна, – настойчиво повторила Джейн. – Подумайте, как это печалит королеву. – Никто не восхищается королевой и не почитает ее больше, чем я, – возразил Брайан. – Я ее очень люблю и жалею, да. Трагедия королевы в том, что она не имеет сына, оттого и ее влияние уменьшается. Она ненавидит кардинала, но ей не хватает сил сместить его с поста. Эта сила есть у госпожи Анны, и она намерена добиться устранения Уолси. Сколько Джейн себя помнила, кардинал Уолси был главным министром короля – самим королем, разве что не по титулу, – так говорили многие. Оказавшись при дворе, она своими глазами увидела, какая пышность окружает этого великого мужа и как с ним церемонятся. Король ходил с кардиналом по дворцу, обняв его рукой за плечо, и смотрел на него с сыновней любовью в глазах. Джейн уже знала, что с любой петицией или прошением нужно было сперва обращаться к кардиналу, который, если посчитает это удобным, посоветует королю, стоит ли удовлетворить просителя. Уолси был сказочно богат, он владел огромным дворцом Йорк рядом с Вестминстером и построил Хэмптон-Корт, превосходивший великолепием все резиденции короля, к тому же его дважды едва не избирали папой. – Как же это госпожа Анна надеется сместить кардинала? – изумленно спросила Джейн. – И почему она хочет этого? Если кто-то и может добиться развода для короля, так это Уолси. – Сколько вопросов! – Брайан подмигнул ей своим единственным, злобно-насмешливым глазом и усмехнулся. – Так вот, милая Джейн, вы попали в самую точку. Она может сместить кардинала, потому что сейчас весь разум короля сосредоточен на его гульфике, а когда женщина приводит мужчину в такое состояние, она может делать с ним, что хочет. Джейн засмеялась, чувствуя, что щеки у нее порозовели, и спросила: – Она делит постель с королем? – Кто знает? Он от нее без ума. Но в этом есть нечто гораздо большее, чем постельные утехи, по крайней мере для госпожи Анны. Несколько лет назад кардинал ее смертельно обидел. Она хотела выйти замуж за нынешнего герцога Нортумберленда, однако его преосвященство помешал этому, да еще и оскорбил ее по ходу дела. Теперь она мстит: публично унизила его, когда он вернулся из посольства во Францию. Кардинал не мог получить более явного знака ее растущего могущества. Джейн села на каменную скамью с вырезанными по бокам львами: – Она, наверное, ненавидит его. Брайан опустился рядом с ней, наблюдая за парочкой, которая тайком поцеловалась под тенистым деревом в конце аллеи. – У нее есть на то причина. Она использует Уолси, чтобы получить желаемое, а потом уничтожит кардинала. Он забрал себе слишком много власти, и я, например, только обрадуюсь его падению. Горячность сэра Фрэнсиса испугала Джейн. – Вы тоже ненавидите кардинала? – Как и многие другие. – Лицо его помрачнело. – При дворе есть два центра власти, Джейн. Один – это кардинал, который является лорд-канцлером и занимает Бог весть сколько еще разных должностей. Второй – это король. Джентльмены из его личных покоев пользуются большим влиянием, потому что проводят с ним каждый день и могут наушничать. Их желания не всегда совпадают с намерениями кардинала, и Уолси ревнует к их близости с королем. Я был джентльменом из личных покоев. Меня назначили туда много лет назад вместе с моим зятем сэром Николасом Кэри, король почтил меня своей дружбой. Однако кардинал дважды вычищал личные покои, изгоняя оттуда самых влиятельных людей, ссылаясь на то, что эти юные горячие головы сбивают с пути короля. Я два раза терял свой пост. С прошлого года я нахожусь при дворе исключительно из доброго расположения короля, но личные покои для меня закрыты. Джейн положила ладонь на руку Брайана, не задумываясь, как если бы рядом с ней сидел брат. – Но это невероятно! У короля наверняка хватает власти, чтобы распорядиться иначе? – Он слишком благоговеет перед кардиналом, – сказал сэр Фрэнсис, потом вдруг наклонился и поцеловал ее в губы. Ни один мужчина до сих пор не делал этого, и Джейн не знала, что сказать или сделать. Она даже не была уверена, понравилось ли ей ощущение. А когда он лизнул языком ее язык, девушка вспомнила, что говорил о Брайане брат: его называли Викарием Ада. Джейн неприязненно отшатнулась от него. Он улыбнулся ей, щуря беспутный глаз: – Простите, если я был слишком дерзок, но ваша доброта придала мне смелости. – Я не уверена, что королева одобрила бы это, – сказала Джейн. – Может, и одобрила бы, если бы мои авансы были приняты благосклонно, – возразил он. – Это зависит от ваших намерений, – с улыбкой парировала Джейн, совладав с собой. – А, так в вас есть смелость, сестричка! Ее милость была бы рада, если бы я нашел даму, которую мог бы любить. Недавно она упрекала меня, как обычно, по-доброму, за то, что, достигнув почтенного возраста тридцати семи лет, я так и не обзавелся женой. – Тогда, вероятно, мне следует соблюдать еще большую осторожность, сэр Фрэнсис, – сказала Джейн, отодвигаясь от него, – потому что, кажется, ваши отношения с женщинами не всегда были приличными для их чести. – Легкий флирт еще никому не вредил, – беспечно заявил он, откидываясь на спинку скамьи. Пора было сменить тему. Сэр Фрэнсис нравился Джейн, но надо было проявлять осторожность. – Я понимаю, отчего вы не любите Уолси, – сказала она. Он вздохнул и печально взглянул на нее: – Именно поэтому я и многие другие поддерживают госпожу Анну во всех ее попытках свергнуть кардинала. – И снова улыбка его стала волчьей. – А теперь, милая сестричка, думаю, пора возвратить вас вашей госпоже. Ониподнялись и вернулись к лестнице, больше не держась под руку.
– Джейн, будьте добры, сходите и отыщите Анну Болейн, – сказала королева Екатерина однажды осенним утром, сев за стол завтракать. – Она уже должна быть здесь, чтобы прислуживать мне. – Конечно, мадам. – Джейн сделала реверанс и покинула личные покои. Сперва она заглянула в спальню, но там было пусто. Потом спустилась в личный сад королевы и тоже никого там не застала. Она поискала в часовне и в уборных. Наконец подошла к сержанту – привратнику дворцового гейтхауса. – Госпожа Анна Болейн? – переспросил он. – Она уехала домой вчера вечером. – Благодарю вас, – сказала Джейн и начала медленно подниматься по ступеням; внутри у нее кипел гнев. Как же ей не хотелось сообщать королеве об очередном оскорблении! Анне по меньшей мере следовало бы проявить вежливость и попросить у своей госпожи позволения покинуть двор. – Вчера вечером она уехала в замок Хивер, мадам, – нервно доложила Джейн Екатерине. Последовала пауза, королева переваривала новость. – Ясно. – Удивляюсь, почему ее милость не уволит госпожу Анну, – пробормотала Джейн Марджери, когда они доставали пяльцы из шкафа с принадлежностями для шитья. – Она не сделает ничего такого, что может огорчить короля, – ответила ей подруга. – Ее милость проявляет благосклонность к этой женщине ради него, потому что она его любит. – Она святая, – заметила Джейн, вспоминая, как ее мать продемонстрировала такую же терпимость по отношению к отцу. – Вероятно, так и надо поступать, раз жена обязана слушаться мужа и вынуждена жить с ним. – Да, – согласилась Марджери, собирая пяльцы, – ведь, как доказывает Великое дело короля, аннулировать брак очень трудно. К тому же королева этого не хочет. Джейн поняла, что ее мать тоже не желала развода. По крайней мере, ее отец старался держать все в тайне, в отличие от короля. – Это скандал, что мужчина выставляет напоказ свою любовницу, как это делает его милость. Но поменяйте их ролями, представьте, какое возникло бы возмущение, если бы у королевы появился любовник! Голубые глаза Марджери округлились. – Не могу вообразить, чтобы она такое сделала, но я понимаю, о чем вы говорите. Увы, мужчины могут безнаказанно совершать измены, а мы, бедные женщины, должны быть безупречными, ни малейшего подозрения, чтобы не подложить бастарда на колени супругу! – Ну хватит болтать! – раздался у них за спинами хриплый голос леди Уиллоуби, которая направлялась в покои королевы. – Поторопитесь, дамы! Я могу согласиться с вашими рассуждениями, но не вам говорить такое! Джейн от стыда вжалась в стену. При дворе лучше не высовываться и вообще помалкивать.
Глава 6
1528 годАнна вернулась ко двору. Фрейлина появлялась и исчезала, когда ей вздумается, что немало раздражало других дам и девушек. Однако королева ни разу не упрекнула ее. Она не делала ничего, что могло бы вызвать неудовольствие супруга. Однажды утром Анна и Джейн были среди тех, кто прислуживал госпоже, когда король в сильном возбуждении без церемоний ворвался в покои жены. – Под нашей крышей – потливая лихорадка! – заявил он. Королева побледнела, а дамы в ужасе переглянулись. – Ночью умерли трое из моих слуг, – продолжил король; страх был написан у него на лице, звенел в голосе. – Она в нашем собственном доме! Мы уезжаем немедленно. Я беру с собой малый двор, и мы едем в аббатство Уолтхэм. Скажите вашим женщинам и леди Солсбери, чтобы собирались быстро. Торопитесь! – Король поклонился, вспомнив наконец о необходимости соблюдать вежливость по отношению к супруге, но в глазах его при этом стоял чистый ужас, и он почти выбежал из комнаты. Джейн помнила рассказы о последней вспышке потливой лихорадки; она случилась лет десять назад. Девушка знала, что эта болезнь убивает с невероятной скоростью и поражает людей любого ранга, высокого или низкого, без разбора. Отец Джеймс однажды сказал, что это проявление неудовольствия Всевышнего. Джейн казалось, что таким образом короля наказывают за его злодеяния и вся Англия страдает вместе с ним. Когда королева приказала Джейн помочь Марджери Хорсман упаковать ее одежду, ноги едва донесли бедняжку до гардеробной. Девушка тряслась от страха. Общалась ли она с кем-нибудь из умерших? Может, случайно сталкивалась с ними, проходя по галерее, или вдохнула заразный воздух, который они выдыхали? Марджери сглотнула: – Моя бабушка умерла от этого поветрия в прошлый раз, упокой Господь ее душу. Я помню все, как будто это случилось вчера. Врачи были беспомощны, они не могли предложить никаких лекарств от этой болезни. Старушка скончалась за четыре часа. Джейн едва не плакала от страха. – Мне так жаль. – Больше она ничего не могла сказать и стала снимать с полок кожаные короба с головными уборами королевы. Но все-таки: предупрежден – значит вооружен. – А какие были симптомы? – Бабушка дрожала от приступов лихорадки, у нее были рези в животе, страшно болела голова, появилась сыпь – и все это происходило очень быстро. Потом она вдруг вся покрылась потом. Говорят, человек может веселиться за обедом и умереть к ужину. И в ее случае это оказалось правдой. Но доктора говорили нам, что по прошествии двадцати четырех часов опасность остается позади. Джоан Чепернаун, Дороти Бэдби и Нан Стэнхоуп были отправлены по домам. Даже Нан притихла. Несмотря на жаркую погоду, она обмотала шарфом нижнюю часть лица, чтобы не вдохнуть зараженный воздух. Анна Болейн, как обычно, куда-то исчезла, и когда Джейн вслед за королевой вышла во двор, то увидела ее стоящей рядом с королем среди придворных и прочих слуг. Всем им не терпелось оседлать коней и уехать. Джейн ощутила подавленную панику, которая миазмами пронизывала толпу. – Страх – злейший враг, – сказала королева. Во время спешных сборов она оставалась спокойной и улыбалась. – Я верю в справедливость слов: один пущенный слух порождает тысячу случаев лихорадки. Мне кажется, люди больше страдают от страха, чем от самой болезни. Джейн молилась, чтобы королева оказалась права.
– В Лондоне сорок тысяч заболевших потницей, – сказала Екатерина, собрав вокруг себя своих женщин в Даллансе, королевском охотничьем поместье рядом с аббатством Уолтхэм. Они провели здесь уже четыре дня, только что завершился обеденный час. Королева перекрестилась: – Мы должны молиться за эти бедные души и за себя тоже, потому что лихорадка теперь здесь, в этом доме. Служанка госпожи Анны умерла прошлой ночью! Джейн охватил ужас. Здесь! В этом доме! Милосердный Боже, спаси нас! Остальные женщины разинули рты и переглядывались, объятые страхом. Исабель разрыдалась. – Госпожу Анну отправили домой, – продолжила Екатерина, – и король срочно перебирается в Хансдон. Он распорядился, чтобы большинство из вас разъехались по домам. Исабель, успокойтесь. Вы, Бланш и Бесс, останетесь со мной, и еще леди Эксетер. Остальные должны уехать. Вам выдадут деньги на дорогу, вас будут сопровождать грумы. Возьмите с собой только то, что сможете нести. Остальные ваши вещи перевезут с нами, вы получите их по возвращении. Я сообщу вам, когда опасность минует и вы сможете снова явиться ко двору. А теперь поторопитесь и уезжайте отсюда как можно скорее. Джейн сделала быстрый реверанс на трясущихся ногах и побежала наверх, в комнату под крышей, которая служила спальней всем служившим королеве девушкам. Едва сознавая, что делает, она быстро сворачивала одежду и совала ее в дорожные сумки, которые можно было повесить поперек седла. А вдруг она подхватила лихорадку и болезнь уже развивается в ней? Она может умереть к вечеру! Джейн почувствовала себя страшно одинокой и заброшенной, представив долгую поездку по сельской местности, мили и мили в компании с незнакомым человеком, а вокруг свирепствует лихорадка, и никто не знает, где она есть, а где ее нет. Ощущая легкое головокружение, Джейн кое-как снесла вниз свой багаж и пошла разыскивать главного распорядителя двора. За дверью комнаты, которую он использовал как рабочий кабинет, собралась целая очередь из людей, все явились, как и Джейн, получить деньги на поездку. К своему облегчению, она увидела среди собравшихся сэра Фрэнсиса Брайана. – Не надо так пугаться, госпожа Джейн, – сказал он, увидев ее. – Нам повезло – мы уезжаем. Вы направитесь в Вулфхолл? – Да, сэр. – Она едва могла говорить. – Позвольте мне проводить вас туда. Я поеду в свой фамильный дом в Бакингемшире и рад этому развлечению. Джейн была готова расплакаться от облегчения. Может, у Брайана и дурная репутация, но не станет же он компрометировать ее честь по дороге в родительский дом. И еще она подозревала, что нравится ему. К тому же сэр Фрэнсис обеспечил ей место при дворе, не приобретя при этом особых личных выгод.
Обмотав рот и нос шарфом, Джейн ехала на запад через Эссекс. Сбоку от нее скакал Брайан, позади держался грум. Им предстояло проделать путь длиной в сто миль, и никто из них не имел ни малейшего представления о том, что их ждет впереди. Земля изнемогала от жары под июньским солнцем. Дороги были изрыты колеями, превратившимися в подобие горных хребтов из запекшейся грязи; оставленные без присмотра стада коров и отары овец жалобно мычали и блеяли вокруг. В первой деревне, к которой они приблизились, на улице не было почти ни души, на дверях многих домов были намалеваны кресты – предупреждения о заразе внутри. – Лучше нам держаться окольных дорог и избегать населенных мест, – мрачно сказал Брайан, а Джейн поплотнее прижала шарф ко рту. После этого они поскакали по открытой местности, где воздух, вероятно, был чище. Они слышали вдалеке церковные колокола, которые звонили по покойникам, иногда – плач и крики и спешили в другом направлении. Разговоры велись только о том, как избежать потницы. От беспутного Брайана не осталось и следа, вместо него явился серьезный мужчина, заботившийся исключительно об их защите и безопасности. К северу от Лондона они вынырнули из лесной полосы и увидели в долине мужчин, которые бросали завернутые в саваны тела в открытую яму. Ветер донес до них тяжелый запах. Джейн погоняла коня, чтобы поскорее удалиться от этого места, и тревожилась, не заразились ли они с Брайаном. Проехали еще немного, и Джейн впервые ощутила головную боль. – Святый Боже! – воскликнула она. – Я подхватила заразу! Брайан пристально вгляделся в нее: – Вы вспотели? – Нет, но у меня болит голова. Девушка сильно дрожала. Сэр Фрэнсис протянул руку и пощупал ее лоб. – Жара у вас нет, – произнес он. – Это скорее от жары или от страха. Джейн попыталась благодарно улыбнуться, хотя была близка к слезам: – Спасибо вам, сэр Фрэнсис. Боль уже отступала. Джейн задышала глубже от облегчения. Поездка казалась бесконечной. На ночевку они останавливались в аббатствах и приоратах, где им не всегда были рады из опасения, не принесли ли путники с собой лихорадку. В одном монастыре привратница вообще отказывалась открыть дверь. Когда же их наконец впустили, они обнаружили, что комнаты в монастырском гостевом доме лишены всякой роскоши, но при этом чисты, а простая пища, которую им подали, была весьма приятна после долгих часов, проведенных в седле. Брайан сохранял серьезность и держался на почтительном расстоянии от Джейн. Девушка чувствовала себя рядом с ним спокойно; она была даже немного разочарована тем, что он не пытается флиртовать с ней. Зато они подружились, их объединила пережитая вместе опасность. Недалеко от Ньюбери путников обогнал всадник на коне. Сохраняя дистанцию, они спросили, нет ли у него сведений о том, что лихорадка стихает. – Нет! – крикнул он. – Я слышал, что госпожа Анна Болейн тоже подхватила ее! Джейн перекрестилась. – Молю Бога, чтобы она выжила, – пробормотал Брайан, и они двинулись дальше. «Но если Анна умрет, – подумала Джейн, – проблемы королевы разрешатся за одну ночь». Нехорошо было желать больной смерти, однако если Господь посчитает уместным забрать ее, то сделает всем большое одолжение. – Вы со мной не согласны, – сказал Брайан, придерживая коня на неровной земле. – Я люблю королеву, – отозвалась Джейн. – Мне невыносимо видеть, как она страдает из-за увлечения короля госпожой Анной и бесконечного ожидания вердикта папы. Это тянется уже год. Напряжение ужасное, а она тем не менее всегда бодра. – Я тоже люблю королеву, – заявил Брайан. – Я ее очень уважаю. Но королю нужен наследник. Как друг, я могу засвидетельствовать: его уже очень давно тяготит отсутствие сыновей. – Но эти сомнения относительно брака… Никто о них ничего не слышал до прошлого года, и потом становится ясно, что он оказывает знаки внимания госпоже Анне. Вы думаете, он действительно женится на ней, когда – если – будет свободен? Она не королевского рода; куда ей равняться с королевой Екатериной! – Нет, но, может быть, именно в такой, как она, и нуждается сейчас это королевство. Она передовой мыслитель с радикальными идеями. Король позволяет ей читать запрещенные книги. Как и многие из нас, она видит порочность Церкви и настаивает на реформах. Джейн строго взглянула на него: – Вы имеете в виду, что она еретичка? Лютеранка? – Некоторые так считают, но не я. Сказать по сердцу, я верю, что она такая же истинная христианка, как любой из нас. Все, чего она хочет, – это реформа. Джейн покачала головой: – Меня беспокоит одно: в то время, когда догматы и традиции Святой церкви подвергаются нападкам со всех сторон, у таких людей, как госпожа Анна, находятся силы провоцировать изменения, пусть даже они поведут к лучшему. Это должен делать папа, а не простая фрейлина. Сэр Фрэнсис, наша вера под ударом. Еретики, последователи Мартина Лютера, отвергли пять из семи таинств! Есть люди, которые хотят перевести Библию на английский, читать и толковать ее по своему усмотрению. Я никогда не слышала о таких вещах, пока не приехала ко двору, и меня привело в ужас то, что у каждого здесь есть свое мнение по поводу вопросов, лежащих вне пределов понимания обычных людей. Вот почему следует ценить королеву Екатерину. Она истинная, преданная дочь Церкви, и нам всем нужно следовать ее примеру. – Бог мой, Джейн, – усмехнулся Брайан, – вы тоже превращаетесь в политика, причем реакционного! Королю хорошо бы иметь голоса вроде вашего в своем Совете! Но послушайте меня. – Улыбка исчезла с его губ. – Держите свои взгляды при себе. Критики госпожи Анны быстро выходят из милости. – Я знаю свое место, – заверила Джейн. – Мы сейчас не при дворе, и нас никто не слышит, кроме птиц, к тому же вы мой родственник, и я вам доверяю. Я бы ничего подобного не сказала при дворе. – Да, – согласился он, – держитесь в стороне, но все примечайте. По моим наблюдениям, вы так и делали. – Теперь вы подшучиваете надо мной, – засмеялась Джейн. Однако в душе она встревожилась из-за того, что сказал Брайан об Анне Болейн. Разговоры о переменах грозили устоям веры, которые она чтила, и за них стоило бороться.
На десятый день к вечеру они прибыли в Вулфхолл. Измотанные, запыленные, уставшие от сидения в седлах всадники скакали по дороге к дому. Джейн почувствовала запах дыма. В Большом саду горел костер. Один из отцовских грумов шевелил головешки и бросал в огонь какое-то старое тряпье. Джейн обрадовалась, видя свой дом таким же милым и притягательным, каким она его помнила, только теперь он показался ей маленьким в сравнении с дворцами, в которых она обреталась в последнее время. Их прибытие было замечено. Из дверей навстречу им выбежала Лиззи, за ней показалась и мать, следом – отец. Все были одеты в черное.
Джейн соскользнула с коня и бросилась к родным, сердце ее колотилось от страха. Кто умер? Господи, не допусти, чтобы потливая лихорадка добралась до любимого Вулфхолла. Мать и Лиззи буквально прилипли к ней и никак не хотели отпускать. Тем временем Брайан жал руку отцу и рассказывал, что привело их сюда. Леди Сеймур плакала на плече у Джейн. – О, мой ягненочек, до чего же я рада тебя видеть! Господь забрал у меня одну дочь, но посылает другую. Как хорошо, что ты вернулась домой! – бессвязно лепетала мать. Наконец высвободившись из объятий, Джейн увидела, что лицо леди Сеймур осунулось от горя. – Скажите, что это не Марджери! – воскликнула Джейн, когда из дому вышли Томас и Гарри, оба с мрачными лицами. – Лихорадка скосила ее три дня назад! – выпалила мать и залилась слезами. Сэр Джон оставил Брайана и обнял жену. Хотя Джейн и была ошеломлена новостью, но заметила, что родители ведут себя так, будто никакого разлада между ними не было. – Нет, нет! – протестующе лепетала плачущая Джейн. – Не Марджери, прошу тебя, Господи! Ей было всего шестнадцать. – Она вспомнила последнюю встречу с сестрой – милой, зеленоглазой, добросердечной. Этого не могло быть! Умереть такой юной и так скоропостижно – это было ужасно! Томас крепко обнял ее. Джейн почувствовала, что брат потрясен утратой. – Все произошло очень быстро, – хрипло проговорил он. – Ужасающе быстро, – добавил Гарри, в свою очередь обнимая сестру. Потом вперед вышел отец – лицо бледное, на глазах слезы. – Джейн! – сказал он надломленным голосом и прижал дочь к себе, как будто истории с Кэтрин Филлол не было. Сэр Джон снова стал отцом, которого она любила и почитала, и Джейн немного успокоилась, ощутив его силу.
Одежда, брошенная в костер, принадлежала Марджери. Мать приказала сжечь все ее вещи, чтобы уменьшить риск заражения. – Все, что у меня от нее осталось, – это золотой медальон, который она не надевала с Рождества, – всхлипывая, проговорила леди Сеймур, потом взяла Джейн за руку и повела в дом. Та сжала кисть матери и в страхе подумала, что бежала от болезни, а нашла ее там, где хотела укрыться, – у себя дома. Они отправили гонца на север, чтобы передать печальное известие Эдварду. – Тебе мы тоже написали, – сказал Гарри сестре, занося в дом ее сумку, – но не знали, где обосновался двор, ведь смертельная болезнь повсюду. – Король жутко боится потницы, – сказала Джейн. – Когда я уезжала, он собирался в Хансдон с небольшой свитой. – Мы предупреждали тебя, чтобы ты сюда не ехала, но я рад, что ты здесь. – Гарри попытался улыбнуться. Добрый, славный, надежный Гарри – он всегда умел утешить. – Я не могла выбрать другого места, – заверила его Джейн. – Когда ее похоронили? – На следующий день после того, как она умерла, так было нужно. Местный столяр по поручению отца за ночь сколотил гроб. Она покоится в церкви в Бедвин-Магне. – Я съезжу туда и помолюсь за нее, – пообещала Джейн. Собравшись с духом, она открыла дверь в их общую с Марджери спальню и прикрыла глаза при виде нового белья на постели и штор, заменивших прежние, которые пришлось сжечь. Окна были распахнуты настежь, но в комнате все равно стоял крепкий дух уксуса и мускуса, который использовали для устранения запаха пота. Джейн повернулась к Гарри и обняла его: – Какое облегчение, что ты здесь! Брат крепко обвил ее руками: – Епископ Фокс стареет и слепнет, он все больше полагается на своих слуг, но, услышав о смерти Марджери, сказал, что, конечно, я должен поехать домой и оставаться с родными, сколько нужно и пока не пройдет риск заражения. – Теперь он уже наверняка прошел, – заверила его Джейн, отстраняясь и открывая свою сумку. – Болезнь поражает мгновенно. – По правде говоря, мне нужно возвращаться. Епископ был хорош на своем месте, но кардинал вынуждает его оставить служение, потому что хочет прибрать к рукам приход Винчестера. Мы не должны давать ему поводов для жалоб королю на неспособность епископа справляться с делами. Так что я останусь всего на пару дней. А ты надолго тут задержишься? Джейн села на постель, которую когда-то делила с Марджери, с трудом сдерживая слезы. Комната теперь выглядела такой пустой: в ней не было ни сестры, ни ее вещей. – Честно говоря, я не знаю. Королева сказала, что напишет, когда можно будет вернуться ко двору. Надеюсь, она даст мне достаточно времени, чтобы мама успела немного оправиться. – Смерть Марджери стала для нее тяжелым ударом, – подхватил ее мысль Гарри, – как и для всех нас. Мы послали за Энтони в Литлкот. Надеюсь, он скоро приедет. Джейн встала: – Расскажи мне, как здесь шли дела? Отец иногда пишет мне, но ничего не сообщает о происходящем. – В основном все как обычно. Мать и отец оставили обиды в прошлом. Кажется, они после этого стали еще ближе друг к другу. Но Эдвард с тех пор, как все случилось, дома не появлялся. – Слышно что-нибудь от Кэтрин? – Я ничего не знаю, – пожал плечами Гарри. Джейн немного подумала: – Она, наверное, страдает. Ты поедешь со мной, если я отправлюсь навестить ее? Можно взять с собой мальчиков. Джон пританцовывал от радости, когда встречал тетку, а Нэд уже превратился в очаровательного малыша, делавшего первые шаги. Джейн легко могла представить, как скучала по ним Кэтрин, и своего обещания не забыла. Грубоватое лицо Гарри посмурнело. – Разумно ли это? – Она их мать. – Давай спросим мнение нашей матери. Если она согласится, я составлю тебе компанию. Внизу отец уговаривал сэра Фрэнсиса остаться. Брайан осушил кубок вина, который держал в руке: – Сэр, благодарю вас, но в этом доме траур, и с моей стороны будет невежливо нарушать покой хозяев. – Она была вам кузиной, – сказал отец, – и за одно только то, что вы сделали для Джейн, мы будем рады вас приветить. Вы так далеко отклонились от своего пути. – Ну, должен признать, хороший ночлег и отличная еда, которой славится леди Сеймур, – это весьма соблазнительно после нескольких дней в дороге, – ответил Брайан. – Благодарю вас.
– У северной стены, – указала мать, – рядом с медной доской твоего брата. Джейн легко нашла место – оно было отмечено охапкой увядающих роз. Она преклонила колени в старинной церкви, все еще не в силах поверить, что ее милая Марджери лежит здесь, упокоенная вместе с юным Джоном и прахом их предков. Джейн попыталась молиться, но слова не шли с языка. Гнев – вот единственное, что она ощущала, из-за того что невинная жизнь пресеклась в самом начале. Сходное чувство наверняка испытывали сейчас многие люди по всей Англии. Как бы ей хотелось сказать Марджери, что она ее любит. Жаль, что она редко делала это раньше. А теперь уже поздно. Но для Кэтрин еще не поздно было увидеться с сыновьями, а для самой Джейн – сообщить детям, как много они значат для матери. Надо использовать эту возможность. Приняв такое решение, Джейн быстро проскакала пять миль обратно в Вулфхолл.
– Нет! – твердо отрезала мать и стала месить тесто для выпечки с такой силой, будто хотела наказать его за что-то. – Это только расстроит мальчиков. Джон знает, что его мать совершила плохой поступок и должна оставаться в Эймсбери, чтобы искупить свой великий грех. Малыш Нэд ее не помнит. Оставь их в покое. Джейн попыталась снова: – Я обещала ей, что постараюсь сделать все возможное, чтобы она увиделась с детьми, если она даст слово молчать о случившемся. – Я думаю о мальчиках, – вздохнула мать, – а не стараюсь наказать ее. Может быть, есть какой-то способ сделать так, чтобы она их увидела, а они об этом не знали. – Это зависит от того, может ли Кэтрин покидать аббатство. Она должна вступить в монастырь? – Нет. Условились, что она будет жить там и платить за свое содержание из оставленных отцом средств, которые ей обязаны выделить, если она удалится в монастырь. Она может выходить из обители по своему желанию. – Тогда у меня есть превосходное решение! – радостно заявила Джейн.
Разумеется, ехать в Эймсбери, пока бушует лихорадка, было неразумно, а эпидемия продолжалась все лето. В течение этого времени Джейн вместе с родными оставалась в Вулфхолле, они были почти полностью отрезаны от внешнего мира и молились о том, чтобы болезнь больше никого из них не коснулась. С наступлением осени похолодало, и до Вулфхолла докатились сведения, что потница наконец отступает из Уилтшира. Джейн раздумывала, не пора ли ей возвращаться ко двору, но было неизвестно, как обстоят дела с лихорадкой за пределами графства, и она почувствовала, что лучше остаться с родными еще ненадолго. Мать тяжело переносила смерть Марджери, и Джейн была нужна дома. Королева Екатерина поймет ее, в этом Джейн не сомневалась. Вскоре настал момент, когда поездка в Эймсбери показалась им с Гарри безопасной. О новых случаях потницы там не было слышно уже несколько недель. Когда они прибыли, был базарный день, хотя из-за поветрия народу на рынке собралось заметно меньше, чем бывало раньше. Гарри повел мальчиков по лавкам, пообещав, что позже, если они будут вести себя хорошо, то увидят выступление акробатов и жонглеров. Джейн поспешила в аббатство и спросила у привратницы, можно ли ей увидеться с леди Сеймур. Лицо женщины осталось безучастным. Монахиня позвонила в колокольчик, и послушница была послана позвать Кэтрин. Джейн попросили подождать в пустой маленькой приемной. Минут через пять появилась Кэтрин. За прошедший год она исхудала, серое шерстяное платье болталось на ней. Белый чепец покрывал волосы, а на милом лице появились едва заметные морщины – следы печали. Затворница смотрела на Джейн, как на привидение. Джейн встала и взяла невестку за руки: – Я приехала проведать вас. Весь год я провела при дворе на службе у королевы, иначе приехала бы раньше. – Ну и как, по-вашему, идут мои дела? – с горечью в голосе спросила Кэтрин. – Вам приятно видеть, как я страдаю? – Не по моей воле вы оказались здесь, – напомнила ей Джейн. – Мне вас жаль. Я часто о вас вспоминала. – Мне все тут ненавистно, – проговорила Кэтрин. – Эдвард тоже ходил на сторону, но его не заточили в монастырь. Разве я еще недостаточно заплатила за свой грех? – Такие условия поставил ваш отец. – Это Эдвард выгнал меня из дому! Мне некуда было идти без средств к существованию. Джейн, вы можете поговорить с ним? Попросите его забрать меня отсюда. Я так скучаю по детям! Это пытка! – Они здесь, – тихо сказала Джейн. Лицо Кэтрин изменилось. – Правда? Где? Я могу их увидеть? – Да. Я для этого и привезла их. Мальчики на рынке с Гарри. Но они не должны вас видеть. Это только расстроит детей, а у них и без того много трудностей. Марджери умерла в июне от потливой лихорадки. Кэтрин будто не слышала ее: – Но я их мать! Вы не представляете, как мне хочется их обнять! – Простите, – сказала Джейн, тронутая отчаянием Кэтрин, – но мы все считаем, что так будет лучше. Или вы посмотрите на них издалека, или не увидите вовсе. – Я должна их увидеть! – закричала Кэтрин. – Где они? – Пойдемте со мной. – Джейн провела ее мимо каморки привратницы, и они пошли на рынок. Кэтрин едва не бежала, так ей не терпелось увидеть сыновей. Джейн схватила ее за руку и заставила остановиться за одним из прилавков, с которого торговали горячими пирогами. – Вон там, – сказала она, указывая туда, где стоял Гарри с сидевшим у него на плечах Нэдом и топтавшимся рядом Джоном. Все они смеялись над трюками жонглера. Кэтрин прикрыла рот ладонью. – О, мои дорогие, – заплакала она. – Ох, как они выросли. Не могу в это поверить. Пожалуйста, позвольте мне поговорить с ними. Прошу вас! – Ш-ш-ш! – шикнула на нее Джейн, начав сомневаться, так ли хороша была идея, как ей казалось. – Вы привлекаете к себе внимание. Подумайте о них! Зачем снова заставлять мальчиков переживать разлуку с вами, особенно Джона, когда он только привык обходиться без вас. – Вы сами не понимаете, какую совершаете жестокость. – Кэтрин отскочила назад. – Они мои дети! Джейн пришлось проявить твердость. – По закону они принадлежат вашему мужу, – напомнила она невестке, – и Эдвард не хочет, чтобы у них было что-то общее с вами. Я поговорю с ним, если увижу, но он в Йоркшире. – (Домой старший из братьев Сеймур так и не приезжал.) – Мать, Гарри и я действуем у него за спиной, мы решили привезти сюда детей без его ведома, чтобы вы могли их увидеть. Пожалуйста, не компрометируйте нас. Кэтрин сдалась и больше не возражала. Она долго стояла на одном месте и жадно вглядывалась в сыновей. Жонглер закончил выступление, и Джейн увидела, как Гарри осматривается, чтобы проверить, могут ли они спокойно покинуть площадку. Джон что-то выпрашивал у него, подскакивал и кричал: – Дядя Гарри! Дядя Гарри! – Нам нужно идти, – сказала Джейн. Кэтрин неохотно оторвалась от созерцания детей и по пути назад в аббатство плакала так горько, что Джейн сама едва сдержала слезы. – Я привезу их еще, – пообещала она. – Но вы вернетесь ко двору, – подвывала Кэтрин. – Когда я их увижу? – Я приеду, когда получится, – попыталась успокоить невестку Джейн, – но большего обещать не могу.
Не прошло и часа после их возвращения домой, как на Большой двор въехал грум из Литлкота с письмом для сэра Джона от сэра Эдварда Даррелла. Энтони умер от потливой лихорадки. На этот раз Эдвард домой приехал, недели через две. Убитая горем мать обвила его руками и не отпускала, пока не вмешался отец. Он подошел к супруге и мягко отстранил ее от сына. – Такова воля Господа, – срывающимся голосом сказал сэр Джон. – Его душа со святыми на небесах. Утешьтесь этим, как делаю я. Джейн смотрела, как Эдвард встал на колени, чтобы получить отцовское благословение. Глаза его были холодны, и отец выглядел сконфуженным, когда положил руку на голову сына и прокаркал положенные слова. Никогда больше им не будет легко друг с другом, не вернуть те доверительные отношения, которые существовали до того, как интрижка с Кэтрин вышла наружу. Наконец сдержанные приветствия и выражение печали закончились, семья собралась за столом в Широком зале, который был в знак траура задрапирован черной тканью. Ужинали холодным мясом и вспоминали Энтони: каким блестящим молодым человеком он был, каким добрым, какие подавал надежды, которые никогда уже не сбудутся; потом они снова поплакали о трагической утрате двоих членов семьи. – Кажется, никогда мне уже не обрести радости, – всхлипнула мать. Отец попытался поднять настроение, рассказав им историю, как женщина, которую привели к нему и обвиняли в краже, чтобы защититься, представила суду свой живот. – При этом лет ей было не меньше семидесяти! – добавил он. – А почему она защищалась животом? – спросил Джон, сверкая глазами. – Женщину, которая ждет ребенка, не могут повесить, мой мальчик, потому что дитя невинно. Разговор перешел на Великое дело короля. – Вся страна ни о чем другом не говорит, – сказал Эдвард. – Какой позор, – фыркнула мать, – когда мужчина считает, что может просто избавиться от своей старой жены ради юной вертихвостки! Она глянула на отца. Тот сглотнул. – Думаю, тут дело гораздо сложнее, моя дорогая. И король не любой мужчина. Ему нужен наследник. – Ему следует дождаться слова папы, а уж потом гоняться за госпожой Анной Болейн! Ваша дочь о ней не слишком высокого мнения. – Я с ней едва знакома, – сказала Джейн. – Держусь от нее подальше. Но мне грустно видеть, как мало она любит и уважает королеву. Кажется, ей дела нет до того, что она обижает свою госпожу. Сказав это, Джейн почувствовала, как напрягся сидевший рядом с ней Эдвард. Вопрос был слишком щекотливый. Пока остальные высказывали свои мнения, она наклонилась к уху брата и сказала: – Я виделась с Кэтрин. Эдвард застыл. Потом буркнул: – Не хочу иметь с ней ничего общего. За прошедший год он изменился; в нем появились надменность и скрытность, которых раньше не было. – Она в отчаянии, хочет видеть сыновей. – Ей надо было думать об этом до того, как разыгрывать из себя шлюху, – прошептал он. – Я этого не допущу. – Эдвард, она изменилась. От нее прежней осталась одна оболочка. Я и правда верю, что она раскаялась. – Мне все равно, и я был бы тебе благодарен, если бы ты не вмешивались в это дело. Джейн крепко сжала его руку: – Разлука с детьми убьет ее. Она живет только мыслью о том, что увидит их. Прошу тебя, будь милосердным, измени свое решение. – Нет! – Он осушил кубок и вдруг заявил: – Я возвращаюсь домой. – Ты? – Все повернулись к нему. – Я потому и задержался с приездом на юг. Узнав о смерти Марджери, я написал королю и спросил, не найдется ли для меня какой-нибудь должности в наших краях, и его секретарь ответил, что для меня есть назначение в Дорсете. – Он поморщился. – Герцог Ричмонд не был этому рад. Ему сейчас девять, и он своенравен, никак не хотел меня отпускать, но мое место здесь. – Очень рад это слышать, – заявил сэр Джон. Эдвард сухо кивнул. – О, сын мой! – воскликнула мать. – Удовлетворишься ли ты службой в Дорсете? Томас едва сдерживал ухмылку. Его явно задело, что Эдвард просто попросил короля о чем-то и получил желаемое, тогда как он, упорно стремившийся попасть на королевскую службу, до сих пор не удостоился ни малейшего внимания и сам видел это. – Я доволен, – сказал Эдвард, не попавшись на крючок. – Я смогу прочесть все книги, на которые мне не хватало времени. Я даже не прочел «Утопию» сэра Томаса Мора. – Как хорошо, что ты будешь дома, – сказала мать. – Клянусь Богом, нам нужно как-то взбодриться! Джейн подумала о письме, лежавшем у нее в кармане, – письме с печатью королевы. Оно дожидалось ее в момент возвращения из Эймсбери. Скоро придется обрушить на мать и остальное семейство новость о своем отъезде: ее вызывали обратно ко двору.
В Гринвиче только и разговоров было, что о приезде легата из Рима для разбирательства вместе с кардиналом Уолси по Великому делу. Госпожа Анна Болейн, чудом оправившаяся от болезни, еще выше вознеслась в фавор у короля, чем когда-либо прежде. Джейн это было неприятно. Однако она с облегчением вздохнула, узнав, что ей больше не придется ежедневно терпеть общество Анны: король распорядился об устройстве для Болейн личных апартаментов в Дарем-Хаусе на Стрэнде, неподалеку от Лондона. Видеть изо дня в день унижение королевы ее соперницей было невыносимо; у всякой вежливости есть свои пределы. Досаду вызывало то, что госпожа Анна разместилась в новом доме с таким великолепием, словно она уже была королевой. Все говорили, что это рано или поздно произойдет. Тем временем королева, как обычно, проявляла терпение и истинную святость, а на испещренном красными жилками лице кардинала была написана неподдельная тревога. Джейн обрадовалась, услышав от Марджери Хорсман, что Брайана восстановили на службе в личных покоях короля. Девушки находились в спальне – распаковывали дождавшийся приезда Джейн сундук с ее вещами. – Он заслужил это, – отреагировала Джейн и поведала Марджери о том, какую доброту проявил к ней сэр Фрэнсис. – Сейчас доброта нужна королеве, – сказала Марджери. – Ее предупредили, чтобы она не смела настраивать подданных против короля, и обвинили в том, что она имеет чересчур довольный вид. Если бы они только знали, чего ей это стоит! – Она слишком любит короля, чтобы подстрекать кого-нибудь против него! – возразила шокированная Джейн. Однако Екатерина восприняла предостережение всерьез. Вскоре Джейн обнаружила, что жизнь при дворе королевы изменилась. Ее госпожа теперь не покидала дворец без крайней необходимости. Выглядела суровой и мрачной, одевалась только в темные платья, будто не хотела привлекать к себе внимания. Она больше не развлекалась с фрейлинами, а вместо этого проводила почти все время в часовне за молитвами. Джейн и большинство дам из свиты королевы горячо молились, чтобы папа или легат высказались в ее пользу, да поскорее. Их существование стало тусклым и скучным. Настоящая захватывающая жизнь двора вращалась вокруг короля и его фаворитки в Дарем-Хаусе. Джейн опасалась, что Англии осталось недолго ждать восшествия на престол новой королевы.
Король проводил Рождество в Гринвиче, устраивал для развлечения двора турниры, банкеты, живые картины и маскарады. Но Джейн не могла получать удовольствие от этих празднеств, если королева не выказывала радости, а по ее лицу было видно, как она переживает. Единственным утешением для Екатерины осталась дочь, принцесса Мария, которая приехала ко двору на Юлетиды[56]. Джейн стала одной из тех, кого Екатерина попросила присматривать за дочерью. Оказанное госпожой доверие тронуло Джейн. Принцесса Мария ей очень понравилась – милая, нежная двенадцатилетняя девушка с отцовскими золотистыми волосами и чертами лица матери, которые уже, однако, омрачались тревогой. Хоть Мария и жила вдалеке от двора, она знала о напряженных отношениях родителей и невидимом присутствии Анны Болейн, которая не показывалась из своих апартаментов, но принимала у себя всех. Даже когда они играли в жмурки, лису и псов или кегли, Джейн видела, что принцесса очень несчастна. Мария не отходила от матери-королевы и замыкалась в себе, становилась почти угрюмой в присутствии отца, хотя он и старался, как мог, развеселить ее. Джейн молилась, чтобы Великое дело короля поскорее разрешилось, хотя бы ради этой бедной девочки.
Глава 7
1529 годСуд проходил в лондонском монастыре Черных Братьев. Слушания по делу об аннулировании брака короля возглавляли кардинал Уолси и папский легат. Его милость – и об этом знали все – надеялся на успех. Говорили даже, что он планирует свадьбу с Анной Болейн. Королева Екатерина в батистовой сорочке стояла среди своих дам и фрейлин, которые облачали ее в киртл из желтой парчи. Леди Уиллоуби и Марджери Хорсман вошли в покои с роскошным платьем из красного бархата, отороченным соболями, надели его на госпожу и начали зашнуровывать на спине. Нан Стэнхоуп принесла меховые нарукавники, а Джейн прицепила на пояс королевы золотую ароматницу. Наконец леди Эксетер повесила на шею Екатерины золотое ожерелье, сверкавшее драгоценными камнями, а сестры Варгас надели ей на голову капор, богато украшенный золотым шитьем. Лицо хозяйки оставалось бледным, тревожные складки на нем не разгладились, но выглядела она до кончиков ногтей королевой. – Ну вот, я собралась на битву, – заметила Екатерина, пытаясь улыбнуться. – Им придется понять, что я не признаю это судилище. В Англии я не могу рассчитывать на справедливое решение по поводу своего брака. Дело короля должно быть заслушано в Риме! Джейн впечатлила храбрость Екатерины. Нелегко было противостоять королю, который в эти дни ярился по любому поводу. Королева была готова, как и четыре придворные дамы, которые должны были сопровождать ее. Джейн и остальные фрейлины остались во дворце Брайдуэлл дожидаться их возвращения. В дверь вбежала Дороти Бэдби: – Ваша милость, у монастыря Черных Братьев собралась толпа, все кричат: «Добрая королева Екатерина!» – и желают вам победы над врагами. Глаза госпожи помрачнели. – Королю это не понравится. Но он ценит любовь народа, пусть прислушается к голосу людей и образумится. Она говорила это уже много-много раз. Джейн не могла вспомнить, когда впервые услышала от королевы эту присказку. – Пойдемте, – распорядилась Екатерина.
В просторных, богато убранных залах дворца стало тихо. Джейн и остальные девушки старались найти себе занятия, но все думали только о том, что происходит в главном зале монастыря на другом берегу реки Флит, и настороженно прислушивались к любым звукам, которые могли предупредить их о возвращении госпожи. – Подумать только, английский король и королева вызваны в суд, – задумчиво проговорила Исабель. – В Испании такого никогда не случилось бы! – Не могу поверить, но это Великое дело тянется уже два года, – качая головой, сказала Бесс Чеймберс. – Сколько еще выдержит королева? – спросила Джейн, и сердце у нее сжалось от боли за Екатерину. – Будем надеяться, скоро все это закончится, – сказала Нан Стэнхоуп. – Я приехала ко двору не для того, чтобы вести такую унылую жизнь. Мы никуда не выходим, ничего не делаем, мы стали затворницами вместе с королевой, как монахини. – Вы, наверное, предпочли бы служить у госпожи Анны Болейн? – резко спросила Бесс. – Если бы у меня был выбор, то да. Она настоящая королева, разве что без титула, все вращается вокруг нее. Дни Екатерины сочтены. Бланш де Варгас недовольно скривилась: – Может статься, еще этот день не закончится, а вы запоете по-другому. – Как вы можете с такой легкостью отказываться от любящей госпожи? – спросила Дороти. Нан пожала плечами: – Как мы найдем себе мужей или добьемся повышения по службе, если королева не имеет никакого влияния? Предполагалось, что она поможет нам составить хорошие партии, но за все годы, что я провела здесь, она ничего для меня не сделала. У меня было несколько поклонников, но из этого ничего не вышло. Мне скоро тридцать, я устала ждать. – Некоторые из нас посвятили жизнь королеве, – сказала Исабель де Варгас, – и не желают ничего иного. – Ну а я желаю! – выпалила Нан. – Если дело обернется против королевы, я напишу отцу, чтобы он попросил для меня место у госпожи Анны. А если он этого не сделает, тогда обращусь к ней сама. Бланш вспыхнула: – Никто из нас не опустится до такого! В Англии может быть только одна королева! Я лично никогда не признаю никакой другой, кроме нашей доброй госпожи. И думаю, что говорю за всех нас. Все, кроме Нан, горячо выразили согласие. – Я ни за что не стану служить Анне Болейн, – заявила Джейн. – Я ненавижу ее и все, за что она выступает. Женщина, которая намеревается украсть у другой мужа, не говоря уже о супруге своей госпожи, не заслуживает прощения. – Но король говорит, что он не муж королеве, что папа был не прав, когда разрешил этот брак, – с удовольствием заметила Нан, – и госпожа Анна держится того же мнения, так что никакого мужа она ни у кого не крадет. – Король был женат на ее милости восемнадцать лет и ни на что не жаловался! – крикнула Бланш. – А потом он влюбился в Анну Болейн – и вдруг его стала мучить совесть! – Ему нужен наследник, а королева не может дать ему его! – возразила Нан. – Вероятно, он прав, что видит вэтом наказание Божие. – Если у короля есть сомнения, то лучше ему искать их разрешения у папы, – сказала Джейн. – Но пока его святейшество не объявит короля свободным, госпожа Анна не должна поощрять ухаживания. – Очнитесь, наивное дитя! – насмешливо проговорила Нан. – Король без ума от нее и хочет сделать своей королевой. Она из семьи с амбициями, для этих людей главное – высокое положение. Вы действительно думаете, что она упустит такую возможность? Я бы не упустила! Джейн разозлилась, что с ней бывало редко, но обуздала вспышку гнева. – Тут дело не в амбициях, не в возможностях, не в том, чего хочет она сама или ее семья. То, что она делает, аморально. Сам Мартин Лютер не стал бы потворствовать этому. Нан уже собиралась дать едкий ответ, когда Бесс Чеймберс подняла глаза от шитья: – Не думаю, что госпожа Анна поощряет короля. Вспомните, сколько раз она уезжала домой в Хивер. Она и сейчас там. – Она ведет хитрую игру, – фыркнув, сказала Исабель. – Король сходит по ней с ума, а она держит дистанцию, чтобы еще сильнее распалить его чувства. – А я думаю, что в прошлом году она ездила в Хивер рожать его бастарда, – заметила Бланш. – Меня это не удивило бы, – поддержала ее сестра. – Вовсе нет, говорят, она не подпускает его к себе до свадьбы, – возразила Марджери. – Что с нами будет, если брак королевы расторгнут и король женится на Анне? – с тревогой спросила Дороти. – Я лучше поеду домой, чем поступлю на службу к Анне Болейн, – сказала Джейн. – Я уверена, король позаботится, чтобы королева была обеспечена, как должно, – попыталась успокоить их Бесс. – Нас оставят при ней. – Ох, хотелось бы мне знать, что там происходит! Трудно предугадать, – вздохнула Марджери. Они сидели молча, склонив головы над алтарной завесой, которую шили, и прислушиваясь к бою часов, пению птиц на деревьях за открытым окном и звукам своего дыхания. Наконец девушки услышали отдаленные радостные крики и уставились друг на друга. – Похоже, решение принято в пользу королевы, – прошептала Марджери. – Люди не радовались бы так, если бы объявили о разводе. Вскоре послышался топот шагов в галерее, потом дверь распахнулась и вошла королева, опираясь на руку мастера Ричардса, сборщика податей. За ней следовали дамы. Екатерина, тяжело дыша, опустилась в кресло, у нее не было ни кровинки в лице. – Быстро подайте вина и чего-нибудь съестного! – приказала леди Уиллоуби поднявшимся из реверанса фрейлинам. – Джейн, принесите королеве домашние туфли. Когда Екатерину обслужили и она немного подкрепилась, выпив вина из кубка, все собрались вокруг нее, в нетерпении ожидая новостей. – Они высказались за вас, мадам? – спросила Бланш, забыв, что королева должна заговорить первой. – Мы слышали радостные крики. Королева слабо улыбнулась: – Нет, моя дорогая. Они вообще ничего не решили. Но я сделала то, ради чего пошла туда. Сказала, что считаю этот суд предвзятым и не стану присутствовать на его заседаниях. Она прислонила голову к спинке кресла. Очевидно, силы ее были на исходе. – Ее милость была великолепна! – воскликнула леди Эксетер. – Когда ее вызвали, она упала на колени перед королем на глазах у всего собрания и молила избавить ее от крайностей суда. Она взывала к нему от всего сердца. Мы все едва не прослезились. – И он внял вашим мольбам, мадам? – спросила Бесс. Последовала долгая пауза. Когда Екатерина заговорила, голос ее звучал глухо и печально: – Нет. Он вообще ничего не сказал. Даже не взглянул на меня.
На третьей неделе июля, к удивлению и радости Джейн, в покоях королевы на одной из вечерних встреч, которые раньше были весьма многочисленными, но теперь стали заметно скромнее, так как большинство амбициозных молодых людей покинули строгий двор Екатерины ради великолепного дома госпожи Анны, появился Эдвард. Он выглядел высоким и элегантным в изысканном темном костюме, с остроконечной рыжей бородкой и пером на черном берете. Брат вежливо поклонился королеве, но в нем ощущались те же сдержанность и горделивость, которые Джейн заметила в Вулфхолле прошлой осенью. Сестру он приветствовал тепло и передал ей радостную весть о своем назначении эсквайром тела к королю по рекомендации сэра Фрэнсиса Брайана. – Мы стольким ему обязаны, – сказала Джейн, когда они уселись в нише у окна. – Он наш родственник, – ответил Эдвард, – и, думаю, мы ему нравимся сами по себе. Должен признаться, я рассчитывал, что он попросит твоей руки. Он не женат, и это была бы хорошая партия. Джейн вспомнила смелые ухаживания Брайана. – Был момент, когда он проявлял интерес ко мне, но ты предупредил меня о репутации сэра Фрэнсиса в отношении дам, и я его отвадила. Позже, во время нашей долгой поездки из Уолтхэма, я познакомилась с ним ближе, как с другом, ты понимаешь, и поняла, что в нем есть гораздо больше разных качеств, чем те, о которых заставляет думать его прозвище Викарий Ада. Но мне кажется, он не принадлежит к числу мужчин, склонных к женитьбе. – Я могу расспросить его об этом, – предложил Эдвард. – Теперь, служа в личных покоях короля, я буду видеться с ним каждый день. – Пожалуйста, не делай этого ради меня или не упоминай моего имени, – попросила Джейн. Эдвард удивленно изогнул брови: – Почему нет? Брачные соглашения заключаются постоянно. О моем браке тоже условились, – с горечью сказал он. – Просто не упоминай моего имени, – настаивала Джейн. – Пусть предложение поступит от него, хотя я в этом сомневаюсь. И вообще, Эдвард, я не уверена, что хотела бы иметь его супругом. – Тебе может достаться кто-нибудь и похуже. Вы, по крайней мере, нравитесь друг другу. Но я сам не уверен, можем ли мы позволить себе такую партию. У отца есть деньги, отложенные на приданое для всех дочерей, но вас трое, и сэр Фрэнсис в прошлом году говорил Томасу в Вулфхолле, что надеется найти богатую невесту. Джейн была поражена. – Ты не думаешь, что это был завуалированный способ вызнать, богатая ли я невеста? – Ну, отец спрашивал его, готов ли он остепениться. Все это говорилось полушутя. Но он и Томас считают, что речь на самом деле шла о тебе, хотя твое имя не упоминалось. – Я бы хотела, чтобы спросили мое мнение, прежде чем поднимать этот вопрос. Эдвард пожал плечами: – Я уверен, тебя бы спросили, если бы они о чем-нибудь договорились. – Похоже, сэр Фрэнсис отшучивался, слыша отцовские намеки. – Джейн, ты слишком серьезно все воспринимаешь. – Возможно, – резко сказала она. – Но не думай, что я разочарована. Мне нравится сэр Фрэнсис, но я не люблю его.
На следующий день Джейн, улучившая возможность немного прогуляться по саду, возвращалась во дворец. Подняв взгляд, она увидела Эдварда, который торопливо пересекал подъемный мост через реку Флит, соединявший дворец Брайдуэлл с монастырем Черных Братьев. Брат заметил сестру и махнул ей рукой. За спиной у него толпились мужчины, направлявшиеся на суд. Эдвард поравнялся с ней и, задыхаясь от волнения, сообщил: – Легат отозвал дело короля в Рим. Папа сам будет выносить решение. – Хвала Господу! – выдохнула Джейн. – Теперь у королевы есть шанс на справедливое решение. – Король в ярости. Видела бы ты его лицо! – Я бы предпочла увидеть госпожу Анну! Она была так уверена, что корона достанется ей. Ох, Эдвард, это обнадеживающая новость. Боже, пусть король поймет, какую ошибку он совершает. – Это укротит амбиции госпожи Анны, – сказал брат, беря Джейн за руку и отводя в сторону от толпы придворных, быстро шедших по дорожке. – Только сегодня утром она сидела в личных покоях короля и рассказывала нам всем, что будет, когда она станет королевой. Для начала она добьется перевода Библии на английский. Бог мой, она жаждет реформы Церкви! О папе и кардинале Уолси она отзывалась уничижительно. – Эта женщина весьма решительно настроена привести короля к погибели, – пробормотала Джейн. – Если она добьется своего, мы все последуем за ним. Меня это пугает. Разве мы обязаны терять свои бессмертные души из-за какой-то безрассудной девицы и ее опасных идей? – Не падай духом, сестрица, – улыбнулся Эдвард. – Реформы могут пойти на пользу Церкви. Там есть злоупотребления, которые нужно исправить. Отчего богачам позволено покупать себе путь на небеса? И почему бы нам не читать Слово Божье на родном языке? Это не повредит нашим душам. – Но толковать Писание положено священникам. – Джейн, не все священники так набожны, как отец Джеймс, а некоторые едва обучены грамоте. Как могут они толковать своей пастве латинское Писание? Нет, я бы хотел увидеть реформированную Церковь, без недостатков. Джейн вдруг заметила, что за ними кто-то наблюдает. Она оглянулась. Это была Нан Стэнхоуп. Она с нескрываемым интересом рассматривала Эдварда. – Это слишком серьезная тема для беседы с таким прекрасным поклонником, – игриво сказала Нан. – Он не поклонник! – воскликнула Джейн. – Госпожа Нан Стэнхоуп, позвольте представить вам моего старшего брата, сэра Эдварда Сеймура. Его только что назначили эсквайром тела к королю. Эдвард поклонился. Когда он поднял голову, Джейн заметила, что брат смотрит на Нан так, будто она была объектом, достойным удивления, и глаза его, такие холодные в последнее время, потеплели.
«Не может этого быть, – сердито думала Джейн, без сна ворочаясь в постели. – Не мог Эдвард влюбиться в Нан Стэнхоуп. Нашел кого выбрать! Почему его не привлекла милая Джоан Чепернаун, или Марджери, или Бесс? Зачем он ищет близости с такой злоязычной, взбалмошной и неприятной женщиной?» Не то чтобы он слишком явно демонстрировал свое увлечение ею, сама Нан вешалась на него уже две недели. Фрейлины принимали участие в ежегодном летнем объезде королевства, правда на этот раз не с самого начала: уже проделав часть пути, король неохотно вызвал королеву в Вудсток, чтобы она присоединилась к нему, двору и госпоже Анне. Джейн становилось дурно, когда она видела ухаживания Эдварда за Нан Стэнхоуп, так же неприятно было открытое выражение королем преданности Анне Болейн. Наступил сентябрь. Двор теснился в небольшом охотничьем доме в Графтоне. Фрейлины с трудом разместились на чердаке. В тот же день прибыли кардиналы. Легат должен был попросить у короля официальное разрешение на отъезд. Все полагали, что Генрих откажется принимать Уолси, но нет, он встретил его с распростертыми объятиями, словно никакого разлада между ними не произошло. Двор бурлил спекуляциями на тему, будет ли Уолси восстановлен на прежних высоких постах. Госпожа Анна и ее приверженцы ходили с сердитыми лицами, не оставляя никому сомнений в том, что уж они-то сбили бы с кардинала спесь, если бы могли. На следующий день после обеда Генрих и Анна поехали на охоту. Из открытого окна, выходившего во двор, Джейн наблюдала, как король с улыбкой прощается с кардиналами, которые должны были отправиться в Лондон вечером того же дня, и услышала, как Генрих сказал Уолси, что еще увидится с ним по возвращении. Она заметила хитрое выражение на лице госпожи Анны и не удивилась, когда час отъезда кардиналов настал, а король так и не вернулся. Джейн и другие фрейлины находились при королеве, которая, как могла, пыталась развлечь гостей. На морщинистом, осунувшемся лице Уолси застыло выражение унылого разочарования, в глазах читалось крушение всех надежд. Наконец ему не осталось ничего другого, кроме как попрощаться. Наступали сумерки, им нужно было ехать. Через несколько часов, когда Джейн была уже в постели, охотничья партия вернулась.
Новый посол императора представлялся королеве. Джейн присутствовала на аудиенции и наблюдала за ним. Его предшественник оказывал Екатерине большую поддержку, и королева была сильно опечалена отъездом испанца, однако по теплому выражению лица госпожи было видно, что прибывший на смену мужчина, посланный ее племянником, императором Священной Римской империи, королем Испании и самым могущественным правителем в христианском мире, ей нравится. Джейн мессир Шапуи тоже приглянулся. Она предположила, что ему около сорока, и обнаружила, что не может оторвать глаз от его худого подвижного лица; девушку очаровали искренность и восхищение, с которыми он говорил с королевой, уверяя ее в любви императора и его готовности заботиться об интересах старшей родственницы. Джейн надеялась, что интуиция ее не обманывает и этот новый посол встанет на сторону Екатерины и будет защищать королеву так же рьяно, как и его предшественник. Заверения Шапуи подтверждали, что он стремится к правде и справедливости. Джейн ощутила в нем силу, мудрость и даже страсть. Когда посол удалился, госпожа выглядела намного более счастливой. Господь знает, как она нуждалась в ободрении. Король принялся докучать ей мелкими придирками, изводить угрозами. Ей не позволят видеться с дочерью; запретят появляться при дворе; он обрушит на нее всю мощь закона. Так он кричал на супругу за дверями ее кабинета. Фрейлины слышали это. Анна Болейн теперь не соблюдала правил вежливости по отношению к королеве, отпускала ядовитые замечания и делала мрачные намеки на планы мести. Для доброй госпожи Джейн жизнь превратилась в ночной кошмар, и тем не менее королева терпеливо сносила все.
Они вернулись в Гринвич и пробыли там совсем немного, когда Эдвард пришел повидаться с сестрой. Обычно Нан являлась вместе с ним, тряся своими кудрями, но сегодня он был один. Пользуясь хорошей погодой, необычайно мягкой для декабря, брат с сестрой отправились на прогулку в дворцовый сад и сели на каменный борт чаши фонтана. – Ты знаешь, что кардинала лишили должности лорд-канцлера, – сообщил Эдвард. – Его обвинили в том, что он позволил папе вмешиваться в дела Англии. Джейн была потрясена. Такого она еще не слышала. Новость, вероятно, была совсем свежей. – Разве папе не положено по закону заботиться о делах Англии? – Очевидно, теперь нет. Джейн, это повод радоваться. Падение Уолси – победа для тех из нас, кто хочет добиться реформ в Церкви. Нан со мной согласна. – Он изложил подробнее то, что ему было известно. «В чем тут победа? – недоумевала Джейн. – Старого сломленного человека лишили всего имущества и прогнали от двора». Трудно было поверить, что так обошлись с прежде всемогущим кардиналом, слово которого не уступало в весе слову короля. Она не особенно любила Уолси, не одобряла его жадность и страсть к мирскому, но этот человек олицетворял собой стабильность Церкви и неизменность традиций, которые мало-помалу расшатывались. – Король забрал себе дом Уолси в Вестминстере и переделывает его под дворец для мистресс – простите, леди Анны. Да, теперь все они должны были называть ее так, потому что отца Анны Болейн недавно сделали герцогом Уилтшира и Ормонда. Она была некоронованной королевой, и Джейн кипела яростью из-за несправедливости, творимой по отношению к Екатерине. Эдвард не мог ее утешить. Всем было известно, на чьей он стороне. Джейн понимала, что пытаться изменить его бесполезно, поэтому при редких встречах с братом старательно избегала обсуждения этой темы. – На самом деле я пришел к тебе не только рассказать об Уолси, – продолжил Эдвард, и щеки его вспыхнули. – Есть кое-что еще. Я хочу жениться на Нан. – («Только этого не хватало», – подумала Джейн, но разве она не была готова к такому «сюрпризу»?) – Я был дома. Виделся с Кэтрин. Пытался убедить ее стать монахиней и дать мне свободу, но она отказалась. Честное слово, теперь мне понятны чувства короля! Что могла сказать Джейн, чтобы не навредить? Брат сурово обошелся с Кэтрин и теперь собирает вторую жатву своей жестокости. – Я знаю, о чем ты думаешь, – сказал Эдвард. – Но она предала меня, Джейн. Это нельзя простить. – Прошло уже два года, – заметила Джейн, сожалея, как с ней часто бывало, что за это время не сделала больше для Кэтрин. – Ты не можешь найти в себе душевных сил, чтобы простить ее? Мать простила отца. И мальчикам нужна мать. – Она у них будет – Нан, как только я обрету свободу. – Нан? «Она постарается лишить детей наследства, как только сможет запустить в него свои цепкие пальцы. Эта женщина всегда была эгоистичной и амбициозной; она будет думать только о своих сыновьях». – Да, Нан. Я знаю, ты недолюбливаешь ее, Джейн, но она оказала мне большую поддержку. Это она заставила меня пойти к королю и попросить его восстановить Кэтрин в правах наследства. – И ты не открыл ему всей правды? «Господи, хоть бы он и Нан ничего не сказал!» – Я говорил с его милостью конфиденциально. Он проявил большое участие и сказал: это несправедливо, что я теряю часть наследства жены из-за ее непристойного поведения. – Твое недостойное поведение тоже тому виной, Эдвард! – не удержалась Джейн от напоминания. – И ты опозорил отца, рассказав все королю! Не могу поверить, что ты мог так поступить. – Джейн, на кону большие деньги, и мне нужна помощь его милости. Я сказал ему, что мы решили никогда не упоминать о том, что случилось, и он согласился представить парламенту дело так, что меня лишили наследства из-за любовных похождений моей супруги. Никакие имена не будут упомянуты. – Представить парламенту! Тогда весь мир узнает, что Кэтрин изменила тебе. – Да, но никто не узнает, что она изменила мне с моим отцом. Я уверяю тебя в этом так же, как король заверил меня. – Ты сказал только королю? Не Нан? Эдвард отвел взгляд: – Разумеется, она должна была обо всем узнать, если мы решили пожениться. Джейн встала: – Значит, ты ей рассказал? – Да. – Это глупо, – вздохнула Джейн. – Нан – последняя, кому следовало рассказать об этом. Она не сохранит тайну. Эдвард процедил сквозь зубы: – Она дала мне слово никогда даже не заикаться об этом. И я прошу тебя относиться к ней по-дружески, как к моей будущей невесте. – Ты слишком многого просишь! – воскликнула Джейн. – У нее яд на языке. Никто ее не любит. А Кэтрин пока молода, может статься, ты долго еще не будешь свободным мужчиной, хвала Господу! Она ушла, вся дрожа от гнева, что с ней случалось редко. Эдвард пошел за ней: – Нан – женщина, которую я люблю, и я намерен жениться на ней, даже если для этого придется ждать до старческого слабоумия! – Я помолюсь за тебя! – бросила в ответ Джейн. – И вы счастливо отделаетесь, если она умрет первой!
Глава 8
1530 годВ ту зиму парламент издал акт, которым отменил условия завещания сэра Уильяма Филлола, и Эдвард за одну ночь превратился в человека с достатком. Нан Стэнхоуп ходила с самодовольной улыбкой на лице, и Джейн старалась избегать ее, как могла. Однако Нан не желала с этим мириться. Казалось, она всюду подкарауливала Джейн и, как змея, жалила ее во время трапез, вечерних посиделок в покоях королевы, где вечно висела на руке у Эдварда, пока фрейлины выстраивались в процессию, чтобы сопровождать свою госпожу в приемный зал или в церковь. Нан с виду вела себя дружелюбно, но в ее манерах всегда ощущалась какая-то колкость. «С каким нетерпением я жду встречи с вашим отцом», – говорила она, или: «Я слышала, у вашего батюшки хороший вкус к женщинам», или даже: «Смею заметить, на мой взгляд, ваш отец такой же красавец, как его сын!» Это злило ужасно. Джейн стала опасаться, что кто-нибудь услышит эти ремарки и угадает правду. Она ненавидела ссоры, избегала их, если могла, и в конце концов решила не обращать внимания на намеки Нан, надеясь, что та устанет вкладывать их в глухие уши, не получая отклика. Однако госпожа Стэнхоуп, казалось, чувствовала, как неприятны Джейн ее инсинуации, и не оставляла свою жертву в покое. Джейн пожаловалась Эдварду. – Ты должен остановить ее! Она изводит меня намеками на то, что ей известно, и я больше не могу выносить ее злобных выпадов. – Я поговорю с ней, – вздохнул Эдвард. – Но может быть, ты усматриваешь злонамеренность там, где ее вовсе нет. Я знаю, ты не любишь Нан, но, прошу тебя, постарайся с ней поладить. Несправедливость этого заявления больно уколола Джейн. – Ты мог бы попросить ее о том же! Я была бы рада, если бы мы могли ограничиться простой вежливостью. Что бы ни сказал Эдвард Нан, это принесло плоды. Колкости прекратились, и она стала держать дистанцию. К тому же вскоре произошло событие, которое отвлекло обеих женщин: принцесса Мария совершила визит ко двору, а такое случалось нечасто. Двор пребывал в замке Виндзор, старейшей из королевских резиденций, где покои королевы, располагавшиеся за внутренними стенами, имели потолки, инкрустированные крошечными зеркальцами, а окна выходили на сад и виноградник. Джейн разволновалась, наблюдая за тем, как Екатерина обнимает любимую дочь, которую так редко видела. Джейн не сомневалась, что король разлучил их намеренно, чтобы наказать супругу за то, что она не дает ему желанной свободы и заражает Марию своим предвзятым отношением к ситуации, а ему это виделось именно так. Ведь Мария открыто заявляла, что не примет никакой другой королевы, кроме матери, и не делала тайны из своей ненависти к Анне Болейн. Джейн жалела принцессу Марию. Девушке теперь уже исполнилось четырнадцать, но она была маленькой, худенькой, имела усталые глаза и проявляла все признаки слабого здоровья, причиной которого, как считала Джейн, стали душевные переживания. Ей самой было известно, каково это – беспомощно страдать от отцовской неверности. При взгляде на мать и дочь, которые наконец-то встретились, сердце Джейн сжималось от боли, тем более что король ездил на охоту с Анной Болейн едва ли не каждый день, предоставляя королеву самой себе. – Не могу поверить, что мой отец привез сюда с собой эту женщину, – сказала Мария, сидя за шитьем вместе с другими дамами королевы. Джейн услышала в ее голосе горькую обиду, которой никогда не выказывала Екатерина. – Пусть это тебя не расстраивает, – успокоила ее мать. – Скоро его святейшество скажет свое слово, и тогда его милость вернется ко мне, а леди Анну отправят восвояси. Джейн заметила сомнение в глазах Марии. Какие же несчастья влечет за собой неверность! Посмотреть хотя бы на ее собственных племянников – или сводных братьев, если верить Эдварду, – которые остались без матери. Кто-нибудь вообще думает о своих детях, когда дело доходит до удовлетворения запретных страстей? – Я слышала, кардинал проявил себя добрым пастырем в Йорке, – сказала королева. – Кажется, ссылка пробудила в нем желание вернуться к духовным обязанностям. Мессир Шапуи сообщил мне, что леди Анна хотела бы подвергнуть его аресту за измену, однако король отказался возбуждать против него дело. Думаю, его милость сохранил глубокую привязанность к Уолси. Однако леди Анна не оставляет своих козней против кардинала, и я сомневаюсь, что мы когда-нибудь увидим его возвращение в фавор. Он нездоров. Никогда не думала, что буду переживать за Уолси, но теперь мне жаль его. Джейн тоже посочувствовала кардиналу. Гарри состоял у него на службе с тех пор, как умер епископ Фокс, а кардинал был назначен вместо него епископом Винчестерским, и считал Уолси справедливым господином. Уолси, может, и не проводил много времени в своем диоцезе, но был в курсе всех тамошних дел и интересовался жизнью своих слуг. Какие бы ошибки ни совершил кардинал, он неустанно трудился ради обеспечения развода короля, и не его вина, что дело отозвали в Рим. Прошел год, а Рим так и не вынес решения. Единственной радостной новостью для Джейн за последние недели стало сообщение о том, что сэр Фрэнсис Брайан предложил Томасу должность у себя на службе. Брайан отправлялся во Францию как посол Англии, и Томасу предстояло выполнять обязанности вестника. – Я буду передавать сообщения королю и от короля! – восторженно сообщил он, когда явился ко двору и вместе с Эдвардом пришел повидаться с сестрой в покоях королевы. Выглядел он, как всегда, очаровательно. – Я буду отчитываться персонально перед его милостью. Меня заметят! Как же страстно он мечтал о продвижении! – Разумеется, так и будет. – Джейн улыбнулась. – Пока ты будешь вести себя как подобает, братец, – приподняв брови, заметил Эдвард. – Сэр Фрэнсис опять оказал нам милость, – быстро проговорила Джейн. – Неужели он делает это без надежд на воздаяние? Такое редко бывает с придворными. Она провела при дворе уже достаточно времени и знала, как устроена его внутренняя жизнь. – О, он получит свою награду, – сказал Эдвард. – Король высоко ценит сэра Фрэнсиса и не остается в долгу, когда приближенные рекомендуют способных людей к нему на службу. В благодарность мы тоже можем оказать сэру Фрэнсису хорошую услугу, когда придет время. – Значит, он делает нам одолжения ради собственной выгоды? – разочарованно спросила Джейн. – Я думала, мы ему нравимся. – В этом я не сомневаюсь, – заверил ее Эдвард. – Не думаю, что тут все дело в одном только личном интересе. Особенно симпатична ему ты. Он часто говорит о тебе. Это было неожиданно. – Ах, вот мы и добрались до сути дела! – ухмыльнулся Томас. – Надеюсь, ты не поощрял его! – воскликнула Джейн. Ей совсем не хотелось, чтобы Брайан решил, будто она понуждает братьев организовать ее брак. При мысли об этом щеки Джейн залило краской. Эдвард помолчал. – Я пробовал, но он не заглотил наживку. Я сказал, что тебе двадцать два и отец надеется подобрать тебе хорошую партию. Фрэнсис ответил, что ты этого заслуживаешь и он сам будет смотреть во все глаза и не пропустит подходящего претендента. – Значит, сам он не интересуется этим, – сказала Джейн, понимая, что не в праве чувствовать себя отвергнутой. – Сэру Фрэнсису сорок, и он все еще не женат, – сказал Эдвард. – Ему пора уже остепениться. – Вечный холостяк, – заметил Томас. – Я не верю, что он ждет появления богатой невесты. В отличие от меня! – Не слушай его, – пробормотал Эдвард. – Может статься, Джейн, что заложенное в землю семя когда-нибудь пустит корни. Это был бы удачный брак. Хотя не стоит питать слишком большие надежды. – Я ни на что не надеюсь, – ответила она с призвуком горечи в голосе. – Ни одной из фрейлин не поступало брачных предложений, так с чего мне жаловаться? Эдвард вспыхнул. Ему не хотелось говорить о Нан при Томасе. – Сестрица, ты замолчала. Думаешь, причиной тому ваша служба при дворе королевы, которая впала в немилость? – спросил Томас, понижая голос, потому что Екатерина находилась рядом. – Немногие теперь решатся вступить в союз с теми, кто близок к ней. – Молодые джентльмены по-прежнему собираются в ее покоях, – сказала Джейн. – Верно, только теперь их не так много, как бывало, – ввернул Эдвард. – Я не оставлю службу у нее, – сердито прошипела Джейн. – Лучшей госпожи и быть не может. А леди Анне я ни за что служить не стану, если ты на это надеешься. – Ладно-ладно, не выпускай коготки, – осклабился Томас. – Ты ничего не принимаешь всерьез! – укорила его Джейн. – Поверь, к интересам семьи я отношусь очень серьезно, – заявил он. – Скорее к своим собственным, – буркнул Эдвард. – Довольно, – остановила братьев Джейн. – Поверьте, я готова спокойно ждать появления подходящего супруга. А если этого не случится, что ж, я буду с радостью служить королеве, а если случится худшее, то могу стать монахиней!
Глава 9
1531 годДжейн сказала себе, что не имеет особого желания выходить замуж, но в глубине души сомневалась, так ли это. Брайан не проявлял к ней интереса, и это расстраивало ее сильнее, чем она готова была признать; ни один из молодых джентльменов, посещавших покои королевы, не перешел в отношениях с ней к чему-то большему, помимо вежливых разговоров, и это уже давно огорчало ее. «Невзрачная Джейн» – так однажды в запальчивости отозвалась о ней Нан, и это была правда. Может, ей на самом деле нужно было уйти в монастырь? Она всегда думала, что, как старшая дочь в семье, первой выйдет замуж, поэтому была шокирована, когда получила письмо от отца с сообщением о том, что Лиззи выдадут за сэра Энтони Утреда, вдовца, которого отец знал с тех времен, когда сражался за короля; служаку, руководившего королевскими гарнизонами в Бервике и на шотландской границе. Помимо своих военных обязанностей на севере, сэр Энтони проявлял меркантильный интерес к разным графствам и во время посещения Уилтшира провел две ночи в Вулфхолле, увидел Лиззи, был очарован и попросил ее руки. Что-то в этом роде. Свадьбу откладывать надолго не стали. Мать спешно занялась приготовлениями, а после церемонии сэр Энтони отвезет свою суженую на север, в Йоркшир, где она станет хозяйкой двух больших домов – Кексби-Холла и поместья Леппингтон. Кексби подарил сэру Энтони сам король, весьма к нему благоволивший. Особняк был частью собственности, конфискованной у кардинала Уолси, умершего в прошлом ноябре по пути в Тауэр, где он должен был предстать перед судом по обвинению в измене. Джейн отложила письмо. Она была рада за Лиззи, которой брак сулил такие выгоды, однако это известие заставило ее с новой силой почувствовать, как она сама хотела выйти замуж, иметь детей и свой дом вроде того, в котором выросла. Быть похожей в этом на мать не такая плохая судьба. Но больше всего огорчало ее то, что Лиззи выйдет замуж первой. Ей ведь еще не исполнилось тринадцати! Похоже, отец молчаливо признавал тот факт, что его старшая дочь не пригодна к браку, и бросил заниматься ее сватовством. Но потом Джейн утешила себя тем, что сэр Энтони видел Лиззи и попросил ее руки. Какой отец отказался бы от такого выгодного союза? Она написала домой, посылая поздравления и желая Лиззи всевозможных радостей в будущем. Королева разрешила ей поехать на свадьбу, и Джейн вместе с братьями отправилась домой на торжества. Вся семья и целое скопище родственников Утреда собрались в огромном десятинном амбаре[57] на свадебный пир. Мать превзошла себя: к столу подавали запеченное мясо разных видов, пышные пироги, вкуснейшие торты, лосося под соусом, каплунов в вине, бланманже и ягоды в желе. Во главе стола восседали добродушный сэр Энтони и его маленькая невеста, одетая в желтое платье, которое она самостоятельно украсила вышивкой. Джейн радовалась за сестру и принимала участие в общем веселье и разговорах, но не могла удержаться от чувства ревности. Это она должна сидеть там в свадебном наряде. Ей уже двадцать два – почти старая дева. Когда убрали со столов и зажгли свечи, начались танцы. Музыканты завели броль, или бранль, как на придворный манер называла этот танец Джейн. Новобрачные спустились с помоста на пол, и все им зааплодировали. Джейн не садилась бо́льшую часть вечера, но танцевала в основном с братьями, племянником Джоном или четырехлетним Нэдом; никто из других молодых людей, которые составляли с ней пару, не попросил ее станцевать вторично. Она присела отдохнуть и пила вино с пряностями, чтобы не замерзнуть. Жаровни, стоявшие в амбаре, не давали достаточно тепла, чтобы разогнать январский холод, и Джейн радовалась, что на ней меховые нарукавники и платье с кроличьей подкладкой. Рядом с ней пристроилась Лиззи. – Джейн, я так рада, что ты смогла приехать домой на свадьбу, – сказала она; ее милое лицо раскраснелось от танцев. – Так странно, что через несколько дней я уеду жить в Йоркшир… – Голос ее задрожал. – Я буду скучать по тебе и по Вулфхоллу. – Твой супруг с виду добрый человек, – постаралась успокоить сестру Джейн. – Он, кажется, очень гордится тобой. Я уверена, вы будете счастливы. Когда я отправилась ко двору, то сильно скучала по дому, но потом это прошло. Там происходило много разных событий, и это отвлекло меня. Вот мать будет ужасно скучать без тебя. Эдвард, Томас и я при дворе, Гарри бо́льшую часть времени проводит в Тонтоне, и у нее для компании останется только Дороти. Дом будет казаться ей совсем пустым. – Могу я задать тебе вопрос? – Лиззи покраснела и наклонилась к уху Джейн. – Мать говорит, что в брачную ночь я должна позволить сэру Энтони делать все, что ему захочется, чтобы у нас появились дети. Я спросила ее, что она имеет в виду, и она ответила, что мужчина должен вложить свой член в женщину, чтобы дать ей семя, из которого происходит жизнь. Она сказала: в первый раз будет немного больно, но после придет удовольствие. Но одна из девушек говорила, что это очень больно. Ты думаешь, это правда? Джейн сглотнула. Откуда ей знать о таких вещах? Ни один мужчина не испытывал желания даже поцеловать ее, не говоря уже о том, чтобы лечь с ней в постель. Она покачала головой: – Я не знаю ни мужчин, ни любви. Одна из придворных дам королевы говорила, что ее брачная ночь была чудесной, но о подробностях она не распространялась. Почему бы тебе не сказать о своих опасениях сэру Энтони? Он выглядит добродушным. Я уверена, все будет хорошо. Очевидно, так и случилось. Лиззи уложили в постель с женихом под шуточки многочисленной компании, она лежала с окаменевшим лицом, однако на следующее утро вышла из спальни с широкой улыбкой.
Прежде чем вернуться ко двору, Джейн совершила поездку в Эймсбери, взяв с собой Гарри и племянников. Один раз брат был там без нее: он привез с собой няню, чтобы она побыла с детьми, пока он забирает из монастыря их мать. Однако у Кэтрин была лихорадка, и она не могла выйти к нему: так сказала Гарри монахиня, принимавшая посетителей. На этот раз, когда они приехали, Кэтрин помогала на кухне. Когда ее привели в комнату привратницы, Джейн поразилась переменам в ней. Невестка исхудала, кожа туго обтягивала резко выступающие скулы, глаза были дикие. Хуже всего было то, что она, казалось, не понимала, кто такая Джейн. – Кэтрин? Это я, Джейн! Я привезла Джона и Нэда. Они на рынке с Гарри. – Кто такие Джон и Нэд? – спросила Кэтрин, безучастно глядя на гостью. – Ваши сыновья. – У меня нет сыновей. Их забрали от меня, после того как нас застали вместе. – Кто застал вас? Но Джейн уже знала ответ. Голос Кэтрин превратился в шепот. – Они нашли нас в Старой комнате. Мы были голые, вот стыдоба. Я была в его объятиях. Джейн не хотела больше слушать. Щеки у нее горели. – Ваши сыновья здесь! – повторила она. – Пойдемте, и вы увидите их. – Она потянулась к худой, как птичья лапка, руке невестки. – Нет! – крикнула Кэтрин, отдергивая руку. – Оставьте меня в покое! Джейн повернулась к привратнице, которая и не подумала оставить их наедине, молясь про себя, чтобы та не услышала слов Кэтрин. – Чем она больна? Монахиня покачала головой: – Я не знаю. Хотите поговорить с настоятельницей? – Да, конечно, – ответила Джейн. Они подождали; наконец у решетки, отделявшей приемный зал от остального монастыря, появилась сильно постаревшая приоресса Флоранс с лицом хищной птицы. – Джейн Сеймур! – воскликнула она. – Как приятно вас видеть. Мне очень жаль, что вы застали леди Сеймур в таком плачевном состоянии. Увы, врачи не могут определить, что с ней случилось. Она никогда не была счастлива здесь. Бедняжка доверительно сообщила нам причину своего прибытия в монастырь. Даже если бы она не сделала этого, мы бы все узнали из ее бормотания. Мы никого не осуждаем. Бог простил ее, потому что она искренне раскаялась, но я боюсь, ее печаль была так велика, что она потеряла рассудок. – Потеряла рассудок? – эхом отозвалась Джейн. Она посмотрела на Кэтрин, сидевшую тут же и бессмысленно листавшую молитвенник. Несчастная не замечала ничего вокруг и не слышала того, что было о ней сказано. – У нее бывают периоды просветления, но воспоминания о прошлом слишком болезненны для бедняжки, и мы снова ее теряем. – Я привезла ее сыновей, чтобы она их увидела, – сказала Джейн. – Вероятно, будет лучше, если этого не случится, – ответила приоресса. – Мы не хотим, чтобы она расстраивалась. Только так мы можем заставить ее принимать пищу. Ей лучше оставаться в своем собственном мире. – Мать настоятельница, мне очень грустно видеть ее такой, – проговорила Джейн, сглатывая слезы. – Это все очень печально. Чем я могу помочь? – Молитесь за нее, дитя мое. Она в руках Божьих. Мы ее утешим. – Я буду молиться, – обещала Джейн. – Вы напишете мне, если произойдут какие-нибудь изменения? – Напишу, – ответила приоресса Флоранс. – Лучше не беспокоить ее, Джейн. Любые напоминания о прошлой жизни лишь причиняют ей страдания. Джейн поняла: ей рекомендуют больше не приезжать. Она вынула из кошелька несколько монет и положила их на полочку, сказав: – На ее утешение. Я пришлю еще, когда получу жалованье за следующие четыре месяца. Привратница увела Кэтрин из приемного зала. Джейн смотрела ей вслед и думала, увидит ли она еще когда-нибудь эту страдалицу.
Через пять дней Джейн отправилась в Лондон в сопровождении горничной и грума. Первую остановку они сделали у церкви в Бедвин-Магне, где она преклонила колени перед памятной доской малыша Джона и помолилась о своих умерших брате и сестре. Она знала: ей всегда будет не хватать милой Марджери и умного Энтони. Поднявшись на ноги, Джейн заметила, что она в церкви не одна. На скамье, подперев голову руками, сидел священник, плечи его вздрагивали. – Отец? – Джейн торопливо подошла к нему. – Что случилось? Он поднял заплаканное лицо: – О дочь моя, стоило ли мне доживать до этих дней! Мы все пропали. Собор духовенства поддался давлению и объявил короля верховным главой Церкви Англии. Власть папы теперь не имеет значения. Это королевство впало в ересь, и нашим душам грозит проклятие. Пастырь снова разрыдался, а Джейн встала на колени рядом с ним, не в силах объять разумом всю чудовищность услышанного. Священник схватил ее за руку: – Король должен быть верховным главой, насколько это позволяет ему закон Христов. И вот что я вам скажу, добрая госпожа, такого он не позволяет! Знакомый и привычный мир рушился. – Его святейшество – наместник Христа на земле, законный преемник святого Петра, – продолжил излияния священник. – Разве наш Господь не обращался к своему ученику со словами: «Ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее»[58]. Только папа может быть главой Церкви; никакой король не вправе узурпировать его власть. «Мы стоим у ворот ада, – невольно подумала Джейн. – Никакой человек, будь то король или император, не может отменить власть, дарованную нашим Спасителем. Это гордыня и греховная самонадеянность, закон никогда ее не оправдает». – Как страшно слышать это, – сказала она. – Я служу королеве и знаю, что она будет сильно расстроена. – Она храбрая женщина и любима многими. Молюсь, чтобы папа высказался в ее пользу. Это единственное лекарство от безумия. Джейн пронзила ужасная мысль: – Нас всех отлучат от Церкви? – Короля наверняка, и тех священнослужителей, которые поклянутся в преданности ему. И где мы тогда окажемся, лишенные возможности причащаться не по своей вине? От такой перспективы кровь стыла в жилах.
В монастырских гостевых домах по всему пути в Лондон только и говорили, что про объявление короля главой Церкви. Люди в основном не одобряли этого и тревожились, но некоторые считали такие изменения благими. – Почему мы должны платить налоги Риму? – спрашивали они. – С какой стати папа вмешивается в дела Англии? Вернувшись ко двору, Джейн застала Екатерину, как обычно, спокойной. – Король никогда не порвет с Римом, – уверяла она своих дам. – В сердце своем он добрый сын Церкви, просто злится, что его святейшество медлит с решением. Я хорошо знаю короля. Это просто демонстрация недовольства, бряцание оружием, не более. Джейн хотелось бы в это верить. Поговаривали также о заговоре против доброго епископа Фишера, верного сторонника королевы: его будто бы пытались отравить. Несколько человек, принимавших пищу за столом епископа, умерли, а сам он, проявлявший умеренность в еде, избежал печальной кончины. Многие полагали, что в ответе за это леди Анна. Джейн с трудом верилось в подобное обвинение. Да, Анна могла проявлять порочность и определенно была мстительна, но Джейн не представляла, чтобы она опустилась до убийства.
Пришло лето, двор снова перебрался в Виндзор. Известий из Рима не поступало, и даже терпение королевы постепенно истощалось. Король неохотно согласился на то, чтобы принцесса Мария вновь приехала к матери. Девушке исполнилось пятнадцать, но для своего возраста она была слишком маленькой, худенькой и печальной. Она много болела в течение года и выглядела бледной. Екатерина старательно следила за тем, чтобы принцесса хорошо питалась и много гуляла на свежем воздухе. Ради нее все должны были пребывать в веселом расположении духа. К всеобщему облегчению, король на несколько дней увез Анну Болейн в Хэмптон-Корт. Екатерина явно наслаждалась передышкой. Она отправлялась на долгие прогулки по Главному парку со своей всегда серьезной дочерью и пыталась развлечь ее музыкой и танцами в личных покоях. Джейн делала успехи в игре на лютне, и Мария, с детства обучавшаяся музыке и достигшая больших успехов, обучала ее более сложным приемам. – Вы это хорошо освоили, госпожа Джейн, – сказала она хрипловатым тихим голосом, и на ее обычно плотно сомкнутых губах заиграло подобие улыбки. – Станцуем павану? – Это было бы честью для меня, ваше высочество, – вставая, откликнулась Джейн, а королева тем временем дала знак музыкантам начинать. Джейн успешно выучила все модные танцы, популярные при дворе, но павана, где на два ритмических удара приходился один шаг, оказалась слишком сложной. Ее всегда тянуло двигаться быстрее. – Нет! – крикнула принцесса, откидывая за плечо длинные рыжие локоны. – Вы должны останавливаться вместе со всеми! Джейн попыталась снова и все равно ухитрилась закончить движение раньше остальных. Кончилось тем, что все расхохотались и не могли остановиться. Приятно было видеть серьезное личико Марии смеющимся. Королева была довольна этим зрелищем сверх всякой меры. На протяжении следующих дней принцесса начала расслабляться и с радостью проводила время в обществе фрейлин, играла в жмурки в пустынных галереях и в салочки – в саду. Но когда вернулся король с Анной Болейн, Екатерина запретила дочери покидать свои покои. Тем не менее это не уберегло Марию оттревог по поводу того, что ее отец фланирует за дверями с любовницей, демонстрируя свое отношение к этой женщине всему двору. Шли приготовления к ежегодному летнему королевскому объезду страны, и Джейн ожидала, что Марию отправят обратно в Хансдон в Эссексе, где она обычно жила, но такого распоряжения не поступало. Они должны были отправиться из Виндзора в Вудсток в середине июля. Сама Джейн, другие фрейлины и горничные занимались укладыванием вещей. Утром того дня, когда был назначен отъезд, Джейн поднялась рано. Она была при королеве на мессе и помогала прислуживать ей за завтраком. Королева отложила нож. – Вам не кажется, что здесь как-то тихо, леди? – спросила она. И правда. Не слышно было обычной суеты, которая всегда сопутствовала отправлению двора в путь: ни топота бегущих ног, ни криков с улицы. Екатерина встала и выглянула в окно. Джейн услышала ее резкий вдох. – На дворе пусто, – сказала королева. Женщины столпились вокруг нее. И правда, там не было ни выстраивающихся в процессию всадников, ни повозок, ни груженных кладью мулов. – Может быть, я ошиблась и отъезд назначен не на сегодня? – сказала Екатерина. – Никто ничего не сообщает мне в последнее время. Она слабо улыбнулась своим дамам и отправила камергера лорда Маунтжоя узнать, когда выезжает двор. Он вернулся с мрачным лицом и сказал: – Мадам, король отбыл в Вудсток сегодня рано поутру.
Потребовалось время, чтобы они осознали смысл того, что сделал Генрих. Королева только кивнула и продолжила завтрак. Джейн решила, что это какая-то очередная уловка Анны Болейн, направленная на то, чтобы в очередной раз унизить Екатерину и обескуражить ее; примерно такой же трюк бывшая фрейлина проделала с Уолси в Графтоне. Из-за этого король больше не встретился с кардиналом. Джейн задержала дыхание. Вдруг у Анны такие же намерения и на этот раз? Нет, даже она не зашла бы так далеко. Папа еще не вынес решения. Екатерина ела и разговаривала с дочерью. Джейн обвела взглядом придворных дам и фрейлин, которые стояли в ожидании распоряжений. Она встретилась глазами с Марджери Хорсман. У той тоже был озабоченный вид. Джейн помогала убирать со стола серебряное блюдо, на котором подавали завтрак королеве, когда доложили о прибытии гонца в королевской ливрее. Тот поклонился Екатерине, но говорил, глядя в одну точку где-то у нее за плечом: – Ваша милость, я прибыл сообщить вам, что королю угодно, чтобы вы освободили замок Виндзор в течение месяца, – сказал он и сглотнул. Король оставил королеву, даже не попрощавшись; уехал от нее, не сказав ни слова; покинул женщину, которая была его верной женой двадцать два года и рожала ему детей. Джейн наблюдала за Екатериной; та старалась сохранить самообладание. Принцесса, потрясенная новостью, смотрела на мать. Потом королева заговорила, голос ее был тверд: – Куда бы я ни уехала, я остаюсь его женой и буду молиться за него.
– Меня отправляют в Истхэмпстед, – сообщила королева собравшемуся вокруг нее двору однажды жарким августовским вечером. – Это приличный дом, где хватит места всем. Я приглашаю вас ехать со мной. Никому не будет отказано. Король милостиво согласился выплачивать жалованье каждому. Джейн уже решила: если будет можно, то она останется с королевой. Девушка так привязалась к Екатерине, что не могла вынести мысль о расставании с ней. Очевидно, большинство фрейлин чувствовали то же самое. Джоан Чепернаун уехала, но только потому, что ей предстояло вскоре выйти замуж. Истхэмпстед-Парк был охотничьим угодьем посреди Виндзорского леса, в десяти милях от замка. По пути королева рассказала им, что в прежние годы несколько раз останавливалась там и дом отличный. Улыбка не сходила с ее губ. Джейн была тронута тем, как приветствовали королеву люди, мимо которых проезжала процессия. Когда копыта лошадей процокали по подвесному мосту мимо ворот с караульными помещениями с двух сторон, у Джейн возникло ощущение, будто они въезжают в тюрьму, однако здание, которое выросло перед ними, больше походило на дворец. Маленькая свита Екатерины разместилась в центральной из трех частей дома, окружавших внутренний двор; окна спален выходили на оборонительный ров. Король и правда проявил щедрость. Вскоре после прибытия в услужение к королеве были присланы двести пятьдесят новых фрейлин, а сама она получила столь хорошее содержание, что могла сохранить вокруг себя великолепие, к которому привыкла. Джейн надеялась, что его милость мучит совесть. Новых фрейлин устроили в других крыльях, девушками строго управляли прибывшие с ними наставницы. Они появлялись только тогда, когда королева принимала посетителей. Без сомнения, все это было сделано для того, чтобы никто не сказал, будто теперь, когда король живет отдельно от королевы, он содержит ее с меньшей пышностью. Существование было комфортное, но Джейн все равно чувствовала, что они находятся в изгнании. Принцессе Марии было запрещено навещать мать, так же как и верным подругам королевы леди Эксетер и герцогине Норфолк. Герцогиня жила отдельно от герцога, который был дядей Анны Болейн. Он поддерживал племянницу, а его супруга – королеву. По крайней мере, леди Уиллоуби и леди Парр позволили остаться, так что у Екатерины не было недостатка в компаньонках, близких ей по рангу. А леди Эксетер прислала свою служанку Элизу Даррелл, чтобы та исполняла роль фрейлины королевы и связующего звена между ними. Хотя Джейн и Элиза были кузинами – бабушка Джейн происходила из семейства Даррелл, – они никогда не встречались, но понравились друг другу с первого взгляда. Элизе было девятнадцать; красивая девушка со светлыми волосами и зелеными глазами, она завоевала сердца всех, кроме Нан Стэнхоуп. Нан в эти дни была не в духе. Ей не нравилось, что она живет вдали от Эдварда, и отчаянно хотелось вернуться ко двору.
Осенью Джейн была при королеве вместе с леди Уиллоуби, когда в Истхэмпстед для встречи с Екатериной явилась депутация лордов Тайного совета. Говорил архиепископ Йоркский. Он сообщил опальной королеве, что университеты Европы постановили: у папы не было ни полномочий, ни оснований для того, чтобы давать разрешение на ее брак с королем, и, следовательно, он ничтожен. Джейн ужаснулась, когда королева упала на колени и просительно воздела вверх руки. – Я истинная жена короля! – воскликнула она. – Он поддался страсти, и я не могу представить, чтобы суд Рима и вся Церковь Англии согласились с таким незаконным и ложным утверждением. Повторяю вам, я его жена и буду молиться за него. Лорды были неумолимы. – Мы обязаны предупредить вашу милость о том, что может сделать король, если вы станете упорствовать в неповиновении, – сказал архиепископ. – Я взойду на костер, если король прикажет! – крикнула Екатерина. – Может дойти и до этого, – раздраженно бросил архиепископ, и они ушли, оставив свою жертву дрожащей и не имеющей сил подняться. Дамы и фрейлины поспешили прийти на помощь своей госпоже. Джейн трясло от возмущения, она принесла влажное полотенце, чтобы положить на лоб королевы. Как можно так ужасно обходиться с ее любимой госпожой! Браками королей распоряжается папа, а не какие-то университеты! Через несколько дней от короля пришел приказ: королева и ее двор должны переехать в поместье Мор рядом с Эшером, которым когда-то владел кардинал Уолси. Особняк был великолепный, и Екатерина, как и прежде, жила здесь в подобающем ее статусу достатке. Приезжали гости, среди них – венецианский посол со свитой из тридцати элегантных джентльменов. Джейн оказалась среди восьмидесяти фрейлин, которые прислуживали королеве, когда посольство явилось присутствовать при ее обеде. Джейн всегда удивлялась, как короли и королевы могут есть на глазах у большого скопления людей, для которых это почти что развлечение. «Я бы не смогла, – думала она, – и кусочка бы не проглотила от смущения». После этого подали гиппокрас[59] с вафлями, и все гости перемешались. Перед Джейн возник темноглазый молодой человек с оливковой кожей. – Bella signorina![60] – обратился он к ней, целуя руку. – Английские дамы так прелестны. Джейн не знала, что на это ответить. Ее ошеломило и приятно удивило столь восторженное обращение молодого мужчины. – Благодарю вас, сэр, – сказала она. – Надеюсь, вам нравится в Англии. – Мы встречаем здесь много удивительного, – ответил он, – но ничто не сравнится с прекрасными английскими леди! Скажите, вы служите королеве? Она милая женщина? – Она самая милостивая госпожа, – ответила Джейн. – Где вы живете в Италии? – В Венеции, signorina, – La Serenissima![61] Вам надо побывать там. Это прекрасный город. Я заберу вас туда, а? – Он многозначительно взглянул на Джейн. И пока она представляла себя хозяйкой палаццо в Италии, рядом с красавцем-мужем и выводком детишек с оливковой кожей, к ее удивлению, молодой человек поклонился и двинулся дальше, мимоходом похлопав свою собеседницу по ягодицам. Джейн возмущенно развернулась, но его уже и след простыл. – Со мной он поступил так же! – сердилась Дороти. – Вот наглец! – Первый мужчина за долгие годы проявил интерес ко мне и исчез через две минуты – это обидно! – воскликнула Джейн, потом вдруг они обе расхохотались. – Приятно было услышать, как тебя называют bella signorina, даже если он на самом деле так не думал, – сказала Джейн.
В начале декабря умерла леди Парр, и Мор погрузился в траур. Королева любила ее и была сломлена этой внезапной утратой. Теперь она могла полагаться только на леди Уиллоуби, которая отличалась непоколебимой преданностью королеве, но при этом была въедливой и обладала жгучим испанским темпераментом. Она имела склонность скорее пилить и изводить придирками, чем мягко уговаривать, и Джейн чувствовала, что Екатерине сейчас нужен человек более мягкий. Она хотела бы сама давать королеве утешение, но королева не доверялась настолько своим фрейлинам. Лучом солнца среди мрака стало письмо от Томаса с сообщением о его возвращении в Англию. Брат хорошо провел время во Франции, но, хотя король Генрих был неизменно любезен с ним, он не предложил ему повышения, поэтому Томас планировал остаться на службе у Брайана. «Благословение Брайану, – мысленно возгласила Джейн. – Мы все ему многим обязаны». Она больше не надеялась, что сэр Фрэнсис попросит ее руки; теперь он не мог бы этого сделать, даже если бы хотел. Ни один из приближенных короля не станет искать себе невесту при дворе отвергнутой королевы.
Скорбное Рождество они провели в Море. Король опять отказал Екатерине в просьбе иметь при себе дочь и запретил ей общаться с послом Шапуи. Джейн получила письмо от Лиззи, которая наслаждалась жизнью в Йоркшире, хотя и скучала по родным. Сэр Энтони оказался снисходительным мужем и все больше нравился ей. По его просьбе она сшила для короля рубашку с высоким воротником и послала в подарок на Новый год. Отец прислал Джейн поздравления с праздниками, отчего ей захотелось домой, а Эдвард передал оленину. Джейн поднесла ее королеве вместе с шелковым кошельком, который изготовила сама, и была вознаграждена улыбкой Екатерины. В рождественский сочельник в дом принесли святочное бревно, в Рождество устроили пир, отмечали и Новый год, и Двенадцатую ночь, но на всех торжествах лежала тень печали, и, конечно, они не шли ни в какое сравнение с теми, что устраивались в их отсутствие при дворе короля и в Вулфхолле. Екатерина старалась поддерживать веселье, но отсутствие леди Парр накладывало на все отпечаток грусти. Джейн была рада, когда фрейлины организовали игру в охоту за сокровищем и все носились по дому с криками и визгом.
Глава 10
1532 годЭлиза Даррелл помогла тайно доставить королеве письмо от мессира Шапуи. Екатерина просматривала его, сидя в кресле у открытого окна, где могла наслаждаться майским солнышком. Придворные дамы и фрейлины находились рядом, они слушали, как Бесс Чеймберс читает вслух старый роман. Наблюдая за Екатериной, Джейн догадалась, что новости получены невеселые. Королева подняла глаза от письма, лицо ее было встревоженным. – Духовенство отказалось от своей власти утверждать законы Новой церкви без согласия короля. Это само по себе плохо, но есть новости и похуже. Когда епископы явились на собор, его милость обратился к ним и сказал, что считал священников в своем королевстве полностью подвластными ему, но теперь понял, что они были его подданными только наполовину, потому что все они клялись в верности папе вопреки клятве, данной королю. Поэтому у них нет иного выбора, кроме как отказаться от своей лояльности к Риму. Отныне и впредь они будут отвечать только перед королем, но не перед папой. – Голос королевы звучал сдавленно. Джейн стало тошно. – Это означает, что король порвал с Римом? – резко спросила леди Уиллоуби. – Боюсь, да. Не могу поверить, что он зашел так далеко. – Екатерина была так сильно огорчена, что, пожалуй, впервые в жизни сорвалась и при своих дамах дала королю оценку, какой он заслуживал. – Это еще не все. Сэра Томаса Мора, моего преданного друга, лишили поста лорд-канцлера. Он не согласился поддержать эти изменения. Если бы только папа наконец сказал свое слово! Я знаю, мой супруг хочет вернуться к единоверцам. Он не желает оказаться в изоляции от христианского мира или быть отлученным от Церкви. Женщины ужаснулись, услышав эти новости. Только Нан Стэнхоуп молчала. – Разумеется, – сказала Екатерина, – господину Кромвелю не удастся провести свои реформы беспрепятственно. В последнее время Джейн часто слышала о мастере Кромвеле. Принудительное изгнание ломало барьеры между королевой и ее верными фрейлинами. Екатерина начала более откровенно выражать при них свои взгляды и держала в курсе происходящего. Люди глумливо посмеивались над Томасом Кромвелем, сыном кузнеца, ставшим хорошим законником, но только у него за спиной. Кромвель долго состоял на службе у кардинала Уолси, однако после падения своего господина переметнулся к королю и сделался для него незаменимым. Королева говорила: это потому, что он готов на все – и хорошее, и дурное. Она рассказала фрейлинам о предостережениях Шапуи. По его словам, Кромвель возвысился над всеми, кроме леди Анны, и теперь пользуется бо́льшим доверием короля, чем сам Уолси в его лучшие времена. Не было секретом, что Кромвель – горячий сторонник реформ. Он одобрял идею главенства короля над Церковью; как и Анна, хотел, чтобы Библию перевели на английский; находился в оппозиции к королеве и противостоял всему, что она поддерживала, включая Церковь Рима. Джейн задрожала, ей стало боязно за свою госпожу. Если Кромвель действительно так беспощаден, как говорили о нем люди, то будущее едва ли окажется для нее светлым.
В тот месяц им приказали переехать во дворец Хатфилд. Выстроенный из красного кирпича, он имел просторный двор в центре и был окружен утопавшим в цвету садом. Гуляя по соседнему парку и наслаждаясь видами или танцуя в главном зале с другими фрейлинами для услаждения королевы, Джейн думала, что это не самое худшее место, куда король Генрих мог сослать неугодную супругу. Однажды, прогуливаясь в одиночестве по парку под палящим солнцем, она присела отдохнуть в тени старого дуба и внезапно ощутила непонятную внутреннюю дрожь. Что это было? Джейн сама не знала. Но точно не страх. Скорее ощущение значительности, даже торжества. Она встала и пошла в дом; чувство ослабело. Потом Джейн уловила его снова, весьма определенно. А затем, хотя слова не были произнесены вслух, она услышала их у себя в голове: «Это деяние Господне; любуются им очи наши». Кажется, говорила женщина, Джейн едва ли могла определить точно. Она испытала прилив радости, потому что в глубине души поняла, что это предвещает: королева будет оправдана, папа выскажется в ее пользу. То, что она услышала и почувствовала, было пророчеством, Господь избрал ее, Его покорную рабу, чтобы передать свое послание. Такое откровение кого угодно могло привести в трепет. Джейн поспешила во дворец, но вдруг замедлила шаг. Может быть, лучше пока ничего не говорить королеве, вдруг она ошиблась? Жестоко будет зародить в Екатерине напрасную надежду. Но когда девушка вошла в покои королевы, то изменила первоначальное решение, потому что увидела, как ее добрую госпожу утешают Марджери и Бесс. – Король отставил от должности леди Уиллоуби, – сказала ей Исабель. – Он дурной человек, злой человек; он считает, что леди Уиллоуби плетет интриги вместе с королевой! И теперь у ее милости не осталось придворных дам, ей не с кем поговорить, кроме нас, фрейлин. «Хорошо еще, – подумала Джейн, – что Екатерина позволила им сблизиться с ней». Вслух она сказала: – Я уверена, папа скоро вынесет решение и все будет хорошо. Скоро три года, как дело отозвали в Рим, и оно не может тянуться дольше. Тогда правда и порядок восторжествуют, вот увидите. – Я молюсь об этом! – горячо откликнулась Исабель.
Август принес с собой визит Томаса – долгожданное развлечение для фрейлин. Джейн была удивлена и обрадована, увидев его кланяющимся королеве. Какой же он красивый – ясные глаза, улыбчивое лицо и пышная каштановая борода. Король, как сказал Томас, сделал его главным лесничим в Энфилд-Чейсе, и, так как Хатфилд расположен неподалеку, он приехал засвидетельствовать свое почтение ее милости и навестить сестру. Должность была незначительная – Джейн это понимала, – но Томас объявил о назначении таким тоном, что можно было подумать, будто его сделали лорд-канцлером. Она подавила улыбку. К неумеренным амбициям брата и его почтению к титулам Джейн привыкла с детства. Больше ее удивило желание Томаса посетить королеву, но, разумеется, главным в его мотивах было желание покрасоваться. Томас провел в Хатфилде всего около часа, и бо́льшую часть этого времени они гуляли по саду и обсуждали семейные новости. – Мать и отец живут хорошо, – сообщил ей брат. – Мальчики быстро растут. Гарри нравится работать у епископа Гардинера, который сменил Уолси в Винчестере. А супруг Лиззи уехал в Джерси. Он получил пост коменданта, и они с Лиззи будут жить в королевском замке! Но она присоединится к мужу позже, когда он будет готов ее принять. – Томас замолчал. – Тебе это не понравится, Джейн, но Лиззи не хотела оставаться одна в Йоркшире, поэтому они заперли дом, и сэр Энтони договорился о месте для нее при дворе леди Анны. Джейн это и правда не понравилось. Она пошла дальше, потрясенная. – Тебе тоже следовало бы поискать себе должность, – сказал Томас. – Не сомневаюсь, что сэр Фрэнсис рад был бы помочь. Я продолжаю работать у него. Могу спросить. Джейн накинулась на брата: – Как я могу пойти на службу к женщине, оскандалившейся на весь христианский мир и сделавшей все, чтобы разрушить брак королевы? – горячилась она. – Я никогда не предам свою добрую госпожу. Томаса ее чувства не тронули. – Это был бы мудрый шаг, сестра. Ты, вероятно, слышала о смерти архиепископа Уорхэма. – (Джейн слышала; духовник Екатерины сообщил им печальную новость, и королева очень беспокоилась, кто займет место Уорхэма.) – Как тебе известно, он был против развода, – продолжил Томас, – но человек, который сменил его, Томас Кранмер, – за, и к тому же он страстный поборник реформ. Он был домашним священником у Болейнов. Думаю, скоро, очень скоро наступят великие перемены, и тебе лучше к ним подготовиться. – Только папа может вынести решение о разводе, – не отступалась Джейн, холодея при мысли о том, какими последствиями грозит королеве назначение Кранмера. – Опросить университеты – это была идея доктора Кранмера. Заручившись мнением ученых людей в пользу короля, он может и не ждать решения папы. Говорят, Кранмер именно так и поступит. Джейн в ужасе уставилась на брата. Через некоторое время она обрела голос: – У него нет прав. Это будет незаконно. – Милая сестрица, где ты была все эти годы? – Томас начинал терять терпение. – Мы находимся в процессе другого развода – Англии с Римом. Он почти завершен, не хватает только ратификации парламентом. Поверь мне, брак короля состоится, и очень скоро. – Значит, мне лучше остаться с королевой – истинной королевой! Джейн не могла скрыть, как она расстроена. – Это будет неразумно и может плохо отразиться на нашей семье. Времена сейчас опасные. Леди Анна заправляет всем. Сторонники королевы – ее враги. Она угрожала даже принцессе. Подумай о своем положении. Подумай обо всех нас. Король берет с собой леди Анну во Францию, и отец будет в свите, чтобы продемонстрировать преданность. Лиззи тоже едет, и Эдвард. Надеюсь, ты присоединишься к ним, если сэр Фрэнсис одобрит это. Подумай о своем будущем, Джейн. Если останешься с королевой, это не даст тебе никаких преимуществ, совсем наоборот. – Нет! – отрезала Джейн. – Я ни для кого не отступлюсь от своих принципов. Томас раздраженно фыркнул: – Ты просто дурра! И я не позволю тебе упорствовать в своей глупости.
Вскоре после этого Джейн получила письмо от Брайана. Передавая послание, королева вопросительно смотрела на свою фрейлину. С чего бы это Брайану писать к ней? Читая, Джейн погружалась в уныние. Сэр Фрэнсис предлагал ей брак с Уильямом Дормером, сыном и наследником сэра Роберта Дормера, члена парламента от Западного Уайкомба.
Леди Дормер в девичестве была Джейн Ньюдигейт и через Невиллов происходит от короля Эдуарда III, – писал Брайан. – Дормеры не могут не одобрить вас, а вы – их. Они стойкие католики, и сэр Роберт предпочитает вести тихую жизнь в деревне, потому что ненавидит и боится власти и амбиций тех, кто заправляет при дворе, он опечален разрывом с Римом. Уильяму двадцать лет, он унаследует приличное поместье.
– От кого это письмо, Джейн? – спросила королева. Она имела такое право и даже была обязана это сделать, потому что считалась in loco parentis для своих фрейлин. Джейн показала ей. В письме не содержалось ничего такого, что королева могла не одобрить. – Это почетное предложение и хорошая партия для вас, – сказала Екатерина. – Мне будет очень грустно потерять вас, дорогая Джейн, но вам не следует упускать такую возможность. Сколько вам лет? – Почти двадцать пять, мадам. – Это хороший возраст для замужества. Я была почти как вы, когда вышла за короля. – Но Уильям Дормер на пять лет моложе меня, мадам. – Его милость тоже был на пять лет моложе. – Королева улыбнулась. «Да, – подумала Джейн, – и вот посмотрите, что случилось, когда вы постарели, а он еще полон сил». – Сэр Роберт явно стоек в вере и, кажется, не поддерживает желания короля развестись, – одобрительно сказала Екатерина. – Но меня удивляет, что сэр Брайан, который всей душой за реформы и гнется под любым ветром, лишь бы сохранить любовь короля, предлагает вам союз с семьей, которая верна старым традициям. А вот Джейн не удивилась. Тут явно не обошлось без Томаса: это часть хитроумного плана, как разлучить ее с королевой. – Он мой родственник, мадам, – сказала она, – и всегда помогал продвижению к успеху моей семьи, к тому же ему известно, что я тоже верна старым традициям и бесконечно предана вашей милости. Он сделал правильный выбор, но, мадам, я не хочу оставлять службу у вас. – Ерунда, Джейн! – ответила королева. – Вы дороги мне и всегда выполняли свои обязанности хорошо. Тем не менее отец отправил вас ко двору в надежде, что я помогу вам подыскать достойного супруга. Зачем, как вы думаете, я приглашала в свои покои всех этих юных джентльменов? Это все ради вас, фрейлин. Значит, вы должны принять предложение, особенно если учесть, что, по словам сэра Фрэнсиса, ваш отец благословляет этот брак. Джейн ощутила себя пойманной в ловушку: – Да, мадам. Брайан поставил ее перед fait accompli[62]. Неплохо было бы посоветоваться с ней самой. Джейн снова взглянула на письмо: – Если я соглашусь на этот брак, меня приглашают, с позволения вашей милости, посетить сэра Роберта и леди Дормер, чтобы познакомиться с их сыном. Они живут в Уинге, рядом с Эйлсбери. – Это очень хорошая идея, – сказала королева, – и конечно вам нужно поехать. Думаю, это недалеко. – Эйлсбери в тридцати милях отсюда, мадам, – сказала Нан Стэнхоуп, глядя на Джейн завистливыми глазами. – Вы можете взять с собой грума, и Марджери составит вам компанию. Марджери обрадовалась. У них было так мало развлечений. – Я сама напишу сэру Роберту Дормеру и выражу свое одобрение, – добавила королева, – надо назначить дату. А вы, Джейн, тем временем ответьте сэру Фрэнсису и сообщите, что довольны предложением и ожидаете скорой встречи с Дормерами. – Да, мадам, – ответила Джейн, уверенная, что она ничего не говорила о своем положительном отношении к предполагаемому браку. Все происходило слишком быстро. Утром она выполняла свои обычные обязанности и не думала о будущем и вдруг должна собираться замуж. Мало было убить Томаса, но он был далеко.
Господский дом поместья Уинг располагался среди красивых сельских угодий; это было старинное каменное здание с белой штукатуркой, высоким эркером (там, наверное, находился Главный зал, догадалась Джейн) и мощной дубовой дверью, заключенной в арочный проем. Все говорило о достатке и хорошем управлении. Приближение гостей заметили. Дверь внезапно открылась, из нее вышли мужчина и женщина. Они остановились у входа в ожидании, когда гости сойдут с лошадей. Мужчина, одетый в добротную черную накидку (сэр Роберт Дормер, как предположила Джейн), был с виду лет сорока пяти; его жена тоже была в черном, на голове капор в форме фронтона, а вырез ее платья закрывал воротник с рюшем. Муж улыбался, жена – нет. На самом деле она всем видом выражала неодобрение. Уильяма Дормера нигде не было видно. Джейн подозревала, что эта встреча станет тяжким испытанием. – Добро пожаловать, госпожа Джейн, – с легким поклоном сказал сэр Роберт. – А вы, должно быть, госпожа Марджери? – Да, сэр Роберт, – улыбнулась та. – Добро пожаловать, – с каменным лицом повторила за мужем леди Дормер, и Джейн сделала быстрый реверанс. – Прошу вас, входите. А вы, – она глянула на грума, – можете пойти вон в ту дверь и выпить кружку эля. В зале со сводчатым потолком и двумя красивыми гобеленами на стенах их ждал медноволосый молодой человек среднего роста. Это, значит, и есть Уильям Дормер. Похоже, он нервничал не меньше, чем она. Взглянув на жениха еще разок, Джейн подумала, что он очень красив. Какие скулы! А голубые глаза и полные губы! Вдруг перспектива брака перестала казаться ей такой уж невеселой. Уильям Дормер поклонился ниже, чем его отец, а Джейн снова сделала реверанс. Молодой человек не подавал признаков того, что посчитал ее такой же привлекательной, как она его. Он вообще не произнес ни слова. Сэр Роберт подал знак, чтобы все сели рядом с огромным камином, в котором стояла со вкусом собранная композиция из цветов, а леди Дормер кивком подозвала слугу: – Мы сейчас немного перекусим, Уолтер. Позаботьтесь, пожалуйста, чтобы еду подали быстро. Принесли вино, вафли и засахаренные фрукты, как для особого случая. Они были накрыты белоснежной салфеткой. Стало ясно, что леди Дормер управляет домашним хозяйством умело и, вероятно, строго. Джейн хотелось, чтобы она немного подобрела и улыбнулась. Девушка сомневалась, что ей понравится жить здесь под властью этой женщины. Поместье Уинг было не сравнить со счастливым Вулфхоллом, где всем заправляла мать Джейн. Развеять обстановку взялся сэр Роберт. Он спросил, как прошла поездка и хорошие ли гостиницы попались им на пути. Потом рассказал, что поместье Уинг было построено больше двухсот лет назад и он купил его вскоре после женитьбы. – Благодаря моей супруге дом стал таким, как сейчас, – добавил он, отчего уголки губ леди Дормер слегка приподнялись. Обед подали в приемном зале. Разговор все время прерывался неловкими паузами, которые торопливо заполнял сэр Роберт, повествуя о том, как хороша охота в этих краях, и делясь своими планами пристроить к дому новое крыло. О браке не было произнесено ни слова. Уильям мало участвовал в беседе, но Джейн чувствовала на себе его глаза. Кажется, он благоговел перед матерью и все время поглядывал на нее, будто искал одобрения. – Как дела у королевы? – спросил сэр Роберт. – Она в добром здравии, – ответила Джейн, стараясь есть изящно, – но ее тяготят печали. – Увы, бедная леди, – сказал он. – Мы переживаем за нее. – Она добрая госпожа, и мы все ее любим. – Джейн посмотрела на Марджери, та согласно кивнула. – Она не заслужила таких несчастий и тем не менее сохраняет бодрость духа, принимает все с терпением и великой верой. Леди Дормер подняла взгляд от тарелки: – Вам приятно находиться вдали от двора, госпожа Джейн? – Я не скучаю по нему, миледи. Я желаю служить своей милостивой госпоже. При дворе происходят такие вещи, которых я никак не могу одобрить. – Вот почему я держусь подальше от него, – вставил сэр Роберт. – Так лучше. Мы все здесь за королеву и за папу. – Двор – это место греха и безбожия! – выпалила вдруг леди Дормер. – Мой брат, Себастьян Ньюдигейт, был джентльменом в личных покоях короля и пользовался его милостями, но когда разразилось это скандальное дело о разводе, я предупредила брата, чтобы он не марал свою душу и честь и держался подальше от такой опасной и ядовитой заразы, как дурной пример его господина. К счастью, мой брат уже имел призвание к религиозной жизни и два года назад стал монахом в Лондонском картезианском монастыре. Так что, госпожа Джейн, если вы выйдете замуж за моего сына, мы бы не хотели, чтобы вы возвращались ко двору, если только королева не будет восстановлена в своих правах. – Я и не подумаю о таком, – сказала Джейн. – Леди Анне я служить не стану. Ее немного смутило то, каким тоном леди Дормер произнесла «если», говоря о возможном браке; вызывало досаду и молчание Уильяма. Неужели ему нечего ей сказать? Встреча становилась все более неприятной. Леди Дормер промакнула рот салфеткой. Все ее движения были крайне сдержанными, хотя в них имелась определенная грация, как у монахинь в Эймсбери. Джейн подумала, не была ли леди Дормер в прошлом невестой Господа? Но вот она повернулась к гостье и сказала: – Я намерена устроить достойный брак для своего сына. Когда я увидела разложение государства в этом королевстве, то решила женить его на какой-нибудь добродетельной девушке одного с ним ранга. Сэр Роберт согласился со мной и попросил заняться этим делом, желая привести его к завершению прежде, чем нашим намерениям помешает король, распорядившись браком по своему усмотрению и предложив нам нежелательный. Ведь Уильям – наш единственный сын и наследник больших владений, так что многие придворные ищут возможности выдать за него своих дочерей и прочих родственниц. – Сэр Фрэнсис Брайан – один из них, – сказал сэр Роберт. – Но он печально известен своей близкой дружбой с королем, и мы думаем, он лишь притворяется, что одобряет этот брак, – продолжила его супруга. – Он поддерживает леди Анну Болейн. Какой ему интерес в нас, если мы принадлежим к противоположному лагерю? Джейн слушала их со все возраставшим изумлением. – Но, леди Дормер, зачем сэр Фрэнсис стал бы добиваться этого брака, если бы на самом деле не хотел, чтобы он состоялся? – Думаю, это для того, чтобы отбить охоту у тех, кто мог бы предложить нам более подходящую партию, – без стеснения заявила хозяйка Уинга. – Каковы бы ни были причины, я бы не стала доверять этому человеку или подозревать в нем добрые намерения. Терпеть его не могу! – Тогда зачем вы согласились на мой приезд сюда? – спросила Джейн. – Сэр Фрэнсис обладает большим влиянием, как один из близких друзей короля, – ответил сэр Роберт. – Мы оказались в сложной ситуации и посчитали благоразумным согласиться. В конце концов, он выглядел серьезным, когда обсуждал с нами этот брак. – Он был вполне серьезен, – заявила Джейн. – Сэр Фрэнсис желает видеть меня благополучно выданной замуж и обратился к вам с предложением по наущению моего брата. Оба они хотят, чтобы я оставила службу у королевы. Сэр Фрэнсис выбрал мне в мужья Уильяма, потому что мы с ним держимся одинаковых взглядов – оба любим королеву и его святейшество. – Это все не имеет отношения к вам лично, моя дорогая, – подал голос сэр Роберт. – Вы кажетесь очень преданной и скромной молодой леди и нравитесь мне. Я уверен, и Уильяму тоже. – Он посмотрел на сына, тот изобразил некий жест, который можно было признать за кивок, выражавший согласие. – Но мы предпочли бы не иметь дел с человеком, столь близким к королю, как сэр Фрэнсис, у которого к тому же не самая лучшая репутация. – И что же будет дальше? – спросила Джейн, совершенно сбитая с толку; все это не укладывалось у нее в голове. Повисла короткая пауза. – Не бойтесь, мы еще раз обговорим это дело с сэром Фрэнсисом, чтобы убедиться, что его намерения искренни, – сказал сэр Роберт. Леди Дормер неодобрительно поджала губы. К счастью, обед был почти закончен, и вскоре гостьи смогли отправиться в обратный путь к гостинице в Тоттенхо, где провели предыдущую ночь. Джейн подозревала, что леди Дормер сделает все от нее зависящее, лишь бы расстроить ее брак с Уильямом. Про себя она вздохнула. Причиной всей этой неразберихи были Брайан и сунувшийся не в свое дело братец Томас, вот пусть теперь сами и расхлебывают эту кашу. Она не желала принимать в этом участие и убедилась в разумности такого решения, когда при расставании Уильям Дормер даже не поклонился ей, зато одарил высокомерным взглядом, недвусмысленно давая понять, что он ее не хочет.
Джейн опустилась на колени рядом с королевой и рассказала ей, что произошло. Екатерина похлопала ее по плечу: – Может быть, вы ошиблись, Джейн? Какие у них причины, чтобы не желать иметь вас невестой для своего сына? – Не знаю, что и думать, мадам. – Она не могла сказать королеве, как Дормеры ненавидят Брайана. Какая несправедливость, что его добрый жест – попытка договориться о помолвке – стал причиной того, что все может расстроиться! Джейн была близка к слезам. Увидев Уильяма Дормера, она воспылала надеждой, что и ей наконец улыбнулось счастье, а потом так быстро лишилась иллюзий. Дормеры не одобряли этот брак, и безразличие к ней Уильяма было обидным. Единственная надежда на замужество могла обернуться унижением. Джейн встала и взяла лютню. Не нужно предаваться таким грустным мыслям.
Брайан написал снова. Он с сожалением сообщал, что Уильям Дормер был помолвлен с другой девушкой – дочерью знатного вельможи сэра Уильяма Сидни.
Леди Дормер взялась за это дело, и вина лежит целиком на ней, – писал сэр Фрэнсис. – Она заверила меня, что обо всем условилась с леди Сидни еще прежде и не может взять назад свое слово. Я сказал ей, что они еще увидят, каких вершин Вы достигнете в жизни. Обещаю, Джейн, я устрою Вам брак получше этого.
Значит, у них на уме была другая партия. Леди Дормер не теряла времени даром. Она быстренько переговорила с женой сэра Уильяма и предложила своего сына в мужья его старшей дочери. Леди Сидни, очевидно, была очень рада. Брайан сообщил Джейн, что леди Дормер ездила в Лондон к сэру Уильяму вместе с сыном и там две матери условились о помолвке. Джейн, как ни старалась, не могла удержаться от мысли, что ее отвергли уже второй раз. Все это дело было в высшей степени неприятным. И в груди у нее кипело возмущение. Когда она рассказала королеве о произошедшем, Екатерина рассердилась, что бывало с ней редко. – Но ведь было же понимание, – сказала она, явно обескураженная. – Я знала, что леди Дормер против этого брака, мадам. Должна признаться, меня это опечалило. Очевидно, я недостаточно хороша для их сына. Екатерина обняла ее за плечи, чего раньше никогда не делала: – Ну что же, Джейн, если вы достаточно хороши, чтобы служить мне, значит вы слишком хороши для Уильяма Дормера. Джейн стало легче. Ей будет гораздо лучше здесь, в изгнании с любимой госпожой, чем в поместье Уинг в качестве нежеланной жены Уильяма. Приближалось Рождество. Фрейлины занялись изготовлением подарков для королевы и друг для друга. Джейн получила очередное послание от Брайана. «Вы не поверите, – говорилось в нем, – но Уильям Дормер поступил на службу к мастеру Кромвелю». Джейн была потрясена. Кромвель, конечно же, был последним человеком, который мог вызвать симпатии сэра Роберта и леди Дормер. Но стремление к личной выгоде, очевидно, пересилило все прочие соображения, потому что подобное назначение обеспечивало удобную позицию для дальнейшего продвижения. Что за лицемеры эти Дормеры! А подозревали ли Томас и Брайан, что такое может случиться? Может, потому они и затевали этот брак, который мог переместить ее в более выигрышное положение – в лагерь реформистов?
Часть третья. Соперницы
Глава 11
1533 годРаспоряжение пришло в феврале. Королева должна была переехать в замок Амптхилл, а численность ее двора сокращалась. Обширную свиту из присланных ранее фрейлин распустили, их осталось меньше тридцати. Джейн молила Бога, чтобы ей разрешили остаться. Мысль о разлуке с королевой была для нее невыносимой, тем более что все понимали: замок Амптхилл – это скорее тюрьма, чем дом для уединенной жизни. Их уже предупредили, что там будут введены новые правила и ограничения. Прежде всего им не позволят покидать пределы замка. Ссылка сама по себе не оказала желаемого воздействия, и король собирался более сурово покарать супругу за непослушание. Однако Джейн охотно согласилась бы претерпевать любые лишения, лишь бы остаться с Екатериной. Немыслимо было покинуть королеву в то время, когда она так пала духом. Королева собрала свой двор и внешне спокойно отпускала тех, кому предстояло уехать, однако голос у нее дрожал. Джейн, затаив дыхание, ждала и наблюдала, как женщины, которых отправляли по домам, бросались в слезы или растроганно целовали руку своей госпоже. У нее стоял ком в горле, ведь это были ее компаньонки и подруги; их связывала особая близость. Однако имени самой Джейн в списке не оказалось. Она с облегчением выдохнула. Шла подготовка к отъезду в Амптхилл, когда лорд Маунтжой принес письмо для Джейн. Читая его, она с трудом сдерживала слезы. – Плохие новости? – спросила Екатерина с полным тревоги лицом. – Да, мадам. – Джейн едва могла говорить. – Отец велит мне немедленно ехать домой. Он говорит, что написал королю, нашел для меня место при дворе и заплатил за него из любви ко мне. – У леди Анны? – тихо спросила Екатерина. Джейн даже подумать о таком не могла. В груди ее росло возмущение. Она не сомневалась, что это сделано по настоянию братьев, искавших личных выгод, и отец уступил им. «Ему ведь хотелось завоевать расположение Эдварда, – с горечью подумала она, – а расплачиваться приходится мне. И Брайан тоже наверняка сыграл здесь свою роль!» – Боюсь, что да, мадам. – Она безудержно зарыдала и упала на колени перед креслом королевы. – Позвольте мне остаться, ваша милость! О, позвольте мне остаться! Вы можете написать отцу и приказать… – Ш-ш-ш, дитя, вы думаете, мое слово будет иметь какое-то значение? Кроме того, для вас же лучше служить той, что в фаворе, чем неугодной изгнаннице. Ваш отец мудр, он понимает это. – Но я не могу служить ей. Я ненавижу ее и все, за что она выступает! – Мне очень жаль, – сказала Екатерина, – но этого не избежать. Вы должны слушаться отца, поезжайте домой, я вас благословляю. При этих словах королевы Джейн снова разрыдалась. – У меня никогда больше не будет такой доброй госпожи, – всхлипывала она. – Я хочу, я так хочу, чтобы все неприятности вашей милости и принцессы благополучно разрешились. Проливая потоки слез, Джейн с трудом поднялась на ноги и пошла собирать свои вещи, пока лорд Маунтжой готовил коней и эскорт для ее сопровождения. Она крепко прижалась к Екатерине, когда та обнимала ее на прощание и желала счастливого пути. – Ваша милость, знайте, я уезжаю не по своей воле! – воскликнула Джейн. – Я знаю, – утешительным тоном сказала Екатерина. – Да пребудет с вами Господь навеки! Последний реверанс, и служба Джейн у королевы закончилась.
Вулфхолл подремывал в укрытой снегом долине, как делал не одно столетие. Погруженная в печаль и недовольство, Джейн обрадовалась, увидев родной дом. Мать прижала ее к своей пышной груди, утерла дочери слезы. Она совсем не изменилась. Появилась четырнадцатилетняя Дороти; девочка очень повзрослела – она помогла отнести багаж Джейн в ее комнату. Больше никто не вышел – теперь это уже был не тот многолюдный дом, в котором прошло детство Джейн. Отец уехал на заседания суда в Солсбери, Гарри находился в Винчестере. Пришло письмо от Лиззи, которая ждала первого ребенка. – Она слишком молода, – сказала мать, когда Джейн пришла к ней на кухню, где хозяйка Вулфхолла вырезала листья из теста для украшения пирога. – Мне было девятнадцать, когда появился мой первенец. Лиззи всего пятнадцать. Молюсь, чтобы все прошло хорошо. Она ждет не дождется момента, когда сможет оставить службу у леди Анны и уехать в Джерси. Не думаю, что ей очень нравится при дворе, но нам всем приходится извлекать возможные выгоды из разных жизненных ситуаций. Хотя там что-то было в ее письме… Дороти, принеси его, пожалуйста. У меня руки в муке. Письмо было мигом доставлено, и Джейн внимательно прочла его. При дворе леди Анны, очевидно, царило оживление, часто устраивались танцы и прочие увеселения, юные кавалеры толпами устремлялись туда. «Да, – подумала Джейн, – только у нее нет вообще никаких прав содержать двор!» – Я не хочу служить леди Анне, – сказала она. Мать поморщилась и наставительным тоном заметила: – Иногда приходится делать то, чего не хочется. Но я не для этого дала тебе письмо. Читай дальше. Джейн пробежала письмо глазами, потом перечитала еще раз. Лиззи сообщала: ходят слухи, что король уже женился на Анне. Джейн в ужасе подняла взгляд: – Этого не может быть! Ведь папа еще не вынес решения. – Не вынес, –подтвердила мать, – как и архиепископ Кранмер, насколько мне известно. – Вероятно, это только слухи, – предположила Дороти, прихватив засахаренную сливу и быстренько засунув ее в рот. – Зная леди Анну, я уверена, она пожелала бы устроить пышную свадьбу со всем возможным блеском и великолепием, – сказала Джейн. – Она не согласилась бы на женитьбу втайне. Нет, Джейн не могла поехать ко двору и служить этой женщине, даже если она стала королевой. Это будет неправильно. Она так и заявит отцу, когда тот вернется домой.
– Об этом не может быть и речи, Джейн! – категорически отрезал сэр Джон со своего кресла, в котором восседал как глава дома. – Все уже устроено благодаря услужливости сэра Фрэнсиса Брайана. Если ты не поедешь, то тем нанесешь ему обиду и я останусь в убытке. – Я подозревала, что тут не обошлось без сэра Фрэнсиса, – с горечью проговорила Джейн. – Лучше бы он перестал вмешиваться в мою жизнь. Вспомните фиаско с Дормерами. – Тут не он виноват, – вступился за Брайана отец. – Брак по всем признакам был подходящим. А найти для тебя место при дворе предложил он сам в качестве компенсации за разочарование. Он расчистил путь. Отец выглядел усталым после долгой дороги. Мать подала ему кубок дымящегося лэмбсвула[63], чтобы согреться. – Я знаю, намерения у него были добрые, но он сделал все это, даже не посоветовавшись со мной! – пожаловалась Джейн. – Он посоветовался со мной, что важнее, – заявил отец. – Я обратился к королю, а сэр Фрэнсис сделал все остальное. Я заплатил за эту привилегию. Если наша семья стремится к процветанию, мы должны двигаться в ногу со временем. Леди Анна скоро станет королевой. Сэру Фрэнсису удалось обеспечить тебе место при дворе, ты займешь его и будешь выполнять свои обязанности как подобает. Я ни в коем случае не стану наносить обиду королю. Не в обычае отца было проявлять такую суровость, но он много дней имел дело со злоумышленниками и, очевидно, сейчас спутал свою дочь с одним из них. Сэр Джон посмотрел на нее горящим взглядом: – Джейн, то, что случилось с Дормерами, обострило вопрос о необходимости забрать тебя со службы у королевы. У нас есть своя гордость, и я не допущу, чтобы тебя отвергли еще раз, когда подвернется новый удачный брак. Леди Анне доложили, что ты приехала домой по собственной воле… – Это неправда! – перебила отца Джейн. Сэр Джон предостерегающе поднял палец: – Пусть лучше она думает, что это правда. Трудно было ожидать, что она примет к себе кого-то, открыто симпатизирующего королеве Екатерине, даже по рекомендации сэра Фрэнсиса. У меня есть амбиции относительно своих детей, Джейн. Лиззи вышла замуж за человека, которого высоко ценит король, и хорошо устроена. Эдвард с Томасом делают успехи в жизни и нацелены на дальнейшее продвижение. При дворе леди Анны ты получишь прекрасную возможность найти себе достойного супруга. Будь прагматичной, дочь моя. Подумай о нашей семье. Джейн прикусила язык. Она раздумывала, сможет ли быть корректной с леди Анной и принесет ли славу своему семейству. При дворе королевы Екатерины она не испытывала душевных терзаний, выражая преданность госпоже, только чувствовала, что делает все правильно. – Ты едешь ко двору, и точка, – заявил отец. Джейн стало ясно: она потерпела поражение.
Мать качала головой, осматривая платья Джейн. Она брала их в руки одно за другим и хмурилась. – Они прослужили не один год, их нужно заменить. – (Таков был вердикт.) – Посмотри, как вытерся шелк. Леди Анна верховодит модой, и тебя нужно подготовить соответственно. Пригласили портного и торговца шелком и бархатом. Джейн в нетерпении стояла рядом с матерью, пока та хмыкала и бормотала себе под нос, выбирая ткани. Наконец она остановилась на нескольких отрезах и заказала ленты, шнурки, булавки и голландское полотно на нижние сорочки. – Эти капоры можно подновить, – объявила леди Сеймур. – Нет, они слишком заношены. Заказать тебе французские? Леди Анна любила капоры на французский манер. Джейн быстренько представила себя в головном уборе в форме венца, который дерзко приоткрывал волосы. Она не хотела ни в чем быть похожей на Анну. – Я предпочитаю английские, – ответила она, взяла в руки один из черного бархата, в форме фронтона, и стала любоваться им. – Хорошо, мы закажем по два каждого фасона, – сказала портному мать. Джейн молча посмотрела на них и не стала возражать. Последняя неделя выдалась на редкость огорчительной. Она скучала по Екатерине и другим фрейлинам, которые не один год были ее компаньонками, к тому же беспокоилась, что готовит будущее для королевы. Поступление на службу к женщине, которая решилась сместить ее с трона, вызывало у Джейн ощущение, что она добавляет бывшей госпоже несчастий. Усталость не отступала. Однажды Джейн уснула, сидя на стуле, когда они с матерью и Дороти шили нижнее белье, которое она возьмет ко двору. Мать разбудила ее, встряхнув за плечо, и пощупала ей лоб. Потом нахмурилась: – Ты горишь, дитя! Лучше ложись в постель. Я принесу тебе горячий поссет с пиретрумом. Помоги ей, Дороти. Джейн с удовольствием забралась под одеяло и уснула, а очнулась с больным горлом, и не только: все тело ломило, кроме того, у нее была странная резь в глазах. Мать сидела рядом с постелью. – Ты проспала шесть часов, – сказала она и положила ладонь на лоб Джейн. – Все еще горячий. Я послала за доктором. Врач пришел вечером, принес пиявок и поставил их на руку Джейн. – Это поможет удалить дурную кровь и сбалансировать гуморы, – объяснил он матери, потом долго изучал мочу пациентки, осмотрел ее горло, пощупал шею. – Гланды у нее распухли, – сказал лекарь. – Нужно уменьшить жар. Держите ее в тепле, но не перегревайте. Продолжайте давать травяные настойки и поите обильно. Я зайду через неделю проверить, как у нее дела. Леди Сеймур взялась за дело. Когда Джейн не спала или не была в забытьи, а в этом состоянии она проводила бо́льшую часть времени, то все время ощущала присутствие матери. Та бесшумно двигалась по спальне, подбрасывала дров в огонь, обтирала больную влажным полотенцем, приподнимала и поила, кормила с ложечки медом, чтобы облегчить боль в горле, или просто сидела рядом и следила, не нужно ли чего. Иногда ее место занимала Дороти, тогда мать могла немного отдохнуть, а однажды вечером с Джейн остался отец – он читал ей истории из старинного бестиария, которые она любила в детстве. Приятно было снова услышать легенды о львах, единорогах, грифонах и пантерах. Она унеслась мыслями в другой мир, не такой запутанный и сложный, где перед ней не стоял неразрешимый моральный выбор. Отец сказал, чтобы дочь не беспокоилась: он написал леди Анне и сообщил о ее болезни, в ответ было получено любезное позволение Джейн приехать ко двору, когда она поправится и будет в состоянии это сделать. Больная девушка молилась, чтобы время отъезда было отсрочено, и, похоже, Бог услышал ее. За три недели лихорадка и боль в горле прошли, но болезнь так истощила силы Джейн, что она не могла встать с постели. Мать старалась поднять ее на ноги с помощью хорошего питания и стимулирующих лекарственных средств собственного приготовления, однако дочь шла на поправку медленно. Весной пришло известие исключительной важности. Отец услышал новость на рынке в Эймсбери – ее зачитывали королевские глашатаи. Сэр Джон поскакал домой, чтобы передать новость родным. Архиепископ Кранмер объявил союз короля с леди Екатериной не имеющим силы и аннулированным. Король женился на леди Анне, и этот брак признан законным и состоятельным. Леди Анна теперь королева Англии. Джейн плакала в подушку – о Екатерине, для которой это будет тяжелым ударом, и о себе, потому что служить Анне как королеве с ее стороны будет величайшим предательством по отношению к прежней госпоже. Кроме того, Джейн ужасало, что король не стал дожидаться дозволения папы и сделал все по своему усмотрению. Это было абсолютно безнравственно. Теперь-то уж его святейшество обязан заговорить! А вот отец ликовал. – Служить королеве Анне гораздо лучше, чем леди Анне! – радовался он, не обращая внимания на угрюмое неодобрение дочери, и поспешил отправить новоиспеченной правительнице послание с заверениями, что ее фрейлина поправляется и ждет не дождется возможности приступить к исполнению своих почетных обязанностей.
– Это дурно, и я не хочу принимать в этом никакого участия! – слабо отпиралась Джейн. – Ш-ш-ш, дитя. – Рядом с ней сидела мать. – Это сложные дела; нам, женщинам, их не понять. – О, я думаю, Анна Болейн прекрасно в них разбирается. Хорошей королеве положено разбираться. Сердце Джейн едва билось. Все это не шло ей на пользу. Мать похлопала ее по руке: – Предоставь спорить тем, кто имеет образование, чтобы судить да рядить, а свое личное мнение держи при себе. Подумай о положении отца. Обычно подобных слов матери было достаточно, чтобы дети смирились и притихли, но Джейн не могла не высказать того, что было у нее на уме. – Матушка, простите меня, но я не могу забыть о своей верности истинной королеве, которая была для меня доброй госпожой, которая терпелива и хороша во всем. Я не могу принять Анну Болейн вместо нее. Может быть, я и женщина, но мне известны законы Божьи, а в них сказано, что у мужчины не может быть двух жен одновременно. – Довольно! – оборвала ее мать. – Я уверена, мы все разделяем твои мысли, но теперь глупо об этом говорить. Никто из нас не властен что-либо изменить. Храни свою истинную преданность в сердце и не говори о ней никому. Я даю тебе мудрый совет. Джейн сдалась и закрыла глаза. Мать была права; к тому же, чтобы оправиться после болезни, ей не нужно загружать себя новыми проблемами.
Лиззи написала из Джерси, куда перебралась в то время, когда Джейн пребывала в глубинах болезненного бреда. Сестра благополучно родила сына и назвала его Генрихом в честь короля. Он появился на свет в замке Монт-Оргёй, где Лиззи прекрасно устроилась и жила в большом почете как супруга наместника. Мать и отец пришли в восторг оттого, что снова стали бабушкой и дедушкой, и леди Сеймур немедленно взялась за шитье приданого для новорожденного, чтобы отправить его в Джерси. От Гарри тоже пришли добрые вести. По рекомендации епископа Гардинера он получил должность при дворе и был назначен сверхштатным мажордомом в личных покоях короля, где служили его братья. – Что такое мажордом? – спросила Дороти, когда мать и отец, радостные, пришли в комнату Джейн, чтобы сообщить ей эту приятную новость. – Джентльмен, который прислуживает королю за столом, – гордо пояснил отец. Однако не все известия были хорошими. Вскоре после этого Эдвард сообщил родным в письме, что королева Екатерина, или вдовствующая принцесса Уэльская, как ее теперь называли, отказалась принять постановление архиепископа Кранмера и отрешиться от своего титула. – Она продолжает утверждать, что является верной женой королю и не подчинится никакому решению, кроме папского, – читала Джейн принесенное матерью письмо. Лежа в постели, девушка задрожала. Что же это? Ей теперь придется называть Екатерину вдовствующей принцессой? Для Джейн она навсегда останется королевой. В душе Джейн кипел гнев против выскочки, занявшей место истинной повелительницы англичан. В июне Эдвард и Томас отправили домой восторженные отчеты о коронации Анны Болейн. К этому времени Джейн достаточно окрепла, чтобы непродолжительное время сидеть на стуле. Она оторопела, узнав, что новая королева, будучи на шестом месяце беременности, бесстыдно отправилась на коронацию в белом платье, которое символизирует девственность. Вероятно, она уже носила ребенка, когда король женился на ней, или, может быть, они поженились в январе, о чем ходили упорные слухи. Но и в этом случае она должна была забеременеть раньше… Отец произвел подсчеты, но смотрел на дело с более прагматической точки зрения. – Король отчаянно нуждается в наследнике, – сказал он, усаживаясь у постели дочери. – Вот отчего возникло это Великое дело. Королю нужен сын. Может быть, его милость после всех треволнений хотел до женитьбы удостовериться, что его пассия способна к продолжению рода. – Но пойти на коронацию во всем белом – какой стыд! – Джейн, ты должна понять, что у королевы белый цвет символизирует моральную чистоту, – попытался урезонить ее отец, – как и распущенные волосы. Эдвард говорит, у королевы Анны они такие длинные, что она на них сидит. – Простите меня, – Джейн не могла сдержаться, – но я не могу соотнести Анну Болейн с понятием моральной чистоты. – Довольно! – отрезал отец. – Это слова измены, и я не допущу, чтобы такие вещи произносились в моем доме. Боюсь, из-за болезни у тебя помутился разум. Джейн откинулась на подушки и закрыла глаза. – А мне кажется, это весь мир сошел с ума, – пробормотала она. – Ш-ш-ш! – шикнул он на нее, но немного мягче. – Нам нужно извлекать выгоды из любой ситуации.
Только в разгаре лета Джейн стала набираться сил и прибавлять в весе после болезни. Она проводила много времени в саду Молодой миледи, наслаждаясь свежим воздухом, который мать считала целебным, перечитывала любимые старые романы, занималась игрой на лютне и немного вышивала. Украшать придворные наряды не было нужды: мать уже со всем управилась и сложила вещи в дорожный сундук. Все было готово к отъезду. К сентябрю Джейн полностью оправилась, но королева Анна в это время удалилась в уединение в Гринвич, и вся Англия находилась в напряженном ожидании известия о рождении принца. Госпожа Маршалл, главная фрейлина, написала Джейн, что она должна явиться ко двору после того, как королеву воцерковят и она вернется к публичной жизни. Король распорядился, чтобы люди по всей стране молились о благополучном исходе родов королевы. Стоя на коленях в домашней церкви, Джейн сквозь сжатые зубы возносила молитвы, хотя не желала зла невинному младенцу. Она подозревала, что отец Джеймс, старый и скрипевший суставами, испытывает те же чувства, но хорошо их скрывает. Отец же взывал к милости Всемогущего от всего сердца. А потом Господь ясно дал понять, что не одобряет новый брак короля. Родилась девочка.
Больше откладывать отъезд Джейн ко двору было нельзя. Напрасно она заявляла, что еще не окрепла и быстро утомляется. Сэр Джон знал, что дочь здорова, и ничего не хотел слушать. Ранним утром в начале октября в Вулфхолл прибыл сэр Фрэнсис Брайан и предложил лично проводить Джейн в Гринвич. Она неохотно простилась с родными, и вскоре они уже скакали по дороге в Лондон. Брайан изменился. Внешность его приобрела какую-то новую значительность, которая хорошо сочеталась с морщинами на обветренном лице. Его единственный глаз горел таким же сардоническим огнем, как и прежде, но теперь сэр Фрэнсис стал более серьезным, чем от него требовалось. Пока они ехали рядом по аллеям между рядами деревьев, пылавших осенней славой, он спросил Джейн, хочет ли она служить королеве. Прежде чем ответить, она сделала паузу, возможно даже слишком долгую. – Я догадываюсь, что вам хотелось бы сказать, – проговорил Брайан. – По правде говоря, она не популярна ни в народе, ни при дворе. О, разумеется, все из кожи лезут вон, чтобы снискать благоволение Анны, но не любят ее. Некоторые выразили бы преданность старой королеве, если бы осмелились, но почти всех заставили молчать. – Он бросил взгляд назад, проверяя, не услышат ли их разговор два грума и горничная Джейн. – А вы что думаете о королеве Анне? – спросила Джейн, испытывая отвращение оттого, что ей приходится называть так эту женщину. – Как вам известно, я был одним из первых ее сторонников. Но теперь не могу сказать, что испытываю к ней особенную симпатию. Она превратилась в мегеру, этакая высокомерная гордячка, к тому же совсем не умеет вести себя как королева. Люди у нее за спиной делают нелестные сравнения. Думаю, даже король обеспокоен, но пока еще готов на все ради нее. Он зашел слишком далеко и не может сдать назад и потерять лицо. Вот это новости! – Но он перевернул мир с ног на голову, чтобы жениться на ней! – И с тех пор узнал, что в темноте все кошки серые, – мрачно заметил Брайан. – Пока она была беременна, он изменял ей, а когда она упрекнула его, сказал, что ей следует закрыть глаза и терпеть, как делали более достойные персоны. При этих словах Джейн округлила глаза. Как же она раньше не догадалась: это всего лишь дело времени, рано или поздно король сравнит свою вторую жену с первой и обнаружит недостатки Анны. – Иногда мне кажется, что он все еще у нее в рабстве, – продолжил Брайан, – но в другие моменты я размышляю вот о чем. Если она родит сына, ее положение упрочится, а если нет… – Он замолчал. – Его милость сделал счастливое лицо, когда родилась принцесса Елизавета, но при своих не скрывал разочарования и досады. Я, например, не стал бы печалиться из-за падения мадам Анны. – Я тоже, – буркнула Джейн. – Больше всего я хотела бы увидеть королеву снова на троне. Брайан покачал головой: – Этого никогда не случится, уверяю вас.
Джейн шла по апартаментам королевы в Гринвиче и удивленно озиралась по сторонам. Все здесь изменилось и приобрело великолепие, какого не было во времена Екатерины. На потолке и резных панелях блестели позолотой листья. Стены были завешены великолепными гобеленами, камины отделаны дорогой севильской плиткой, повсюду стояла роскошная мебель в античном стиле. Генрих проявил щедрость. Слуги королевы Анны носили сине-лиловые ливреи, на их дублетах был вышит девиз: «Самая счастливая». Они с важным видом расхаживали по своим делам. Один из них провел Джейн и сэра Фрэнсиса в личные покои повелительницы. Пройдя через пустой приемный зал, в дальнем конце которого на помосте стоял роскошный трон под балдахином с гербами Англии, они поравнялись с немногочисленной процессией дам. – Миледи мать моя! – воскликнул Брайан, и возглавлявшая группу женщина обернулась. Она держала на руках крошечного, завернутого в дорогую мантию младенца в чепчике, повязанном лентами из золотой парчи. Сэр Фрэнсис поклонился. – Джейн, это принцесса Елизавета. – Он энергично кивнул, и, повинуясь сигналу, его спутница поспешила сделать реверанс. – Матушка, позвольте представить вам Джейн Сеймур, она приехала служить королеве. – (Джейн снова присела.) – Моя мать – леди – наставница принцессы и заправляет в ее детской. Леди Брайан милостиво улыбнулась. У нее было изящно очерченное лицо с сияющими глазами, она распространяла вокруг себя ощущение покоя. Когда эта дама приветствовала Джейн, произношение мигом выдало ее родовитость. Сразу стало ясно, почему король назначил ее на такую почетную должность. Джейн вспомнила, что однажды выполняла обязанности леди – наставницы при юной принцессе Марии. Она посмотрела на малышку. Девочка ничем не отличалась от других младенцев: пухлые щечки и ямочки в уголках рта, синие глаза и белёсые реснички. Трудно было поверить, что король поставил под угрозу вечного проклятия души всех своих подданных ради этого поскребыша человечества. – Ее маленькая милость идет повидаться с матушкой, – с улыбкой сказала леди Брайан, когда перед ней открыли двери в личные покои королевы. Джейн и Брайан вошли следом и остановились в ожидании, когда о них доложат. Комната была роскошная: потолок украшали золотые розетки в переплете из белых реек; очаги и ниши были выложены дорогой плиткой, повсюду стояла золоченая мебель, а стены были завешены огромными гобеленами. Джейн увидела Анну Болейн – она сидела в окружении дам и целого сборища придворных. Леди Брайан передала младенца ей на руки, и Анна склонилась, чтобы поцеловать его. Потом она заметила Джейн и Брайана, распорядилась, чтобы малышку положили на большую подушку у ее ног, и кивнула гостям, давая им сигнал подойти. За два года, что Джейн не видела Анну, та посерела лицом, а ее глаза, когда-то являвшиеся главной претензией на красоту, теперь стали мрачными и глядели настороженно, около рта залегли недовольные складки. Великолепное алое платье, роскошные меха и атласный французский капор не могли скрыть, что цветущая юность этой дамы осталась в прошлом. Тем не менее мужчины роились вокруг нее. Джейн сделала реверанс, Брайан поклонился. Анна улыбнулась одними губами, в глазах улыбка не отразилась. – Фрэнсис, добро пожаловать. – Она величественно кивнула. – И Джейн Сеймур… Я помню, мы с вами вместе служили вдовствующей принцессе. Добро пожаловать обратно ко двору. – Она протянула унизанную кольцами руку. Джейн поднесла к ней губы, надеясь, что Анна не почувствовала враждебности, которую та вызвала у нее, употребив по отношению к Екатерине этот ненавистный титул, после чего поднялась, держа глаза скромно опущенными. – Вечером мой камергер вернется и приведет вас к присяге на верность, – сказала ей Анна. Она вела себя дружелюбно, но в ее манере ощущалось подавляемое раздражение, и неудивительно: ведь после всего пережитого она так и не родила долгожданного принца. – Это религиозный и благочестивый двор, – продолжила Анна. – Пока служите мне, вы должны являть собой пример добродетели и избегать людей распутных и с дурной репутацией под страхом немедленного увольнения. – Да, ваша милость, – пробормотала Джейн, не поднимая глаз и удивляясь, как это женщина вроде Анны Болейн призывает ее к добродетели. – Госпожа Маршалл, – обратилась Анна к женщине в сером, как перья голубя, платье, и та встала. – Отведите госпожу Джейн в спальню. Не успели они вдвоем покинуть пределы слышимости, как королева со смехом сказала: – Эта маленькая мышка никогда не могла слова сказать от себя! Возмущение Джейн стало еще сильнее. Но потом оно пропало, потому что в спальне девушек ее ждала Марджери Хорсман. Какое облегчение – увидеть знакомое лицо среди стольких новых!
– Меня тоже забрали домой, – объяснила Марджери, когда Джейн села на кровать, испытав чувство признательности к подруге, потому что постель была та же, которую она занимала, служа королеве Екатерине. Спальня в целом осталась такой же, будто и не было этих двух лет. – Мои родные не хотели, чтобы я служила вдовствующей принцессе. Я слежу за гардеробом королевы. – Ненавижу этот титул, которым наградили нашу добрую госпожу, – сказала Джейн. – Она истинная… – Ш-ш-ш, – зашипела на нее Марджери. – Если вы цените свое место, никогда не называйте ее королевой. Это строго запрещено. – Тогда я произнесу запретные слова и отправлюсь домой, – возразила Джейн. – Я вообще не хотела приезжать сюда. – И тогда ваши родственники пострадают. – Марджери взяла ее за руки. – Ох, Джейн, кто мы такие, чтобы задавать вопросы? Моральный выбор за нас делают родные. – Это верно, – горько согласилась Джейн. – Мои настояли, чтобы я приехала ко двору. По крайней мере, вы здесь, это сделает жизнь сносной. Скажите, какова королева Анна как госпожа? У нее в обычае насмехаться над людьми в их присутствии? Она назвала меня маленькой мышкой! – Ей приятно отпускать шуточки, – ответила Марджери, – и часто на чей-нибудь счет. Она говорит, что мы должны быть добродетельными, а сама флиртует напропалую с джентльменами, которые таскаются в ее покои. Однако должна признаться, мне нравится, как проводят время при ее дворе. Тут часто устраивают танцы, много музыки и прочих развлечений, не то что было у нашей бедной вдовствующей принцессы. Мне никогда не бывает скучно. Тут всегда есть чем развлечься. Вскоре Джейн убедилась в справедливости этих слов. Когда дамы королевы не занимались придумыванием или заказом модных новинок, они танцевали в ее покоях, или читали стихи, или ставили сценки, или играли в шары, или стреляли из луков по мишеням. Послеобеденное время и вечера занимали визиты придворных, сопровождавшиеся шутливыми разговорами и любовными играми, к которым иногда присоединялся король. Он был внимателен к супруге, но не так, как раньше; разумеется, ведь охотник поймал добычу и у него больше не было нужды особенно стараться ради нее. Джейн он заметил в первый же раз, когда она исполняла свои обязанности при королеве во время его визита. Он был прост в общении, и это его качество нравилось людям. – Госпожа Сеймур! Очень приятно видеть вас снова при дворе. Генриху теперь было за сорок, но он оставался весьма представительным мужчиной: высокий, широкоплечий, полный жизни, с правильными чертами лица, бычьей шеей и рыжими волосами, зачесанными за уши. Однако Джейн слишком часто видела, как его глаза прищуриваются, а пухлые губы недовольно или гневно кривятся, и в повелительном взгляде короля часто сквозила жестокость. Ей он казался страшным: этот человек, который теперь был и правителем, и папой в своем королевстве, обладал властью над жизнью и смертью всех подданных и, казалось, мог распоряжаться даже их душами. Джейн сделала низкий реверанс, но король поднял ее и улыбнулся. В этот момент она разглядела под явленной миру величавой наружностью живого, непосредственного юношу. Глаза короля задержались на ней, сердце успело пару раз стукнуть в груди Джейн. – Ваша милость, – прошептала она, склоняя голову. – Надеюсь, вы будете счастливы здесь и сослужите добрую службу королеве, – сказал он. – Ваши братья показывают себя превосходно. Пошлите от меня добрые пожелания родителям. Король двинулся дальше и поприветствовал сестру Анны Марию, которая, очевидно, была ему симпатична.
Свои обязанности Джейн старалась выполнять исправно. Ей не хотелось привлекать внимание королевы, она вела себя осмотрительно, соблюдала внешние приличия, держала глаза долу и старалась сделать свое присутствие незаметным. Анна проявляла дружелюбие, но вскоре перестала, так как заметила, что новая фрейлина не проявляет ни малейшего интереса к тому, чтобы какими-нибудь уловками снискать ее расположение. Джейн быстро сообразила: если она хочет жить более-менее спокойно при дворе королевы, то должна принять как факт, что большинство служивших здесь людей принадлежали к партии Болейнов, состояли с ними в родстве и приходили в безудержный восторг от успехов Анны. Она приучилась, обращаясь к Анне или говоря о ней, называть ее королевой так, чтобы титул не застревал у нее в горле, и скрывать свою привязанность к прежней госпоже. Когда она справилась с этим, то начала заводить друзей среди фрейлин. Ей все больше нравилась Анна Парр, дочь одной из придворных дам королевы Екатерины. Анна была убита горем после смерти матери, но теперь выглядела гораздо лучше, и это радовало Джейн. Прекрасная кузина королевы Мадж Шелтон соперничала с милашкой Энн Савиль за внимание сэра Генри Норриса, главы личных покоев короля и частого гостя в апартаментах Анны. Тем не менее красавца Норриса, вдовца, чья дочь Мэри тоже служила королеве, казалось, привлекала только Анна, которая то поощряла его ухаживания, то отвергала, смотря по настроению. Две Мэри – Норрис и Зуш – относились к Джейн с симпатией и по-дружески, как и еще одна Мэри, старая няня королевы, миссис Орчард, служившая камеристкой. Симпатизировала Джейн и Элизабет, или Бесс, Холланд, много лет находившейся при Анне в качестве горничной. – Ни для кого не секрет, что Бесс – любовница герцога Норфолка, – сообщила Марджери Джейн. – Он дядя ее милости, чтобы вы знали, только… – она перешла на шепот, – они не ладят. Это Джейн уже и сама поняла: она слышала, как грубый и неприятный герцог спорил со своей племянницей. Но Бесс Холланд была добродушной и популярной при дворе. Плохо Бесс отзывалась только об одном человеке – герцогине Норфолк, которая жила отдельно от мужа из-за самой Бесс. – Эта леди с огромным удовольствием рассказывает всем подряд, что я была прачкой в ее доме, – сказала она Джейн, когда однажды вечером они доставали из гардероба платье королевы. – Но я никогда не стирала для нее белье! Меня отправили в детскую учить ее отпрысков. Мой дядя – лорд Хасси! И еще говорит, будто я сидела у нее на груди, пока она не начала харкать кровью, но это злостная клевета. Эта гарпия что угодно скажет, лишь бы опорочить меня. Но мои друзья знают правду. Джейн была рада, что Бесс включила ее в круг своих друзей, хотя у нее имелись внутренние сомнения по поводу неестественного положения самой Бесс. И вновь она видела пример того, к каким неурядицам и конфликтам ведет неверность. Тем не менее Джейн не могла устоять перед обаянием Бесс. Мадж Шелтон – объект внимания множества мужчин – в компании с двумя другими придворными дамами королевы составляла сборник стихов. Одной из них была леди Маргарет Дуглас, племянница короля, дочь его сестры Маргарет, вышедшей замуж за короля шотландцев, а потом за герцога Ангуса. Леди Маргарет по праву королевского рождения возглавляла свиту придворных дам. Эта красавица с золотисто-рыжими волосами была окружена ореолом нежной прелести. Вскоре Джейн убедилась, что под внешней мягкостью скрывается живой и упрямый дух. Ей польстило, когда леди Маргарет со своим милым шотландским акцентом спросила, не хочет ли она принять участие в создании книги. – Мы пишем стихи и собираем их, – объяснила она. – Несколько сборников уже передают из рук в руки по двору, но все они написаны мужчинами. Мы решили ввести новшество: пусть женщины выразят себя в стихах или выберут те стихотворения, которые им больше всего нравятся. Несколько сочинений сэра Томаса Уайетта и герцога Суррея мы уже включили. – (Суррей был сыном Норфолка, шумный молодой человек, частый гость на посиделках у королевы; недавно он женился на одной из самых юных придворных дам, Франсес де Вер.) – Скажите, госпожа Джейн, вы пишете стихи? – спросила Маргарет. – Увы, нет, миледи, – призналась Джейн. – Я никогда не пробовала. – Тогда садитесь с нами, посмотрим, на что вы способны, – пригласила Мэри Говард. Эта миловидная, романтичная и искренняя молодая женщина должна была вот-вот выйти замуж за герцога Ричмонда, прежнего хозяина Эдварда, и могла стать очень важной дамой, если королева так и не родит сына. Слухи о том, что король намерен назначить Ричмонда своим преемником, не утихали. Три женщины предложили Джейн сесть вместе с ними за стол у окна, и Мадж подтолкнула к ней лист бумаги: – Ну, давайте попробуйте. Джейн обмакнула перо в чернила и ненадолго задумалась. Ее ошеломило предложение присоединиться к досугу таких важных дам и смутило чтение написанного ими. Их творения были так совершенны! Ей никогда не написать ничего подобного. Покопавшись в голове в поисках вдохновения, она вдруг вспомнила Уильяма Дормера, и тут обнаружила, что способна приложить перо к бумаге.
Приближалось Рождество. Джейн заметила новую нежность в отношениях между королем и королевой. Придворные дамы обменивались многозначительными взглядами. – Могу поспорить, она ждет ребенка, – пробормотала Марджери, когда они сидели в нише и наблюдали за Генрихом и Анной, которые оживленно беседовали. К Анне, казалось, вернулись прежняя живость и остроумие. Она флиртовала с собственным мужем! – Так скоро? – изумилась Джейн. – Меня это не удивляет. Его милость вернулся к ней в спальню сразу после воцерковления. Она хотела сама кормить принцессу, но он и слушать не желал об этом. Ему нужен наследник, и он не может тратить время попусту. Марджери не ошиблась. Джейн и сама подозревала, что Анна беременна: по утрам, когда ее отправляли к королеве, она видела, как ту регулярно рвет. Бледная и измученная, страдалица отдыхала на постели, но к послеобеденному часу снова становилась собой. Однажды утром, когда Анна возлежала на дорогом покрывале, а Джейн прибирала в спальне, посидеть с королевой пришла леди Уорчестер. Они были близки, эти две дамы, к тому же у леди Уорчестер имелись хорошие связи, ведь она была замужем за кузеном короля, а ее сводный брат сэр Уильям Фицуильям исполнял должность казначея королевского двора. Джейн услышала, как Анна горько жалуется – и не в первый раз – на упрямство вдовствующей принцессы. – Она продолжает настаивать, чтобы ее называли королевой! Ну, она за это поплатится. – В голосе Анны было столько яда, что у Джейн кровь холодела внутри. – Как вы знаете, она пожаловалась, что Бакден – сырой и нездоровый замок, а когда король приказал ей переехать в Сомерсхэм, отказалась, заявив, что это гиблое место. Поэтому он изменил решение и распорядился, чтобы она отправилась в замок Фотерингей, и – вы можете в такое поверить? – эта упрямица опять не пожелала выполнить приказ короля, утверждая, что этот дом еще хуже! Джейн поняла, что они изводили Екатерину, чтобы сломить ее волю. Эта мысль так ужаснула ее, что она даже остановилась на мгновение и прекратила уборку. Потом, испугавшись, как бы собеседницы не догадались, что она слышит их разговор, Джейн снова принялась складывать принесенные прачкой чистые полотенца королевы. – Мадам, я полагаю, она права, а короля неверно проинформировали о том, что это за дома, – немного помолчав, сказала леди Уорчестер. – Мой супруг говорит, что они в очень плохом состоянии. Анна вскинулась: – Мне все равно, в каком они состоянии! Не в ее положении противиться королю. Если она его верная жена, как сама утверждает, то должна слушаться его. Джейн сделала реверанс и вышла из комнаты, внутри у нее кипел гнев. Она не сомневалась: эти дома выбрали специально, чтобы поставить добрую королеву на колени или даже – не приведи Господи! – покончить с ней. Сырой Бакден не справился с задачей. Это было чистое злодейство. Разве мало страданий вынесла Екатерина?
– Вы слышали? – пролепетала юная леди Зуш, садясь за обеденный стол с другими фрейлинами и придворными дамами. В тот день они все ели вместе, потому что королева не могла смотреть на пищу и не выходила из спальни, оставшись там наедине с сестрой. – Слышали – что? – спросила леди Ратленд. – Вы все знаете, что герцог Саффолк был послан в Бакден, чтобы препроводить вдовствующую принцессу в Сомерсхэм. Ну так вот, по словам моего мужа, который получил эти сведения от слуги посланника Шапуи, она заперлась в своих покоях и отказалась покинуть их. Ни угрозы, ни увещевания не побудили ее выйти. Герцогу пришлось стоять за дверью и умолять ее открыть дверь. Но она, отвергнув все резоны, отказалась, бросив ему, мол, пусть осмелится взять ее силой. – Таких строптивых женщин свет еще не видывал! – воскликнула леди Болейн, тетка Анны. Джейн ничего не сказала: фрейлины не вступали в разговоры придворных дам без приглашения. Но есть ей совершенно расхотелось.
Анна планировала устройство великолепного двора для принцессы в Хатфилде. В этом месяце Елизавету должны были с большими почестями доставить туда. – Принцессу повезут кружным путем, чтобы ее увидело больше людей, – сказала королева своим дамам. Разлука с дочерью, видимо, ее совсем не печалила. Джейн это казалось неестественным, но она знала, что для королевских особ и аристократии расставание с детьми – дело невеликой важности: в младенчестве их растили кормилицы и няньки, а подросших отпрысков отправляли к какому-нибудь великолепному двору учиться манерам и всему прочему, что может им пригодиться для блестящего будущего. Это был первый шаг к возвышению. Однако Джейн такой обычай не нравился. Она была глубоко благодарна родителям за то, что они вырастили ее в отчем доме, а из личного примера матери она извлекла для себя много пользы. Подходя с такой меркой к материнским качествам Анны, Джейн была невысокого мнения о них. Анна держала дочь при себе несколько недель после родов и демонстрировала ее окружающим почти с вызовом, но других, более нежных проявлений привязанности к малышке Джейн в ней не заметила. Гораздо больше Анну занимало желание выместить злобу на своей падчерице, принцессе Марии. По ее настоянию Марии тоже предстояло отправиться в Хатфилд, чтобы прислуживать своей сводной сестре Елизавете. Джейн ужасалась: какое унижение придется выносить несчастной девушке, которой уже почти два года запрещали видеться с матерью. Несмотря на запрет, Мария не скрывала, что поддерживает Екатерину, и теперь ее наказывали за это. – Удивляюсь, как король допускает такое отношение к Марии, – тихо сказала Джейн Марджери, когда однажды в преддверии Рождества они собирали в парке веточки остролиста. – Так третировать собственную дочь! – Он принуждает ее склониться перед своей волей, вот для чего все это, – отозвалась Марджери, притопывая ногами от холода, – и ни в чем не может отказать королеве, пока та носит ребенка. – Мне невыносимо думать, как почувствует себя ко… вдовствующая принцесса, когда узнает об этом, – сказала Джейн. – Сердце кровью обливается за них обеих. – У меня тоже, – согласилась Марджери, отламывая веточку с куста. – Но мы не должны ни думать, ни говорить об этом.
Благодаря посланнику Шапуи весь двор узнал, что враждебно настроенная толпа фермеров и деревенских мужиков, вооруженных серпами, косами и садовыми ножами, окружила Бакден и стояла там, грозно наблюдая за действиями герцога Саффолка, готовая вмешаться, если тот попытается силой забрать из замка их добрую королеву. Джейн, готовясь к Рождеству, мысленно подбадривала защитников Екатерины. Анна хотела, чтобы ее первые Юлетиды в качестве королевы были отмечены с невероятной пышностью. Все женщины при дворе занимались плетением венков и гирлянд из остролиста, лавра и омелы для украшения апартаментов. Джейн не могла удержаться от сравнений: тепло и праздничное великолепие двора на фоне голого и унылого Бакдена, где несчастная королева замуровалась в своих покоях. Ей не доставляло удовольствия всеобщее веселье. Еще сильнее она загрустила, когда Мэри Говард, теперь герцогиня Ричмонд, рассказала им, как ее отец, герцог Норфолк, угрожал расправой принцессе Марии, отказавшейся ехать в Хатфилд. – Он сказал: будь принцесса его дочерью, он бил бы ее об стену головой, пока она не стала бы мягкой, как печеное яблоко, – скривившись, передала слова отца Мэри. – Но я думаю, он говорил так только для того, чтобы остаться на хорошем счету у короля. С нами он был строг, конечно, но никогда не допускал жестокости. «Да, – подумала Джейн, – но как ужасен такой разговор для бедной Марии!» Маргарет Дуглас опечалилась. – Я служила принцессе, – сказала она. – Это очень милая леди и не заслуживает таких несчастий. «Интересно, а как чувствует себя сама Маргарет под властью женщины, которая явилась причиной всех проблем Марии? – размышляла Джейн. – Наверное, она тоже ощущает внутренний надлом и не знает, кому хранить верность». Когда в Рождество распространился слух, что Марию принудили-таки поехать в Хатфилд, Джейн предположила, что Маргарет, наверное, так же опечалена, как она сама. Но та вслух ничего не сказала, не разомкнула рта, хотя глаза ее блестели от едва сдерживаемых слез. «Проблема в том, – рассудила Джейн, – что мы все стоим в стороне и ничего не делаем». Даже вздорная Маргарита, племянница короля, которую он любил, как дочь, не смела сказать ни слова. Перед Новым годом, увидев при дворе герцога Норфолка, Джейн обрадовалась: значит, Екатерину оставили в покое в Бакдене. – Вероятно, король опасается, что император объявит войну, если с его теткой будут плохо обращаться, – сказала Марджери, когда они раздевались в спальне однажды вечером. Джейн знала, что император – самый могущественный соверен во всем христианском мире. «Конечно, он что-нибудь предпримет для защиты прав королевы и ее дочери», – понадеялась она.
Глава 12
1534 годВ Новый год в приемном зале состоялась традиционная пышная церемония обмена подарками. Согласно обычаю, каждый придворный и слуга преподносил королю презент и, если повезет, мог получить ответный дар. Джейн мучительно думала, что же подарить его милости. Что ему понравится? А если конкретнее, что она может себе позволить? Были и другие люди, которым нужно было что-то купить: домой она уже отослала кожаный ремень для отца, бархатные тапочки для матери и хорошенькое серебряное колечко для Дороти. И самое главное: хочет ли она покупать Генриху подарок, ведь он так плохо обходился с бедной королевой Екатериной? Но какой у нее был выбор? Все остальные фрейлины вручат ему что-нибудь, да еще будут соревноваться и стараться перещеголять друг друга. В конце концов Джейн решила, что набор носовых платков, собственноручно расшитых золотой нитью, подойдет лучше всего. Король наверняка оценит труд, который она на себя взяла. И кроме того, втайне Джейн надеялась, что ему понравится ее искусная вышивка. Одетые в лучшие платья, фрейлины выстроились в процессию и вслед за королевой вошли в зал, где на троне под балдахином восседал король Генрих в окружении толпы джентльменов и придворных. Шкафы и буфеты, стоявшие вдоль стен, ломились под тяжестью тарелок и прочих подарков, сделанных его милости за утро. Их выставили на всеобщее обозрение. Генрих встал и приветствовал супругу, потом подождал, когда внесут и поставят на стол ее подарок – что-то громоздкое, накрытое дорогой тканью. Анна сама сняла покров, а под ним обнаружился изысканный фонтанчик, инкрустированный бриллиантами, рубинами и жемчугом. Она повернула ручку, и вода брызнула из сосков трех обнаженных золотых нимф. Король явно был доволен. Он расцеловал Анну и поблагодарил, затем дал знак ее дамам подойти с подарками в соответствии с рангом. Каждое подношение он принимал милостиво, а секретарь записывал все в книгу. Вскоре настал черед Джейн. Она сделала реверанс, протянула королю свойдар и сразу увидела, что его милость тронут. – Именно такие подарки, сделанные с любовью, имеют самое большое значение, – сказал Генрих, улыбаясь ей сверху вниз. Тут Джейн вспомнила, как жестоко третировал он жену и дочь, и все удовольствие от его похвалы и полученного ответного подарка – маленькой серебряной чаши – пропало. Она пробормотала слова благодарности и отступила назад, радуясь возможности уступить место Энн Савиль. Потом она отыскала в толпе своих братьев, которые медленно бродили по комнате, восхищаясь сделанными королем подарками, и показала им свою чашу. У них были похожие. – У меня и для вас есть презенты, – сказала Джейн. – Вы получите их сегодня вечером на пиру. – Гарри жалеет, что он не в Вулфхолле, – сообщил ей Томас. У Гарри был смущенный вид. – Я все думаю об отце, маме и Дороти, они там одни, втроем, и каково им, когда мы все здесь веселимся. – Я тоже хотела бы оказаться там, – поддержала брата Джейн, – но наши родители желают, чтобы мы находились здесь, при дворе, утешьтесь этим. Эдвард говорил мало; казалось, его что-то беспокоит. Когда Томас и Гарри увлеклись разговором с шумной компанией молодых джентльменов, она спросила старшего брата, все ли хорошо. – Кэтрин умерла, – ответил тот. – Я получил письмо от приорессы. – Мне грустно слышать это. – Джейн перекрестилась. Ее мучила совесть, что она так давно не виделась с невесткой. Вероятно, ей следовало настойчивее просить о встрече, хотя отлучиться от двора не так-то просто. Может, стоило заехать к ней в прошлом году, когда она оправилась от болезни? – Ее похоронят в церкви в Хортоне, неподалеку от Вудлендса, вместе с предками, – сказал Эдвард. – Мать Кэтрин будет главной плакальщицей на похоронах. Овдовевший супруг не оделся в черное, на нем была довольно роскошная накидка и дублет цвета меди. Ожесточение против жены так и не оставило его. – Мальчики знают? – Пока нет. Я скажу им, когда приеду домой. – Он помолчал. – К счастью, скоро у них будет новая мать. Мы с Нан поженимся. Джейн попыталась скрыть, как неприятна ей эта новость. Она была рада оставить Нан в прошлом, при дворе Екатерины. Эта женщина была такой заносчивой, такой властной, ясно, что она сразу начнет вертеть Эдвардом. Даже по прошествии четырех лет он был слишком очарован ею, чтобы заметить это. А надежд на то, что Нан станет хорошей мачехой Джону и Нэду, Джейн не испытывала. – Поздравляю, – сказала она, принужденно улыбаясь. – Когда свадьба? – В марте, в Рэмптоне, в Нортгемптоншире, – ответил Эдвард. – Семья Нан живет там в поместье, и она вернулась туда прошлой весной, когда двор вдовствующей принцессы сократили. После свадьбы отец позволяет нам обосноваться в Элветаме. Джейн задумалась, сможет ли Нан поладить с матерью. Они были полными противоположностями почти во всем. Ей было понятно, почему отец отдал Элветам, свое владение в Гемпшире, в распоряжение Эдварда. Это означало, что им не придется жить вместе; да и мать не была готова предоставить место в доме невестке, в особенности любящей покомандовать. Вулфхолл был ее вотчиной. – Я рада за вас, – сказала Джейн и улыбнулась Эдварду. – Еще бы, – ответил он, – мне давно не находилось применения.
С наступлением весны Джейн вместе с леди Кобэм, леди Паркер и Анной Парр была выбрана сопровождать королеву, когда она отправилась с визитом в королевскую детскую в Хатфилде. Малышка Елизавета получила свою долю восхищения и ласки, но было ясно, что Анну больше заботит обустройство апартаментов для принца, которого она надеялась выносить. Королева была на четвертом месяце, и фрейлины уже ослабляли шнуровку на ее корсаже. Джейн услышала, как Анна спросила леди Брайан, где принцесса Мария, хотя она называла ее леди Марией, раз уж мать девушки признали незаконно вышедшей замуж за короля. Величать принцессой можно было только Елизавету. Леди Брайан отвела королеву в комнату для занятий и затворила за ней дверь. Потом она усадила на лоскутное одеяло на полу малышку Елизавету. Это была очаровательная девчушка с огненно-рыжими волосами, которая уже пыталась вставать на ножки. Джейн и другие фрейлины опустились на колени и дали принцессе серебряную погремушку и мячик, та сразу попыталась засунуть обе вещицы в рот и пожевать. Малышка переводила полные любопытства темные глаза с одной девушки на другую. Играя с Елизаветой, Джейн переживала, о чем идет речь за закрытыми дверями. Она боялась за Марию: что-то с ней будет, если она не прекратит упорствовать. Девушка была такой славной, любящей и преданной – точная копия своей матери. Дверь резко распахнулась, и из комнаты пулей вылетела Анна. За ней торопливо шла женщина, которая восклицала на ходу: – Ваша милость, в сердце своем она неплохая девушка! Она смущена и напугана и глубоко опечалена разлукой с матерью. И у нее сейчас сложный возраст, когда молодым положено бунтовать. Не стоило ей так говорить с вами, но она сама себе худший враг. – Мне все равно! – бушевала Анна. – Я умываю руки. Вскоре после этого они уехали. Королева явно была не в настроении тратить время на забавы с младенцем.
Джейн принесла батист, из которого фрейлины по просьбе Анны шили рубахи для бедных и нуждающихся. Королева уже была за работой, она сидела рядом с женой своего брата леди Рочфорд, острой на язык, раздражительной, неулыбчивой дамой с лицом в форме сердца. Когда фрейлины заняли свои места, Джейн заметила, что леди Рочфорд сегодня особенно не в духе. Несколько минут они поговорили о работе, потом Анна позвала музыкантов, чтобы те развлекали их за шитьем. – У вас невеселый вид, леди Рочфорд, – вдруг сказала леди Беркли. Джейн Рочфорд подняла взгляд, посмотрела на Анну и сказала: – Сегодня я получила грустные вести. Парламент лишил епископа Фишера гражданских прав и состояния, как приговоренного к смерти. Анна сердито глянула на нее: – Он, как изменник, поддерживал монахиню из Кента, которую осудили на казнь за предательское подстрекательство людей противиться моему браку с королем. Эта женщина безумна, но он поощрял ее и отказался признать меня королевой. Джейн, конечно, слышала – а кто не слышал? – о Святой деве из Кента и ее видениях, о том, как она бродила по стране и пророчествовала, что случится, если король отстранит от себя законную жену. Это было безумие, но больше достойное жалости, чем смертного приговора. Никакой человек в здравом уме не стал бы упорствовать в такой глупости. – Епископ – набожный и добрый человек, – возразила леди Рочестер, – и большой друг моего отца; их роднит любовь к ученым занятиям, и оба они служили у бабушки короля, леди Маргариты, которая сама была благочестивой женщиной. Мой отец был рядом, когда она умерла во время мессы, которую служил епископ. Поэтому ваша милость может понять, отчего я в шоке, что такого святого человека приговорили к смерти. – Может, он и святой, но заблудший, это в лучшем случае, – парировала Анна. – А так как он святой и люди почитают его самого и уважают его мнение, то он опасен. Если мы сделаем из епископа поучительный пример, наши враги поймут, к чему ведут их ошибочные взгляды. Леди Рочфорд побледнела: – Что вы имеете в виду, говоря о поучительном примере? – Посидит немного в Тауэре, этого будет достаточно, – холодно ответила Анна. Джейн сомневалась, что это заставит епископа изменить своим убеждениям. Спаси его Господи! Да, печальные настали времена, раз таких людей, как он, бросают в темницу за приверженность правде и справедливости.
Король не желал и дальше терпеть неповиновение. Весной Анна собрала свой двор в приемном зале и сообщила, что парламент издал Акт, которым наследниками английской короны объявлены дети короля от королевы Анны, а его дочь Мария отныне считается незаконнорожденной. Джейн была сильно обеспокоена, поскольку все подданные короля, если последует такое распоряжение, обязаны были принести клятву о признании главенства короля над Церковью, законности его брака с королевой Анной и объявления принцессы Елизаветы его полноправной наследницей. Те, кто откажется поклясться, будут считаться виновными в потворстве измене и отправлены в тюрьму. Когда все они вышли из зала, Джейн заметила, что вся дрожит. Как она поступит, когда от нее потребуют принести клятву, а этого не избежать никому из тех, кто находится на королевской службе? Это противоречило всему, во что она верила. Именно представления о том, что хорошо, а что плохо, давали ей ощущение цельности и делали такой, какой она была. Могла ли Джейн отречься от своих убеждений и дать клятву? Отвергнуть власть Святого Отца в Риме и отказаться от взглядов, которые всегда отстаивала? Она не станет клятвопреступницей, не согрешит против своей бессмертной души и не предаст королеву и принцессу. Но что может случиться, если она откажется давать новую клятву? Впадет в немилость и окажется в тюрьме. Братья ее больше не будут в фаворе у короля; вся семья может пострадать. Она не может причинить им такое горе. А можно ли дать клятву с оговорками? Джейн боялась попасть в тюрьму. Она уже чувствовала, как вокруг нее смыкаются толстые стены… Как только Джейн освободилась от своих обязанностей, тут же разыскала братьев и спросила у них совета, но все они были готовы принести присягу и сказали, чтобы она не переживала понапрасну. Джейн встретилась с Брайаном, тот рекомендовал ей не противиться велениям времени. Она переговорила с Марджери, Анной Парр и леди Маргарет Дуглас. Все они сказали, что лучше склониться перед волей короля. Но к чему обязывало Писание? «Отдавайте кесарю кесарево, а Богу Богово». Это, конечно, дело Божие, ведь Его сын установил на земле папство и Святую церковь. Всемилостивый Господи, неустанно молилась она, что мне делать?
Господь устами папы наконец вынес решение: брак короля с королевой Екатериной был правильным и законным, король должен оставить леди Анну и восстановить свою жену на положенном ей месте. Джейн услышала новость от самого короля, когда он влетел в покои королевы, как разъяренный бык, и прокричал ее во все горло. Анна была потрясена и инстинктивно прижала руку к животу, и неудивительно, ведь теперь будущее ее было туманным. Однако король не дрогнул. – Этому папе – этому епископу Рима – следовало бы знать, что его решения больше ничего не значат в Англии! Джейн похолодела, услышав такие слова короля. Она сама и вся Англия находились в напряженном ожидании этой важнейшей новости, но теперь Джейн опасалась, что ничего не изменится. – Я никогда вас не брошу, – сказал Генрих Анне. Джейн вспомнила слова Брайана: король зашел слишком далеко, чтобы поворачивать обратно, но подумала: а что случится, если ребенок, которого носит Анна, окажется девочкой? На Пасху после мессы Джейн в ужасе слушала, как духовник королевы наставлял паству: он объявил папу Климента порочным человеком и призывал всех верных подданных каждое воскресенье молиться за короля Генриха Восьмого как верховного главу Церкви, ближайшего к Богу, и жену его Анну, и принцессу Елизавету. Несносная тетка королевы леди Болейн, которую Анна терпела только потому, что ее любимый дядя Джеймс был при ней канцлером, с удовольствием рассказывала племяннице, что кое-где состоялись празднования по поводу ожидаемого возвращения в фавор вдовствующей принцессы. Анна одарила тетушку испепеляющим взглядом.
Приближенные короля явились в апартаменты королевы, где все ее слуги выстроились вдоль стен, чтобы принести клятву. Джейн заняла свое место среди фрейлин, сердце у нее сильно билось. Накануне вечером, узнав, что потребуется от нее завтра, она пошла к священнику, который обычно исповедовал ее, и высказала ему, полагаясь на тайну исповеди, все свои сомнения и страхи. Что будет бо́льшим грехом: послушаться голоса совести и не подчиниться королю, испытав на себе все последствия ослушания, или принести клятву, не принимая сердцем ее суть? За решеткой наступила тишина. – Дитя мое, его королевское высочество – верховный глава Церкви, обладающий властью над делами духовными. Что заставляет вас думать, будто ваша совесть ведет вас по правильному пути? Вы считаете, что разбираетесь во всем лучше, чем он? Джейн собиралась ответить правдиво, но помедлила. Священник был духовником королевы, ее слугой и, вероятно, являлся таким же сторонником реформ, как она. Стоит ли доверять ему? – Боюсь, я не слишком хорошо все понимаю, потому и пришла к вам, – осторожно сказала она. – Трудно менять убеждения, которых вы держались всю жизнь. Она не добавила, что верила в них так же твердо, как в собственное существование, и не могла отказаться от них. Джейн уже понимала, что приход на исповедь был ошибкой. – Это верно, – сказал священник, а потом удивил ее, добавив: – Помните, что Господь слышит ваши мысли, а люди слышат только слова. Поэтому ваш долг как христианки говорить правду Богу. Утаивать часть этой правды от человеческих ушей – это нравственное деяние, если оно служит благим целям. У Джейн будто гора свалилась с плеч. – Благодарю вас, отец, – пробормотала она. Он назначил легкое наказание за ее мелкие грешки и отпустил. Джейн вышла из часовни с мыслью: нет ли у него самого внутренних оговорок по поводу этой клятвы. И вот она – следующая на очереди. Девушка сделала шаг вперед, положила руку на Библию, сосредоточила ум на Господе и прочитала вслух написанное в поданном ей документе: – Я, Джейн Сеймур, клянусь быть верной, преданной и послушной его величеству королю и наследникам, произведенным на свет его дражайшей и любимейшей законной супругой королевой Анной, а также и тем, которых она родит впредь. Я подтверждаю и по совести заявляю, что его высочество король есть единственный верховный правитель в этом королевстве, как во всех делах духовных, или церковных, так и в мирских; и ни один иностранный принц, человек, прелат, государство или его правитель не имеют и не должны иметь никакой власти в этом королевстве. А потому я отрекаюсь и оставляю в прошлом всех притязавших на власть и обещаю, что отныне и впредь буду хранить верность его высочеству королю, его наследникам и законным преемникам, да поможет мне Бог. Дело сделано. Джейн сказала себе, что приняла правильное решение.
В тот вечер она была свободна от обязанностей и пошла прогуляться по саду: день выдался по-настоящему теплый, один из первых в году. Джейн договорилась встретиться с Эдвардом. Он недавно вернулся ко двору, и ей хотелось услышать, как прошла свадьба. Эдвард был гораздо более оживлен, чем при их последнем свидании, и по-братски обнял сестру. Они медленно побрели между цветочными клумбами. – Все прошло очень хорошо, – сказал Эдвард. – Приехали отец и мать с мальчиками. Лиззи прислала подарок, и собралась целая толпа родни Стэнхоупов. Родители Нан не поскупились на расходы, устроили великолепный пир. – А Нан? Она была красивой невестой? – спросила Джейн. – Нан в любом наряде выглядит прекрасно, – сказал Эдвард, до сих пор одурманенный любовью. Джейн заглушила нараставшее внутри возмущение: – И она довольна жизнью в Элветаме? – Да, – ответил Эдвард, впрочем, не слишком уверенно. – По правде говоря, она жаждет быть при дворе. Увы, кажется, здесь нет доступных для нее мест. Мы попросили Фрэнсиса замолвить за нее словечко, но он ответил, что теперь не пользуется таким доверием королевы, как раньше. Джейн втайне порадовалась, что Нан не появится при дворе королевы. Одной мегеры вполне достаточно. В последнее время Анна измучила всех своими капризами. – А мальчики? Нан им понравилась? Эдвард заколебался: – Увы, нет. Она не полюбила их, и они это знают. Я оставил мальчиков в Вулфхолле. Нан хочет, чтобы я лишил их наследства. Именно этого Джейн и боялась. – Но ведь ты этого не сделаешь? – Честно говоря, я не знаю, Джейн. Нан убеждает меня, что поступить так – правильно, потому что законность их происхождения сомнительна. Она говорит, нужно расчистить путь к наследству нашим сыновьям. – Но Джон и Нэд – твои законные сыновья. – Да, но мы знаем, что это, вероятно, не так. А Нан в этом твердо уверена. Я сказал ей, что подумаю. Джейн рассудила про себя: да, Эдвард человек способный, образованный, с виду властный, но на самом деле он уступчив и слаб. Похоже, своевольная Нан уже вертела им как хотела. Если бы это зависело от нее, Джейн не допустила бы, чтобы мальчиков оставили без наследства. Они и без того уже достаточно пострадали, лишившись матери. – Обдумай все хорошенько, – уговаривала она Эдварда. – Поступи по справедливости. Брат и сестра направились к теннисным кортам. Навстречу им шел дородный темноволосый мужчина в длинной черной накидке. Джейн узнала тяжелое лицо и недобрые глаза мастера Кромвеля, одного из самых могущественных людей при дворе. После падения кардинала Уолси ему удалось стать главным советником короля. Он поддерживал Анну, и Джейн несколько раз видела его гостем в апартаментах королевы. – Сэр Эдвард. – Мужчина слегка поклонился. – Мастер Кромвель. Позвольте представить вам мою сестру Джейн, она фрейлина королевы. Кромвель снова поклонился и очаровательно улыбнулся Джейн. Она улыбнулась в ответ. – Примите мои поздравления, мастер Кромвель, с назначением на должность главного королевского секретаря, – сказал Эдвард. – Благодарю вас, – отозвался тот. – Это большая честь, надеюсь, я оправдаю доверие его милости. – Он кивнул и пошел дальше. – Кто бы сомневался, – пробормотал Эдвард. – Везде запустил свои лапы; даже кардинал Уолси не обладал такими способностями. От каждого пирога отхватил по куску. Личный советник, канцлер казначейства, хранитель сокровищницы, а теперь еще и главный секретарь! – Он любезен, – сказала Джейн. – Да, он весел, приветлив и щедр, устраивает веселые застолья, окружен толпой обожателей и просителей. Но я тут чувствую жестокий прагматизм; под его очарованием прячется твердая сталь. Говорят, мастер Кромвель – уши и разум короля и что его милость полностью доверил ему управление королевством. Джейн тоже слышала разговоры об этом. – Но правит все же король? – Ах, но его волю приводит в исполнение Кромвель. Порвать с Римом решил король, но осуществил реформу Кромвель. Они спустились по ступенькам к реке и продолжили прогулку по пристани. Впереди промелькнул король. Он сошел с барки и двинулся во дворец. Придворные накинулись на него, как саранча, каждый со своим прошением. – Не стоит недооценивать мастера Кромвеля, – сказал Эдвард. – Говорят, у него шпионы повсюду. – Придворные дамы королевы не любят его. – Меня это не удивляет, – пожал плечами Эдвард. – Аристократы презирают его за низкое происхождение, но завидуют и боятся. – Королева благоволит к нему. Называет своим человеком. – Разумеется. Они поддерживают одни идеи – главенство короля, религиозную реформу, перевод Библии. Брат с сестрой поднялись по ступенькам в сад, и Эдвард оставил Джейн у дверей в апартаменты королевы. – Никому не говори о нашей беседе, – сказал он. – Ни к чему напоминать мне об этом. – Она улыбнулась. – Если шпион может прятаться в кустах или за гобеленом!
Посланцы короля разъехались по стране, чтобы привести к новой присяге всех, кто занимал должности на службе государству, и, разумеется, всех тех, чья лояльность находилась под вопросом. Джейн видела, что королева находится в напряжении, ожидая, не поступят ли отчеты о выражении недовольства или каких-нибудь публичных протестах, но почти никто не возмущался. Дать новую клятву отказались немногие. Епископ Фишер был среди них, что неудивительно, а сэр Томас Мор, этот добрый и мудрый человек, отказался сделать это дважды. Обоих препроводили в Тауэр. Многих людей это разозлило, но еще и напугало. Анна была права: наказание, назначенное Фишеру и Мору, заставило умолкнуть языки, которые могли бы воспротивиться творящемуся в королевстве насилию. Джейн чувствовала, что теперь не может доверить свои мысли или душевные сомнения никому, даже братьям или подругам. Двор стал опасным местом, где невозможно было догадаться, кто наушничает. Но не все оказались такими слабыми, как она. Сердце Джейн запело при известии, что Екатерина отказалась присягать. Однако ликование длилось лишь до тех пор, пока Джейн не осознала, к чему это может привести ее любимую госпожу. Каждый день она молилась, чтобы король не заточил Екатерину в Тауэр. Все говорили, что добрая королева не совсем здорова и не вынесет заключения, но разве не этого добивался король? Разве не он замуровал ее в сыром, непригодном для жизни доме? После нескольких недель беспокойства Джейн начала надеяться, что Екатерину не подвергнут суровому наказанию. В разгаре лета бывшую королеву сослали еще дальше от Лондона – в замок Кимболтон, о котором леди Ратленд сказала, что это хорошо обустроенный дом. Даже если Екатерине придется жить там под домашним арестом, комфорт ей обеспечен. Это уже неплохо и, даст Бог, здоровье злосчастной узницы улучшится. Однако петля затягивалась. Анна с превеликим удовольствием сообщила своим дамам, что отныне любой, кто скажет или напишет что-либо, ставящее под сомнение или умаляющее законность брака между ней и королем или порочащее его наследников, будет объявлен виновным в государственной измене. – Которая карается смертью, – триумфально завершила она. Джейн не поднимала глаз. Безумием было бы выдать выражением лица свое неодобрение услышанного. Она не обладала храбростью Фишера, Мора или Екатерины. В любом случае какое влияние могло оказать мнение деревенской девушки, какой она, в сущности, и была, на грандиозные перемены, которые претерпевала Англия?
Анна раздалась вширь из-за ребенка и стала нервной. Она часто говорила о своей уверенности, что это будет мальчик, новое воплощение своего отца. Король часто навещал супругу и обращался с ней так нежно, будто та была сделана из стекла. Однажды теплым июльским вечером Анна встала и потерла поясницу. – Думаю, принц на пути к нам, – сказала она и слабо улыбнулась своим дамам. – Это случилось раньше, чем я предполагала. Мне следовало раньше удалиться в свои покои. – Вашей милости нужно лечь, – посоветовала старая няня Анны миссис Орчард. – Я бы хотела, чтобы здесь была моя сестра, – сказала Анна, так как Мэри Кэри уехала домой на лето, чтобы побыть с детьми, и запоздала с возвращением. – И моя мать. О-ох, вот опять! – Она поморщилась. – Да, пожалуй, мне лучше лечь, хотя в прошлый раз схватки было легче терпеть стоя. Леди! Все придворные дамы встали и проводили королеву в спальню, а Маргарет Дуглас поспешила сообщить королю о происходящем. Джейн и остальные фрейлины остались стоять, где были. Незамужним женщинам не полагалось присутствовать и помогать при родах. Но они слышали крики Анны, которые становились громче и надрывней по мере того, как вечер переходил в ночь. Леди Маргарет сидела с ними, потому что сама была не замужем. Все нервно переглядывались, зная, что когда-нибудь им тоже придется терпеть родовые муки. – Король сказал, что будет ждать новостей в своих личных покоях, – в третий раз повторила Маргарет. Ни одного мужчину, даже врача, не допускали к королеве во время родов, и Джейн полагала, что это очень мудрое правило, потому что какая женщина захочет, чтобы в такой момент ее видел мужчина? Крики стихли. Девушки снова переглянулись. Не прошло и двух часов! А потом они услышали жуткий вой загнанной в угол лисицы. Это была королева. Джейн застыла. – Послать за королем? – нервно спросила Марджери. – Я пойду, – сказала леди Маргарет и умчалась. Завывания и причитания продолжались. Фрейлины в трепете ждали, понимая: случилось нечто ужасное. Крики Анны стихли, когда они услышали звук приближающихся шагов. Двери антикамеры распахнулись, и церемониймейстер провозгласил: – Дорогу его величеству королю! – Король! Король! – закричали женщины внутри. Фрейлины торопливо присели в реверансах, в комнату влетел Генрих, пронесся мимо них и сам открыл дверь в спальню. Наступила тишина, дверь за ним закрылась. Джейн осенила себя крестом. Ребенок мертв или родился уродец, тут не было сомнений. Хотя Джейн и не любила Анну, ей все равно стало по-сестрински жаль несчастную. Это трагедия для женщины – много месяцев терпеть неудобства, связанные с беременностью, и потерять ребенка, когда все уже позади. Легко было королю – и вообще мужчинам – требовать сыновей; им ведь не приходилось их вынашивать. Все молчали, но шитьем никто не занимался. Появилась повитуха с маленьким свертком в руках и быстро унесла его. Фрейлины смотрели ей вслед, в глазах девушек застыл ужас. А потом открылась дверь и вышел король; на нем лица не было, в голубых глазах стояли слезы. – Вы никому об этом не скажете, – приказал он. Голос его оборвался, и Генрих опустился в пустующее кресло королевы. Никто не шевелился. И тут Джейн – откуда только у нее храбрость взялась? – вышла вперед и положила руку на вздымающееся плечо короля. Остальные разинули рты; никому не позволялось прикасаться к миропомазанному владыке, если он сам не предложит это. Но король был человеком, причем сильно расстроенным. – Утешьтесь, сэр, – сказала Джейн. – В прошлый раз ее милость родила здоровую принцессу. Вы оба еще в подходящем возрасте. У вас будут и другие дети. – Она опустила руку в карман, вынула оттуда платок и подала ему, благодаря Господа, что платок был чистый. Король промокнул глаза и с видимым усилием поборол в себе эмоции. – Спасибо, госпожа Джейн, – пробормотал он. – У вас доброе сердце. С этими словами король поднялся, поклонился всем и вышел, забрав с собой платок.
После неудачных родов Анна погрузилась в печаль. Ничто ее не радовало, она оплакивала потерянного мальчика и была убеждена, что утратила любовь короля. Он редко навещал ее, а когда приходил, то имел обиженный вид. Анна изливала сердечную боль перед своими дамами: причитала, разражалась гневными тирадами и плакала, забывая о том, что королеве подобает блюсти свое достоинство. Дамы пытались ободрить ее. Уговаривали постараться и стать прежней – той женщиной, которая завоевала сердце короля; она должна блистать остроумием, быть очаровательной спутницей и интересной собеседницей. Та пыталась, когда Генрих давал ей такую возможность, но терпела неудачу за неудачей, потому что увязла в тоске и страхе за свое будущее: вдруг он поступит с ней так же, как с Екатериной. Джейн наблюдала за всем этим со смешанными чувствами. Она воевала с собой. Анна увела мужа у ее госпожи, лишила законную королеву титула и питала ядовитую злобу к Екатерине и Марии, поэтому следовало ожидать, что Господь воздаст ей по заслугам. И тем не менее Джейн невольно сочувствовала горю Анны, понимала ее страхи и сопереживала постигшей несчастную женщину трагедии. Облетели с деревьев листья. По двору поползли слухи, что король завел себе новую даму сердца, как говорили, очень красивую. Джейн пыталась угадать, кто это, вглядываясь в лица дам и девушек из личных покоев королевы. Большинство были хороши, каждая по-своему. Но однажды Джейн случайно столкнулась с Гарри, который проводил свободный от службы вечер в аллее, где играли в шары. Он-то и рассказал ей, что в личных покоях короля всем прекрасно известно: новая пассия короля – Джоан Эшли, фрейлина, которая появилась при дворе королевы прошлой зимой. – Это пойдет на пользу вдовствующей принцессе и леди Марии, – сказал Гарри, понижая голос; они отошли в сторонку и издали наблюдали за состязанием придворных. – Госпожа Эшли очень привязана к обеим. Она может повлиять на короля, чтобы он смягчился к ним. – Рада это слышать, – шепнула Джейн и начала присматриваться повнимательнее к Джоан Эшли. Девушка была светловолосой, скромной, как-то незатейливо миловидной и имела от роду всего семнадцать лет; ее трудно было представить кокетничающей с королем. Но Джоан действительно загадочным образом исчезала при разных оказиях точно так же, как делала Анна много лет назад. Вскоре другие дамы тоже догадались, что происходит, и начали шептаться за спиной у королевы. Джейн была уверена: Анне все известно. Еще бы, ведь король открыто оказывал Джоан знаки внимания на пиру в честь французских посланников, и все это видели. В тот вечер сестра Анны Мария вернулась ко двору с большим животом. Придворные глядели на нее во все глаза: одни изумленно, другие злобно, а некоторые явно ликовали, что королеву публично унизили. Анна вывела сестру из личных покоев, а король сердито протопал вслед за ними. На следующее утро Мария уехала. Разумеется, двор бурлил от домыслов и спекуляций; все почуяли сладостный аромат скандала. – Мария очень неудачно вышла замуж, – сопя, проговорила леди Рочфорд, когда придворные дамы собрались вокруг нее на следующее утро, чтобы узнать последние новости, а фрейлины навострили ушки, желая не упустить ни слова. – У него нет ни титула, ни денег, ему даже негде жить; он простой солдат из гарнизона Кале. Но она его любит. – Последнее слово леди Рочфорд произнесла с презрением. Не было секретом, что ее собственный брак с Джорджем Болейном не удался, супруги презирали друг друга. Сплетники погрузились в свою стихию. Разговоры крутились вокруг Джоан Эшли и мезальянса Мэри Кэри. А потом, однажды вечером, когда королева отсутствовала – она ужинала с королем, – леди Рочфорд пошла в атаку. – Я слышала, любовница короля очень щедро раздает авансы и у него есть соперник! – сказала она, в упор глядя на Джоан. – Его это не сильно порадует! Девушка покраснела, но ничего не сказала. Между собой дамы и фрейлины притворялись, что не знают, кто возлюбленная короля. Но Джейн все равно не могла поверить, что Джоан распутница. Леди Рочфорд с наслаждением развивала тему: – А если об этом узнает королева, будут проблемы – немедленное увольнение, я гарантирую. Однако проблемы возникли у самой леди Рочфорд, причем с самим королем, из-за того что она возвела напраслину на госпожу Эшли. Однажды Джейн вошла в спальню и увидела Джоан. Та сидела на кровати, обхватив себя руками, совсем одна. По ее щекам текли слезы. – Я пришла сюда, чтобы успокоиться, – сказала она. – Слава Богу, эта подлая женщина уехала. Ее отправили домой. Думаю, вы знаете, что она меня оклеветала. – Мы все знаем, – сказала Джейн, садясь рядом с ней. – Это не моя вина! – выпалила Джоан. – Если король преследует меня, кто я такая, чтобы противиться ему? «О, бедная глупышка!» – подумала Джейн, потом подобралась и стала размышлять: а что сделала бы она, если бы оказалась в такой ситуации? Нужно обладать большой смелостью и решимостью, чтобы сказать «нет», а эта девушка почти ребенок. – Она говорила обо мне ужасные вещи, – продолжила Джоан. – Не знаю, с чего она взяла, будто я блудница. Король был моим единственным любовником. И теперь он с этим покончил! Бедняжка снова залилась слезами. Джейн легко могла догадаться, откуда посыпалась клевета на Джоан. У кого еще могло возникнуть жгучее желание испортить ей репутацию, чтобы король ее бросил? А леди Рочфорд, страстная интриганка, была удобным инструментом в руках королевы. Джейн, как могла, постаралась утешить несчастную девушку. – Это к лучшему, – сказала она, – теперь все узнают, что вас несправедливо оклеветали. – Но я так надеялась сделать что-нибудь, чтобы облегчить страдания доброй королевы и ее дочери, – всхлипывала Джоан. – Ш-ш-ш! Не называйте ее здесь этим титулом! – прошипела Джейн, хотя в душе рукоплескала мотивам этой девушки. – Вы можете навлечь на себя еще большую беду. Вы сделали все, что могли. Оставьте это в прошлом и ведите себя так, будто ничего не было. Скандал скоро утихнет, поверьте мне.
Джейн силилась скрыть свое отвращение и ужас, когда в ноябре пришло известие о варварской казни в Тайберне кентской монахини и ее последователей. Женщины говорили об этом, а ее передергивало; у некоторых мужья или братья были среди толпы людей, ставших свидетелями ужасной кончины приговоренных. Самой монахине повезло: ее повесили, прежде чем обезглавить. А вот пятеро мужчин, казненных вместе с ней, из них четверо – священники, претерпели муки смерти, уготованной изменникам. Их протащили к месту казни на волокушах, так как предателям не полагалось ступать по земле, потом вздернули на виселице, но не умертвили окончательно, только придушили, затем привели в чувство, после чего выпотрошили: кастрировали, выпустили кишки, вырезали сердца. Если они все еще оставались в сознании – трудно представить, чтобы кто-нибудь мог пережить такие муки и сохранить разум, – то видели, как жизненно важные части их тел бросают в огонь, и только после этого их милостиво освобождали от страданий отсечением головы. Но и тогда кровавая бойня не прекращалась: тела казненных четвертовали и выставляли обрубки на публичное обозрение в качестве предупреждения: вот какая страшная участь ожидает всех, кто ослушается короля. Голова монахини из Кента, насаженная на шест, теперь смотрела с высоты на Лондонский мост. Ужасала Джейн не сама по себе жестокость казни, а то, что король достиг той точки, когда был готов проливать кровь несогласных с ним. В каком страшном мире она жила! Ей вдруг всем сердцем захотелось домой – туда, где было безопасно и жизнь шла своим чередом, где старые обычаи имели значение и добрые люди не испытывали мук за то, что следуют велениям совести, и где можно было блюсти веру и следовать традициям, освященным и проверенным временем. Она знала, что это фантазии. Даже Вулфхолл теперь не являлся тихим убежищем. Все они были повязаны новыми законами, и отец Джеймс тоже. Если бы она приняла монашеский обет в Эймсбери, даже авторитет приорессы не мог бы защитить ее. Нигде нельзя было чувствовать себя в безопасности, и меньше всего при дворе, блестящем и пышном, многолюдном и кишевшем интригами.
Глава 13
1535 годВ январе выпал снег. Фрейлины при свете факелов разыгрывали снежные баталии в личном саду королевы. Однажды вечером Джейн краем глаза заметила короля и королеву, которые наблюдали за побоищем из окна. Сквозь стекла с ажурными решетками казалось, что они улыбаются. Когда девушки вернулись в дом, Генриха уже не было, а Анна пребывала в задумчивости. Они готовили королеву ко сну, когда она открыла им, что у нее на уме: – Поступили отчеты о непорядках в монастырях. – Королева в черной атласной ночной сорочке сидела, выпрямив спину, а Джейн расчесывала ее длинные темные волосы. – Мастер Кромвель должен разобраться с этим делом. Разумеется, его милость и я озабочены тем, чтобы вырвать с корнем злоупотребления в Церкви. «Кто бы сомневался, – сказала про себя Джейн, – вы займетесь этим основательно. От вас нигде не укрыться». Однако она скоро забыла эту свою мысль и вспомнила слова Анны гораздо позже, тогда-то и стало понятно их истинное значение. А в тот момент все они больше интересовались любовными похождениями короля. Слухи о том, что он преследует своим вниманием то одну даму, то другую, циркулировали по двору постоянно, но на сей раз для этого действительно имелись основания. Подозрения падали на кузину королевы Мадж Шелтон, и Маргарет Дуглас считала, что Анна сама подстроила интрижку. – Меня это не удивило бы, – сказала леди Болейн. – Лучше такие вещи держать внутри семьи, дабы избежать дурных влияний. – Она пристально взглянула на Джоан Эшли. – А то некоторые отдают свои симпатии не тем, кому нужно. Джейн опустила глаза на свои пяльцы, молясь, чтобы никто не догадался, кому отданы ее симпатии. Марджери, вероятно, до сих пор разделяла их, но они больше не говорили о таких вещах. Анна была по-прежнему любезна с Мадж, однако все видели, что королева несчастна. Когда юной Франсес де Вер, графине Суррей, наконец разрешили вступить в полноценный брак с графом и она была полна радости, впервые насладившись утехами любви на брачном ложе, Джейн заметила, как королева отвернулась и закусила губу. Однако, что бы ни происходило между королем и Мадж Шелтон, это быстро закончилось. И вскоре всеобщим вниманием завладели дела поважнее. Нашлись и другие храбрецы, отказавшиеся давать новую клятву верности. Они не только отрицали главенство короля над Церковью, но и выражали преданность папе. «Эти люди либо не в меру смелы, либо безрассудны», – подумала Джейн, вспоминая об участи монахини из Кента и ее сподвижников. В мае в Тайберне были повешены, выпотрошены и четвертованы настоятель Лондонского картезианского монастыря, два приора-картезианца и монах из обители Сион. «Они приняли смерть с такой радостью, – говорили вокруг, – словно женихи, идущие на свадьбу». Анна вонзила иглу в пяльцы и безжалостно заявила: – Они это заслужили! Может быть, епископ Фишер и сэр Томас Мор усвоят этот урок и принесут клятву. Относительно этих двоих мужчин она была настроена особенно решительно: они должны подчиниться, и король в третий раз предложил им принести присягу в Тауэре. Оба снова отказались. – Они изменники и заслуживают смерти! – бушевала Анна. В последнее время она плохо справлялась с эмоциями и легко переходила от безудержного веселья к кипучей ярости. Вскоре причина этого стала очевидна: она снова ждала ребенка. Радость короля при этом известии не смягчила его гнева против тех, кто бросал ему вызов. Анна сидела во главе стола на праздничном пиру, а тем временем десятерых монахов-картезианцев приковали цепями к столбам и оставили умирать от голода. Среди них, как слышала Джейн, был и Себастиан Ньюдигейт. Она невольно подумала о его сестре, стойкой в вере леди Дормер, горе которой было глубоко, хотя она и выражала бурную радость по поводу того, что ее праведный брат сподобился мученической смерти. Это было страшное лето. В июне епископ Фишер был осужден на смерть как изменник и обезглавлен, еще троих монахов-картезианцев повесили, выпотрошили и четвертовали в Тайберне. Казнь епископа была особенно шокирующей, потому что папа только что сделал его кардиналом, и король не упустил свой шанс продемонстрировать презрение к Церкви Рима. Носившая под поясом принца, а все были уверены, что родится мальчик, Анна была неукротимо безжалостна. Король выполнял любое ее желание. Теперь – и она не делала из этого секрета – ей хотелось отправить на плаху Томаса Мора. Джейн Мора едва знала, и то только внешне, но ей было известно о его репутации как ученого, человека глубоко верующего и цельного. Он был защитником истинной веры, с его мнением считались, он был уважаем во всем христианском мире. Больше того, он был другом короля. Джейн не могла поверить, что Генрих лишит такого человека жизни. Она серьезно начала подумывать о том, чтобы оставить свой пост и уехать домой. Всегда можно было сослаться на болезнь; никто не догадался бы, в чем истинная причина. Джейн договорилась о встрече с братьями у реки, где они могли поговорить приватно, и сообщила о своих замыслах. Эдвард и Томас считали ее намерение глупым. Только Гарри отнесся к ней с сочувствием. – Я бы тоже хотел поехать домой, – сказал он, – но, увы, здесь я зарабатываю на жизнь, и, так как место мне обеспечил епископ Гардинер, он посчитает меня неблагодарным, если я вернусь к нему на службу. – Ты слишком много думаешь, Джейн, брось это, – посоветовал Томас. – Какая разница, кто королева, а кто нет, что тебе за дело до клятв и власти над Церковью, пока мы можем пробивать себе дорогу в этом мире! – Есть такая вещь, как совесть, – напомнила она ему. – Каждый день я должна прислуживать женщине, которая лишила трона мою добрую госпожу, и ненавижу себя за это. – Нам всем приходится лицемерить так или иначе, – сказал Эдвард. – Я тоже не люблю ее, но она королева, и нам нужно использовать это к своей выгоде. Если ты поедешь домой, то можешь распрощаться с надеждами на хороший брак и со всем прочим, что может предложить двор. В Уилтшире тебя ничего не ждет. – Я уже давно распрощалась с надеждами на удачный брак, – парировала Джейн. – Мне двадцать семь, и до сих пор ни один мужчина всерьез не интересовался мной. Она вспомнила Уильяма Дормера и поморщилась, а потом сэра Фрэнсиса Брайана, который, как и некоторые другие мужчины, просто не создан для брака. – Останься ради меня, – умолял Гарри. – Твое присутствие при дворе скрашивает мои дни. – Ага, – поддакнул Томас, и Эдвард кивнул. – Хорошо, – вздохнула Джейн. – Но если тут станет еще хуже, я снова начну думать об отъезде.
К третьей неделе июня ребенок Анны начал быстро расти, и пришлось распускать шнуровку на платьях. Королева чувствовала себя необыкновенно хорошо, как говорила сама. Казалось, эта беременность должна завершиться благополучно. Однако всего через три дня после казни Фишера королева встала из-за стола после обеда и вдруг вскрикнула, безмолвно указывая на крупные пятна крови на полу. Джейн, испытав приступ тошноты от этого зрелища, побежала за врачом, остальные дамы кинулись помогать своей госпоже. В те дни, казалось, мир истекает кровью, и кровь Анны, которая, несомненно, была исторгнута из нее ребенком, каким-то образом была связана с кровью мучеников. Именно мучениками они и были, в этом Джейн не сомневалась: они умерли за веру, и теперь Бог наказывает жестокосердых Генриха и Анну. Кровь – за кровь, жизнь – за жизни невинно убиенных. Все завершилось очень быстро. Ребенок родился мертвым. Это был мальчик. Снова пришел король, плачущий и растерянный, чтобы разделить горе с королевой. Правда, на этот раз уходил он с поджатыми губами.
Оправилась Анна быстро, но, когда начала выходить из своих покоев, выглядела бледной и была крайне взвинчена. Король редко приближался к ней, и от этого становилось только хуже. Раньше он делал только то, что было ей приятно и могло ее утешить. Теперь же ходили упорные слухи, что ее звезда закатывается. Убежденная в том, что ей нужно приложить больше усилий, чтобы завоевать благоволение Господа, Анна загрузила своих дам работой – они помогали ей вершить добрые дела: шили одежду, подрубали края простыней, ездили с ней раздавать милостыню, собирали корзины продуктов для бедных. Джейн не имела ничего против, ведь именно этими должна заниматься королева. Анна полагала также, что избавление монастырей от разложения и перевод Библии на английский будут угодны Всевышнему. Она все уши прожужжала своим приближенным, рассказывая о реформаторе по имени Майлс Ковердейл, который взял на себя труд по переложению Писания на родной англичанам язык и посвятит его Анне и Генриху. Джейн и Марджери получили задание шить рубахи для бедняков. Они сидели на широком подоконнике в покоях королевы в Виндзоре и занимались этой скучной работой. Отвлекала их лишь любовная игра Маргарет Дуглас и лорда Томаса Говарда, которые уютно устроились в алькове и не замечали ничего вокруг. – У них нет никакой надежды, – тихо проговорила Марджери. – Леди Маргарет третья в очереди на престол. Когда-нибудь король устроит для нее великолепный брак. А лорд Томас – младший сын без всякого состояния. – Она любит его, – сказала Джейн. – Это глупо! Помните, как Мэри Кэри запретили появляться при дворе за то, что она вышла замуж за такого же. – Король любит леди Маргарет, как дочь. Он не прогонит ее. Марджери покачала головой и шепнула: – Когда-то он сам любил Мэри Кэри. – Что?! – Джейн была потрясена. Подруга понизила голос: – Да, за несколько лет до того, как начал ухаживать за королевой. Вы не знали? Она родила ему дочь. Конечно, об этом никто не заикался, и девочку выдали за ребенка ее мужа, но кое-кто при дворе знал правду, и мне говорили, что девочка – вылитый отец. Джейн с трудом впитывала в себя эти откровения. – То есть у короля есть ребенок от сестры королевы? Марджери кивнула, с опаской поглядывая в сторону Анны, но та смеялась в компании с сэром Генри Норрисом и несколькими другими джентльменами. – Тогда, – медленно проговорила Джейн, – его брак с королевой можно считать таким же кровосмесительным, как и с Екатериной. – Что вы имеете в виду? – спросила Марджери, и глаза ее округлились. Джейн перешла на шепот: – Королева была замужем за принцем Артуром, прежде чем вышла за его брата, короля Генриха, но ее первый брак не был совершен окончательно, поэтому папа разрешил ей вторичное замужество. У короля появился ребенок от Мэри Кэри до того, как он женился на ее сестре. И никакого разрешения не было. Если первый брак короля был несостоятелен, как он утверждает, значит, по тому же признаку, его второй брак тоже недействителен. «И он либо глупец, либо лицемер», – подумала Джейн, но, разумеется, вслух этого не сказала. Марджери резко втянула в себя воздух: – Я никогда об этом не задумывалась. Но ради Бога, Джейн, никому не говорите ничего подобного. Вы знаете, отрицать законность брака короля с королевой Анной – это измена. Джейн была потрясена. Подумать только, это пресловутое Великое дело, религиозные реформы, даже объявление короля главой Церкви – все было основано на лжи. Не имеет значения, была ли прежняя королева по-настоящему супругой принца Артура или нет, жениться на Анне Генрих все равно не мог из-за принесшей плод любовной связи с ее сестрой. И люди гибли кровавой смертью ради того, чтобы торжествовала эта ложь! Да это чистое злодейство! Теперь понятно, почему король старался держать историю с Мэри Кэри в секрете. И стоит ли удивляться, что Господь отказывает ему в сыновьях. Джейн снова подумала, что ей лучше уехать домой. Она не хотела принимать участие в этом постыдном злодеянии. Служа Анне как королеве, она только помогает ему вершиться. Казалось, ее совесть больше этого не выдержит. Она уже почти решилась покинуть Анну, когда было объявлено, что двор отправляется с королем объезжать западные графства. – Мы посетим замок Беркли, – сообщила Анна обрадованной леди Беркли, – и остановимся в Вулфхолле и Элветаме. – Она улыбнулась Джейн. Эти два визита станут знаком королевского благоволения к семейству Сеймур, но они же поставят крест на планах Джейн. Если она оставит свою должность сейчас, это поставит под угрозу королевский визит в дом ее родителей, а ей ни за что на свете нельзя лишить свою мать шанса принять у себя и развлечь короля. Как же будет гордиться леди Сеймур! К тому же во время королевского визита она, Джейн, сможет попросить совета у родителей и отца Джеймса, как ей лучше поступить. В Вулфхолле решится ее будущее.
Все окунулись в суматоху приготовлений. Роскошные платья королевы нужно было свернуть и аккуратно уложить в огромные, обитые железом дорожные сундуки; ее капоры отправлялись в путь на деревянных подставках в коробках; белье упаковали в холщовые сумки. У самой Джейн теперь было шесть платьев и столько же киртлов, и она решила, что они все ей понадобятся. Наконец все было готово: королевскую мебель, свернутые в рулоны гобелены и ковры, а также сундуки с посудой погрузили на повозки или навьючили на мулов. 5 июля король с королевой оседлали коней, и длинная процессия отправилась в Рединг. Джейн ехала позади вместе с другими приближенными королевы и видела, что его милость пребывает в необычайно хорошем настроении, смеется и шутит с Фрэнсисом Брайаном и другими джентльменами. Все знали, что король любит совершать эти туры по стране и являть себя подданным. Люди бежали и приветствовали его, когда он проезжал, выкрикивали похвалы и жалобы, иногда он останавливался поговорить с ними. В аббатстве Рединг Джейн в числе прочих дам скромно несла свою службу у стола, пока король и королева обедали. Генрих говорил о надеждах на удачную охоту, которую назначили на завтра. Однако сквозь его беззаботное отпускное настроение проглядывала нервозность. Из отдельных фраз короля становилось ясно, что этот объезд страны имел целью побудить людей к одобрению его религиозных реформ. – Я намерен почтить посещением и тех, кто поддержал меня, и тех, чьи сердца хочу завоевать этим визитом, – сказал он, разламывая пополам лежавший рядом с тарелкой белый хлебец. – Не бойтесь, Анна, в конце концов все окажутся на нашей стороне. Королева улыбнулась. Отношения между ними снова наладились. Может быть, причиной тому стала атмосфера путешествия и отдыха. Однако неловкость в общении супругов Джейн тоже ощущала, и не только со стороны Анны.
Король ускакал охотиться в сторону дворца Эелм; королева направилась туда же в носилках, и весь двор вместе с ней неспешно и грузно перемещался по чудесной сельской местности Оксфордшира. Следующую ночь провели в аббатстве Абингдон. Пока фрейлины распаковывали вещи, пришла леди Болейн и объявила не без некоторого удовлетворения, что позавчера был обезглавлен сэр Томас Мор. Теперь Джейн поняла, почему король нервничал. Пока он охотился, его старый друг должен был отправиться на плаху. Она задрожала, потрясенная новостью. Закусила губу и опустила глаза, потом забеспокоилась, не обидит ли это кого. У леди Болейн были орлиные глаза, и если она решит, что недостаточно позитивная реакция на эту новость означает неодобрение, то может пойти в атаку. К счастью, несколько дам стали говорить, что сэр Томас получил по заслугам, так что молчание Джейн осталось незамеченным, – она на это надеялась. Как же ей хотелось в Вулфхолл, к родным! Джейн утешала себя фантазиями, что останется там, когда двор уедет. Но они доберутся туда только через несколько недель. Из Абингдона переехали в старинный дворец Вудсток и пробыли там некоторое время. Джейн была заинтригована местной легендой о Прекрасной Розамунде. Мать Анны Парр рассказывала ей эту историю, и она передала ее фрейлинам, когда они вместе с королевой дышали воздухом в большом парке, окружавшем дом. – Прекрасная Розамунда была дамой сердца одного короля, который жил давным-давно, – повествовала Джейн. – Он построил маленький домик, где мог посещать ее втайне от своей злой королевы. Однако королева – кажется, ее звали Элеонора – узнала, где пряталась возлюбленная супруга, поэтому король устроил вокруг домика лабиринт, чтобы она не добралась до Розамунды. Элеонора же была столь коварна, что отыскала путь внутрь, оставив позади нить, чтобы благополучно вернуться. Она убила Розамунду – поднесла ей чашу с отравленным напитком. Король так разозлился, что заточил злую королеву в замке до конца своих дней. – А все эти каменные кресты воздвиг муж Элеоноры после ее смерти? – спросила Мэри Зуш. – Это была другая Элеонора, – ответила королева. – Муж очень любил ее и так горевал, что поставил кресты во всех местах, где ее тело отдыхало по пути в Вестминстерское аббатство. Я видела там ее гробницу. – Она задумалась. Джейн не была уверена, что король станет воздвигать кресты в честь Анны; он уже не так сильно любил ее. – А тот домик сохранился? – спросила она. – Не думаю, – ответила Анна Парр. Они вернулись во дворец и спросили об этом управляющего. Тот тоже не знал, так что дамы отправились на поиски сами и прошли, казалось, не одну милю, прежде чем обнаружили посреди заброшенного сада развалины небольшого каменного дома и монастыря. – Вот, наверное, это место, – сказала королева. – Выглядит жутко, – прокомментировала леди Ратленд. Джейн поежилась. Она тоже почувствовала, будто здесь блуждала тень Розамунды и с плачем взывала к отмщению. Может, ее и правда убили в этом глухом углу. – Отравление – ужасный способ убийства, – заметила Мэри Норрис. – Им пользовались женщины, потому что они не такие сильные, как мужчины, – отозвалась леди Болейн. Джейн украдкой взглянула на королеву. Та рассматривала развалины дома с таким видом, будто представляла себе Розамунду, которая провела здесь много часов в ожидании короля и в страхе быть обнаруженной королевой. Лицо Анны оставалось спокойным. Джейн вспомнила ее угрозы в адрес принцессы Марии. Королева повторяла их не раз, и однажды в ее устах это прозвучало так: «Я могла бы убить вас!» После серии летних казней ненависть Анны к Марии и Екатерине разгорелась еще жарче. Если она уговаривала короля отправить Марию на эшафот, о чем шептались все, чего еще она от него потребует? Не опустится ли до тайных способов избавления от врагов? «Это не такое уж невероятное допущение, как можно подумать», – рассуждала про себя Джейн, бродя вокруг развалин. Она вспомнила, как Анну обвиняли в попытке отравить епископа Фишера. А он громче многих других осуждал развод короля. Разумеется, были люди, которые хотели заставить его умолкнуть. Джейн посмотрела на королеву, которая шла мимо руин монастыря; ее черная вуаль развевалась на ветру. Да, Анна могла быть безжалостной, если ее спровоцируют; и рассказ о страданиях картезианцев ее совершенно не тронул. Но способна ли она на убийство? Джейн беспокоило то, что она не могла прийти к определенному выводу. Кому дано знать тайны человеческих сердец? Женщины собрались в заброшенном садике у дома. Никому не хотелось оставаться в этом месте, и Джейн обрадовалась, когда они повернули в сторону дворца.
Из Вудстока перебрались в Лэнгли, а оттуда направились в милый городок Уинчкомб в Глостершире. Сразу за ним находился королевский замок Садели, где Генрих и Анна должны были остановиться на неделю со своими дворами. Всех остальных разместили неподалеку в аббатстве Уинчкомб. Король проводил в аббатстве много времени – совещался с главным секретарем Кромвелем, только что прибывшим из Лондона. Джейн забеспокоилась, услышав, как королева говорила своим дамам, что Кромвель явился для организации проверок всех религиозных учреждений в Уэст-Кантри, на западе королевства. Хоть мира у нее в душе и не было, Джейн полюбила Садели. Королевские апартаменты здесь состояли из множества великолепных покоев с высокими потолками и окнами, банкетный зал был прекрасен, а сам замок располагался посреди живописной сельской местности. Джейн с удовольствием обследовала сады и внутренние дворы. Но тут Анна объявила, что завтра утром поедет в аббатство Хейлс и все служители двора, дамы и фрейлины должны сопровождать ее. – Должно быть, это важный визит, – пробормотала Марджери. – Она хочет произвести впечатление. – Аббатство Хейлс основано на пожертвования королей, – сказала Анна, – и мы увидим там знаменитую реликвию – фиал со святой кровью нашего Спасителя. Джейн, конечно, слышала об этом, потому что аббатство Хейлс было известным местом паломничества, но сама там не бывала и трепетала от радостного ожидания поездки. Увидеть настоящую кровь Иисуса, пролитую на Голгофе и чудесным образом сохранявшуюся уже много столетий, – это будет чудесно. За прошедшие века фиал стали считать чудотворным и избавляющим от недугов, говорили, что паломники, только увидев его, обретали желанное спасение. Поездка казалась недолгой – мили три или четыре, – и вот уже вдалеке показался величественный монастырь. Приезда королевы ожидали аббат Стивен и высокий горбоносый священник в грубой черной рясе, которого Анна ласково поприветствовала. За ними стояла группа офицеров с королевскими эмблемами на форме. Голос из-за спины шепнул на ухо Джейн: – Высокий – это Хью Латимер, пламенный реформатор. Влияние королевы обеспечило ему епископат в Вустере. Джейн обернулась и увидела улыбающегося сэра Фрэнсиса Брайана. – Они оба толстые, как воры, – сказал он. – Хейлс находится в его диоцезе, так что не зря он явился встречать королеву. – Тон Брайана был саркастическим. – А эти черные вороны – люди Кромвеля, присланные искать недостатки в монастырях. Глаза Джейн расширились. – Я думала… – Позже, – буркнул Брайан. – Мы заходим. Джейн последовала за королевой, слова сэра Фрэнсиса озадачили ее. Неужели они нацелились на благословенное аббатство Хейлс? Пока аббат Стивен провожал гостей через прекрасно оформленную церковь в изысканно украшенное святилище, где хранилась бесценная Святая кровь, Джейн заметила какое-то напряжение между ним, епископом и королевскими служащими. Реликвия находилась в центре апсиды, ее окружали пять молелен. В боковом проходе, за веревочным ограждением, у которого стоял монах с деревянным ящиком для денег, собралась в ожидании длинная очередь из паломников. – Они стекаются сюда каждый день, ваша милость, – сказал Анне аббат. – Мы попросили их подождать, пока вы совершите поклонение в святилище. Анна огляделась: вокруг мощные колонны, украшенные резьбой стены, под ногами – выложенный плиткой пол. – Это приносит вам хороший доход, – заметила она. Аббат Стивен кивнул: – Мы берем с паломников по восемнадцать пенсов за возможность увидеть Святую кровь. Некоторые, конечно, дают больше. Нам очень повезло, что мы владеем такой чудесной реликвией. Анна кивнула и обменялась взглядом с епископом Латимером. – Мы все должны увидеть Святую кровь, – сказала она. – Подойдите ближе, добрые люди, – обратился епископ к очереди. Аббат открыл было рот, чтобы возразить, но Латимер поднял вверх руку. – Отец, вы, конечно, воздержитесь от взимания своих восемнадцати пенсов на один день, в честь королевы. Аббат поклонился, возражения отпали. Люди подошли ближе, пахнуло немытыми телами. Джейн отпихнули за колонну, но ей все было хорошо видно. Она молитвенно сложила руки и благоговейно задержала дыхание, а тем временем пожилой монах, который нес службу около реликвии, раздвинул красные шторы, и за ними открылась инкрустированная драгоценными камнями золоченая ниша, где стоял сосуд в форме шара из зеленого берилла с серебряными накладками. Монах наклонился и открыл его, толпа зрителей издала коллективный вздох. Джейн увидела блеск чего-то красного, густого и тягучего. Она не могла оторвать глаз от сосуда, в котором содержалась кровь Агнца, отданная за нее и за все человечество. Сердце Джейн пело, и душа ликовала. Тело будто воспарило над землей, проникнутое чувством Божественного присутствия и затерявшееся в восторге, какого она никогда еще не испытывала, даже в те давние моменты, когда слышала во сне призывы к религиозной жизни. Может быть, это был призыв и ей стоит к нему прислушаться? Может, таков был Божий промысел и чудо свершилось благодаря Святой крови? Мысли Джейн прервал голос королевы: – Прошу вас, отец, достаньте сосуд из святилища и дайте нам рассмотреть его получше. Последовала пауза, потом аббат кивнул монаху, который снова протянул руку в нишу и вынул оттуда реликвию. На свету кровь выглядела не такой густой и цвет ее больше напоминал медовый. Анна взглянула на епископа, потом повернулась к аббату: – Отец настоятель, мой брат, лорд Рочфорд, который приезжал к вам три дня назад, сообщил мне, что это кровь утки, регулярно обновляемая вот этим монахом. Меня такое известие шокировало, и я приехала посмотреть и убедиться в справедливости его слов собственными глазами. Не одна Джейн при этих словах громко ахнула. – Нет! – крикнула какая-то женщина. Анна кивнула головой в сторону старого монаха, который имел весьма смущенный вид. – Разве вы не говорили этого лорду Рочфорду и королевским посланникам? – спросила королева. Мужчина кивнул, на глазах его показались слезы. Джейн пришла в полнейший ужас; она не знала, что и думать. Неужели всех этих паломников, длинной чередой тянувшихся сюда много столетий, просто обманывали, водили за нос? Аббат побледнел: – Ваша милость, я понятия не имел об этом. Брат Томас следит за святилищем уже сорок лет, дольше, чем я нахожусь здесь. – Он повернулся к монаху и гаркнул: – Это правда? – Отец, могу я поговорить с вами наедине, – пролепетал брат Томас. – Это правда? – повторил вопрос аббат. – Все так и есть, – повесив голову, ответил монах. – Не увиливайте. В этом сосуде – Святая кровь Христова или утиная? Джейн задержала дыхание. Монах боролся с собой. – Это кровь утки, – наконец проговорил он сдавленным голосом. Джейн не поверила, не могла поверить в это. Его заставили, вложили ему в уста кощунственные слова! Есть ли предел злодействам этих людей? – Значит, это просто гнусный обман! – провозгласила Анна. – Люди добрые, вы видели здесь сегодня, как обирают и обманывают благочестивых англичан. Отец настоятель, я сообщу королю об этом мошенничестве. А вы тем временем уберите эту фальшивую реликвию. Аббат повесил голову. За спиной Джейн раздались протестующие возгласы толпы. Тут прозвучал голос епископа Латимера: – Идите по домам. И расскажите всем, что видели и слышали сегодня. Да процветет истинная религия! – Аминь! – сказала Анна.
По пути назад, в замок Садели, Джейн молчала и думала о том, что Анна наверняка заранее знала о признании, сделанном монахом посланцам короля, и спланировала это публичное унижение аббата. А монаха явно принудили отрицать, что в фиале – кровь Христа. Разве может быть фальшивкой священная реликвия, которую сотни лет почитали многие мудрейшие и образованнейшие люди? Она в это никогда не поверит. Никто не испытал бы такого восторга, какой пережила она, при виде утиной крови! Когда они прибыли в замок, сэр Фрэнсис Брайан помог Джейн спуститься с коня. – Ну, это было весьма своевременно! – сказал он по дороге в королевские апартаменты. – Откуда они узнали, что это кровь утки? – Они этого не знали. Не могли знать. Просто хотели доказать, что реликвия – фальшивка, что соответствует их цели. – Значит, ради этого рассылали проверяющих искать в монастырях недостатки? – Именно. Анна Парр и Мэри Зуш ушли вперед помогать королеве, поэтому Джейн на мгновение остановилась в банкетном зале и прислонилась спиной к стене. Снизу, из кухни, доносился запах жареного мяса. Скоро обед. Брайан задержался рядом с ней: – Говорят, король закрывает некоторые мелкие монастыри. Мастер Кромвель обещал сделать его богатейшим правителем на земле. Церковь владеет несметными богатствами. Ими-то и наполнят пустую казну. Нечасто Джейн испытывала такой гнев. – Но это грешно! Это же Божьи дома! Брайан пожал плечами: – Мастер Кромвель заставит всех нас поверить, что они либо находятся в упадке, либо погрязли в мирском, либо являются рассадниками папства, а то и домами терпимости. Джейн нервно крутила кольца на пальцах. – Не могу поверить, что они замыслили такое. Король – верующий человек. Как он может соглашаться на это? – Король найдет моральные оправдания всему, чего захочет, Джейн. Поверьте мне, я его знаю. Если совесть короля оскорблена, она должна быть чем-то успокоена. – А как насчет совести всех остальных? Рядом с домом, где я выросла, было несколько монастырей, и ни одного из них никогда не касалась даже тень скандала. Те, кто служит в них Господу, – хорошие люди. Они не делают ничего дурного. Потом она вспомнила приорессу Эймсбери и поняла, что это не вполне верно. Брайан посмотрел на нее долгим взглядом: – Вы невинны, Джейн, поэтому люди любят вас. Помяните мои слова, это пройдет, и, может быть, со временем монастыри покрупнее постигнет та же участь. – Но это настоящее святотатство. Что будет со всеми этими добрыми душами, которые призваны служить Господу? – Думаю, план такой: выплатить им пенсион или найти для них места в более крупных монастырях. – Люди не согласятся на это! – Смею напомнить вам, милая Джейн, они уже согласились на многое: на удаление вдовствующей принцессы, лишение права на престол ее дочери, главенство короля над Церковью, новый акт о наследовании власти, казнь честных людей и возвышение Анны Болейн, которую должны благодарить за прекращение выгодной торговли с Империей. Я с трудом могу представить, что они поднимутся сейчас ради монахов и монахинь. – Все равно это неправильно и грешно, – не унималась Джейн. – Похоже, мир сошел с ума.
В ту ночь, лежа на постели в комнате в верхней части башни замка Садели, Джейн не могла уснуть. Слова Брайана тяготили ее. Она вновь столкнулась с тем, что так не нравилось ей в придворной жизни: полное отсутствие морали, человечности и справедливости. Здесь главенствовали стремление к личной выгоде и попрание чувств, интересов и ценностей других людей. Не соглашаться с этим или выражать неодобрение было опасно. Прибавьте сюда же сплетни, злословие, интриги, а также риск, которому подвергается любой человек, оказавшийся в центре событий, и вы увидите разверзающуюся перед вами пропасть. Сюда, в провинцию, новости приходили с запозданием и нередко в искаженном виде. Отец редко обсуждал политические дела с женой и дочерьми. Джейн с удивлением обнаружила в себе способность разбираться в них, хотя выросла в убеждении, что это ей не по уму. Но она испытывала все более сильное желание оставаться в блаженном неведении.
В августе, проехав через Тьюксбери и Глостер, они на шесть дней остановились в замке Беркли в гостях у лорда и леди Беркли, которые с превеликим удовольствием показывали им тесный, мрачный подвал, где два столетия назад томился и был убит по приказу своей жены и ее любовника низложенный король Эдуард II. Король нахмурился. – За такое оба они были достойны самого сурового наказания, – строго сказал он. – Для королевы предать и убить своего супруга-короля – это худшая из измен. – К сожалению, она умерла в своей постели, – сказал ему лорд Беркли, – а вот любовника повесили. Потом хозяин замка поведал всем о том, как был убит Эдуард, – ему выпустили кишки раскаленным вертелом. Джейн поморщилась. – Говорят, его крики были слышны даже за стенами замка, – мрачно добавил рассказчик. После этого Джейн захотелось поскорее покинуть Беркли; ей казалось, что древние замковые стены хранят память о страданиях бедного короля Эдуарда, и она боялась, что душа несчастного так и не обрела покоя. Однако по башенкам и лестницам старого замка по ночам блуждал вовсе не дух убитого короля. Как-то вечером, поднимаясь наверх из главного зала с поднятой с пола жемчужиной, которая отвалилась от капора королевы, Джейн проходила мимо часовни, освещенной одинокой алтарной лампадой, и там, среди теней, она увидела Томаса Говарда и Маргарет Дуглас в страстных объятиях; любовники не замечали ничего вокруг. Джейн поторопилась уйти, думая про себя, как это глупо со стороны Маргарет – связываться с человеком, который ничего не мог ей предложить. Король едва ли одобрит их брак, даже если королева этого захочет. Интересно, знает ли Анна, насколько сблизились эти двое? Навряд ли. Ее сейчас больше занимала привезенная мастером Кромвелем новость: монахи аббатства Хейлс вернули реликвию в святилище, а верующие продолжают стекаться в монастырь, чтобы увидеть ее.
Замок Торнбери, куда они отправились, тоже, казалось, был населен духами. Он принадлежал герцогу Бекингему, дальнему родственнику короля, который плел заговор с целью захватить трон и был обезглавлен несколько лет назад. Вся его собственность отошла короне. Герцог не успел довести до конца строительство Торнбери, но роскошных апартаментов в завершенной части хватило для короля и королевы со всеми придворными. Фрейлин разместили на чердаке, куда вела крутая лестница, но виды из расположенных на высоте окон были восхитительные. Однако Джейн не покидали мысли о человеке, который задумал этот замок, такой великолепный и вычурный, как он разбивал прекрасные сады и какой встретил конец. Был ли он рожден для того, чтобы оставить после себя этот великолепный дом? Или так и не покинул его? Может, его дух все еще обитает здесь? Тени тут мелькали в каждом углу. Две из них были облечены плотью – Маргарет Дуглас и Томас Говард. Джейн заметила, как они проскользнули в комнату герцогини Ричмонд. Дверь закрылась. Проходя мимо, Джейн услышала доносившийся изнутри голос герцогини и обрадовалась, поняв, что парочка не осталась наедине. Неудивительно, что Мэри Говард поощряла эту связь: Томас был ее дядей. Поездка с королем по стране давала массу возможностей для флирта. Маргарет и Томас не были единственными любителями уединиться. Вероятно, виной тому была превалирующая атмосфера отпуска или чувство свободы, которое вызывало путешествие; оно как будто подстрекало к мимолетным поцелуям и тайным встречам. По ночам в спальне Джейн слышала, как фрейлины шепчутся о своих любовных приключениях. Ее брат Томас не делал секрета из своих побед. Но никто не искал благосклонности самой Джейн, и она сомневалась, что такое может случиться. Актон-Корт, к которому сэр Николас Пойнц пристроил прекрасное новое крыло специально для визита короля, Джейн полюбился. Она вместе со всеми любовалась античными фризами и фресками в королевских апартаментах и удивлялась тому, что сэр Николас пошел на такие хлопоты и траты ради визита, который должен был продлиться всего два дня. Генрих и Анна тоже были поражены не только расточительностью хозяина Актон-Корта, но и выражением исключительной преданности королю, которая, по мнению хозяина, несомненно, стоила понесенных расходов. Оттуда двор направился в Литл-Содбери и вскоре, к радости и облегчению Джейн, уже въезжал в Уилтшир. Скоро она будет дома! В четвертый день сентября они свернули на восток от Бронхэм-Холла к Вулфхоллу, где король собирался провести три ночи. Джейн едва могла сдержать радостное возбуждение. Она с трудом представляла, что сейчас чувствует ее мать.
Глава 14
1535 годО приближении высоких гостей возвестили охотничьи рога. Отец и мать ждали их на Главном дворе со всеми домочадцами, выстроившимися за спинами хозяев. Вымощенную булыжником площадку заполнили люди и лошади, потому что местные джентри приехали выказать уважение своему соверену и составить ему компанию на завтрашней охоте. Была здесь и Лиззи. Она специально прибыла из Джерси с двухлетним Генри, веселым маленьким мальчиком, который очень любил своего отца. Лиззи исполнилось семнадцать, фигура ее приобрела женственность; сбоку от нее стояла Дороти, которая тоже расцвела и стала прехорошенькой. Эдвард, явившийся в Вулфхолл раньше вместе с Томасом и Гарри, выделялся ростом и элегантностью рядом с Нан, одетой в платье с низким вырезом из рыжевато-коричневого шелка. Тут же находились Джон, который сильно вытянулся и превратился в юношу шестнадцати лет, и Нэд, восьмилетний крепыш, который едва не подскакивал на месте от восторга. Сэр Джон, облаченный в алый наряд, бодрый, несмотря на свои шестьдесят лет, положил на плечо малыша твердую ладонь. Мать выглядела величественно в дамастовом платье сливового цвета с потрясающим желтым киртлом, соболях и капоре в тон. Как же они были рады и горды, что принимают короля! Невозможно было догадаться, что неверность и скандал едва не разрушили эту семью. Но с тех пор прошло уже восемь лет. Джейн надеялась, что раны затянулись; несчастная Кэтрин искупила вину потерей рассудка и ранней смертью. – Добро пожаловать, сэр, в наш скромный дом, – с широкой улыбкой проговорил отец, приближаясь к коню своего соверена и протягивая повелителю приветственный кубок. – Это большая честь принимать вас здесь, ваша милость. Сэр Джон встал на колени, все опустились в глубоких реверансах. Король и королева спустились с коней. Генрих возвышался над всеми, в его присутствии люди казались карликами. Монарх был облачен в мантию и расшитый драгоценными камнями дублет из зеленого дамаста с парчовыми вставками и рукавами, отороченными дорогим мехом; на черном бархатном берете красовался огромный рубин, а пальцы короля были унизаны кольцами. Джейн поразило, что это все еще красивый мужчина, хотя ему уже сорок четыре; седина не сверкала в его рыжих волосах, светлая кожа загорела за недели, проведенные на солнце во время охотничьих забав. Генрих действительно был воплощением королевского величия, и он улыбался. – Сэр Джон, мы очень рады вас видеть, – провозгласил король, поднимая отца и хлопая его по спине. – Леди Сеймур, мы слышали, вы держите стол, с которым не сравнится ни один другой в Уилтшире! – Он взял руку матери и весело поцеловал ее. Леди Сеймур залилась краской от выреза платья до корней волос. – Для меня большое удовольствие принимать вашу милость, – запинаясь, проговорила она, а потом заметила Джейн и приветливо улыбнулась. Та присоединилась к своему семейству, пока король здоровался со всеми. Генрих чуть дольше необходимого задержался взглядом на красивой груди Нан, а потом заставил Дороти зардеться, похвалив ее милое личико. Затем король остановился напротив Джейн. Она инстинктивно опустила голову, не желая показаться дерзкой, но он пальцем поднял ее за подбородок, и Джейн была вынуждена взглянуть в его пронзительные голубые глаза. Она ничего не прочла в них, кроме хозяйского интереса. – Госпожа Джейн, – улыбнулся король. – Сэр Джон, мы должны подыскать супруга для этой прекрасной молодой леди. Джейн поморщилась. Но король уже двинулся дальше, а она сделала реверанс перед королевой, которая шла следом. – Да, мы должны, – поддержала супруга Анна, милостиво склоняя голову. Брайан, находившийся в толпе придворных, толкавшихся за ней, подмигнул Джейн. Она улыбнулась, ценя его попытку проявить сочувствие. Муж по выбору Анны Болейн – это не для нее. – Позвольте проводить ваши милости в приготовленные для вас покои, – сказал отец. «Родители наверняка уступили гостям свою спальню», – решила про себя Джейн. Лучшей комнаты в доме не было. Присоединившись к другим фрейлинам, выбранным прислуживать королеве, она смотрела, как отец с гордостью демонстрирует королю длинную галерею, которую он построил, и часовню, в честь его милости украшенную новыми гобеленами. Все выглядело отмытым до блеска и сияющим. Джейн заметила, как Анна бросила на нее хитрый взгляд и усмехнулась, покосившись на леди Уорчестер. «Пусть себе ухмыляется, – подумала Джейн. – Ее-то предки были торговцами!» Снобизм госпожи не испортит ей радости от возвращения домой, в любимый Вулфхолл. Удостоверившись, что у его царственных гостей есть все необходимое, сэр Джон покинул спальню и тепло обнял Джейн. – Как приятно видеть тебя, дочь моя, – сказал он, – и хорошо, что вся семья в сборе. – Это верно. – Джейн поцеловала его, снова ощутив боль от утраты Марджери и Энтони. Зияющие пустотой сердечные раны так и не затянулись. Королева желала отдохнуть, поэтому Джейн поспешила вниз, на кухню, где была заключена в объятия на миг оторвавшейся от хлопот матерью. Тут царил организованный хаос: слуги сновали туда-сюда, готовясь к вечернему пиру, на кухонном столе красовалось множество разнообразнейших соблазнительных блюд и пудингов. – Ваш отец пошел в амбар, где мы устроим свиту короля, – сказала мать, утирая платком лоб. – Этот визит – большая честь для нас, но я валюсь с ног, и одному Богу известно, во сколько все это обошлось. Дороти, принеси из сада петрушки. – Она повернулась к поваренку, который, обливаясь потом, жарил мясо на вертеле. – Гляди в оба, мальчик, как там мясо? Где Нан? Эта девушка бесполезна – слишком величава, чтобы пачкать руки мукой. Джейн, ты поможешь мне с пирогом? Миска очищенных яблок уже стояла наготове вместе с плошкой заварного крема. Джейн взяла передник и надела его поверх дорожного платья. Вскоре обе они были по локти в муке и сахаре и даже приготовили крошечное пирожное в форме короны; создавалось впечатление, будто честь этого дома зависит от их кулинарных талантов. Мать решила, что в будущем король должен иметь основательную причину для благосклонности к Сеймурам хотя бы потому, что знатно поел под крышей их дома. Сейчас не время было обсуждать судьбу Джейн, и если так дело пойдет и дальше, подходящего момента для подобной беседы не подвернется за все три следующих дня. И снова Джейн мысленно поиграла с идеей остаться дома, когда двор тронется в путь. С улицы пришли Джон с Нэдом, который вился позади старшего брата. – Дедушка говорит, вы хотите подать вино в саду перед праздничным ужином? – Скажи ему, что да, – ответила мать. – Как у вас дела, мальчики? – спросила Джейн. – Я часто думаю о вас. – Мы здоровы, но учитель слишком наседает на нас во время уроков, – скривился Джон. – Они хорошо успевают, – сказала леди Сеймур. – А ваша новая мачеха? – спросила Джейн. – Она нас не любит, – буркнул Джон. – Конечно любит, – вмешалась мать, раскатывая тесто так энергично, будто от этого зависела ее жизнь. – Просто у нее такая манера общения. При этом хозяйка дома встретилась глазами с Джейн и состроила гримасу.
Когда мать удовлетворилась достигнутыми результатами и приготовления были завершены, они поднялись наверх по лестнице, чтобы переодеться к пиру. Джейн надела одно из своих красивейших черных придворных платьев и распустила светлые волосы. Воспользовавшись временным затишьем, пока царственная чета отдыхала, и радуясь, что королеве сейчас прислуживают Марджери и Мэри Норрис, Джейн пошла в домовую церковь. Отец Джеймс зажигал свечи, и темнота расступалась. Он поднял взгляд и обрадовался, увидев гостью. Она встала на колени, чтобы получить благословение, с горечью отмечая, что священник постарел за время ее отсутствия. – Как идет жизнь при дворе? – спросил он. – Сложно, отец, – ответила Джейн. – Не знаю, сколько я еще смогу выносить этот конфликт между верностью двум сторонам и то, что творят с противниками короля. У меня сердце кровью обливается за прежнюю королеву. Отец Джеймс нервно огляделся, как будто за каким-нибудь гобеленом мог прятаться сам мастер Кромвель, понизил голос и сказал: – Осторожней, Джейн. Называть ее этим титулом теперь считается изменой. – Тут никого нет, а по мне, так она и есть королева и останется ею до самой смерти. Я никогда не приму Анну Болейн в этом качестве от чистого сердца. Месяцами подавляемое возмущение властно поднимало голос. Старик-священник перекрестился: – Нам, держащимся истинной веры, лучше хранить молчание, – прошептал он. – Я не Томас Мор, и вы не кентская монахиня. Как и большинство людей, я принес клятву, потому что не ищу мученической кончины. И все же меня тяготит признание главенства короля над Церковью и объявление наследниками его детей от королевы Анны, которая не может быть ему истинной супругой, пока жива Екатерина. Это сидит у меня в горле комком желчи. Но сегодня нам не стоит печалиться о таких вещах. Негоже являться пред очи короля с мрачными лицами. Несмотря ни на что, я обнаружил, что он мне нравится. – Мне тоже, – призналась Джейн, – даже при том, что я ненавижу его за сотворенное зло. Это Анна своими чарами и коварством сбила его с верного пути. Она использовала религию как средство добиться успеха и богатства, и теперь все мы должны проникнуться ее убеждениями. Это неправильно, неправильно! – Успокойтесь, дитя мое. – Отец Джеймс прикоснулся к ее рукаву. – Скоро начнется пир. Давайте сегодня наслаждаться жизнью и радоваться. Я уверен, Господу это угодно. Он знает, какую моральную ношу вы несете.
Король сидел в центре главного стола в Широком зале и был очень весел. – Я рад слышать, что нас ждет славная охота в окрестных лесах! – лучась от удовольствия, сказал он и взял себе еще одну булочку с кремом. – Они превосходны, леди Сеймур. Мать была вне себя от счастья. Король щедро нахваливал каждое блюдо, которое ему подавали, и, судя по тому, с какой жадностью он их поглощал, похвалы эти не были притворными. – Сезон весьма удачный, сэр, – сказал отец. – Мы отправимся завтра поутру и дадим вашей милости повод хорошенько поразмяться. Но, боюсь, больше ничего хорошего в наших краях нет. Урожай уничтожен ненастьем. – Я слышал об этом, – хмуро отозвался король. – Надеюсь, скоро все наладится. Сэр Джон посмотрел на Джейн, сидевшую за столом между Гарри и отцом Джеймсом, и повернулся к королеве: – Ваша милость, надеюсь, вы довольны моей дочерью. Анна кивнула и улыбнулась ей: – Мне не на что пожаловаться. Разве это похвала! – У вас прекрасная семья, – с задумчивым видом сказал Генрих матери. – Я родила десятерых, сэр, и четверых схоронила, да упокоит Господь их души. – Она сглотнула. – Мы считаем, что нам очень повезло. – О, быть сельским джентльменом и иметь дом, полный детей, и такой отличный стол! – король вздохнул. – Ваша милость созданы для более великих дел, – вступил в беседу сэр Джон. – Да, конечно, – отозвался Генрих. – Но именно такие, как вы, сельские джентльмены и составляют хребет этого королевства. Новые люди, которые исправно служат мне и поддерживают мои реформы. Анна снова улыбнулась. Джейн почувствовала, как напрягся сидевший рядом с ней отец Джеймс. И еще она поняла, что, хотя король изображал из себя веселого гостя и делал все, чтобы они чувствовали себя раскованно в его присутствии, под его показной беспечностью и благодушием таилось глубокое несчастье. Джейн видела, как глаза короля останавливаются на ее братьях, и представляла себе, что он думает: в его лета надо бы уже иметь несколько здоровых сыновей вроде них. Если бы добрая королева Екатерина родила ему сыновей, то сидела бы сейчас здесь рядом с ним, а не чахла в замке Кимболтон.
После того как унесли блюда с едой, был подан гиппокрас. Король остался за столом, он обсуждал с сэром Джоном местную политику, пока другие мужчины играли в карты или кости. Анна поблагодарила мать и отправилась в постель. У нее явно не было желания провести вечер за разговором с хозяйкой о домашних делах, к тому же мать с трудом держалась на ногах от усталости, ее так и клонило в сон. Даже король заметил это и позволил ей подняться наверх, сердечно поблагодарив за превосходный пир, который она устроила. – Вы счастливый человек, сэр Джон, ваша жена такая хорошая женщина, – сказал он, глядя вслед леди Сеймур. – Кроткая, хорошего рода и, главное, плодовитая. – Генрих вздохнул. – Это настоящее благословение. – Я знаю, сэр, – откликнулся отец, и тон его был весьма многозначительным. Король задумчиво взглянул на него, но ничего не сказал. После чего заговорил о ценах на зерно. Лиззи и Дороти вслед за матерью отправились спать. Брайан подошел к Джейн, одиноко сидевшей у огня и вышивавшей наволочку в подарок королю. – Прекрасный вечер, – сказал он, оглядывая ее своим единственным сардоническим глазом. – Но его милость несчастен. – Надеюсь, не мы тому виной? – тревожно спросила Джейн. – Нет. – Брайан понизил голос. – Это все та несносная женщина. Вы слышали, как она бранила его по пути сюда, словно торговка рыбой? Джейн нервно взглянула на короля, но тот был поглощен беседой с ее отцом. – И у нее были серьезные основания для жалоб? – О да! – Брайан скривился. – Император хочет, чтобы леди Марию восстановили в праве наследовать престол. Ни к чему говорить, как разозлилась мадам Анна. Полагаю, она опасается, что король это сделает, а ему, вероятно, придется так поступить, если супруга не родит ему сына. Елизавета слишком мала, чтобы править. – Сэр Фрэнсис наклонился к Джейн, так что их лбы почти соприкоснулись. – Но как она может зачать ребенка, если король к ней не приближается? Джейн едва заметно покачала головой. Это был опасный разговор. – Вы ошибаетесь, сэр Фрэнсис. Король посещал ее ложе несколько раз за время поездки, насколько мне известно. – Ах! – отозвался Брайан и подмигнул. – Удивляюсь, чем она соблазнила его вернуться. Джейн пожала плечами: – Думаю, тем же, чем обычно. Эта женщина сохраняет власть над ним. – Ей хорошо известно, как им управлять! – И все же он не всегда к ней прислушивается. Иногда он бывает довольно грубым. Джейн заметила, что люди смотрят на них и поняла: вероятно, они принимают крамольный разговор за флирт. Она села прямо и сказала Брайану: – Мне нужно идти. Мы привлекли к себе внимание. Люди могут прийти к неверным умозаключениям. Сэр Фрэнсис заметно смутился: – Вы мне очень нравитесь, Джейн, но вы должны знать, что я не из тех мужчин, которые женятся. Я не смогу хранить верность, вся моя жизнь – при дворе. А вы заслуживаете лучшего. Она принужденно улыбнулась. Если бы на горизонте показалась какая-нибудь богатая наследница, он тут же обнаружил бы в себе склонность к женитьбе. «Вы мне очень нравитесь». Это прозвучало похоронным звоном. Джейн все больше и больше убеждалась в своей непривлекательности; видимо, было в ней нечто такое, что отталкивало мужчин. – Я всегда буду вашим другом, – заверил ее Брайан. Джейн встала: – Пожалуй, я пойду спать. – Яобидел вас, – сказал он с видом искренней озабоченности и тоже поднялся. – Послушайте, Джейн. Я пытаюсь поступать благородно. Я сейчас затащил бы вас в постель, если бы мог, но я не унижу ваше достоинство подобным предложением. Джейн почувствовала, как у нее вспыхнули щеки, и понадеялась, что наблюдатели посчитают это следствием сидения у огня. – Надеюсь, сэр Фрэнсис, когда-нибудь найдется истинно благородный мужчина, который удержится от намеков на то, что я хороша для постели, но не для замужества. Она сделала реверанс королю и вышла. Брайан догнал ее за дверями: – Я не то имел в виду, Джейн! Это я недостаточно хорош, чтобы жениться на вас. – О, Фрэнсис, перестаньте завязываться узлами! – раздраженно воскликнула она и оставила его.
Джейн выскользнула из дому. В Широком зале было жарко и дымно, к тому же она сильно разволновалась. Ей нужно подышать. В саду Старой миледи – тишина и покой, ночной воздух напитан ароматом роз. В небе висел совершенный по форме лунный серп, и Джейн глядела на него некоторое время, пытаясь увидеть на нем лицо, как делала в детстве. Она не могла покинуть это любимое всей душой место. Нет, дальше она не поедет, когда двор покинет Вулфхолл. И брака по сговору она не хочет; и не вынесет, если ее отвергнет еще один мужчина. Она скажется больной. В каком-то смысле это даже не будет обманом, потому что ее тошнило от этой жизни во лжи и от всех тех мелких обманов, которые она вынуждена была совершать изо дня в день. Невозможно и дальше терпеть компромиссы со своей совестью. Она останется здесь, будет помогать матери и составит компанию стареющим родителям, а потом, когда придет время, ляжет рядом с братьями и сестрами в церкви Бедвин-Магны. Решение принято. Джейн почувствовала, как на нее снизошел покой. «Забудь Брайана, – сказала она себе. – Ты на самом деле его не хочешь. Он не принесет тебе счастья». Она села на любимую скамью и наслаждалась тишиной ночного сада. В соседнем лесу заухала сова. А потом, только Джейн подумала, что нужно немного поспать, ведь завтра будет еще один трудный день и придется рано встать, чтобы приготовить хороший завтрак, прежде чем король со свитой отправится на охоту, как услышала скрип двери. Кто-то неспеша приближался к ней. Она обернулась и увидела короля, одного; он появился из-за живой изгороди и выглядел так, будто нес на плечах тяготы всего мира. Джейн мигом подскочила и сделала реверанс: – Ваша милость! – Госпожа Джейн! – Он оторопел от неожиданности. – Я просто дышала воздухом, сэр. В доме жарко. Но я сейчас же оставлю вас. – Останьтесь. Глаза их встретились, и Джейн увидела, что король расстроен. – Вы однажды проявили доброту ко мне, – сказал он, грузно опускаясь на скамью. – Я этого не забыл. Это был простой жест, но я знаю, он был сделан из искреннего сочувствия. К королям не всегда относятся как к людям. – Монарх улыбнулся ей. – Посидите со мной немного. И не бойтесь так. Я не кусаюсь. Она села и расправила шелковую юбку. Становилось прохладно. – Какой красивый сад, – заметил король, оглядываясь вокруг. – Такой мирный. Тут теряешь чувство времени. Вот она – настоящая Англия; ее суть не при дворе и не в городах. Вы понимаете, что я имею в виду, Джейн? – Думаю, да, сэр. – Она кивнула. Это казалось таким нереальным – сидеть наедине с королем, которого ей никогда не приходилось видеть без сопровождающих. – Мне здесь нравится. – Больше, чем при дворе. – Это было утверждение, а не вопрос. – Здесь мой дом, сэр, – отозвалась Джейн, размышляя: интересно, что бы он сказал, если бы она открыла ему свои планы оставить службу у королевы? – Редко встречаются люди, склонные к тихой жизни, – сказал он. – Сэр Томас Мор был одним из таких. Я завидовал его счастливому дому, его семье и ученым занятиям на досуге. Джейн удивилась, что король в разговоре с ней упомянул Мора. «И тем не менее вы оторвали его от всего этого и заточили в Тауэр!» – хотелось воскликнуть ей. Он сглотнул: – Я любил и уважал его. Джейн молчала, не уверенная, ожидалась ли от нее ответная реакция. – Все знают, кто был причиной его смерти! – вдруг выпалил Генрих, сверкая стальным взглядом. Джейн не сомневалась, кого имел в виду король, но, что бы он ни говорил сейчас, смертный приговор был подписан его рукой. Он сам отвечал за смерть Мора. Она подняла на него взгляд. В глазах короля стояли слезы. – Он ослушался меня, – сказал Генрих. – Он был моим другом, но открыто не повиновался, и люди плохо думали обо мне из-за этого. Джейн обрела голос и тихо проговорила: – Мне очень жаль, ваша милость. Он с закрытыми глазами втянул в себя воздух: – Мне тоже, Джейн, мне тоже. Все, что я сделал, эта пролитая кровь – все оказалось напрасным. Сына у меня так и нет. И некому продолжить великое дело Реформации. – Ее милость еще может родить вам сына, – осмелилась сказать Джейн. – Я молюсь об этом каждый день! Император требует, чтобы я восстановил леди Марию в правах на престол, но он глупец. Посади на трон женщину – и, если она станет супругой кого-нибудь из своих подданных, возникнет ревность и борьба фракций при дворе. Позволь ей выйти за иностранного принца – и что станет с Англией? Великое королевство превратится в доминион Франции или Испании! Верный короне истинный англичанин должен в ужасе содрогаться от такой перспективы. Я сам едва не плачу, когда думаю об этом. – Король и теперь выглядел так, будто был на грани слез. – Джейн, мне нужен сын! – Я тоже молюсь об этом изо дня в день. Генрих кивнул. Джейн поняла, что от волнения он не мог говорить. Некоторое время собеседники сидели молча. Джейн размышляла: не жалеет ли король о том, что поддался порыву? Казалось невероятным, что он доверил ей свои чувства; наверное, это говорило о том, как сильно расстроен Генрих. Может быть, зайдя слишком далеко в деле реформ, чтобы идти на попятный, он теперь раскаивался в этом. Казалось, король воевал со своей совестью из-за расправы с Мором. Он не мог понять, что сам виноват в своих проблемах. Можно было выдать Марию замуж за какого-нибудь могущественного принца и дождаться внука, который наследовал бы ему. Но нет: он отказался от своей преданной жены и взял вместо нее мегеру. Это была слепая страсть, он не отдавал себе ясного отчета в том, что творит. Теперь он пожинал плоды содеянного. Другие люди, в их числе Анна и Кромвель, сделали его безжалостным, толкали дальше по пути к проклятию, и никто не смел подать голос протеста. – Ваша семья живет здесь уже очень долго, – наконец произнес король, поборов чувства. – Да, сэр. Сеймуры жили в лесу Савернейк еще в четырнадцатом столетии. Генрих кивнул: – Мне нравятся ваши отец и мать. Они искренние люди. Это редкость. – Я знаю, сэр, – согласилась Джейн. Ее пробрала дрожь; стало совсем холодно. Уже почти наступила осень. – Я задержал вас, – поднимаясь на ноги, сказал король. – Простите меня. В вас есть мягкость, Джейн, которая располагает к откровенности. Она тоже встала: – Иногда нам всем нужно с кем-то поговорить, сэр. – Я бы не отказался от возможности говорить с вами чаще, – сказал Генрих, пристально глядя на нее сверху вниз. Этот взгляд заставил Джейн замереть. Никогда еще ни один мужчина не смотрел на нее так. Она была ошеломлена. – Я… Я всегда готова выслушать вас, – запинаясь, проговорила Джейн и начала двигаться к дому, забыв, что должна была пропустить его вперед. Но ей отчаянно хотелось поскорее войти внутрь и остаться наедине со своими мыслями. У дверей она сделала быстрый реверанс, не встречаясь глазами с королем, потому что не хотела снова увидеть в них то, что так поразило ее прежде. – Спокойной ночи, Джейн, – высоким мягким голосом проговорил он. – Спокойной ночи, сэр, – пробормотала она и метнулась вверх по лестнице.
Джейн не спалось. Забравшись в постель на узенькое пространство рядом с Дороти и Лиззи, она лежала и снова и снова прокручивала в голове сцену в саду. На поверхности все было невинно; любой, кто подслушал бы их беседу, не заметил бы никакого интереса к ней со стороны короля. И тем не менее, несмотря на полную неопытность в таких делах, Джейн чутко уловила промелькнувшее в его глазах желание. Разумеется, она не позволит ему никаких вольностей. Король был печально известен тем, что слишком быстро уставал от своих любовниц, а какой приличный мужчина захочет взять себе брошенную женщину, пусть даже королем. Нет, она не допустит, чтобы он испортил ее до брака. Кроме того, он сам женат. Джейн не сильно терзалась сомнениями по поводу того, сможет ли предать Анну: она считала, что эта женщина не была и не могла быть законной женой короля. Но Екатерина, истинная королева, жива, и Джейн не нарушит верности ей. Ее самым горячим желанием было возвращение короля к прежней супруге. Она не могла отрицать, что Генрих обладает внешней привлекательностью. Но не стоит забывать, что он опасно приблизился к вечному проклятию и на руках его – кровь честных людей. Посмотрите, как жестоко он обошелся со своей любящей женой и ребенком! Ни одна женщина в здравом уме не захочет связываться с таким мужчиной. Но она, Джейн, углядела под королевским великолепием ранимую душу, а под внешней самоуверенностью обнаружила сомнения и страхи. У него была совесть, а значит, еще есть шанс на искупление грехов. Предположим – тут она и правда слишком увлеклась, ведь, в конце концов, это был всего лишь один наполненный смыслом взгляд, – предположим, Господь выбрал ее, тихую, робкую и незаметную, для того чтобы вернуть короля в паству и утвердить его на пути к спасению. «Кроткие наследуют землю», – говорил Христос. «Чепуха!» – сказала себе Джейн. И все же король, помазанник Божий, наделенный при коронации мудростью, в которой отказано простым смертным, излил свою душу перед ней, простой женщиной. Он говорил о важнейших вещах, веря, что она его понимает. И если он когда-нибудь снизойдет до этого снова, у нее появится возможность сделать что-нибудь хорошее для тех, кого она любит, хотя он может попросить взамен чего-нибудь большего, чем простая благодарность! И как она ему откажет? Когда небо начало светлеть, Джейн приняла решение: она предупредит отца и мать, что ее мораль окажется под угрозой, если вернется ко двору. Тогда они наверняка поддержат ее решение остаться в Вулфхолле.
На следующее утро король не подавал признаков того, что Джейн значит для него хоть насколько-нибудь больше, чем любой другой человек под крышей Вулфхолла, и она была этому рада. Наверное, из вчерашней случайной встречи в саду были сделаны слишком серьезные выводы. Они уехали в лес на целый день, чтобы вволю поохотиться, оставив королеву дома. Настали ее дни месяца, и она пребывала в дурном расположении духа, потому что надежды на беременность не оправдались. Жалуясь на болезненные спазмы, Анна осталась в постели. Мать разрывалась между заботами о ней и распоряжениями о погрузке обильного угощения, которое будет съедено на свежем воздухе. К моменту, когда все собрались на поляне насладиться закусками, были подстрелены три лани. Король ел с удовольствием, он поглощал один за другим пирожки с дичью, которые, как узнала леди Сеймур, очень любил, и развлекал всю компанию рассказами о предыдущих охотах. – То есть аббатиса не дала вам охотиться на ее землях? – удивился Брайан. – Добрая женщина не узнала меня. – Генрих усмехнулся. – Видели бы вы ее лицо, когда я назвал себя! – Он доволен, – пробормотал Эдвард на ухо Джейн. – Они тоже, – сказала Нан, кивая в сторону сэра Генри Норриса, который украдкой поцеловал Мадж Шелтон, потом наклонилась и взяла кусок пирога с олениной. – Говорят, он хочет жениться на ней. – Он несчастлив, – сказала Джейн. – Кто, Норрис? – спросила Нан. – Нет, король. – Джейн говорила тихо. – Да, у него много причин быть несчастным, – заметил Эдвард. – Ходят слухи, что император может вторгнуться в Англию, чтобы обеспечить права леди Марии. – Нет! – воскликнула Джейн. Война со всеми ее ужасами – это неверный путь вперед. – Сейчас он сражается с турками на восточных границах, но, кажется, победа будет за ним. Король проверяет береговые укрепления. Они обсуждали это в Бронхэме. – Вы полагаете, император действительно явится сюда? Эдвард пожал плечами. Вид у него был не слишком встревоженный. – Ради вдовствующей принцессы – нет, – авторитетно заявила Нан. – Она слишком стара и больна. Он не станет воевать за нее. – Но за леди Марию станет! – Возможно. – Эдвард заново наполнил им кубки отличным вином, которое прислала мать. – Не забывайте, за все те годы, что тянется Великое дело, он ни разу пальцем не пошевелил. С чего бы ему ввязываться сейчас? Не беспокойтесь, сестрица. Смотрите, король встает. Надо помочь ему. Все поднялись на ноги и пошли за своими лошадьми. Солнце стояло высоко в небе. Вечер предвещал удачную охоту, однако Джейн ощутила, что над головой собираются грозовые тучи войны, и затрепетала.
В тот вечер в Широком зале состоялся еще один пир в честь короля, королевы и всей семьи. Остальные гости угощались жареным мясом и элем в главном амбаре. Джейн удивилась, когда, после того как был подан и по достоинству оценен запеченный лебедь, заново одетый в оперение, отец повернулся к королю: – Ваша милость, Клемент Смит, джентльмен из Эссекса, попросил руки моей дочери Дороти. Его брат состоит на службе в суде казначейства. Сам он вдовец и друг моего сына Гарри, который и предложил этот союз. Дороти слушала с широко раскрытыми глазами, а Джейн едва не подавилась куском мяса. Неужели еще одна младшая сестра выйдет замуж раньше ее? Каково это, когда тебя выдают замуж в шестнадцать лет и твое будущее уже устроено? Лиззи было всего тринадцать… И снова Джейн задумалась, почему предложения делают ее сестрам, но не ей. Король не мог не заметить, что ни один мужчина не интересуется ею. Щеки Джейн запылали от стыда. Король лучисто улыбнулся Гарри: – Это будет для нее хорошая пара. – Потом весело взглянул на Дороти. – Но, сэр Джон, как случилось, что ваша старшая дочь, красавица Джейн, до сих пор не имеет супруга? Странно, что младших сестер выдают замуж раньше ее. – Взгляд короля остановился на Джейн, которая хотела только одного: чтобы пол под ней разверзся и она провалилась в дыру. – Это действительно выглядит странным, – поддержала супруга королева Анна таким тоном, будто имела в виду совершенно противоположное. Сэр Джон нахмурился: – Когда Джейн была юна, сэр, она хотела стать монахиней. Глупая девичья фантазия, вы понимаете. Но мы позволили ей испытать себя, и она решила, что религиозная жизнь не для нее. Поэтому я какое-то время не искал ей мужа. Потом сэр Фрэнсис Брайан попытался организовать ее брак с сыном сэра Роберта Дормера, однако по каким-то своим причинам леди Дормер была против этого. С тех пор… Могу я говорить свободно? Как же это досадно, когда тебя обсуждают в твоем присутствии, будто тебя здесь нет! «Я здесь! – хотела крикнуть Джейн. – И сама могу за себя ответить». Но она, как положено, не проронила ни слова, лишь подумала: интересно, что скажет отец? Король, положив себе на тарелку очередную порцию мяса, сделал знак сэру Джону, чтобы тот продолжал. – Сэр, из некоторых слов и поступков сэра Фрэнсиса Брайана я заключил, что он, вероятно, намерен попросить руки Джейн. Она больше не могла молчать. – Отец, вы ошиблись. Он достаточно ясно дал мне понять, что не намерен жениться. Он мне друг, ничего больше. И я бы не приняла его предложение, потому что убеждена: он не может сделать женщину счастливой. Все уставились на нее: отец и Эдвард – в смятении, мать – так, будто увидела рычащую мышь, Томас – с усмешкой, Анна – в изумлении, а король – в полном восторге. – Хорошо сказано, госпожа Джейн, – похвалил он ее. – Я так же рассуждаю о сэре Фрэнсисе. Он может внушить симпатию, но он плут. Ну что ж, мы посмотрим, сможем ли найти для вас хорошего супруга. Я уверен, найдется человек, который оценит такую прекрасную и смелую жену. – Глаза короля задержались на Джейн на мгновение дольше, чем следовало, и от этого ей стало неловко.
На третий и последний день визита, когда король принимал местных просителей в Широком зале, а королева, не скрывая скуки, отдыхала с книгой в руке, Джейн улизнула в сад Молодой миледи, чтобы прополоть грядку с целебными травами, которую сама засадила несколько лет назад. Она стояла на коленях в будничном платье голубино-серого цвета из шерстяной материи, длинные волосы волнами рассыпались по ее плечам. Работа была почти завершена, как вдруг Джейн заметила рядом с собой две ноги в белых чулках и бархатных башмаках. Из всех известных ей людей только один человек носил такую обувь. Это был король. Она вскочила на ноги и, наступив на юбку, сделала реверанс. – Доброе утро, госпожа Джейн, – сказал Генрих, втягивая в себя резкий, опьяняющий запах сада. – Как приятно находиться на улице и наслаждаться прекрасной погодой. Сомневаюсь, что она продержится долго. – Сейчас не по сезону тепло, сэр, – согласилась Джейн. – Вы сами занимаетесь прополкой? – спросил он. – Да, сэр. Я сама сделала эту грядку. На ней растут травы, которые нужны моей матери для настоек. – Она очень аккуратная. Ваша мать, должно быть, делает лекарства так же хорошо, как готовит еду. – Он присел на корточки и стал рассматривать растения, отщипывая по листочку то тут, то там. – Майоран хорош при головной боли. Я сам придумал смешивать его с шалфеем и лавандой, – тихо проговорил король. – А ромашка полезна для желудка. И пиретрум тоже незаменим. Пока Генрих проходился рукой по грядке, Джейн удивлялась широте его познаний. Через некоторое время он поднялся и сказал ей: – Я всегда интересовался медициной. Мне нравится самому изготавливать лекарства. Мои врачи не всегда это одобряют, но не смеют мне перечить! Джейн показала ему другие гряды с травами, а потом уголком глаза заметила, что за ними следят. Это была королева, она стояла у окна в доме. Лица Анны было не разглядеть, потому что в стекла било солнце, но Джейн забеспокоилась: что подумает госпожа о ее беседе один на один с королем? Они не делали ничего предосудительного, но Анна всегда подозревала худшее, если видела, что Генрих оказывает знаки внимания другим дамам. Господу известно, у нее были на это причины! Джейн спас звонок к обеду. Король предложил ей руку, и они вместе вошли в дом; слуги спешно обступили своего повелителя. За столом он много говорил о саде и целебных травах, которые увидел, так что Анна начала постепенно успокаиваться.
В тот вечер после вкуснейшего ужина король и королева остались за высоким столом играть в карты с хозяевами дома. Джейн и Дороти принесли пяльцы и сели у камина вышивать под разговор с леди Уорчестер и леди Зуш. Игра завершилась, и король подошел к ним. Он наклонился над стулом Джейн и сказал: – Какая красивая вышивка. Мне нравится, как вы изобразили единорога. Для чего это? Джейн подняла взгляд. Она увидела, что королева следит за ними. – Это наволочка на подушку, сэр, – сказала Джейн и улыбнулась. – Вообще-то, это был секрет. Я делаю ее для вас, сэр. У меня есть еще одна, со львом, вот. Он улыбнулся ей: – Милая задумка и прекрасный подарок. – Король склонился к ее уху. – Опустив на нее голову ночью, я буду думать о вас, милая Джейн. О нет! Он не должен считать ее легкой добычей только потому, что она невзрачная и ни один мужчина не хочет ее. – Сэр, вы можете думать и о моей матери тоже, потому что вот эту, со львом, сделала она. Король выпрямился и сказал немного чопорно: – Я поблагодарю ее.
Джейн вздохнула с облегчением, когда король отправился спать. Это была последняя возможность поговорить с родными о ее будущем, потому что король уезжал завтра утром. Они снова увидят Генриха, когда он остановится у Эдварда и Нан в Элветаме. Это еще одна большая честь: родители и братья Джейн так и раздувались от гордости, ведь теперь все увидят, если раньше не замечали, что семейство Сеймур занимает высокое положение, и так будет впредь. Однако визит планировался непродолжительный, и возможность для серьезного разговора там вряд ли представится. Отец и мать уже собирались идти на покой, но Джейн задержала их: – Прошу вас, сядьте. Я должна вам кое-что сказать. Завтра двор уедет, а я останусь здесь. Мне все это надоело. Родители посмотрели на нее так, будто она лишилась рассудка. – Нет, – сказал отец, – оставлять должность, за которую было немало заплачено и которую многие желали бы получить, – это величайшая глупость. Это обидит королеву и лишит нас милости короля, обрести которую мы все так стремились, особенно в последние три дня. – Ты дура! – рявкнул Эдвард. – Как тебе такое могло в голову прийти! Это скажется на мне и на Томасе. – У нее помутился рассудок, – фыркнула Нан. – Джейн, чего ради ты хочешь жить в деревне, когда можешь быть при дворе? – спросил Томас, будто не верил собственным ушам. – Даже не помышляй об этом! – отрезала мать. – Джейн, почему тебе все надоело при дворе? – мягко спросил Гарри. – Это из-за сэра Фрэнсиса Брайана? Джейн благодарно повернулась к нему, он оказался самым добрым и понимающим из ее братьев. Она едва не заплакала и сказала: – Отчасти. Но жизнь там такая поверхностная, там столько зависти и злобы, и я все время должна идти на сделку со своими принципами. Эти перемены, которые происходят, – она понизила голос, – я не могу согласиться с ними. Я служу женщине, которая притворяется королевой. Называть ее так – это противно всему, во что я верю. – Довольно! – прорычал отец. – Это измена, и я не допущу, чтобы подобные речи велись под крышей моего дома, особенно когда наверху спит сам король. Если бы кто-нибудь услышал твои слова, тебя бы повесили! Держи свои угрызения совести при себе. Джейн пришла в отчаяние. – Есть кое-что еще, – прошептала она. – Король интересуется мной. Я не… – Король интересуется тобой?! – Лицо Эдварда просветлело. Глаза отца засверкали, а Томас воскликнул: – Боже мой, Джейн, ты умница! Это же прекраснейшая новость. – Что?! Прекрасно, что он хочет соблазнить меня? – Именно! Но ты ему, разумеется, не позволишь. – Конечно не позволю! – У Джейн вскипела кровь. – За кого вы меня принимаете? – Где твои мозги, сестрица?! – вскричал Эдвард. – Наш соверен соблазнял Анну Болейн, и теперь она королева. Даже и до женитьбы он готов был сделать ради нее все. Подумай об этом. – Эдвард, ты говоришь глупости! – отрезала Джейн. – В свое время король соблазнил многих юных леди, и все, кроме одной, были сброшены со счетов. – И эта одна сказала ему «нет», – встряла Нан. – Я скажу ему «нет», если до этого дойдет, – заявила Джейн, – но то, что он может сделать меня королевой, – это уж слишком буйная игра воображения. Сэр Джон ударил кулаком по столу. – Ш-ш-ш, – шикнула мать. – Вы всех перебудите! – Джейн, послушай меня, – сказал отец, – наша семья долгое время боролась за привилегии. Мало-помалу мы получили должность здесь, заняли положение. Твоим братьям нелегко дались места в личных покоях короля. И теперь перед нами открывается блестящая возможность преуспеть в этом мире, а помочь нам в этом способна ты. Пока король проявляет к тебе интерес – я не предполагаю, что он сделает тебя королевой, и не намекаю, что ты должна подвергать риску свою девственность, – мы все сможем достичь процветания и приобрести влияние. Ты понимаешь меня? Джейн неохотно кивнула. Ей не нравилась идея, что ее используют, но разве не так обычно поступали отцы? Они извлекали выгоду из своих детей. Шансы на то, что король захочет сделать ее, невзрачную Джейн Сеймур, своей королевой, были так же ничтожно малы, как вероятность того, что она выйдет замуж за папу! А пока он ухаживает за ней – если это на самом деле происходило, – она может принести пользу своей семье и другим людям. Тем не менее Эдвард взялся за дело и, понизив голос, напористо заговорил. Джейн всегда знала, что ее старший брат весьма амбициозен. – Анна Болейн получила корону, потому что прежняя королева не смогла родить королю сына. Теперь она сама потерпела крах в том же отношении. Подумай об этом. Когда ты отправишься завтра в путь вместе со всем двором, Джейн, а ты это сделаешь, и мы не потерпим никаких возражений, то станешь поощрять ухаживания короля, но сохраняя дистанцию. У тебя есть на это право. – Ага, – поддакнул Томас, – его милость хорошо знает правила придворной любви; он часто играет в эту игру. Относись к нему как к своему слуге и оставайся мучительно недостижимой. Он не ценит того, что достается с легкостью. – А превыше всего блюди свою девственность, – присоединилась к ним мать. – Он будет только восторгаться этим. Скажи ему, что бережешь себя для того момента, когда появится достойный супруг. И посмотри, поймет ли он намек. Джейн обозлилась на них: – Ушам своим не верю! Вы все чересчур увлеклись. Легкий флирт, а вы уже взгромоздили корону мне на голову. Он, вероятно, позабудет обо всем этом, потому что я уже дала ему отпор. – Это хорошее начало, – с улыбкой произнес Эдвард.
Глава 15
1535 годПочему – задавалась вопросом Джейн – она чувствует себя так неуютно, так беспокоится и волнуется из-за внимания короля? И до этого визита в Вулфхолл она видела его и говорила с ним много раз. Вероятно, все оттого, что теперь внимание Генриха было особенным. И дело не в смысле сказанного, а скорее в его взгляде, когда он это говорил, – взгляде, который выдавал несомненный интерес. «Это ничего не значит, – твердо сказала себе Джейн, уезжая наутро вместе с двором. – Всего лишь мимолетное увлечение, рожденное моментом». Он играл с ней, чтобы понять, желает ли она принять его ухаживания, и она ясно показала, что нет. Может быть, он обижен. С тех пор король с ней не разговаривал и даже не показывал признаков того, что знает о ее присутствии среди толпы придворных. Однако королева Анна была с ней холодна. Как же тяжело покидать Вулфхолл! Джейн страстно желала остаться, но это было невозможно, раз вся семья против. Даже у матери, которой следовало бы понять, почему ее дочь жаждет быть дома, вскружилась голова от нелепого предположения, будто Джейн может надеть корону. Никто не спросил ее, хочет ли она на самом деле привлекать внимание короля. Они просто приняли это как данность и заключили, что втайне она стремится завоевать его любовь. О Небеса, она даже не будет знать, с чего начать, если ей представится такая возможность! Джейн настолько погрузилась в мысли о реакции родных, что ей трудно было сфокусироваться на собственных чувствах к королю. Он, безусловно, был привлекателен, и в подавляющем присутствии Генриха Джейн чувствовала, как легко можно поддаться его чарам. Изысканность в обхождении и невероятная снисходительность, это умение расположить к себе и легкость в общении – вот что влекло к нему. Близость с ним чревата опасными последствиями. Джейн знала, на какие жестокости способен Генрих. Он уже устранил с пути одну жену и постоянно изменял той, что ее заместила. Страдали обе. Как легко было обмануться его величавостью и магнетизмом и какой это было бы глупостью! Кроме того, король женат, а значит, вне игры. Если заглянуть вдаль, едва ли он захочет пройти через все сложности нового развода. Ничего, кроме потери репутации, он ей предложить не мог. Это стало последним доводом, чтобы принять решение. Чего бы ни хотели и что бы ни говорили ее родные, она не станет поощрять авансы короля.
Наступил октябрь. Сельская округа расцветилась золотом и багрянцем. Двор приехал в Винчестер. Король с королевой находились в прекрасном настроении и каждый день ездили охотиться с соколами. Одетая в тончайший розовый дамаст, Джейн присутствовала в главном соборе Винчестера на рукоположении в сан трех священников. Королева Анна глядела триумфаторшей, и неудивительно, ведь все трое были реформаторами, возвышению которых она способствовала. Если все пойдет так, как она запланировала, Церковью Англии станут управлять люди, подобные этим. Джейн это понимала. И такая перспектива ее не радовала. После церемонии состоялся прием в главном зале замка. Джейн была зачарована видом Круглого стола короля Артура, который был изображен довольно высоко на стене – написан яркими красками, с именами знаменитых рыцарей, четкими буквами выведенными по кругу. Сам Артур восседал на троне в верхней части картины. – Это восхитительно, не правда ли, госпожа Джейн? – произнес рядом с ней чей-то голос. Она обернулась и увидела улыбающегося короля. – Да, ваша милость, – согласилась Джейн, радуясь, что он не обижен на нее за сцену в Вулфхолле, и молясь, чтобы это новое обращение к ней оказалось простым проявлением приветливости. – Там наверху – мой отец, – сказал ей Генрих. – Он велел изобразить себя в образе принца Артура, когда картину подновляли. Мы, Тюдоры, наследники Артура, вы знаете. Мой брат родился здесь, в Винчестере. И его назвали в честь Артура. Когда я был мальчиком, то представлял себя одним из рыцарей за Круглым столом. – Ваша милость читали «Le Morte d’Arthur» сэра Томаса Мэлори? Я любила в детстве это произведение. Улыбка Генриха стала шире. – Это была одна из моих любимых книг. У нас в королевской библиотеке есть ее оригинал. Я покажу вам, если хотите. – Вы очень добры, сэр. – Джейн заметила, что люди смотрят на них, и оглянулась, чтобы проверить, наблюдает ли за ними королева. К счастью, Анна была увлечена разговором со своими епископами, как она любила называть их. Король проводил Джейн к столу, где были выставлены вино и сласти. Девушка обратила внимание, что он слегка прихрамывал. – Вы должны попробовать это, – сказал Генрих, собственноручно накладывая ей на тарелку золотистого печенья. – Это очень вкусно. – Он с легким поклоном передал Джейн угощение. – Благодарю вас, ваша милость, – сказала она. – В этом платье и с таким нежным цветом лица вы совершенная английская роза, – тихо проговорил он. Последовала пауза, один удар сердца. – Сэр, вы мне льстите! – Джейн почувствовала, что краснеет. – Для меня вы чисты и прекрасны. – Говоря это, король наклонился к ней. – Сэр, всем известно, что королева превосходит красотой всех женщин. Я не осмеливаюсь равняться с ней. Улыбка исчезла с лица Генриха. – Джейн, вы понятия не имеете о том, что делает женщину привлекательной для мужчин. Дело не только в красоте лица и фигуры. Если у нее чистое сердце, оно сияет. Если она скромна и добродетельна и вдобавок добра, это написано у нее на лице. Но если она строптива, сварлива и зла, милой она никому не покажется, не может она быть красавицей. Джейн поразила его прямота, ей было непонятно, что отвечать. К тому же братец Эдвард следил за ними с плохо скрываемым интересом. Спас ее сам король. Он резко втянул ноздрями воздух и сказал: – Простите меня, Джейн, мне нужно сесть. Старая рана на ноге что-то разболелась. Налейте себе немного вина. – Монарх поклонился и, оставив ее, медленно пошел к своему трону на высоком помосте. Джейн сделала реверанс в спину короля, радуясь, что тот не стал затягивать беседу. Вдруг люди подумают, что он выделяет ее. Она знала, как быстро разносятся по двору слухи. Однако Томас все заметил. – Отличная работа, сестрица, – пробормотал он, проходя мимо. Джейн сердито глянула на него. В тот вечер был устроен пир в честь епископов, а после него дамы Анны и несколько джентльменов из свиты короля собрались в покоях королевы. Джейн села играть в карты с Марджери, Томасом и прекрасным молодым рыцарем с каштановыми волосами по имени Фрэнсис Уэстон, любимцем короля и королевы. У окна сидел и играл на вёрджинеле какой-то мужчина. Джейн видела его несколько раз, он приходил из покоев короля исполнять музыку для Анны. Был он черноволос, как цыган, и всегда очень хорошо одет для простого музыканта. Джейн находила этого человека манерным, он как будто силился подражать тем, кто превосходит его рангом, но проявлял превосходные способности к музыке. Этого отрицать было нельзя. Ожидая, пока Уэстон сделает ход, Джейн заметила, что глаза музыканта прикованы к королеве; казалось, он очарован ею. От Анны, очевидно, это тоже не укрылось, и она, похоже, не особенно радовалась такому вниманию, потому что вскоре отпустила музыканта. – Смитон совсем заигрался, – заметил Уэстон. – Он думает, что влюблен в королеву. Разумеется, все мы любим ее, но она никогда не опустится до того, чтобы одарить вниманием какого-то выскочку. – Он невыносимый гордец, – фыркнул Томас, – и ненавидит Норриса. – Почему? – спросила Джейн. – Норрис любит королеву, и всегда любил, – сказал ей Уэстон. Конечно, это не было секретом. – Он собирается жениться на Мадж Шелтон, но сердце его отдано другой. – Вы полагаете, король знает о чувствах сэра Генри к королеве? – поинтересовалась Джейн. Она видела, что Генрих с теплотой и привязанностью относится к Норрису, которого многие любили и уважали. – Сомневаюсь! Но, – Уэстон понизил голос, – любит ли королева Норриса? – Нет. – Джейн была уверена. – Ей нравится флиртовать с джентльменами, но дальше кокетства она не заходит. Если она кого и любит, так это своего брата. – (Лорд Рочфорд был частым гостем в покоях королевы и сейчас шутил с ней.) – Они очень близки. – Но короля она любит больше, – сказал Уэстон. – Конечно, – согласилась Джейн. – Ваш ход, кажется.
На следующий день двор отправился на охоту, однако она была прервана появлением группы всадников во главе с мастером Кромвелем. Джейн следила, как он слезает с седла и становится на колени перед королем. Пока Кромвель говорил, лицо Генриха мрачнело, а у Анны, которая стояла рядом в дорожной накидке из зеленого бархата, был потрясенный вид. Сэр Фрэнсис Брайан подошел к группе ожидавших распоряжений фрейлин королевы. – Император разбил турок. Они больше не угрожают восточным границам Империи. Это означает, что он свободен и может пойти войной на Англию. Дамы, раскрыв рты, переглянулись. Джейн затрепетала от страха и спросила: – Вы думаете, дело дойдет до войны? – Мы должны молиться, чтобы этого не произошло, – ответил Брайан. – Всей мощи Англии не хватит, чтобы противостоять силам императора.
Король и королева сделали храбрые лица. Королевский поезд петлял по дорогам Гемпшира, супруги веселились и старались показать всем, что счастливы вместе. В Портсмуте король с особой гордостью проводил смотр своим кораблям и проверял их готовность вступить в сражение на море. Джейн стояла на палубе «Мэри Роуз» и следила, как он отдает распоряжения об усилении корпуса. Это был прекрасный корабль, хорошо вооруженный пушками и украшенный разноцветными вымпелами, которые хлопали на ветру. Король был в своей стихии. Пока Анна разговаривала с герцогом Ричмондом, который являлся лордом главным адмиралом, Генрих подошел к дамам и пригласил их пойти вместе с ним осматривать корабль. – Госпожа Джейн, мы пойдем впереди, – сказал он и взял ее за руку. Джейн испугалась; она чувствовала, как все буравили ее взглядами, пока король вел группу по палубе и они поднимались на бак. Взбираться по узким лестницам в длинных юбках было мучением. Джейн пыталась вызвать в себе энтузиазм и восхищаться тем, на что король с таким восхищением указывал; она смущалась, что он так выделил ее среди других дам. Ну, теперь языки замелют. Джейн стояла на носу корабля и смотрела на гавань и на море вдали, как вдруг рядом с ней оказался король. Он облокотился на фальшборт и сказал: – Я люблю море, оно у меня в крови. – У вашей милости прекрасный флот, – отозвалась Джейн. Если она займет его разговором о кораблях, он, вероятно, не переключится на более опасные для нее темы. – Я строил его много лет, – продолжил король. – Мы островной народ, и наша мощь – в морских силах. Такого флота Англия еще никогда не имела. – Он повернулся к ней. В его глазах безошибочно читался голод плоти. – Джейн, знайте, я буду вашим слугой. Можем мы с вами поговорить по душам наедине, чтобы я не исхитрялся затевать с вами беседы, когда все глаза прикованы ко мне? Что она должна была ответить? Он застал ее врасплох. Мысли замелькали в голове. – Сэр, – робко проговорила Джейн, – простите меня, но нам не стоит встречаться наедине. – Тогда погуляйте со мной в саду Портчестера сегодня вечером. Приведите с собой какую-нибудь фрейлину и попросите ее держаться на приличном расстоянии от нас. Скажите ей, что мы обсуждаем ваш брак и замужество вашей сестры. Как она могла отказать? Он ведь король. – Да, сэр, – согласилась Джейн. – В девять часов, – сказал он ей и повернулся к остальным. – Пора уходить, леди.
Она понимала, что собирается броситься в омут. Джейн нервничала, но была настроена решительно. Если король оказывает ей милость, она примет ее как возможность добиться облегчения участи истинной королевы и принцессы. Но чего бы он ни попросил у нее, Джейн не скомпрометирует свою честь. После ужина она кивнула Анне Парр, и они потихоньку ускользнули, прокрались по старому королевскому дворцу, находившемуся внутри замка Портчестер, и спустились по винтовой лестнице во двор. Под окнами главного зала покоев короля раскинулся сад, окруженный высокой самшитовой изгородью. Джейн остановилась у ворот. – Останьтесь здесь, – попросила она Анну. – Если я позову, мигом приходите. Джейн открыла ворота и сразу увидела короля. Он шагал по дорожке между цветочными клумбами. – Джейн… – сказал он и отвесил изящный поклон, а она сделала реверанс. – Спасибо, что пришли. Вы, должно быть, считаете дерзостью мой расчет на вашу доброту, но после нашего разговора в Вулфхолле я никак не могу избавиться от мыслей о вас. – Он взял ее за руку. – Сэр, – заговорила она, отнимая руку и собираясь с духом. – Мне очень жаль, но между нами не может быть ничего, кроме дружбы. У вашей милости есть жена, и я не предам ее. Она говорила не об Анне, но он не мог этого знать. Об Анне Джейн почти не думала. Генрих выглядел расстроенным. – Я больше не люблю ее, – сказал он. – Вы знаете, какая она. Это все равно что постоянно переживать бурю. А в вас я нахожу такую тишину, такой покой, что чувствую себя на Небесах. – Но, сэр, вы совсем мало знаете меня. Король глядел на нее во все глаза: – Я знаю достаточно, чтобы быть уверенным: с вами я могу стать счастливым, удовлетворенным мужчиной, живущим в мире с собой. Я больше не хочу иметь жену, которая флиртует с другими мужчинами и насмехается надо мной под видом остроумной шутки. Мне нужна любящая женщина с ровным и спокойным характером. Мне нравится ваша мягкость, и я восхищаюсь вашей добродетелью, потому что знаю: они неподдельные. Анна слишком дерзка; ей всегда нужно настоять на своем. Я думаю, вы не такая, Джейн. Вы добры. – Сэр, я не знаю, что сказать вам, – ответила Джейн; голова у нее шла кругом. – Конечно, я буду вам другом. Это мой долг и радость для меня. Но большего я вам дать не могу. Генрих схватил обе ее руки – она не успела его остановить – и жарко сжал их: – Помогите мне, Джейн! У меня столько забот. Император может напасть на нас. Если меня убьют на войне, некому будет наследовать мне и защитить страну. Англию захлестнет гражданская война. Мысли об этом не дают мне спать. И есть еще Анна. Похоже, она не способна родить мне сына. Неужели Господь прогневан и этим браком? Она потеряла двоих сыновей. Мне сорок четыре! У меня нет времени на пустые надежды и молитвы. – Я знаю, что королева каждый день молится о сыне, – сказала Джейн. – Это ее самое горячее желание, и она горюет о потере тех двух младенцев так же, как ваша милость. – Помогите мне, Джейн! – молил Генрих, стискивая ее пальцы. Она попыталась отстраниться от него: – Чем я могу вам помочь? – Проявите ко мне доброту, умоляю вас! Согласитесь быть дамой моего сердца. – Вы имеете в виду – вашей любовницей! – Она в ужасе отшатнулась от него. – Нет, милая Джейн! Если вы полюбите меня от всего сердца, я вознесу вас надо всеми и стану служить только вам. – А что скажет на этот счет королева? Мое положение будет невыносимым. Взгляд Генриха стал тяжелым. – Не думаю, что она, подсунувшая мне свою кузину, станет возражать. Джейн плотнее завернулась в накидку. Вечерний воздух был прохладным. – Вашей милости следует знать, что она постоянно переживает из-за вашей неверности. Если она поощряла Мадж Шелтон, то лишь потому, что знала: Мадж не станет интриговать против нее. – Но вы тоже не станете. – Генрих вновь смотрел на нее с мольбой. – Нет, сэр. Но я не могу быть вашей дамой сердца. Я понимаю, какую высокую честь вы мне оказываете, но, когда у меня появится супруг, я хотела бы пойти к нему с незапятнанной репутацией. – Джейн! – Голос Генриха дрогнул. К ее изумлению и ужасу, он опустился, довольно неловко, на одно колено. – Я не могу отпустить вас, молю не как король, а как смиренный поклонник. Она не могла в это поверить. Король Англии унижался перед ней! Разве могла она мечтать о том, чтобы его чувства к какой-то деревенской простушке были так глубоки. Или это похоть двигала им? Джейн поняла, как мало она знает о мужчинах. – Сэр, умоляю вас, дайте мне время подумать, – выдохнула она. Он встал и снова сжал ее руки, на этот раз нежно: – Значит, я могу надеяться? – Я не могу сказать. – Джейн опустила глаза. – Мне нужно идти, сэр. Меня, наверное, уже хватились. Генрих пальцем поднял ее подбородок. Глаза его были полны истомы и нежности. – Тогда спокойной ночи, милая Джейн. Прошу, не думайте обо мне плохо. Она сделала реверанс и поторопилась уйти. – Ну что, вас выдадут замуж? – спросила Анна Парр, следуя за ней. – Понятия не имею! – ответила Джейн.
В Вайне, прекрасном доме сэра Уильяма Сэндиса в Гемпшире, Джейн всячески старалась избегать короля, но он разыскивал ее, не особенно таясь, и побуждал дать ответ. Она опасалась, что скоро у нее закончатся предлоги и отговорки, чтобы и дальше тянуть с принятием решения. Однажды Джейн спряталась от него в антикамере перед капеллой, но онвошел за ней. Тогда она улизнула в саму капеллу. Внутри было темно, окна занавешены длинными шторами. Дверь открылась, и Джейн скользнула за плотную ткань, молясь, чтобы Генрих ее не увидел. – Джейн? – шепотом окликнул ее король. Она не отозвалась. Ей не хотелось оказаться с ним наедине. Он отодвинул штору, и внутрь часовни хлынул свет. – Я знал, что вы здесь, – усмехаясь, сказал Генрих, потом поднял взгляд, и усмешка исчезла. Джейн обернулась и увидела наверху прекраснейший витраж с изображением коленопреклоненной молодой женщины. Она втянула ноздрями воздух. Это была королева Екатерина. Генрих нахмурился. Отдернул следующую занавеску, и там, за алтарем, оказался он сам в молитвенной позе. – Какой красивый витраж, сэр, – осмелилась подать голос Джейн. – Помню, как их делали, – кивнул Генрих. – На другом изображена моя сестра Маргарита. Понятно, почему Сэндис не хотел, чтобы я их видел. Он верен мне, милорд камергер, в этом нет сомнений, но, кроме того, ценит искусство. Если бы пришлось уничтожить этот витраж, – король указал на фигуру Екатерины, – его сердце было бы разбито. – Нельзя ли его подправить, чтобы было похоже на королеву? – предложила Джейн. – Нет, вероятно, не стоит, – оборвал ее Генрих. – Мы позволим сэру Уильяму хранить в тайне свое сокровище. А теперь, Джейн, не поговорите ли вы со мной в галерее?
Эдвард и Нан уехали вперед, чтобы проверить, все ли готово к приему короля в Элветаме. Королевская процессия двигалась по аллее через охотничий парк. Джейн с удовольствием смотрела на величественный старый дом, который показался впереди, и вновь семейные интересы вошли в конфликт с ее совестью. Сеймуры могли бы получить гораздо больше, если бы она согласилась стать любовницей короля. Джейн почувствовала себя в долгу перед родней. Но королевские милости посыплются на них не просто так, ценой будет ее доброе имя. Она была небогата; единственное ее богатство – это честь. И королеву Екатерину уже столько раз предавали. Джейн знала, каким должно быть ее решение. После того как Эдвард приветствовал короля с королевой и всех отвели в предназначенные для них покои, хозяева показали Джейн и остальным членам семьи особняк. Нан, которая продолжала злиться, что ее держат вдали от двора, поднимала себе настроение, производя в доме дорогостоящие улучшения. Послушать ее, так в Вулфхолле все устарело и никуда не годится, хотя в таких выражениях она этого не сказала. Джейн рассердилась и обиделась за родителей. Они приняли Нан в свой дом, отдали ей лучшее, что у них было, а она платит им тем, что умаляет их достоинство. Эдвард, казалось, не замечал, какие нелестные сравнения делает его супруга. Он мечтал превратить Элветам в образцовое место, куда и королю захотелось бы вернуться, чтобы ему завидовали все соседи на много миль вокруг. Когда осмотр закончился, а сам дом и планы хозяев получили должное одобрение, Эдвард пригласил Джейн и братьев присоединиться к нему в приемном зале. – У меня есть новости из Джерси, – с мрачным видом сообщил он. – Сэр Энтони Утред умер от лихорадки. Он оставил нашу сестру на сносях, и она только что родила девочку, которую назвала в честь матери. – Бедная Лиззи! – воскликнула Джейн. – Она так молода для вдовства. Что она будет делать? – Она не может оставаться в Монт-Оргёе, – сказал Эдвард. – Говорит, что теперь, когда ребенок родился, она вернется в Йоркшир с детьми, потому что юный Генри унаследовал имение отца. – Ей будет одиноко, – сказала Джейн. – У нее есть сын и дочь, о которых нужно заботиться, – возразил Эдвард как будто с укоризной. – Мы должны молиться за нее и за душу сэра Энтони. – Он помолчал. – Как дела с королем? Джейн ощутила тепло на щеках. Томас приподнял брови. – Если будет о чем рассказать, вы услышите первыми, – твердо заявила она.
В Элветаме Джейн осознала, что люди судачат о ней. Ей трудно было не замечать косых взглядов и перешептываний у себя за спиной. Когда в тот вечер она вошла в гостевую спальню, чтобы помочь королеве приготовиться ко сну, Анна одарила ее ледяным взглядом и не разговаривала с ней. Другие следовали примеру госпожи, однако многие вдруг стали дружелюбными. Джейн поняла, что они решили, будто она теперь обладает влиянием и может искать милости короля для них. Когда к ней подходили с такими просьбами, она всех отваживала, изображая, что понятия не имеет, с чего они решили, будто она в силах чем-то помочь. Так продолжаться не могло. Нужно было поговорить с королем.
К концу октября двор вернулся в Виндзор, великий тур по стране завершился. Через два дня после приезда Джейн получила вызов в королевскую библиотеку. Там ее ждал Генрих. Не успела она сделать реверанс, как он протянул к ней руки: – Джейн! Я обещал показать вам это. – Он подвел ее к столу, на котором лежал манускрипт, написанный красными и черными чернилами, с красивыми колонками из рисунков на каждой стороне страницы. Это была «Le Morte d’Arthur». Джейн перевернула несколько страниц, но не могла получить удовольствия от знакомства с рукописью, потому что знала: сейчас она скажет Генриху слова, которые непременно рассердят или огорчат его. – Сэр, – робко начала Джейн, – это удивительно, и я благодарна вашей милости за то, что вы показали мне книгу. Но я должна кое-что вам сказать. Я думала долго и напряженно, и совесть говорит мне, что я не могу стать вашей дамой сердца, как бы почетно это ни было для меня. У короля был такой вид, будто крыша дома обрушилась ему на голову. – Джейн, прошу вас… – Пожалуйста, не принуждайте меня, сэр. Я ценю свою честь выше любых сокровищ и прошу, чтобы ваша милость поступали так же. Она сделала реверанс и оставила его стоять на месте с выражением полного смятения и непонимания на лице.
Джейн ожидала, что небеса упадут на землю, что ее уволят или, хуже того, что ее братья утратят королевскую милость. Ничего этого не случилось. Когда король посещал покои королевы, то вел себя так, будто Джейн невидимка. Он больше не разыскивал ее. Она решила, что Генрих поступает так, как она просила, уважает ее выбор. Должно быть, он и сам понял: так будет лучше для всех. К концу ноября стало ясно, что она поступила правильно. Мир еще не знал об этом, но Анна снова ждала ребенка.
В середине декабря Джейн пошла прогуляться по саду в Гринвиче. День был ясный, морозный, ни к чему терять впустую свободное время. Вечером намечался очередной пир, и королеву нужно будет обрядить со всей пышностью, а сейчас можно отдохнуть и подготовиться к предстоящему торжеству. Джейн увидела приближавшихся к ней Эдварда и Томаса, с ними были Брайан и еще два роскошно одетых джентльмена. Все они увлеченно о чем-то беседовали. Она узнала императорского посла мессира Шапуи и зятя Брайана, сэра Николаса Кэри, главного королевского конюшего и известного турнирного бойца, которого Джейн несколько раз видела в деле. Мускулистый красавец с каштановой бородой и осанкой военного, он был так же близок к королю, как и Брайан. Сэр Фрэнсис с усмешкой говорил Джейн, что его сестра Элизабет, жена сэра Николаса, тоже близка с королем – и временами более, чем следовало бы! – Госпожа Джейн! – окликнул ее Брайан. – Мы только что говорили о вас. Джейн испуганно замерла на месте. – Все в порядке, сестрица, мы рассказали этим джентльменам о твоей дружбе с королем, – выпалил Томас. – Ничего не в порядке, – отрезала Джейн. – Это мое личное дело. – Госпожа Джейн, весь двор знает об этом, – сказал ей Брайан, – и эти джентльмены – ваши друзья. Позвольте представить вам мессира Шапуи. Посол поклонился. В его проницательных глазах светилось одобрение. Джейн почувствовала себя неловко в его присутствии. – Эти джентльмены хотят поговорить с тобой, – сказал Эдвард. – Ты, конечно, знакома с сэром Николасом Кэри. Джейн сделала реверанс, удивляясь про себя, к чему все это. Кэри обвел взглядом безлюдный сад: – Я рад, что мы застали вас здесь одну, госпожа Джейн. Ваши братья доверительно сообщили мне и мессиру Шапуи, что вы друг королеве и принцессе. – Его величество император предпринимает усилия, чтобы восстановить принцессу в прежнем положении относительно наследования, – сказал Шапуи. – Мы надеемся, что вы могли бы использовать ради нее свое влияние на короля, – добавил Кэри. – Мне бы хотелось сделать это, господа, – поспешила заверить их Джейн. – Потому я и поощряла интерес к себе его милости. Но это было мимолетной фантазией. Я не уверена, имею ли на самом деле какое-то влияние. – Больше, чем вы думаете, я уверен, и заслуженно, – сказал, как обычно, обходительный Кэри. – Тогда мне нужно выбрать подходящий момент, – ответила она, размышляя про себя, осмелится ли поставить этот вопрос перед Генрихом и вообще появится ли у нее возможность для этого. – Мы все поддерживаем истинную королеву, – заявил Брайан. – Думаю, вам известно, Джейн, что втайне я уже давно симпатизирую ей и принцессе. С тех пор как понял, насколько далека наша Леди в качестве королевы от Екатерины, я удалился от ее партии. – Он даже устроил ссору с лордом Рочфордом, чтобы показать это, – добавил Кэри. – Госпожа Джейн, вы находитесь в таком положении, что можете осчастливить многих, – мрачно вставил Шапуи. – Я со своей стороны постараюсь ослабить позиции Леди. – Но она может вскоре родить сына, – заметила Джейн. – И тогда, к несчастью, станет неуязвимой, – хмуро проговорил Брайан. – По-моему, шансов на это мало. Она потеряла двоих мальчиков. Джейн, сейчас ваша нога вставлена в стремя. Вот и объезжайте короля к своей выгоде! Джейн вспыхнула: – На что вы намекаете, Фрэнсис? Брайан сокрушенно развел руками: – Простите меня! Я не то имел в виду. Я знаю вас как добродетельную леди, и лучше вас нет. – Он подмигнул ей. – Думаю, вы сами не представляете, какой важной дамой стали. Интерес к вам короля открыл массу возможностей. Вы оглянуться не успеете, как у ваших дверей в очередь выстроятся просители. Джейн подозревала, что Брайан, как и ее братья, рассчитывал обеспечить себе с ее помощью новые королевские милости. Он собирал с них долги, а долгов было немало, это верно. Но разве она в том положении, чтобы искать для других благоволения Генриха? – Я тоже не на публике держу сторону королевы и принцессы, особенно после суда легатов шестилетней давности, – доверительно сообщил Джейн Кэри. – Моя жена некоторое время тайно сносилась с принцессой, сообщала о нашей поддержке и держала ее в курсе дел. – Он раздраженно вздохнул. – Теперь я горько сожалею, что когда-то одобрял и поощрял поступки Леди, но она моя кузина, и я считал, что она станет хорошей королевой. Это была ошибка. Вскоре я начал порицать ее высокомерие и властолюбие. Как ужасно она обошлась с моим другом герцогом Саффолком и другими людьми! Я сторонник старой веры и не могу согласиться с религиозными реформами, которые она произвела. Они произносили изменнические речи. Все это было правдой, но за такие слова им грозила смерть. Джейн благодарила Господа, что вокруг не было никаких укрытий, где мог бы притаиться кто-то посторонний. – Я за реформы, – сказал Эдвард, – но мне никогда не нравилась королева Анна, и она определенно не любит нас, Сеймуров. Джейн, мы все едины в решимости присоединиться к мессиру Шапуи в его стараниях вернуть к власти истинную королеву и принцессу Марию. Ты поможешь нам? Мужчины с надеждой взглянули на нее. – Если Леди не родит королю сына, тогда он убедится, что его так называемый брак – ошибка, и, вполне возможно, его удастся убедить, чтобы он принял назад свою законную супругу и дочь, – сказал Шапуи. «Если Екатерина доживет до этого», – подумала Джейн. – Вы посодействуете нам? Замолвите за них слово перед королем? – спросил Кэри. – Я попробую, обещаю, – с сомнением в голосе ответила Джейн. Брайан уставился в одну точку у нее за спиной. – За нами следят, – пробормотал он. – Леди видела нас из окна. – Она знает, что мы ей не друзья, – заметил Кэри. – Обо мне она наверняка того же мнения, – подхватила его мысль Джейн. – Она почти не разговаривает со мной и корит за малейший промах. – Она ревнует, – оценил обстановку Томас. – Я лучше пойду, – сказала Джейн. – Она встала и ждет, чтобы я прислуживала ей. – Думаю, вам следует остаться, – проговорил Брайан. – Смотрите, кто идет. Джейн обернулась и увидела приближавшегося к ним короля. Он кутался в меха, потому что было холодно, следом шли джентльмены из его свиты. – Мы оставим вас, – сказал Кэри и поклонился. – Она все еще смотрит, – предупредил Эдвард. – Будьте осторожны. Все мужчины низко поклонились королю и удалились. Джейн, ощущая на себе взгляд Анны, сделала реверанс. Генрих поднял ее, взял за кончики пальцев и горячо поцеловал ей руку. Джейн едва не отдернула ее. – Ваша милость, королева у окна, – прошипела она. – Я должна идти. Она снова присела в реверансе и быстро пошла к дворцу, опасаясь, не обидела ли короля, но при этом понимая, что ничего другого ей не оставалось. О, почему у нее всегда такое чувство, будто она обязана тщательно выверять каждый свой поступок?
Желая защитить интересы еще не рожденного ребенка, Анна все жестче относилась к принцессе Марии. Она уже давно желала ей и Екатерине смерти. Джейн была свидетельницей того, как Анна ругала Марию перед королем, не заботясь о том, слышит ее кто-нибудь или нет. – Не могу передать вам, как ужасает меня мысль, что в случае нападения на Англию наши дети могут быть лишены трона в пользу принцессы Марии, – причитала она, а король сидел и смотрел на нее, сверкая глазами. – Именно это и произойдет, если император добьется своего. – Перестаньте тревожиться, Анна, – утешал ее Генрих. – Если он вторгнется на наши берега, мы дадим ему достойный ответ. Джейн, склонив голову над шитьем, подумала, что эта бравада звучит немного принужденно. – Сэр! – с отчаянием в голосе восклицала Анна. – Леди Мария всегда будет доставлять нам неприятности. Ее дерзкое непослушание вашим справедливым законам придает отваги нашим врагам. Молю вас, пусть с ней поступят по закону! Это единственный способ предотвратить войну. Джейн затаила дыхание. Она чувствовала, что Генрих колеблется. – Вы просите меня отправить на эшафот собственную дочь! – Она изменница и опасна для вас, – не унималась Анна. – Пока она жива, наш сын не будет в безопасности! – Может быть, угроза казни послужит хорошим предупреждением императору, – тяжелым голосом проговорил он, помолчал и добавил: – Вы правы. Я решился. Это нужно сделать! Джейн едва не ахнула, другие дамы обменялись испуганными взглядами. Неужели король прикажет казнить собственную дочь? Эту бедную милую девушку, которая столько выстрадала из-за поступков своего отца и не совершила никакого преступления, кроме того, что поддерживала свою мать… Это было ужасно. В ту ночь Джейн не могла сомкнуть глаз от тревоги. Она лежала без сна и решила предупредить Шапуи.
На следующий день король пришел к Анне перед обедом. – Я только что с заседания Тайного совета, – сообщил он. – Я объявил им, что больше не намерен терпеть неприятности, испытывать страх и подозрения относительно возможных действий Екатерины и Марии. Сказал, что на следующем заседании парламент обязан освободить меня от этих страданий, издав против них обеих акты с обвинением в государственной измене, или я не стану ждать и расправлюсь с ними сам! Глаза Анны засияли. – Что они ответили? – Они были шокированы, но я сказал им, что тут не о чем плакать и ни к чему кривить лица. Я сказал, что, даже если из-за этого лишусь короны, все равно сделаю то, что намерен. Правда сделает? Джейн терзали дурные предчувствия. – Вы хорошо поступили, Генрих, – похвалила его Анна. – Это единственный способ обеспечить благополучное будущее для наших детей. – Да, но, Боже, какой ценой! – воскликнул он и отвернулся. Тут глаза его и Джейн встретились. Генрих явно мучился, и она предположила, что он уже дрогнул и готов отступиться. Однако она с отвращением отвернулась. Как только ей пришло в голову размышлять о том, станет она или нет его возлюбленной? Когда король ушел, Анна погрузилась в задумчивость. – Он сказал это только для того, чтобы успокоить меня, – пробормотала она. – Знаю я его. Но если он сам не покончит с этой дрянью, за нее возьмусь я. Стоит мне родить сына, надеюсь, это случится очень скоро, и я знаю, что будет с ней. Анна не шутила, Джейн это видела. В последующие несколько дней королеву обуревали мысли о предполагаемой угрозе со стороны Екатерины и Марии, и казалось, она не думала ни о чем, кроме того, как спровадить обеих на тот свет. Страх леденил душу Джейн. Теперь, когда Анна, вероятно, носила наследника престола, к ней вернулось прежнее могущество; ее желание было законом. Создавалось впечатление, что она распоряжается всем и вся, а король не смеет перечить ей, лишь бы она не разнервничалась и не потеряла ребенка. И тем не менее, Джейн это знала, он редко оставался наедине с супругой. Теперь у него имелся отличный предлог, чтобы не посещать ее ложе.
Анна не ошиблась. Король не сдержал обещания. Парламент не принял никаких решений, направленных против Екатерины и ее дочери. Однако в начале декабря двор облетела новость: вдовствующая принцесса тяжело больна. Джейн охватила глубокая печаль. Анна ликовала. – Скоро я стану полноправной королевой! – с торжеством заявляла она. Но в ее голосе слышался страх, и Джейн по доброте душевной решила, что за жесткостью Анны таились неуверенность и страх. Она была уязвима и знала это. Все – любовь короля и ее будущее в качестве его супруги – зависело от того, родит ли она сына. Несмотря на глубокое недовольство Анной, Джейн не могла не жалеть ее. Тем не менее фрейлину Сеймур изводили тревожные подозрения. Старая королева болела уже довольно давно, и ее состояние ухудшилось как-то уж очень ко времени – сразу после того, как стало ясно, что ни король, ни парламент не намерены действовать против вдовствующей принцессы и ее дочери. Неужели Анна взяла дело в свои руки? Была ли она способна на такое? Джейн снова вспомнила попытку отравления епископа Фишера. Она не смела ни с кем говорить о своих страхах. Это посчитали бы изменой. Но затаив дыхание ожидала новостей, которых боялась, и каждый день в часовне молила Господа оградить от беды добрую королеву.
Накануне сочельника Эдвард отправился разыскивать Джейн. Он выглядел необычайно оживленным, когда нашел ее в главном зале: вместе с другими дамами она наблюдала за тем, как к очагу тащили святочное бревно. Он отвел ее в сторонку: – У меня хорошие новости. Король только что выделил Дороти солидное приданое с хорошим земельным владением. Оно вдвое больше того, что мог дать за ней отец. – Эдвард улыбнулся. – Удивляюсь, почему он это сделал? Джейн это прекрасно знала. Проявляя щедрость к семейству Сеймур, Генрих надеялся завоевать ее любовь или по крайней мере смягчить непреклонную решимость отказать ему. Она подумала о Екатерине и Марии. Сейчас больше, чем когда-либо, они нуждались в защите. Если король и правда увлекся ею, может быть, он прислушается к ее мольбам. Джейн подняла взгляд на Эдварда: – Ты передашь его милости, что я необычайно глубоко ценю его доброту? – Будь уверена, – ответил он. – Когда свадьба? Эдвард выглядел раздосадованным. – Сразу после Рождества. А это значит, что никто из нас, служащих при дворе, не сможет присутствовать. – Как жаль пропускать такое событие! – воскликнула Джейн. Ей вдруг захотелось уехать на Рождество в Вулфхолл, она так соскучилась по дому, и как досадно не поучаствовать в свадебных торжествах, которые состоятся после праздников. – А мы не можем попросить отпуск? – Сомневаюсь, что теперь это возможно, – вздохнул Эдвард. – Уже поздно, те, кому дали разрешение уехать, давно покинули двор. – Я все равно попрошу, – сказала Джейн. Однако Анна с видимым удовольствием отказала ей.
Во время полуночной мессы королевская капелла сияла в свете свечей. Король с королевой спустились с королевской скамьи, которая находилась напротив нефа, и сделали приношения на алтаре. Джейн, стоя на коленях вместе с другими фрейлинами, наблюдала за ними. По пути назад Генрих на секунду остановился и с нежностью взглянул на нее. На его губах играла легкая улыбка. Джейн наклонила голову, но успела заметить сверкнувший в глазах Анны гнев. Во время рождественских увеселений король танцевал с ней на глазах у всего двора, а королева сердито взирала на это с трона. Генрих запретил Анне танцевать, чтобы не повредить ребенку. Джейн представляла, как злобно начнут трепать языками придворные. Разумеется, все взгляды были прикованы к ней, когда она, одетая в расшитое жемчугом платье, величаво ступала, исполняя торжественную павану. – Вы сегодня выглядите прелестно, – сказал Генрих. Он не сводил с нее глаз. – Скажите, не потеплела ли немного моя прекрасная ледяная дева? – Слегка, ваша милость. – Джейн улыбнулась. – Но я прошу вас не танцевать со мной больше одного раза. Королева следит за нами, и все остальные тоже. Уже поползли слухи. – Слухи всегда ползают, – беспечно ответил он. – Не обращайте внимания. – Да, сэр, но они могут разрушить репутацию. И если вашу милость станут связывать с женщиной сомнительной репутации, это плохо отразится на вас. – Хорошо, Джейн. Мы будем осмотрительны. Я в вашем распоряжении. Я буду в королевской ложе капеллы в одиннадцать. Прошу вас, приходите, мне нужно поговорить с вами приватно. Последовала пауза, они разошлись в танце, потом снова соединились. – Я приду, – тихо проговорила Джейн, внутренне терзаясь, правильно ли поступает. Конечно, король не станет порочить ее честь в святом месте.
Он ждал ее в тускло освещенной ложе – высокий, статный, с непокрытой головой. Он поклонился ей, этот властный муж, у ног которого распростерлось целое королевство. Она сделала реверанс, и он предложил ей сесть рядом с ним на скамью. – Я так рад, что вы пришли. – Генрих взял ее руку. – Ваш смиренный поклонник полон благодарности вам за такую милость. – Сэр, я не изменила решения. Я не могу быть вашей возлюбленной. Вы женаты, и это будет неправильно. Но я стану вам другом. – Другом? – Генрих выглядел ошеломленным. – Джейн, я думаю, вы не поняли. Я стану вашим слугой. И не потребую от вас ничего, что может задеть вашу честь. Моя прекрасная леди, я люблю вас! Любит? О таком она даже не мечтала! Джейн заглянула ему в глаза, но не смогла прочесть в них ничего, кроме искренности и томления. Однако она слышала, что мужчины часто ошибочно принимают похоть за любовь или заявляют о любви, чтобы добиться своего от женщин. Надо быть осторожной. – О сэр! – выдохнула она, наклонив голову. – Я этого не стою. Вместо ответа он взял ее руку и страстно поцеловал. – Никто не достоин любви больше вас! – сказал он. – Это я, Генрих – мужчина, а не король, ищу вашего снисхождения, будучи недостойным. Она не знала, как отвечать. Было ясно: на что бы она ни согласилась сегодня вечером, это должно остаться тайной. Нельзя допустить, чтобы Екатерина услышала о ее предательстве. Королева могла не оценить истинных мотивов своей бывшей фрейлины. Джейн сама едва отдавала себе в них отчет. Они не были полностью альтруистичными: нельзя сказать, что госпожа Сеймур оказалась невосприимчивой к чарам короля и к тому же не понимала, какие выгоды это сулит ее семье. А если быть совсем честной, то она лелеяла мысль, что обретенная власть позволит ей утереть нос Анне. Джейн посмотрела на Генриха: – Сэр, если мы можем встречаться так, как сейчас и продолжать наши дружеские отношения втайне, не подвергаясь риску запятнать мою честь, тогда я согласна стать вашей возлюбленной. Но только по названию. Генрих накрыл ладонью ее руку: – Только об этом я и прошу, быть с вами вот так, как сейчас. Благодарю вас, Джейн. Он наклонился и поцеловал ее в губы, сперва легонько, потом со страстью. Когда она отстранилась, он тяжело дышал. – Никто еще не целовал меня так, – прошептала Джейн. Генрих был доволен. – Такая невинность редко встречается при дворе, моя милая. – Я не наивна, сэр! Король усмехнулся и погладил ее пальцем по щеке: – Я сказал это в качестве комплимента. Такая свежая перемена. Он снова поцеловал ее, обняв руками. Она замерла. – Нам не следует забываться, сэр. – Джейн слышала, как эту фразу прошептала какая-то женщина в пьесе о любви в момент, когда дело дошло до точки, откуда нет возврата. Она понятия не имела, что это означает, но не хотела рисковать. – Думаю, мне пора идти. Уже поздно. – Конечно. – Король смотрел на нее с сожалением. – Я ваш слуга, приказывайте. Джейн поднялась, чтобы покинуть его, и он поцеловал ее в третий раз. Она подумала: надолго ли хватит его сдержанности?
После этого они встречались регулярно, обычно в ложе в капелле, иногда в неприветливом, холодном личном саду, а один раз в самой капелле, хотя там Джейн чувствовала себя неловко и уклонялась от физического контакта. Ей не приходилось сдерживать пыл короля. Он проявлял к ней нежность и мягкость, какую редко кто видел. Сам говорил, что жаждет только одного – видеть возлюбленную – и повсюду ищет ее лицо. Когда Джейн не было рядом, он чувствовал себя лишь наполовину живым. Разумеется, его никогда не удовлетворяли мимолетные поцелуи и объятия, но Джейн оставалась непреклонной. К своему удивлению, она обнаружила, что он уважает это. Она начала понимать, что он держится высокого мнения о себе как о рыцаре и привычка вести себя благородно глубоко укоренена в нем. Джейн хотелось заговорить с ним о Екатерине и Марии, попросить о снисхождении к ним, но пока она не решалась на это. Ее власть над ним была еще слишком свежей, неопробованной. Нужно начать с каких-нибудь мелочей. Джейн неприятно было думать, что она использует его. Девушка начала испытывать к нему привязанность и что-то, как подозревала Джейн, похожее на желание; все-таки Генрих был очень красивым мужчиной и относился к ней с исключительной добротой. Это Анна выявляла и выносила на свет худшее в нем. Хорошо бы она, Джейн, смогла противостоять этому. Но такие отношения не могли продолжаться долго, напоминала она себе. Он устанет от нее, когда поймет, что эта возлюбленная никогда не будет принадлежать ему целиком. Джейн слышала разговоры о непостоянстве Генриха, о том, что он быстро пресыщается. Она не должна забывать, что очень немногие из его любовных историй длились хоть сколько-нибудь продолжительное время.
Глава 16
1536 годОднажды промозглым январским утром Джейн пришла по какой-то служебной надобности в покои королевы и застала Анну в слезах. Ее пытались успокоить леди Уорчестер и леди Ратленд. Леди Зуш повернулась и сердито глянула на Джейн. – Он не приходит ко мне! – завывала Анна. – Проявляет все меньше внимания. И все это из-за вас! – Она кинула в Джейн перо. Острый кончик оцарапал фрейлине щеку. Джейн прижала к больному месту пальцы – они окрасились кровью и чернилами. Она застыла на месте, испуганная страстностью выпада Анны и полученной раной. Все дамы смотрели на нее. – Вы что, язык проглотили? – прошипела Анна. – Он с вами сношается, да? Дамы вспыхнули. Ни королева, ни какая-либо еще леди не должна использовать такие слова! – Нет, – ответила Джейн, подняв подбородок. – Лживая маленькая сучка! – в ярости бросила Анна. – Мадам, успокойтесь, – увещевала госпожу леди Уорчестер. – Подумайте о ребенке. – А он думает о ребенке, когда покрывает эту распутницу? Анна была близка к истерике. – Мадам, я не распутница, и меня возмущает, что мою честь ставят под сомнение, – обиженно проговорила Джейн. – Ах, как высоко мы вознеслись и как мы теперь могущественны, став любовницей короля! – Вам ли не знать! – не сдержавшись, парировала Джейн. Из всех людей от Анны последней она стала бы терпеть нравоучения в духе морального превосходства. Анна встала и ударила Джейн по оцарапанной щеке: – Я могла бы уволить вас за это. Пощечина обожгла кожу, но Джейн ни за что не позволила бы свидетелям этой сцены увидеть, что ей больно. – Я бы с удовольствием отправилась домой, – холодно сказала она, – но сомневаюсь, что его милость позволит мне. Анна в ярости уставилась на нее. – Уходите! – приказала она. – Я поговорю с ним, и тогда мы увидим, поедете вы домой или нет!
– Что это за отметина у вас на лице? – спросил Генрих, когда на следующий день они прогуливались по его личной галерее, любуясь висевшими там картинами и картами. Джейн замялась. Ей хотелось, чтобы король узнал, как Анна проявляет свою ревность, но вдруг он посчитает ее обманщицей? Это совсем ни к чему. – Я поцарапала щеку пером, – солгала она. Генрих наклонился и нежно поцеловал ранку: – Это скоро заживет, дорогая. Я хочу, чтобы мастер Хоренбут написал ваш миниатюрный портрет и я мог всегда иметь его при себе. А вы получите один из моих. Мастер Хоренбут был одним из художников, которые работали на короля. В паре с ним работал другой, по общему мнению более талантливый, – его бывший ученик мастер Гольбейн. Однако быть нарисованной Хоренбутом – это уже большая честь, ведь он изображал только особ благородных или королевских кровей. – Ваша милость так добры ко мне, – сказала Джейн. – И намерен быть еще добрее! – заявил Генрих.
Джейн заняла свое место среди других фрейлин и придворных дам, когда Анна уселась на высоком помосте рядом с Генрихом в его приемном зале. В то утро он принимал послов и просителей. Просторное помещение заполонили придворные. Объявили о приходе Шапуи. Он явился, одетый в черное, с лицом мрачным и торжественным. – Ваше величество, – произнес посол, поднимаясь из поклона, – с глубокой печалью сообщаю вам, что добрая королева мертва. Убита. Слово мигом пришло на ум Джейн, пока она оправлялась от шока. Именно этого она боялась, и этим грозила Анна. Ей хотелось заплакать, но пришлось бороться с собой, чтобы сохранить самообладание. Бедная Екатерина! Как же несчастливо сложилась ее жизнь! Королева не заслужила смерти, возможно подстроенной, в одиночестве и забвении; покинутой мужчиной, который должен был бы лелеять ее; без утешения дочери, с которой она не виделась четыре года. – Теперь я действительно королева! – триумфально провозгласила Анна. Джейн было больно слышать это, и она посмотрела на Генриха, чтобы понять, как он воспринял новость. Ей хотелось уловить на его лице хоть какой-то признак вины и сожаления, но, к своему разочарованию, она увидела, что король засиял от радости. – Хвала Господу, теперь мы свободны от подозрений в подстрекательстве к войне! – громко сказал он. Других слов у него не нашлось? Шапуи, несмотря на весь свой многолетний опыт дипломатии, не мог скрыть неодобрение. – Я принес вам вот это, ее последнее письмо, – холодно проговорил он и передал королю сложенный лист с печатями, на которых стояли гербы Англии и Испании. Генрих сломал печати и стал читать. Все неотрывно смотрели на него. Вдруг король застыл в неподвижности, и по его щеке скатилась слеза. Джейн услышала, как он втянул носом воздух, поднимая взгляд от письма. – Упокой Господи душу вдовствующей принцессы, – сказал он. – Благодарю, ваше превосходительство. Не могли бы вы нас оставить? Шапуи поклонился и ушел. – Слава Богу! – воскликнул Генрих. – Слава Богу! Джейн почувствовала опасную близость слез. Она опустила глаза. Конечно, человек, совершивший убийство, не станет открыто радоваться успеху. И все же реакция короля шокировала ее.
Когда позднее Генрих встретился с Джейн в комнате отдыха, он был в брюзгливом настроении. – Упиралась до последнего, – прорычал он. – Взгляните, как она подписала письмо! – Король сунул листок под нос Джейн, и она увидела начертанные хорошо знакомым, любимым почерком слова «королева Екатерина». Прежде чем Генрих забрал письмо, она успела прочесть несколько последних слов: «И наконец, я клянусь, что превыше всего на свете мне хочется видеть Вас». Значит, в конечном итоге то, что он сделал с Екатериной, не имело для нее значения; все жестокости и лишения не шли в счет: она любила его до последнего вздоха. Нечасто людям дается испытать такую самоотверженную любовь и преклонение. Неужели он этого не понимает?! Он променял настоящее сокровище на пустышку! Генрих убрал письмо под дублет: – Джейн, вы понимаете, что это означает? Я наконец свободен. Теперь никто не может подвергать сомнению ни мой брак, ни право Елизаветы быть моей наследницей. И я могу подружиться с императором. Ничто меня не остановит, раз причины нашей вражды больше не существует. Мои подданные будут довольны. «Король упустил из виду одну важнейшую вещь, – подумала Джейн. – Он был свободен! Брак его незаконен, раз он при живой жене устроил эту притворную свадебную церемонию с Анной, даже не дождавшись, пока Кранмер вынесет окончательный вердикт по поводу его первого брака. Да и решение Кранмера не имело силы против дозволения, данного папой». Тут сомневаться нечего. Король был свободным человеком.
– Жаль, что леди Мария не составила компанию матери! – с глумливой усмешкой сказал граф Уилтшир. Джейн краем уха услышала его разговор с Анной и лордом Рочфордом. Сама она при этом сидела за столом с Маргарет Дуглас, Мадж Шелтон и Мэри Говард; они занимались компоновкой стихов. Томас Говард примостился на подоконнике неподалеку и лениво перебирал струны лютни. Джейн ужасалась бесчувственности Болейнов к страданиям умершей королевы, за которые во многом они были в ответе, и продолжала терзать себя опасениями, что их следует винить и кое в чем похуже. «Почему я должна преклонять колени перед этой женщиной?» – спрашивала она себя, кипя от возмущения. Даже если Анна не убийца, она стала королевой не по праву. Она бесстыдница и заслуженно не пользуется популярностью. Тем не менее король, очевидно, смотрел на это иначе, и, если она родит ему сына, никто не посмеет и пальцем ее тронуть. Для обеспечения ребенку неопровержимого права на статус законного наследника Генриху нужно было всего лишь устроить настоящее бракосочетание с Анной. Но придет ли ему на ум мысль о необходимости сделать это? Нет, разумеется, нет. Он полагал, что женат вполне законно согласно установлениям своей Новой церкви, и не собирался прислушиваться к мнению папы, тем более что был у него не в чести. Так что королю и в голову не придет повторно проводить брачную церемонию, если, конечно, он не захочет умилостивить остальной христианский мир. Он мог бы пойти на такой шаг, если бы решил, что благодаря этому умягчит себе путь к дружбе с императором. Но, впрочем, он может и не захотеть терять лицо в глазах всего мира, ведь, женившись теперь на Анне, признает сомнительность того, что первый брак с ней был правомочным. А вообще, захотел бы он взять ее в жены сейчас, если бы у него был выбор? Все зависело от того, выносит ли Анна сына. Если да, то никто не сможет бросить ей вызов, а самой Джейн в этом случае придется покинуть двор. Это она прекрасно осознавала. Ей не вынести нового триумфального взлета и возвращения к власти Анны.
Джейн не могла присоединиться к общему веселью, когда Анна приказала устроить танцы. Это было время траура! Услышав повеление королевы одеть ее для такого случая в желтое платье, она разозлилась. Какое оскорбление памяти Екатерины! Даже король принял участие в развлечениях, он спешил отпраздновать избавление Англии от угрозы войны и тоже облачился в желтое. Как они могли радоваться? Джейн это удивляло. Однако Генрих пребывал в кипучем оживлении и даже велел принести на мессу Елизавету под торжествующие звуки труб, чтобы все увидели его бесспорную наследницу. После обеда король присоединился к Анне и ее дамам в зале, где снова организовали танцы и прочие демонстрации ликования. Джейн была вынуждена участвовать в этом, но в душе горячо возмущалась тем, что ей приходится делать вид, будто она одобряет общее веселье. Генрих принес Елизавету и показывал ее дамам. Он остановился перед Джейн, которая взяла маленькую ручку девочки и поцеловала ее. – У вас есть подарок для меня? – требовательно спросила двухлетняя малютка. У нее было остренькое личико и величавые манеры. Все засмеялись. Джейн опустила руку в карман и, нащупав там вышитый носовой платок, достала его. – Вашей милости это нравится? – спросила она, предлагая подарок Елизавете. Девочка протянула ручонку, взяла платок; любопытные глазки с интересом разглядывали вещицу. – Что нужно сказать? – намекнул дочке Генрих. – Спасибо, – ответила Елизавета и очаровательно улыбнулась Джейн. Король поставил ее на пол, чтобы она присоединилась к танцующим. Девочка уже была научена танцам и хорошо попадала в такт. Джейн заметила, что, пока дамы развлекали Елизавету, Анна была больше заинтересована общением с джентльменами короля. Королева нечасто видела свое дитя. Она редко посещала двор принцессы в Хатфилде, Хансдоне или Эшридже. Джейн снова поразило видимое отсутствие у Анны материнских чувств. Она была слишком занята собой! «Если у меня когда-нибудь родится такая маленькая девочка, я буду видеться с ней как можно чаще», – поклялась Джейн.
В тот вечер, когда дамы готовили королеву ко сну, она настояла, чтобы Джейн расчесала ей волосы. Джейн удивилась: с чего это Анне понадобились ее заботы и она остановила на ней свой выбор? Однако манерой поведения Анна ясно дала понять, что таким образом ставит выскочку-фрейлину на место. А Джейн не могла удержаться от недоброй радости, заметив один или два седых волоса среди длинных локонов королевы. Вдруг Анна ни с того ни с сего залилась слезами. Женщины попытались успокоить ее, умоляли сказать, что случилось. Джейн боялась, как бы ее имя не прозвучало вновь. Король танцевал с ней четыре раза. – Мне так страшно! – выпалила Анна. – Живая вдовствующая принцесса была залогом моей безопасности. Теперь я это понимаю. Но она умерла, и, если ребенок родится мертвым или окажется девочкой, боюсь, со мной поступят так же, как с ней. – Кто? – не поняла Маргарет Дуглас. – Мастер Кромвель ненавидит меня. И не он один. Джейн ощутила внутренний трепет: неужели Анна знала, что ее враги объединяются с целью восстановить принцессу Марию в правах на престол? – Но король любит вас! – заверила госпожу Мэри Говард. – Вы так думаете?! – воскликнула Анна. – Только не наедине. Он почти не разговаривает со мной. Вы знаете, как редко он приходит сюда. На публике он изображает привязанность, потому что никогда не признает женитьбу на мне ошибкой. Пока Екатерина была жива, он не мог и подумать о том, чтобы отделаться от меня, ведь это было бы равносильно признанию, что она была его истинной супругой. Но теперь… – (Леди Уорчестер положила руку на вздрагивающие плечи королевы.) – О Боже! – завывала Анна. – Я боюсь, что празднования на этой неделе имели не одну причину. – Мадам, успокойтесь. Вы ждете ребенка. Скорее всего, родится мальчик. Тогда вы увидите, как сильно король вас любит. Но Анна была безутешна. Леди Уорчестер посмотрела на других дам и в отчаянии покачала головой. – Этот ребенок один отделяет меня от полного краха! – всхлипнула Анна. Успокоить ее было невозможно.
Глубокая печаль королевы, которая проявлялась снова и снова в течение следующих дней, расстраивала и Джейн. Ее помимо воли трогали страдания несчастной. Как же это тяжело – все время вынашивать детей в страхе, что младенец не выживет или родится не того пола, и знать, что твое счастье зависит от того, дашь ты жизнь сыну или нет. Может быть, страдания Анны – это расплата за то, что она заняла место Екатерины и травила ее? Или на ее совести лежат более страшные грехи? При дворе уже ходили слухи, что Екатерину отравили. Некоторые винили короля. Другие говорили, что королева умерла от разрыва сердца. Джейн часто обращалась мыслями к леди Марии: наверняка она горько скорбела о матери, которую так стойко поддерживала. Ей хотелось утешить девушку, рассказать бедняжке, как сильно любила ее Екатерина и как часто говорила о ней в годы их разлуки. И вот Джейн выпал шанс замолвить слово за Марию. Она не упустила его, когда однажды вечером король вызвал ее в капеллу и попросил сесть рядом с ним на королевской скамье. Анна взбесилась бы, если бы увидела это. – Я подумал, вам это понравится, моя дорогая, – сказал он и передал Джейн маленький бархатный кошелек. Внутри лежал золотой медальон, инкрустированный драгоценными камнями, а под крышечкой находился миниатюрный портрет короля. – Надеюсь, вы будете носить его и думать обо мне, когда он на вас, – робко проговорил Генрих. – Как он красив, сэр! – Джейн сняла с шеи нитку жемчуга и надела медальон. – У меня никогда не было такого прекрасного украшения. Благодарю вас! Я, конечно же, буду думать о вас, надевая его, причем часто. Хотя я все равно часто думаю о вас и еще кое о ком, но с грустью. Король стал весь забота и внимание. – Могу я помочь? – спросил он. Джейн глубоко вздохнула. – Меня печалит судьба леди Марии, которая только что потеряла мать, – сказала она, чутко наблюдая за тем, как будут восприняты ее слова. Король нахмурился и вздохнул: – Джейн, у вас доброе сердце, но вам не понять, как глубоко опечалила Мария меня. Она противилась мне во всем и упрямо отстаивала интересы своей матери. – Я думаю только о ее горе, сэр. Она, должно быть, сильно тоскует по матери… и по отцу. Генрих откинулся назад, заметно раздосадованный: – Вам следует знать, что королева неоднократно делала попытки примирения, но Мария не приняла ни одну из них. На этой неделе, когда ее милость предложила принять ее при дворе со всеми почестями, как равную, если она признает ее королевой, Мария прислала гонца с ответом, что совесть не позволяет ей сделать это. Скажите, и что мне делать в такой ситуации? Будь это кто-нибудь другой, я бы отправил его в Тауэр. – И король надменно поджалгубы. – Я умоляю вашу милость, не наказывайте дочь столь сурово! – воскликнула Джейн. – Нет, Джейн, этого не случится, – со вздохом сказал он. – Я всегда проявлял терпение, хотя другие убеждали меня поступить с ней сурово. Это давало надежду. – Может быть, если вы сами поговорите с ней, это поможет примирению? – предложила Джейн. – Я не стану встречаться с ней, пока она упорствует в противостоянии мне. – Король был непреклонен. – Если ей нужно мое отеческое утешение, она знает, что должна сделать. Джейн поняла, что настаивать бесполезно. Оставалось надеяться на всходы, которые могло дать посеянное семя. Генрих сменил тему: – Я велел своему секретарю организовать ваше позирование мастеру Хоренбуту. Это будет завтра в три часа, в комнате отдыха. Наденьте мой медальон!
Джейн отправилась искать Эдварда и нашла его играющим в кости с Томасом. Она передала братьям свой разговор с королем. Эдвард выглядел мрачным. – Не думаю, что его милость рассказал вам всё. Мессир Шапуи получил письмо от леди Шелтон. – (Анна часто упоминала о своей тетке, матери Мадж Шелтон, которую назначила воспитательницей к Марии.) – Леди написала своей тетушке, мол, когда у нее родится сын, она знает, что случится с принцессой, – сказал Эдвард. Джейн задрожала. Она сама слышала, как Анна говорила ровно те же слова своим дамам. – Но почему леди Шелтон предупредила мессира Шапуи? – удивленно спросила она. – Судя по всему, для Болейнов он последний человек, которого следовало бы поставить в известность об этом. – По моим сведениям, леди Шелтон повернулась против Леди после того, как Анна толкнула Мадж в постель к королю, – сообщил Эдвард. – Она считает свою дочь обесчещенной и переживает из-за того, как обходятся с принцессой. Мессир Шапуи сильно обеспокоен. Он опасается возможных действий Леди, и, думаю, не без оснований. – Эдвард замялся. – Можем мы поговорить где-нибудь без свидетелей? – В маленьком банкетном доме сейчас никого нет, – сказал Томас, указывая за окно на небольшое здание из красного кирпича, стоявшее на невысоком пригорке в сотне ярдов от дворца. Они быстро прошли туда под холодным ветром и прикрыли за собой дверь. Внутри на расписных фризах резвились золотые херувимы, а к стене были приставлены два стола на козлах. Здесь король развлекал избранных гостей. Они втроем устроились на подоконнике и прижались друг к другу. Было холодно, пар от дыхания белесыми облачками вылетал изо ртов. – Мессир Шапуи сообщил нам, что было произведено вскрытие тела почившей королевы, – открыл им тайну Эдвард. – Результаты держат в секрете, что вызывает у него сомнения в естественных причинах ее смерти. Джейн ужаснулась, обнаружив, что есть и другие люди, которые разделяют ее подозрения. – Вы думаете, ее и вправду убили? Брат угрюмо взглянул на Джейн: – Мы все так считаем. Духовник Екатерины, епископ Лландаффский, рассказал мессиру Шапуи, что люди, производившие вскрытие, доверили ему большой секрет. Они обнаружили, что тело королевы и все ее внутренние органы находились в нормальном состоянии, за исключением сердца. На нем имелся страшный на вид черный нарост. Они промыли его водой, но цвет не изменился. Ничего подобного эти люди раньше не видели, и они пришли к очевидному выводу. Рука Джейн подлетела ко рту. – Нет! – А что еще это может быть? – сказал Эдвард. – Наверняка яд. Джейн нахмурилась: – За недели, предшествовавшие смерти королевы, Леди несколько раз произносила угрозы. Она намеревалась расправиться с Екатериной и принцессой. – От нее этого легко ожидать, – заметил Эдвард. – Мессира Шапуи беспокоит, что принцесса может стать следующей жертвой. – Не дай Бог! – воскликнула Джейн. – Мы все должны быть настороже, – распорядился Эдвард. – Хвала Господу, император – защитник Марии. Он поручил мессиру Шапуи присматривать за ней, хотя это будет нелегко, так как ему не позволено ни видеться с принцессой, ни переписываться. – Но он говорит, у него есть свои средства, – добавил Томас. Джейн подавила всхлип: – Ужасно думать, что добрую королеву убили. Лицо Эдварда было мрачным. – Если бы ее вскрыли еще раз, это наверняка подтвердилось бы.
Джейн старалась сидеть неподвижно перед мастером Хоренбутом, седеющим фламандцем с кустистыми бровями и запачканными краской пальцами. По-английски он говорил с сильным акцентом и держался с не меньшим достоинством, чем те, кто ему позировал. Джейн надела свое лучшее черное платье и аккуратный капор в форме фронтона, добавила к наряду нитку жемчуга и приколола к лифу платья медальон короля. Мысли ее непрестанно вращались вокруг откровения, сделанного Шапуи. Если он прав, значит Анна опасна. Она могла привести в исполнение свои угрозы и расправиться с Марией. О Святая Матерь Божья, она и от Джейн могла избавиться! А если родит сына, ее злодейства ничто не остановит. Несмотря на расцветавшие чувства по отношению к королю, Джейн снова захотелось оказаться дома, в Вулфхолле, подальше от треволнений двора. Если Генрих не прекратит своих ухаживаний за ней, гнев Анны будет только нарастать, и тогда, кто знает, на что она решится?
Глава 17
1536 годЦелую неделю Джейн не поднимала головы, стараясь избегать Генриха и не привлекать к себе внимания Анны. Но тут в личные покои королевы явился в сопровождении церемониймейстера герцог Норфолк. – Добрый день, дядюшка, – не слишком тепло приветствовала посетителя Анна, потому что они рассорились и дошли до того, что обменивались оскорблениями. Герцог однажды назвал племянницу великой блудницей. Джейн слышала это собственными ушами. Но сегодня он выглядел взволнованным. – Мадам, вам следует знать, что король упал с коня во время турнира. Падение было таким тяжелым, что все, кто это видел, посчитали чудом, что он не разбился насмерть. Джейн подавила испуганный вздох, а Анна прикрыла рот рукой. В глазах ее застыл ужас. – Он ранен? – Нет, только слегка шокирован, – заверил ее Норфолк, а у Джейн от облегчения ослабли колени. – Он будет жить и еще поучаствует в турнирах. – Нет, если это будет зависеть от меня! – отрезала Анна. – Это слишком рискованно. Ее трясло, несомненно, от мысли, что станет с ней, если Генрих умрет и оставит ее один на один с враждебным окружением и проблемой наследования, а права ее детей почти наверняка будут оспариваться, может дойти и до насильственных действий. В тот вечер Генрих вызвал Джейн в свою галерею. – Сэр, как я рада видеть вас целым и невредимым, – сказала она. – Вы испугали нас всех. – Это ерунда, – небрежным тоном ответил он. – К несчастью, открылась старая рана на ноге, и мои доктора боятся, не развилась бы язва. Нога болит, но это не остановит меня от поездок на охоту и прочих удовольствий. Подойдите, позвольте мне поцеловать вас! – Он протянул к ней руки.
По приказанию короля в день похорон королевы Екатерины весь двор облачился в черное. Джейн удивилась, услышав об этом распоряжении, но Анна просветила их всех, сообщив не слишком радостным тоном: – Почившая вдовствующая принцесса была невесткой его милости. Вот почему король сегодня в трауре. Но с моей стороны было бы лицемерием оплакивать своего главного врага. Я печалюсь не о том, что она мертва, а о том, каким показательным стал ее тихий переход в мир иной. Мне уже тошно слышать об этом. Ни о чем другом не говорят, кроме как о христианской кончине Екатерины! Но нам придется надеть траур, хотя я предпочла бы облачиться в желтое. Джейн обомлела. Как смеет Анна выказывать такое неуважение! Никто не шевелился. Джейн ощутила, что остальные дамы разделяют ее чувства. – Чего вы ждете? – рявкнула Анна. – Принесите мое синее платье. Я буду сопровождать короля на торжественное погребение, оно состоится сегодня. Этим я заслужу одобрение в глазах сторонников Империи и проложу путь к дружбе с императором. Джейн не могла поверить собственным ушам. Марджери Хорсман подозвала ее к себе, и они вдвоем быстро отправились в гардеробную. – Она думает, император станет ей другом? – Обманывает сама себя, – сказала Марджери, отпирая дверь. – И попросила принести синее платье. Этот цвет Анна никогда не носила. – Синий – цвет королевского траура, – объяснила Марджери. – Лучше бы она оделась в черное, как король, – возразила Джейн. После того как платье было доставлено и королева облачена в него, говорили мало. Признаки беременности уже были заметны, пришлось слегка распустить шнуровку в области живота. – Мне вдруг захотелось поесть рыбы, – сказала Анна. – Джейн, сходите на кухню и предупредите поваров. По пути Джейн проходила мимо двери Королевской капеллы, откуда доносилось чтение на латыни; наверное, служили раннюю мессу по почившей королеве, первую из нескольких, которые проведут сегодня. Углубившись в галерею, она едва не столкнулась с Шапуи, который слегка поклонился ей. Он разговаривал с высоким, мрачного вида мужчиной. – Я думал, вы будете в Питерборо на похоронах вдовствующей принцессы, – услышала Джейн слова незнакомца. – Нет, сэр Уильям, останусь в стороне, раз они не хотят похоронить ее как королеву, – ответил Шапуи. Джейн поспешила дальше, испытав желание похвалить посла за то, что он так стойко держится своих принципов. Выполнив поручение, она возвращалась по галерее, как вдруг двери капеллы распахнулись, и появился король в сопровождении процессии духовенства, лордов, офицеров и придворных, все были в черном. Генрих, одетый в однотонный бархатный костюм, который не оживлялся ни единым цветным пятном, являл собой впечатляющее зрелище. Джейн сделала низкий реверанс. Король склонился к ней и шепнул на ухо: – Мне нужно увидеться с вами. Приходите в мои личные покои в одиннадцать. – Он выпрямился и пошел дальше. Его спутники уставились на Джейн, которая с пылающими щеками удалилась.
Церемониймейстеры и королевская стража с безучастными лицами стояли на своих постах, когда король встречал Джейн у дверей в личные покои. – Там никого, – предупредил он; все джентльмены и слуги по его распоряжению находились в часовне. – У нас есть свободных полчаса. Королева тоже на мессе. Генрих провел гостью в маленький кабинет, обставленный соответственно назначению. На столе стопкой лежали книги, на полках стояли инструменты для научных занятий, там же помещалась коллекция склянок с лекарствами и кипа свитков, похожих на карты. Закрыв дверь, Генрих прижал к себе Джейн и жарко поцеловал ее. – Кажется, я на небесах, когда остаюсь с вами наедине, – прошептал он и снова прикоснулся губами к ее губам. Она осторожно ответила, боясь слишком сильно разжечь его пыл. Он легко мог забыться и взять ее силой. Джейн верила, что Генрих этого не сделает и рыцарский дух всегда одержит победу над устремлениями плоти. Однако ей не хотелось, чтобы король подумал о ней как о легкомысленной особе, раз она согласилась остаться с ним наедине, и, когда его рука, блуждая, переместилась к ней на грудь, Джейн твердо отстранила ее. – О Джейн, вы жестоки! – жалобным голосом проговорил король, но отпустил ее, и они сели: Генрих – в большое дубовое кресло, она – на мягкий табурет, который пододвинул ей хозяин. Пока они разговаривали, он держал Джейн за руку и смотрел ей в глаза. – Я хотел бы видеться с вами чаще, – сказал король. – Я не должна расстраивать королеву, – пробормотала Джейн. – Это мудро, – вздохнул Генрих. – Многое зависит от этой беременности. Я считаю недели до рождения ребенка. – Молюсь, чтобы у вашей милости родился сын, – сказала Джейн. – Слава Богу, у нас будет повод для торжества, когда он появится! – заявил король. – Я ждал его двадцать семь лет. И хочу, чтобы все увидели: Господь улыбается, глядя на мои дела. Джейн ничего не сказала, и король переключился на другие темы, а потом разговор привел к касаниям, а касания повлекли за собой поцелуи… Минуты текли, и очень скоро часы на шкафу показали, что осталось всего десять минут до полуночи. – Мне нужно идти, сэр, – вставая, сказала Джейн. Генрих поймал ее за руку и усадил к себе на колени. – Останьтесь еще ненадолго! – молил король, крепко удерживая ее. Она засмеялась, и он снова начал целовать ее. И вновь его ладонь накрыла ее грудь, и Джейн уже собралась сбросить ее, как вдруг дверь распахнулась, за ней стояла Анна с вытаращенными от шока глазами. – Как вы могли?! – вскрикнула она. Генрих спихнул Джейн с коленей и вскочил. – Уходите! – сказал он, и Джейн выскользнула за дверь, даже не сделав реверанса, и услышала, как Генрих говорит Анне: – Дорогая, простите меня.
По пути в апартаменты королевы сердце Джейн учащенно билось. Это могло повлечь за собой увольнение или еще что похуже. Она размышляла: может, лучше сбежать прямо сейчас, прежде чем придется испытать на себе гнев Анны. Но когда королева вернулась, она была не в том состоянии, чтобы распекать Джейн. Ее скрутила боль, а юбки были запятнаны кровью. Дамы помогли ей раздеться и лечь в постель, спрашивая друг друга: «Где найти повитуху или лучше послать за врачом?» В конце концов после долгих рассуждений благодаря содействию сэра Генри Норриса была призвана одна знающая женщина, которая жила неподалеку от дворца. К этому моменту стало ясно, что у Анны начались преждевременные роды. Джейн сидела в наружном покое с остальными фрейлинами и слушала доносившиеся из-за двери крики. – Этого достаточно, чтобы навсегда отвратить от замужества, – сказала Марджери. – Верно, – резко кивнула Джейн. – Тут нет разницы, королева вы или крестьянка, – заметила Маргарет Дуглас. – Деторождение – опасное дело. Только послушайте ее, бедняжку. Она кричит, как раненый зверь. Ранним вечером крики утихли и сменились горьким плачем. Наконец открылась дверь, и появилась леди Уорчестер, вся в слезах, хотя обычно умела сохранять самообладание. – Королева потеряла мальчика, – убитым голосом сообщила придворная дама. – Повитуха сказала, ему было всего недель пятнадцать. Джейн стало жаль Анну, страдания которой закончились такой трагедией, к тому же ее будущее теперь выглядело опасно ненадежным. И все же она не могла удержаться от мысли: не было ли это Божьей карой за роль Анны в смерти королевы? Сердце Джейн обливалось кровью от жалости к королю, надежды которого погибли. Какое мучительное разочарование! Но может быть, теперь он поймет, что этот притворный брак противен Господу, и избавится от Анны. Джейн не была жестокой; она представляла себе красивый дом где-нибудь вдали от двора, в котором Анна могла бы жить со своей незаконнорожденной дочерью, комфортно, на приличный пансион и с достойной обслугой… Появился король, лицо его превратилось в маску горя. Он протопал в спальню и затворил за собой дверь. Дамы слышали приглушенные крики и восклицания Анны. Когда Генрих вышел, всего через несколько минут, он плакал. Джейн хотела подойти к нему, чтобы утешить, но он удалился прежде, чем она успела подняться из реверанса. Юная герцогиня Ричмонд выбежала из спальни следом за королем: – Он ушел? Он не мог оставить ее в таком состоянии! Она в глубочайшей печали. Плакала навзрыд, когда король явился к ней, и он был безжалостен, сетовал и сокрушался о своей потере – своей потере! – а о ее утрате даже не упомянул. Она впала в истерику, обвинила его в жестокости, а он воспринял это плохо. – Герцогиня в упор посмотрела на Джейн. – Вы знаете, что он сказал ей? Заявил, что больше у нее не будет сыновей от него. Он был неумолим. И, госпожа Джейн, она сказала ему, что он должен винить за свое разочарование самого себя, потому что причина несчастья в том, что она расстроилась из-за вас! – Я ничего не сделала, – запротестовала Джейн, чувствуя, как щеки у нее заливаются краской. Все смотрели на нее, многие враждебно. Герцогиня вспыхнула: – Тогда почему она говорит, что ее сердце разбито его любовью к другим? И отчего это его милость выглядел пристыженным и просил у нее прощения? – Я не сделала ничего дурного, – настаивала на своей невиновности Джейн. – Вы украли мужа у королевы! – крикнула Мадж Шелтон. – Из-за вас она страшится, что он бросит ее, как бросил вдовствующую принцессу! Джейн закусила губу. Она не смела сказать, что Генрих не муж Анне, а потому принимать его ухаживания – это не грех. Не могла она напомнить и о том, что в свое время Анна увела мужа у другой королевы. – У меня не было желания причинять ей боль, – заявила она. – И вы считаете, что мы в это поверим? – возразила Мадж. – Вас не волнует, что по вашей милости она потеряла ребенка? – злобно спросила леди Уорчестер. – Мне очень жаль, что так случилось, – ответила Джейн, – но не думаю, что я стала причиной этого. Ее милость потеряла уже третьего ребенка. Может быть, ее сложение не подходит для вынашивания мальчиков. – «Или Господь выражает так свое неодобрение», – подумала она, а вслух сказала: – Я ничем не угрожаю мадам Анне. – Вам должно быть стыдно! – выпалила герцогиня и скрылась за дверью спальни. Джейн обиженно наклонила голову над шитьем. Марджери подошла к ней и села рядом: – Не беспокойтесь, Джейн. Она потеряла ребенка, потому что нервничала на протяжении всей беременности, а не только из-за вас. Не думаю, что кто-нибудь из дам на самом деле удивлен. Она ходила по лезвию меча. Знала, сколь многое зависит от того, родится ли мальчик, и терзалась сомнениями. Не слушайте их. Просто они ее протеже и опасаются за свое будущее. Джейн взяла руку Марджери: – Спасибо, милая подруга. Я постараюсь не обращать на них внимания.
Поздно вечером Генрих послал за Джейн. Она пришла к нему в тускло освещенную капеллу и застала его плачущим на скамье; он не мог контролировать свои чувства. Джейн обняла короля. – Она потеряла моего мальчика! – всхлипывал он у нее на плече. Щетина на щеках Генриха царапала кожу у нее на груди. – Это величайшее горе для меня и всего королевства. – Он поднял искаженное страданием лицо и взглянул на свою утешительницу. – Я знаю, от нее у меня сыновей не будет. Теперь мне ясно, что Господь не хочет дать мне мужское потомство. Джейн задержала дыхание. Неужели чары Анны разрушены? И он наконец узрел правду? – О Джейн, помогите мне! – умолял Генрих. – Я боюсь, что снова прогневил Бога. Эти выкидыши не могут происходить без основательной причины: видимо, Господь проявляет так свое неудовольствие. Думаю, мой брак с королевой так же противен Ему, как и незаконный союз с Екатериной. Джейн и не думала когда-нибудь услышать от него такие речи. У нее возникла непрошеная мысль: она увидела себя сидящей в прекрасной церкви с короной на голове. Об этом грезила ее семья, но сама она относила подобные идеи на счет излишне оптимистичных амбиций, однако теперь, охваченная лихорадкой страха и душевного трепета, Джейн ощущала, что, вполне вероятно, предчувствия ее родственников оказались верными. Если Генрих оставит Анну, что удержит его от женитьбы на ней? Она не уступала Анне в родовитости, и он ее любил. Анне этого хватило, чтобы получить корону. Видения будущего смутными картинами промелькнули в голове Джейн, но было понятно: ей нужно время все обдумать. А пока лучше подбирать слова с осторожностью, ведь то, что она скажет, может оказаться решающим. – Увы, сэр, мне хотелось бы помочь вам, но я не слишком сведуща в таких вещах и боюсь, вы можете неправильно истолковать любое скромное мнение, которое я могу выразить. Генрих сел прямо и посмотрел на нее с новым интересом; слезы еще не просохли на его щеках. – Если вам есть что сказать, говорите без опасений, дорогая. Даже получив одобрение короля, Джейн не смела открыто выразить предположение, что его брак с Екатериной был правильным, вот почему Господь гневается. Не собиралась она упоминать и Марию Болейн. – Сэр, могли ли быть какие-то препятствия для вашего союза с королевой? Родственная близость, которую случайно проглядели? По лицу Генриха Джейн увидела: он понял, о чем она говорит. Вид у него был смущенный. – Вы что-то слышали? – требовательно спросил король. – Это были сплетни, сэр. Что-то о вашей милости и сестре королевы. Бледное лицо Генриха вспыхнуло. – Это правда, но дело давнее. Я понимал, какие препятствия это создает, поэтому получил разрешение папы, который одобрил мой брак с Анной. Но два года назад парламент издал акт, признающий папские разрешения незаконными, если они противоречат воле Божьей. Джейн, Кранмер утвердил мой брак. Он никогда не выражал по этому поводу никаких сомнений. И я всегда полагал, что он не противоречит воле Господа. Но может быть, это препятствие непреодолимо. Я должен поговорить с Кранмером. Джейн задумалась, захочет ли Кранмер отменять брак, который так сенсационно объявил законным и правомочным. Но она слышала, что этого господина называют ручным зверьком короля. Люди шептались, что по просьбе Генриха он найдет теологическое обоснование любому деянию, каково бы оно ни было. Если Генрих пойдет к Кранмеру и представит ему убедительные обоснования своего желания расторгнуть брак, тот вполне может проявить сговорчивость. Джейн собралась с духом: – Сэр, вам не кажется, что если вы расстанетесь с королевой, то сможете вновь обрести благоволение Господа? Тогда вы будете вольны заключить брак с другой женщиной, способной родить вам сыновей. К ее удивлению, Генрих кивнул: – Я уверен в этом, дорогая. Это также облегчит путь к дружбе с императором и заставит умолкнуть моих противников. Анна не популярна. Она средоточие постоянной бури, вот почему мне так приятно умиротворение, которое я нахожу в вас. Скажу вам, что в прошлом году, незадолго до смерти вдовствующей принцессы, я для пробы задавал вопросы о вероятности аннулирования брака. Мои советники высказались в том духе, что это будет расценено как признание, будто я совершил ошибку, отстранив от себя Екатерину. И от меня станут ожидать возвращения к ней, а любой новый брак посчитают противоречивым, так как половина христианского мира признавала ее моей законной супругой. Вот это новость! Оказывается, Генрих уже обдумывал возможность развода с Анной. – Я уже не молод, Джейн, – продолжил король, – и не могу позволить себе тянуть с надеждами, что Бог пошлет мне сына. Я должен поговорить с Кранмером. – Он взял ее за руку. – Вы дали мне дельный совет. Я так люблю вас, Джейн. Взгляните, у меня есть для вас подарок. – Он вынул из кармана бархатный сверток. Она развернула ткань и увидела изумрудную подвеску и в пару к ней кольцо с крупным камнем. Джейн ахнула. Какие ценные вещи он ей преподносит! – Изумруды символизируют чистоту и веру, – сказал Генрих. – Не знаю, как и благодарить вас, ваша милость. Они великолепны. Вы так добры ко мне. У меня нет слов, чтобы выразить, как я вам признательна. Он склонился к ней и нежно поцеловал в губы, а потом сказал: – Я бы отдал вам весь мир. И… Джейн, когда мы с вами наедине, вот как сейчас, не называйте меня «ваша милость» или «сэр». Я – Генрих, ваш покорный слуга. Она обвила руками его шею: – Да, сэр, то есть Генрих. – (Они оба засмеялись, но его глаза оставались печальными.) – Что мне сделать, чтобы вам стало лучше? – спросила Джейн. Он посмотрел на нее жаждущим взглядом и сказал: – Утешьте меня. Помогите забыть о боли, которую я чувствую. Защитная стена таяла. Джейн стало ясно, что нужно постараться сильнее привязать Генриха к себе, проявив теплоту и сердечность, а не держаться с холодной отчужденностью. Она крепче обняла его: – Как я могу сделать это? Вместо ответа он жадно приник к ее губам и пробормотал: – Пойдемте в постель.
Несколько лет назад Джейн спрашивала мать, что будет происходить с ней в свадебную ночь. – То есть я знаю, что случится, но как мне вести себя, вот о чем я беспокоюсь, – призналась она. – Вам ничего не нужно делать, – со смущенным видом ответила мать. – Ваш супруг все будет знать, а вы следуйте за ним. – Это больно? – спросила Джейн. – Немного, сперва, но это быстро проходит. Не тревожьтесь, дитя мое. Все будет хорошо. Пока Генрих отпускал стражников, с безучастным видом стоявших у дверей, и вел ее через замерзший личный сад во дворец, а потом в верхнюю часть пристроенной к стене башенки – туррета по потайной лестнице в свою спальню, Джейн вспомнила этот разговор и улыбнулась. Тогда она не понимала, что происходящее между мужчиной и женщиной диктуют инстинкт и желание. Сидя в объятиях Генриха в капелле, она почувствовала, что настало время отдаться ему, и именно это побудило ее оказаться здесь этим вечером. Закрыв дверь, Генрих повернулся, взял лицо Джейн в ладони и жадно поцеловал в губы: – Дорогая, вы даже не представляете, как это важно для меня. Я думал, что погрузился в пучину ада и оттуда нет выхода, а потом вы осветили мне путь. О Джейн! Был ли на свете мужчина, столь благословенный? – Он прижал ее к себе. Припав к его груди, она почувствовала себя уверенной и любимой. Желания, которые она столько лет подавляла, расцвели буйным цветом. – Боюсь, я совершенно невинна в вопросах любви, – прошептала она. Он приподнял ее лицо: – Тут нечего бояться, Джейн. Уверяю вас, это будет большим удовольствием для нас обоих. Идемте, позвольте мне побыть вашей фрейлиной. Король ловко помог ей расстегнуть крючки на платье и расшнуровать киртл, потом попросил лечь на кровать, а сам стал стягивать чулки, одновременно лаская ее ноги. Она лежала на постели в одной сорочке, пока он снимал одежду. Краем глаза она увидела его нагим в свете свечей – мускулистое тело зрелого мужчины. И вот он уже с ней в постели, крепко обнимает, отдавшись на волю желания. Когда она ощутила, что он вошел в нее, возникла резкая боль, но вскоре все ее страхи смыло волной удовольствия, которое она наконец познала. В двадцать девять лет, а это зрелый возраст для девицы, какой восторг отдаваться мужчине, которого желаешь! И когда все закончилось, он лежал, накрытый ее руками, и плакал слезами, в которых смешались радость и печаль.
Глава 18
1536 годОна проснулась перед зарей, ощутив губы Генриха на своих губах и его тело, требовательное, настойчивое, овладевающее ею. Он был сильным и крепко сложенным, а она – маленькой и хрупкой; и Джейн вновь изумилась, как прекрасно они подходят друг другу. Она растворилась в его объятиях. Вчера вечером он пришел к ней в ужасном отчаянии, и их любовное соитие оказалось крайне эмоциональным опытом, но этим утром Генрих совладал с собой, взял чувства под контроль, и его властность испугала ее. После, когда он заснул рядом с ней, сомнения начали заползать в ее разум. Ночью она была абсолютно уверена, что поступает правильно. В ее действиях не было никакого расчета; она просто улучила нужный момент. И то, что происходило, не ощущалось как уступка, но было слиянием по обоюдному согласию. Однако теперь Джейн занервничала. А что, если Генрих бросит ее, как многих других женщин? Ну и ославится же она в глазах тех, кто возлагал на нее надежды! А вдруг она забеременела? Осознав, что такое вполне вероятно, Джейн перестала дышать. В голове у нее пронеслась картинка: вот она с позором едет домой, в Вулфхолл, и живет там, всеми презираемая. Может быть, напрасно она поддалась любовному порыву? Но тут Генрих зашевелился и потянулся к ее руке. – Спасибо, Джейн, – сказал он. – Благодаря вам я снова чувствую себя целым. – Он приподнялся на локоть, наклонился и нежно поцеловал ее. – Знаете, это все равно что купить себе наряд самых ярких цветов, а потом увидеть такой же, но в других тонах, какой вы никогда не приобрели бы первым, и обнаружить, что второй вам нравится больше, потому что вы даже представить себе не могли, что он будет больше вам к лицу. Я знаю вас уже четыре года, дорогая, и по-настоящему не видел до того дня, когда вы, не задумываясь, предложили мне утешение после потери Анной ребенка. А в прошлом году, в Вулфхолле… я понял. – Поняли? – тихо проговорила Джейн, ощущая огромное облегчение. – Я понял, что могу полюбить вас и любовь эта будет чистой и полной, ничем не омраченной и не мимолетной. Я понял, что с вами смогу обрести мир, как случилось прошлой ночью, дорогая, и это стало для меня величайшим утешением. О Джейн, не оставляйте меня никогда! Она подняла на него взгляд и сказала: – Разве я смогу, Генрих? Что бы он ни сотворил и на что бы ни был способен, Джейн знала: ее чувство к нему – настоящее. Быть любимой, ощущать заботу о себе и безопасность – это для нее важнее всего.
Анна лежала в своих покоях и выглядела больной. Дамы сидели вокруг нее за шитьем. Потеря сына состарила королеву, на ее лице не осталось и следа от той искусительницы, которая когда-то сводила с ума короля. Однако она храбрилась. – Все к лучшему, – сказала Анна своим дамам, – тем скорее я снова буду ждать ребенка. Сын, которого я выношу, не будет сомнительным, как этот, зачатый, пока была жива вдовствующая принцесса. «Значит, она понимала, что ее брак – сплошная фикция», – подумала Джейн, сидя в уголке, как можно дальше от своей госпожи. Она старалась быть совершенно незаметной и лелеяла в душе воспоминания о минувшей ночи. Анна подчеркнуто игнорировала ее, но бравада надолго не затянулась. Вскоре королева снова была в слезах. – Я боюсь, – призналась она. – Не нужно было мне корить короля. – Она схватила руку Мэри Ричмонд. – Он может решить, что я так же не способна к рождению сыновей, как Екатерина, найдет предлог аннулировать наш брак и объявить Елизавету бастардом. Анна была вне себя, и не без причины, Джейн теперь это знала. Вины она не ощущала, но Анну ей было жаль. – Кто меня защитит?! – восклицала королева. – Когда Екатерина впала в немилость, у нее за спиной была мощь Империи. Но кто замолвит слово за меня? – Архиепископ Кранмер, к примеру, мадам, – попыталась утешить ее леди Зуш. Джейн задумалась: поговорил ли уже Генрих с Кранмером? – И ваши епископы, – добавила леди Ричмонд. – Отец и брат всегда вас поддерживали, – сказала Мадж. Анна промокнула глаза: – Но если я утрачу милость короля, они все могут отвернуться и у меня никого не останется! – Она опять была близка к истерике. – Есть люди, которые ищут моего падения. Без защиты короля враги меня уничтожат. – Мадам, успокойтесь, – увещевала ее леди Уорчестер. – Лекарство от страхов у вас в руках. Сосредоточьтесь на том, чтобы поскорее оправиться, а потом снова увлеките собой короля, как бывало раньше. Оденьтесь красиво, чтобы порадовать его. Танцуйте, пойте и демонстрируйте таланты, которыми он восхищается. Будьте остроумной собеседницей, не замыкайтесь в своем горе. Будьте женщиной, в которую он влюбился. Остальное не заставит себя ждать. – Я не могу… – жалобно проговорила Анна. – Вы можете! – настаивала Мэри Ричмонд. – Верните его себе. Напомните ему, почему он женился на вас. Анна с сомнением посмотрела на них. Ее боевой задор иссяк. Она была слишком подавлена горестями. И вновь Джейн испытала прилив сочувствия. Позволит ли ей совесть добавлять печалей Анне? Даже если она добилась своего нечестно, истинное счастье не построить на чужих страданиях.
В галерее Джейн перехватили Эдвард и Брайан. – Весь двор говорит о вас, Джейн, – сказал ей сэр Фрэнсис, в его единственном глазу поблескивал огонек. – Ходят слухи, что король будет разводиться с Леди и собирается снова жениться. Эдвард пристально вглядывался в сестру: – Люди больше не смотрят на тебя как на одно из мимолетных увлечений короля. Говорят, он намерен жениться на тебе. Ты хорошо все сделала. Брайан нагнулся к ней: – Он и правда рассматривал возможность развода. Мне говорил об этом господин секретарь. А кого же еще ему брать в жены? – Принцессу с богатым приданым, полагаю. – Но он любит вас. – Брайан улыбнулся. – Зачем ему искать другую? – Я же с самого начала говорил, что ты можешь стать королевой, – напомнил ей Эдвард. – Это только мечты! – возразила Джейн. – Но вам бы этого хотелось, не правда ли? – Я не знаю! – Тогда вам следует подумать об этом, – не отступался Брайан. – И король дает вам повод для подобных размышлений. – Послушайте. Он любит меня. Он сам мне так сказал. Лица мужчин просветлели. – Звучит обнадеживающе, – заметил Эдвард. – Братец, ты спешишь с выводами! – упрекнула его Джейн и передала им слова Генриха. – Я не знаю, говорил ли король с архиепископом. И кроме того, не уверена, хочу ли быть королевой. – Дело не в том, чего хотите вы, – сказал Брайан, – а в том, что лучше для вас, для вашей семьи и друзей, для Англии в целом. Леди уязвима. У нас появился шанс скинуть ее. Обещайте сделать все, что в ваших силах, чтобы помочь. От необходимости дать немедленный ответ Джейн спасли двое слуг в ливреях, которые быстрым шагом шли по галерее. Она подождала, пока они не скроются из виду, тем временем пытаясь собраться с мыслями, и вдруг ясно осознала, в чем состоит ее долг. Слова Брайана натолкнули ее на эту мысль. Он был прав. Анну следует заменить на троне, хотя бы ради спокойствия Генриха. Она стала причиной всех несчастий, которые постигли королевство, истинную королеву и принцессу. Из-за нее добрые люди приняли мученическую смерть, пролилась кровь невинных и нарушился исстари заведенный порядок. Расшатаны устои Английской церкви, повсюду расцвела ересь. Не слишком ли самонадеянно полагать, что Господь вверяет ей, Джейн, положить предел этим несчастьям? Он выбрал простую девушку в матери своему сыну, так почему бы Ему не избрать другую, чистую сердцем, для спасения Англии и ее короля от вечной погибели? Перспектива была сомнительной, но король любил Джейн. У нее имелись верные друзья, а влияние Шапуи могло обеспечить поддержку императора. Ее стараниями можно было возродить истинную религию и добиться признания прав принцессы Марии. К тому же сменить на троне госпожу, которая не имела права быть королевой, – это не грех. Дай Бог, чтобы Генрих поскорее сообщил ей, что сказал Кранмер. Эдвард и Брайан наблюдали за Джейн в нетерпении, им хотелось быстрее получить ответ. – Я буду стараться изо всех сил, – пообещала им она. – Хорошо сказано! – Брайан ухмыльнулся. – Ты не пожалеешь, – вмешался в разговор Эдвард. – Это может принести великое благо. – Я не стремлюсь получить корону, но, если она сама идет ко мне, возблагодарю за это Господа, – проговорила Джейн. – Думаю, так и случится, – уверенно заявил Эдвард, – но тебе нужно умно разыгрывать свои карты. Отныне никаких тайных свиданий с королем. Настаивай, чтобы он встречался с тобой только в присутствии родных. Больше не видеться с Генрихом наедине? Не лежать в его объятиях и не испытывать сладких удовольствий, которые они разделяли прошлой ночью? Джейн не знала, как вынести это, ведь во всем остальном ее жизнь была такой ничтожной. Она задумалась, что сказал бы Эдвард, открой она ему правду? Джейн немного помедлила: – Это будет нетрудно. Завтра он уезжает в Лондон на Масленицу, и вы отправляетесь с ним, не так ли? Некоторое время мы с королем не увидимся, по крайней мере пока Леди не оправится полностью. Ее дамы остаются здесь, чтобы ухаживать за ней. Она отослала бы меня прочь, если бы могла, я знаю, но, вероятно, опасается провоцировать короля. – Ну что же, когда появишься при дворе, не забывай о моих словах. – Эдвард был суров. – Одно дело – вести себя целомудренно, и другое – чтобы это со стороны выглядело целомудренным. Его милость сделал тебе очень дорогие подарки, верно? Джейн вспомнила о своих изумрудах, спрятанных на дне дорожного сундука. – Кто тебе сказал? – Наш приятель Кромвель – хранитель сокровищницы. Он знал, что король собирается подарить эти вещи тебе. Неужели ничто здесь нельзя сохранить в тайне? – Но я их спрятала. Я не могу носить такие дорогие украшения; они слишком хороши для дочери рыцаря. Все сразу догадались бы, кто подарил их мне, и Леди спустила бы с меня шкуру. Эдвард стал корить ее: – Прежде всего, Джейн, тебе не стоило принимать такой подарок. Добродетельная дама не получает подарков от мужчины, если они не помолвлены. Тебе следовало бы это знать. Обещай мне, что в будущем ты не возьмешь у короля ничего из того, что он станет тебе предлагать. Эта отповедь задела Джейн. – Но я этого не знала! Откуда мне знать? Такого раньше не случалось. И король не стал думать обо мне хуже после этого. Он ничего не потребовал взамен. – Тем не менее в дальнейшем тебе следует вести себя более осмотрительно, я буду направлять тебя. Если бы здесь был отец, он сказал бы то же самое. – Эдвард прав, – поддакнул Брайан. – После того, что вы сказали, я и сама ничего не приму от короля, – через силу согласилась Джейн.
В тот вечер Генрих послал за ней и попросил, чтобы она пришла в комнату отдыха. Джейн, не послушавшись Эдварда, явилась. Она не могла отказать себе и Генриху в этой последней возможности любить друг друга перед разлукой. Беспокоил ее только риск беременности, но желание победило страх. На этот раз все прошло еще прекраснее, чем накануне. Джейн и не подозревала, что можно испытывать такое удовольствие. Потихоньку ускользнув среди ночи, чтобы никто ничего не заподозрил, она летела по спящему дворцу как на крыльях. Утром Джейн увидела Генриха выходящим из часовни в костюме для верховой езды. – Доброе утро, госпожа Джейн, – сказал он, окидывая ее таинственным, понимающим взглядом. – Доброе утро, ваша милость, – ответила она и сделала реверанс, ощущая на себе взгляды джентльменов короля. – У меня есть кое-что для королевы, – сказал Генрих. – Пойдемте, я передам это вам для нее. – Он взял Джейн за руку и отвел ее в свои покои, не заботясь о том, что на них смотрят. При виде пустых комнат – гобелены были сняты со стен и вместе с мебелью отправлены во дворец Йорк – ей стало грустно. Ее даже затошнило при мысли о его отъезде. Генрих подвел возлюбленную к двери в углу, и они стали подниматься по винтовой лестнице, которая вела в покои королевы. На середине подъема он повернулся к Джейн, наклонился и крепко обнял, будто не хотел отпускать. – Джейн! Джейн! Не знаю, как я вынесу разлуку с вами. – Он горячо дышал ей в ухо. – Я тоже буду скучать без вас, Генрих. – Мне приятно слышать, как вы называете меня по имени! – Он игриво посмотрел на нее сверху вниз. – Я напишу вам, и, прошу, вы тоже мне пишите. – Обязательно напишу, – пообещала она. – Но я должна идти. Меня хватятся. Прошу вас, дайте мне вещь, которую нужно отнести королеве. – У меня ничего нет для нее, – признался Генрих. – Я просто хотел попрощаться с вами как следует. О любовь моя, как медленно будет тянуться время до нашей следующей встречи! – Он прикоснулся губами к ее губам и томно поцеловал.
Огромный дворец в Гринвиче опустел, по залам гуляло гулкое эхо. Кроме управляющего и нескольких самых необходимых слуг, в доме остался только двор королевы. Джейн бродила по безлюдным галереям и великолепным покоям, радуясь временной передышке от раздражительности Анны, которая погрузилась в безотрадную тоску. Королева терпеть не могла, когда ей приходилось безвылазно сидеть в своих покоях. Она злилась, что король уехал в Лондон без нее, и страшилась за свое будущее. Настроение у нее беспрестанно менялось, и она срывалась по мельчайшим поводам. Сегодня Джейн получила пощечину якобы за то, что слишком сильно стянула волосы Анны, но она понимала, что королева получает огромное удовольствие, наказывая ее. Досадно было, что самой Джейн нечем ответить. Любая госпожа имела право наказать провинившуюся служанку. Когда Джейн вернулась в спальню королевы, Анна полулежала в постели, опираясь спиной на высокие подушки; ее шутиха, пухлая, веселая женщина, умевшая острить, вовсю старалась разогнать тоску хозяйки. – Какие святые приносят наибольший доход Церкви? – спрашивала она, и дамы пожимали плечами. – Конечно, те, что нарисованы на оконных стеклах! Они не дают ветру увеличивать расход свечей. У Анны это вызвало слабую улыбку. Шутиха взмахнула посохом, прикрепленные к нему бубенцы звякнули. – Какие листья самые чистые? – (Никто не знал.) – Я скажу вам – остролиста, потому что никто не смеет подтирать ими задницу! Дамы усмехнулись. – Хватит! – капризно сказала Анна. – Он мог бы отпраздновать масленичный вторник здесь, в Гринвиче, но нет, ему не терпелось уехать от меня, – причитала она. – Когда-то он не мог и часа провести без меня. – Она накручивала себя до очередного приступа бешенства. Приподнявшись на локте, Анна злобно ткнула пальцем в Джейн. – Единственное мое утешение – это то, что он не смог взять с собой потаскуху Сеймур. Ему пришлось оставить ее здесь ради соблюдения приличий. Нет сомнений, мадам Джейн, вы полагаете, что он бросит меня и женится на вас, бледнолицей корове! Ну уж нет, этого не случится, я вам обещаю! Джейн стояла, сгорая со стыда и понимая, что все смотрят на нее. – Вам лучше уйти, – холодно сказала герцогиня Ричмонд. – С удовольствием, мадам, – ответила Джейн и вышла, высоко подняв голову.
– Король непременно пришлет за мной, раз я теперь чувствую себя хорошо, – убежденно заявила Анна своим помощницам. Джейн, стоявшая в конце группы, как можно дальше от глаз королевы, сомневалась в этом. Однако Анна каждый день в нетерпении ожидала вызова во дворец Йорк. Часы проходили, никаких приглашений не поступало, и она снова погружалась в отчаяние, а на следующий день вновь обретала надежду. И так продолжалось изо дня в день. Ситуация ухудшалась тем, что всадники в королевских ливреях, к нескрываемому отвращению Анны, регулярно доставляли послания от короля Джейн. Та прятала их в рукав и читала наедине. Он любил ее, скучал по ней, скоро они будут вместе. Сам Генрих между тем занимался делами в парламенте, но, как только освободится от них, пошлет за королевой, и тогда они с Джейн воссоединятся. Она целовала его письма и держала их за лифом платья, близко к сердцу. Она тосковала по нему больше, чем могла вообразить. Ей хотелось, чтобы он был здесь, защитил ее от злобных нападок Анны и рассказал, что произошло между ним иархиепископом Кранмером, но, может быть, он это сделает при встрече. Вероятно, такие известия король не стал бы передавать в письме. Анна становилась все более ревнивой. Она беспрестанно следила за Джейн мрачными от злости и подозрений глазами и отыскивала недостатки во всем, что делала опальная фрейлина, давая ей пощечины или отвешивая шлепки за мельчайшие проступки. Однажды королева намеренно ущипнула Джейн за руку ногтями так, что до крови разодрала кожу. Настал день, когда Джейн решила, что с нее хватит. Она всегда носила на шее медальон с портретом Генриха, это давало ей ощущение, что любимый рядом. Обычно украшение скрывалось под воротником с рюшем, который она надевала поверх корсажа с низким вырезом. Но в этот раз Джейн наклонилась поднять брошь, которую уронила на пол Анна, и медальон, выскользнув из потайного места, свесился вниз. – У вас новый медальон? – резко спросила королева. – Да, ваша милость. – Джейн про себя взмолилась, чтобы она не потребовала открыть его. – Это дорогая вещь. Дайте мне посмотреть. – Зачем? – спросила Джейн. – Затем, что я так хочу! – Анна встала и посмотрела на нее в упор; Джейн прикрыла рукой украшение. – Откройте его! – крикнула королева. – Нет! – Джейн не собиралась терпеть издевательств. Анна вышла из себя. Она сорвала медальон с шеи Джейн, причем дернула за цепочку так резко, что с ее пальцев закапала кровь, а потом никак не могла справиться с зажимом. Когда королева увидела портрет внутри, глаза ее вспыхнули от гнева и она грубо сунула медальон обратно в руки Джейн. – Заберите… и его тоже! Будьте любезны! – А потом (Джейн уже вся сжалась в ожидании удара, который непременно последует) лицо Анны скривилось, и она с плачем опустилась на пол. – Если бы я могла уволить вас, то с удовольствием сделала бы это. – Королева всхлипнула. На крики прибежали Маргарет Дуглас и Мэри Зуш. Джейн посчитала за лучшее предоставить им утешение Анны и ускользнула в спальню фрейлин. После этого она старалась держаться подальше от Анны, но это было нелегко, потому что та намеренно выделяла ее. К счастью, настроение королевы улучшилось, когда она узнала, что парламент даровал ей два поместья. – Наверняка это сделано с одобрения короля, – заявила Анна. – Он все еще любит меня больше всех. Госпожа Сеймур, вы не более чем очередная мимолетная фантазия. Сомневаюсь, что он пошлет за вами еще раз. Джейн уже начала привыкать к этим колкостям. Лучше было не обращать на них внимания и не вовлекаться в непристойные перебранки, а потому она взяла себе за правило просто стоять, опустив глаза, и ничего не отвечать.
Повидаться с сестрой тайно приезжал Эдвард. Он нанял лодку и приплыл по реке, послав наперед гонца с сообщением о своем прибытии. Джейн ждала его в парке, скрываясь за купой деревьев. Брат наспех обнял ее. – Я не смел писать тебе, – объяснил он, – но желал, чтобы ты могла оказаться при дворе. Там ни о чем другом не говорят, кроме разрыва короля с королевой. Многие держатся мнения, что Леди не способна зачать ребенка, а некоторые даже утверждают, что принцесса Елизавета – подменное дитя, а преждевременные роды были разыграны. Я слышал разговоры о том, что король женился бы на тебе, если бы мог. Мессир Шапуи замышляет собрать вместе всех, кто желает сместить Леди. Он надеется, что ее враги при дворе объединятся ради этого. Помни совет, который я дал, дорогая сестра. Мы все рассчитываем на тебя. Эдвард оставил Джейн в смятении и заторопился обратно, чтобы никто не успел его заметить. Король женился бы на тебе, если бы мог. Эти слова так и крутились у нее в голове.
На третьей неделе февраля в Гринвич прибыл очередной посланец короля и спросил Джейн. Не обращая внимания на сверкающий злобой взгляд Анны, Джейн вышла в переднюю – все дамы смотрели ей вслед – и стояла там, сжавшись в комок, пока гонец вкладывал ей в руки письмо с королевской печатью и увесистый бархатный кошелек. Открыв его, Джейн увидела, что он полон золотых соверенов. Она не должна принимать ни того ни другого. Эдвард рассердился бы, к тому же теперь у нее гораздо больше причин выглядеть целомудренной. Дамы Анны враждебно наблюдали за ней, а этот молодой человек расскажет королю, как она приняла его подарок. Он будет болтать со своими приятелями, поползут слухи, и все узнают, как вела себя любовница короля. Письма Джейн не открыла. Она поцеловала его с таким благоговением, как подданный лобызает монаршью руку, и вернула гонцу нераспечатанным вместе с кошельком. Потом Джейн встала на колени: – Прошу вас, сэр, от моего имени молите короля понять, что я женщина из хорошей, благородной семьи, дочь почтенных родителей, во всем безупречная. Скажите ему, что нет на свете другого сокровища, которое я ценю выше своей чести, и ни при каких условиях я не стану терять его, даже если бы мне грозила тысяча смертей. Если король желает одарить меня деньгами, я прошу его сберечь их до того дня, когда Господу будет угодно послать мне достойного супруга. Гонец посмотрел на нее с удивленным любопытством, однако поблагодарил и уехал. Джейн стала думать, как отнесется к ее посланию Генрих. Поймет ли он, почему она так ответила? Не дай Бог, чтобы он обиделся! Она начала переживать, правильно ли поступила. Но что еще она могла сделать? Раздумывать было особенно некогда, так как вскоре после этого королева была вызвана в Лондон и они погрузились в суматоху сборов и приготовлений к поездке. Анна триумфально заявила всем: она знала, что король пошлет за ней, стоит ей оправиться, и он хочет вместе с ней отпраздновать день Святого Матфея. – Как это подходит к случаю, – тихо сказала Марджери Джейн, складывая полотенца. – Матфей – святой покровитель надежды!
Глава 19
1536 годДжейн размышляла, будет ли искать ее Генрих, когда они приедут в Йорк, но он не искал. Радость от ожидания скорой встречи померкла. Может быть, Анна оказалась права и его любовь к ней не выдержала испытания разлукой или он почувствовал себя отвергнутым? Джейн сопровождала Анну на мессе в честь святого Матфея, и Генрих прошел рядом, направляясь к алтарю совершить приношения, но не подал вида, что заметил ее. Как она удержалась от слез, Джейн и сама не знала. И как ей смотреть в глаза братьям, Брайану, Кэри и Шапуи, если Генрих покинул ее? А что, если она ждет ребенка? Во время вечернего пира Джейн вместе с другими фрейлинами сидела за столом, стоявшим под прямым углом к главному, установленному на помосте. Она следила, как Генрих мило общается с Анной и изображает из себя заботливого супруга. Ни разу он не взглянул в ее сторону, а когда начались танцы, встал в пару с королевой и весь вечер танцевал только с ней. Джейн легла спать безутешной и отчаянно боролась со слезами. На следующий день от короля тоже не было ни слова. Анна ходила с довольной улыбкой на лице. Она послала за торговцем тканями и портным, заказала атласные чепцы и прочие милые вещицы для своей дочери; громко смеялась со своим братом, когда он пришел навестить ее. У Джейн упало сердце, когда она услышала, как они ликуют по поводу того, что Болейны главенствуют при дворе. К вечеру, когда вдруг поступил вызов от короля, Джейн уже была готова лезть на стену от отчаяния. Что бы ни говорил Эдвард, а теперь, раз она снова оказалась при дворе, ей нужно быть особенно осмотрительной, Джейн знала одно: она страстно желала увидеться с Генрихом наедине в последний раз. А после этого пусть держит почтительную дистанцию. Только Анна улеглась спать, Джейн как на крыльях вылетела из дворца и пронеслась мимо стражи в личный сад, где освещенные лунным светом деревья отбрасывали длинные загадочные тени. Генрих ждал ее, сидя в беседке. Увидев любимую, он вскочил на ноги, обхватил ее руками и закружил. – Джейн! – прошептал король. – Джейн! Как же я скучал по вас! – Я тоже скучала, Генрих! Нежданная смелость удивила ее саму. Как она могла подумать, будто он забыл о ней? – Я хотел приветствовать вас по возвращении намного раньше, – сказал он. – Я думала, вы больше не любите меня, – призналась Джейн. Генрих усадил ее рядом с собой на скамью и, глядя на нее так, словно она была самой Благой Девой, ответил: – Я боялся этого. Но у меня есть долг перед королевой. Любовная связь между нами расстроила ее, я знаю, и я обещал, что не стану искать вашего общества в день праздника. Джейн почувствовала себя так, будто ей дали пощечину. У него есть долг перед королевой! Раньше он говорил, что раздумывает, не оставить ли ее, и собирался просить совета на этот счет у архиепископа Кранмера. Встречался ли он вообще с ним? – Я напрасно пришла сюда, – сказал Джейн, отстраняясь. – Почему? – удивился Генрих. – Больше я не стану расстраивать королеву. – Она отвернулась, силясь скрыть слезы. – Джейн, – сказал он, – у меня есть долг не только перед королевой, но и перед всем королевством. Мне нужен наследник, а женщина, которую раздирает ревность, едва ли сможет зачать. Джейн потребовалось мгновение, чтобы понять смысл его слов. Осознание пришло, как удар. Колоссальные изменения произошли у него в сердце, он не просто вернулся к Анне. Он спал с ней! Это объясняло, почему королева так довольна собой. Джейн залилась слезами. – Дорогая, прошу вас! – Генрих прижал ее к себе. – Мне нужен наследник. Это не меняет моих чувств к вам. Я люблю вас. Она задрожала и освободилась из его объятий, чувствуя, будто все у нее внутри умирает. – Я не имею права на вашу любовь, сэр. Мы поступаем неправильно. – Джейн! – запротестовал Генрих, на лице его отобразилось страдание. – Не покидайте меня! Я взял вас к себе единственной любовницей. Меня очень тронуло послание, которое вы передали мне, вернув мое письмо. Вы вели себя в высшей степени добродетельно. Целомудрие – редкое качество при моем дворе. За это я только сильнее полюбил и возжелал вас. Молю, останьтесь со мной сегодня! Я не могу вынести мысли, что потеряю вас. – Если бы вы только знали, как печалит это меня саму, – пробормотала Джейн. – Мне разбивает сердце мысль, что я должна делить вас с ней. – Это мой долг, – заявил он. – Считайте это государственным делом. Джейн взяла его руку, понимая: она любит его, и будь что будет. Но если Анна снова забеременеет, ее положение станет еще более сомнительным, чем уже было. Никто не должен знать, что они с Генрихом любовники. Джейн застыла: – Не нужно мне было приходить сюда. Здесь, при дворе, и у стен есть уши. Уже и без того слишком много сплетен, и, если нас увидят вот так, люди начнут догадываться, что на самом деле происходит и моя репутация будет разрушена. Генрих сжал ее руку: – Дорогая! Я позабочусь о том, чтобы этого не произошло. Дабы показать всему миру, что люблю вас и почитаю, отныне я стану посещать вас или говорить с вами только в присутствии ваших родственников. Это вас удовлетворит? – Вы знаете, что нет. Но это единственный выход. Джейн опасалась, как бы в результате она не потеряла его, но глаза Генриха были наполнены томлением страсти. – Значит, этого будет достаточно, – сказал король. – Будем надеяться, ваши родные окажутся не слишком бдительными. Джейн подумала об Эдварде. Он-то станет бдить неусыпно. – Последний поцелуй, молю вас, прежде чем вы уйдете, – тихо проговорил Генрих, вставая и заключая Джейн в объятия. Когда она вырвалась из них и побежала по гравийной дорожке к покоям королевы, в голове у нее вертелась лишь одна отчаянная мысль: куда заведет их эта любовь? Казалось, никуда.
Наступил март. Нарциссы танцевали на ветру, подставляя желтые головки солнцу. Двор готовился к возвращению в Гринвич. Эдвард нашел Джейн в саду королевы и сообщил, что мастер Кромвель великодушно освободил свои комнаты во дворце для него и Нан. Джейн уставилась на брата. – Я и не догадывалась, что ты стал таким важным человеком! – воскликнула она. – Если это случилось, то благодаря тебе. – Эдвард так и сиял. – Эти комнаты соединяются галереей с личными покоями короля. Меня и Нан размещают там в качестве компаньонов, чтобы король мог тайно посещать тебя и при этом соблюдались приличия. Тот факт, что мастер Кромвель охотно передал их нам, дает мне повод думать, что он воспринимает интерес короля к тебе всерьез. – Это король придумал способ, как нам быть вместе, – сообщила брату Джейн, ликуя сердцем. Однако Эдварда нелегко было разубедить. – Но ведь содействие Кромвеля что-то значит, разве ты не понимаешь? Он активно поддерживает ухаживания короля. И ненавидит Болейнов. – Но ведь они с королевой заодно. Эдвард приложил палец к губам и отвел Джейн к птичнику. За решетками она увидела птиц, которые перескакивали с жердочки на жердочку или клевали корм. – Они теперь почти ни в чем не согласны. Леди является препятствием для дружбы Англии с императором, а Кромвель и Шапуи сообща трудятся над ее возрождением. Господин секретарь озабочен проблемами торговли королевства с доминионами Империи, так как она сильно сократилась с тех пор, как Англия и Империя перестали быть союзниками. – Откуда ты все это знаешь? Эдвард слегка самодовольно улыбнулся: – Мне сказал об этом сам Кромвель. В последнее время он несколько раз выказывал дружеские чувства ко мне. Похоже, он ищет моего расположения. Я же говорил, что интерес короля к тебе принесет пользу нам всем. Поверь, Джейн, засилью Болейнов приходит конец. – И что, по-твоему, сделает король? – Разведется с Леди, конечно! Это только дело времени. – Из слов его милости у меня не создалось такого впечатления. Он говорил про свое желание обрести наследника. А с архиепископом Кранмером так ничего и не обсудил, хотя намеревался это сделать. Эдварда, казалось, такие мелочи не тревожили. – Джейн, тебе еще многое нужно узнать о короле. Он часто говорит одно, а имеет в виду другое. Иногда он даже выказывает благоволение к тем, кого намерен уничтожить. Джейн неприятно было слышать такие вещи о Генрихе. – Его искренне заботит проблема наследования. Может быть, он думал о женитьбе на мне, – медленно проговорила она, вспоминая слова короля о любви и сказанную в задумчивости фразу о покое, который он обретает в ее присутствии. – Но тот факт, что он не поговорил об этом, вынуждает меня прийти к неутешительному выводу: видимо, король считает наш брак невозможным. – Значит, мы должны заставить его думать иначе, – сказал Эдвард, взял сестру за руку и повел по дорожке в сторону покоев королевы.
Через два дня Эдвард явился в гостиную королевы. Комната была полна дам и джентльменов, которые оживленно беседовали, играли в карты, музицировали или флиртовали. Джейн протолкалась сквозь толпу, чтобы приветствовать брата. По выражению его лица она поняла, что он принес важнейшие новости. Никогда еще она не видела Эдварда таким взволнованным. – Я получил повышение и стал грумом Тайного совета, – гордо сказал он, – и еще мне намекнули, что меня рассматривают на пост главного конюшего. – Он понизил голос. – А благодарить я должен тебя. – Не за что, – сказала Джейн; новость ее впечатлила, ведь главный конюший – важная должность. – Ты добился этого собственными силами. – Нет, Джейн. Это все из-за любви короля к тебе. Я теперь у него в фаворе. У других людей заслуг не меньше, но их оставили без внимания. Джейн заметила на себе недобрый взгляд Анны и предположила, что королеве известно о повышении Эдварда. – Кое-кто этого не одобряет, – пробормотала она. – Леди боится, что теперь ухо короля в моем распоряжении, – тихо произнес Эдвард. – Джейн, тебе не придется больше терпеть ее ненависть. Когда мы переедем в Гринвич и ты поселишься со мной и Нан, то сможешь покинуть службу у нее. – О, это было бы таким облегчением, – призналась брату Джейн. – В последние недели я почти не живу.
Джейн раздумывала, как сообщить Анне о своей добровольной отставке. Написать официальное письмо? Или рискнуть и сказать ей все прямо в лицо? От этой мысли она вся съеживалась. Женщины распаковывали кладь и убирали вещи по местам, а Джейн никак не могла решить свою дилемму. Наконец, опустившись на колени перед сундуком с постельным бельем, она вдруг услышала разговор Анны с братом: – Массовый роспуск, вот что он затеял. – Закрыты будут только мелкие монастыри, – сказал лорд Рочфорд, усевшись на подоконник. Это был темноволосый мужчина, кто-то мог даже посчитать его красавцем, полагала Джейн, и он знал о своей внешней привлекательности. – Попомните мои слова, Кромвель закроет их все, – предсказывала Анна. – Разве он не обещал сделать Генриха богатым? Все монастырские богатства перекочуют в королевскую казну, когда часть следовало бы потратить на образование и благотворительность. Но главная задача господина секретаря – снискать благоволение его милости. Боже, как я ненавижу этого человека! Он слишком много на себя берет. Вы знаете, что мне стало известно, братец? В прошлом году он обсуждал с Шапуи желательность восстановления Марии – этого отродья – в правах на престолонаследие. Рочфорд вскинул брови: – Да что вы! – Но прежде я увижу, как его голова скатится с плахи! – кипятилась Анна. – Он считает, у меня вырваны зубы, но я обладаю большей властью, чем ему кажется. – Она зло глянула на Джейн. – Госпожа Сеймур, хватит таращиться на нас, принесите мне вина. Джейн встала и налила немного рейнского в стеклянный кубок. Она дрожала, чувствуя неприязнь Анны, и больше не могла терпеть ее ни секунды. – Ваша милость, – сказала Джейн, протягивая кубок королеве, – я бы хотела оставить свое место. Анна фыркнула. – Ничто не обрадует меня больше! – бросила она. – И чем скорее, тем лучше. Забирайте свои вещи и уходите прямо сейчас. – С удовольствием, мадам, – ответила Джейн и вышла, но прежде успела заметить, как у Анны от ее дерзости отвисла челюсть, и довольно улыбнулась. Придя в спальню, Джейн вытащила свой дорожный сундук, сложила в него одежду и прочие вещи и послала за грумом, чтобы тот проследил за доставкой поклажи в жилище Эдварда. По пути она встретила Марджери Хорсман, которая поднималась по лестнице. – Я ухожу со службы у королевы, – сказала Джейн. – Буду жить у брата. Не могу больше тут оставаться. Марджери обняла ее: – Я не удивлена. Но буду скучать по вас. – Я тоже, – ответила Джейн. – Я ценю вашу дружбу. Если когда-нибудь у меня будет возможность вознаградить вас за нее, я это сделаю. Она поцеловала Марджери и поскакала по ступенькам вниз, на свободу.
Апартаменты, оставленные Кромвелем, были просторными и красиво убранными – с расписными фризами, позолоченными рейками на потолках и прекрасной резной каминной полкой. Они состояли из трех комнат и уборной, так что у Джейн была собственная спальня, в которой стояла крепкая дубовая кровать с пологом и вышитыми шторами. Бывшая фрейлина завалилась на нее, ликуя, что ей больше не придется быть на побегушках у королевы и выслушивать от нее колкости. Нан была в своей стихии. Она страстно желала приехать ко двору, но даже не мечтала, что это произойдет в такой пышной манере. Нан совсем застращала двоих слуг, заставляя их привести комнаты в идеальный порядок, чтобы все блестело и было готово к появлению короля. Жена Эдварда ничуть не завидовала Джейн, ей с избытком хватало удовольствия от предвкушения того, что скоро она будет развлекать за своим столом самого владыку королевства. В первый вечер, когда Генрих навестил Джейн, он пришел без предупреждения. Дверь, ведущая на его личную галерею, отворилась, и появился он, прекрасный ликом и одетый во все зеленое с золотом. Первым делом ему на глаза попалась Нан. Она была в коричневом платье, с непокрытыми распущенными волосами. Торопливо присев в реверансе, хозяйка упорхнула, чтобы переодеться и принести из дворцовой буфетной холодного мяса и высокий пирог. Генрих усмехнулся ей вслед. – Я слышал, она здесь всем заправляет, – буркнул он. Джейн кивнула и состроила гримасу. Она ожидала визита короля в течение двух последних дней. Предвкушая встречу, Джейн надела платье цвета голубиной грудки, которое ей очень шло, и распустила волосы. Медальон с портретом Генриха висел у нее на шее. – Я поем здесь, просто чтобы ее порадовать, – сказал король, взял руку Джейн и поцеловал. – А потом, полагаю, она и ваш брат удалятся в соседнюю комнату, чтобы, если вы закричите, что я на вас набросился, они услышали и мигом явились на зов. – Он хохотнул. – Надеюсь, у вас нет таких намерений. – Джейн улыбнулась. – А если есть, я лучше сразу закричу. Потом вернулась Нан. Выглядела она более презентабельно и рассыпалась в извинениях: – Это очень скромное угощение, ваша милость. Мой супруг вскоре закончит свои дела и присоединится к нам. – Говоря это, она раскладывала еду по оловянным тарелкам. – Выглядит хорошо, – похвалил Генрих. – Настоящий пир, леди Сеймур! – Он сел и с удовольствием принялся за еду, прижимаясь коленом к ноге Джейн под скатертью. Как приятно было снова оказаться рядом с ним! Вернулся Эдвард и выразил удовольствие по поводу того, что его господин уже прибыл, после чего они очень приятно провели целый час за ужином. Но когда исчез последний кусочек яблочного пирога и Генрих намекнул, что хозяевам пора бы покинуть комнату, Эдвард стал возражать: – Сэр, я так понял, все это было организовано, чтобы защитить репутацию Джейн. Может быть, лучше оставить дверь открытой? – Со мной ее репутации ничто не грозит, сэр Эдвард, – нахмурился Генрих. – Я не сделаю ничего такого, что скомпрометирует ее. Вы и ваша добрая супруга будете в пределах слышимости, и это достаточная защита. Или я не рыцарь, которому известны правила рыцарской чести? – О нет, нет, ваша милость, у меня и в мыслях этого не было, – поспешил заверить короля Эдвард. Генрих хлопнул его по спине: – Я знаю. Вы должны простить мне горячность влюбленного. Уверен, вы чувствовали то же к прекрасной Нан. Та радостно встрепенулась, услышав комплимент. Эдвард с гордостью посмотрел на жену. – Я и сейчас это чувствую, – галантно сказал он. – Пойдем, Нан, мы удалимся в спальню. Желаю вашей милости доброй ночи. Это был первый из множества вечеров, которые Джейн провела с Генрихом, сидя у камина, разговаривая с ним, слушая, как он читает стихи, играет на лютне и поет чистым тенором, или занимаясь тем, что обычно делают влюбленные. Поцелуи быстро сменялись ласками, а потом он укладывал ее на ковер перед очагом, и они лежали там вместе, давая и получая удовольствие. Джейн испытывала захватывающие новые ощущения, которые возникали в ее теле. Проходило немного времени, и они прокрадывались в ее спальню, где занимались любовью в постели. Джейн снова и снова отмахивалась от страхов забеременеть. Пока им везло, и это придавало ей храбрости. Кроме того, ее чувства к Генриху постепенно углублялись. И он тоже вовсе не терял к ней интереса, напротив, становился все более пылким. Она чувствовала, что они были и друзьями, и любовниками. Временами маска влюбленного спадала, и Джейн улавливала под ней черты страдающего человека. Генриха глодала изнутри навязчивая мысль о необходимости иметь наследника, и при упоминании об Анне он недовольно поджимал губы. Джейн было жаль его. Он перевернул мир вверх дном, чтобы получить Анну, и теперь пожинал горькие плоды. – Я понимаю, почему он любит вас, Джейн, – сказала Нан. – После этой мегеры вместо жены вы должны казаться ему нежной овечкой.
Начало марта принесло с собой теплую погоду, и Эдвард пригласил Джейн прогуляться с ним по парку Гринвича. Они взобрались на холм позади дворца, на вершине которого стояла старая башня с красивым названием Мирефлорес. Правда, башня была давно заброшена, и вокруг нее царил дух упадка и запустения. Внутрь они не вошли, а уселись на травянистом склоне и стали смотреть на впечатляющий вид внизу – дворец и широкую реку за ним. Эдвард огляделся и сказал: – Слава Богу, рядом никого! Джейн, мне нужно поговорить с тобой. Прошлой ночью состоялась встреча, организованная мессиром Шапуи в его лондонском доме в Остин-Фрайарсе. Он собрал всех, кто хочет видеть Леди разведенной. – Ты там был? – поинтересовалась Джейн. – Да, с нашими братьями. С прошлого года Шапуи выказывает все большее дружелюбие к нам. Он считает, что настало время действовать. Леди ненавидят при дворе и во всем королевстве. Анну и ее сторонников обвиняют в появлении недавно изданных суровых законов. Некоторые негодуют на нее за продвижение того, что считают ересью, и за религиозные реформы, которые она спровоцировала. И хотя сам я не сожалею о содеянном, но, разумеется, согласен с тем, что Леди виновна в упадке торговли с Империей. – Я думаю, она совершенно не подходит для того, чтобы быть королевой, – сказала Джейн. – Многие из подданных короля согласны с тобой, как я слышал, особенно женщины. Они ненавидят ее за то, что она захватила место всеми любимой старой королевы, и считают ответственной за казнь сэра Томаса Мора, епископа Фишера и картезианцев. Джейн сняла накидку. Солнце пригревало, было не по сезону жарко. – Она умудрилась отвратить от себя нескольких друзей короля и лордов, даже собственного дядю. – Я воздержусь от упоминания того, что говорят о ней за границей, – сказал Эдвард. – В основном это ругательства. Уверяю тебя, Джейн, у нее найдется немного защитников, если король решит расстаться с ней. А это возвращает меня к Шапуи и тому, зачем он созвал нас всех. Он уверен, надежды на возвращение принцессе Марии прав на престол могут оправдаться, только если ты станешь королевой. Нет, Джейн, позволь мне закончить! Всем известно, что ты любишь и почитаешь принцессу, и Шапуи высокого мнения о тебе как о добродетельной и сердечной леди. Это было приятно. – Но король не подал и намека, что собирается развестись с королевой. Почему вы с Шапуи решили, будто он сделает это? – В дело вовлечены не только я и Шапуи, – ответил Эдвард, ложась на траву. – На встрече присутствовали еще несколько людей, которые решительно намерены свергнуть Анну Болейн и всю ее фракцию. Брайан и Кэри, лорд и леди Эксетер, лорд Монтегю и другие из семейства Поул. – Но ведь они кузены короля! – ахнула Джейн. – Ага, и у всех есть притязания на престол, так как они из древнего рода Плантагенетов. Король не доверяет им не только из-за происхождения, но и потому, что они религиозные консерваторы и сторонники почившей королевы. Они реакционеры, но королевских кровей, а значит, обладают влиянием. – И они захотят поддерживать меня, дочь рыцаря, в том, чтобы я стала королевой? – Джейн с трудом верилось в это. Эксетеры и Поулы были надменными и важными господами, гордились своим благородным происхождением. – Они во всеуслышание восхваляли тебя, поверь! – успокоил ее сомнения Эдвард. – Лорд Эксетер сказал Шапуи, что он без раздумий прольет свою кровь за принцессу. – Леди Эксетер любила старую королеву. Бывало, она тайком передавала ей письма от Шапуи. – Джейн восхищалась этой храброй, решительной женщиной, страстную натуру которой подпитывала испанская кровь: ее отец женился на одной из фрейлин, которые прибыли вместе с почившей королевой из Испании. – Кэри дружен и с ней, и с ее мужем, так же как и леди Солсбери, мать лорда Монтегю. – И она была на встрече? – Да, специально приехала из Гемпшира, чтобы участвовать. И она тоже за тебя. – А сама принцесса? Она знает об этой встрече и ее целях? Эдвард улыбнулся: – Шапуи заверил нас, что Мария одобряет его затею. Он тайно сообщает ей о происходящем. Поверь мне, принцесса согласится на все, лишь бы избавиться от Леди. Она ненавидит ее, а к нам, Сеймурам, выразила горячую любовь. – Он в упор посмотрел на Джейн. – Ясно, что Анна как королева не состоялась. Скоро король сам увидит это, если уже не увидел. И тогда – Джейн, только подумай! – ты можешь ожидать великих перемен и славного будущего. Потому что кое-чего я еще не сказал. На встрече вчера вечером присутствовал еще один человек, более могущественный, чем все прочие, вместе взятые, – сам господин секретарь Кромвель! – Кромвель? – повторила за братом Джейн. – Святые угодники! – Он друг и сосед Шапуи, к тому же стремится к союзу с Испанией. Леди – помеха ему, и он знает, что она его ненавидит. – Я слышала, как она поносила Кромвеля в разговоре со своим братом, – сказала Джейн. Эдвард сел: – Я, конечно, симпатизирую Марии и готов бороться за ее права, как и ты. Но если король женится на тебе, ваши сыновья потеснят ее в очереди на престолонаследие. Вот что должно быть нашей конечной целью: король Сеймур на троне Англии! Джейн понимала: ей следует радоваться такой перспективе, но вместо этого она встревожилась. Смущала ее не откровенная амбициозность Эдварда – ничего иного от него ждать не приходилось, – а образы, которые вдруг пронеслись в голове: Анна кричит в родовых муках; она в отчаянии от потери сыновей; мечется в тревоге, что не родит принца. Джейн вспомнила Екатерину, которая тоже не выполнила этого долга перед супругом, что и разрушило ей жизнь. Если она выйдет за короля, ее ждет та же участь, и однажды враги могут замыслить свержение неугодной королевы Джейн. Впервые ей ясно представилась абсолютная реальность такого развития событий. Эдвард наблюдал за сестрой: – Почему ты помрачнела? Большинство женщин пришли бы в восторг от перспективы стать супругой короля. – Предположим, я тоже не смогу родить ему сына? – прошептала она. – Чушь! Мы, Сеймуры, весьма плодовиты. Мать произвела на свет десятерых. Взгляни на наше фамильное древо! Мы размножаемся как кролики. И это одна из причин, почему тебя следует предложить в жены королю. – Ты говоришь обо мне, как о призовой телке. Эдвард пожал плечами. – Так устроен мир, – многозначительно заключил он. – Любой крестьянин хочет иметь сына, который унаследует его свинью!
Вскоре Джейн заметила, что придворные короля начали относиться к ней с новым почтением. Она чувствовала, как день ото дня растет ее влияние. Люди искали благосклонности новой фаворитки короля, а некоторые даже предлагали подарки, чтобы заручиться поддержкой, но Джейн отвергла их все до единого. Пусть поймут, что ее нельзя подкупить, и в любом случае она не хотела, чтобы Генрих думал, будто возлюбленная использует его, желая добиться привилегий для своих друзей. Леди Эксетер улыбалась ей всякий раз, как они мимоходом встречались при дворе, а однажды остановилась, когда оказалась с ней одна в пустой галерее и тихо сказала: – Вы делаете прекрасную работу, госпожа Джейн. Продолжайте в том же духе. Мы все рассчитываем на вас, – после чего пошла дальше. Братья Джейн тоже оказались в центре внимания. Люди тянулись к ним как к восходящим звездам двора, лебезили перед ними и искали их покровительства. Они пользовались этим с выгодой для себя. По ночам Джейн часто лежала без сна, размышляя, какова во всем этом роль Генриха. Он не мог не замечать интереса публики к ней. Думал ли он по-прежнему о возможности избавиться от Анны? Самой Джейн он ничего больше об этом не говорил. Эдвард с Томасом постоянно убеждали ее держать короля на расстоянии, блюсти добродетель и стремиться заполучить главный приз. – Ты ни при каких условиях не должна уступать желаниям короля, кроме как путем брака, – требовали они. «Как бы заговорили братья, – думала Джейн, – если бы узнали, что происходит каждую ночь в апартаментах Эдварда и как она своими методами привязывает к себе Генриха?»
Был конец марта. Эдвард вернулся в свою квартиру в состоянии крайнего возбуждения, что для него было необычным. – Я только что видел Шапуи, – сообщил он удивленной Джейн, которая в этот момент расставляла в вазе весенние цветы. – Он возвращался от Кромвеля, и тот сказал ему, что, как он полагает, его милость, падкий на женщин, отныне будет вести более целомудренную жизнь и больше не изменится. Джейн выронила ножницы, и они с лязгом упали на стол. – Значит, он останется с Леди. – У нее защемило сердце. Эдвард фыркнул и схватил ее за плечи: – Нет, Джейн. Говоря это, Кромвель усмехался. Он имел в виду, что король не изменится, раз он выбрал тебя. Так понял его Шапуи. – (Джейн облегченно вздохнула.) – У нас сложилось впечатление, что Кромвель теперь готов на все, лишь бы избавиться от Леди. Она открыто порицала его за то, что он уступил нам свои комнаты. Обвиняла в коррупции и грозила поставить короля в известность о том, что, прикрываясь Евангелием и религией, Кромвель преследует собственные интересы. – Полагаешь, это правда? – спросила Джейн, втайне радуясь, что своими поступками Анна еще сильнее настраивала против себя Кромвеля. – Это не важно. Она в этом уверена. Кромвель сказал Шапуи, что она хотела бы увидеть, как его голова слетит с плеч. – Неужели она зайдет так далеко? Нет, Кромвель всегда был неуязвим. – Сомневаюсь, что ее желания сейчас много значат для короля. – Но она умна, Эдвард. Мастеру Кромвелю лучше поостеречься. – Я уверен, он лучше других знает, как о себе позаботиться. Когда Эдвард ушел, Джейн села и задумалась. Если Кромвелю было известно нечто такое, чего не знали они, значит вся партия противников Леди несется вперед, закусив удила, не имея в своем распоряжении одного важнейшего преимущества. Генрих с зимы не подавал признаков того, что намерен избавиться от Анны.
В тот вечер он пришел к Джейн. В последние дни она напряженно ждала, не даст ли он какого-нибудь намека, каким видится ему будущее, но сегодня король имел озабоченный вид. И когда Эдвард постучал в дверь и спросил, не хотят ли они еще вина, Генрих с благодарностью принял предложение и выпил все одним махом. – Сегодня мне доставили «Valor Ecclesiasticus», Джейн, – сказал он. – Это обзор религиозных домов, который подготовил мастер Кромвель. Как вы знаете, его посланцы объехали все мелкие монастыри. Сердце Джейн наполнилось страхом. – Многие явно лишние, если говорить об их количестве и доходах, – продолжил Генрих, – а кое-где мораль не на высоте. – Он вздохнул. – Я намерен просить парламент издать акт об их роспуске. Джейн подумала о бедных монахах и монахинях, которые останутся без средств к существованию. Большинство этих мелких аббатств и приоратов в течение столетий были бастионами веры и опорой для местных общин. А теперь их закроют, и Англия из-за этого только обеднеет. Непостижимо, как Генрих мог пойти на такой шаг. – Мне очень жаль тех, кто окажется на улице, – осмелилась сказать она. Генрих налил себе еще вина: – У них есть выбор. Им предложат пенсию, если они захотят вернуться в мир, в противном случае они смогут поступить в какой-нибудь более крупный монастырь. Это, по крайней мере, давало надежду, что все не так плохо. Не мог же король закрыть вообще все монастыри. Может быть, он прав и эти маленькие аббатства действительно погрязли в распущенности или не могли сами себя содержать? И тем не менее невозможно, чтобы во всех подряд царили разврат и нищета! Джейн хотелось протестовать: нет, нет, Генрих ошибается, нельзя распускать все святые обители, однако привычка к покорности за долгие годы укоренилась в ней слишком глубоко. – Ну-ну, не надо. И что это у вас такой скорбный вид? – пожурил ее Генрих. – Монастыри пребывают в упадке уже давно. Вам известно, что за последнее столетие в Англии было основано только два новых? – Король прищурился. – Некоторые до сих пор хранят верность епископу Рима, а я этого не потерплю. – Простите, Генрих, – сказала Джейн, – просто я всегда относилась с большим почтением к нашим местным аббатствам. Монахи и монахини в них вовсе не стремились к мирским благам и не были порочными. По своему скудному разумению, я всегда считала их сияющими образцами веры. – Говоря это, Джейн вспомнила приорессу Эймсбери и сама поняла, что сказанное ею не вполне правдиво. Генрих любовно взглянул на нее и взял за руку: – Вы наивны, дорогая. Мои посланцы обнаружили такие вещи, которые мне совестно пересказывать вам. Я очищу Церковь в своем королевстве, избавлю ее от любых признаков разложения. Вы же не хотите, чтобы в монастырях процветали разные порочные практики, верно? – Нет, – согласилась Джейн, – конечно не хочу. Но когда эти маленькие монастыри распустят, кто станет заботиться о больных и нищих, учить детей или давать приют путникам? Генрих нахмурился и выпустил ее руку: – Сомневаюсь, что в этих обителях разврата особенно много занимаются этим. У вас слишком мягкое сердце, Джейн, хотя это одна из причин, почему я люблю вас. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Она улыбнулась и вняла предупреждению: – Конечно. Я сегодня стреляла по мишеням. И собиралась сказать вам… Я выиграла! Генрих наклонился и поцеловал ее: – Умница!
Глава 20
1536 годВ первый день апреля Джейн сидела в апартаментах с Нан, подшивала оторванный подол и наслаждалась теплом солнечных лучей, бивших в решетчатые окна. На улице деревья стояли в полном цвету, и весь мир выглядел обновленным и манящим. Однако в доме все было не так безмятежно и лучезарно. Проблемой была Нан. В компании с ней не расслабишься. Джейн полагала, что, несмотря на внешнее самодовольство, Нан завидует ей. Она никогда не хвалила наряды Джейн, хотя Джейн часто делала ей комплименты по этому поводу. Кроме того, Нан была мастерицей в искусстве завуалированного снобизма и затевала споры по любому поводу. Если Джейн говорила, что ей нравится какая-то вещь, Нан не соглашалась с этим, казалось, из чистого принципа и отстаивала свою точку зрения до победного конца. И всегда-то ей нужно было доказать, что она права. Джейн надоело, что ее мнение постоянно критикуется, пусть даже весьма тонко. Нан могла иногда составить хорошую компанию, потому что обладала злым чувством юмора и умела едко поддеть любого. Но сегодня она была в агрессивном настроении, и они все утро переругивались. Джейн решила, что пойдет в парк, как только закончит свою работу, возьмет с собой немного хлеба, сыра и бутылку эля, найдет какое-нибудь тихое местечко и посидит одна за вышивкой, подальше от всяких надоедливых просителей, которые осаждали ее, и острого языка Нан. Как приятно было бы вместо этого проводить время с сестрами. Они иногда писали ей, и Джейн была рада узнать, как счастливо жилось Дороти с Клементом, хотя известие о финансовых затруднениях Лиззи в Йоркшире обеспокоило ее. Ей хотелось как-то помочь сестре. Может быть, скоро она будет в состоянии сделать это. По крайней мере, с детьми все было хорошо, они росли здоровыми. Скучала Джейн не только по сестрам, но и по своим подругам, служившим у Анны, особенно по Марджери Хорсман. Ей не хотелось сталкиваться лицом к лицу со своей соперницей или оказываться где-нибудь поблизости от апартаментов королевы, в связи с чем было почти невозможно повидаться с кем-нибудь из старых приятельниц, а учитывая, какую ненависть питала к ней Анна, им тоже было непросто поддерживать контакты с Джейн. Кто-нибудь мог увидеть их и донести королеве. С грустью ощущая себя изолированной от родных и друзей, Джейн уложила платье в сундук, собрала свою корзинку и вышла из апартаментов, молясь, чтобы Нан не предложила пойти с ней. Но та ожидала скорого возвращения Эдварда и явно хотела побыть с ним наедине. Направляясь через сад в сторону парка, Джейн услышала властный голос, который звал ее. Она обернулась и увидела сэра Николаса Кэри и леди Эксетер. Они спешили к ней. – Мы надеялись встретить вас, госпожа Джейн. Можем мы поговорить? – В устах маркизы это прозвучало приказанием. – Разумеется, миледи, – ответила Джейн, делая реверанс. – Прогуляйтесь со мной и вы, сэр Николас. Кэри изящно поклонился, и вскоре они уже шагали по лугу. – Для вас не секрет, что мы желали бы видеть некую персону повергнутой, – начала леди Эксетер, оглянувшись, дабы удостовериться, что их никто не услышит. – Мы и другие ваши друзья преследуем эту цель в надежде увидеть вас взошедшей на то место, где вам положено быть ради всеобщего блага. – Я очень благодарна вам, миледи, и вам, сэр Николас. Джейн про себя недоумевала: что последует дальше? Леди Эксетер широко улыбалась. Это была крупная женщина лет тридцати пяти, с большими черными глазами и решительным подбородком. Ее капор в форме фронтона был расшит драгоценными камнями, лиф черного бархатного платья украшали нити крупного жемчуга, а позади нее тянулся длинный шлейф. На пальцах сверкали кольца. Эта благородная дама принадлежала к самому высшему обществу, в чем невозможно было усомниться. – Вчера вечером мой муж маркиз и я устраивали ужин для мессира Шапуи. На нем присутствовали лорд Монтегю и другие люди, которые разделяют наши взгляды, включая сэра Николаса. Шапуи доверительно сообщил нам о донесении, которое он получил из Франции, о том, что король Генрих ведет переговоры о браке с дочерью короля Франциска. Прекрасный весенний день вдруг перестал радовать Джейн. Так вот о чем вел речь Кромвель, говоря, что король обрел постоянство и больше не изменится! Эти добрые люди строили воздушные замки. Джейн не могла сдержать дрожь. Вот, значит, в чем причина молчания Генриха. Разумеется, он хотел жениться на принцессе, но Анна не была принцессой, однако стала его супругой. А ее, Джейн, он любил, в этом она не сомневалась. – Вероятно, это просто слухи, – вмешался в разговор Кэри, с тревогой глядя на Джейн, – но нам нужна ваша помощь. Она сглотнула: – И чего вы от меня ждете? – Мы хотим, чтобы вы подвигли короля принять решение насчет брака, – объяснила леди Эксетер. Джейн покачала головой: – Увы, миледи, это очень деликатная тема. Он сам никогда не упоминает об этом, а я не хочу, чтобы у него создалось впечатление, будто я преследую какие-то свои цели. И если ведутся переговоры о французском браке, меня это не касается. – Она услышала в своих словах горечь. – Это всех касается, – строго сказала леди Эксетер, – и вы находитесь в наилучшем положении, чтобы помочь. Вам самой это может принести неизмеримую пользу, но даже если все закончится брачным союзом с Францией, вы все равно окажете большую услугу этому королевству. Джейн была непреклонна: – Я не хочу обсуждать брак с королем. Это будет нескромно и слишком прямолинейно. – Тактика, Джейн, тактика! – улыбнулся Кэри. Была какая-то кошачья грация в этом высоком, представительном мужчине, который находился ближе многих других к королю, к тому же от него веяло практичностью, даже приземленностью, что вселяло в Джейн уверенность. – Вам нужно зайти издалека. Скажите его милости, что многие люди не принимают его брак и никто не считает его законным. – Прямо так и сказать, в открытую? Джейн не могла представить, что сделает это. – Скажите, что были в городе, на рынке или еще где-нибудь и услышали слова, которые вас обеспокоили. Скажите, мол, вы боитесь, что англичане никогда не признают Анну истинной королевой. Что они порицают ее пристрастие к ереси. А самое главное, постарайтесь завести разговор об этом в нашем присутствии, мы вас поддержим и поклянемся своей верностью королю, что вы говорите правду. В следующую субботу леди Эксетер устраивает ужин для его милости. Я буду там, и Фрэнсис Брайан тоже, и ваши братья, так что моральная поддержка вам обеспечена. Джейн просили активно участвовать в заговоре против Анны. Она не стала колебаться. На кону стояли корона, королевство и истинная религия. Самым важным для нее было понять, в каких отношениях они находятся с Генрихом и каковы его намерения. – Я сделаю это, – согласилась она. Джейн не желала причинить вред Анне, хотела только устранить ее с незаслуженно занятого места, пока она не натворила еще больших бед. – Прекрасно! – лучась улыбкой, воскликнула леди Эксетер. – Моя дорогая, вы поступаете правильно. Держитесь своего решения. Его милость уважает вашу добродетель, но он король, и не одна дама склонилась перед силой его убеждения. Будьте осторожны: многих очень быстро отбрасывали прочь. – Мне это известно, – сказала Джейн. – Не бойтесь: честь – мое самое ценное сокровище. – Она почувствовала, что краснеет. – Продолжайте держаться той же линии, и вы получите корону, – с улыбкой сказала леди Эксетер. – Если на то будет воля Божья, – ответила Джейн, чувствуя, что земля уходит у нее из-под ног. Но может быть, французский брак – это только слухи, как сказал Кэри. Не стоит придавать слишком большого значения этому донесению. Известия, приходящие из-за границы, часто оказываются ложными. Слова леди Эксетер о непостоянстве короля привели ей на память Марию Болейн, и Джейн поделилась со своими собеседниками уверенностью в том, что любовная связь короля с сестрой королевы поставила под запрет его брак с Анной. – Шапуи знает об этом, – сказал Кэри, – но, вы говорите, король тоже все понимает и тем не менее не разрывает этот союз? – Он собирался обсудить вопрос о своем браке с архиепископом Кранмером, но я не думаю, что такой разговор состоялся. Король упоминал о своих надеждах обрести сыновей с Леди и еще сказал, что не может понапрасну терять время. – Боже мой! – взорвался Кэри. – Не слишком ли много тягот для его знаменитой совести! Ну, Джейн, вы можете поставить перед королем еще один вопрос, но его, вероятно, лучше обсудить без свидетелей. – Пожалуй, я приглашу на ужин мессира Шапуи, чтобы он мог подтвердить слова Джейн, – встряла леди Эксетер. – Пошлю ему записку сейчас же.
Когда они ушли, Джейн опустилась на землю под большим дубом и попыталась поесть, однако принесенная с собой пища показалась ей безвкусной. Ее тревожили слова леди Эксетер о непостоянстве Генриха. Неужели она проявила глупость, вообразив, что он снизойдет до женитьбы на ней? Джейн похолодела от стыда, представив, как Генрих бросает ее. А чем, собственно, она лучше других? Она любила его и в мыслях считала своим. Если Генрих перестанет любить ее, она будет в отчаянии. Через некоторое время Джейн заставила себя взяться за вышивку. Она не станет сидеть здесь и томиться печалью. «Генрих меня любит, и это не подлежит сомнению», – твердо сказала себе Джейн. Часам к пяти, заканчивая вышивать гладью кайму на чепце, она подняла взгляд и увидела скакавшую к ней на лошади через парк леди Эксетер. Маркиза остановилась и спешилась, потом привязала коня к ближайшему дереву и тяжело опустилась на траву рядом с Джейн. – Я рада, что застала вас здесь, – сказала она. – У меня хорошие новости. Мессир Шапуи придет ко мне на ужин в субботу. Я только что виделась с ним. Он как раз вернулся из испанского посольства, где обедал с лордом Монтегю. Шапуи много чего рассказал, но, главное, заверил меня, что будет поддерживать вас при любой возможности. Испания враждует с Францией, и он сделает все, что в его силах, дабы помешать французскому браку. Он хорошо относится к вам, так как считает, что вы способны помочь принцессе, тогда как никакая французская невеста не станет вступаться за ее права. – Это хорошая новость, – сказала Джейн, – но не было ли сказано еще что-нибудь о французском браке? – Многое! Но не спешите, моя дорогая, и не волнуйтесь! За обедом лорд Монтегю упомянул о том, что слышал разговоры о новом браке короля. Он сказал Шапуи, что мы все озабочены плохим состоянием дел в этой стране и что Леди на ножах с мастером Кромвелем. Перед тем как я увиделась с Шапуи, он побывал у мастера Кромвеля, и тот сказал ему, что Леди его ненавидит – Кромвеля, я имею в виду – и добивается его казни. Потом – и это важно, моя дорогая, – он спросил, как отнесется император к новому браку короля. Шапуи заверил его, что мир никогда не признает Анну Болейн истинной супругой его милости, но может принять другую леди. – Но кого? – Имен не называли, но Кромвель не дурак. Ему известно, что Шапуи никогда не одобрит французский брак. Если король хочет дружбы с императором, ему лучше не жениться на принцессе из Франции! Я уверена, на этот счет вы можете быть спокойны. Джейн отложила вышивку. Она заметила, что леди Эксетер посмотрела на ее работу с восхищением. – Значит, Шапуи намекал Кромвелю, что Леди неплохо бы сместить. – О да! Он выразил такую мысль: мол, если король действительно задумал новый брак, то это неплохой путь избежать многих бед и наилучший способ защитить самого Кромвеля от недоброжелательства Леди. И добавил, что третий брак пойдет королю на пользу, ведь его милость теперь убедился: его союз с Леди никогда не будет признан законным. А еще Шапуи сказал, что обрадовался бы рождению у короля наследника, хотя это и повлияло бы на тронные перспективы леди Марии. Вы должны знать, Джейн: то, что говорится Кромвелю, немедленно передается королю, значит основание для вашей дальнейшей работы заложено. – А что ответил Кромвель? – спросила она, вновь запылав надеждой. – Напустил туману, как обычно. Сказал, что, если его постигнет участь кардинала Уолси, он вооружится терпением, а остальное предоставит на волю Господа. Потом заявил – и Шапуи уверен, он говорил это с иронией, – что отныне король будет жить честно и целомудренно, продолжая свой брак. Но тут же добавил, мол, французы могут не сомневаться в одном: если король и возьмет другую жену, то подыщет себе супругу не среди них. – (Джейн почувствовала, будто с ее плеч сняли тяжелую ношу.) – Естественно, – продолжила леди Эксетер, – Шапуи вздохнул спокойнее, услышав это, и, я уверена, вам тоже не стоит волноваться, моя дорогая. А Кромвель намекнул, что предпринимаются некие действия с целью свержения Леди, и, если они приведут к успеху, сам Кромвель не станет ее поддерживать. – Интересно, что это за действия? – задумчиво спросила Джейн. – Кто знает? Наша задача – немного подтолкнуть короля! – Леди Эксетер встала и натянула на руки перчатки для верховой езды. – А теперь я должна вас покинуть, моя дорогая, мне нужно передать последние новости нашим друзьям. Если вы сообщите обо всем своим братьям, я буду вам весьма признательна. – Я все им расскажу сейчас же, – сказала Джейн, подскочила и схватила свою корзинку. – Они будут рады.
– Думаю, рыбка на крючке, – сказал Брайан, когда Джейн передала ему, своим братьям и Кэри содержание беседы с леди Эксетер. – Надо сообщить вашим родителям, что вскоре они наконец-то увидят вас в законном браке, да еще каком! Я сам напишу им. – Не слишком ли вы спешите? – спросила Джейн, пытаясь представить себе, какое впечатление эта новость произведет на мать. Она не хотела возбуждать в родителях необоснованные надежды. – Король ничего не говорил мне. – Он скажет, не сомневайтесь! – уверенно заявил Кэри. – И если король получит развод, фактически это станет признанием законности его брака с королевой Екатериной. Таким образом, принцессе будет расчищен путь к восстановлению в правах наследования. Джейн увидела, как дрогнула улыбка на лице Эдварда, а брови Томаса сдвинулись к переносице. Разумеется, у них были свои амбиции. – Не слишком рассчитывайте на это, – предупредил Брайан. – Шапуи надеется на такой исход, но захочет ли король публично признать, что устранение Екатерины – ошибка и папа всегда был прав? Эдвард подал голос: – Думаю, его милости следует твердо оставить позади два своих брака и заключить третий, который не будет замутнен никакими сомнениями из прошлого. – Леди может оказать сопротивление, – заметила Джейн, – она будет как заноза в боку у короля. – Без него она ничего не значит, – небрежно отмахнулся Брайан. – Пока он ее любил, она была неуязвима, но любовь иссякла, это видно. А крысы всегда бегут с тонущего корабля, уж вы мне поверьте. Какой прок поддерживать павшую королеву?
Джейн стояла со своими братьями и Нан в дальнем конце Королевской капеллы. Было пятое воскресенье Великого поста, и духовник королевы, отец Скип, взбирался на кафедру. Над головами у них находилась королевская ложа, где должны были сидеть Генрих с Анной. На другой стороне нефа, немного впереди, виднелась могучая фигура мастера Кромвеля, рядом с ним стоял Шапуи. – Кто из вас обвинит меня в грехе? – раздался голос священника. – Это не я нападал на Церковь! Король должен проявлять мудрость и не уступать злым советникам, которые толкают его на неблаговидные дела. А советникам короля следует хорошо подумать, прежде чем давать советы по изменению старых порядков. По собранию пронесся ропот. Люди переглядывались, удивляясь, как это отец Скип осмелился публично порицать короля. Джейн задрожала от страха за него. Генрих наверняка разозлится, в этом она не сомневалась. Однако священник не унимался: – Вспомните пример царя Агасфера, которого злонамеренный советник подговорил обрушиться на евреев, – продолжил он. – Этим советником был Аман, который также намеревался повергнуть супругу Агасфера Эстер. Но после того как Эстер раскрыла гнусный заговор и спасла евреев от преследований, Аман получил справедливое воздаяние – его повесили. И таким образом одержала победу добрая женщина, которую царь Агасфер очень любил и которой доверял, потому что знал: она всегда была ему другом. Джейн поморщилась. Анна наносила ответный удар. Ни у кого не могло возникнуть сомнений, что эта проповедь – ее затея, предупреждение Кромвелю, который стоял тут же с полуулыбкой на устах и всем своим видом показывал, как его забавляет это сравнение со злым советником Аманом. Фактически Анна объявила войну своему опаснейшему врагу. Но кого поддержит король? Скип продолжил опасную речь: – Среди прочих своих злодеяний Аман убедил Агасфера в том, что в результате уничтожения евреев царская казна к личной выгоде правителя пополнится на десять тысяч талантов. Так же и в наши дни мы имеем основания сокрушаться, что корона, введенная в заблуждение дурным советником, хочет отнять собственность Церкви и завладеть ею. Мы можем только сожалеть об упадке университетов и молиться о том, чтобы необходимость в образовании не была упущена из виду. Анна могла бы и сама сказать все это. Ну не безумие ли – стыдить Генриха публично и провоцировать таким образом его гнев? Но худшее было впереди. Скип обвел паству строгим взглядом: – Однако порочность кроется не только в ограблении Церкви. Вспомните пример царя Соломона, который утратил истинное благородство в угоду плотским желаниям, взяв слишком много жен и наложниц. Это уже и вправду заходило слишком далеко. Однажды Генрих с гордостью продемонстрировал Джейн изысканную миниатюру мастера Гольбейна, где тот изобразил его в образе Соломона, мудрейшего из царей. Она понимала, что все безошибочно определят, кого имел в виду отец Скип. Люди косились на саму Джейн, потому что в диатрибе священника содержался намек и на нее.
Придя повидаться с возлюбленной вечером того же дня, Генрих продолжал кипеть от негодования. – Мне очень жаль, дорогая, что в этой проповеди и вам, и мне была нанесена обида, – сказал он, сверкая стальным взглядом. – Я отругал священника за его клеветы. Он унизил не только нас, но и моих советников, моих лордов и дворян, и весь мой парламент. Генрих не мог не понимать, кто стоит за всем этим, однако Анну он не упомянул, и Джейн не хотелось открыто критиковать ее. Тем не менее это была возможность, которой она ждала. – Мне жаль мастера Кромвеля, – сказала она. – Быть вот так публично униженным – это ужасно. Но хуже всего оскорбление, нанесенное вам, Генрих. Ни один подданный – ни мужчина, ни женщина – не должен думать так о своем короле или королеве. – Джейн сделала легкий упор на слове «женщина». – Вы полагаете, он сам решился сказать все это? – Я знаю, кто подговорил его! – фыркнул Генрих. – Невероятно, чтобы женщина поступала так со своим супругом, которого обязана любить и почитать! – притворно изумлялась Джейн, качая головой. – Особенно притом, что вы высоко вознесли ее и столько для нее сделали. Генрих прищурил глаза. Казалось, он жалел самого себя. – Похоже, моя судьба – быть несчастным в женах. Екатерина не подчинялась мне, а теперь Анна стыдит меня прилюдно. Она не знает меры. Я устал от ее капризов и споров с ней. Мне не следовало бы говорить об этом вам, Джейн. Но вы так не похожи на нее! Стоит мне подумать об этой пародии на брак, куда меня затянуло, как в ловушку, и я едва не плачу от ярости! Он так крепко сжал кулаки, что костяшки пальцев побелели. – Генрих, мне очень жаль, – сказала Джейн, думая, что на сегодня с нее достаточно слов. Она протянула руку и накрыла ладонью его кулак. – Вы можете говорить со мной в любой момент, когда вам это понадобится. Он немного расслабился и погладил в ответ ее руку: – Вы как ангел, Джейн. Я знаю, Господь послал вас мне не напрасно.
Леди Эксетер изрядно постаралась над приготовлением ужина. Столы, накрытые сияющими белизной скатертями, ломились от блюд с жареным мясом, высокими пирогами, каплунами под соусом и огромным паштетом из оленины, при виде которого Генрих алчно засверкал глазами, потому что это было его любимое кушанье. Вино текло рекой, и вскоре роскошно обставленные маленькие апартаменты наполнились звуками оживленной беседы. Джейн радовалась, что ее усадили по правую руку от короля, с левой стороны разместились леди и лорд Эксетер, почтенного вида мужчина с огненно-рыжими волосами, который немного смахивал на своего кузена-короля. Мессир Шапуи сидел рядом с Джейн. Ее братьям с Брайаном и Кэри отвели места на противоположной стороне стола. Разговор неизбежно зашел о скандальной воскресной проповеди и еще одной, похожей, которую произнес в том же ключе Хью Латимер, один из реформаторов, протеже Анны. – Ужасно, что духовник королевы произносит такие клеветнические речи, – сказал лорд Эксетер. – В будущем он попридержит язык, если не хочет нарваться на неприятности, – прорычал Генрих полушутя. Джейн, собравшись с духом, рискнула включиться в беседу: – Не только его следует утихомирить, верно, сэр? Король напряженно уставился на нее. Его веселое настроение быстро улетучивалось. – Ваша милость, многие говорят о том, что он действовал не один, но его кто-то вдохновил на мятежные речи, – вступила в разговор леди Эксетер. Последовала пауза. Генрих наколол себе на нож еще кусок мяса, а потом сказал: – Я в этом уверен. Но неупомянутая персона заявила, что эта атака была нацелена не на меня, а на мастера Кромвеля. – Сэр, проповедь произвела совсем иное впечатление, – заметил Брайан. – Я почувствовала, что часть ее была направлена против меня, – заметила Джейн. – Я сильно смутилась. Люди таращились на меня. Генрих взял ее руку: – Не расстраивайтесь, дорогая. Шапуи улыбнулся. До сих пор он почти ничего не говорил Джейн, кроме обычных любезностей, но вел себя всегда почтительно. – Ваше величество, мы все знаем, кто стоял за этой оскорбительной выходкой. Могу я говорить прямо, как друг? Генрих кивнул, слегка нахмурившись: – Прошу вас, милорд посланник. – Поверьте, я говорю это исключительно из опасений за вашу милость, – продолжил Шапуи. – Вы знаете, по многим причинам я никогда не симпатизировал Леди, но на этот раз она зашла слишком далеко. Терпение вашей милости достойно восхищения. Это общее мнение при дворе. Тут смогла вступить Джейн: – Сэр, и не только при дворе. Вчера мы с леди Сеймур были на рынке у Лондонского моста. Там был человек с куклами в костюмах вашей милости и королевы. Меня ужаснула разыгранная сценка: королева била короля по голове скалкой. – Она это не придумала. Генрих вспыхнул: – Клянусь, я прикажу арестовать его! – Но это еще не все, сэр! – Джейн накрыла ладонью его руку; все напряженно смотрели на нее. – В толпе я слышала такие речи, которые взволновали меня. Люди отпускали глумливые шутки и говорили, как противен им ваш брак с королевой. Некоторые открыто заявляли, что не считают его законным. Если они выражают общее мнение народа, боюсь, англичане никогда не примут Анну в качестве своей истинной королевы. – Такие мнения действительно широко распространены, – поддержал ее Шапуи. – Я тоже часто слышал такое, – добавил Эдвард, одобрительно поглядывая на Джейн. – А я слышала, как многие порицают королеву за еретические наклонности, как они это называют, – вставила словцо леди Эксетер. Щеки у Генриха пылали. – Вы думаете, мне все это неизвестно? Мой Тайный совет каждую неделю получает отчеты о том, какие клеветы возводятся на королеву. Если обидчиков ловят, их наказывают, но, похоже, я не могу заткнуть рты всем. Подал голос Эдвард: – Говорят, сэр, глас народа – это глас Божий. Надеюсь, это не слишком самонадеянно с моей стороны – предположить, что вашей милости следует прислушаться к мнению простых людей? Может быть, оно вам что-нибудь подскажет. Джейн задержала дыхание: ну и дерзок ее брат! – Три месяца назад вы бы так не сказали, – отозвался Генрих. Он не разозлился, чего опасалась Джейн, скорее впал в задумчивость. – Три месяца назад ваша милость ожидали ребенка, – заметила леди Эксетер. Снова наступила тишина. Потом Генрих заговорил хриплым голосом: – Да, но она его потеряла. Все мои сыновья от нее родились мертвыми. Может, я и вправду обидел Господа женитьбой на ней? Джейн опустила глаза, но жадно внимала. – Если у вашей милости неспокойна совесть, тогда, вероятно, нужно поискать лекарство, – предложил Шапуи. – Вероятно, – согласился Генрих, словно подводя черту под разговором. Он попытался улыбнуться. – Но этот разговор не улучшает пищеварения. Леди Эксетер, прошу, позовите вашего шута, пусть повеселит нас! Он сменил тему, но Джейн не стала унывать. Достаточно было того, что король не рассердился, выслушав сказанное за столом. Напротив, ей показалось, что он не оставил без внимания тревоги и опасения, выраженные участниками беседы. Да и сама она, кажется, справилась с задачей, мысленно рассуждала Джейн, удивляясь себе.
В Великий четверг Генрих позвал Джейн и ее братьев поиграть с ним в шары. Она пришла в ужас, увидев Анну, которая вместе со своими дамами возвращалась во дворец. Королева взглянула на них, лицо ее было маской враждебности. Джейн боялась, как бы Анна не устроила сцену, но та прошла мимо, не сказав ни слова. – Ее милость направляется в капеллу на службу по случаю Великого четверга, – сказал Генрих на ухо Джейн. Было видно, что он испытал такое же облегчение, как и она. По обычаю, королеве было положено в этот день раздавать деньги беднякам и омывать им ноги. Завтра наступит Страстная пятница и король будет ползти на коленях к Кресту, а потом благословлять кольца для раздачи тем, кто страдает от судорог. – Они и правда помогают? – спросила Джейн. – Ну, короли Англии благословляли их со времен Эдуарда Исповедника, значит какое-то действие они должны производить, – с усмешкой ответил Генрих. После игры, в которой он победил, они гуляли по саду; придворные держались позади, вне пределов слышимости. Генрих взял Джейн под руку. Лицо его было тревожным. – Вам известны причины, по которым я испытываю сомнения относительно своего брака, – сказал он. – Я говорил с Кранмером. Он не обрадовался, потому что любит королеву и разделяет ее стремление к реформам, к тому же он боится, что отмена брака, подтвержденного всего три года назад, будет выглядеть сомнительно. Но он согласился обдумать это дело. Сердце Джейн заколотилось. Разумеется, Кранмер поймет, что это вообще не брак. А если так, ему остается только объявить его недействительным, и тогда…
В Святую субботу, пока Генрих встречался со своим Советом, Джейн прогуливалась по берегу реки. Теперь у нее не было строго определенных обязанностей при дворе, а потому появилось много свободного времени, и она с большим удовольствием проводила его на свежем воздухе. Утром Джейн получила письмо от отца, который интересовался, что имел в виду Брайан, утверждая, что скоро родители увидят ее в законном браке, да еще каком! Очевидно, он чувствовал, что было бы неплохо посоветоваться и с ним, а мать наверняка сгорала от любопытства и нетерпения. Неужели Брайан и правда имел в виду то, на что, как мы подумали, намекал? – спрашивал отец. Что происходит? Не следует ли нам приехать ко двору? Джейн быстро отправила ответ, сообщая, что любовь короля к ней возросла, но он пока не говорил ничего такого, из чего можно было бы вывести намерение жениться на ней, хотя он испытывает сомнения по поводу своего брака. Брайан сам сделал свои поспешные выводы. И совершать путешествие в Гринвич пока ни к чему. Возвращаясь во дворец, Джейн встретила Маргарет Дуглас и Томаса Говарда. Они выходили из банкетного домика. Лицо Маргарет раскраснелось, французский капор слегка съехал набок. Они явно только что обменивались ласками. – Добрый вечер, госпожа Джейн, – сказала Маргарет. – Мы скучаем по вас в покоях королевы, хотя, осмелюсь заметить, вы не скучаете оттого, что не бываете там. – Для меня это больше облегчение, миледи, – призналась Джейн. – Вы правильно сделали, что ушли. Настроение ее милости становится день ото дня все более нестабильным. – Она говорит обо мне? – спросила Джейн. – Да, вы постоянно у нее на устах. Она винит вас в потере сына и в своих теперешних несчастьях. Но у вас есть друзья в покоях королевы, Джейн. Даже леди Уорчестер настроена против нее. И Марджери Хорсман хорошо отзывается о вас. Они были бы рады увидеться с вами. Но им приказано избегать вашего общества, вы понимаете. – Я так и думала, – печально проговорила Джейн. – Миледи, мне самой очень хотелось бы повидаться с ними. – Тогда приходите в мои апартаменты в четверг, к одиннадцати. Королева к этому времени уже ляжет в постель. – Будучи племянницей короля, Маргарет имела собственные апартаменты во дворце. – С нетерпением жду встречи с вами, – добавила она напоследок и ушла.
Глава 21
1536 годВо вторник на Пасхальной седмице Джейн стояла рядом со своими братьями в нефе Королевской капеллы и ждала начала службы. Она заметила, что собравшиеся в церкви пребывают в возбуждении и переговариваются громче, чем обычно. – Что происходит? – спросила она. Стоявший впереди мужчина обернулся. Это был красавец сэр Фрэнсис Уэстон из личных покоев короля. – Сегодня утром посланника Шапуи встречал у ворот дворца лорд Рочфорд, – сказал он им. – Похоже, он примирился с Болейнами, и все ждут, признает ли он королеву. Уэстон кивнул на другую сторону капеллы, где у подножия лестницы, которая вела к королевской скамье, стоял Шапуи. – Он никогда ее не признает, – сказала Джейн, которую слова Уэстона поразили и совершенно сбили с толку. – Если новый союз с императором получит продолжение, наверное, сделать это вполне уместно, – пробормотал Эдвард. – Она в плохих отношениях с королем, – заметил Томас, – так что проявление любезности к ней не пойдет на пользу Шапуи. – Увидим, – сказал Эдвард, который терпеть не мог, когда Томас подвергал сомнению его слова. Наступила тишина. Наверное, появились и заняли свои места король с королевой. Во время службы Джейн то и дело бросала взгляды на Шапуи. Ей казалось, что посол выглядит напряженным, что было ему несвойственно. Неужели он признает Анну королевой? А как же его обещания поддерживать Джейн? Наконец Генрих спустился с помоста и проследовал к алтарю, чтобы сделать приношения. Анна шла за ним, все неотрывно смотрели на нее. Когда она проходила в дверь, Шапуи, мгновение поколебавшись, поклонился ей. Не одна только Джейн от изумления раскрыла рот. Не верилось, что этот человек, который так защищал Екатерину и Марию, в нарушение приказа короля называл их настоящими титулами и годами стойко отказывался признавать Анну королевой, теперь выказывал почтение к ней. И вот уже Анна отвечала ему изящным реверансом, после чего с триумфальным видом зашагала к алтарю. Ошеломленная Джейн наблюдала, как Шапуи направился следом за королевой и передал ей две свечи, которые были нужны для церемонии. Бывшая фрейлина была в шоке. – Он, вероятно, исполняет приказание императора, – шепнул ей на ухо Эдвард. Но это было слабым утешением. У Джейн возникло ощущение, будто она потеряла что-то очень ценное. А потом ей стало ясно: Генрих наверняка сам организовал или одобрил эту встречу, так что Шапуи оказался в ситуации, при которой никак не мог уклониться от обмена приветствиями с Анной. Зачем Генриху добиваться от посланника Империи признания Анны королевой, если он думал о разводе с ней? Джейн покинула капеллу в полном унынии, размышляя, что ей лучше отправиться домой, в Вулфхолл, выкинуть из головы Генриха, забыть о жизни при дворе и попросить отца подыскать ей какого-нибудь подходящего супруга, чтобы освободиться наконец из плена интриг и неопределенности и жить дальше в покое и безвестности в окружении своих детей. Эдвард поспешил догнать сестру, но она оттолкнула его и ускользнула в свою спальню, чтобы поплакать в одиночестве. В середине вечера раздался резкий стук в дверь, и появилась леди Эксетер. Она бросила быстрый взгляд на заплаканное лицо Джейн и неодобрительно покачала головой. – Битвы никогда не выигрывают слезами! – заявила гостья. – Пойдемте! Я собрала войска. Мы нанесем визит мессиру Шапуи! Джейн невольно воспряла духом от такой решительности. Она быстро умыла лицо, надела капор и вышла вслед за леди Эксетер в наружную галерею, где обнаружила своих братьев, лорда Эксетера, Монтегю, Брайана и Кэри. Пока они разыскивали Шапуи, все выражали недовольство и удивление по поводу знаков уважения, оказанных посланником Анне. Шапуи они застали в главном зале, он как раз собирался покинуть дворец. Когда лорд Эксетер от имени всей компании задал посланнику прямой вопрос, а леди Эксетер крикливо поддержала супруга, Шапуи выглядел обескураженным. – Господа, обмен любезностями в церкви произошел по воле императора и короля. Его императорское величество хочет заключить союз с Англией, и он готов признать Леди королевой, если принцессу Марию восстановят в правах наследства и поставят в очереди на престол перед бастардом Елизаветой. Мой господин знает о том, какая ведется работа с целью свержения Леди, но не хочет тратить время понапрасну и боится, что король не особенно заинтересован в альянсе. Действительно, если бы я заметил в его милости хоть какое-то стремление к нему, то предложил бы этому демону в женском обличье две сотни свечей! – Но со стороны это выглядело дурно, – заметила леди Эксетер. Шапуи развел руками, будто осуждал сам себя: – Вы все меня знаете, знаете, как я боролся за права принцессы и за истинную королеву, когда она была жива. Мне стыдно думать, что вы могли решить, будто я предал вас и принцессу. В самом деле, я намерен больше никогда не говорить с Леди и сообщу об этом императору. Случившееся утром оставило у меня во рту горький привкус, и я не явился на обед, который она устроила. Вместо этого я обедал в приемном зале короля с лордом Рочфордом и знатнейшими вельможами двора. Правила вежливости требовали от меня этого. – Он повернулся к Джейн. – Я вижу, что мои неверно истолкованные действия расстроили вас, госпожа Сеймур, и прошу у вас прощения. Я остаюсь вашим другом и постараюсь ради вас, как могу. Джейн улыбнулась ему, чувствуя огромное облегчение: – Вы оказались в безвыходной ситуации. Я понимаю, как вам было трудно. Она решила, что ей ясны и мотивы Генриха, для чего он заставил Шапуи разыграть эту сцену почтительного приветствия. Король не хотел терять лицо перед императором. Он сделал Анну королевой вопреки желанию Карла и остальных правителей Европы и должен был вынудить посланника Империи признать высокий статус своей новой супруги. Тем не менее, когда Джейн вернулась в свою комнату, кое-какие сомнения продолжали терзать ее разум. Анна и, без сомнения, многие другие восприняли этот жест Шапуи как подтверждение того, что королева возвращается в фавор, ведь это было явным шагом к тому, чтобы завоевать одобрение короля. Захочет ли Генрих разводиться с Анной, заручившись признанием ее в качестве королевы со стороны императора? Это казалось неправдоподобным. Джейн оставалась только одна зацепка – намеки Кромвеля на желание Генриха взять себе новую жену.
В тот вечер Эдвард вошел в свои комнаты с мрачным лицом. – У господина секретаря проблемы, – сказал он. – Нет! – воскликнула Джейн. – Не может быть. Брат поморщился: – Я был там. И видел, что случилось. Король был раздражителен. Он резко говорил с Шапуи и заявил, что его не интересует союз с императором против Франции. – Но при чем тут Кромвель? – хотелось узнать Джейн. – Когда король вызвал Кромвеля и лорд-канцлера Одли, Шапуи подошел ко мне и сказал, что Кромвель перестарался, ведя переговоры об альянсе независимо от его милости. Король сидел с Кромвелем и Одли у окна, и мы все видели, что его милость и господин секретарь сердятся друг на друга. Я уверен, король разгневался на Кромвеля за то, что тот превысил свои полномочия; очевидно, он согласился на восстановление прав принцессы, не заручившись одобрением его милости. – Не хотелось бы мне оказаться на месте Кромвеля, – заметила Нан. – Я никогда еще не видел его таким перепуганным. Думаю, он быстро сообразил, что просчитался и ни король, ни император никогда не согласятся на выдвинутые друг другом условия. После этого он впал в отчаяние. Джейн эта новость ужаснула. Кромвель был ей другом, а теперь он больше ничем не сможет ей помочь. Генрих нелегко забывал такие посягательства на его королевские права, не прощал он и тех, кто выставлял его глупцом. И если Анна действительно вернула себе милость короля, чего опасалась Джейн, она может извлечь выгоду из этой ситуации и потребовать голову Кромвеля. Так же королева действовала в истории с Томасом Мором и, кроме того, уже не раз давала понять, что не упустит случая раздавить господина секретаря, буде такой представится. – Если Кромвель падет, Болейны станут заправлять всем, – убитым голосом сказала она. – Не нужно отчаиваться, Джейн, – успокоил ее Эдвард. – Шапуи надеется на добрый исход. Он думает, что король, вероятно, блефует, чтобы добиться уступок от императора, а Кромвеля сделал мальчиком для битья. Возможно, этот фарс был разыгран специально для Шапуи. – Надеюсь, он не ошибся, – сказала Джейн.
Вечером в четверг Джейн продолжала испытывать трепет, но при этом готовилась идти к Маргарет Дуглас. Она как раз щипала пальцами свои бледные щеки, чтобы они порозовели, когда в комнату вошел Эдвард. – Кое-что происходит, и ты должна знать об этом, – очень серьезно сказал он. – Кромвель только что уехал в свой дом в Степни, якобы заболел. Шапуи сообщает императору, что тот слег от тоски. Но это не все. Перед отъездом Кромвель позвал к себе меня и Томаса и сообщил, что тайно встречался с разными советникам и нашими друзьями, которых гораздо больше, чем мы думаем. Он знает, как жаждет его крови Леди, и боится, что она может обернуть себе на пользу неудовольствие короля, поэтому намерен упредить ее. Джейн, ты лучше сядь. Она опустилась на стул, удивляясь про себя: к чему клонит брат? Эдвард сел на другой, наклонился вперед и посмотрел на сестру тяжелым взглядом: – Кромвель считает, мы были наивны, думая, что для избавления от Леди хватит аннулирования брака короля. Она умна и коварна и все еще пользуется поддержкой некоторых членов Тайного совета. Он говорит, что необходимы более радикальные шаги. Ради этого он сдружился с людьми, которые при обычных обстоятельствах не являлись его союзниками, так как сам Кромвель вовсе не консерватор и не поклонник старой веры. Вот какова мера его желания убрать с трона Леди! – Но у нас общая цель, – заметила Джейн. – Да, и эта цель – сделать тебя королевой. Кромвель понимает, что ее осуществление даст ему наилучшие шансы на выживание. – Что он имеет в виду, говоря о более радикальных шагах? – Господин секретарь получил некие сведения из Франции против королевы, которые послужат предлогом для ее отстранения от власти. О подробностях он не распространялся, но сказал: если мы до сих пор доверялись ему, то он и дальше будет стараться, чтобы мы достигли желаемого. Он законник, Джейн, и хитроумный. Мы можем на него положиться. Шапуи за, он уже написал принцессе Марии, чтобы заручиться ее одобрением, и говорит, что рад объединиться с любым человеком, который поможет свергнуть Леди, потому что такие люди совершают достойную всяческих похвал работу ради исправления внедренных ею еретических доктрин и новых религиозных практик. Джейн сильно разволновалась: – Хотелось бы мне знать, каковы намерения Кромвеля. Что еще, кроме аннулирования брака, поможет нам избавиться от нее? И к тому же, даже если она совершила какой-то проступок, это не повод для развода. – Ее могут заточить в монастырь. Тогда король освободится от своих обетов. Он может развестись с ней по акту парламента. Вероятно, на это и нацелился Кромвель, и он может использовать донесения из Франции, чтобы опорочить Леди в глазах короля, тогда его милость согласится развестись с ней. – Она сама накликала на себя беду. Господь не может улыбаться ее незаконному браку, – сказала Джейн, больше не испытывая сочувствия к Анне. – Дай Бог, чтобы Кромвель действовал быстро, – поддержал сестру Эдвард.
Позже тем же вечером Джейн торопливо шла в апартаменты Маргарет Дуглас. Она не видалась с Генрихом после драматических событий вторника, а потому не имела представления о том, что он думает про Анну и Кромвеля или про нее саму. Маргарет приняла Джейн тепло. В комнатах ждали прихода гостьи беременная леди Уорчестер и Марджери Хорсман. Они обняли Джейн, как давнюю подругу, но, помимо этого, в их приветствии ощущалась почтительность. Маргарет предложила всем сесть и велела принести вина. Джейн неспешно осушала кубок и ждала, когда с ней поделятся новостями и сплетнями, однако все молчали; остальные участницы посиделки выглядели смущенными. – Кое-что случилось после нашей субботней встречи, – наконец заговорила Маргарет. – Вам следует знать об этом, Джейн. Уже второй раз за этот вечер она услышала такие слова и насторожилась. Какие еще зловещие новости ей сообщат? – Это касается меня, – стыдливо проговорила леди Уорчестер. – Я по глупости флиртовала с двумя джентльменами в покоях королевы, мой брат увидел это и сделал неправильные выводы. Джейн знала в лицо брата графини; сэр Энтони Браун был джентльменом из личных покоев короля, и она раз или два видела его в компании с Эдвардом. – Что он сделал? – спросила Джейн. – Он решил меня усовестить. А я ему на это ответила, мол, да, вела себя легкомысленно и неправильно, но это мелочи в сравнении с поведением королевы. – Королевы? – эхом отозвалась Джейн. – Я рассказала ему о том, что вам наверняка известно: она принимает некоторых придворных в своих покоях в неподобающее время. А потом, да простит меня Бог, – она вдруг заплакала, – я повторила то, что доверительно сообщил мне Марк Смитон, а ведь я сама не знаю, правда ли это. Джейн буквально онемела. Она понятия не имела о ночных забавах Анны. – Этот музыкант? Что ему известно о делах королевы? – Он влюблен в нее, – просветила Джейн Марджери. – Я думала, вы в курсе. Об этом все шепчутся после прошлогоднего тура по стране. – Я тоже что-то слышала, – сказала Джейн. – Но взаимности там, разумеется, нет? – Нет, она отвергла его довольно твердо в Винчестере и с тех пор знать не знает, – сообщила леди Уорчестер, промакивая глаза. – Вот Марк и разозлился. Он сказал мне – и остальным наверняка тоже, – что королева неразборчива в связях и он-де может много чего к этому прибавить, если захочет. – Это правда? – спросила потрясенная Джейн. Леди Уорчестер сглотнула: – Я не знаю. Но я передала слова Смитона своему родному брату и сводному, сэру Уильяму Фицуильяму. Уильям когда-то служил у кардинала Уолси и не любит королеву, которая уничтожила его прежнего господина. Энтони тоже ее ненавидит. Они уговорили меня, ссылаясь на свою преданность королю, пойти к господину секретарю Кромвелю и поведать ему о том, что сказал мне Марк. Я так и сделала. А теперь жалею об этом, лучше бы я держала рот на замке. Раньше я была близка с королевой, но сейчас стало трудно любить ее. И все же я не хотела навредить ей. Леди Уорчестер выглядела крайне расстроенной. Джейн размышляла, имеет ли это какое-то отношение к полученным Кромвелем донесениям из Франции. Что-то непохоже. – Не стоит принимать всерьез слова Марка, – сказала она, пытаясь утешить леди Уорчестер. – Но Кромвель поверил в них! – выпалила Марджери. – Сегодня меня вызывал к себе камергер королевы и спрашивал, известно ли мне о любовных связях моей госпожи. Я ответила, что она любит флиртовать с джентльменами, но мы все этим занимаемся, это не запрещено. Он спросил, не оставалась ли она наедине с мужчинами в своих покоях поздно вечером, и я сказала, что иногда и только со своим братом; они любят разговаривать наедине. Но я заверила его, что никогда не замечала, чтобы королева вела себя неподобающим образом. Камергер снова надавил на меня, будто хотел услышать какие-то подтверждения своих намеков, но я ответила, что мне больше ничего не известно, а ему посоветовала заняться делом и перестать рыться в грязном белье в поисках следов скандала, которого нет. Джейн охватил страх. Неужели Кромвель затевает процесс против Анны? Если так, то у Анны будут серьезные проблемы. – Что будет с королевой, если утверждения Марка окажутся правдивыми? – спросила она. – Я не знаю, – ответила леди Уорчестер. – Король наверняка отнесется к этому как к тяжкому оскорблению. – Это могут расценить как измену, – сказала Маргарет. – Права наследницы будут скомпрометированы, законность рождения Елизаветы могут поставить под сомнение. Джейн похолодела. – Измену? – повторила она. – Да, – подтвердила Маргарет. – И боюсь, наказание за такое преступление – сожжение на костре. – О Боже! – воскликнула леди Уорчерстер. – Лучше бы я ничего не говорила! Джейн была потрясена. Разумеется, обвинение в измене стало бы наилучшим способом избавиться от Анны. Но и самым гнусным. Джейн представляла себе развод, потом тихую жизнь бывшей королевы в уединении, но не этот ужас. Она ненавидела все, за что выступала Анна, и хотела, чтобы ее лишили трона, но такой участи Джейн не пожелала бы злейшему врагу. Сожжение на костре – самая ужасная смерть. – Проблема в том, что все это весьма правдоподобно, – сказала Маргарет. – Многие верят, что она развратница; репутация у нее плохая, и она непопулярна. К тому же она флиртует без оглядки. Я видела ее с Норрисом. Между ними что-то есть. – Я это заметила, – согласилась Марджери. – Может быть, Марк тоже, вот и заревновал. Но если она изменяет королю, как ей это удается? Она редко остается одна. Мы или спим у ее постели, или находимся в пределах слышимости, даже когда к ней по ночам приходит король. – Если, конечно, ей не помогает кто-нибудь из фрейлин или придворных дам, – робко предположила леди Уорчестер, которая так и не оправилась от смущения. – Но кто? Трудно было бы удержать такое в секрете, – заявила Марджери. – Я молюсь, чтобы все это было принято за злой умысел со стороны Марка, – сказала леди Уорчестер. Но Джейн задрожала, ей подумалось, что тут наверняка кроется нечто большее. Кромвель вознамерился избавиться от Анны. Не оговором ли он хочет добиться своего? Джейн не нравилась перспектива стать королевой ценой жестоких страданий Анны. – Мы не должны разглашать эту историю, – сказала Маргарет и добавила, задумчиво глядя на леди Уорчестер: – Молчание – золото…
По пути назад через мощенный булыжником двор и пустынные галереи голова у Джейн шла кругом. «Господи, пусть слова Смитона не воспримут всерьез, если только, – вдруг осознала она, – в них не было доли правды». Джейн остановилась. Нет, это невозможно. Анна была вся сосредоточена на том, чтобы подарить королю наследника и сохранить его любовь. Королева почти все время была на сносях или восстанавливалась после родов и совершенно точно не могла завести любовную интрижку так, чтобы никто об этом не знал. Королева никогда не оставалась одна! Даже если подозрения окажутся верными, Джейн не могла представить, что Генрих обречет женщину, которую страстно любил, на такую ужасную смерть. Он проявит снисхождение – Джейн не сомневалась вэтом. Сквозь череду тревожных мыслей пробивалось чувство вины. Если случится худшее, она, Джейн, будет до некоторой степени в ответе за это, ведь разве не из-за нее враги Анны плели заговор против королевы? Даже если она скажет: «Довольно!» – несчастье все равно произойдет. Теперь в ее силах было только одно: попытаться смягчить участь Анны. Джейн считала, что обладает достаточным влиянием на Генриха и сможет добиться этого. Тихо проскользнув в апартаменты, она разделась в темноте и легла. Но сон не шел к ней.
Через три дня Джейн увидела при дворе Кромвеля. Она задумалась: что у него на уме? С Генрихом она так и не встречалась, и теперь, когда они стали так близки, просто не верилось, что между ними все кончено. Сердце Джейн разрывалось от боли, но, может быть, это к лучшему. Печаль при мысли о разрыве с королем смешивалась с облегчением. Она дала вовлечь себя в опасные интриги. Когда Джейн передала братьям услышанное в апартаментах Маргарет, они возликовали, и это крайне удивило ее, а еще навело на мысль: как же полна риска жизнь при дворе и какое сомнительное будущее ждет королеву, которая не сможет родить королю сына! Джейн спрашивала себя, действительно ли она хочет получить корону и подвергнуть себя опасностям, которые будут грозить ей, коронованной. Хочет ли она каждый месяц с тревогой следить, наступили ли крови, и трястись от страха за последствия, если они появятся? Сможет ли жить под гнетом вечных опасений не оправдать ожидания короля и подозрений, что враги готовы наброситься на нее? Она любила Генриха, но желала ли для себя будущего, полного тревог? Лучше помучиться сейчас от потери любимого, чем терпеть такие страдания потом. Джейн с тоской вспомнила о Вулфхолле и матери. Она отправилась бы туда хоть завтра. Эдварду и Томасу это не понравится, но им придется смириться с ее решением. И тут она столкнулась с Томасом в галерее. Его красивое лицо раскраснелось от радости. – Отличные новости, Джейн! – крикнул он, обнимая сестру. – Король только что председательствовал на ежегодном собрании членов ордена Подвязки. Болейнов обошли! Освободилось место для одного нового рыцаря, многие ставили на то, что его займет лорд Рочфорд, так Леди просила, чтобы король выбрал его, но вместо этого рыцарем стал Николас Кэри. Могу поспорить, Леди брызжет слюной от ярости! – Королю известно, что сэр Николас – мой сторонник, – сказала Джейн, слегка повеселев. – И это доказывает, что у Леди недостало влияния, она не смогла получить это почетное место для своего брата. Шапуи говорит, это означает, что Болейны утрачивают влияние. Вот и хорошо, по-моему! – Вот и хорошо, – без особой убежденности повторила за Томасом Джейн. Ее не слишком заботило падение Болейнов само по себе: важно было, как оно произойдет. «Вероятно, стоит отложить отъезд в Вулфхолл на пару дней и посмотреть, как пойдут дела дальше», – подумала она.
Глава 22
1536 годВ тот вечер Джейн преисполнилась радости, увидев у своих дверей Генриха. Все ее сомнения и страхи мигом развеялись. Он принес букетик анютиных глазок; изящные белые цветы символизировали его любовь к ней. – Они прекрасны! – воскликнула Джейн, зарываясь лицом в нежные лепестки и вдыхая их аромат. – Я знал, что дорогое украшение вы не примете, – сказал он, напряженно вглядываясь в нее, – так что я принес цветы для прекрасного цветка Англии. Простите, что не пришел к вам раньше. Я был очень занят государственными делами. По лицу Генриха пробежала тень. Джейн ощутила, как в ней шевельнулся страх. Она налила вина и предложила королю маленькие пирожные, которые приготовила по рецепту матери и отдала испечь в дворцовой печи. – Это вкусно, – похвалил угощение Генрих. – Надо поставить вас во главе моей кухни. – Это шутливое замечание король сделал без малейшего намека на веселье и откинулся на спинку кресла. – Ох, Джейн, ну и денек у меня выдался. Анна устроила скандал из-за того, что я отдал Подвязку Кэри. Но я обещал королю Франциску много лет назад, что, когда в ордене появится свободное место, не забуду сэра Николаса, которого он любит. Так что я был обязан выбрать его. – Я уверена, ее милость это поймет, – сказала Джейн. – Нет, она ничего не поняла. Набросилась на меня с руганью, как торговка рыбой. – Генрих закрыл глаза. Ссора явно расстроила его. – Сыграем в карты? – предложила Джейн. Генрих кивнул. Она принесла колоду и сдала. Они сыграли две партии, после чего король бросил карты на стол: – Это плохо, Джейн. Я не могу сконцентрироваться. Сегодня случилось кое-что еще, и я должен с вами поделиться. Она смотрела на него в тревоге: – Что же это? Генрих колебался: – Я вам скажу, но строго конфиденциально, Джейн. Обещайте никому не передавать моих слов. – Обещаю, – сказала она. – Благодарю вас. Мастер Кромвель чувствует себя лучше и вернулся ко двору. Сегодня ближе к вечеру он пришел ко мне с депутацией членов Тайного совета. Я удивился, так как не мог догадаться, зачем они явились. Все нервничали, и неудивительно! – Его голубые глаза сузились. – Кромвель сказал, что получены тревожные сведения о поведении королевы. Дальше он заявил, что первые подозрения вызвал у него составленный во Фландрии гороскоп, который предсказывал, что мне грозит опасность со стороны самых близких людей. Джейн задрожала. Казалось, ее худшие опасения сбывались. – Они так беспокоились из-за простого предсказания? – спросила она. Вероятно, Кромвель сгустил краски ради каких-то своих целей. Господь знает, у него были на то причины. Значит, все действия против Анны на его совести, Джейн тут ни при чем. – Нет, – мрачно ответил Генрих. – Лучше бы на том все и закончилось, однако у них были данные под присягой показания людей, которые представили свидетельства дурного поведения королевы, и они доказывают, что она замышляла покушение на мою жизнь. Рука Джейн невольно подлетела ко рту. Такого и вообразить нельзя было. – Но это измена! – прошептала она. – Да, и те, кто проверял эти свидетельства, тряслись от страха, когда стояли передо мной на коленях. Они заявили, что по долгу службы не могли скрыть это от меня, и поступили абсолютно правильно. Они благодарили Господа, что Он уберег меня и не дал свершиться коварным замыслам. Клянусь святой мессой, я едва избежал смерти! Подумать только! Похоже, я вскормил змею у себя на груди! Последние слова были сказаны с жаром. Джейн ужаснулась. Неверность – это одно; но злоумышлять против короля – совсем другое. Конечно, Кромвель не мог зайти так далеко, чтобы придумать подобное обвинение на пустом месте, даже если чересчур серьезно воспринял слова Марка Смитона. – Доказательства убедительные? – спросила Джейн. – На первый взгляд представленное мне свидетельство убийственно, но этого недостаточно, чтобы выдвинуть обвинения. Я приказал провести дальнейшее расследование и буду ждать его результатов. Если утверждения очевидцев окажутся верными, это, разумеется, будет иметь влияние на вопрос наследования. О Джейн! – Он уткнулся лицом в ладони. Она взяла Генриха руками за плечи и пробормотала ему в ухо: – Мне так жаль, очень, очень жаль. Король поднял взгляд. Глаза его были холодны как лед. – Даже если новых доказательств не появится, я решился отделаться от нее. Кранмеру придется отыскать какой-нибудь способ. – Молюсь, чтобы вам не пришлось ничего больше делать, – сказала Джейн. – Я сделаю все, что понадобится, – заявил Генрих. – Я не допущу, чтобы измена оставалась ненаказанной. Иначе это будет расценено как слабость. – Он издал глубокий вздох. – Когда-то, услышав такое, я был бы убит горем, но теперь… Уязвлена моя гордость, но не сердце. Я скорее зол, чем опечален. Но мне придется повременить с окончательным решением. – Он встал. – Простите, милая Джейн, сегодня я не могу быть приятной компанией. Не хочу впутывать вас в это, но весьма благодарен вам за то, что вы меня сочувственно выслушали. Вы мудро подходите к жизни, видите суть проблем, и это помогает мне самому смотреть на вещи яснее. – Я всегда к вашим услугам, если понадоблюсь, Генрих, – ответила она, беря его за руку. Король наклонился и поцеловал ее: – Я скоро снова приду, и вы опять будете моей. После ухода Генриха Джейн разволновалась. Она ужасалась деяниям королевы и одновременно радовалась углублению понимания между ней и Генрихом. Это давало надежду, что, когда придет время – если оно придет, – можно будет просить короля о милости к Анне. И хотя она ненавидела ее, но не желала нести на сердце вину за ее кровь.
Вошел посыльный в королевской ливрее: – Госпожа Сеймур, господин секретарь Кромвель просит вас явиться к нему, как только это будет вам удобно. Джейн затрепетала. – Я пойду к нему сейчас же, – сказала она. Мужчина вежливо кивнул и проводил ее в палату, где заседал Совет. В комнате находились только сам Кромвель и сэр Уильям Фицуильям, который сидел в дальнем конце стола с кипой бумаг. Джейн сделала реверанс, когда оба мужчины встали, и церемониймейстер закрыл за ней дверь. Кромвель улыбнулся и знаком показал, чтобы она села напротив него. – Это ненадолго, госпожа Джейн. Его милость знает, что вы здесь. К ней обратился Фицуильям. У него было узкое лицо с резко очерченными скулами и отрывистая манера говорить. – Мы расследуем некоторые обвинения, выдвинутые против королевы, поэтому все, что вы скажете за этим столом, останется в строжайшей тайне. Вы понимаете? – Разумеется. – Джейн надеялась, что дознаватели не заметят, как она нервничает. – Находясь на службе у ее милости, вы не видели и не слышали ничего такого, что вас обеспокоило бы? – спросил Кромвель. – Нет, ничего, – ответила она. – Ни намека на неверность королю? – Нет. – Они не могли не поверить ей; из всех людей у нее, Джейн, больше всего причин желать, чтобы Анну убрали с дороги. – Проводила ли она время наедине с джентльменами в своих покоях? – Я такого не помню. – Проявляла ли она особую привязанность к какому-нибудь одному джентльмену? В памяти всплыло красивое лицо Норриса. – Нет, – ответила Джейн. – Даже в такой форме, какую вы могли бы интерпретировать как простую дружбу? – Ее милость близка со своим братом, конечно, и она оказывает милости многим джентльменам из своего круга, но в этом нет ничего неподобающего. Кромвель потянулся вперед: – Что вы имеете в виду, когда вы говорите о милостях? – Она ведет себя приветливо и проявляет снисходительность к ним. Играет с ними в карты, музицирует и развлекает. Это все было невинно. Ничто в ее поведении не поражало меня как неуместное или неприличное. – Она флиртовала с ними? – спросил Фицуильям. Джейн насторожилась: – Я не вполне понимаю, о чем вы, сэр? – Она игриво перешучивалась с ними, строила им глазки, прикасалась к ним? – Она довольно открыто поддерживает шутки, иногда игриво гримасничает, но прикасаться – нет, она брала их за руку только во время танцев в ее покоях. Кромвелю это явно стало наскучивать. – Она когда-нибудь отпускала шутки в адрес короля? – Нет. – Критиковала его стихи или одежду? Они явно скребли осадок со дна бочки! – Нет! Собеседники переглянулись. – Очень хорошо, госпожа Джейн, вы можете идти, – сказал Кромвель не таким любезным тоном, как при встрече. Она встала и вышла, радуясь, что вырвалась из этой удушающей атмосферы.
Вечером Генрих извинялся: – Кромвель думал, вы можете что-то знать, Джейн. Простите, если это было вам неприятно. Они опрашивают всех, кто служил у королевы, и сегодня лорд-канцлер выбрал два состава присяжных, которые должны заслушать свидетельства и вынести суждение. Они определят, есть ли повод возбуждать против нее процесс и стоит ли это делать. Звучало зловеще. – Вы получили какие-то новые доказательства? – спросила Джейн. – Пока нет, но мастер Кромвель порекомендовал назначить в жюри тех людей, которые помогут в расследовании. – Он ноздрями втянул в себя воздух. – Дорогая, поговорим о чем-нибудь более приятном. Идите сюда! И Генрих поцеловал ее долго и страстно. Через два часа, когда король ушел, Джейн в задумчивости сидела на кровати. Крови запаздывали. Это ее тревожило, и она отчаянно пыталась вспомнить, когда видела их в последний раз. Точно, на третьей неделе марта. Матерь Божья, значит, задержка уже на целую неделю; вероятно, она беременна. Но как узнать это точно? Какие еще бывают признаки? Она проклинала свое невежество. О последствиях не смела и думать. Что сделает Генрих, если выяснится, что она ждет ребенка? Джейн печально размышляла обо всем этом, когда в дверь постучали и посидеть с ней вошла Нан. Хотя они никогда не были особенно дружны, Джейн знала, что Нан на ее стороне, и одобряла преданность невестки Эдварду, хотя та и доминировала над ним. Нан распирало от желания поделиться новостями. – Эдвард говорит, что назначено два состава Большого жюри для расследования преступлений в Мидлсексе и Кенте. При дворе только об этом и судачат, потому что многим джентльменам приказано быть присяжными. Эдвард считает, это предвещает нечто крайне важное, так как, по словам лорда Эссекса, такие жюри составляются очень редко. Шапуи знает; он сказал, что Кромвель намекнул ему – дело касается королевы. Джейн изобразила изумление и перекрестилась: – Если так, мне страшно за нее. – Что бы там ни было, а она, вероятно, сама навлекла на себя эту беду, – возразила Нан. – А что, если они только ищут повод избавиться от нее? – Вам следует радоваться и благодарить, что вам расчищают путь к короне, – заметила Нан. – Но я не хочу ради этого переступать через труп Анны! – вспылила Джейн. – Нехорошо искать себе выгоды в несчастьях других людей. – Люди только этим и занимаются. – Нан пожала плечами. – В любом случае Шапуи думает, дело закончится разводом. Он говорит, что Елизавету почти наверняка исключат из очереди на престол, а принцессу Марию восстановят в правах, она станет первой в очереди на престол после всех детей, которых вы родите королю. Мария будет очень рада. – Вы забываете об одном, – напомнила ей Джейн, – король и словом не обмолвился о браке, тем более о детях. А вы все говорите об этом как о решенном деле. – Не подобает королю предлагать себя вам в мужья, пока он женат, – сказала Нан. – Но с Анной Болейн он именно так и поступил! Нан не могла смириться с поражением в споре. – Посмотрим, – уперлась она. – Будьте благодарны, что Шапуи использует все средства, чтобы продвинуть это дело, привлекая к нему Кромвеля и остальных. Он намерен сделать вас королевой.
В эти дни сэр Николас Кэри, казалось, постоянно маячил на горизонте Джейн. Он неутомимо старался ради нее, и она была благодарна ему за это, учитывая растущую уверенность в том, что у нее будет ребенок. – Нанесите удар! – уговаривал он ее. – Оберните происходящее себе на пользу. Вы наверняка вспомните какие-нибудь подробности, которые можно использовать против Леди. – Я не могу припомнить ничего дурного, – твердо отвечала Джейн. Она не смела упрекать сэра Николаса в безжалостности, ведь он был полностью на ее стороне, однако старалась перевести его усердие в другое русло. – Им не стоит идти таким путем! – восклицала Джейн. – Есть веские основания для аннулирования брака. Больше ничего и не нужно, правда? Она слышала нотки страха в своем голосе. Кэри смотрел на нее прекрасными темными глазами и говорил: – Ах, но наш друг Кромвель хочет сделать так, чтобы она не создавала проблем, когда ее уберут с пути. – У нее будут вырваны зубы. Кромвелю не о чем беспокоиться. – Но у Леди есть дочь, и за ее права она наверняка станет бороться по примеру прежней королевы. Посмотрите на нас: мы продолжаем поддерживать Екатерину и Марию, стараемся свергнуть Анну. Кромвель прав, полагая, что история может повториться. Джейн отвернулась: – Значит, вы готовы добиваться ее смерти, ведь мы об этом говорим? – Ради мира в королевстве, вашей безопасности и благополучия ваших детей от короля – да! Джейн глубоко вдохнула: – А другие наши друзья с этим согласны? – Согласны, – кивнул Кэри. – Сэр Фрэнсис Брайан и другие джентльмены из личных покоев делают все возможное, чтобы ваш брак состоялся. Они понимают, что иначе нельзя, и принцесса Мария, как я слышал, одобряет это. Я писал ей. Сказал, чтобы она ободрилась, так как Болейны скоро будут разбавлять вино водой. Джейн, король до крайности устал от Леди. Подумайте сами. Воспользуйтесь ситуацией и заставьте короля сделать вам предложение. – Нет! – возразила Джейн. – Я не хочу, чтобы он думал, будто я загоняю его в угол. – Тогда пригрозите, что оставите его! В дни Анны такая тактика прекрасно срабатывала. Вот об этом по причинам, которых Джейн не могла открыть сэру Николасу, нельзя было и думать. – Николас, я ценю вашу заботу и все, что вы для меня делаете, но, думаю, теперь мне известно, как лучше обращаться с королем. Он расстроится, если я начну вести себя с ним так же, как она. Кэри с готовностью признал поражение: – Очень хорошо, Джейн, делайте как знаете. Но если Леди не будет сброшена с коня, не вините в этом главного конюшего. – Действуйте мягко, Николас, – упрашивала его Джейн, – ради меня, постарайтесь устранить ее без насилия.
Заканчивался апрель, весна была в полном разгаре. Придворные оживленно готовились к празднованию Майского дня, когда, по обычаю, устраивали поединки на турнирной площадке. После этого король отправлялся в Дувр инспектировать укрепления, а потом – за море, с коротким визитом в принадлежавший ему город Кале. Анна должна была поехать с ним. Предстоящая разлука огорчала Джейн, ведь в последнее время они с Генрихом проводили вместе все свободное время, кроме того, она боялась, как бы Анна не воспользовалась этой возможностью, чтобы снова завлечь короля в свои сети и вернуть его расположение. Но все же он уезжал ненадолго, и, если смотреть на вещи реалистично, было непохоже, что король может вновь поддаться чарам Анны. Джейн старалась не впадать в панику по поводу растущей вероятности того, что она беременна. Убеждала себя, что месячные могут не приходить и по другим причинам. Потеря девственности и занятия любовью могли сойти за таковые. Джейн решила дождаться следующего месяца, а уж потом делать выводы. А пока наказала себе не тревожиться. Интересы двора сосредоточивались не только на предстоящем турнире и летнем объезде страны. Радость омрачалась слухами, что падение королевы неизбежно. Очевидно, не все, кого опрашивал Кромвель, с уважением отнеслись к требованию хранить молчание, заключила Джейн, или, что было хуже, спекуляции на эту тему подпитывали сторонники Анны. Шапуи сказал Эдварду, что, по его мнению, король удовлетворится аннулированием брака. Джейн обрадовалась. Похоже, Кромвелю не удалось собрать достаточное количество свидетельств, чтобы возбудить процесс против Анны и устранить ее иными способами. – Король точно намерен оставить ее, – сказал однажды за обедом Эдвард. – Ходят слухи, что она тайно состояла в браке с графом Нортумберлендом, прежде чем его милость женился на ней, так что у него есть веские основания для развода. – Правда? – Нан подняла глаза на мужа. – Я слышала, кардинал Уолси запретил ей выходить замуж за Нортумберленда и удалил их обоих от двора. – Может быть, они уже были женаты, – задумчиво проговорил Эдвард. – Прошу вас! – взмолилась Джейн. – Мы обсуждаем это уже не одну неделю, а король так и не сказал ничего мне. Оставим это, прошу вас. Эдвард приподнял брови: – Прости, сестра. Эта неопределенность должна тяготить тебя. Я не сомневаюсь, он поговорит с тобой, и очень скоро. Дело, похоже, идет к развязке. – Хватит об этом! – приказала Нан. Джейн с благодарностью улыбнулась ей.
– Король в Совете, – хмурясь, сказал Томас, влетев в апартаменты и усевшись в кресло, которое обычно занимал Генрих. – В воскресенье? – удивился Эдвард. – Вероятно, появились какие-то неотложные дела для обсуждения. Все обменялись взглядами. Джейн не желала больше участвовать ни в каких бесполезных разговорах, а потому отправилась в парк Гринвича погреться на солнышке. Недалеко от дворца она увидела группу людей, которые возбужденно кричали, и поняла, что они наблюдают за дракой собак. Среди них была и королева. Анна заметила Джейн и одарила ее ледяным взглядом, после чего вернулась к созерцанию забавы. Джейн пожала плечами и прошла мимо. Пусть Анна смотрит на нее как хочет, ей до этого нет дела. Ноги сами повели ее к холму, на котором стояла старая башня Мирефлорес. Она выглядела грозной и неприступной. Джейн никогда не подходила так близко к ней одна. Найдя тенистое местечко, она устроилась там и вынула перчатки, которые украшала вышивкой. Когда солнце поднялось высоко, Джейн отложила работу и съела принесенный с собой холодный пирог с мясом, а потом снова взялась за иглу, но то и дело останавливалась, чтобы полюбоваться прекрасным видом и насладиться отличной погодой. Часы текли мирно. Скоро ужин, надо возвращаться, но ей хотелось закончить работу, а оставалось совсем немного. Сделав последний стежок, Джейн прислонилась к стволу дерева и закрыла глаза, погружаясь в сладкую дремоту. Очнувшись от сна, она заметила, что солнце скатилось низко к западу, а на травянистом склоне под башней сидят несколько дам Анны. Не желая привлекать к себе внимание, Джейн притворилась спящей. В следующий раз открыв глаза, она удивилась, заметив Анну, – она вышла из башни и побежала вниз по холму. Дамы последовали за ней и вскоре превратились в маленькие фигурки, едва различимые вдали; все они направлялись во дворец. Джейн заинтересовалась: что делала Анна в башне? Может, ей просто стало любопытно посмотреть, что там внутри? «Пыльно и жутко», – представила себе Джейн. И вдруг услышала скрип двери. Кто-то еще выходил из башни Мирефлорес. Сэр Генри Норрис! Джейн в изумлении следила, как он, широко шагая, спускается по склону, и начала кое-что понимать. Он был один с Анной в этой башне, значит можно отмести все доводы в пользу того, что у королевы просто не было возможностей для тайной любовной связи. Джейн вспомнила, что любовь Норриса к Анне была общеизвестна: все дамы королевы знали о его чувствах, но разве Анна отвечала ему взаимностью? Джейн о таком ни разу не слышала. Они все считали, что это безнадежный случай. А теперь оказывается, они заблуждались. Но Боже, Боже, неужели эти двое не понимают, какому риску подвергают себя? Вдруг их увидел Кромвель или один из его соглядатаев? В свете последних событий вполне вероятно, что за Анной следили. Как можно быть такой безрассудной? Неужели она настолько глупа, что устроила свидание с любовником средь бела дня в таком месте, где любой мог наткнуться на них или увидеть входящими или выходящими? Вдруг Джейн решила, что ей нужно все выяснить. Она встала, собрала свои вещи и пошла к башне. Строение выглядело жутковатым в сумеречном свете, однако Джейн подавила тревогу. Из замочной скважины в большой деревянной двери торчал ключ. Он легко повернулся. Внутри было сумрачно, над головой Джейн возвышались грозные, темные фигуры, сурово взиравшие на нее с выцветших фресок. Она задрожала. К тому же тут было холодно и пахло затхлостью давно не используемого помещения. Окна затянуло паутиной. Джейн стала на цыпочках подниматься вверх по лестнице и обнаружила комнату, где стоял остов старой кровати. Едва ли это место романтического свидания: веревки, на которые клался тюфяк, провисли, пол покрыт пылью, однако на ней виднелись отпечатки ног, и они вели на самый верхний ярус башни. Джейн продолжила подъем и обомлела, увидев прекрасно обставленную комнату с гобеленами на стенах и роскошной постелью. На полу лежал дорогой турецкий ковер. Вот новое доказательство, если их еще мало, зачем Анна и Норрис приходили сюда и чем здесь занимались. Перед Джейн встала дилемма. Ее открытие явно имело более серьезное значение, чем все те свидетельства, которые удалось собрать Тайному совету. Стоит ли сообщить об увиденном Генриху или Кромвелю? Спросить совета у Эдварда? Или лучше промолчать? Ей не хотелось оставаться в этой комнате, пропитанной духом запретной страсти. Торопливо спускаясь по ступеням, Джейн начала сознавать: стоит ей только заикнуться об этом, и Анне грозит смерть, а она, Джейн, до конца дней будет жить с чувством вины. Такая перспектива ужаснула ее. Нет, она никому ничего не скажет.
Когда Джейн вернулась во дворец, свечи и факелы были зажжены. В залах и галереях толкались группы придворных, которые оживленно переговаривались и оглядывались по сторонам. Она увидела Томаса с Брайаном и Кэри и подошла к ним узнать, в чем дело. – Почему тут собрались все эти люди? – Где ты была, Джейн? – спросил Томас. – Совет опять на сессии. Все удивляются тому, что происходит. – Без сомнения, обсуждается какой-то очень важный и сложный вопрос, – сказал Брайан, и на этот раз его злобно-насмешливое лицо было серьезным. Они ждали и ждали. Джейн видела, что люди поглядывают на нее и перешептываются. Она подумывала, не пойти ли спать. Ей не нравилось быть центром всеобщего внимания. И тут ее осенило: ведь если она станет королевой – это навсегда. Уже собравшись уйти, Джейн услышала отдаленный бой часов – одиннадцать, – после этого сразу разнеслась весть, что король покинул зал совещаний и советники расходятся. Затем по дворцу прошествовал герольд, оглашая новость: визит короля в Кале откладывается на неделю. – Интересно почему? – задался вопросом Кэри. – Нам не скажут, – буркнул Томас. – Думаю, скоро все выяснится, – обнадежил их Брайан. Джейн со стучащим сердцем пожелала всем доброй ночи и вернулась в апартаменты. Эдвард и Нан были там. Они слышали известие об отсрочке поездки, но Джейн твердо сказала им, что обсуждать это – пустое дело, и удалилась в спальню. Только она сняла медальон, капор и вуаль, распустила волосы и собралась стянуть нарукавники и расстегнуть корсаж, как послышался легкий стук в дверь, ведущую на личную галерею короля. Невозможно было ошибиться, кто это. – Я иду, – отозвалась она, потому что Эдвард и Нан улеглись спать, и сама отворила дверь. За ней стоял Генрих. Вид у него был убитый. – Джейн, – сказал он, – мне нужно поговорить с вами.
Она подождала, пока король грузно опустится в кресло, потом налила им обоим вина и подвинула табурет, чтобы сесть напротив него. – Простите, что я не одета, как полагается, чтобы принять вас, – сказала Джейн, чувствуя себя немного виноватой из-за того, что решила скрыть от него виденное в башне. – Вы выглядите прелестно, – рассеянно проговорил Генрих. – У вас красивые волосы. – Он нежно провел рукой по ее шелковистым локонам. – О Джейн! Если бы мы могли любить друг друга свободно, ни о чем не заботясь. – Это было бы блаженством, – согласилась она. – Увы, меня тяготят проблемы, – простонал Генрих, глаза его сузились. – Дело королевы очень серьезно. Мой Совет опросил всех ее женщин и множество других свидетелей. Теперь все настолько очевидно, что не осталось места для сомнений. – Нет! – вскрикнула Джейн, а в голове у нее промелькнула мысль: «Одной ли мне известно, как его на самом деле мало?» – Она замышляла мою смерть! – с грозным видом прорычал Генрих. – У нее были любовники, и они вместе строили планы, как убить меня, чтобы она могла выйти замуж за одного из них и править Англией от имени Елизаветы. Это величайшая измена, Джейн, самое гнусное из всех преступлений. Король негодовал, его бледные щеки пылали. Джейн легко могла представить, как милый сэр Генри Норрис тайно занимается любовью с Анной в башне, но невозможно было вообразить, что он замышлял убийство короля, своего близкого друга. Генрих поджал губы: – Сегодня в Совете у нас не осталось выбора, кроме как заключить, что королева – прелюбодейка и цареубийца, она заслуживает сожжения заживо. – О Генрих, это ужасная смерть! – Это ужасное преступление! – прорычал он, и Джейн отшатнулась, потому что это был не тот Генрих, которого она привыкла видеть. – Джейн, у вас доброе сердце, но в данном случае ваша доброта направлена не на того человека. Анна не заслуживает сочувствия, ни вашего, никакого вообще. – Он был неумолим, и Джейн едва сдерживала слезы. – Она изменяла мне даже с безродным музыкантом. – Марком Смитоном? Генрих прищурился: – Откуда вы знаете? Джейн не должна была открывать ему, что сказала леди Уорчестер. – Я догадалась, потому что он часто проводил время в ее покоях. Но я думала, она его отвергла, потому что ни разу о нем слова доброго не сказала. – Это было притворство, я уверен. Его сегодня арестовали и доставили в дом мастера Кромвеля для допроса. Есть немало людей, которые полагают, что он может многое нам рассказать. Джейн закусила губу. Даже сейчас ее не оставляла надежда, что Марк объяснит Кромвелю – все это ужасная ошибка. Хотя в глубине сердца знала: никакой ошибки тут нет и Анна наверняка виновна, хотя Смитон здесь, скорее всего, ни при чем. Может быть, стоит сказать Генриху, что она видела? Но Джейн боялась, ведь это могло склонить чашу весов не в сторону Анны, королеву пошлют на смерть, а люди станут говорить, мол, госпожа Сеймур подала голос, потому что хотела получить корону. Джейн сделала глоток вина, чтобы успокоиться. Нужно было утешить Генриха, дать ему понять, что она на его стороне. – Не могу выразить, как мне горько, что королева совершила эти преступления, – сказала Джейн, протягивая руку в надежде, что Генрих возьмет ее. – Очень трудно поверить, чтобы кто-нибудь, особенно человек, который должен любить вас больше всех, мог опуститься до таких ужасных вещей. Генрих схватил ее палец: – Вы должны простить меня, Джейн, за то, что я говорил так грубо. Когда я шел сюда, мне хотелось убить ее голыми руками, и я сорвал на вас свой гнев. – Он допил остаток вина. – Но явился я не только для того, чтобы изливать перед вами свою ярость. У меня была совершенно иная цель, хотя сейчас, вероятно, не подходящий момент. – Он пристально посмотрел на Джейн, потом притянул ее к себе, крепко обнял и поцеловал в макушку, и Джейн почувствовала, как король нуждается в ней. – Или, может быть, момент как раз самый подходящий, – пробормотал он, уткнувшись ей в волосы, потом отклонился назад, не выпуская Джейн из рук, и заглянул ей в глаза. – Когда все это закончится, вы выйдете за меня? Несмотря на все домыслы и предположения, высказанные за последние недели, у Джейн перехватило дух. – О Генрих! – наконец выдохнула она. – Я люблю вас, Джейн, – сказал он, не отрывая от нее взгляда, – и на сей раз это истинная любовь, чистая и благородная, а не одержимость, как с Анной. Я тогда потерял голову, но теперь стал старше и мудрее. Знаю, что есть благо и что действительно ценно. Я делаю вам предложение не как король, а как ваш смиренный поклонник. Скажите, что вы примете меня! Джейн заколебалась. Каждая частичка ее существа хотела ответить «да», но ей предлагали сесть в кресло женщины, которая вскоре, вероятно, примет страшную смерть, чтобы освободить ей место. Потом она подумала о ребенке, который рос у нее под поясом, и о людях, возлагавших на нее надежды и много месяцев трудившихся ради того, чтобы этот момент настал. Вспомнила принцессу Марию и свои надежды облагодетельствовать ее, если она станет супругой короля, а также планы исправить вред, причиненный Анной Церкви, желание содействовать благу Англии. Королева была виновна, в этом Джейн не сомневалась. Вероятно, не в ее силах было предотвратить гибель соперницы, но она, по крайней мере, могла повлиять на то, какой будет ее смерть. Генрих не отпускал Джейн и продолжал смотреть на нее молящим взглядом. – Я люблю вас, – сказала она и увидела в его глазах слезы. – И с радостью выйду за вас замуж, но сперва я хочу, чтобы вы мне кое-что пообещали. – Что я должен сделать? – спросил он. – Поклянитесь, что не отправите Анну на костер. Иначе я буду винить в этом кошмаре себя. Пусть она совершила ужасные преступления, но я не смогу жить с мыслью, что королевой меня сделали ее страдания. Генрих нахмурился, но гнев его постепенно утихал. – Хорошо, Джейн. Милосердие – достойное восхищения качество королевы. Я клянусь вам, она не отправится на костер. Какой страшный разговор! Они дошли в нем до момента, когда Джейн должна была обрадоваться, что Анну не сожгут заживо, потому что ей все равно суждено умереть, дабы расчистить им путь к браку. Хотелось ли ей стать его супругой при таких обстоятельствах? Джейн подумала о новом человечке, которого она почти наверняка носит. Выбор был сделан. – Благодарю вас, Генрих, – тихо сказала она. – Я стану вашей женой, и ничто не доставит мне большей радости. Он прижал ее к своей груди, и его губы сомкнулись на ее губах. Генрих целовал Джейн с большим жаром, чем когда-либо прежде. В этом лобзании слились страсть и томление, но в него прокралась и боль. Странно получать предложение руки и сердца в таких мрачных обстоятельствах, и Джейн не знала, верное ли решение приняла, но осмелилась горячо молиться, чтобы Господь благословил этот брак, даже если он неизбежно будет замешан на крови. – Вы сделали мне предложение весьма своевременно, – сказала она. Генрих выглядел озадаченным, он ничего не понимал. – Кажется, я жду ребенка, – пояснила Джейн и увидела, как лицо короля осветилось радостной надеждой. – Неужели? – недоверчиво спросил он. – Я почти уверена. Еще неделя, и я буду знать наверняка. – Хвала Всевышнему! – воскликнул Генрих. – Сын увенчает наше счастье. Благословение Господне. – И он поцеловал ее с новым пылом.
Они засиделись допоздна, разговаривая и строя планы на будущее. – Нам нужно пожениться как можно скорее, – сказал Генрих. – Я не могу сказать когда, но это случится в ближайшее время и, разумеется, до того, как вы начнете быстро прибавлять в теле. Сын! Не могу поверить в это. – Я готова, – сказала Джейн, понимая, что теперь ответственность за рождение принца лежит на ней. Она ощутила волну дрожи и взмолилась, чтобы Господь улыбнулся этому браку. – Я желаю только одного – сделать вас счастливым. Вы заслужили немного счастья, Генрих. «Это сделает его добрее, – подумала Джейн, – и он станет лучше как король». Генрих поцеловал ее: – Знаете, не могу припомнить, чтобы Анна хоть раз говорила мне такие слова. Благослови вас Бог, Джейн, за ваше доброе сердце. Он сказал ей, что их брачные планы и процесс против Анны нужно пока держать в секрете. Нельзя допускать разговоров о том, что король избавился от неугодной супруги только ради того, чтобы взять себе другую жену. Тем не менее Джейн могла, по строжайшему секрету, оповестить о предстоящем событии своих родных. «И еще, – добавил Генрих, усмехаясь, – мне нужно испросить дозволения на брак у вашего отца». – Сомневаюсь, что он вам откажет! – со смехом отозвалась Джейн. Этой ночью король лег с ней, но не овладел ею. «Это может повредить ребенку, – сказал он, – есть и другие способы телесной любви». Он ласкал ее и показал, как можно доставить удовольствие ему. Когда он уснул, Джейн попыталась успокоить неуемные мысли. Генрих любил ее, теперь это было ясно. Он мог взять в жены любую принцессу в христианском мире, но выбрал ее. Однако она не могла не терзаться сомнениями: а что, если Генрих сделал ей предложение в горячке, услышав о преступлениях Анны? Или не был готов тратить время на переговоры о браке с особой королевских кровей, а потому обратил свой взор на нее в надежде, что она, имея плодовитых предков, родит ему сыновей. А может, она была для него средством спасти лицо, ведь очень скоро весь мир узнает, как унизила его королева Анна своими изменами. Известие о новой женитьбе короля послужит хорошим средством стереть из людской памяти воспоминания о любом происшествии, затрагивающем его мужскую честь. И все же разве могла Джейн не верить его чувствам, усомниться в том, что нужна ему? Она была вынуждена признаться самой себе в прагматических мотивах своего желания выйти за Генриха. Страхи по поводу беременности мгновенно обратились в радостное ожидание. Но это не умаляло силы ее любви к нему. Ей пришлось смириться с неутешительным фактом: устранение Анны было неизбежным и необходимым. Джейн сделала для нее, что могла. Она снова подумала о бесплодных попытках Анны родить сына. Ни к чему было ей обращаться к другим мужчинам в надежде забеременеть, ведь Генрих был зрелым мужем и страстным любовником, это Джейн узнала на собственном опыте. Нет, если Анна пошла по пути измен, то сделала это для собственного развлечения и удовлетворения амбиций. Собиралась ли она выйти за Норриса после смерти короля? Джейн не могла поставить никого другого на это место. Может быть, Анна грешила только с ним и, вероятно, со Смитоном, хотя в последнее как-то не верилось. Судьба Норриса сильно тревожила Джейн. Наказанием для совершивших измену мужчин было повешение, потрошение и четвертование; только для лиц благородного происхождения эта казнь заменялась отсечением головы, и только в том случае, если король соизволит проявить милость. Джейн передернуло. Во сне ее мучили кошмары, в которых она, привязанная цепями к столбу, в ужасе смотрела, как поджигают вязанки хвороста у ее ног. Вот поползли вверх языки пламени, и ее сорочка занялась… Она проснулась, тяжело дыша от страха, и увидела сияющее за окном солнце. Наступил Майский день.
В то утро Джейн вышла из своей комнаты и застала Эдварда и Нан в гостиной; оба они были в ночных сорочках, сидели за столом, отламывали кусочки хлеба и запивали их элем. Джейн присоединилась к ним, но внутри у нее все кипело от возбуждения и страха, так что есть она почти не могла. – Я должна сказать вам кое-что важное, – заговорила она. – Вчера вечером король сделал мне предложение, и я его приняла. Глаза Эдварда заискрились от радости; Нан тоже выглядела победительницей. – Боже мой, Джейн, ты добилась своего, какая же ты умница! – воскликнул Эдвард, вставая и очень крепко, что не было у него в обычае, обнимая сестру. – Теперь наше будущее обеспечено! И мы, Сеймуры, кое-что покажем миру! Джейн улыбнулась ему, едва веря в происходящее. Подумать только, благодаря ей семейство Сеймур достигло процветания! Она пока не откроет им своих надежд на ребенка. Подождет, пока не будет точно уверена и благополучно не выйдет замуж. Тут же послали за Томасом и Гарри. Томас, услышав новость, издал ликующий вопль, младший брат проявил больше сдержанности. – Джейн, а ты твердо уверена, что хочешь этого? – спросил он. – Не думай, что обязана принять предложение короля ради нас. Сестра уставилась на него. Она-то думала, Гарри так же жаждет этого брака, как и остальная родня. Надо было раньше понять, что он единственный не стал бы давить на нее. – Конечно, она этого хочет! – вмешался Томас. – Хочу, – заверила их всех Джейн. – Я люблю короля. Он всегда был так добр ко мне. Только хотелось бы выйти за него при более радостных обстоятельствах. – Джейн, ты не предавала короля и не замышляла посягательств на его жизнь. Анна сама накликала на себя беду, – твердо сказал Эдвард. – Королю нужен наследник. Он избавится от Леди и женится вновь – на тебе или на ком-нибудь другом. На этот счет пусть совесть тебя не тревожит. Тебе не в чем себя упрекнуть! – Это верно, – поддержал брата Гарри. – Ладно, попытаюсь не испытывать чувства вины, – согласилась Джейн. – Но чисто по-человечески я не могу не сочувствовать ей. Если бы его милость просто объявил их брак незаконным, я бы не тревожилась. Но такого я не предполагала. – Вы не должны думать об этом, – сказала Нан. – К вам это не имеет никакого отношения. – Благодари Господа, тебе есть за что, – сказал Эдвард, – а мы должны сообщить эту восхитительную новость родителям. Я пошлю за ними сегодня же. – Я бы хотела сказать им все сама, – попросила Джейн. – Тогда я просто передам им, – кивнул Эдвард, – что они должны явиться ко двору, потому как здесь произошло событие, которое их очень заинтересует и обрадует. – Они догадаются! – фыркнул Томас, и Эдвард нахмурился. – Просто скажи им, что мне сейчас необходимы их общество и советы, – предложила Джейн. – Хорошая идея, – согласился Эдвард. – Нам всем хочется увидеть их лица, когда они услышат новость. Я отправлю к ним гонца сегодня же. И дней через десять-одиннадцать они будут с нами. Нан встала, говоря: – Уже поздно. Надо готовиться к турнирам.
Глава 23
1536 годДжейн сидела на трибуне вместе с братьями и Нан. Состязания проходили на турнирной площадке Гринвича. Джейн любила Майский день, в этом году он принес с собой теплую погоду и радостное настроение, а потому она надела розовое дамастовое платье и не стала убирать волосы. Ветер трепал вымпелы, зрители расселись по местам или встали за барьерами. В назначенное время появился король: он разместился в первом ряду на королевской трибуне, которая была устроена между двумя одинаковыми башнями. «Как он величествен», – подумала Джейн, глядя на него. Генрих и правда выглядел прекрасно: высокий и статный, одетый в черное с золотом, монарх источал силу и властность, его прекрасное лицо раскраснелось в предвкушении красочного зрелища. Анна, облаченная в серебряную парчу, села рядом с ним. Джейн не могла смотреть на нее, зная, какая участь ей уготована. Ее вновь охватили лихорадочное чувство вины и страх. Начались поединки. Генрих и Анна всем своим видом показывали, что им очень нравится происходящее, а вот Джейн было трудно сосредоточиться: рыцари скакали по площадке с копьями наперевес, доспехи сверкали. Лорд Рочфорд возглавлял группу бросавших вызов, а сэр Генри Норрис исполнял роль предводителя защищавшихся. В какой-то момент конь Норриса вышел из повиновения, он отказывался идти на площадку и яростно всхрапывал. Генрих нагнулся вперед и что-то крикнул сэру Генри. Через несколько минут тот вернулся на поле, сидя на коне самого короля, знаменитомГовернаторе. Зрители вскочили на ноги, когда сэр Томас Уайетт выиграл поединок, проявив изрядную ловкость, однако и все прочие рыцари, включая Фрэнсиса Уэстона, демонстрировали отменное умение владеть оружием. Король поддерживал их громкими криками, а королева одобрительно улыбалась. Прошла всего половина турнира, когда Джейн увидела человека в королевской ливрее, который подошел к Генриху и что-то сказал ему на ухо. Король нахмурился, встал и молча покинул трибуну; Анна и все прочие в недоумении смотрели ему вслед. Джейн взглянула на своих братьев, пытаясь понять, что это значит. Вся дрожа, она вернулась к наблюдению за турниром. Вокруг поднялся ропот встревоженных голосов. Рыцари продолжали наскакивать друг на друга, но зрители больше не следили за поединками. Джейн посмотрела туда, где сидела королева. На лице Анны застыла улыбка. Норрис еще не закончил выступление, однако на площадке больше не появлялся. Джейн ощутила тошноту. Началось. По окончании турнира она вместе с братьями возвращалась во дворец. Там их поджидали Брайан и Кэри. – Король отбыл в Вестминстер, – сообщил сэр Фрэнсис. – Он взял с собой только шесть человек, включая Норриса, и просил передать вам это. Брайан протянул Джейн запечатанное письмо. Оно было коротким и без подписи:
То, чего мы так желали, скоро случится. М. С. признался во всем и даже больше.
– Что это значит? – спросила Джейн, отдавая лист Эдварду, хотя сама прекрасно все поняла. Остальные выгнули шеи, чтобы тоже прочесть текст. – Это означает, что Смитон признался в чем-то и, вероятно, изобличил остальных, – сказал Кэри. – Бьюсь об заклад, ему не понравилось в гостях у мастера Кромвеля. – Это означает, что скоро Леди лишится трона, – заявил Эдвард. – И тогда… Джейн не могла спокойно думать о том, что случится. Да, она станет женой короля, и это повод для радости, но сперва ей предстоит пронестись над страшной бездной. Она не знала, как пережить это.
– Королева арестована! – крикнула Нан, влетев в апартаменты и напугав Эдварда и Джейн. – При дворе все об этом говорят! Ее забрали в Тауэр сегодня вечером на глазах у множества людей. – В чем ее обвиняют? Эдвард подскочил, а Джейн пробила дрожь. – Кажется, в измене. Некоторые утверждают, что в прелюбодеянии. Но похоже, подробности никому не известны. – Глаза Нан сверкали от возбуждения. Раздался короткий стук, и в дверь быстро вошел Брайан. – Вы уже знаете, – сказал он, окинув взглядом лица хозяев. – Я только что видел Шапуи. Он просил передать вам, Джейн, что вы ни в коем случае не должны считать себя ответственной, потому что это Божественное отмщение Анне за все те несчастья, которые она принесла королеве и принцессе. – Значит, он верит в ее виновность? – Он не сомневается. Как и все мы, я полагаю. – Брайан посмотрел на Эдварда и Нан, те мрачно кивнули. – Шапуи предсказывает, что исходом этого дела станет ее казнь. Джейн закрыла глаза, не желая думать об этом. Потом к ним присоединились Кэри и Томас. – Я так и думал, что вы будете здесь, – сказал сэр Николас Брайану. – Я пришел приветствовать свою будущую королеву. – Он низко поклонился Джейн. – Аминь! – сияя улыбкой, произнес Томас. – Почему у тебя такой несчастный вид, сестра? Скоро ты наденешь корону. – Что верно, то верно, – отозвалась Джейн и обратилась к Брайану и Кэри: – Сохраните это в тайне, так как мне позволено сообщить только своим родным. Король просил меня выйти за него замуж, и я согласилась. – Слава Богу! – хором воскликнули Брайан с Кэри и по очереди обняли Джейн. – Это нужно отпраздновать! – Я бы предпочла подождать окончания этого ужасного дела, – со слезами на глазах ответила Джейн. Брайан обернулся к ней: – Джейн, вам следует вместе с нами радоваться, что его милость избежал смертельной опасности, а вы станете его супругой и нашей королевой. Когда эта дьяволица перейдет в мир иной, дети, которых вы родите королю, будут считаться законными без малейших сомнений. Так что у нас не один повод для торжества! Вдруг откуда-то издалека донесся раскатистый грохот. Все переглянулись. – Это пушка, – сказал Томас. – Стреляют из Тауэра, это оповещение, что в тюрьму заключен преступник высокого ранга, – пояснил Кэри. – Несколько лет назад залпы давали, когда туда попал герцог Бекингем. Наступила тишина, все вспомнили кровавую смерть Бекингема на плахе: его казнили за измену. – Перемен давно ждали, – нарушил молчание Брайан. – Новая королева на троне, и принцесса – на законном месте. – И сыновья для короля, по милости Божьей, – добавил Эдвард. Джейн отвернулась. Анну еще не осудили. Но конечно, обвиняемые в измене редко избегали смерти, а насчет королевы Джейн больше не сомневалась. Она была виновна. Так говорили все.
Джейн не хотела показываться при дворе. Ей был невыносим жадный интерес придворных, так же как и внезапно наступавшая при ее появлении тишина. Она оставалась за закрытыми дверями апартаментов и ждала новостей. Поздно вечером пришел Эдвард. Брат сообщил, что лорда Рочфорда препроводили в Тауэр. – Вероятно, он тоже замешан в заговоре. Разумеется, реформаторы в шоке. Они опасаются, что изменения в религии неизбежны. – Я на это очень надеюсь, – сказала Джейн, мысленно оценивая грандиозность задачи, которую ей предстоит решить. По плечу ли ей такое? Уверенности в этом не было. О, как бы ей хотелось, чтобы рядом была мать! Она опустила бы голову на ее теплую пышную грудь и доверила бы родительнице все свои страхи, зная, что та не станет утешать ее шутливыми отговорками, но все поймет. Джейн мысленно молила Генриха прислать ей весточку; хотелось знать, что происходит, однако новостей от короля не поступало. Как же неприятно было оставаться в Гринвиче, когда он в Йорке. Эдвард говорил, что Генрих не появлялся на публике с момента ареста Анны. В полночь, к изумлению Джейн, вдруг явился король, в накидке и капюшоне. Он был напряжен, беспокоен и очень зол. Эдвард и Нан быстро скрылись в своей спальне. – Боже правый, как же я хотел увидеть вас! – произнес король, крепко прижимая к себе Джейн. – Я приехал на лодке из Уайтхолла и должен скоро вернуться. Не могу передать вам… У вас не осталось того рейнского? – Конечно осталось. – Джейн оторвалась от него, сняла салфетку с большого кувшина и налила гостю полный кубок вина. – Сядьте и отдохните. Генрих почти одним махом опорожнил его наполовину. – Смитон признался в любовной связи с королевой. И это после того, как я поднял его из полного ничтожества! И он сказал, что был не единственным. Назвал Норриса – Норриса, моего друга и самого доверенного слугу! Лицо короля исказила гримаса боли, все сходилось один к одному, и Джейн задумалась, не стоит ли рассказать ему о том, что она видела в башне Мэйфлор. – Он уличил также Уэстона, которого я любил, и Уильяма Бреретона из моих личных покоев, – продолжил Генрих. – Она грешила со всеми! Но самое ужасное, Джейн, что он назвал Рочфорда. – Лицо короля вспыхнуло. – Ее родного брата! – О Боже мой! – воскликнула Джейн, потрясенная до глубины души. – Это… невозможно представить, что кто-то мог опуститься до такой низости. – Вы бы поверили в это, если бы увидели доказательства, чего, я надеюсь, никогда не произойдет. Подробности отвратительны. – Генрих втянул ноздрями воздух. – И на вершине ее блуда – заговор с целью убить меня. Она заплатит за это! Закон сделает свое дело. – Но вы не отправите ее на костер? – молящим голосом проговорила Джейн. – Нет, дорогая. Я не забыл своего обещания. Смерть ее будет легкой, если вас это утешит. Ее содержат с комфортом в комнатах королевы. Это больше, чем она заслуживает! – Губы Генриха презрительно скривились. – Ну что же, скоро я от нее избавлюсь. И дабы ничто не препятствовало нашему сыну наследовать трон, я сегодня приказал Кранмеру найти основания для аннулирования моего брака. Елизавета будет объявлена бастардом. Члены Тайного совета утверждают: нет никаких гарантий, что она моя дочь, учитывая многочисленные измены Анны на протяжении нашего брака. – Вы верите, что Елизавета не ваша дочь? – спросила Джейн. – Конечно нет, – вздохнул Генрих. – Стоит только взглянуть на нее, и сразу ясно, чей это ребенок. В ней столько же от меня, сколько и от Анны. Но я предупрежден: спекуляции на тему отцовства принцессы могут подорвать основания для наследования ею престола. Мне нужно расчистить путь к новому, не вызывающему сомнений браку. Джейн с сожалением подумала о судьбе Елизаветы: девочке еще не исполнилось и трех лет, а она вот-вот останется без матери и наследства. Мысль была почти невыносимой. Невинное дитя… Но нужно было подумать и о Марии, которую жестоко лишили положенного ей по праву рождения. Джейн собралась с духом и сказала: – Генрих, когда я стану королевой, то буду от всего сердца надеяться, что увижу леди Марию восстановленной в правах на престол. Король покачал головой: – Джейн, вы говорите глупости. Вам следует защищать права наших с вами детей, и никаких других. Джейн, уязвленная, принялась защищаться: – Я думаю о них, но также забочусь о том, чтобы у вас на душе был мир, ведь, если вы не поступите по справедливости с Марией, англичане будут недовольны. Она прикрыла рот рукой, поняв, что осмелилась критиковать позицию короля по отношению к старшей дочери; благоразумные люди уже давно себе такого не позволяли. Опустив голову, Джейн ждала, что король разгневается. – Посмотрите на меня, Джейн, – попросил Генрих; она подняла глаза и увидела, что он вовсе не сердится, но глядит на нее с любовью. – Вы снова устыдили меня своим добросердечием. Простите, дорогая. Я сейчас как старый медведь, срываюсь по любому поводу. Это ужасное дело с Анной совсем испортило мне настроение. Я подумаю о том, как быть с Марией, обещаю вам, но пока у меня хватает проблем. И сюда я пришел сказать вам, что останусь затворником в своих покоях во дворце Йорк, пока все это не закончится. – Значит, я вас не увижу? – грустно спросила Джейн. Как она нуждалась в его присутствии, его убежденности! Они помогали ей одолеть сомнения относительно Анны. – Что вы, дорогая, мы увидимся очень скоро. Я с трудом выношу разлуку с вами, но это ненадолго. – Он поцеловал ее нежно и томно, после чего отпустил. – Пока я предпочитаю оставаться в уединении. Вся эта история крайне унизительна для меня. Я буду видеться только с мастером Кромвелем и несколькими своими советниками и секретарями. И с вами, когда смогу. Она поняла. Королю, обладавшему огромной властью и мужской силой, жена изменяла с его лучшим другом, каким-то безродным музыкантом и собственным братом. Да это позор на весь мир! – Я пошлю за вами, как только представится такая возможность, – пообещал Генрих и скрылся в ночи.
На следующий день ближе к вечеру повидаться с Джейн пришел Шапуи. Впервые посол императора открыто искал встречи с ней и посетил ее апартаменты. Все братья Джейн как раз были у нее. Это неординарное событие явно произвело на них впечатление. Шапуи низко поклонился: – Госпожа Джейн, я пришел сказать вам, что уже проинформировал принцессу об аресте Леди и она прислала ответ, в котором просила меня оказывать вам и господину Кромвелю, а также всем, кто вас поддерживает, всемерную помощь в достижении вашего продвижения. Джейн не раскрыла своих секретов. Но как же ей хотелось сообщить Шапуи, что Генрих сделал ей предложение. Однако пусть король сам скажет ему в свое время, а сейчас еще рано. Тем не менее поддержка принцессы ободряла ее. Мария наверняка торжествовала, узнав об аресте своей главной противницы. – Когда будете писать принцессе, прошу вас, передайте ей мою искреннюю благодарность, – попросила Джейн. – Я тоже не теряла времени и старалась ради нее. – Она сообщила Шапуи о своем разговоре с Генрихом. – Когда все это закончится, я надеюсь, его милость станет смотреть на нее с большей симпатией. Я не отступлюсь, обещаю вам. Шапуи улыбнулся. Он и правда был очень привлекательным мужчиной, в нем ощущались мудрость и способность к состраданию. – Эти аресты потрясли всех. Я слышал, в Тауэре с королевой содержатся уже пятеро мужчин, и некоторые придворные джентльмены опасаются, как бы их не обвинили следом. Утром допросу у Кромвеля подвергся даже сэр Фрэнсис Брайан, а он известен как ваш человек. Рука Джейн подлетела ко рту. – Неужели и Брайан? Она увидела, что Эдвард побледнел. – Нет, уверяю вас, – поспешил успокоить ее Шапуи. – Я видел его после допроса, и он сказал мне, что ясно выразил свое враждебное отношение к Леди и дал понять, что только выгадает от падения тех, кого обвиняют вместе с ней. В общем, он убедил господина Кромвеля в том, что уже давно сторонится Леди, и с него были сняты все подозрения. Ему повезло. Однако я вот что думаю: вероятно, его освобождение имело целью подчеркнуть вину остальных. – Слава Богу! Сердце Джейн колотилось. В дверь постучали. За порогом стоял посланец в королевской ливрее. – Я должен вас покинуть, – сказал Шапуи, поклонился и ушел. Вестовой передал Джейн запечатанное письмо и ждал ответа. Она вскрыла послание Генриха и прочла, не зная, радоваться или печалиться.
Дорогая, я пошлю за Вами, лишь только смогу, как и обещал, но, думаю, люди будут испытывать меньше подозрений и с большим доверием отнесутся к процессу, который идет, если Вы не станете появляться на публике. Сэр Николас Кэри предложил свой дом как убежище для Вас, и он проводит Вас туда немедленно. Это ненадолго, обещаю Вам. Писано рукой любящего Вас от всего сердца Н. R.[64]
Джейн повернулась к братьям: – Он отсылает меня, чтобы избежать сплетен и кривотолков относительно возбужденного против Леди дела. Николас Кэри предоставил свой дом в мое распоряжение, и я должна отправиться туда сегодня. Не представляю, где он находится, и не хочу, чтобы меня отправляли в ссылку. – Если король так распорядился, ты должна ехать, – строго сказал Эдвард. – От этого многое зависит. – У Николаса дом в сельской местности, – сообщил им Томас, – недалеко от Лондона. – Это в Беддингтоне, в Суррее, – уточнил Эдвард. – Кто поедет с тобой? – Меня проводит туда сэр Николас, но король пишет, что я должна взять с собой одного из вас. – Я нужен здесь, – быстро отозвался Эдвард. – Кто-то должен во все глаза следить за происходящим. – Я должен быть в Уайтхолле сегодня вечером, – сообщил Томас. Эдвард сердито глянул на брата: – Что у тебя там за дело? – Тоже буду следить во все глаза, – последовал ответ. – Джейн, я поеду с тобой, – сказал Гарри. Она посмотрела на него с благодарностью. – А я помогу вам собрать вещи, – предложила Нан.
Беддингтон-парк на вид не понравился Джейн. От Гринвича он находился далеко – пришлось проехать больше двенадцати миль по окружавшим Лондон мелким поселениям. Но когда они покинули рыночный городок Кройдон, то въехали в обширный олений парк, о котором Кэри с гордостью заявил, что это его владение. – Теперь уже недалеко, – сказал он. Сумерки сгущались. Наконец показалась церковь. – Дом сразу за ней. – Сэр Николас указал пальцем. Постепенно на фоне неба стал вырисовываться грозный черный силуэт большого здания. – Мой отец построил главный зал и два крыла, – рассказывал Кэри. Джейн захотелось повернуть коня и ускакать прочь. Это место выглядело таким зловещим. Она глубоко вдохнула. Наступил вечер. Слуги ожидали их, держа в руках факелы. Вблизи Джейн увидела, что дом построен из красного кирпича, а вокруг него разбит аккуратный сад, но все равно он выглядел неприветливым. Кэри помог ей сойти с коня, пока Гарри оглядывался, оценивая новое жилище. – Милое у вас тут местечко, сэр Николас, – сказал он. – Подождите, вы еще не видели главный зал, – с улыбкой ответил хозяин. – Он вдохновил строителей Хэмптон-Корта. Размером он, конечно, был поменьше, но Джейн была вынуждена признать, что зал великолепен, со своей крышей без поперечных балок, высокими окнами и отделкой из дубовых панелей. – Вас наверняка утомила поездка, – сказал Кэри. – Мой управляющий проводит вас в ваши покои. Вперед вышел человек в ливрее. Комната Джейн оказалась роскошнее любой в Вулфхолле, и это показывало, как преуспел Кэри при дворе. Кровать была с дорогим стеганым покрывалом и тяжелыми дамастовыми шторами; тут имелась также скамья, заваленная подушками, и дубовый стол с точеными ножками. Румяная горничная в чистом платье и чепце ожидала гостью, чтобы помочь распаковать вещи. – Меня зовут Мэг, госпожа, – сказала она. – Я буду служить вам, пока вы здесь. Если вам что-нибудь понадобится, скажите мне. – Благодарю вас, – сказала Джейн, опускаясь на подушки. Тело у нее ныло от долгого сидения в седле, она чувствовала себя разбитой и необычайно усталой, вероятно, из-за беременности, к тому же ей было неуютно, несмотря на роскошную обстановку в доме. Она мысленно молилась, чтобы Генрих поскорее вызвал ее к себе. Ей не хотелось задерживаться здесь дольше необходимого. – Пожалуй, я не буду выходить, Мэг, – сказала она. – Останьтесь со мной. Я не люблю проводить ночи одна. Тут есть соломенный тюфяк, на котором вы могли бы спать? – Да, есть, госпожа, – ответила служанка, вытаскивая его из-под кровати с пологом. – Я приготовлю себе постель. Джейн спустилась вниз, чтобы поблагодарить Кэри за гостеприимство и пожелать ему спокойной ночи. – Рано утром я вернусь ко двору, – сказал он, – но в мое отсутствие управляющий обеспечит вас всем необходимым. Надеюсь, вы оцените, какой отличный стол держит мой повар.
Ночью уснуть было трудно. Джейн не любила задергивать шторы, поэтому в комнату через окна с ажурными решетками проникал лунный свет и комната была полна теней. Джейн закрыла глаза, чтобы не видеть их, и думала о Генрихе – что-то он делает – и об Анне, заточенной в темницу в Тауэре. Можно представить, как она сейчас терзалась. Как это, должно быть, ужасно – оказаться под замком и бояться, имея на то веские причины, что единственный путь из тюрьмы ведет на эшафот. Джейн выкинула эту мысль из головы и заставила себя подумать об отце и матери, которые, наверное, вскоре прибудут в Лондон. Лишь бы ей к тому моменту выбраться отсюда. В этом обширном пустом доме было так тихо, и Гарри спал в другом крыле. Хорошо хоть Мэг осталась с ней и негромко посапывала рядом. Перед тем как уснуть, Джейн услышала, как церковный колокол пробил три раза. Ей привиделось, что она встала и подошла к окну, стояла там и смотрела на башню церкви напротив. За окнами появился свет: бледный, движущийся огонек по форме напоминал диск; вдруг он превратился в бесплотный лик с черной бородой и без тела, по крайней мере, так казалось. Потом огонек угас, и все исчезло. Джейн охватил необъяснимый ужас, и она проснулась. Ясно, что в этом доме нечисто! Первым ее побуждением было бежать, но куда? Во тьму гулкого, как пещера, пустого главного зала? Нет, этого ей не вынести. Она зарылась глубже в постель, натянула на голову покрывало и вдруг заметила, что тихо плачет. – С вами все хорошо, госпожа? – раздался сонный голос с соломенного тюфяка. – Нет, Мэг, – призналась Джейн, выглядывая из-под одеяла. – Мне приснился кошмарный сон. Будто я увидела лицо в окне церковной башни, лицо с черной бородой. – Да, госпожа, люди говорят, что в церкви живет призрак, – сказала Мэг с оттенком зависти в голосе, – хотя я сама ничего такого не видела. Наверное, вам привиделся Старый Скрат. Моя бабушка говорила, что он появляется в округе, когда должно произойти что-то важное. Это предзнаменование. – Старик Скрат? Но это же дьявол! – Ага, и когда он появляется, значит должно свершиться какое-то дьявольское дело – так говорила мне бабушка. Джейн затрясло. Лучше и не опишешь эту историю с Анной. Дьявольское дело. В жуткие часы ночной тьмы этот сон действительно казался пророческим.
Только через три дня – долгих, томительных, беспокойных – Джейн получила письмо от Генриха. Он отправился в Хэмптон-Корт, где занимался приготовлениями к свадьбе. Это ее обрадовало, но ей хотелось быть там вместе с ним, участвовать в подготовке. Если бы она выходила замуж за кого-нибудь другого, организацию торжеств взяла бы на себя мать: она жарила бы мясо и пекла пироги для свадебного пира. Увы, бедная матушка будет лишена этого удовольствия. Остальная часть послания Генриха была написана в более серьезном ключе. Дело королевы будет рассмотрено жюри присяжных, состоящим из пэров, в Тауэре 15 мая, через девять дней. Джейн думала, что не вынесет неопределенности и тревоги ожидания. Но у нее не было выбора. Она написала ответ, сообщая радостные вести: теперь уже нет никаких сомнений в том, что у нее будет ребенок, и она ждет не дождется встречи с любимым Генрихом.
Уже неделю Джейн томилась в Беддингтоне, как вдруг услышала стук копыт на переднем дворе. Торопливо подойдя к окну, она увидела Эдварда и Томаса. Братья спешивались, а позади них вылезали из носилок ее родители. Джейн подлетела к двери и распахнула ее с криком: – Матушка! Отец! Они быстро подошли к ней и заключили в объятия. Как давно она их не видела – целых девять месяцев! Мать была такой же, как прежде, – полная, эмоциональная. Увидев ее, Джейн испытала огромное облегчение; а вот отец – она едва смогла скрыть тревогу. Он выглядел каким-то усохшим и постаревшим – тень прежнего сэра Джона; в его густых каштановых волосах появилась седина. Что с ним случилось? Ее охватило чувство вины. Давно нужно было съездить домой и навестить родителей. – Эдвард говорит, у тебя есть новости для нас, – сказал отец, после того как они обменялись приветствиями и вошли в главный зал. Мать в восхищении смотрела на потолок. – Да, – ответила Джейн, видя, что братья лопаются от нетерпения, так им хочется самим оглушить родителей радостной вестью. Она оглянулась, нет ли рядом слуг: вдруг услышат? – Король просил меня выйти за него замуж, и я согласилась. Мать вскрикнула от радости и обвила Джейн руками. Глаза отца наполнились слезами от гордости. – Подумать только, я дожил до того, что увижу свою дочь королевой, – проговорил он. – Можно ли было и мечтать о таком? – Не знаю точно, когда состоится свадьба, но король уверяет меня, что скоро, – сказала родителям Джейн. – Я полагаю, вам известно о деле королевы? – Мать и отец знают, что Леди будут судить за измену и что вина ее несомненна, – пояснил Эдвард. – Если бы было иначе, король не сделал бы мне предложения, – заверила их Джейн, – и я не приняла бы его. Но он сказал, что доказательства неоспоримые, и у меня есть основания верить в это. – Видя, что все смотрят на нее удивленно, она добавила: – Только не расспрашивайте меня. Я просто знаю. Эдвард кивнул. Мать поглядела на нее с тревогой: – Лучше бы ты выходила за него при других обстоятельствах. – Мне бы тоже этого хотелось, – горячо согласилась с матерью Джейн. – И ты можешь сказать нам, где состоится свадьба? – В Хэмптон-Корте. Король сейчас там, занят приготовлениями, так что ждать недолго. – Голос Джейн дрогнул. – Леди и ее брата будут судить в понедельник. – А ее приспешников – завтра в Вестминстер-Холле, – сообщил Эдвард. – Завтра? – эхом отозвался Томас. – Разве их будут судить отдельно от нее? – Леди – королева, а они – простые подданные. Она и Рочфорд имеют право на то, чтобы их дело разбирали пэры; остальные предстанут перед обычным судом присяжных. – Но приговоры, которые вынесут завтра, могут повлиять на вердикт суда над ней, – заметил сэр Джон. – Едва ли этому придадут значение, учитывая имеющиеся доказательства. Так мне говорили, – сказал Эдвард. Отец посмотрел на него с сомнением. – Не будем об этом, – быстро сказала Джейн. – Отец, матушка, вы, должно быть, устали после долгого пути. Пойдемте, вы отдохнете в зале, а я прикажу подать закуски. – И мы должны обсудить твое свадебное платье, – сказала мать. – Надо заказать его, да поскорее, и это должно быть нечто дорогое. – Она с надеждой взглянула на сэра Джона. – Думаю, нам следует подождать, пока решится судьба королевы, – сказал он. – Невозможно сшить свадебное платье за одну ночь! – возразила мать. – Я понимаю, вы стараетесь сделать как лучше, матушка, но это будет нехорошо, – твердо заявила Джейн. Леди Сеймур недовольно согласилась: – Ну ладно, надеюсь, король оповестит нас заранее. Интересно, не нужна ли ему помощь в планировании свадебного пира.
Позже в тот же день Эдвард и Томас ускакали обратно ко двору. Им не терпелось узнать об участи любовников королевы, и они обещали прислать весточку в Беддингтон, как только представится такая возможность. Джейн ждала в тревоге и не могла ничем заниматься. Состояние отца ее тоже беспокоило. – Он болен? – спросила она мать, застав ее одну в проходе за перегородкой, отделявшей подсобные помещения от главного зала. На мгновение маска спала с лица леди Сеймур. – Я не знаю. Зимой он перенес лихорадку, и аппетит к нему так и не вернулся. Он быстро утомляется. Эта поездка была для него нелегким испытанием, но он настоял на том, чтобы ехать, и клянется, что с ним все в порядке. – Вы просили его показаться врачу? – Да, и он обругал меня. Отец Джеймс тоже пытался. Ты же знаешь своего родителя: ему претит признаваться в слабости. – Может, мне поговорить с ним? – Нет, дитя! – отрезала мать. – У тебя своих забот хватает. Я уверена, он скоро оправится, раз наступила хорошая погода.
Вечером в пятницу прибыл гонец от Эдварда, весь в поту. Семья собралась вокруг Джейн, а она, дрожа, читала доставленное послание. Виновны в измене все. Их ожидала страшная участь, уготованная предателям. Джейн живо представила себе веревки на виселицах, врезающиеся в плоть ножи, невыносимые муки, кровь… Она убежала в уборную, где ее вырвало. Вернувшись в гостиную, Джейн по лицам родных поняла: они тоже думали об ужасном приговоре. – Теперь у нее нет никакой надежды, – прошептала она.
На следующий день пришло письмо от короля. Он вернулся во дворец Йорк и скучал по ней; он хотел, чтобы она была рядом, особенно в это тяжелое время. До Беддингтона не добраться по реке, а он не хочет, чтобы в такой момент люди видели, как он скачет к ней. Неутомимый сэр Николас Кэри нашел для нее новое жилище, куда Генрих сможет приплыть на барке и повидаться с ней. Ее родители и Гарри могут оставаться там с ней в качестве компаньонов. Джейн обрадовалась. Она больше не могла оставаться в этом доме, полном мрачных видений.
Глава 24
1536 годНа следующее утро появился Кэри. Он застал Джейн и всех ее родных готовыми в путь. Ждали только его. Он сказал, что будет лучше, если она поедет в носилках вместе с матерью. – Король опасается, что вас узнают, и хочет предотвратить скандал. Завтра состоится суд, и люди злы на Леди, но настроение толпы переменчиво, и гнев ее может обратиться на любого, кто попадется на глаза. Вдруг вас опознают? – Как меня могут опознать? – удивилась Джейн. – Разве обо мне кому-нибудь известно? Сэр Николас покачал головой: – Не спрашивайте меня. Боюсь, его милость тревожится сверх меры, но мы не должны испытывать судьбу. Когда они уезжали, Джейн не оглянулась. Увидеть напоследок Беддингтон ей совсем не хотелось. Семья направилась на запад, в Каршолтон, потом на север – через Митчем, Тутинг и Клэпхем к конной переправе в Ламбете, где пересекла Темзу. После чего все быстро добрались до Челси. Выбранный королем дом был великолепен. Уютно устроившийся среди садов, он смотрел окнами на парк, который полого спускался вниз, к реке. Кирпичные стены были украшены каменными медальонами, не терракотовыми, как в Хэмптон-Корте, а с рельефными изображениями профилей греческих философов. Гарри развлекался тем, что строил догадки, кто из них кто. У внушительных размеров входных дверей Джейн встречал сэр Уильям Полет, ревизор королевского двора, с большой группой слуг, поваров и офицеров самого короля; все были одеты в роскошные ливреи и низко кланялись. Джейн с новой силой ощутила, что скоро станет королевой и будет требовать такого же почтения от всех и каждого. Мать пришла в восторг, и отец явно был очень горд; сэр Джон и леди Марджери вышагивали величественно, как королевские особы. – Добрый вечер, сэр Уильям, – с улыбкой сказала Джейн. – Это действительно прекрасный дом! – Надеюсь, вам будет здесь комфортно, мадам, – отозвался он, провожая ее в главный зал, залитый вечерним солнечным светом, который лился внутрь сквозь высокие окна. На стенах висели дорогие гобелены, в огромном буфете сверкала золотая и серебряная посуда. На всю длину зала протянулся стол с позолоченными канделябрами. – Его милость распорядился, чтобы всю обстановку достали из хранилища, – сообщил Джейн ревизор. – Из хранилища? – Да, весь прошлый год этот дом стоял пустым. Разве сэр Николас не сказал вам об этом? Кэри натягивал на руки перчатки наездника, готовясь к возвращению во дворец Йорк. Вид у него был смущенный. – Не сказал о чем? – уточнила Джейн. – Что это был дом сэра Томаса Мора, – объяснил ей Полет. – Теперь он принадлежит короне. Джейн обвела взглядом прекрасный зал, построенный казненным философом. Она покинула один несчастливый дом и оказалась в другом. Ей стало ясно, почему люди говорили, что Мор не любил покидать это место и жить при дворе, и почему он ушел с государственной службы, когда его положение стало шатким. Правда, это не спасло его. Мор сделал выбор: он не пошел на сделку с совестью ради того, чтобы остаться со своей семьей, и умер из-за этого. «А что же случилось с его любимой женой и детьми, – подумала Джейн, – с его умными дочерьми, которым он давал образование, словно они были мальчиками». Она представила, как все они сидят за этим столом и учат уроки или перешучиваются за едой. Все это счастье было стерто вмиг, из-за того что их отец отказался произнести несколько слов в угоду королю. Гарри с грустью смотрел на Джейн, мать тоже. Должно быть, они понимали, что она предпочла бы оказаться в каком-нибудь другом месте. Но так распорядился король, и Джейн должна слушаться. Отныне так будет всегда. Мать пошла вместе с Джейн осматривать дом. Она пыталась приободрить дочь: радостно восклицала при виде роскошных спален, которые приготовили для них, восхищалась прекрасной отделкой главного зала. Потом леди Сеймур обняла будущую королеву и поспешила с инспекцией на кухню, а Джейн вошла в часовню, где когда-то каждый день молился благочестивый сэр Томас. Стараясь унять душевное смятение, она опустилась на колени у алтарной преграды, сосредоточила ум на духовном и устремила взгляд на изображение Мадонны с Младенцем. Она молилась за людей, обреченных на ужасную смерть; за Анну, которая завтра встретится со своими судьями; за Генриха, чтобы тот обрел мир, когда все это закончится; и за себя, чтобы стать хорошей королевой – и плодовитой супругой – и чтобы даровал ей Господь силу и мудрость для исправления всего неправедного, что сотворено по отношению к принцессе Марии и Церкви. Времени предаваться печали было мало. Король прислал нескольких дам и фрейлин в услужение Джейн на ближайшее время. Они открыли сундуки, стоявшие в ее спальне, и вынули оттуда дорогие ткани, которые купил для нее король: рулоны шелка и бархата – алого, черного и фиолетового, а также стопки отрезов тончайшего полотна, годного на белье для королевы. – Завтра придут портные, мадам, – предупредили ее. Судя по количеству бархата и дамаста, представленного на выбор лондонскими торговцами, было ясно, что спутница Генриха должна быть одета и украшена богато. Джейн стояла в одной сорочке, пока фрейлины снимали с нее мерки. Она смущалась, примечая, как набухли у нее груди и мягко округлился живот, и про себя молилась, чтобы складки тонкого батиста скрыли эти выпуклости. Мать смотрела на происходящее, живо интересуясь всем, что связано с процессом одевания королевы. Родив десять детей, леди Сеймур легко могла заметить признаки беременности. Однако она беспечно улыбалась вместе с остальными женщинами, щупала прекрасные вещи и явно упивалась почтительным отношением к ней фрейлин. А вот Джейн было трудно получать удовольствие от предвкушения грядущего великолепия. Ее угнетало ожидание того, что произойдет завтра; ее терзал страх. Потом мать усадила дочь на скамью и отослала девушек. – Ты ничего не можешь сделать, – сказала она, сочувственно округлив глаза. – Даже если бы ты отказалась выйти за короля, Анна все равно умерла бы. И я не думаю, что теперь у тебя есть какой-то иной выбор, кроме как стать его женой. Я не слепая, дитя мое. Джейн плакала у нее на плече. Какое утешение – облегчать душу в объятиях матери. – Я собиралась сказать вам, но не хотела, чтобы вы дурно подумали обо мне, поэтому решила дождаться свадьбы, а уж потом все открыть. Мать поцеловала ее в лоб: – Джейн, я никогда не могла бы подумать плохо о своей доброй, милой девочке. Я сама ждала ребенка, когда мы с вашим отцом поженились. Так случается со многими женщинами. После обручения уже ничто не удерживает молодых от того, чтобы их любовь свершилась. – Вы не были помолвлены. – Ш-ш-ш! Сейчас это не важно. А ребенок, которого ты носишь, может стать нашим будущим королем. Ты счастливица. Нам всем повезло. А теперь пойди умойся. Завтрашний день скоро закончится, и эта несчастная женщина обретет покой.
В ту ночь Джейн почти не спала, а утром, когда пришли портные получить от нее приказания, она так дрожала, что ей пришлось ненадолго прилечь, и они терпеливо ждали, пока госпожа не успокоится. Однако отца с матерью и Гарри судьба несчастной Анны, похоже, не волновала. Они увлеченно обсуждали возможный исход суда и все были убеждены, что королева заслуживает смерти. Эдвард, который заглянул к Джейн незадолго до обеда, стойко держался того же мнения. – Все твои друзья при дворе требуют для нее смертной казни, – сказал он. – Шапуи убежден, что Анна отравила почившую королеву и пыталась сделать то же самое с принцессой и за одно это заслуживает смерти. Оставшись в живых, она будет представлять угрозу для тебя, Джейн, и для детей, которых ты родишь королю. Я слышал, что среди судей будет ее отец. Он участвовал в жюри присяжных, которые вынесли приговор ее любовникам. Сэр Джон поморщился: – Ему придется судить свою родную дочь и сына! Как после такого он будет жить на свете? – Думаю, он пошел на это, чтобы спасти собственную шкуру. – Как по-вашему, суд уже начался? – спросила Джейн, все сильнее тревожась по поводу его исхода. – Вероятно, – сказал Эдвард. – Первой будут судить Леди, потом ее брата. Говорят, люди всю ночь стояли в очереди, чтобы попасть в Тауэр. – Упыри все они! – прорычал Гарри. – Как вы думаете, когда мы узнаем вердикт? – не успокаивалась Джейн. Эдвард покачал головой: – Кто знает? Разговор был прерван прибытием королевского гонца с запиской для Джейн от короля. «В три часа я пошлю к Вам Брайана с известием о приговоре», – написал Генрих. Ничего больше. Джейн не притронулась к прекрасно приготовленному и поданному ей обеду. Попробовала вышивать, но стежки не ложились как надо. Взяла книгу, но не могла понять в ней ни слова. К двум часам она безостановочно ходила по комнате взад-вперед, заламывала руки, не слушая увещеваний родных, которые молили ее успокоиться. Три часа. Брайан не появился. Джейн начала думать, что, вероятно, Анна выстроила защиту, которая могла повернуть вспять поток обвинений и склонить судей к оправдательному приговору. Когда она высказала такое предположение Эдварду, тот нахмурился. – Обвиненных в измене почти никогда не оправдывают, – сказал он. – Несколько лет назад лорд Дакр избежал наказания, и король был в ярости. Сомневаюсь, что на этот раз случится такое. Сгущались сумерки, когда Джейн, с тревогой выглянув в окно спальни, – наконец, наконец-то! – увидела сэра Фрэнсиса Брайана, который во весь опор скакал к дому. Она сбежала вниз по лестнице, едва не споткнувшись, и оказалась в главном зале вместе со всей семьей, когда Брайан с лицом триумфатора влетел в дверь. – Сожжение на костре или отсечение головы по желанию короля! – выкрикнул он. – Сожжение? Нет, он обещал! – взвыла Джейн. – Он обещал! – Успокойся, – взяв сестру за плечи, мягко сказал Эдвард. – Таково наказание для женщин, уличенных в измене. – И это еще хорошо для нее, – мрачно добавил Брайан. – Но король обещал мне, что ее не сожгут! – диким голосом прокричала Джейн. – Я взяла с него слово, прежде чем согласилась стать его женой! – В таком случае я не сомневаюсь, что он сдержит его и заменит приговор на отсечение головы, – сказал Эдвард. Джейн уговорили сесть вместе со всеми за стол, и мать послала за угощением для Брайана. – Ее признали виновной по всем пунктам обвинения, – рассказывал сэр Фрэнсис. – Дело было выстроено убедительно, хотя после некоторые говорили, что король просто воспользовался случаем, чтобы избавиться от нее. – Я в это не верю, – заявил Эдвард. – Как она восприняла приговор? – спросила Джейн. – Храбро. Сказала, что не всегда выражала покорность королю, как следовало бы, но никогда не изменяла ему. – Разумеется, а что еще она могла сказать! – встрял в разговор отец. – Потом разбирали дело Рочфорда – многочисленные случаи инцеста, не при вас будь сказано, дамы. Его также обвинили в том, что он не раз повторял слова сестры, сказанные его жене, о неспособности короля совокупляться с женщинами, мол, у него нет мужской силы. – Что?! – ужаснулась Джейн. Это была откровенная ложь, но она не могла заявить во всеуслышание, что знала об этом наверняка. – Его не обвиняли в клевете открыто, но привели показания свидетелей в письменном виде, и господин Кромвель строго предупредил его, чтобы он не повторял прочитанного вслух. Однако Рочфорд сделал это, выказав тем великое презрение к Кромвелю и королю. – Черт возьми! – рассердился Эдвард. – Похоже, он говорил это скорее из зависти и ревности, чем из любви к королю. – Вы понимаете, на что они намекали, – вмешался в разговор Гарри, – на колдовство. Намек на мужское бессилие короля подразумевал, что королева навела на него порчу. – Но это глупо! – возразила мать. – Я не оправдываю ее, но зачем лишать его мужской силы, если она так хотела родить сына? Конечно, это выглядело бессмыслицей, если только обвинители Анны не пытались доказать, что Генрих не мог быть отцом ее детей. Такова была точка зрения сэра Джона. – Я думаю, они искали повод для ее измен. Раз король не мог зачать с ней ребенка, она прибегла к услугам других мужчин, которые могли. – Но тогда король знал бы, что отец детей не он, – заметила мать. – Все это не имеет смысла, – сказала Джейн, – если только они не хотели показать, как Анна насмехалась над ним. – Подозрения возбудила леди Рочфорд, – сообщил им Брайан. – Она дала показания против мужа и упомянула об инцесте. Эта дама ненавидит своего супруга и его сестру, а также поддерживает принцессу Марию. Я сильно сомневаюсь, чтобы Анна доверилась такой, как она. Это было сказано из чистой злобы, могу побиться об заклад. Своим объяснением Брайан хотел успокоить Джейн, она это понимала, но он не замечал слабого места в своих словах. Это свидетельство явно было надуманным, а как же тогда остальные? Она начала размышлять, были ли обвинения против королевы такими уж основательными, как считали Генрих и все остальные. Но Джейн сама видела Анну и Норриса у старой башни. Могли ли они встретиться там случайно и с невинной целью? А если все это – хитроумный заговор с целью устранить королеву, чтобы король мог снова жениться и заиметь сына? «О Боже, – про себя молилась она, – дай мне какой-нибудь знак, что я ошибаюсь. Пошли твердое доказательство ее виновности!» – Что с вами, Джейн? – спросил отец, глядя на нее усталыми глазами. – Это был справедливый приговор? – спросила она. – Без всяких сомнений! – хором ответили Эдвард и Брайан. – Я видел обвинительный акт, – сказал сэр Фрэнсис, – его при мне доставили королю. Прочтя его, он заплакал от злости и показал мне бумагу. Представленные в нем свидетельства ошеломили меня, читать было тошно. Не сомневайтесь в ее виновности, Джейн! Она немного успокоилась. Значит, ее трактовка этой тайной встречи в башне была верной. Хватит, хватит сомневаться по каждому поводу и без! – Порадуйтесь, король придет к вам сегодня ближе к вечеру, – сообщил ей напоследок Брайан. – Его лучшие повара уже едут сюда, чтобы приготовить для вас двоих ужин. Но сперва он пообедает в доме епископа Карлайлского.
После десяти вечера королевская барка пришвартовалась у пристани Челси. Из дома Джейн видела мерцающие огни факелов, которыми освещали путь Генриху, и слышала отдаленные звуки музыки. Вскоре он появился в ее комнате – вошел в дверь и заключил любимую в объятия. Она сразу заметила, что он обстриг волосы и отращивает бороду. Ему это шло. Избавление от волос как будто символизировало освобождение от уз брака. – Скоро вы будете моей! – радостно воскликнул Генрих. – Теперь к этому нет преград. Жду не дождусь этого дня. – Он словно был окутан облаком какого-то отчаянного веселья и не умолкал. – Я был вне себя от восторга, когда узнал ваши новости. Вы хорошо себя чувствуете? Надеюсь, вы тщательно заботитесь о себе и о нашем сыне. – Я чувствую себя прекрасно, – сказала ему Джейн. Еще лучше ей стало, когда она увидела Генриха. Присутствие короля, полного жизненной силы, властного и решительного, успокаивало ее. Как хорошо снова быть с ним после двенадцати дней разлуки. Джейн надела лучшее из своих новых платьев – темно-зеленое дамастовое, с нарукавниками и киртлом из легкой белой ткани, а волосы распустила, как ему нравилось. Генрих обвел ее оценивающим взглядом. Родные благоразумно отправились спать, так что Джейн разделяла поздний ужин с королем; еду им подали в приемном зале – лосося и свинину под изысканнымисоусами. Аппетит вернулся к ней, и она радовалась, что есть чем его удовлетворить, так как начала уже испытывать легкое головокружение от голода; доброе красное вино тоже подкрепило ее силы. – Вам здесь удобно? – спросил Генрих. – Всего ли хватает? Джейн восхитилась, что он может думать о домашних делах в такой тяжелый день. – Это прекрасный дом, – сказала она. – Благодарю вас, что разместили меня здесь. Только после того, как была подана большая ваза с фруктами, король заговорил о вынесенном Анне приговоре. – Я не забыл о своем обещании, – вдруг сказал он. – Я намерен заменить казнь на обезглавливание и уже послал за палачом в Кале из жалости к ней. Это известный мастер в обращении с мечом, весьма умелый. Все произойдет очень быстро. – Благодарю вас! – воскликнула Джейн, думая про себя, что такой странной беседы ей еще никогда не приходилось вести. – Анне повезло, что вы так о ней заботитесь, – заметил Генрих. – Теперь я совершенно уверен, что с ней имели отношения больше сотни мужчин. У меня были подозрения, я давно ожидал чего-то в этом роде. Еще до того, как Кромвель встревожил меня намеками на ее преступления, я сочинил трагедию. – Джейн в изумлении подняла взгляд и увидела, что Генрих достал из-за пазухи маленькую книжицу. На титульном листе его рукой было выведено заглавие: «Трагедия об Анне». Джейн решила, что он даст ей прочесть свое сочинение, однако Генрих убрал книгу под дублет. – Она удерживала мою любовь одними только чарами, – с горечью проговорил он. – Она околдовала меня. Только так я могу объяснить свою глупую страсть к ней. Генрих был немного пьян, поняла Джейн, а в таком состоянии он всегда становился болтливым. Не мог же он и вправду верить, что Анна изменяла ему больше чем с сотней мужчин? И если он давно подозревал супругу в неверности, почему ничего не предпринял раньше? Нет, он явно преувеличивал, чтобы сохранить лицо. – Вы не заслужили этого, – сказала ему Джейн. – Вы сделали ее королевой, почтили своей любовью; отплатить вам так – это предательство. Король остался на ночь. Так как он пошатывался от выпитого вина, ему помогли пройти в спальню Джейн, и джентльмены, призванные с барки, где они коротали время за игрой в кости, уложили его в постель. Других приготовленных спален не было, поэтому сама Джейн легла с дамами, которые прислуживали ей: она тихонько пробралась в их комнату и устроилась, как могла, на соломенном тюфяке. Утром они крайне удивились, увидев ее, но Джейн объяснила, что король очень устал и она уступила ему свою постель. Генрих вышел из спальни немного бледный, но вполне владел собой; со смущенным лицом он извинился за то, что выжил Джейн из ее комнаты. Она с улыбкой отмахнулась. – А теперь я должен увидеться с вашим отцом и официально попросить у него вашей руки, – сказал Генрих. Она любила эту его обходительность. Все-таки он был король, а не простой поклонник. Позвали отца, он мигом явился в съехавшем набок берете и кое-как надетом платье. Низко поклонился Генриху, который мгновение рассматривал его костюм, потом обнял рукой за плечи и ввел в приемный зал. – Сэр Джон, у меня есть к вам просьба, – услышала Джейн слова короля, и дверь за ними закрылась. Тут же пришла мать, она была очень взволнована. – Король еще здесь? Чего он хочет от твоего отца? – Он просит у него моей руки, – объяснила Джейн. – Святые угодники! – воскликнула мать. Джейн кивнула. Они ждали. Мать нервничала, но выглядела очень мило в своем шелковом платье. Наконец дверь открылась, и появился Генрих, он подошел к Джейн, протягивая к ней руки: – Дорогая, ваш отец благословил нас. Он остановился перед матерью, та сделала низкий реверанс. – Леди Сеймур, приветствую вас! – сказал король, поднимая ее. – Или мне следует называть вас миледи матерью? – О, ваша милость! – с дрожью в голосе отозвалась она. – Это такая честь. Джейн – хорошая девушка. Она будет вам прекрасной женой. Джейн покраснела. Мать говорила ерунду. – Мне это хорошо известно, – сказал Генрих. – Мы все очень рады, сэр, – подхватил отец. – Я говорю от имени всех своих детей. – Могу я предложить вашей милости чего-нибудь на завтрак? – спросила мать. – Нет, благодарю вас, миледи. У меня немного болит голова. – Генрих грустно усмехнулся. – Я должен быть во дворце Йорк, там есть дела, которые требуют моего внимания. – Усмешка пропала; он вспомнил о деле королевы. – Желаю вам всего доброго. Джейн проводила его до пристани. – Когда все случится? – осмелилась спросить она. Пауза; один удар сердца. – В четверг, я думаю. Сперва Кранмер должен уладить формальности с аннулированием брака. В четверг, то есть послезавтра. Джейн не знала, как вынести ожидание, и боялась того, что почувствует, когда все свершится. Как справляется Анна, было невозможно представить. Они приближались к барке. Гребцы подняли весла, готовые отплыть. Генрих повернулся к Джейн: – Не унывайте, дорогая. Скоро все закончится. Я вернусь сегодня вечером, и мы повеселимся. Не стоит печалиться из-за этой развратницы.
После обеда к Джейн пришли с визитом лорд и леди Эксетер, а также сэр Энтони Браун из личных покоев короля, что ее удивило. – Мы надеемся, что скоро вас можно будет поздравить, – сказала леди Эксетер, величественно вплывая в приемный зал. Судя по удивленному виду, ее поразили размеры помещения. Джейн сделала реверанс, мысленно задаваясь вопросом: как она сможет распоряжаться такими важными дамами? Потом улыбнулась, пригласила гостей сесть и послала слуг за вином и марципанами, которые приготовила сама. – Как вам нравится Челси? – спросил лорд Эксетер. Вскоре стало ясно, что они пришли заручиться расположением женщины, которую считали своей будущей королевой, и получить от нее подтверждение своих догадок, но Джейн ничего им не выдала. – Леди Мария должна чувствовать себя отмщенной этим приговором, – сказал сэр Энтони. – Судя по всему, она избежала серьезной опасности, – заметила леди Эксетер. – Наверное, она испытывает большое облегчение, – отозвалась Джейн. – Надеюсь, теперь король восстановит ее в правах наследства, а сама я не перестану работать над этим. – Мы все будем очень вам обязаны, – довольно сухо произнес лорд Эксетер.
– Я знаю, вы не забудете своих друзей, моя дорогая, – сказала при прощании леди Эксетер. Было ясно, что она имеет в виду. Вы должны проявить к нам милость за оказанную вам поддержку. Когда они ушли, Джейн прислонилась спиной к двери от усталости и сделала кислую мину, глядя на мать. В саду было тихо и спокойно. Какая радость! Короткая прогулка по парку поможет ей восстановить силы. Но когда Джейн оказалась там и завернула за первый поворот дорожки, то увидела толпу людей у ворот; вероятно, они надеялись увидеть ее хотя бы мельком. Джейн неуверенно улыбнулась, напоминая себе, что очень скоро и всю оставшуюся жизнь весь мир будет жадно следить за ней, однако она расстроилась, увидев среди любопытных и раскрасневшихся лиц несколько злобных. Один мужчина что-то выкрикнул; это прозвучало как оскорбление. Другой бросил в нее скомканный лист бумаги, который приземлился на дорожку. Джейн подняла его и пошла прочь, остро ощущая, что за ней следят. На листе были напечатаны грубые стихи, озаглавленные «Новая баллада о нашем повелителе». Щеки ее пылали, когда она читала, как они с Генрихом плескаются в собственном дерьме, изображая зверя о двух спинах, пока оболганная жена томится в Тауэре в ожидании смерти. – Это ужасно! – прошептала Джейн, сминая листок. – Как они могли?
Только она вернулась в дом и показала матери стишки, как снова зазвонил звонок. Джейн вздохнула с облегчением, увидев Кэри и Брайана; они пришли поинтересоваться, как она устроилась, и спросить о ее здоровье. Следом за ними – к изумлению Джейн – явился господин секретарь Кромвель с сэром Уильямом Фицуильямом, оба расточали улыбки и были сама учтивость. – Мы хотели засвидетельствовать свое почтение, – сказали они. Джейн пригласила их войти, и они с удовольствием угостились закусками. – Наверное, это была трудная неделя для вас, госпожа Сеймур, – сказал Кромвель. – Да, – призналась Джейн. – Для нас, членов Тайного совета, которые разбирали дела этих изменников, она была не менее печальной, – со страдальческим видом добавил Фицуильям. – К счастью, правосудие свершилось и скоро приговор приведут в исполнение. А потом мы все сможем спокойно смотреть в будущее. – Аминь. Да будет так, сэр, – согласилась с ним Джейн. – Я понимаю, что лорд и леди Эксетер уже побывали здесь, – как бы невзначай заметил Кромвель. – Да. Они были очень добры ко мне. Господин секретарь с улыбкой закивал головой: – А как могло быть иначе? В вас столько хорошего. Скажите, они поддерживают контакты с леди Марией? В голове Джейн раздался тревожный звоночек. – Они упомянули ее мимоходом. Заметили, что она должна чувствовать себя отмщенной, узнав о приговоре, – ответила Джейн и с опаской подумала: «Правильно ли я сделала, что сказала им об этом?» – Вполне возможно, так оно и есть, – заметил Кромвель, продолжая улыбаться. – Господин секретарь, – обратилась к нему Джейн, – вот это бросили в меня, когда я утром прогуливалась в парке. – Она протянула ему листок с похабными виршами. Кромвель нахмурился: – Я видел это и боюсь, по рукам ходят и другие копии. Но не тревожьтесь. Я поговорю с королем, и он положит этому конец. – Прошу вас, сделайте это! – воскликнула Джейн. – Я не смогу показаться в Лондоне, если люди считают меня такой бесстыдной! – Не беспокойтесь, мы найдем виновников, – пообещал Кромвель.
В восемь часов на украшенной вымпелами барке прибыл Генрих. На золоченой корме судна сидели музыканты, которые исполняли веселую музыку. Король сам зашел в дом и пригласил Джейн и ее дам подняться с ним на борт. В каюте был накрыт роскошный стол с разнообразными сластями, засахаренными фруктами, вафлями и изысканно приправленным специями гиппокрасом. Пока они ели, их развлекали певцы из личных покоев короля. Джейн решила не упоминать про балладу. Она не хотела портить этот вечер. И тем не менее не могла забыть про оскорбительные стихи. Ей представлялось, как знакомые читают эти вирши и смеются у нее за спиной. Какие позорные картинки могут возникнуть у них в головах! От стыда Джейн бросало в дрожь. Барка шла на веслах вверх по реке мимо Ричмонда с парившим над водой дворцом, украшенным остроконечными башенками и луковками куполов, к аббатству Сион в Айлворте и дальше к Виндзору. Откинувшись на спинку скамьи с мягким сиденьем, Генрих рассказывал Джейн о том, какие приготовления сделал к свадьбе. – Инициалы и личные знаки Анны заменяют во всех моих дворцах, – сообщил он. Это непростая задача, ведь они были повсюду. Джейн представила себе маленькую армию каменщиков, плотников, художников, глазуровщиков, вышивальщиц и белошвеек, которые с азартом взялись за работу. – Вам нужно выбрать себе знак, который станет вашей эмблемой, когда вы будете королевой, – добавил Генрих. Джейн маленькими глотками прихлебывала гиппокрас и размышляла. – Мне всегда нравился образ возрождающегося из пепла феникса, – сказал она. – Сейчас он кажется мне символом надежды и обновления. В детстве она любила сказку о сверкающей волшебной птице, которая устраивает себе гнездо в пламени, и ее поглощает огонь каждые пять тысяч лет, но она всегда рождается вновь. – Феникс – это также символ Христа и Его Воскресения, преодоления смерти, – добавил Генрих. – Я бы предложил вам знак в виде феникса, поднимающегося над охваченным пламенем замком с красными и белыми розами Тюдоров, обрамляющими девиз. – Мне нравится. – Значит, он у вас и будет. Надо еще придумать девиз. Джейн снова задумалась. Она хотела выбрать такой, чтобы резко отличаться от Анны, девиз которой: «Самая счастливая» – всегда казался ей слишком эгоистичным. – «Призванная к послушанию и служению», – сказала Джейн. – Вам нравится? Такой я вижу себя в роли вашей королевы. Широкая улыбка Генриха выражала одобрение. – Это великолепно, – сказал он и попросил ее выбрать себе геральдическое животное, предложив со своей стороны белую пантеру, потому что ею легко будет заменить леопарда Анны. Идея Джейн понравилась, ведь пантера символизировала плодовитость и возрождение и ее издавна считали королевским животным. В Челси они вернулись к полуночи, а у ворот продолжали топтаться несколько человек. Джейн с неприязнью посмотрела на них. К счастью, Кромвель поставил при входе несколько крепких мужчин в ливреях и с дубинками в руках, что успокаивало. Генрих снова был пьян. Проводив Джейн и других дам до дверей, он, пошатываясь, вошел в дом и грузно опустился на скамью. Женщины неуверенно смотрели на него, и Джейн махнула им рукой, чтобы уходили. – Сегодня я подписал смертные приговоры мужчинам, – сказал он. Джейн не знала, что сказать. Как чувствует себя человек, обладающий властью росчерком пера решать судьбы других? – Изменники умрут завтра на Тауэрском холме. Всем отрубят головы, я так распорядился. – Даже Смитону? – спросила Джейн, пораженная, что его милосердие простерлось так далеко. – Даже Смитону. Я знал, вам этого хотелось бы. – А что будет с королевой? – спросила она. – Приговор составлен. Завтра я подпишу его. Она умрет на следующий день. Я подумал, – продолжил он слегка заплетающимся языком, – Анна была не только распутна, она проявляла жестокость. Она преследовала Уолси до самой смерти; она все время требовала, чтобы я отправил на эшафот вдовствующую принцессу и Марию, мою родную дочь; она была беспощадна к своим врагам. Я не сомневаюсь, что эта женщина стояла за попыткой отравить епископа Фишера. Она заставила меня послать на смерть Мора, замышляла расправиться и со мной тоже! Это чудовище, и мир скоро благополучно избавится от нее. Когда я думаю, как близка была моя погибель… – По его щеке сползла слеза. – Теперь она не может навредить вам, – твердо сказала Джейн. – Вы в безопасности. – Я знаю, Джейн, – глядя на нее со слезливой хмельной улыбкой, сказал король. – С вами я всегда буду в безопасности. Потом Генрих ушел, а Джейн на цыпочках прокралась по спящему дому и нырнула в постель. «Прошлой ночью в ней спал Генрих, – подумала она. – Его голова лежала вот на этой подушке. Скоро я снова буду делить с ним ложе. Какая же это радость и какое утешение!» Джейн не спалось, тревожила мысль: вдруг кто-нибудь видел, как она развлекалась с королем на реке? Если слух об этом распространится, люди будут недовольны. Однако она понимала, почему Генрих устроил эту небольшую водную прогулку. На всех углах люди судачили о том, как его обманывала жена; ему было стыдно, и он старался, как мог, потешить свою уязвленную гордость. Устроив веселую поездку с дамами, он снова почувствовал себя привлекательным мужчиной. Хотя Генрих и верил в виновность Анны, некие угрызения совести за то, что он лишает жизни женщину, которую когда-то страстно любил и которая была матерью его ребенка, видимо, все же терзали его. Он искал забвения в удовольствиях, хотел немного развеяться.
На следующее утро Джейн спустилась вниз и увидела королевского вестника. Он передал ей письмо с печатью короля и небольшой бархатный мешочек. В нем лежало украшенное драгоценными камнями распятие в форме буквы «Тау». Джейн тут же узнала эту вещицу – когда-то она принадлежала Екатерине. Королева ценила это украшение, потому что, как она говорила, крест в виде буквы «Тау» – истинный, именно на таком умер Христос. Этот подарок нельзя не принять, особенно теперь, когда они вот-вот поженятся. Джейн поцеловала распятие и сразу надела его на шею. Потом она вскрыла письмо и прочла:
Моя милая подруга и госпожа, тот, кто доставит Вам эти несколько строк от Вашего преданного слуги, передаст в Ваши нежные руки символ моей искренней привязанности к Вам и надежды, что Вы будете хранить его вечно, искренне любя меня. Недавно появилась некая очень дерзкая баллада, направленная против нас. Если Вы видели ее, прошу, не обращайте на нее внимания. Пока мне неизвестно, кто автор этого злобного пасквиля, но, если его найдут, он понесет суровое наказание. На сем, желая вскоре заключить Вас в объятия, я заканчиваю, оставаясь Вашим любящим слугой и совереном, Н. R.
Заметно приободрившись, Джейн сложила письмо и убрала его в карман. Скоро оно составит компанию другим посланиям Генриха, которые хранились в маленьком оловянном ларце, где она держала самые дорогие сердцу вещи. Оставшись наедине с собой, она вынет его и перечитает.
В тот день Генрих не пришел, и Джейн провела его, пытаясь отвлечься от страшных мыслей о происходящем на Тауэрском холме и о том, что случится на следующее утро. Она думала о мужчинах, обреченных на смерть за прелюбодеяние с Анной; большинство из них были в расцвете сил, но славное будущее больше не ждало их. Как глупо было рассчитывать, что их преступления окажутся безнаказанными! Джейн с ужасом сознавала, что последние часы жизни Анны истекают. Родители и Гарри понимали ее смятение. Они предлагали ей прогуляться по парку, сыграть в карты или закончить вышивку налобного украшения для нового капора. В конце концов Джейн согласилась, чтобы Гарри поучил ее играть в шахматы, но показала себя плохой ученицей, потому что мысли ее витали далеко от доски. После обеда она получила записку от Брайана. Мужчины приняли смерть храбро. Только Смитон признался в преступлениях, а Рочфорд намекнул на то, что заслуживает смерти за более серьезные проступки, чем те, за которые его казнят. Джейн тут же подумала о почившей королеве и епископе Фишере. Неужели это Рочфорд пытался отравить епископа и, вероятно, Екатерину? С него станется. Мерзкий был человек, без него мир станет чище. А вот Норриса Джейн было жаль. Он ей нравился. Даже сейчас она не верила, что сэр Генри мог предать короля. Осталось недолго, и Анна присоединится к ним. За ужином в тот день Джейн была так взволнована, что одна мысль о еде вызывала у нее тошноту. Сославшись на головную боль, она удалилась в часовню, где стояла на коленях до наступления темноты, горячо молясь о душе Анны и о том, чтобы Господь даровал ей мужество вынести завтрашние испытания и вечный покой после этого.
Наутро Джейн была в таком ужасном состоянии, что мать забеспокоилась. – Ты ничего не можешь с этим поделать, – сказала она дочери, сжимая ее руку. – Постарайся не думать об этом. Говори себе, что вершится правосудие. Если бы ей дали возможность и дальше творить злые дела, ты бы, вероятно, сейчас оплакивала смерть принцессы или даже самого короля! Не забывай об этом и подумай о ребенке, которого носишь! – Хорошо, – ответила Джейн, сглатывая слезы. Только подали обед, как приехал Эдвард. – Я от короля, – сказал он, когда мать подала ему холодного мяса. – Казнь отложили до завтра. – Почему? Все застыли в напряженном ожидании, а Джейн подумала: «Неужели Генрих в последнюю минуту смягчится и помилует Анну?» – Его милость сам сказал мне. Правосудие должно свершиться на глазах у людей. Но все происходит слишком быстро, нужно больше времени, чтобы собралось достаточное количество свидетелей казни. Мать нахмурилась: – Я думала, он хочет скорее покончить со всем этим. – Вероятно, его беспокоит, как это выглядит в глазах всего мира, – сказал отец. – Не могу припомнить, чтобы я слышал о какой-нибудь английской королеве, которую осудили на смерть. – Наверное, для нее это ужасно, – сказала Джейн. – Мне и то тяжело сидеть здесь и думать о ее казни. А каково ей знать, что придется пережить еще один день в страхе? – Думаю, король тоже боится, – сказал Эдвард. – Он выглядит весьма озабоченным. Просил передать, что сегодня вечером придет к тебе ужинать. И еще велел сообщить: вчера архиепископ Кранмер объявил его брак недействительным, так что теперь он свободен и может жениться на тебе. Он свободен. – Какое облегчение! – прошептала Джейн. «Разве не может он просто запереть Анну в монастыре, если теперь они разведены?» – Больше ничто не препятствует вашему браку, – сказал Эдвард. – Скоро ты станешь королевой. Готовы твои новые платья? – Два готовы, – ответила Джейн. – Остальные доставят завтра. – Надень одно сегодня вечером. Будь как королева.
Когда стемнело, явился Генрих в накидке и капюшоне. Барка стояла у причала без огней. – Я не хочу, чтобы кто-нибудь заметил мой приезд сюда сегодня вечером, – объяснил он, когда за ним закрылась входная дверь. – Толпа у ваших ворот увеличивается. Они выкрикивают ваше имя. С виду кажутся дружелюбными, но, если увидят меня здесь, их настроение легко может измениться. – Несмотря на явное напряжение, он восторженно смотрел на Джейн. – Вы выглядите прелестно. Это платье так идет вам, Джейн. Она надела пурпурный бархат с отделкой каймой из жемчужин и розовых роз. На ней был крест, который он прислал, и серебристое филейное кружево поверх длинных волос, которые мать сама расчесала с особой тщательностью. Кроме того, леди Сеймур проследила за приготовлением ужина королевскими поварами, которым к этому часу хотелось уже только одного – вернуться во дворец. Тем не менее стол, ожидавший Генриха и Джейн, был роскошен. Она насчитала двенадцать блюд, после чего бросила эту затею. Они сидели в освещенном свечами приемном зале; окно с ромбовидными стеклами было открыто, комнату наполнял благоуханный вечерний воздух, и ждали, пока слуга, отвечавший за столовое белье, накроет салфетками их плечи. Потом было разлито вино, и слуги оставили пару наедине. Генрих поднял кубок. – За нас, – сказал он, пристально глядя на Джейн пронзительными голубыми глазами. – За нас, – эхом отозвалась она. – Как прекрасно быть свободным мужчиной, – продолжил он, – и знать, что совсем скоро вы будете моей. Я хотел побыть с вами сегодня вечером. Ваш брат сказал мне, что вы переживали из-за Анны. Не стоит проливать по ней слезы. Она убила бы меня, если бы ей представился такой шанс. – Я знаю, Генрих. Не могу вынести мысли об этом. Но из жалости и простой гуманности я не могу не содрогаться, думая о том, что ждет ее завтра. Генрих потянулся к ней через стол и накрыл ладонью ее руку: – Но, как я слышал, она готова. Констебль Тауэра сказал мастеру Кромвелю, что еще ни один человек не выказывал большего желания умереть. Все произойдет быстро. Боли не будет. Джейн была рада слышать это. – Я помолюсь за нее, – сказала она. – А что вы будете делать завтра? – Останусь в своих покоях, пока все не закончится, – ответил король. – Дадут пушечный выстрел из Тауэра. Когда услышите его, знайте, ее больше нет. После этого я явлюсь к вам, как только смогу. И в субботу объявят о нашей помолвке. – В субботу?! – Джейн была в шоке. – Я знаю, пройдет всего день после казни, – сказал Генрих, допивая вино, – но, дорогая, я не могу ждать. Тайный совет обратился ко мне с просьбой жениться вновь, настаивая на величайшей срочности, потому как проблема наследования так и не решена. У Джейн засосало под ложечкой. Господи, пусть ребенок, которого она носит, окажется мальчиком! – Елизавета знает, что случится с ее матерью? – спросила Джейн. – Нет. – Генрих выглядел огорченным. – К счастью, она слишком мала, чтобы осмыслить перемены в своем статусе, и я намерен сделать так, чтобы она не страдала из-за преступлений Анны. Девочка будет защищена от скандалов. – Королева согласилась на аннулирование брака без возражений? Джейн не могла представить, чтобы Анна, которая так яростно отстаивала права своей дочери, безропотно приняла известие, что Елизавету объявят бастардом и лишат права на наследование престола. Или две недели, проведенные в Тауэре, сломили ее дух? Последовала краткая пауза. – Она согласилась. Понимала, что бороться против этого бессмысленно. Ее адвокат не возражал. Часы текли, и Джейн все сильнее страшилась того, что должно было произойти утром. Она разрывалась между горькой жалостью к бедняжке Елизавете, мать которой умрет ужасной смертью, и облегчением по поводу того, что Генрих наконец освободится от Анны и вступит в новый брак, не обремененный проблемами, которые породили два предыдущих. Разыгравшийся в ней внутренний конфликт, наверное, был заметен, потому что, покидая Джейн, Генрих взял в ладони ее лицо и сказал: – Будьте сильной. Я вернусь сюда утром.
Солнце било в окна, когда Джейн преклонила колени в часовне, не в силах выносить царившего в доме напряжения и гробовой тишины. Утро было слишком прекрасным для кровавой казни. Она молилась горячо, истово, как никогда в жизни, прежде всего за Анну, но также и за Генриха, и за себя, чтобы Господь не отвратил от них своего лика в гневе на то, что свершится сегодня. В девять часов Джейн услышала раскатистый звук пушечного выстрела, за которым последовала ужасающая тишина, нарушаемая только веселым птичьим пением. Почувствовав, что вот-вот лишится чувств, Джейн ухватилась за перила алтаря. Все кончено. Теперь ей придется жить с чувством вины, которое едва ли когда-нибудь покинет ее.
Часть четвертая. Из ада на небеса
Глава 25
1536 годВдруг за спиной у Джейн появилась мать. Встав на колени и обхватив дочь руками, чтобы успокоить, леди Сеймур сказала: – Она теперь обрела мир. Ты должна оставить все это позади. Хватит молитв. Есть много других дел. Джейн перекрестилась, встала и сделала реверанс перед распятием на алтаре. С тяжелым сердцем и кружащейся головой она вышла вслед за матерью из часовни, а потом поднялась по лестнице в свою спальню, где портной и его помощники раскладывали на ее постели новые платья для примерки. Наряды были роскошные и радовали глаз разноцветьем – полынный зеленый, сверкающий золотой, глубокий черный, узорчатый малиновый дамаст, плюшевый алый бархат и мерцающий белизной атлас. Но в мыслях Джейн были только обезглавленное тело и пролитая утром кровь, которая, наверное, еще не остыла. Как это кощунственно – восхищаться нарядами сразу после смерти Анны. – Тебе нужно выбрать одно из них для свадьбы, – быстро проговорила мать. – Они все прекрасны, но я думаю, лучше белое как символ чистоты. Если только ты не считаешь, что королеве больше подойдет золотое? Джейн сглотнула. – Я надену белое, – сказала она, – а на помолвку – зеленое.
В десять утра прибыл Генрих. Он был облачен в траур и выглядел бледным, будто провел ночь без сна. – Королева приняла смерть храбро, – сказал он, когда все торопливо собрались вокруг него, чтобы приветствовать и выразить почтение. – Иисус, не оставь ее своей милостью. – Король перекрестился. – Все прошло быстро? – спросила Джейн. – Кромвель говорит, быстрее, чем вы произнесли бы «Отче наш», – ответил Генрих. – Она не успела испугаться. – Слава Богу! Джейн испытывала огромное облегчение, видя короля. Как утешительно снова быть рядом с ним! – Там присутствовали Кромвель и большинство членов моего Тайного совета, – повествовал Генрих. – Они сказали, что она хорошо говорила обо мне с эшафота и приказала своим фрейлинам хранить верность мне и той, которая, наделенная более счастливой судьбой, вскоре станет их королевой и госпожой. Значит, Анна догадывалась, что король женится на ней, Джейн. И в конце концов начала относиться к этому со смирением и выразила благоволение к своему супругу, которого предала. – Большинство членов Тайного совета ликовали, когда я их оставил, – продолжил Генрих, садясь на высокий стул у пустого очага, – Фрэнсис Брайан сообщил мне, что люди на улицах Лондона после выстрела пушки бурно выражали радость. И скоро у них будет еще больше поводов для торжества. Утром я поставил в известность Тайный совет о нашей свадьбе. Вы можете представить, как они обрадовались, услышав об этом. Теперь нет препятствий для союза с императором, и это подстегнет английскую торговлю. – У подданных вашей милости есть и другие поводы для радости, – заметил сэр Джон. Генрих улыбнулся ему: – Хотя вашу дочь мало знают, Кромвель говорил мне, что друзья госпожи Джейн, не жалея сил, распространяли весть о ее высокой нравственности и доброте. Джейн невольно покраснела и втайне понадеялась, что людей также оповестили о ее любви к принцессе Марии, которая была популярна в народе и с которой, по мнению многих, обошлись крайне несправедливо. Это действительно должно было привлечь людей на сторону Джейн. А королеву, почитающую старую веру, будет приветствовать не только Испания, но и Франция, и весь остальной христианский мир. Генрих провел в Челси весь день. Об Анне он больше не упоминал, и Джейн была этому рада. Тень ее и без словесных ремарок омрачала их жизнь. Вечером за ужином Генрих заговорил о свадьбе: – Все будет готово примерно через неделю. Мессу отслужит Кранмер. Члены вашей семьи обязательно должны присутствовать. Потом мы несколько дней проведем вдвоем, и затем вы будете объявлены королевой. Я хочу, чтобы это произошло в Пятидесятницу. – Он взял руку Джейн и поцеловал ее, сказав: – Не могу дождаться, когда снова буду владеть вами. Но сперва нам нужно обручиться. Сегодня же вечером я отправлюсь в Хэмптон-Корт. А завтра рано утром пришлю за вами барку. Будьте готовы отплыть в шесть утра. В это время на улицах еще мало людей. Пока я хочу держать нашу помолвку в секрете. При расставании Генрих любовно поцеловал Джейн: – Доброй ночи, дорогая. Буду считать часы до завтрашней встречи с вами.
Утро было туманное и прохладное. Джейн и ее родные погрузились на барку без опознавательных знаков. Эдвард, Нан, Томас, Дороти и ее новый муж Клемент Смит прибыли в Челси поздно вечером; все находились в приподнятом настроении и ничуть не печалились о судьбе королевы. Сегодня они облачились в лучшие наряды. Джейн надела зеленое платье и распустила волосы, как подобало девушке. Участники поездки еще не совсем проснулись, а потому, сидя в рубке на лодке, которую гребцы поднимали вверх по течению к Хэмптон-Корту, говорили мало. События вчерашнего дня казались нереальными, страх понемногу уходил. Завершится утро, и Джейн будет навеки связана с Генрихом. Она так давно этого желала и тем не менее была крайне напряжена, ее не покидали тревожные предчувствия. Мать следила за дочерью с нервной улыбкой на лице. Отец, сидевший рядом с Джейн, похлопал ее по руке. Он выглядел усталым. Вскоре показался громадный дворец, и барка подошла к плавучей пристани. Отсюда к личным покоям короля вела крытая галерея. На часах стояли стражники-йомены, церемониймейстер ожидал гостей, чтобы проводить их к королю. Когда шли по галерее, где Джейн часто встречалась с Генрихом в период ухаживаний, она заметила, что портрет Анны снят со стены. Король принял их в кабинете, стены которого были затянуты синим дамастом. Вместе с ним прибытия Джейн ожидал архиепископ Кранмер. Вид он имел весьма напряженный. Еще бы, ведь его возвысили Болейны, и он, как и его покровители, был горячим сторонником реформы Церкви. Что чувствовал этот человек, обручая короля с женщиной, которая держалась старой веры и теперь получала большое влияние? Тем не менее Кранмер не выказал никаких признаков враждебности, напротив, его мрачное лицо осветилось приветливой улыбкой. Джейн встала рядом с Генрихом, его рука сомкнулась над ее рукой. Церемония продолжалась всего несколько минут, контракт был подписан, а затем жених скрепил помолвку поцелуем. Родные столпились вокруг Джейн. Это выглядело странно, потому что обычно поздравления получал счастливый джентльмен. Но тут, казалось, не было сомнений в том, кто главный счастливчик. Король оказывал Джейн честь, беря ее в жены. Мать вспыхнула от гнева, когда Генрих поцеловал Джейн, а отец и Гарри смотрели на это с гордостью. Эдвард и Томас на этот раз хлопали друг друга по спинам. Теперь они прочно встали на путь к успеху, и оба намеревались достичь головокружительных высот. Заранее было решено, что после помолвки Джейн и ее родные сразу вернутся в Челси, а Генрих останется в Хэмптон-Корте. Эта перспектива явно вызывала у него тоску, и он прошел вместе со всеми до плавучей пристани. Там король сделал всем знак подниматься на барку, а сам остался перемолвиться несколькими словами с Джейн наедине. – Завтра – праздник Вознесения, – сказал он, – и я облачусь в белый траур из уважения к почившей королеве. Это всего лишь соблюдение приличий, так что, если услышите об этом, не обращайте внимания. Елизавету я отправлю в Хатфилд, где о ней будет заботиться воспитательница. Анна так редко виделась с ней, что я сомневаюсь, будет ли девочка скучать по матери. Она привязана к леди Брайан. – Он помолчал. – Сегодня мне нужно рассчитаться с констеблем Тауэра за содержание Анны. Я также должен выкупить украшения и одежду, которые были на ней вчера. – (Джейн поморщилась: как болезненно обнажалась реальность.) – Обычно все украшения королевы отдают ее преемнице, но, думаю, я не ошибусь, если предположу, что эти вы взять себе не захотите. – Да, мне они не нужны, – сказала Джейн. – Тогда я отправлю их в сокровищницу на хранение. – В таком случае почему вы должны выкупать их? – По обычаю, одежда осужденных преступников поступает к служителям Тауэра в качестве случайного дохода, – сказал Генрих. – Однако законы об употреблении предметов роскоши запрещают их женам носить дорогие наряды и украшения, поэтому они хотели бы получить стоимость вещей Анны деньгами. При мысли об одежде казненной Джейн внутренне сжалась. Она наверняка запятнана кровью, отмыть которую невозможно. Да и кто захочет носить ее? – А что будет с одеждой? – шепотом спросила Джейн. – Ее сожгут, – коротко ответил Генрих. – Остальное я отправил в королевскую гардеробную. Там с платьев снимут драгоценные камни, чтобы использовать заново. В этот момент Джейн обратила внимание на сводчатый потолок галереи. Там виднелись переплетенные инициалы Анны и Генриха. Очевидно, мастера о них забыли, когда в спешке удаляли отовсюду напоминания о прежней супруге короля. – Вам нужно идти, – сказал Генрих, – хотя мне и неприятно расставаться с вами. Возьмите это. – Он положил ей на ладонь брошь в форме сердца, украшенную девизом, выложенным из драгоценных камней: «Мое сердце – ваше». – До следующей недели, – сказал Генрих, наклоняясь к Джейн и целуя ее, прежде чем она успела поблагодарить его. – Ваше отсутствие будет для меня невыносимым, я это знаю. Она приникла к нему, не заботясь о том, видит ли это кто-нибудь, и повторила за ним, улыбаясь сквозь слезы: – До следующей недели!
Джейн старалась не сидеть без дела, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей об Анне. Братья вернулись ко двору, отец встречался в Лондоне со старыми друзьями по армейской службе, так что у матери появилось свободное время, чтобы помочь дочери с приданым. Они написали Лиззи в Йоркшир и по строжайшему секрету сообщили ей о грядущей свадьбе. Лиззи находилась слишком далеко от Лондона и не могла вовремя приехать, а вот платье для Дороти, которая станет одной из фрейлин, сделать было необходимо. Мать считала, что для этого прекрасно подойдет оставшийся рулон алого дамаста. – Что должно быть на голове у невесты короля? – спросила Джейн. – Я думаю, венок из цветов, как и у любой другой невесты, – ответила мать. – Корону вы наденете после замужества! Джейн улыбнулась и пошла в сад выбирать цветы, которые срежет в последний момент, чтобы сплести венок. Она сорвала несколько для обеденного стола и пошла в винокурню, чтобы взять там вазу и поставить их. Увлеченная составлением букета, Джейн стояла у стола и вдруг услышала голоса, доносившиеся из открытой двери на кухню. Прозвучало ее имя. Она поняла, что слуги обсуждают падение Анны. – Знаете, какие-то приготовления велись задолго до ее смерти. – Это говорил главный повар короля; Джейн узнала его по французскому акценту. – Народ не успокоится, когда всем станет известно, что происходило и происходит между королем и госпожой Сеймур. Странно, что, пережив такой позор, с момента ареста он демонстрирует необычайную радость. – И мы все знаем почему! – сказал кто-то. У Джейн заколотилось сердце. – Никогда не слышал, чтобы с королевами так обходились! – воскликнул другой голос. – Но все радуются ее казни, – возразил молодой мужчина. – Поверьте, некоторые недовольны тем, как проходил суд над ней и остальными, а о короле люди отзываются по-разному, – самодовольно вещал главный повар. – Подумайте сами! Говорят, она танцевала со своими любовниками, но разве это внове для джентльменов короля – танцевать с дамами в покоях королевы. Доказательством прелюбодеяния не может служить и то, что брат королевы брал ее за руку и танцевал не только с ней, но и с другими дамами. И у вас в Англии есть прелестный обычай: любая женщина, замужняя или нет, даже самая скромная, на глазах у всех целует при встрече не только брата, но и любого человека. Слишком серьезные выводы они сделали из ее писем к брату, где она сообщала о том, что enceinte. Я слышал, у молодых женщин это принято – писать ближайшим родственникам о своей беременности, чтобы получить поздравления. Из таких доводов, как эти, нельзя вывести обоснованные доказательства измены. Вероятно, у короля были на то какие-то свои причины. Джейн задрожала. Неужели Анну осудили на смерть на основе таких обвинений? И не было более убедительных свидетельств ее вины? Значит, из доказательств против нее выстроили карточный домик и пролилась невинная кровь. Джейн все время чувствовала: что-то тут неладно. Она попыталась успокоить себя, вспомнив, что вместе с Анной осудили еще четверых мужчин, помимо Рочфорда, и сама она кое-что видела собственными глазами… и Анна не невинная жертва. Даже если она не травила Екатерину ядом, то затравила ее до смерти преследованиями и, вероятно, покушалась на жизнь епископа Фишера; а еще собиралась добиться казни принцессы. Нет, Анна заслужила смерть! – Наверное, короля заставило возбудить процесс против нее желание иметь наследника, – произнес чей-то грубый голос; он принадлежал садовнику, который выказывал большое дружелюбие к Джейн. – И заключить новый брак. – Думаю, он избавился от нее из страха, что император, папа и католические принцы Европы объединятся против него, – высказался кто-то еще. – Очень вероятно, – согласился повар. – Но не забывайте: она развлекалась с другими мужчинами, нам так сказали, а он-то сам, пока королеву лишали головы, развлекался с другой женщиной. Это было невыносимо! Редко Джейн злилась так сильно. Она вошла в кухню и крикнула: – Придержите языки! – (Все подскочили и в ужасе разинули рты.) – Вы лжете! И сами не знаете, о чем говорите, ни один честный человек не поверит в это! Такие слова можно посчитать изменой. Джейн гневно взирала на слуг, переводя взгляд с одного на другого. Как же ей хотелось сказать им о своей помолвке с королем; очень скоро они услышат, что она теперь королева, и тогда пожалеют о своих словах!
Генрих сообщал в письме новости. Человек Кромвеля – Томас Хинидж – занял место хранителя королевского стула вместо Норриса, а Брайан теперь стал главой джентльменов из личных покоев, тоже вместо Норриса. Сэр Фрэнсис получил преференции очень быстро. Джейн была рада. Он давно был ее другом и одним из вернейших сторонников, неутомимо трудился ради того, чтобы сделать ее королевой. Вероятно, она никогда не узнает, как сильно он подорвал позиции Анны. Прочитав следующий абзац письма, Джейн нахмурилась: «Невозможно будет долго держать в секрете нашу помолвку. При дворе много разговоров о том, что к середине лета состоится новая коронация». Ну что ж, распространения слухов ждать недолго. Ей было приятно, что Генрих упомянул о коронации. До сих пор он и словом не обмолвился об этой необходимейшей церемонии. Джейн побаивалась ее, знала, что ей будет трудно, но без этого нельзя. Она ощущала необходимость еще раз попытаться заделать трещину в отношениях между Генрихом и его дочерью. Написала королю ответ, тщательно подбирая слова.
Я размышляла о ее милости леди Марии, которая, вероятно, испытала облегчение, узнав, что причины ее несчастий больше не существует. Если бы Вы снова могли принять ее в свои отцовские объятия, я думаю, для нее, любящей Вас всем сердцем, это стало бы большим утешением.
Генрих проявлял особую чувствительность, когда речь заходила о его старшей дочери, но на такие слова, скорее всего, не обидится. Он поймет, что они написаны из добрых побуждений. Примирение – это первый шаг; будем надеяться, со временем дело дойдет и до восстановления Марии в правах на престол. Получив недвусмысленный ответ, Джейн горько разочаровалась.
Дорогая, у Вас добрые намерения, но Мария отказывается признавать мои законы и установления, и, если она продолжит упорствовать, я возбужу против нее дело. Я не успокоюсь, пока она не согласится с тем, что брак ее матери был кровосмесительным и незаконным, и не признает меня верховным главой Церкви.
Самой Джейн следует понять, добавлял он, что Мария будет оставаться угрозой для их детей. Им нужно расчистить для них путь к праву на престолонаследие, которое никто и никогда не сможет поставить под сомнение. Прочитав эту отповедь, Джейн заплакала от жалости к Марии. Генрих требовал, чтобы дочь пошла против своих твердых убеждений, предала все, ради чего ее мать столько страдала и боролась; на самом деле он просил от нее невозможного. Это не тот Генрих, которого Джейн знала. Любящий отец не поступил бы так. Неужели он не мог оставить в прошлом былые обиды? Она держалась о нем лучшего мнения. Сама Джейн считала Марию законной наследницей и желала ее восстановления в очереди на престол; она была согласна с тем, чтобы Мария первенствовала над всеми дочерьми, которые родятся у них с Генрихом; но даже Мария согласится, что сын Джейн должен считаться главным наследником. Почему Генрих так недобр и несправедлив? Имелась и другая причина, отчего письмо короля расстроило Джейн. Она и все ее друзья исторонники, особенно Шапуи и Эксетеры, полагали, что стоит устранить Анну – и Марии будет возвращено ее законное место, а Генрих вернется в лоно Римской церкви. Однако король в нескольких строках ясно дал понять, что пути назад нет. Они строили воздушные замки, надежды оказались напрасными. Добиться целей, которые Джейн поставила перед собой, теперь будет еще труднее. Что станет делать Генрих, если Мария продолжит сопротивляться? Использует он принуждение? Насилие? Или еще что похуже? Марии было двадцать лет, но Джейн помнила ее юницей, сильно страдавшей душой и телом от разлада между родителями. Много лет девушка провела в изгнании и не могла похвалиться крепким здоровьем, не раз возникали серьезные опасения за ее жизнь. Разве это справедливо – давить и топтать того, кто слаб и нездоров, да к тому же безутешен после смерти матери? Пусть Мария рассчитывает на нее. Джейн готова сделать все, что в ее силах, лишь бы помочь несчастной девушке. Она знала, что Шапуи, который годами отстаивал права Марии, – ее верный союзник. Брайан как-то упомянул, что даже Кромвель втайне сочувствует опальной принцессе; вероятно, он тоже сможет использовать ради нее свое влияние на короля. Джейн написала Генриху ответ; она просила, чтобы его милость по отношению к Марии действовал исключительно лаской и добротой; в таком случае он с большей вероятностью добьется желаемого. Король ответил в слегка раздраженном тоне: он отправил Норфолка и депутацию членов Тайного совета к Марии и потребовал от нее повиновения в отношении к браку матери и верховенству короля над Церковью. Он надеялся, что дочь образумится. Джейн молилась: пусть так и случится. Это сильно облегчило бы ей задачу.
После смерти Анны прошло больше недели. Джейн никак не могла выбросить из головы мысли о казни, хотя и старалась не сидеть без дела, тем более что подготовка к свадьбе давала желанный повод отвлечься от мрачных раздумий, да и мать все время находила ей занятия, не позволяя погружаться в уныние. Джейн беспокоилась, как бы пережитые волнения и тревоги не сказались на ребенке, но чувствовала себя хорошо, не было и намека на приступы тошноты, от которых так страдала Анна. Генрих прислал за ней, так что завтра она покинет этот дом навеки и отправится во дворец Йорк, где еще через два дня они поженятся. События развивались стремительно. Джейн чувствовала неловкость оттого, что ей придется выйти замуж за Генриха так скоро после смерти Анны, но необходимость торопиться тоже была ей ясна. Она надеялась, что и подданные короля отнесутся к этому с пониманием. Последний день в Челси они с матерью потратили на то, чтобы проверить, все ли собрано и готово к завтрашнему отъезду. Подвенечное платье было сложено в отдельный сундук. После обеда отец уснул в кресле, и Джейн заметила, что мать посмотрела на него, тревожно сдвинув брови. Родители ради нее бодрились, как могли, но что-то было неладно: все время, проведенное в Челси, отец очень мало ел и еще сильнее поседел. Однако он четко заявил, что не желает обсуждать свое здоровье и намерен продолжать вести обычную жизнь. Тем не менее он сильно утомлялся. Джейн это видела и сильно переживала за отца. Она не могла представить себе мира, в котором у нее не будет этой мощной опоры.
Лорд-камергер лично вел Джейн и ее родителей с плавучей пристани, где они высадились, через большой сад. Впереди на обширном пространстве раскинулись строения дворца Йорк; говорили, что он самый большой в Европе. Генрих потратил целое состояние на то, чтобы превратить бывший городской дом Уолси в самую роскошную из королевских резиденций со стенами, раскрашенными в клетку вперемешку с затейливым черно-белым орнаментом. Конечно, Джейн бывала во дворце Йорк и раньше, но сейчас будто впервые увидела его. Гейтхаус с бойницами возвышался на двух толстых ногах-опорах над шедшей через дворцовый комплекс дорогой. Двухцветная, как шахматная доска, кирпичная кладка, окна-эркеры, знаки Тюдоров и терракотовые медальоны с изображениями римских императоров выдавали новизну архитектурного стиля. Дальше, по дороге к Вестминстеру, располагался еще один гейтхаус классической формы. Джейн задержала дыхание, когда они вошли в главный зал, а потом переместились в покои короля, где их прибытия ожидал Генрих. Потолки длинной галереи были расписаны в необычайно живой и затейливой манере, несомненно, тут потрудился мастер Гольбейн. Работа выглядела прекрасно. Отныне и впредь Джейн будет жить в окружении такого великолепия. Мать на этот раз онемела, губы ее раскрылись и приняли очертания изумленного «О». Все парадные комнаты в покоях Генриха имели высокие эркеры с видом на Темзу и потолки, украшенные листьями из камня и золота. В окнах сверкали стекла с геральдическими знаками, а на стене была фреска, запечатлевшая момент коронации Генриха. Джейн заметила, что фигуру королевы Екатерины записали. При входе в личные покои ей первым делом бросился в глаза алебастровый фонтан. Только позже она обратит внимание на деревянные резные панели, разрисованные множеством прелестных фигурок, а сейчас к ней подходил Генрих. Джейн присела в низком реверансе. Он поднял ее, обнял и поцеловал. – Добро пожаловать, Джейн! – с волнением в голосе провозгласил король. – Добро пожаловать, моя дорогая!
Генрих настоял на том, чтобы лично проводить невесту в апартаменты королевы и попросил ее родителей пойти с ними. Он буквально кипел от восторга. Взяв Джейн за руку, Генрих провел всех по своим покоям, а потом через маленькую дверь на потайную галерею. Окна ее смотрели на личный сад – изящнейший образец симметрии. В противоположном конце находилась дверь в апартаменты королевы, убранные почти так же роскошно, как и комнаты короля. Джейн застыла у входа. Это место было ей хорошо знакомо, оно хранило аромат Анны. Тут едва не ощущался запах ее духов. Здесь Анна держала двор, развлекалась, вокруг нее вились толпы придворных, среди них – и те несчастные джентльмены, которые из-за нее попали на плаху. Генрих улыбался Джейн, выжидательно глядя на нее. Он подарил ей рай и хотел, чтобы она до краев наполнилась ощущением счастья. – Это такая честь для меня, – наконец проговорила Джейн, заставляя себя улыбнуться, хотя больше всего ей хотелось бы оказаться где-нибудь подальше отсюда. – Я очень рад, что вам нравятся ваши апартаменты, – сияя от удовольствия, сказал Генрих. – На эти комнаты я потратил столько, что хватило бы заплатить выкуп за короля. Он открыл другую дверь. Джейн взглянула на мать. Но от нее ждать понимания не приходилось. Леди Сеймур вознеслась до высшей стадии благоговейного восторга. Джейн прошла вслед за Генрихом в спальню. Все здесь было так, как она помнила. Огромная французская кровать с занавесками из золотой парчи и прекрасное резное панно над камином. Ни одна женщина и мечтать не могла о лучшем месте для сна, но Джейн думала только о том, что это комната Анны – свидетельница самых интимных моментов ее жизни, равно как и ее страхов, горя, отчаяния. Генрих спал здесь с Анной. У Джейн не хватило храбрости спросить его, нет ли в Йорке других комнат – любых, – которые ей можно было бы занять. Она понимала: то же самое ждет ее во всех королевских дворцах. В каждом есть апартаменты королевы, которые она должна занимать, и все они были украшены Генрихом для Анны. Он повел ее в другой покой, где стояли длинный обеденный стол и большое кресло с обтянутым бархатом изголовьем. – Ваш обеденный зал! – объявил Генрих. Джейн окинула взглядом ровный строй золотых и серебряных тарелок на дубовом буфете, портрет юного Генриха над массивным каменным камином. – Сказать по правде, я ошеломлена, – сказала она ему. – Ваша доброта ко мне безгранична! Король улыбнулся и сжал ее руку. – Пойдемте, – позвал он. Когда они вернулись в ее личные покои, Джейн изумилась, увидев множество дам и служанок, которые ожидали их. Все как одна опустились в низких реверансах. – Джейн, я еще не совсем закончил формирование вашего двора, – объяснил Генрих, – но эти милые люди будут служить вам, пока я не назначу достойных на остальные должности, после чего всех их вместе приведут к присяге. Я собираюсь увеличить число придворных до двухсот. – Он горестно улыбнулся. – Я бы добавил, что новость о нашей помолвке каким-то образом утекла в свет и началась большая суматоха и борьба за места. – Король наклонился ближе к Джейн. – Вы должны сказать им, чтобы поднялись. Джейн быстро совладала с собой. Она как-то расслабилась, думала, что с этого момента ей уже не придется и пальцем пошевелить, все для нее будут делать слуги и рядом всегда найдется человек для выполнения любого поручения. Джейн вспомнила свои сомнения: как сможет она, дочь простого рыцаря, набраться храбрости и распоряжаться такими знатными дамами, как, например, леди Эксетер. Теперь перед ней выстроился целый двор таких леди Эксетер. Джейн сглотнула и произнесла: – Прошу вас подняться. Голос прозвучал хрипло. Когда все встали, она с облегчением вздохнула, увидев знакомые лица: Маргарет Дуглас, Марджери Хорсман, Анну Парр и Мэри Зуш. Марджери улыбалась ей. С ними была и Мэри Норрис, но бедняжка не улыбалась – она оплакивала своего отца. Джейн надеялась, что Мэри не винит ее в смерти сэра Генри. – Моя милая племянница Маргарет будет у вас главной придворной дамой, – сказал Генрих. Девушка вышла вперед и сделала реверанс. Джейн робко протянула ей руку для поцелуя, как раньше делала королева Анна, а про себя порадовалась, что надела роскошное платье из черного бархата. – Я рада служить вам, госпожа Джейн, – сказала Маргарет с певучим шотландским акцентом. – Надеюсь, мы с вами подружимся, – ответила Джейн. Господу известно, как ей были нужны подруги! – Другие ваши придворные дамы – леди Монтигл, леди Ратленд и леди Сассекс, – продолжил Генрих, и три женщины сделали по несколько шагов вперед. – Я намерен назначить еще трех. Джейн предпочла бы не иметь при себе леди Ратленд, которая была враждебна к ней, когда они служили королеве Анне, но теперь она улыбалась, поднимаясь из реверанса. Как переменился ветер! – Я подумал, вам, наверное, будет приятно иметь в числе своих дам вашу невестку леди Сеймур, – тихо проговорил Генрих и скривился. – Лучше не надо, – шепнула Джейн, внутренне сжавшись от устрашающей перспективы, что часы ее пробуждения будет омрачать тень Нан Стэнхоуп с ее догматическими мнениями, критическим взглядом и завистью. – Могу я приглашать ее иногда, если мне понадобятся дополнительные придворные дамы? – Очень разумно! – усмехнулся Генрих. – Эта женщина ужасает меня. Главные служащие двора Джейн вышли вперед. Большинство из них, по словам Генриха, переведены к ней от почившей королевы. – Но если вы хотите заменить их на тех, кто более приятен вам, я не стану возражать, – сказал ей король. Затем были представлены фрейлины, горничные, распорядители и грумы. Джейн немного насторожилась, увидев милашку Джоан Эшли, которая меньше двух лет назад была любовницей Генриха, хотя их связь давно и совершенно точно закончилась. Джейн это точно знала. Была тут и Бесс Холланд, возлюбленная Норфолка, из-за которой он отдалился от своей герцогини. Бесс отличалась веселым нравом, она нравилась и Джейн, и Генриху. Странно было видеть, как Марджери Хорсман, Мэри Норрис, Анна Парр и Мэри Зуш делают перед ней реверансы. Джейн с новой остротой ощутила, что былая близость между ними невозможна. Она понимала – и сожалела, – что королеве не подобает иметь доверительные отношения с фрейлинами. Анна нарушала неписаное правило, а вот Екатерина пошла на это, только когда ее двор сократился до таких размеров, что никого, кроме фрейлин, не осталось. Джейн для себя решила, что будет подражать Екатерине: пусть ничто в ее манерах не напоминает стиль поведения королевы Анны. Значит, каким бы болезненным это ни было, придется отдалиться от фрейлин и завести дружбу с главными придворными дамами, которые будут служить ей. Она не могла представить леди Ратленд своей приятельницей, но возлагала большие надежды на леди Монтигл, урожденную Мэри Брэндон, дочь большого друга короля герцога Саффолка. Красавице Мэри было двадцать шесть, она ненавидела Анну Болейн, а следовательно, могла испытывать симпатии к Джейн. Генриху она очень нравилась. Король обратился к придворным Джейн: – Служите своей госпоже хорошо, будьте верны ей и благоразумны во всех своих поступках. Не распространяйтесь о ее браке, пока об этом не объявят во всеуслышание. А теперь займитесь делами и приготовьте для нее все, что нужно. – Когда придворные разошлись, оставив Джейн и ее родителей наедине с королем, Генрих сказал: – Я оставлю вас устраиваться, дорогая, а позже мы пообедаем вместе. Он поцеловал ей руку и вышел через дверь, которая вела на потайную галерею. Мать отправила фрейлин в спальню, и тогда отец с облегчением присел на скамью. – Ну, дочь моя, мы гордимся тобой! – сказал он. – Подумать только, завтра ты станешь королевой! – Я сама не вполне верю в это, – отозвалась Джейн. – Все это похоже на сон. «И временами – на ночной кошмар», – мелькнуло у нее в голове. Она так и не могла избавиться от мыслей об ужасной смерти Анны и чувства вины, имелись на то причины или нет. Теперь напоминания о казненной королеве будут ждать ее на каждом шагу. Оставив отца отдыхать, Джейн присоединилась к матери, та как раз наставляла девушек: предупреждала, что нужно проявлять величайшую осторожность, когда они будут извлекать из сундука подвенечное платье. – Его нужно выгладить и разложить на плоской поверхности, чтобы завтра утром все было готово, – распоряжалась она. – Юная леди, с такими ногтями вам нельзя притрагиваться к нему. Пойдите и вычистите их! Анна Парр торопливо вышла, покраснев от стыда. Марджери украдкой улыбнулась Джейн. Та притворилась, что ничего не заметила. – Марджери, не могли бы вы распаковать цветы для моего венка и поставить их в воду? – попросила она. – Конечно, мадам. – Фрейлина кивнула и выполнила поручение. – О, какие великолепные туфли! – воскликнула, вернувшись, Анна Парр, увидев расшитые золотой нитью башмачки из алого бархата, которые Джейн собиралась надеть завтра. – Можно мне примерить? В прошлой жизни Джейн охотно позволила бы это, девушки испытывали жадный интерес к вещам друг друга, но теперь она понимала, что подобную фамильярность следует пресечь в зародыше. – Это обувь королевы, Анна, – сказала Джейн, – и фрейлине не подобает примерять ее. Все уставились на новую госпожу, и ей захотелось провалиться сквозь землю. Фраза прозвучала жестко и недобро. Джейн совсем не этого хотела, но подавила в себе порыв принести извинения. Она теперь их хозяйка и не обязана объясняться. Тем не менее нужно было как-то смягчить свою строгость. – Вы все завтра можете нести мой шлейф, – сказала она фрейлинам и улыбнулась. Девушки как-то неуверенно смотрели на нее. – Но, мадам, думаю, это привилегия моя и других дам, – возразила Элеонор Ратленд. Джейн решила стоять на своем. Нужно устанавливать авторитет. Ей не понравился намек, что она-де не знает придворного этикета. – Миледи Ратленд, по традиции невесту обслуживают девушки. Когда меня будут короновать, мой шлейф понесете вы и другие дамы. Элеонор рассердилась: – Леди Маргарет не замужем. – Да, но она родственница короля, и я хочу, чтобы она возглавляла тех, кто понесет мой шлейф. Глаза Элеонор вспыхнули, но Маргарет пришла на выручку Джейн. – Я сделаю это с большим удовольствием! – заявила она. Джейн покинула спальню и вернулась в личные покои посидеть с отцом. На душе у нее было скверно, она умудрилась настроить против себя большинство из тех, кто станет ее ближайшим окружением. Не слишком удачное начало.
Глава 26
1536 годБелое атласное платье жесткими складками спускалось до самого пола. Длинный шлейф был тяжелым, но никогда еще Джейн не выглядела лучше; волосы каскадом рассыпались по ее спине, а голову украшал прекрасный венок из живых цветов. На шею она надела подаренный Генрихом крест. Мать заплакала, увидев дочь в свадебном наряде, и даже у отца был такой вид, будто он вот-вот пустит слезу. В кабинете королевы собрались все: трое братьев в ярких шелках, гордые, как павлины, Дороти, которая выглядела очень мило в алом платье, Нан, облаченная в зеленый дамаст, Брайан и Кэри, которые чуть не лопались от радости, дамы и фрейлины, одетые в лучшие наряды. Джейн чувствовала, что гости неотрывно следят за тем, как они с Генрихом опускаются на колени перед архиепископом Кранмером. Церемония венчания началась. Когда пришло время произносить обеты, Джейн смотрела только на Генриха, не сводившего с нее глаз, и повторяла слова, которые обручат ее с ним навеки. Потом архиепископ объявил их мужем и женой – и она, милостью Божьей, стала королевой Англии! Генрих, который выглядел великолепно в наряде из серебряной парчи с блиставшим на груди огромным рубином, повернулся к ней и ликующим голосом провозгласил: – Моя госпожа и королева! – после чего жарко поцеловал ее в губы. Когда они повернулись к собравшимся в церкви, все встали на колени, выражая почтение. Джейн испытала шок, увидев своих родителей, склонивших перед ней головы, и поспешила поднять их. Потом все столпились вокруг молодоженов, поздравляли их, и мать проливала слезы радости, а отец едва не лопался от гордости. В радостном настроении Генрих провел Джейн в свой приемный зал, и там она села рядом с ним на трон под балдахином на место королевы, а тем временем гости и избранные придворные пришли оказать ей почести. У Джейн слегка кружилась голова от такого внимания. Про себя она молилась, чтобы Господь помог ей исполнить свою роль хорошо. Она понимала, что придворные дамы пристально следят за ней, и представляла себе, какие мысли вертятся у них в головах: ну вот, посмотрите-ка на эту маленькую выскочку! Король встал: – Да будет известно всем и каждому, что сегодня я дал в приданое королеве Джейн сотню поместий в четырех графствах, с лесами и охотничьими угодьями, а также замок Бейнард и дворец в Хейверинг-атт-Боуэре. Все зааплодировали, потом вперед вышел паж и передал королю изысканно украшенную шкатулку. Генрих сел и повернулся к Джейн: – Это ваше, мадам. В ларце документы на ваше приданое. Доход с этих владений поможет вам с достоинством нести титул королевы. Вам самой не нужно утруждаться заботами об управлении имениями: ваши служащие займутся и землями, и доходами с них. – Я во всем буду поступать так, как распорядится ваша милость, – сказала Джейн. – Вам не придется просить у меня деньги на свои маленькие радости, – добавил Генрих, нежно глядя на нее. – Хранитель вашего личного кошелька будет снабжать вас необходимыми суммами. – Благодарю, – ответила Джейн. Она понимала, что Генрих ни в чем ей не откажет. Ее имущественное состояние должно быть зерцалом его могущества. Кроме того, Джейн знала: если король желал кого-нибудь одарить, то не скупился, у него было щедрое сердце. После обеда, поданного в личных покоях короля, Генрих исчез и вернулся, держа в руках что-то, завернутое в золотую парчу. – У меня для вас есть свадебный подарок, – сказал он. Джейн ахнула, увидев изысканный золотой кубок с выгравированными на нем инициалами «Н» и латинским «I» для Джейн[65], сплетенными в узел верной любви, четырьмя медальонами с профилями и увенчанным короной гербом королевы, который поддерживали дельфины и херувимы. – Генрих, как красиво! – выдохнула она. – Я надеялся, что вам понравится, дорогая, – сказал он и поцеловал ее. – Это придумал Гольбейн. Ужинали они в тот вечер вдвоем. Джейн ела хорошо, видя, что Генрих пристально смотрит на нее с другой стороны стола. После ужина он проводил супругу по галерее в ее апартаменты, чтобы она приготовилась к брачной ночи. Взяв Джейн за руку, Генрих нежно поцеловал ее в губы и передал на попечение женщин. Раздевая новую королеву, все были почтительно-робкими. Джейн подозревала, что дамы догадываются о ее беременности, но они ничем не выдали этого, пока до блеска расчесывали ей волосы и надевали на нее ночную сорочку и чепец, расшитые золотой и серебряной нитью. – Вашей милости нужно что-нибудь еще? – спросила Марджери. Джейн улыбнулась ей: – Нет, благодарю вас. Я лягу в постель. Передайте королю, что я готова. Женщины оставили ее одну. Джейн забралась в элегантную французскую кровать и утонула в пуховой перине, радуясь, что Генрих отказался от идеи соблюсти обычай публичного укладывания в постель, посчитав это неуместным. – Я не участвовал ни в одной подобной церемонии и не намерен начинать сейчас! – чопорно заявил он. – То, что происходит между нами в постели, – наше личное дело и останется таковым! Дверь открылась, и на пороге появился король, одетый в парчовое красное с золотом ночное платье и подходящую к нему шапочку. – Дорогая! – сказал он и поставил свечу. Потом забрался в постель и прижал Джейн к себе. Она ощутила, как он жаждет ее. А она как хотела его! – Мы должны думать о ребенке, – сказал Генрих. Джейн не стала перечить ему, слишком многое зависело от этой беременности, но как же печально было проводить брачную ночь целомудренно. Но тут Генрих подвел ее руку к своему члену, а сам начал ласкать ей груди. Джейн обрадовалась. Хотя бы такие утехи им доступны, пока ребенок не появится на свет.
Джейн села и надела ночную рубашку. Надо выглядеть прилично, прежде чем она позовет своих дам. Выйдя из уборной в углу, Джейн поймала на себе оценивающий взгляд Генриха и поняла: она ему нравится. – Сегодня вы встали с постели как жена, – сказал он. Джейн улыбнулась: – Я знаю. Отныне я должна заплетать волосы и скрывать их под капором. Теперь они будут только для ваших глаз. – Вот именно! – ухмыльнулся Генрих. – Но вам как королеве позволено оставлять их распущенными во время разных церемоний, когда вы будете надевать корону. – А где моя корона? – спросила Джейн, присаживаясь рядом с ним на постель. – В сокровищнице в Тауэре, – ответил Генрих. – Я пошлю за ней, если вам хочется ее увидеть. Джейн подумала, была ли эта корона изготовлена для Анны? Она предпочла бы носить царский венец Екатерины, но выдавать себя не хотела, а вместо этого спросила: – Когда коронация? – Как только я смогу все организовать, дорогая, – сказал Генрих, глаза его засверкали. – Но сначала позвольте мне поцеловать вас еще раз.
После обеда король планировал выезд на охоту. Утром Джейн одели в новый алый костюм для верховой езды. Она чувствовала, что ее дамы ведут себя настороженно, тем не менее они охотно поддерживали разговор с ней. – Я рада видеть вашу милость королевой, – тепло сказала Маргарет Дуглас. – А я рада, что вы стали главной из моих придворных дам, – с улыбкой ответила Джейн. Она заметила, что у Марджери Хорсман немного унылый вид. Их близкой дружбе пришел конец – очень жаль. Вспоминать о том, как неловко Джейн добилась этого, было неприятно, но что поделаешь? Теперь она королева, и все должно измениться, во благо или во вред.
Утром Джейн отдыхала, лежа в постели, но уснуть не могла. Она встала, прошла в кабинет, чтобы взять книгу из сундука, где хранились ее личные вещи, и услышала в соседней комнате голос леди Ратленд: – Так странно видеть, что в течение одного месяца королева Анна, только недавно процветавшая, была обвинена в страшных преступлениях, осуждена и казнена, а ее место заняла другая женщина. Джейн обмерла. – А мне это не кажется странным, – говорила леди Монтигл. – Королю нужен наследник, вот почему он так быстро женился. А королева Анна наставила ему рога. Преступления, в которых ее признали виновной, неслыханны, такого еще не бывало в христианском мире. – Да, но совершала ли она их? – Разумеется, совершала. Ее судьбой распорядился Всевышний. – Хотелось бы в это верить! И теперь вместо нее мы получили эту гордячку, спесивую выскочку. Джейн не могла больше это слушать и, войдя в дверь, спросила: – Леди Ратленд, вам нечем заняться? – После чего улыбнулась леди Монтигл. Элеонор Ратленд покраснела, пробормотала какие-то извинения и поспешила удалиться. – Боюсь, я нажила себе врага, Мэри, – сказала Джейн. – Ваша милость слышали ее слова? – Да. Я знаю, она была дружна с королевой Анной. – Верно, потому и боится, что вы, ваша милость, будете плохо к ней относиться. Вот так новость! – Я стала бы ей другом, если бы она не выказывала враждебности ко мне. – Тогда, мадам, я прошу вас, проявите к ней снисходительность, и тогда, думаю, все будет хорошо. – Благодарю вас за добрый совет. – Мэри Брэндон день ото дня нравилась Джейн все больше. – Скажите, меня и правда считают гордой и спесивой? Фрейлины расстроены тем, что я не была с ними так же дружелюбна, как прежде? Мэри зарделась: – Немного, мадам. – Прошу вас, при случае скажите им, мол, вам кажется, что я сожалею об этом, но говорила о своем намерении быть такой же королевой, как Екатерина. Надеюсь, они поймут. – Я сделаю это, – обещала Мэри. После обеда, направляясь во двор, где Генрих собирал свою охотничью партию, Джейн готова была загрызть саму себя. Она и в половину не была такой женщиной, как Екатерина. С чего это она размечталась возвыситься до нее? Лучше уж постараться не выглядеть спесивой гордячкой. Слова леди Ратленд жгли ее изнутри.
Генрих строго взглянул на Джейн. – Вы ведь не собираетесь скакать верхом в вашем положении? – тихо спросил он, следя за тем, чтобы никто из охотников не услышал его. Об этом Джейн как-то не подумала. – Я видела много беременных женщин, которые ездили на лошадях, и никому это не вредило. К тому же я чувствую себя прекрасно. Прошу вас, позвольте мне поехать с вами. Если меня повезут в носилках, сразу начнутся пересуды. Генриха это не обрадовало. – Хорошо. Но я велю, чтобы вам привели самую смирную кобылу, и вы должны ехать только рысью. Они добрались до Тоттенхэма, а это в десяти милях от Лондона. Там осмотрели старинную приходскую церковь и пообедали в Лордшип-Хаусе. Говорили, что им когда-то владел Роберт Брюс, король Шотландии. Теперь дом принадлежал семейству Комптон, они-то и принимали всю компанию. Близкий друг Генриха сэр Уильям Комптон умер от потливой лихорадки восемь лет назад, но король сохранил добрые чувства к его родным. Разговор за столом неизбежно коснулся падения Анны. Сэр Питер Комптон заметил: – Повергнув ее, Господь раскрыл свою волю. Известие о вынесенном ей приговоре прозвучало музыкой для моих ушей. Генрих кивнул. Казалось, он не возражал против обсуждения судьбы своей почившей супруги на следующий день после новой свадьбы. – Она заслужила дурную славу, – заметил он. Джейн поняла: ее супруг ценит любые выражения сочувствия и солидарности. – Из милосердия я молюсь, чтобы Господь сжалился над ее душой и простил ей все прегрешения, – сказала она. Это заявление произвело впечатление на сэра Джона Расселла, советника короля, которого тот высоко ценил. – Ваша милость нашли себе добросердечную супругу и справедливую королеву, которая не уступит в этих качествах ни одной другой в христианском мире. Генрих взял руку Джейн: – Уверяю вас, милорд, я вознесся из ада на небеса благодаря мягкости ее характера в сравнении с той, прежней, что принесла мне одни несчастья. – Мы все рады, что ваша милость нашли себе такую милую сердцу спутницу, – с улыбкой произнес сэр Питер. Щеки у Джейн горели, но все-таки ей было приятно слышать такие похвалы. – Ваша милость получили ответ из Питерборо? – поинтересовался сэр Джон. – Получил, – нахмурился Генрих. – Очевидно, донесения оказались правдивыми. – Какие донесения, сэр? – спросила Джейн. – В день накануне казни королевы Анны свечи, что стояли вокруг гробницы леди Екатерины, сами собой зажглись, а после заутрени тоже сами собой погасли. Я отправил в Питерборо тридцать человек, чтобы проверить, правда ли это, и они не смогли обнаружить там никаких обманных приспособлений. Многие люди видели это. Никто не мог объяснить причину. И невежды из народа, ставшие свидетелями чуда, теперь говорят, мол, это знак, Господь одобряет наказание женщины, которая заняла место истинной супруги короля. Их предупредили, чтобы они не распространяли бунтарские речи. Екатерина никогда не была моей законной женой, Анна тоже. Вы, Джейн, моя единственная истинная королева. – Он поднес к губам и поцеловал ее руку. Джейн стала размышлять об этой удивительной истории со свечами. Ей хотелось думать, что их самовозгорание – это знак: Екатерина улыбается ее браку.
Вечером Генрих пришел к ней в спальню, и они некоторое время лежали, обнявшись, болтали, целовались и ласкали друг друга. Потом Генрих забылся сном, опустив голову ей на плечо, но Джейн не спалось. Лунный свет проникал в комнату сквозь открытое окно, дамастовые шторы тихо колыхались под ветром. В голове у Джейн роились мысли о будущем. Она представляла себя в летах матриархом династии Тюдоров и рядом с собой – Генриха, и в старости величественного государственного мужа, а вокруг них – целый выводок прекрасных, здоровых и сильных сыновей. Дочери, конечно, тоже будут, чтобы король выдавал их замуж за иноземных принцев и через это заручался дружбой влиятельных правителей. И Мария тоже будет там, и Елизавета – обе счастливые в браках и всеми любимые. Темную тень на стене она сперва приняла за игру света. Но через несколько мгновений сообразила: в спальне нет ничего, что могло бы ее отбрасывать. Тень была похожа на женскую фигуру со светящимся вокруг головы нимбом – или французским капором! Да, это была женщина во французском капоре, Джейн не сомневалась. Вдруг ее объял страх. Это же Анна! Явилась изводить ее. Анна, которой в радость омрачить ей счастливый момент. Анна, ставшая ее врагом при жизни, и после смерти вознамерилась не давать покоя удачливой сопернице. Джейн хотелось забраться под одеяло и сжаться в комок, но она не могла отвести глаз от призрака. Неужели, находясь в чистилище, можно мстить? Или Анна уже в аду, обречена бродить по земле до скончания веков и мучить тех, кто привел ее к гибели? Являлась ли она Кромвелю? Преследовала ли его по ночам? Джейн, должно быть, задремала, не иначе. Она моргнула, и тень исчезла, но сама Джейн так и не поняла, проснулась она или не спала вовсе. Случаются такие вещи, которых не объяснить с помощью разума; Джейн иногда ощущала их. Она лежала в постели и сильно дрожала, боясь разбудить Генриха или подать голос, вдруг призрак снова появится. Сбегутся фрейлины. Они посчитают ее безумной! Станут шептаться, искать объяснения, с чего это она, Джейн, думает, будто ее посещает призрак. И наверняка решат, что это результат того бремени вины, которую она несет на совести. «Скорее всего, это был сон», – сказала себе Джейн. Тем не менее она встала и зажгла свечу, чтобы разогнать мрак. Долго еще ей не удавалось заснуть. Утром она уже не сомневалась, что тень на стене ей приснилась. А потом начались болезненные спазмы внизу живота. Когда Джейн поднялась с постели, то увидела на простыне кровь и сразу поняла, что происходит; у нее застучали зубы. Она разбудила Генриха; по ее щекам ручьем лились слезы. – Что случилось?! – вскрикнул король и резко сел. Потом увидел кровавые пятна. Он был очень добр. Ни слова упрека, хотя у него были причины для недовольства, ведь вчера она сама настояла на поездке. Он утешал ее, позвал женщин и велел отдыхать, а сам остался ждать в соседней комнате. Спазмы усилились. Это была настоящая пытка. Привели повитуху. Через некоторое время Джейн ощутила, как из нее что-то выскользнуло. Мэри Монтигл ахнула и прикрыла рот ладонью, в ужасе глядя на то, что держала в руке акушерка. Краем глаза Джейн увидела крошечного младенца, размером не больше ее ладони, но его тут же завернули в тряпицу и унесли. Боли утихли, но возникло сильнейшее чувство утраты и поражения. Джейн лежала в слезах. Пришел Генрих. Он так и не снял ночной рубашки, сел рядом, взял ее за руку. – Поспите, – сказал он. – Повитуха говорит, ничто не мешает нам завести другого ребенка, причем очень скоро. – Не могу передать вам, как мне жаль, – всхлипнула Джейн. – Такова воля Господа, – вздохнул Генрих. Она заглянула ему в глаза и увидела в них слезы. Он тоже страдал. – О мой дорогой, – пролепетала Джейн, – я бы все на свете отдала, лишь бы этого не случилось. – Я знаю, – ответил он и сжал ее руку. – А теперь отдыхайте. Когда Генрих ушел, в голове у Джейн завертелись тревожные мысли. Если эта тень ночью ей не приснилась, значит Анна являлась за ее ребенком. А если это была игра света, значит Бог наказывает ее за участие в свержении соперницы. В таком случае позволит ли Он ей когда-нибудь выносить сына Генриху?
Вскоре Джейн вполне оправилась от потери ребенка и строго наказала себе не поддаваться глупым страхам. Кровотечения время от времени повторялись и по возвращении во дворец Йорк, но чувствовала она себя хорошо, разве что грустила – никак не могла забыть крошечное существо, которое так недолго носила в своем теле, и горько оплакивала его. Но при Генрихе она не раскисала – изображала, что стойко переносит несчастье, а себя убеждала: «Ничего, ничего, будут у нас и другие дети. Мне ведь всего двадцать восемь». Джейн получила письмо от Элизы Даррелл с просьбой найти ей место при дворе. Эту девушку она вспоминала с любовью. Они вместе служили у королевы Екатерины. Элиза сообщала, что после смерти госпожи впала в бедность. Она надеялась поступить на службу к леди Марии, но, отчаявшись дождаться момента, когда та снова вернется в фавор, решила обратиться с просьбой к новой королеве. Джейн рассказала обо всем Генриху. – Вы хотели бы иметь ее при себе, дорогая? Он был все так же добр, хотя она и подвела его. – Очень, – ответила Джейн. – Тогда пошлите за ней.
В тот вечер Генрих явился в сопровождении пажа, который нес обитый железом ларец с накладками из чеканного золота. – Поставьте на стол, – распорядился король и откинул крышку; ларец был полон драгоценностей, которые мерцали и поблескивали в свете свечей. – Теперь они ваши, – сказал Генрих, делая широкий жест рукой. – Мои? – Джейн была поражена. – Да, дорогая. Это украшения королевы, они передаются от одной к другой. Некоторые очень старые. – Король вынул тяжелое золотое ожерелье. – Это ожерелье моей матери. Оно сделано в тринадцатом столетии. – Генрих взял в руку эмалевую брошь. – А вот эта брошь принадлежала Элеоноре Кастильской, которую страстно любил король Эдуард Первый. Теперь ею будет владеть другая горячо любимая королева. – Он передал украшение Джейн, которая в изумлении таращилась на сокровища. – Достаньте их. Рассмотрите. Они ваши, – подбадривал ее Генрих. Джейн узнала кое-какие вещи, которые носила королева Екатерина, пока их не отобрала у нее Анна. Вот знакомые длинные нити жемчуга, они украшали ее корсаж. Но больше всего Джейн нравилась брошь Екатерины с подвесками из черных бриллиантов и буквами «IHS», означавшими имя Христа на греческом. – Носить их – большая честь для меня, – прошептала она. – Вы слишком добры ко мне, Генрих. – Это ваш долг, – ответил он.
На следующий день Джейн надела полюбившуюся брошь и собрала свой двор. Генриха не было, и она старалась, как могла, блюсти свое королевское достоинство. Следя за тем, чтобы голос ее не дрожал, Джейн обратилась к своим приближенным: – Я созвала вас сегодня утром, чтобы сказать, что жду от вас высокой морали. Вы должны всегда соблюдать протокол и этикет, проявлять целомудрие и преданность. Леди, вам следует одеваться роскошно – и я вижу, вы уже делаете это, – но пусть ваши наряды будут пристойными. – Она замолчала и откашлялась. – Ваши шлейфы должны быть длиной в три ярда, а пояса украшены двумя сотнями жемчужин. – Раздалось приглушенное аханье, но Джейн как будто ничего не заметила: если они хотят ей служить, то должны выглядеть соответственно. – Вы будете носить капоры в форме фронтонов, и никакие другие. Французские капоры запрещены, так как они нарушают скромность. Послышался протестующий ропот, но он быстро стих, и Джейн вновь проигнорировала выражение недовольства. Анна любила французские капоры, значит при ее дворе они будут под запретом. Через три дня после свадьбы, когда дамы сопровождали Джейн на плавучую пристань у дворца Йорк, они были одеты так, как приказала их госпожа. Все погрузились на барку королевы, уже украшенную гербами Джейн – их написали поверх геральдических знаков Анны, – и пошли на ней вслед за лодкой короля в Гринвич. Вечером Джейн в одиночестве восседала на роскошном троне под балдахином в своем приемном зале, одетая в великолепное платье из розового дамаста и капор в форме фронтона с каймой из жемчуга и золота. Ей предстояло впервые в качестве королевы обедать на публике, эта перспектива слегка пугала ее. Джейн вспомнила королеву Екатерину за столом и подумала, что ей не вынести такого пристального внимания. Тем не менее она начала понимать, что обладает внутренними ресурсами и силой, о наличии которых даже не подозревала. Слуги принесли стол и установили его перед ней на помосте. Накрыли скатертью из тончайшего белого льняного полотна, поставили позолоченную и посеребренную посуду, центр заняла солонка из чистого золота в форме корабля. Обед подавали очень церемонно, придворные наблюдали за новой королевой. Джейн собралась с духом и решила сделать все так, чтобы Генрих гордился ею. Через два дня, в Пятидесятницу, король наконец вышел из уединения и вновь возглавил двор. Лицо его приняло победное выражение, когда прозвучали фанфары и королевские герольды в присутствии огромной толпы лордов, леди, епископов, членов Тайного совета, придворных и главных государственных чинов объявили Джейн королевой. По всей Англии, в городах и деревнях, были сделаны такие же оповещения. В ответ на приветственные возгласы Джейн, одетая в золотую парчу, поклонилась и вместе с Генрихом во главе процессии отправилась на мессу. За ней длинной вереницей следовали ее дамы. Джейн думала, ей никогда не привыкнуть к тому, что люди кланяются, когда она проходит мимо, но это было приятно. А кому не понравится принимать такие выражения почтительности? Джейн сделала приношения на алтаре, как полагалось королеве, после чего снова обедала в собственном приемном зале на глазах у дам и офицеров своего двора, готовая к долгой церемонии приведения к присяге на верность, которая должна была состояться вечером.
Генрих на ней не присутствовал; он заседал в Совете. Когда вечером король пришел в личные покои Джейн ужинать, то был напряжен и резок. Она удивлялась про себя, чем обидела его? Однако вскоре причина его недовольства выяснилась. – Члены моего Тайного совета, которые посещали Марию в Хансдоне, представили отчет, – прорычал он. – Норфолк от моего имени приказал ей признать брак ее матери кровосмесительным и незаконным. Она сразу отказалась. Он довел ее до слез, но она продолжала упорствовать. Джейн не видела в нем ни малейшей искры сочувствия. Казалось, для него значение имело только одно: его воле должны подчиняться все, причем беспрекословно. Совесть других людей не принималась в расчет; любой, кто противился ему, должен понести наказание, каким бы близким этот человек ни был. В тот момент Джейн впервые ощутила неприязнь к Генриху, и это ее расстроило. А что до Норфолка, о нем не стоило и говорить. Он председательствовал в суде над своей племянницей Анной, вынес ей приговор и благодаря этому сохранил должность лорда-казначея. Ясное дело, издевательствами над Марией он надеялся снискать милость короля. – Что бы ни совершила Мария, в ней течет ваша кровь, и герцогу не следовало так резко говорить с ней. – Хм. – (Джейн подозревала, что Генриху и самому такое самоуправство не по нраву, но признает ли он это?) – Думаю, пора намекнуть Норфолку, что с его стороны разумным и полезным для него самого шагом был бы отъезд домой, в Кеннингхолл, – сказал он. – Вы, как обычно, приняли мудрое решение, – польстила ему Джейн. Норфолк был одним из самых влиятельных людей при дворе, и она опасалась, как бы он в один прекрасный день ради дальнейшего удовлетворения своих непомерных амбиций не встал на защиту интересов внучатой племянницы Елизаветы. – А Мария? Что будет с ней? – спросила Джейн. Генрих рассвирепел: – Ее заставят повиноваться! Он не остался с супругой, и она долго плакала, прежде чем уснула.
Утром Джейн осталась в своих покоях и пыталась наладить более теплые отношения с дамами, но тут объявили о приходе Кромвеля. Он низко поклонился, а она протянула ему руку для поцелуя. – Ваша милость, не могли бы мы поговорить наедине? – спросил гость. Джейн улыбнулась своим дамам, те ответили реверансами и скрылись. Лицо Кромвеля посерьезнело. – Мадам, мне нужна ваша помощь. Необычайно важно, чтобы леди Мария вернулась ко двору. Пока ваша милость не родит сына, за обретение которого мы все молимся денно и нощно, у короля нет наследника. Дела обстоят так, что леди Мария – наша главная надежда на будущее. Но она постоянно противится его милости в деле о браке матери, и сегодня утром он выразил намерение привлечь ее к суду за измену. – Нет! – воскликнула Джейн. – Она его дочь! – По закону, мадам, она также виновна в измене. Леди Мария написала мне, умоляя вступиться за нее перед королем, и я с радостью сделаю это, но сперва мы должны постараться уберечь ее от безрассудных поступков. – Я буду умолять его милость, – не задумываясь, ответила Джейн. – Именно на такой ответ я и рассчитывал, мадам. – Кромвель улыбнулся. – Он не сможет отказать такой милой молодой жене.
Джейн вздохнула с облегчением, получив вызов в приемный зал Генриха. Когда объявили о ее приходе и она вошла, то была удивлена, увидев стоявших рядами придворных, которые расступались, давая ей дорогу. Она сделала низкий реверанс перед Генрихом и села рядом с ним на трон, стоявший на помосте. Корольвиновато взглянул на нее. – Простите, дорогая, что не остался с вами прошлой ночью, – пробормотал он, беря и целуя ее руку. – Я очень злился на Марию, и у меня разболелась голова. Такое случалось с ним все чаще, иногда боли сопровождались появлением перед глазами черных пятен и странных вспышек света, и тогда король совершенно выходил из строя. – Надеюсь, теперь вам лучше, – ответила Джейн. Ей было больно сознавать, что в нем есть черты, которые могут вызывать ненависть, но сейчас тревога за мужа пересилила злость на него. – Намного лучше оттого, что я вижу свою королеву. – Генрих кивнул стоявшему рядом мужчине со свитком в руках; это был главный герольдмейстер. – А теперь, Джейн, посмотрите, как я вознаграждаю вашу семью за преданность. Вызовите сэра Эдварда Сеймура! Джейн ощутила взволнованный трепет, глядя, как ее старший брат приближается к трону и опускается на колени перед королем. Герольдмейстер зачитал дворянскую грамоту, согласно которой Эдвард становился виконтом Бошаном из Хатча, владения их предков в графстве Сомерсет. Потом раздался голос Генриха, который возвестил о назначении Эдварда старшиной суда присяжных Северного Уэльса, управляющим Джерси и лордом-камергером короля, а также подтвердил дарование ему нескольких поместий в Уилтшире. Обычно серьезное лицо Эдварда осветилось радостью и гордостью. Он мечтал об этом, ради этого неустанно трудился. Однако Джейн понимала: несмотря на способности, брат получил дворянство в основном благодаря тому, что она стала королевой. Ее радовало, что она помогла ему достичь таких вершин. Джейн видела счастливые лица родителей и Нан, которая невыносимо заважничает после этого; обратила внимание на побагровевшего Томаса; уловила и взгляды придворных – завистливые, расчетливые, торжествующие. Эдвард стоял на коленях, а король накинул на его плечи мантию и возложил ему на голову венец. Посвящаемый принес клятву верности и поднялся на ноги пэром королевства и самым влиятельным джентльменом личных покоев короля. Затем вызвали Гарри, его сделали управляющим и сборщиком податей с поместий королевы в трех графствах. – Он хорошо справится с этим делом, вы можете не беспокоиться, – сказал Генрих. Джейн поняла, почему Гарри не получил более высоких должностей. Он был по натуре добрым и прилежным, но ему недоставало способностей, амбиций и воли к дальнейшему возвышению. Джейн ожидала, что следом вызовут отца и Томаса, но, очевидно, раздача милостей на этом завершилась. Родственники и друзья Эдварда столпились вокруг него с поздравлениями. Среди них были Шапуи, Брайан и Кэри. Кромвель стоял немного в отдалении и благосклонно взирал на происходящее. Джейн встала и спустилась с помоста, чтобы обнять брата и разделить общую радость.
Вечером, когда они с Генрихом остались вдвоем в освещенной свечами спальне, Джейн поблагодарила супруга за щедрость к ее родным. – Это не больше того, что они заслужили, – ответил он и повернулся к лежавшей в постели жене. – Вы, наверное, удивляетесь, почему я не оказал почестей Томасу. Вот что, Джейн, он молод, горяч и пока не готов к высоким должностям. Если он остепенится и будет вести себя хорошо, то в будущем может получить преференции. – Вы правильно его оценили. – Джейн улыбнулась. – Но есть кое-кто, Генрих, для кого я бы смиренно просила вас о небольшом знаке вашего уважения, и это мой отец. Некоторое время Генрих молчал. – Вы должны были заметить, дорогая, что он очень болен и не годится ни для какой службы. – Я знаю. И тревожусь за него. Кажется, ему не становится лучше. Моя мать понимает это, но не подает виду. Генрих притянул ее к себе: – Хотите, я попрошу своих докторов, чтобы они осмотрели его? – Вы очень добры, но он не признает, что болен. Мы об этом даже не упоминаем. – Тогда я не знаю, что вы можете сделать, – тихо проговорил Генрих; Джейн заплакала, и он крепко прижал ее к своей широкой груди, а потом в нем вспыхнуло желание, и хотя кровотечения у нее еще не прошли совсем, она позволила ему осушить поцелуями свои слезы и заняться любовью. Потом они лежали, обнявшись, и Джейн собралась с духом. Настал ее момент. – Генрих, вы собираетесь начать процесс против леди Марии? Она почувствовала, как он напрягся. – Да, Джейн. – Я прошу вас не делать этого. Я вас умоляю! Он отстранился от нее: – Джейн, вы, должно быть, не в себе. Она совершила измену, отвергла все разумные доводы и нарушила свой долг передо мной. Таких бессердечных дочерей свет не видывал! Джейн ничего не сказала. Она лежала и пыталась унять сердцебиение. Теперь не время настаивать на своем. – Не вмешивайтесь в это, дорогая, – сказал Генрих. – Я не хочу ссориться с вами. Господь свидетель, мне хватило перебранок с Анной! – Простите, если я заговорила не о том. Я надеялась, что леди Мария сможет вернуться ко двору и составит мне компанию. – Вам известно, что я не могу допустить этого, пока она не признает брак своей матери кровосмесительным и незаконным. – Ей трудно сделать это, Генрих. «Даже если так, почему бы Марии не выполнить желание Генриха ради собственной пользы? – подумала Джейн. – А потом она могла бы попросить отпущения грехов». Генрих дотянулся до ее руки: – Я знаю, в вас говорит доброе сердце. Но, Джейн, я намерен просить своих судей начать процесс в соответствии с законом. – А что скажут люди, если вы это сделаете? Как же император и новый союз? – Как поступать с собственной дочерью – это мое дело! – рявкнул он, не сдерживая гнева. – И вы, мадам, лучше не лезьте в дела, которые вас не касаются. Это было как пощечина. Джейн изо всех сил старалась не расплакаться. – Прекрасное завершение такого особенного дня, – тяжело дыша, сказал Генрих. – Да, – согласилась Джейн. Извиняться она не стала. Ночью он овладел ею снова, не сказав ни слова любви, зато с особой властностью, будто хотел показать, за кем первенство в их браке. После этого она тихо плакала в подушку. Однако утром Генрих снова стал любящим супругом, и надежда возродилась в сердце Джейн. Королева сказала себе, что со временем, если действовать умело и осторожно, ей удастся обыграть его.
Повидаться с сестрой пришел Эдвард. Они уединились в ее кабинете. – Кромвель всячески обхаживает и запугивает Марию, чтобы та покорилась воле короля, – сказал он. – Я знаю. – Джейн передала ему содержание своей беседы с Кромвелем. – Шапуи опасается, что господин секретарь не поддерживает ваших надежд на ее восстановление в правах на престол, а совсем наоборот. – Он разделяет эти надежды, уверяю вас. – Примирения с Римом не будет. – Я знаю, – печально сказала Джейн. – Устранение Анны не изменило отношения короля к разрыву с папой. Меня это печалит, а вы, полагаю, не будете сожалеть о том, что Англия останется в схизме? – Лично я – нет, но нам нужен союз с императором. Это пойдет на благо торговле, и император поддерживает тебя в качестве королевы. Иметь влиятельных друзей за границей – это большое преимущество. Нет, Джейн, я за реформы, ты это знаешь, но я и за нас, Сеймуров. Норфолк покинул двор, над ним нависли тучи. С его отъездом наша звезда взойдет еще выше. Нам не нужен Кромвель! – Нужен, Эдвард. Он нужен нам, чтобы спасти принцессу от нее самой.
Глава 27
1536 годПоздно вечером к Джейн пришел Кромвель. Он выглядел усталым и без промедления перешел сразу к делу: – Вашей милости будет приятно узнать, что королевские судьи не выказывают охоты затевать процесс против леди Марии. Они предложили его милости, вместо того чтобы судить ее за измену, предложить ей подписать бумагу с признанием его главой Церкви и брака матери кровосмесительным и незаконным. Это наилучшее решение, и я убедил короля согласиться, что было нелегко. – Он вытащил платок и стал утирать вспотевший лоб. – Его милость сильно разгневался. Заявил, что по рождению мне не положено вмешиваться в дела короля. – Кромвель улыбнулся со скорбной самоиронией. – Он назвал меня проходимцем и негодяем, стукнул меня по голове и выставил с заседания Тайного совета. Я, мадам, уже сожалею, что предложил леди Марии свою поддержку. Боюсь, я поставил себя в сомнительное положение и меня могут обвинить в покрывательстве измены. Джейн сочувственно покачала головой: – Я уверена, король не зайдет так далеко. Он знает, что вы принимаете его интересы близко к сердцу, и любит вас. – Надеюсь на это, мадам. Надо относиться к подобным испытаниям с юмором и терпением. Оплеуха – невысокая плата за удачный исход всего дела. – Значит, вы не оставите Марию? – с тревогой спросила Джейн. – Нет, мадам. Но сегодня я отправил ей документ, который она должна подписать, с дипломатичным письмом, сочиненным с прицелом на то, чтобы заставить ее уступить. Если бы вы прочли его, то подумали бы обо мне очень плохо, а мне не хотелось бы вызывать неприязнь у такой милостивой дамы. – Он отвесил Джейн изящный поклон. – Вот почему я пришел к вам объясниться. – Что вы написали? – Джейн была заинтригована. Кромвель немного помедлил с ответом: – Я упрекнул ее за неприличное для дочери противостояние с отцом. Сказал, мне стыдно за то, что я вел с ней дружеские разговоры, но еще больше я боюсь из-за того, что сделал для нее. Я сказал ей, что с такой блажью в голове она навредит самой себе и всем тем, кто желает ей добра. Я написал – простите меня, мадам, – что считаю ее самой упрямой и строптивой женщиной на свете и рискну содействовать ее примирению с королем только в том случае, если она подпишется под всеми статьями. Я предупредил ее, что в противном случае не смогу дать ей надежду избежать отцовского гнева и всегда буду думать о ней не иначе как о самой неблагодарной по отношению к такому милостивому отцу дочери. – Он замолчал. – Вы понимаете, почему мне пришлось написать это. Не только она должна была увидеть ошибочность своего поведения, но и король должен был увидеть письмо. Я не мог допустить, чтобы меня посчитали другом леди Марии. – Разумеется. Молюсь, чтобы она прислушалась к вашим словам. Не могу выразить, как я благодарна вам за ваши старания. Кромвель поклонился: – Всегда рад быть полезен вам, мадам.
На следующий день во время обеда Генрих был не в духе. Он вошел, прихрамывая, и бросил на стол лист бумаги. – Прочтите! – приказал король. Это было письмо от Марии.
Получив утешительное известие о Вашем браке, спешу поздравить Вашу милость и прошу допустить меня к королеве Джейн фрейлиной или для исполнения любых поручений, которые ей захочется доверить мне, а я всем сердцем готова с покорностью их выполнять, как самая преданная и смиренная из всех ее служанок. Полагаясь на Вашу природную сострадательность, я верю, что с Вашего добросердечного согласия скоро предстану перед Вашей милостью, и это станет для меня наивысшим благом на свете. Молю Бога, чтобы он поскорее послал Вам принца, чему ни одно создание в мире не будет радоваться так, как я.
– Она выражает правильные мысли, – заметила Джейн. – У меня нет сомнений в ее искренности и в том, что она жаждет получить ваше прощение. – (Генрих фыркнул.) – Что вы ей ответите? – спросила Джейн. – Я не намерен отвечать, – сказал король. – Я не испытываю природного сострадания к ней и не приму ее назад, если она не поставит свою подпись под статьями, которые я послал ей. Джейн молчала. Они зашли в тупик. Генрих хотел добиться послушания. Но Мария, хотя и желала вернуть его любовь, была упряма. Она верила, что рискует бессмертием своей души, если предаст память матери, и это было совершенно понятно. Но неужели она не видит, что этот путь прямиком ведет к катастрофе? – Надеюсь, она все подпишет, – ответила Джейн. – Пусть лучше сделает это, если есть в ней хоть крупица здравого смыла, – прорычал Генрих. – Шапуи день и ночь изводит меня своим блеянием о союзе и о том, что скажет император, если она ослушается меня, а я накажу ее за это. Я заявил ему, что не потерплю ни от кого вмешательства в отношения между мной и моей дочерью или подрыва неотвратимости моих законов. Я не признаю высших над собой и не позволю никому считать, будто мной можно управлять посредством принуждения силой или страхом. – Я уверена, император поймет это, Генрих. Он ведь еще ничем не угрожал, верно? – Нет. Но я жил под угрозой войны из-за Екатерины. И не намерен допускать, чтобы моя дочь ставила меня в такое же положение.
После обеда Генрих предложил прогуляться по саду. Гнев его иссяк, перегорел, и Джейн полагала, он сожалеет о том, что сорвал его на ней. Они шли по гравийной дорожке между кустами роз. Генрих взял ее за руку: – Вы должны простить меня, Джейн. Я бываю грубым, когда сам вовсе этого не желаю, особенно с вами, дорогая. – Я понимаю, вы были расстроены из-за Марии, – сказала она, снова замечая, что Генрих хромает. В постели она увидела старую рану у него на ноге, и ей не понравилось, как она выглядит. – Вам больно? – Да, – признался он. – Нога в последнее время дает о себе знать. Мои врачи говорят, попала инфекция. Сегодня утром я собирался поиграть в теннис, но не смог. Простите, это тоже испортило мне настроение. – Врачи сказали что-нибудь о том, сколько времени потребуется на исцеление? – Немного. Они поставили припарку. И я по крайней мере могу ходить. Они сели под тенью тутового дерева: Джейн – с вышивкой, а Генрих – с книгой, теологическим трудом на тему пресуществления. – Я всегда любил теологию, – сказал он ей. – Ничего нет лучше доброго спора о религии. А теперь я духовный отец своего народа и должен быть хорошо знаком с доктриной. – Говорят, вы знаете о Писании больше, чем многие доктора теологии, – сказала Джейн. – Может быть, и так. – Генрих выглядел польщенным. – Я мог бы разбить в дебатах нескольких, которых назову поименно! Он взял Джейн под руку, она повернулась к нему лицом. Они поцеловались, и король вернулся к чтению. Потом супруги сидели в дружественном молчании.
На следующий день Джейн вызвала своего главного садовника мастера Чапмена и попросила показать им с матерью личный сад королевы. Он был разбит в форме узла, в центре находился фонтан, вокруг которого располагались низкие живые изгороди затейливых форм. Границы сада отмечала ограда в цветах Тюдоров – зеленом и белом. У входа на столбике сидела на задних лапах рычащая пантера – эмблема Джейн. – Я бы хотела иметь здесь больше цветочных клумб, – сказала она садовнику, – и немного целебных трав. Не могли бы вы сделать их по ту сторону внешней дорожки. Садовник посмотрел на нее с интересом: – Это свежая мысль, мадам. – Просто я люблю запах цветов. – Видели бы вы ее сад дома, – сказала мать. – Я сделала там все сама, – добавила Джейн. Чапмена это впечатлило, и она почувствовала, что садовник загорелся идеей. – Мне было бы приятно время от времени работать и в саду, если вы не расцените это как покушение на вашу территорию. Садовник удивился: – Как будет угодно вашей милости. Джейн заметила, что мать приседает в низком реверансе. Приближался король; он уже не хромал так сильно, как раньше. На руках у него был маленький белый пудель в бархатном ошейнике. – Для вас, – сказал он, лучисто улыбаясь Джейн. – Какая прелесть! – воскликнула она, когда Генрих передал ей собачку. Та стала тыкаться холодным носом в ладонь Джейн. – Ваша милость, вы меня испортите. – Мне это приятно, – заявил Генрих. Джейн опустила песика на землю, и тот немедля отбежал к живой изгороди и задрал лапу. Все засмеялись. – Как вы его назовете? – спросил Генрих. Джейн немного подумала. – Пожалуй, мне нравится кличка Нобель[66], потому что он так и выглядит. – Ну, значит, будет Нобель, – согласился Генрих, – весьма подходящее имя.
В тот вечер, когда Генрих пришел ужинать, Нобель спал на подушке перед шелковым каминным экраном у пустого очага. Король наклонился и почесал шелковистые ушки песика, а потом присоединился к Джейн за столом. – У меня для вас есть еще подарок, – сказал он и вложил ей в руку шикарную подвеску с рубином в оправе из золотых листьев аканта. – Это сделал мастер Гольбейн, – пояснил Генрих, – я заказал ее специально для вас. – Она великолепна, – проговорила Джейн, восхищенно глядя на украшение. – Чем я смогу отблагодарить вас за все те подарки и милости, которыми вы меня осыпаете? Честно, это очень изысканно. Мастер Гольбейн обладает весьма разносторонними талантами. – Нет ничего такого, к чему он не мог бы приложить свою руку, – сказал Генрих. – Позвольте надеть ее на вас. – Он встал, откинул вуаль Джейн на капор так, чтобы она лежала по-модному – складками, напоминавшими раковину рапану, и ловко управился с застежкой. Рука короля скользнула к тому месту, где из лифа платья упруго выступала пухлая грудь, и нежно погладил ее. Джейн затрепетала от теплого чувства. И поняла, что их ждет ночь любви. Может быть, если Господь сподобит, она снова зачнет ребенка. – Я хочу, чтобы Гольбейн нарисовал вас, – сказал Генрих, занимая свое место. – Коронационный портрет. Я начал планировать вашу коронацию. По традиции короли и королевы поселяются в Тауэре, прежде чем на них возлагают венец, но апартаменты королевы там сейчас пустуют, в них ничего нет. – (Некоторое время оба молчали, между ними встал призрак Анны. Комнаты освободили после того, как она покинула их в последний раз.) – Я составляю список мебели, которая вам понадобится, – сказал Генрих. Джейн пробила дрожь. Она не хотела жить в апартаментах бывшей королевы. Горькие сетования и страх Анны въелись в эти стены. – Вы будете там со мной? – спросила она. Генрих понял ее смятение, Джейн не сомневалась. – Вы можете спать в моих покоях, – сказал он ей, а потом резко переменил тему: – В следующем месяце состоится заседание парламента. Главной темой будет передача права на наследование престола нашим детям. – Каждый день я молюсь, чтобы Господь послал нам сына, – сказала Джейн, с болью вспоминая потерянного ребенка. – Он пошлет, – заверил ее Генрих. – Господь улыбается нашему браку, я чувствую это. – Надеюсь, – пробормотала Джейн.
На следующий день ярко светило солнце, и Генрих проснулся рано. – Прекрасная погода для охоты с соколами! – заявил он; чувствовалось, что ему не терпится поскорее тронуться в путь. – Я поеду с вами, если вы не против, – сказала Джейн. Перспектива провести день в седле была такой манящей. Джейн почти ощущала свежий ветер в волосах. – Нет, дорогая, – возразил Генрих. – Прошло слишком мало времени после выкидыша. Джейн огорченно откинулась на подушку, предвидя, что ей, вероятно, больше никогда не придется скакать верхом. Генрих наклонился к ней и поцеловал. – Почему бы вам не отправиться на прогулку по реке? – предложил он. – Или устроить пикник с дамами в парке? Это предложение пробудило воспоминания о том, что она видела, когда в последний раз сидела под деревом в Гринвичском парке. – Пожалуй, я отправлюсь на реку, – сказала она. – Тогда желаю вам приятного дня, – ответил Генрих, торопясь уйти. – Я пришлю к вам ваших дам. – Думаю, я приму ванну, – отозвалась Джейн, но он уже ушел. Когда дверь закрылась, Нобель вскарабкался на постель. Джейн лежала и поглаживала его, пока готовили ванну. От скуки она встала и открыла окно, впуская в комнату утренний ветерок и солнечные лучи. Внизу, в саду, сидели на скамейке леди Ратленд и Бесс Холланд. Их голоса доносились до Джейн. – Знаете, что сказал король, когда уезжал сегодня утром? – произнесла Элеонор. – Я отдавала приказания двум новым горничным. Он увидел нас и сказал, что встречает их уже во второй раз и сожалеет, что не видел раньше, до женитьбы. Разумеется, это было сказано в шутку, но я задумалась. Джейн сглотнула. Должно быть, это и правда шутка. Генрих нередко отпускал такие замечания. – Хотя вам известна старая поговорка, – отозвалась Бесс. – Не женись в спешке… – Вот именно, в спешке! – перебила ее Элеонор. – Люди говорят, король отправил свою жену и всех остальных на казнь ради собственного удовольствия, а с ее милостью королевой условился обо всем уже шесть месяцев назад. – Не слушай их, – раздался чей-то голос за ухом у Джейн. Это была мать; она подошла сзади, чтобы сказать, что ванна готова. – А я еще пыталась подружиться с леди Ратленд, – с горечью произнесла Джейн. – Я бы не стала тратить на это время, – отозвалась мать. – Но это крамола. – Тогда сообщите об этом королю, дитя мое, или разберитесь с ней сами. И Джейн решилась: – Вы не попросите кого-нибудь, чтобы ее прислали ко мне? – С удовольствием, – заявила леди Сеймур. Купание подождет. Джейн надела халат и села в кресло с высокой спинкой, стоявшее у очага. По другую сторону на более низком кресле с решительным видом обосновалась мать. – Графиня она или нет, а я увижу, как она окажет вам должное уважение, – отрезала леди Сеймур. – Вы посылали за мной, ваша милость? – Леди Ратленд присела в реверансе. – Да. – Джейн была подчеркнуто холодна. – Не могли бы вы объяснить мне, почему распространяете непристойные слухи и крамолу против меня и короля? Леди Ратленд покраснела: – Я не понимаю, о чем вы говорите, мадам. – Я только что слышала ваш разговор с Бесс Холланд. Мне неприятны такие грязные инсинуации, и я сомневаюсь, что они понравятся королю. Я пыталась наладить с вами отношения, но вижу, что утруждала себя напрасно. На лице графини отобразился испуг. – Простите меня, ваша милость. Это была пустая болтовня. – Кое-кого заключали в темницу и за меньшее. И все это ложь. Мать строго кивнула. Элеонор Ратленд упала на колени: – Прошу вас, не прогоняйте меня, мадам. Это покроет позором моего мужа. Джейн вздохнула. Гнев ее стихал, к тому же она не хотела, чтобы у нее при дворе возникла тяжелая атмосфера. – Я не собираюсь увольнять вас, миледи. Господь свидетель, вокруг меня и так слишком мало тех, с кем я могу быть дружна. Леди Маргарет и леди Монтигл – приятные компаньонки. Мы могли бы весело проводить время вместе и быть верными друзьями. Вы для себя видите такое возможным? Элеонор схватила руки Джейн и поцеловала их: – О мадам, я постараюсь. Я наслушалась сплетен и сожалею об этом. Я тоже сторонница старой веры. И радовалась, когда вы стали королевой, правда радовалась, но вы дали понять, что будете держать дистанцию между собой и теми, кто вам служит, в отличие от королевы Анны, и я склонилась на сторону тех, кому это не понравилось. Они называли вас заносчивой и высокомерной. – Что за глупости! – фыркнула мать. – Она теперь королева. Чего вы ожидали? – Я знаю, – сказала Джейн, отнимая руки у Элеонор. – Я сожалею об этом отчуждении, но оно существует, и королева Екатерина соблюдала дистанцию, не вызывая ни у кого критики. Конечно, я не родилась в королевской семье, как она, и боюсь, что распущенность прежней королевы оказала мне медвежью услугу. Давайте оставим все это в прошлом. Ванна стынет. Элеонор встала и сделала низкий реверанс. – Благодарю вас, мадам, – горячо проговорила она и вышла. – Больше у вас с ней проблем не будет, – сказала мать. – И мне стало легче, потому что я должна сообщить тебе: мы с твоим отцом возвращаемся в Вулфхолл. Он плохо себя чувствует, ты сама знаешь. Джейн обернулась к ней: – Знаю. Постарайтесь уговорить его, чтобы он показался врачам, матушка. Я беспокоюсь о нем, и король тоже. Он даже предложил услуги своих личных докторов. – Благослови его Бог! Я тоже переживаю, – призналась мать. – Надеюсь, что отдых в деревне, на свежем воздухе, поможет и твой отец поправится. Расставание получилось эмоциональным, так как Джейн была убеждена, что больше отца не увидит, и, судя по тревожному выражению на лицах братьев, они опасались того же. Младшие Сеймуры вместе стояли на королевской пристани и смотрели, как барка уходит вдаль по Темзе. Когда она скрылась из виду, Джейн промокнула глаза и вошла, ничего не видя, в крытую галерею.
Шапуи пока еще не был официально представлен Джейн, потому что лежал в горячке. Ах, как некстати! Ведь подоспело время, когда некоторые из тех целей, над осуществлением которых он работал, могли быть достигнуты. Теперь ему стало лучше, и Джейн намеревалась принять его. Она оделась продуманно: в новое платье из красного дамаста с аккуратно вышитым на лифе контуром короны и рукавами из золотой парчи. В воскресенье после мессы, накануне того дня, когда Джейн должна была совершить торжественный въезд в Лондон, Генрих сам привел посла в апартаменты королевы и официально представил его. Шапуи низко поклонился и поцеловал ей руку. – Поздравляю вашу милость со вступлением в брак и желаю вам благоденствия, – сказал он, глядя на Джейн добрыми, чуткими глазами. – Я не сомневаюсь, что, хотя девиз вашей предшественницы на троне был «Самая счастливая», вы сами воплотите его в жизнь. – (Джейн улыбнулась, оценив изящество выражения.) – Я уверен, – продолжил Шапуи, – что император разделяет радость короля по поводу обретения столь добродетельной и благожелательной супруги, тем более что ваш брат когда-то был на службе у его императорского величества. Джейн поразило, что Шапуи знает об этом, но, должно быть, Эдвард сам рассказал ему, ведь прошло уже четырнадцать лет с тех пор, как его вместе с отцом отправили сопровождать императора во время визита в Англию. Шапуи продолжал поздравления: – Это настоящее потрясение – видеть, какую радость и удовольствие выражают англичане по поводу замужества вашей милости, особенно в связи с тем, что они верят: вы долго и усердно пытались склонить короля к тому, чтобы он вернул свое расположение принцессе. – Я действительно это делала, милорд посол, – ответила Джейн и нервно оглянулась, чтобы посмотреть, слушает ли Генрих, однако король отошел в сторонку и оживленно беседовал с Маргарет Дуглас и Мэри Монтигл. – Вам повезло, – говорил между тем Шапуи, – что, не претерпев родовых мук, вы обрели такую дочь, как принцесса, от которой получите больше радости и утешения, чем от любого другого ребенка. «Это прозвучало довольно экстравагантно, – подумала Джейн, а потом ее вдруг осенило: – А ведь Шапуи, который никогда не проявлял симпатии ни к одной женщине, наверняка испытывает нежные чувства к Марии!» Ничто иное – ни чувство долга, ни преданность императору – не могло объяснить его высочайшего преклонения перед ней. – Я молю вашу милость не оставить вниманием ее интересы и снискать тем почетное звание Мироносицы. – Я сделаю это, – заверила посла Джейн, – и особенно постараюсь заслужить столь почетное имя. Последовала долгая пауза. Джейн нервничала, не зная, что сказать, в голову ничего не приходило, но тут рядом с ней оказался Генрих и пришел на выручку. – Вы должны простить ее милость, – сказал он. – Она еще ни разу не принимала послов. Вы первый, и пока королева не привыкла к таким церемониям. Я уверен, она очень постарается заслужить звание Мироносицы и к тому же, будучи от природы добросердечной и имея склонность к жизни в мире и согласии, полагаю, сделает все, чтобы удержать меня от участия в войнах, хотя бы из одного только страха разлуки со мной. Джейн улыбнулась ему с благодарностью. Она поняла: Генрих наверняка слышал по крайней мере часть разговора о Марии, и испытала облегчение, что он не рассердился. Шапуи слегка поклонился в сторону Джейн: – Я вижу, ваша милость выбрали себе супругу добродетельную и мудрую, она несет королевскую честь с достоинством. Поздравляю вашу милость с этим новым счастьем и радуюсь устранению всех препятствий к долгожданному союзу между Англией и Испанией. Заверяю вас, ваша милость, вы можете положиться на крепкую дружбу императора. Господь, воистину, особо заботится о вас. Многие великие и добрые мужи, даже императоры и короли, страдали от козней коварных женщин, и вам делает честь то, что вы раскрыли заговор и пресекли злодеяние, прежде чем оно осуществилось. Вы не согласны, мадам? Джейн с улыбкой смотрела, как Генрих благодарит Шапуи, но почла за лучшее не высказываться. – Вижу, к добродетелям ее милости можно причислить еще и осмотрительность, – заметил напоследок посол.
Джейн прильнула к Генриху, а он вошел в нее, их тела задвигались в одном ритме. Любовные соития обычно были долгими и нежными, но всегда наступал момент, когда, казалось, Генрих полностью забывал о ней, и все завершалось в порывистой спешке. Однако после он был ласков, и сегодня, когда излился, пристроился рядом с ней и взял ее за руку. – Джейн, я люблю вас. Это похоже на возвращение в тихую гавань после многодневной бури. – Он приподнялся на локте. – Вы знаете, что на следующий день после смерти Анны король Франциск предложил мне руку своей дочери мадам Мадлен? Я ответил, что ей шестнадцать и она слишком юна для меня, и, кроме того, я уже натерпелся от французского воспитания с Анной и никогда больше не возьму себе невесту из Франции. Джейн так обрадовалась, услышав, что Генрих предпочел ее французской принцессе, что сперва не поняла содержавшегося в его словах намека. – Что вы имеете в виду под французским воспитанием? Лицо Генриха вспыхнуло. – Ее легкое обхождение с мужчинами, например, и другие вещи, о которых я воздержусь упоминать при вас. Король становился крайне щепетильным, когда речь заходила о делах интимного свойства. Джейн села, волосы рассыпались по ее голым плечам. – Вы меня заинтриговали! – Это не для женских ушей, – сказал Генрих и чопорно поджал губы. – Вы хотите сказать, что-то было неладно все время и вы об этом знали? Он вздохнул: – Джейн, у меня возникли подозрения с первого раза, как я оказался с ней в постели. Она похвалялась девственностью, но была знакома с такими приемами, о каких девственницам знать не полагается. – Приемами? – Джейн не представляла, о чем он говорит. – Странных способах порадовать мужчину… Только меня они не порадовали! Я понял, что Анна лгала мне, и девственность, о которой она так звонко трубила, на самом деле – притворство. А научилась она этим вещам во Франции. Джейн тоже кое-что знала. – Я слышала, что французский двор славится развратом. – В этом нет сомнений, – согласился Генрих, свесил ноги с края кровати и натянул ночную сорочку. Она заметила, что место старой раны на голени не так сильно воспалено. – Франциск держит при себе maîtresse-en-titre[67], которая управляет двором, как королева. – Он усмехнулся. – Не бойтесь, этот французский обычай мне отвратителен, и перенимать его я не стану! – Надеюсь на это! – со смехом сказала Джейн. Однако любопытство ее не было удовлетворено: что же такое имел в виду ее супруг, когда говорил о «приемах», которые знала Анна. Наверное, они не слишком приятные, что бы это ни было.
В животе у Джейн не прекращался нервный трепет: завтра ей предстояло появиться на публике. Она прибыла на ужин для своих, который устроил Эдвард, боясь, что не сможет проглотить ни кусочка. Однако кубок хорошего бордо успокоил ее, а приезд мастера Кромвеля в компании с Шапуи – они оставались друзьями, несмотря на политические и религиозные разногласия, – отвлек от тревожных мыслей. Из женщин, кроме Джейн, за столом была только Нан, она превосходно справлялась с ролью хозяйки, ловко руководила слугами, поддерживала разговор и иногда даже выражала собственные, довольно радикальные взгляды. – Принцесса Мария должна внять голосу разума! – заявила она. – Я что есть сил стараюсь добиться этого, – сказал Кромвель. – Мы с мессиром Шапуи недавно обсуждали это. Посол повернулся к Эдварду: – Мы сошлись в том, что было бы большим благом не только для вашей сестры-королевы и всей вашей семьи, но и для королевства, и для христианского мира в целом, если бы принцессу восстановили в правах. И я прошу вас использовать свое положение для достижения этого. – Разумеется, – довольно сухо ответил Эдвард. Насчет Марии он сомневался; ему больше хотелось увидеть на троне короля Сеймура. Кромвель наклонился вперед и понизил голос: – Вы все наверняка не вполне понимаете, сколько сил я потратил на то, чтобы состоялся брак королевы и принцесса была восстановлена в правах. Вы, Юстас, полагаю, не забыли, как разгневался на меня король в Пасхальный вторник. Ведь именно из страха попасть в немилость я выдумал любовное приключение королевы и состряпал дело, для чего приложил немало стараний. Джейн обмерла. Выдумал? Состряпал? – Но у вас были показания свидетелей, мастер Кромвель, не так ли? – хрипло спросила она. – Конечно были, мадам, и я играл, используя их. Он улыбнулся ей. Джейн испугалась, не лукавит ли он. Что первично – доказательства или «стряпня»? И что он имел в виду, говоря о выдуманном любовном приключении королевы? Спрашивать Джейн не смела, потому что не хотела знать ответ. Она не забыла глупые вопросы, которые ей задавали в Тайном совете. Тогда у нее промелькнула мысль, что они пытаются высосать из пальца обвинения против Анны, но у них это плохо получается. Шапуи следил за Джейн: – Думаю, мастер Кромвель имеет в виду, что он ознакомился со свидетельствами и решил, что настало время действовать. Господин секретарь с мудрым видом кивнул. Заявление Шапуи противоречило похвальбам Кромвеля, но Джейн не хотелось возражать. Генрих рассердился на Кромвеля. Это было в тот день, когда Шапуи признал Анну королевой и они все решили, что ее звезда снова на подъеме. Анна хотела уничтожить Кромвеля. Очевидный вывод таков: Кромвель отправился домой и там замыслил свержение Анны. Доказательства – какие ни есть – были добыты позже. И старался господин секретарь вовсе не ради того, чтобы сделать Джейн королевой или вернуть в фавор Марию, а для спасения собственной шкуры. Джейн возилась с едой, ощущая тошноту. Остальных слова Кромвеля, казалось, ничуть не смутили. Разговор вернулся к Марии. Сославшись на то, что завтра ей рано вставать, Джейн удалилась, как только позволили приличия. Теперь она точно знала: больше нельзя утешать себя ложными заверениями о причастности Анны к тому, за что ее казнили. А вдруг на ней вообще не было никакой вины?
Глава 28
1536 годЛондон был en fête[68], вдоль берегов реки собрались толпы народа. Всем не терпелось увидеть, как новая королева торжественно въезжает в город. Джейн сидела рядом с Генрихом в королевской барке, облаченная в золотую парчу и увешанная дорогими украшениями, и через силу улыбалась, пока они плыли из Гринвича к Вестминстеру в сопровождении красочной процессии маленьких лодок, празднично убранных по поводу такой оказии. Позади следовала барка с королевскими стражниками в алой с золотом форме. Люди на берегу встречали приближение королевских лодок радостными криками; военные корабли и береговые пушки палили. У пристани в Рэдклиффе рядом с Лаймхаусом они остановились, чтобы король с королевой могли посмотреть устроенную в их честь Шапуи живую картину с демонстрацией того, как император одобряет брак Генриха и Джейн. Сам посол, разодетый в пурпурный атлас, ожидал их в шатре, расшитом гербами императора, а когда представление закончилось, Шапуи подал сигнал двум небольшим лодкам. На одной сидели трубачи, на другой – группа музыкантов с шомами[69] и волынками. Посол попросил их сняться с якорей и обеспечить музыкальное сопровождение королевской барке, которая возобновила величавое движение к Вестминстеру. Французский посол, стоявший на берегу, с завистью взирал на происходящее. Джейн едва смогла заставить себя взглянуть на Тауэр, который показался вдалеке, – угрюмый и зловещий, несмотря на украшенные вымпелами и флагами стены. Лодка остановилась, чтобы принять салют четырехсот пушек, которые выстроились на пристани у Тауэра. Но Джейн думала только о том, что те же самые орудия стреляли три недели назад, оповещая лондонцев о смерти Анны Болейн. Анна все еще была здесь, за этими стенами, ее тело разлагалось под плитами пола церкви Святого Петра в Тауэре. Томас с каким-то премерзким удовольствием сообщил Джейн, что гроба для Анны не делали, ее окровавленный труп и голову похоронили в ящике от стрел и без особых церемоний. Джейн посмотрела на Генриха, который стоял рядом с ней, но ничего особенного не заметила. Король принимал салют. Если его и терзали неприятные мысли, вида он не подавал. Джейн сглотнула. Надо собраться, иначе тревога и угрызения совести сведут ее с ума. Лучше ей забыть о печальной участи Анны; это не ее вина. Однако надоедливый внутренний голосок тут же напомнил, что она по своей воле прислушалась к «дружескому совету» и влила яд в уши Генриха, чем помогла убедить его в необходимости избавиться от Анны. А потом сообщила королю о своей беременности, закончившейся неудачно, и тем самым, вероятно, окончательно решила участь прежней королевы. Но ведь она не хотела причинять ей вред! Глаза Джейн блуждали по рядам горожан, заполонивших берега Темзы. Люди громкими криками выражали одобрение новой правительнице. Они не испытывали никаких моральных терзаний, как и Генрих. Ах, но известно ли им, что падение Анны было спланировано Кромвелем? «Хватит!» – велела она себе, улыбаясь и приветственно махая рукой людям. Какая нелепость – считать себя виноватой из-за того, что сделал Кромвель. А разве сама Джейн не умолчала о том, что видела у башни Мирефлорес? Она хотела только аннулирования брака, а вовсе не гибели Анны. И была уверена в существовании убедительных доказательств, пока другие не начали выражать сомнения, но тогда уже было поздно. С тех пор Джейн перетряхивала свою душу, чтобы понять, отчего чувствует себя виноватой. Она сходила на исповедь и получила отпущение грехов. Духовник развеял ее сомнения. Отчего тогда ее мучения продолжаются? В Вестминстере Джейн и Генрих спустились с барки на берег и рука об руку во главе процессии направились к Вестминстерскому аббатству, где послушали мессу. Когда были освящены гостии[70], Джейн склонила голову и впервые за этот день ощутила ликование. Тут она вспомнила, почему решила стать королевой и какого блага хотела достичь. Ей пришел на память отец Джеймс; когда-то давным-давно он говорил ей о Цицероне и его идее высшего блага. Что лучше: еретичка, которая изображает из себя королеву, попирает истинную веру и злоумышляет против истинной королевы и ее дочери, или добродетельная королева, которая стремится восстановить подлинную религию и права законной наследницы престола? Разве можно было сомневаться, на чьей стороне находится высшее благо? Шествие по улицам Лондона не планировалось. Генрих сказал, что это подождет до коронации. Джейн обрадовалась: сегодняшних церемоний ей хватило с избытком, – и испытала огромное облегчение, когда наконец оказалась в своих покоях во дворце Йорк. – Вы хорошо справились, дорогая! – похвалил ее Генрих, когда они сели ужинать в тот вечер. – Народ любит вас! А когда вы порадуете их принцем, они возлюбят вас еще сильнее. – Молюсь, чтобы этот счастливый день поскорее настал, – ответила она. Еще три недели, и она сможет надеяться, что в этом месяце зачала ребенка. Генрих улыбнулся ей: – Если не настанет, то не от недостатка попыток! – Король разломил белый хлебец и обмакнул его в похлебку. – Дорогая, Екатерина и Анна были коронованы в течение нескольких недель после того, как стали королевами, но вам придется подождать. Моя казна настолько истощена, что я не могу сейчас провести еще одну коронацию. Надеюсь, скоро мои сундуки пополнятся сокровищами монастырей, и тогда я устрою для вас церемонию, какой вы заслуживаете. – Я согласна подождать, – сказала Джейн. – Не думайте, что ждать придется долго. Я планирую организовать все в конце октября, тогда для вас построят барку, каких еще не видели в Англии. Она будет сделана в форме буцентавра – церемониального знака дожей, они использовали его при венчании Венеции с морем. – Это будет прекрасно! Джейн улыбнулась и подумала: интересно, во сколько это обойдется? Она надеялась, что затраты окупятся не благодаря богатствам, украденным у монастырей. Генрих положил ей несколько кусочков цыпленка в кислом соусе: – Вы пройдете на своей новой барке из Гринвича в Тауэр, потом с триумфом проедете по Лондону, где, как обычно, будут устроены живые картины, и проследуете в Вестминстер, и там на следующий день будете коронованы. Джейн уже видела свою корону. Генрих сдержал слово, и ее принесли показать ей. Как она и надеялась, это был тот убор, который носила королева Екатерина: открытый золотой венец немалого веса, украшенный сапфирами, рубинами и жемчугом. Эту корону Джейн наденет с радостью и на самом деле почувствует себя королевой. А пока она с болью в сердце ощущала, что не обладает ни величием Екатерины, ни самоуверенностью Анны.
Джейн стояла на галерее над Вестминстерскими воротами в Уайтхолле и махала рукой вслед уезжавшему открывать сессию парламента Генриху. За спиной у нее собрались дамы. Леди Ратленд из кожи вон лезла, демонстрируя дружелюбие. Леди Монтигл, по обыкновению, была столь же очаровательна манерами, как мила лицом, а Маргарет Дуглас в последнее время имела такой вид, будто лелеяла в душе какой-то восхитительный секрет. Джейн сделала себе мысленную заметку: «Поговорить с Маргарет»; но сперва нужно узнать, что думает Генрих по поводу ухаживаний за ней Томаса Говарда.
Эдвард участвовал в официальном открытии парламента. Он приехал во дворец Вестминстер, одетый с подобающей виконту роскошью, и пришел в покои королевы незадолго до обеда, чтобы рассказать о происходящем. Джейн очень обрадовалась его появлению. – Лорд-канцлер, произнося на открытии речь, обращенную к обеим палатам, долго говорил о преступлениях королевы Анны. Меня это удивило, – сказал Эдвард, сбрасывая с плеч накидку. – Он выразил свою мысль очень деликатно, вроде как посетовал, что король, будучи разочарован в двух первых браках, ради благополучия своего королевствабыл вынужден вступить в третий, и добавил, что такого самопожертвования никогда не требуется от обычного человека. – Вот как? – Джейн почувствовала себя униженной. – Не думаю, что здесь нашлось хоть какое-то место жертвенности! – Я в этом не сомневаюсь, но король, вероятно, ощутил потребность оправдать как-то свою поспешную женитьбу перед парламентом и народом. Нельзя допускать, чтобы его поступки выглядели как порожденные личными желаниями. Вот почему лорд-канцлер задал вопрос: какой человек в обычной жизни не утратил бы охоту вступать в третий брак, столкнувшись с такими гнусными преступлениями, какие совершила против своего супруга королева Анна? И тем не менее, продолжил он, наш превосходнейший принц, не из побуждений плоти, но уступая робким просьбам своего дворянства, вновь снизошел до того, чтобы заключить брак, и на этот раз выбрал себе в супруги женщину подходящего возраста, несравненной красоты, чистую телом и благородную по рождению, лета и прекрасное сложение которой дают надежду на обретение потомства. Щеки у Джейн запылали. – Он говорил обо мне как о племенной кобыле! Эдвард покачал головой: – Он все сказал правильно. Короне необходим наследник, и все, кто собрался в зале, оценили это. Они долго аплодировали, и лорд-канцлер от лица палат лордов и общин поблагодарил короля за его альтруизм и заботу о подданных. А вас он назвал благородной, добродетельной и во всех смыслах превосходной женщиной. Джейн еще не успела остыть от испытанного смущения, как приехал Генрих. Он был в отличном настроении, пришлось ей быстро побороть замешательство и надеть на лицо улыбку. Так она и слушала рассказ короля о том, как ликовал парламент по поводу их брака. После обеда Джейн наблюдала из окна в Королевских воротах, как Генрих участвует в турнире, устроенном в ее честь, впервые с того рокового Майского дня. Тогда на почетном месте сидела Анна, которая на следующее утро оказалась узницей Тауэра. Имела ли она хоть малейшие подозрения, предчувствовала ли, что ей уготовано и какой крутой поворот может совершить колесо судьбы? Джейн заметила, что дамы аплодируют. Король одержал победу. – Браво! – крикнула Марджери, едва не подскакивая на месте от восторга. Джейн улыбнулась ей, собрав и вложив в эту улыбку все свое сожаление о том, что они больше не могут быть так дружны, как прежде. Марджери улыбнулась в ответ. Какое облегчение! И Джейн запоздало присоединилась к аплодисментам. Она не хотела, чтобы Генрих участвовал в поединках. Спрашивала, не помешает ли ему рана на ноге, но король утверждал, что чувствует себя намного лучше, и даже если бы это было не так, то какая-то старая болячка все равно не остановила бы его. «Но что случится, – подумала Джейн, – если он вдруг упадет с коня, как в январе, и разобьется?» Наследника у него нет. Наверняка начнется гражданская война. Джейн возблагодарила Господа, что он уберег Генриха от опасности и тот победил в поединке. Скоро настанет день, когда королю придется признать: ему уже почти сорок пять, он далеко не мальчик, и пора уже оставить турнирные бои. Когда Генрих присоединился к супруге на галерее, дамы стали шумно поздравлять его, и этому он радовался, как юнец. Затем король отвел Джейн в свои покои и передал ей документ, по которому ее собственностью становилось земельное владение под названием Парижский Сад, расположенное на суррейском берегу Темзы. – Вы, как всегда, безмерно добры ко мне, – сказала она и поцеловала мужа. – Мне написала Мария, – сообщил он, и Джейн удивилась, что, упомянув о дочери, Генрих остался безмятежным. – Похоже, она вняла добрым советам Шапуи с императором и наконец проявила рассудительность. Она просит меня забыть обиды и говорит, что не будет счастлива, пока не получит мое прощение. Хочет упасть к моим ногам, покаяться во всех грехах, признаться в ошибках и молит Всемогущего Господа, чтобы Он сохранил нас обоих и вскорости послал нам принца. Это станет для нее такой радостной вестью, что не выразить словами. – Лучшей вести вы не могли мне сообщить! – воскликнула Джейн; у нее будто гора свалилась с плеч. – Я знала, что в конце концов она поступит правильно. Разумеется, с точки зрения самой Марии, это вовсе не было правильным, но скоро она увидит, что приобрела благодаря уступчивости. Однако Генрих, похоже, не разделял ее восторгов. Король казался задумчивым. – Искренне ли она написала это? – спросил он. – Утром я выразил свои сомнения Кромвелю, и он заверил меня, что Мария написала письмо от всего сердца. Но я не знаю. – Я считаю, ее подчинение – результат долгого исследования своего сердца, – сказала Джейн, – и мастер Кромвель прав. «Неужели Генрих теперь захотел власти и над мыслями своих подданных? Важно, что Мария просила прощения за непослушание. Он запугал ее, и она сдалась. Чего еще ему нужно?» – подумала Джейн и вновь ощутила эту досадную неприязнь к королю. – Я хочу, чтобы она подписала заявление о согласии с тем, что брак ее матери был кровосмесительным и незаконным, и о признании меня верховным главой Церкви, – сказал он. – Ничто иное не убедит меня в ее любви ко мне. Отчаявшись в нем, Джейн представила, как чувствует себя Мария, лишившаяся матери, подвергнутая травле отцом, одинокая и запуганная. Она подпишет. Это всего лишь слова на бумаге. Бог поймет, что она пошла на такой шаг по принуждению.
– Она подписала! – с таким криком Генрих без всяких церемоний ворвался в комнату Джейн и сунул ей в руку документ. Джейн увидела подпись Марии под каждым параграфом, поставленную, как она утверждала, без принуждения, от чистого сердца и во исполнение долга перед Богом, королем и его законами. Несколькими росчерками пера она отреклась от всего, что свято чтила. – Я очень рада, – после долгой паузы проговорила Джейн, затем прочла сопроводительное письмо, в котором Мария униженно просила прощения у Генриха за нанесенные обиды и утверждала даже, что на сердце у нее так тяжело и оно так переполнено страхом, что она не осмеливается называть его отцом. Джейн подняла взгляд от листа: – Надеюсь, это удовлетворило вас и развеяло ваши сомнения. Теперь уж точно нет никаких препятствий к вашему примирению. – Меня это премного радует, – сказал Генрих. – Ей давно нужно было одуматься. Не стоило заставлять меня ждать от нее послушания. Я не только отец ее, но и король! – обиженно проговорил он. – Но вы простите ее? – Не сразу. Сперва я пошлю сэра Томаса Ризли, члена моего Совета, в Хансдон, чтобы тот получил от нее более полное письменное признание своих ошибок. Если Мария согласится, он попросит ее назвать дам, которых она хотела бы иметь у себя на службе, если я решу увеличить численность ее двора при условии, что она возвращается в фавор. До чего же он готов дойти! Какая неизбывная подозрительность! – Но что еще она может сказать, кроме того, что сожалеет о своих проступках, раскаивается и просит прощения? – Она может перечислить свои ошибки и объясниться. Мария так и сделала. Ризли сообщил Генриху и Джейн, что Мария до умиления была благодарна ему за помощь. А Кромвель показал им длинное послание с признанием ошибок и благодарностью за его доброту и содействие в примирении с королем. Генрих прочел письмо с довольным видом. – Наконец-то она проявила себя послушной долгу дочерью, – сказал он. – И я счастлив вновь одарить ее своей отцовской любовью. Джейн не знала, как ей удалось сдержаться и промолчать. Любовь не зависит от того, ведут ли себя люди так, как вам хочется. Она ощущается инстинктивно, естественно и часто приходит нежданно, помимо воли. Джейн не сомневалась, что Генрих любил дочь, но королевскую власть он любил больше, и теперь у Джейн не осталось иллюзий: его чувство к жене это властолюбие тоже превозможет, стоит ей в чем-то ослушаться его. Тем не менее разрыв с дочерью Генриха не радовал, и от этого он становился жестоким. Джейн начала понимать, почему он ведет себя так. Всегда в нем будет эта двойственность, разделенность на короля и человека, мужчину. Он страшился всего, что имело легчайший привкус неверности или измены, причем всегда был склонен подозревать в худшем даже самых близких людей. Это объясняло, почему он так легко поверил выдвинутым против Анны обвинениям.
Как только представилась возможность, Джейн послала за Шапуи. Он явился, и она сразу отослала своих дам во внутренние покои. – Вы знаете, что принцесса полностью признала свою вину, – начала она. – Мадам, никогда еще она не поступала лучше. Уверяю вас, я постарался избавить ее от всех угрызений совести. Папа лично даст ей отпущение грехов. – Теперь у нас и наших друзей есть повод радоваться, она наконец покорилась, – продолжила Джейн. – Мы много месяцев стремились добиться примирения, и теперь я с нетерпением жду появления принцессы при дворе. Она будет мне подругой и компаньонкой. – Можете не сомневаться в этом, потому что она испытывает к вашей милости величайшую любовь и благоволение. Многие при дворе радуются возможному появлению здесь леди Марии, простой народ тоже будет ликовать, услышав о ее возвращении в фавор: она всегда пользовалась любовью англичан. – Это первый шаг к тому, чего мы оба стремимся достичь, – сказала Джейн. – Для меня великое утешение – знать, что вы сумели успокоить ее совесть. Ей ужасно трудно было смириться. Но ситуация уже улучшается. Король послал в Хансдон своих доверенных людей, они проверят, есть ли у Марии все необходимое, и передадут ей, что скоро я приеду навестить ее. Не могу выразить вам, как я этому рада. – Мне тоже приятно это слышать, – заявил Шапуи, с трудом сдерживая эмоции. – Не думал, что доживу до этого дня. Добрая королева возрадуется на небесах.
В праздник Тела Христова, одетая в парчовое платье с низким вырезом, Джейн села на коня, накрытого дорогой попоной, и рядом с Генрихом совершила короткий переезд из дворца Йорк в Вестминстерское аббатство. Впереди двигались лорды, позади – дамы верхом на лошадях. В прохладной церкви епископы и духовенство возглавили шествие по нефу, за священниками шли дворяне, потом король и Джейн с Маргарет Дуглас, которая несла ее шлейф. Во время мессы Джейн благоговейно опустилась на колени, сознавая, что грядущей осенью она будет возведена на престол в этом великолепном аббатстве и архиепископ Кранмер возложит на ее голову сверкающую корону.
Королевская барка была полна менестрелей; они услаждали слух короля и королевы во время переезда из Гринвича в Йорк. Напоенные ароматами цветов летние дни не принесли с собой надежд на ребенка, но стали свидетелями множества турниров и торжеств в честь Джейн, включая живые картины на реке. И теперь они возвращались в Уайтхолл на ночь Святого Петра, которую обычно отмечали парадом городской стражи Лондона. После обеда из личного сада дворца Йорк они наблюдали за водной баталией, разыгранной на скакавших по волнам Темзы лодках; зрители, и в их числе король с королевой, громко кричали, когда моряки стреляли из пушек и пытались взять на абордаж другие суда. В разгар шутливого побоища одного человека случайно столкнули в реку, а двоих подстрелили. Толпа ахнула. Генрих поднял руку и проорал: – Стойте! Хватит стрелять! Двое матросов нырнули спасать товарища, но, когда появились над водой, утопленника с ними не было. Тем временем одна из лодок увезла раненых в сторону госпиталя Святого Томаса в Саутуарке. Джейн стало тошно, она едва не расплакалась. – Я не стану останавливать вашу забаву, – прокричал Генрих, – но вы должны продолжить ее с деревянными мечами, и зарядите пушки шерстью и кожей. Моряки послушались, и баталия возобновилась, но не такая кровавая. Джейн обрадовалась, когда все завершилось, и они с Генрихом проследовали к гейтхаусу, где присутствовали на еще одном турнире в честь их бракосочетания. Вечером они стояли у окна в Мерсерс-Холле на улице Чипсайд и наблюдали за факельным шествием облаченных в алые ливреи марширующих стражей Лондона, которые шагали с очень гордым и бравым видом. После этого Джейн и Генрих присутствовали на приеме, устроенном лорд-мэром, а потом барка отвезла их обратно в Гринвич. Они приблизились к дворцу в темноте, пристань была залита светом факелов. Освещены были и многие окна, среди прочих одно маленькое, очень высоко. Джейн потребовалось некоторое время, чтобы понять: оно горело не во дворце, а дальше, в башне Мирефлорес, на вершине холма. Джейн пробрал холодок. Кто это забрался туда в такое позднее время? И для чего? Может, башню использовали как место тайных свиданий? Но зачем тогда оставлять свет в окне? Это очень встревожило Джейн. Глупо, но она не могла удержаться от невольных сравнений с тем, что видела у башни Мирефлорес в апреле. Позже, когда Генрих удовлетворил свое желание и уснул, Джейн долго лежала, не смыкая глаз, и думала: а вдруг в башне живет привидение? Утром ей удалось стряхнуть с себя ночные страхи. Мэри Монтигл сообщила ей, что Маргарет Дуглас опоздает на службу: она проспала, потому что вчера легла очень поздно. Джейн решила, что, вероятно, это Маргарет встречалась в башне Мирефлорес с Томасом Говардом. Ну что ж, скоро она все узнает. – Леди, мы пойдем прогуляться в парк, – сказала Джейн, – осмотрим эту старую башню. Мэри Норрис побледнела: – Но там обитает призрак, мадам! Джейн ощутила дрожь: – Призрак? – Да. Там видели огни, и оттуда доносились разные звуки. – Это правда, мадам, – вступила в разговор Джоан Эшли. – Марджери видела свет. – Когда? – спросила Джейн резче, чем ей хотелось. – Недели две назад, – ответила Марджери. – Там был свет, он перемещался между окнами, будто кто-то ходил внутри со свечой в руке. В этот момент вошла Маргарет. – Ваша милость, простите за опоздание, – извинилась она. – Мне сказали, вы вчера поздно легли, – сказала Джейн. Щеки Маргарет запылали и стали едва ли не такими же яркими, как ее волосы. Она замялась, но потом призналась: – Да, мадам. – Вы, случайно, не были в старой башне? – Нет, я бы ни за что не пошла туда. Это дурное место. Говорят, туда ходят sgàiles. Так шотландцы называют тени умерших. – Это вздор! – уверенно заявила Джейн, хотя на самом деле в душе дрогнула. – Мы должны пойти туда и успокоить этих так называемых духов. Маргарет смотрела на нее с сомнением. Дамы с подчеркнутой неохотой следовали за своей госпожой, когда она, вооружившись ключом, вывела их в парк. Нобель умчался вперед, радуясь возможности побегать. Обычного для подобных вылазок возбужденного говора и смеха было почти не слышно. Когда вся компания начала подниматься на холм, Джейн передалось общее настроение, недобрые предчувствия охватили ее. Дверь открылась со скрипом. На стенах, как и прежде, висели потемневшие картины, углы затянуло паутиной. Анна Парр вскрикнула и выбежала наружу. – Простите, мадам, но я не могу туда войти, – заявила Маргарет и поспешила вслед за Анной. Остальные дамы робкой стайкой сжались у дверей. Даже Нобель не решался забегать дальше порога, хотя Джейн звала его. В ответ пудель поднял лай и остался на безопасном, по его представлениям, расстоянии от неведомой угрозы. – Меня удивляет, что вы, образованные женщины, верите каким-то глупым сказкам, – упрекнула дам Джейн. – Такими историями пугают детей. – Однако ей самой приходилось бороться с желанием поскорее унести отсюда ноги. – И что, никто не отважится подняться со мной наверх? Дамы переглянулись. Ни одна не вызвалась сопровождать ее. – Очень хорошо, – сказала Джейн, – тогда я пойду сама. Там, наверху, нет ничего страшного. И она стала подниматься по винтовой лестнице, немного сожалея, что пошла на эту безрассудную выходку, но нельзя же было признать ошибку и потерять лицо перед своими слугами. Она говорила себе: на дворе ясный день, а призраки любят темноту! Пыли в комнате на первом этаже прибавилось. Отпечатков ног больше не было видно. Никто сюда не заходил уже много недель. Приподняв повыше юбки, чтобы не запачкать, Джейн продолжила подъем на верхний ярус. Когда она оказалась у двери в комнату, ее вдруг охватило такое сильное чувство тоски и томительного желания, будто рядом находилось какое-то живое существо, от которого оно исходило. Джейн задыхалась, в ней не осталось ни капли радости и надежды, словно она оказалась в длинном темном туннеле, из которого нет выхода. Вскрикнув, королева бросилась вниз по лестнице. На витке между первым и вторым ярусами ей пришлось остановиться, чтобы выровнять дыхание и успокоиться. Тоскливая волна схлынула, как только Джейн начала спускаться, но воспоминание о пережитом ощущении было живо, и от этого ее колотило. При первом посещении этой комнаты наверху старой башни, после того как там встречались Норрис и Анна, с Джейн ничего подобного не произошло. Отчаяние, которое она ощутила, – это было их отчаяние. Джейн была уверена в этом так же, как в собственном существовании, и теперь могла догадаться, что случилось здесь в тот апрельский день. Любовь между этими двумя людьми была абсолютно безнадежной: Джейн осознала это с предельной ясностью, а потому сильно усомнилась, что они поддались страстному желанию слиться друг с другом в сладостном соитии. Джейн вознесла хвалу Господу и всем святым за то, что никому не высказала своих подозрений. Странно успокоенная, она присоединилась к своим дамам, которые явно испытали облегчение, увидев королеву целой и невредимой. Нобель радостно юлил вокруг ее юбок. – С вами все в порядке, мадам? – спросила Марджери. – Я едва не упала с лестницы, – ответила Джейн, – но со мной все хорошо.
Торжества не прекращались. Едва ли у кого-нибудь еще медовый месяц тянулся так долго. Они смотрели фейерверки; в июле посетили великолепные празднества по поводу тройного бракосочетания детей графа Уэстморленда – сына и двух дочерей; Генрих приехал с процессией из Уайтхолла в костюме турецкого султана, хотя все знали, кто под ним скрывается, а Джейн купалась в аплодисментах толпы. Она облегченно вздохнула, когда Генрих сказал ей, что не будет участвовать в турнирах. Нога давала о себе знать, но король старался делать вид, что не придает этому значения, хотя Джейн чувствовала, какое раздражение вызывает у супруга эта досадная помеха. Все это время длилась сессия парламента. Однажды вечером Генрих пригласил мастера Кромвеля разделить с ними ужин и заговорил о новом Акте наследования, который должны были утвердить завтра. – Вот как обстоят дела, Джейн. Елизавета – моя законная наследница, согласно Акту о наследовании, изданному после моей женитьбы на Анне. Но бастард не может получить корону. Поэтому новый Акт утвердит аннулирование моих мнимых браков с леди Екатериной и леди Анной, а также передаст право на наследование престола нашим детям. Кромвель улыбнулся и наколол на нож кусок мяса. Джейн внутренне содрогнулась. В последнее время она вообще сторонилась его, и сейчас у нее было ощущение, что она ужинает со змеей. Интересно, чувствовал ли он ее неприязнь? – Мадам, – сказал Кромвель, – парламент понимает, какие трудности и опасности претерпел король в результате двух своих незаконных браков, а также признает горячую любовь и жгучую привязанность, которую он испытывает к своему королевству и его жителям, что заставило его милость связать себя брачными узами в третий раз. Все согласны с тем, что ваш союз чист и безупречен во всех смыслах, а следовательно, ваши отпрыски, когда Всемогущий Господь соблаговолит послать их вам, ни в коем случае не могут быть по закону лишены права на наследование престола. Все зависело от того, родит ли она сына. Джейн почти почувствовала, как у нее внутри сжимается матка. Господи, помоги мне зачать в этом месяце! – А что произойдет, если, не дай Бог, его милость и я не обретем общих детей? – спросила она. Генрих взглянул на нее с тревогой: – У нас будут дети! – В такой ситуации парламент дает его милости право назначить наследником любого человека по своему выбору, включая потомков от других законных браков, – ответил Кромвель. Услышав это, Джейн пришла в ужас. Они уже подготавливали почву на случай, если она умрет. И хотя рассудок подсказывал, что это имеет смысл, та часть ее существа, которая продолжала болезненно переживать участь Анны, подавала все возможные сигналы тревоги. А что, если она не выносит сына? Поступят ли с ней так же, как с Екатериной, или – не дай, Господи! – с Анной? – В настоящее время моя единственная законная наследница – леди Маргарет Дуглас, – сказал Генрих. – Ее сводного брата, короля Шотландии, я не могу рассматривать в этом качестве, потому что он чужестранец и как таковой лишен здесь права на наследование. И вообще, я не желаю, чтобы Англия становилась придатком Шотландии. Но я молю Господа, чтобы вы оказались плодовитой, дорогая. Я пока не хочу никого объявлять своим наследником. Кого бы я ни назвал, любой может возгордиться, впасть в неповиновение и даже отважиться на бунт. – Я уверена, Господь улыбнется нашему браку, – сказала Джейн, отбрасывая прочь все свои страхи.
Джейн очень хотела, чтобы, когда Мария приедет ко двору, она ни в чем не нуждалась. Поэтому она отправила Эдварда в Хансдон с поручением: привезти список того, что считает для себя необходимым принцесса. Брат уехал, одетый роскошно, как подобало знатному лорду, каким он теперь стал, и как будто прибавивший в весе благодаря недавно оказанным ему почестям. – Ты должен привезти ей подарок, – незадолго до отъезда сказала ему Джейн. – Какой, например? – спросил Эдвард. – Украшение? Молитвенник? Она очень религиозна. – При этих словах он скривился. Приверженность Марии Риму раздражала его почти так же, как злила короля. – Может быть, красивую лошадь? – предложила Джейн. – Отличная идея! – воскликнул Эдвард. – Я пошлю своего человека в Смитфилд, пусть купит там. – И прошу тебя, передай от меня принцессе, что милосердие и сострадание превозмогли гнев короля. Он снова любящий отец и жаждет ее видеть. – Я передам ей, – пообещал Эдвард. – Она написала ему еще раз, обещала, что никогда больше не нарушит дочернего послушания и молит Господа о даровании нам детей. – Мы все молимся об этом, – с напускным благочестием сказал Эдвард и пристально посмотрел на сестру. – Ты еще не?.. Он жутко расстроился, когда она сообщила ему о потерянном ребенке. – Пока нет. А Нан? У вас тоже есть надежды, особенно теперь, когда ты имеешь титул и поместья, которые можно передать по наследству. Эдвард тут же помрачнел: – Пока нет. – Тогда я буду молить Господа, чтобы он благословил и тебя тоже.
Эдвард уехал в Хансдон, и Генрих тут же оповестил всех, что в скором времени примирится с Марией. Придворные сразу полетели к ней, чтобы заручиться ее расположением. По возвращении Эдвард был очень зол: – Они прямо-таки рвались к ней, жадные до крови стервятники. Мне пришлось отправить всех назад. Мария больна. Напряжение, которое она испытала, каясь и выражая покорность отцу, оказалось слишком сильным. Услышав об этом, Генрих встревожился. Правда, остался верен себе: ему ни на миг не показалось, что основной причиной страданий Марии был он. Нет, король считал, что его дочь сама во всем виновата. Тем не менее Генрих обеспокоился достаточно сильно для того, чтобы отложить официальный прием при дворе по поводу возвращения дочери. – Мы сами съездим к ней, – сказал он Джейн. Так и получилось, что однажды солнечным июльским утром они с Генрихом, одетые просто, чтобы не привлекать внимания, скакали на лошадях по дороге в нескольких милях к востоку от Хакни. – Я послал своих офицеров за Марией, ночью ее тайно привезли в Кингс-Мэнор, – объяснил король. Мария ждала их на месте, сильно нервничала и напоминала тень себя прежней. В последний раз Джейн видела ее, когда ей было шестнадцать: тогда Марии разрешили совсем ненадолго приехать в Элветам к королеве Екатерине. Это случилось четыре года назад. Тогда она тоже была нездорова, и ее состояние только ухудшалось из-за разрыва родителей, но тем не менее Мария была милой миниатюрной девушкой с красивыми рыжими волосами и цвела свежестью юности. Теперь же, когда Генрих поднял ее из реверанса, вид у нее был болезненный и затравленный. – Моя дражайшая и любимейшая дочь! – выдохнул Генрих и прижал ее к себе. Джейн заметила слезы у него на глазах и предположила, что его тоже шокировал вид Марии. Он был с ней мягок, добр и нежен. – Я привез к вам вашу добрую матушку, королеву Джейн, – сказал Генрих, и Мария начала опускаться на колени, но Джейн не дала ей это сделать – она взяла падчерицу за руки и крепко обняла. – Вы даже не представляете, какого верного друга имеете в лице королевы, – сказал Генрих. Мария робко улыбнулась: – Я знаю, что многим обязана вашей милости. Генрих отвел их в главный зал и попросил Марию сесть между ним и Джейн. Он разглядывал дочь пронзительным взглядом голубых глаз, на лице его отображались разные эмоции. – Я глубоко сожалею, что так долго держал вас вдали от себя, – сказал он, и тут Мария потеряла самообладание – по ее щекам потекли слезы. – О мой дорогой отец, как я скучала по вас! – плача, проговорила она. Генрих задыхался от волнения. – Больше я этого не допущу, – пообещал он. – Забудем прошлое и будем смотреть в будущее. Я сделаю для вас все, дитя мое, раз теперь мы снова в совершенном согласии с вами. Джейн вынула из сумочки маленький бархатный мешочек и вложила его в руку Марии: – А я стану подругой вашей милости. – Ничто не доставит мне большей радости, мадам, – улыбнулась Мария. – Вы всегда были так добры. Глаза принцессы увлажнились слезами благодарности. Открыв мешочек, она онемела и выложила на ладонь красивейший бриллиант. – В знак нашей дружбы, – сказала ей Джейн. – А это от меня, – добавил Генрих и протянул Марии украшенный кисточками кошелек. – Здесь тысяча крон на ваши маленькие удовольствия. Отныне и впредь вам не придется беспокоиться о деньгах, потому что вы будете получать, сколько пожелаете. Остаток дня прошел в очень приятной атмосфере: Мария и Генрих начали чувствовать себя свободнее в обществе друг друга, и Джейн лелеяла добрые надежды на будущее. Марии очень понравилась лошадь, привезенная Эдвардом, и Джейн заверила девушку, что у той много друзей при дворе. После вечерни, когда гости собрались уезжать, пообещав Марии, что скоро навестят ее еще раз, вид у девушки уже был не такой затравленный и настроение ее поднялось. – Обещаю, отныне с вами будут обращаться хорошо! – крикнул ей с седла Генрих. – Когда вы поправитесь, то должны вернуться ко двору. Вы будете наслаждаться свободой, какой до сих пор не знали, и я прослежу за тем, чтобы вам служили с церемониями и почестями, как второй леди в королевстве после королевы Джейн. Вы ни в чем не будете нуждаться! Он послал ей воздушный поцелуй, вместе с супругой выехал через гейтхаус, и они вдвоем поскакали по дороге, ведущей в Лондон. – Ни один отец не мог бы проявить к дочери больше любви, – сказала Джейн. – Ни одна мачеха не могла бы быть более приветливой! – ответил комплиментом на комплимент Генрих. – Я рад, что теперь мы с Марией снова добрые друзья. – И она тоже, уверяю вас. Она вне себя от радости, что снова вернулась в милость. Лучшего исхода ни сама Джейн, ни даже Шапуи представить себе не могли. Осталось вернуть Марии титул принцессы Уэльской, но это не имело особого значения, потому что теперь она и без того будет иметь все, что захочет, в неограниченных количествах. Верный своему слову, Генрих начал отправлять дочери в подарок деньги, в то время как Джейн, согласуясь с привезенным Эдвардом списком, посылала Марии дорогие придворные платья. Мастер Кромвель подарил ей еще одного прекрасного коня и по велению короля взял на себя надзор за воссозданием двора Марии. – Прочтите это, Джейн, – сказал Генрих за завтраком через несколько дней после встречи с дочерью и передал ей письмо. Оно было от Марии – с благодарностью за совершенное примирение между ними. Кроме того, Мария вновь выражала надежду, что ее дражайшая матушка королева скоро родит ее отцу новых детей. Это тронуло Джейн. Она легла спать в прекрасном настроении. Прошло уже шесть дней, как у нее должны были начаться крови, и королева лелеяла тайную надежду, что, может быть, беременна. Отношения Генриха с Марией наладились, и Джейн полагала, что есть хорошие шансы на претворение в жизнь и других надежд. Если она родит сына, Генрих наверняка станет более сговорчивым и скорее согласится восстановить Марию в правах на престол.
Глава 29
1536 годУтром Джейн не встретилась с Генрихом, потому что он заседал в Совете. Не видела королева и Маргарет Дуглас. – Она должна прислуживать вам, мадам, – раздраженно сказала Элеонор Ратленд. – Могу поспорить, она любезничает с Томасом Говардом! – усмехнулась Мэри Монтигл. Джейн мысленно отругала себя. Ведь собралась же поговорить с Генрихом и узнать, что он думает по поводу этих отношений, но идея как-то выскочила у нее из головы. Она подозревала, что Генриху не придется по вкусу мысль о младшем, безземельном брате Норфолка в роли супруга своей племянницы. От ее брака он наверняка рассчитывает получить какие-нибудь личные выгоды. Джейн опасалась, что Маргарет живет в раю для глупцов. В тот вечер Генрих пришел к жене ужинать, а Маргарет так и не появилась. Всем своим видом и каждым жестом король давал понять, что с ним обошлись дурно и поэтому он находится в праведном гневе и небеспричинной печали. Тяжело опустившись в кресло, Генрих жестом отослал прочь слуг и мрачно взглянул на Джейн. – Что случилось? – спросила она, опасаясь, что чем-то обидела его. – Вы не поверите, но моя племянница Маргарет тайно заключила брачный контракт с лордом Томасом Говардом. – Не может быть! – ужаснулась Джейн. Трудно было поверить, что Маргарет совершила такую глупость. – Норфолк написал мне, – прорычал Генрих. – Ему сообщила его дочь. Она содействовала этому беспутству и во всем призналась, не дожидаясь, пока все само выплывет наружу. И разумеется, учитывая то, что недавно случилось с его племянницей, почившей королевой, Норфолк боится за собственную шею и надеется заручиться моим благоволением, сообщая мне об этой измене. – Измене? Джейн пробрала ледяная дрожь. – А как еще это называть? – Генрих вспыхнул. – Никакая принцесса королевской крови не может быть отдана или взята замуж без моего согласия. Самонадеянность лорда Томаса возмутительна, и я горько разочарован в леди Маргарет, потому что держался очень высокого мнения о ней и ее добродетелях. – Он ударил кулаком по столу. – Как она посмела презреть мои законы и обещать себя кому-то в жены без моего согласия?! Ее брак – это мой подарок! Пока супруг ярился, Джейн боялась сказать хоть слово, чтобы не вызвать еще большего гнева. И все же она должна была вступиться за Маргарет. Она много раз видела влюбленных вместе в покоях Анны Болейн. И была уверена, что они не замышляли никакой измены, хотя, конечно, проявили невероятную глупость. – Я не понимаю, – проговорила она, – как это может быть изменой? Генрих прищурился: – Есть серьезные подозрения, что, заключая брачный сговор с моей вздорной племянницей, лорд Томас нацеливался получить корону, и я убежден, он ошибочно и предательски вообразил, что, если я умру, не оставив наследников по крови, он взойдет на престол благодаря браку. Маргарет популярна, и у него есть причины полагать, что англичане захотят видеть ее королевой. Но замысливший такое, Джейн, виновен в злонамеренном попрании нового Акта о престолонаследии, а оспаривать право на наследование – это измена! Король буквально кипел от ярости. Если смотреть на это дело так, то парочку не ждало ничего хорошего. Однако Джейн сообразила, что все обвинения против них строились на предположениях и домыслах. – Их уже допрашивали? – спросила она. – Да. Ясно, что лорд Томас поддался искушению дьявола и преступил долг верности, которую обязан блюсти по отношению ко мне как своему повелителю и владыке! Он вел себя постыдно и предательски, склонил к преступлению Маргарет лукавыми, цветистыми и льстивыми словами. Джейн с трудом верилось в такое. Маргарет была так же влюблена в Томаса, как он в нее; ему не нужно было ни к чему ее склонять. Джейн сама читала стихи, которые они писали друг другу, ее трогало любовное чувство, которым дышали эти строки. Томас был мужчиной с мягкими манерами и поэтической душой; она не могла представить, чтобы такой человек строил коварные планы захватить трон и намеревался использовать для этого Маргарет. – Что с ними будет? – Джейн едва смогла выдавить из себя эти слова. – Сегодня их поодиночке заточили в Тауэр, – ответил Генрих, поджав губы. Страх пустил ростки и опутал Джейн, как вьюнок. Только не Тауэр! Двух месяцев не прошло, как там казнили Анну. Нет, Генрих не может обречь свою племянницу на ту же участь. – Парламент добавит к Акту о престолонаследии дополнительный пункт, – сказал он. – Отныне и впредь для любого человека будет считаться изменой, если он женится или лишит девственности особу королевской крови. Оба будут казнены. Нужно было действовать. Маргарет не изменница, не было в ее теле ни одной предательской кости. Джейн схватила мужа за рукав: – Вы ведь не пойдете на это? Она ваша племянница, родная плоть и кровь! Генрих вздохнул. Гнев его иссякал. – Нет, Джейн, не пойду. Думаю, ее обманули. Конечно, она поступила глупо, ей следовало помнить, что устроить ее брак должен я. Посидит немного в Тауэре, это пойдет ей на пользу. Не бойтесь, ее содержат там в довольно комфортных условиях, в комнатах королевы. Джейн вздрогнула. Какой может быть комфорт, когда тебя заперли в позолоченной клетке, последняя обитательница которой незадолго до этого покинула ее и отправилась на смерть? Да, для Маргарет это станет тяжелым уроком. – А лорд Томас? – Нельзя было выказывать слишком большого сочувствия. Генрих нахмурился: – Парламент поступит с ним так, как он того заслуживает. А теперь давайте сменим тему, а то у меня сейчас разболится голова. Возьмите себе селедки. – Он передал Джейн блюдо. – Завтра я возведу в рыцари Кромвеля и сделаю его пэром, он станет бароном Кромвелем Уимблдонским. Джейн не сомневалась, что господина секретаря награждают за его старания в раскрытии измены королевы Анны. Но знал ли Генрих или хотя бы подозревал, что этот человек не просто собрал доказательства и выстроил дело, а зашел гораздо дальше? – Он сослужил вам хорошую службу, – сказала она. – Да, это так. И я назначу его главным викарием. Парламент издал акт, по которому все монастыри с доходом меньше двухсот фунтов в год будут распущены. Кромвелю поручено наблюдать за этим. Джейн с трудом сдержалась, чтобы не выказать недовольства. Генрих наблюдал за ней: – Джейн, эти монастыри или никому не нужны, или погрязли в пороках. Ни к чему вам принимать такой расстроенный вид. Она подумала о бедных богомольцах, которые посвятили жизнь Господу и теперь должны покинуть свои приораты и аббатства, места, которые они наверняка любили. Некоторые будут очень несчастны. – Сэр, я прошу вас, проявите милосердие к монахам и монахиням из монастырей, которые распустят! – воскликнула Джейн и упала перед ним на колени. – Встаньте, – мягко сказал Генрих. – Я говорил вам, они смогут перебраться в более крупные обители, а если предпочтут вернуться в мир, то могут попросить пенсию. Ни один не будет страдать. Вы лучше подумайте о выгодах. – Он положил себе еще кусок цыпленка. – Доходы от этих монастырей и продажи их собственности удвоят поступления в казну. Это упрочит трон. Да, но подорвет могущество Церкви! Джейн придержала язык. Она не хотела, чтобы Генрих снова впал в гнев.
Кромвель попросил об аудиенции. Джейн предложила ему сесть, и он опустил свою тяжелую тушу на выточенный из бревна табурет, сидеть ему было неудобно. С того ужина у Эдварда Джейн стала относиться к Кромвелю с опаской и понимала, что он это чувствует, так как, казалось, из кожи вон лезет, лишь бы заручиться ее расположением. – Леди Мария написала мне, – сказал он. – Она благодарит меня за советы и обещает следовать им впредь во всем, что касается ее дочернего долга перед королем. И еще она выразила удовольствие по поводу того, что может назвать меня одним из своих лучших друзей после короля и вашей милости. Мадам, я заказал для нее перстень с портретами короля, вашим и ее высочества. Король милостиво предложил мне отвезти его леди Марии, когда он в следующий раз поедет навещать ее. – Мы повидаемся с ней в Ричмонде ближе к концу этого месяца, – сказала Джейн. – Я уверена, она очень обрадуется вашему подарку. На этом любезности закончились. Кромвель перешел к делу и напомнил Джейн об их прежнем союзничестве, но она знала: больше им не быть заодно. И тем не менее Кромвель мог оказаться полезным. – Эта история с леди Маргарет, – сказала Джейн, – она беспокоит меня. – Мадам, клянусь вам, я делаю все возможное для нее, – ответил Кромвель. – Но не могу быть уверен в исходе. Она и лорд Томас совершили прискорбный проступок. Парламент будет обсуждать это дело на следующей неделе, и король настаивает на суровом наказании. – Но он обещал мне освободить ее! – воскликнула Джейн. Кромвель придвинулся к ней: – Таково его истинное намерение. Но сперва нужно преподать ей урок, чтобы присвоение себе прерогатив короля не осталось безнаказанным. – Значит, ее будут держать в неизвестности? Перспектива была ужасная. – В прошлом нам обоим удавалось склонить короля к проявлению милосердия, – заговорил Кромвель, и опять таким тоном, словно они были сообщниками. – Но я думаю, на этот раз нам не стоит слишком давить на него. – А лорд Томас? – Увы, мадам. Король не склонен проявлять к нему снисхождение.
Леди Маргарет и лорда Томаса обвинили в измене, и они оба томились в темнице в ожидании смерти. Генрих сообщил эту новость Джейн, войдя в ее покои и прогнав дам движением руки. Он был настроен мрачно. – Дело такое ясное, что ни лорды, ни представители палаты общин не колебались, – рассказывал он. – Но так как ничего преступного в их связи не было и вы вступились за Маргарет, я избавлю ее от наказания. Джейн невольно задрожала: – А ей об этом сказали? Глаза Генриха засверкали. – Пока нет. Джейн опустилась на колени рядом с его креслом: – Генрих, умоляю вас, избавьте ее от терзаний. Представьте, каково это – думать, что умрешь всего в двадцать лет. Она ведь поверит, что это неминуемо произойдет; королева Англии только что была обезглавлена. Маргарет, наверное, считает, что ее сожгут на костре. О Генрих, она так страдает душой, что и представить нельзя. Король выслушал ее с хмурым лицом. – Вы думаете, я не могу представить, как чувствует себя человек, ожидающий казни? – спросил он. – Ей следовало думать раньше, когда она обещала себя в жены, не спросясь. – Но Генрих, она сделала это не ради того, чтобы нанести вам оскорбление. – Но меня это оскорбило! – рявкнул он. – Вы с Кромвелем, похоже, забываете, что поступок этих двоих не только лишил меня ценного политического актива, но и угрожал самой моей жизни! Джейн схватила его руку и сжала ее: – Я знаю их обоих, Генрих. И не могу поверить, что лорд Томас замышлял покушение на ваш трон. – Он Говард! – крикнул король. – Они все имеют виды на трон так или иначе. Саранча, вот кто они! Дорогая, вы невинная женщина с добрым сердцем. – Он сжал ее руку. – Чтобы порадовать вас и Кромвеля, я дарую жизнь обоим. Но пока они останутся в Тауэре. Надеюсь, это вас удовлетворит. Вот и хорошо. На данный момент этого достаточно. Джейн из благодарности горячо поцеловала руку мужа и сказала: – Вы самый добрый и милосердный король из всех, когда-либо живших. Генриху похвала понравилась, Джейн это видела, хотя он сохранил озабоченный и расстроенный вид. – Вы же не думали, что я казню собственную племянницу? – пробормотал он и потерся носом о ее шею. – Я слишком люблю ее, хоть она и вела себя так легкомысленно, что нанесла урон моей чести. И она моя единственная наследница. – Вдруг, к величайшему изумлению Джейн, он заплакал. – Генрих, что случилось? – вскричала она, обнимая его за широкие плечи. Неужели он все еще горюет об их потерянном ребенке? – О Боже, Джейн! Я едва могу говорить об этом. Я только что был у врача. Мой сын тяжело болен. Джейн видела при дворе герцога Ричмонда всего два дня назад. Она заметила, что юноша кашлял и имел багровый румянец на щеках. Однако он смеялся со своим закадычным другом, сыном Норфолка, беспечным графом Сурреем, и она ничуть не обеспокоилась. Герцог Ричмонд не сильно нравился ей – заносчивый юнец, склонный к жестокости, – но он был отрадой для короля. Генрих рыдал на груди у Джейн: – У него слабость в груди. Врачи говорят, надежды нет. Мой мальчик, мой драгоценный мальчик! О Джейн, почему Господь так наказывает меня? Когда дело касается того, кому передать корону, каждый мой шаг оборачивается разочарованием. Я собирался объявить Ричмонда своим наследником и преемником на троне, чтобы парламент подтвердил это, хотя, конечно, он стоял бы в ряду претендентов после детей, которые могут родиться у нас. Но отныне некому наследовать мне, кроме этой глупой девчонки в Тауэре. Теперь вы понимаете, почему меня так расстроил ее проступок? – О дорогой, я понимаю, и мне очень жаль Ричмонда. Неужели доктора ничего не могут сделать? Генрих промокнул глаза большим белым платком: – Ничего! Он теперь в руках Господа.
В ту ночь тень появилась снова. Генрих заснул, выплакавшись, а Джейн лежала, не смыкая глаз, заключив его в объятия. Вдруг на фоне деревянной стенной панели возник неподвижный темный силуэт. Джейн прижалась к теплому телу Генриха и зажмурилась. Дрожа всем телом, она думала: «Какое новое несчастье предвещает появление этой тени?» Потом заставила себя открыть глаза. Тень исчезла, и Джейн опять засомневалась, непривиделось ли ей это. А может, приснилось? Вероятно, это была какая-то игра света. Но когда четыре дня спустя умер герцог Ричмонд, она вспомнила свое видение.
Генрих был безутешен. – Это проклятая Анна и ее брат – они отравили его! – выпалил он, когда они стояли и смотрели на посиневшее безжизненное тело, одетое в герцогское платье. – Я всегда знал, что они замышляют! – Но Генрих, они мертвы уже два месяца, – попыталась образумить его Джейн. – Разве существуют яды с таким медленным действием? Но спорить с ним было бесполезно. – То, что они ему дали, фатально подорвало его здоровье, – не унимался Генрих. – Врачи считают, что он хворал уже несколько недель и только потом болезнь стала явной. Нет, Джейн, это их злой умысел! Джейн вспомнила ночную тень. Неужели это Анна приходила за Ричмондом? Если так, то она не могла бы придумать более убийственного способа отплатить Генриху за то, что тот подписал ее смертный приговор. Ей никак не успокоиться. Нужно свести счеты со всеми. И преследовать женщину, которая заняла ее место, у нее имелись причины. Как легко было поверить, что Анна и после смерти мстит удачливой сопернице. Смерть Ричмонда держали в секрете. – Я не хочу возбуждать страхов по поводу наследования, – мрачно объяснил Генрих. За последнюю неделю он постарел. По ночам приходил в постель к Джейн за утешением, а не удовлетворять желание. Печаль прорезала на его лице новые морщины, в рыжих волосах появилось больше седины. Джейн стала замечать, что Генрих переедает и набирает вес. Время от времени его беспокоила старая рана на ноге, и он не всегда мог наслаждаться охотой, которую любил, или заниматься упражнениями, в которых нуждался. Норфолку, как тестю Ричмонда, Генрих поручил обернуть тело герцога в свинец, отвезти на телеге в приорат Тетфорд в Норфолке и скромно упокоить там. Генрих тут же пожалел об этом распоряжении. Вызвали Норфолка, и Джейн очень удивилась, увидев, что короля вдруг обуяла ярость. – Почему вы не похоронили моего сына с подобающими ему почестями? – закричал он. – Я отправлю вас в Тауэр за это! – Но я всего лишь исполнял приказания вашей милости, – раздраженно оправдывался Норфолк. – И когда я удостоюсь заключения в Тауэр, пусть Тоттенхэм станет французским![71] Генрих гневно взирал на него. – Вы построите для него гробницу в церкви Фрамлингема, чтобы он покоился как полагается! Норфолк поклонился, явно весьма раздосадованный: – Ваша милость может не сомневаться, все будет исполнено. Позвольте спросить, что теперь будет с моей дочерью, раз она овдовела? – Найдите ей другого мужа! – рявкнул Генрих; гнев его не утихал. – Брак не был окончательно заключен, так что она по-прежнему девственница. – Но, ваша милость, она ваша невестка. – И ваша дочь! Заберите ее с собой домой и не показывайтесь больше. Я не забыл измены ваших подлых племянницы и племянника! Норфолк страшно перепугался и поспешил скрыться с глаз короля. Джейн стало жаль юную герцогиню Ричмонд. Хотя она не любила Мэри Говард, потому что та была дружна с Анной Болейн и выказывала враждебность, но овдоветь в таком юном возрасте и оказаться на попечении отца-солдафона – это печальная судьба. Пусть Господь сделает так, чтобы Норфолк поскорее подыскал ей нового супруга.
Джейн и Генрих бок о бок скакали верхом по зеленым аллеям Кента, а она размышляла о том, что в этой поездке для инспектирования оборонительных сооружений Дувра короля должна была сопровождать Анна. Джейн вспомнила вечер, когда объявили об отмене визита. Никто тогда не предполагал, что Анну вот-вот арестуют. Королеву так тяготило чувство вины, что великолепные соборы Рочестера и Кентербери пролетели мимо смутной чередой башен, шпилей и витражей. В Дуврском замке Джейн ничуть не обрадовали витражи с изображением ее символического феникса, созданные королевским стекольщиком взамен старых. В ту ночь они с Генрихом опять предавались любви, и после этого настроение у нее улучшилось. Король тоже немного воспрял от тоски и печали, и возникло легкое подобие праздничной атмосферы. Кромвель из Лондона сообщал Генриху обо всех текущих событиях, гонцы без конца сновали туда-сюда. – Елизавета вырастает из платьев, – заметил король, подняв глаза от письма. Они стояли на зубчатой стене Главной башни Дуврского замка, выстроенной на высокой скале, а под ними расстилались воды Английского канала. Джейн отошла подальше от парапета, придерживая рукой капор, потому что дул сильный ветер. Он стегал ее по лицу вуалью. – Она, наверное, быстро растет, – сказала Джейн. Думать о потерявшем мать ребенке ей было еще тяжелее, чем о самой Анне. – Кромвель разберется с этим. Управляющий двором Елизаветы позволяет ей каждый день обедать и ужинать за главным столом, а леди Брайан этого не одобряет. Но я так распорядился. Может, она и бастард, но все равно моя дочь. – Мне говорили, она очень смышленая девочка. – Может быть, даже слишком, – откликнулся Генрих. – На следующий день после смерти матери она спрашивала управляющего, почему ее теперь называют леди Елизавета, а не леди принцесса. А ей еще нет трех лет! Сердце Джейн обливалось кровью от жалости к малышке. – И что он ей ответил? – Он проинструктировал леди Брайан от моего лица, чтобы та сказала Елизавете, что ее мать отправилась на небеса. Она еще слишком мала, не стоит отягощать ее юный ум подробностями. Скоро она все узнает, бедняжка. Анне следовало бы подумать об этом. Джейн не могла представить себе, что почувствует Елизавета, когда ей сообщат о судьбе матери. – К счастью, Мария испытывает особую привязанность к Елизавете, – говорил между тем Генрих. – Теперь мне кажется, отправка ее на службу к Елизавете была здравой идеей. Кто не проникся бы добрыми чувствами к такому славному, милому ребенку? – (Эта сестринская любовь, которая расцвела вопреки всем преградам, казалась невероятной.) – Мария окрепла и на этой неделе отправится в Хатфилд. Она пишет, что ее сестра в добром здравии и со временем еще порадует меня. Мария шлет нам обоим пожелания здоровья и называет вас доброй матушкой. Это согрело сердце, приятно было видеть и то, что привязанность Генриха к младшей дочери ничуть не ослабла в связи с падением Анны Болейн. Генрих смотрел на массивные крепостные валы, окружавшие замок, и вдруг сдвинул брови: – Мне пришлось распорядиться, чтобы Елизавету не выпускали из дому. Ходят разные слухи и спекуляции о том, что она не мой ребенок, а ее отец – Норрис. Не хочу, чтобы эти сплетни донеслись до ушей девочки, так же как и разговоры о судьбе ее матери. Так что лучше ей пока не покидать своих покоев и гулять под присмотром в личном саду. – Это очень мудро, – заметила Джейн. Генрих кивнул: – И еще я позаботился, чтобы при ее дворе было больше людей серьезных и возрастом постарше. А то вокруг нее слишком много молодежи. – Вы считаете, они легкомысленны и несерьезно относятся к морали? Пауза, один удар сердца. – Я помню молодых людей, которые смеялись и флиртовали с Анной в ее личных покоях. И смотрите, к чему это привело! Елизавета – дочь своей матери, не только моя. Она уже кокетничает. Ее нужно отучить от этого. Вот почему я хочу, чтобы ее окружали более взрослые, опытные люди. Пусть внушат ей идеи добродетели и целомудрия. Джейн стало еще сильнее жалко Елизавету. Никогда ей не избавиться от позорного клейма дочери Анны Болейн.
Когда в августе у Джейн начались месячные крови, Генрих с печальным видом вздохнул и сказал: – Ну что ж, по крайней мере, вы сможете поехать на охоту вместе со мной. Бо́льшую часть месяца они провели на свежем воздухе, гоняясь за дичью по широким лугам и пестревшим солнечными пятнами рощам в долине Темзы. В один день чета подстрелила двадцать оленей. Это должно было вернуть Генриху душевную бодрость, но он продолжал горевать по поводу кончины Ричмонда, перечеркнутых надежд на наследника и переживал из-за Маргарет Дуглас. Однажды вечером король грузно опустился в кресло Джейн и посмотрел на нее полными жалости к себе глазами. – Что случилось? – спросила она и поспешила обнять его. – О Джейн! – простонал Генрих. – Я устал нести на себе весь этот груз. Кажется, я старею. И сомневаюсь, что нам удастся завести детей. – Ерунда! – Страх сделал Джейн резкой. – Вы в самом расцвете сил, мне это отлично известно! Не падайте духом. Выпейте немного вина и пойдемте в постель. Ничего более приятного она еще никогда ему не говорила, потому что никакая добродетельная жена не предлагает мужу заняться любовью, и Генрих тоже всегда распоряжался ею как король и как супруг, но сейчас это сработало превосходно. Вскоре они уже катались по покрывалу, срывая друг с друга кружева и подвязки, и сливались в захватывающем дух оргазме. После этого Генрих лежал на постели и улыбался во весь рот. Наконец-то.
Ближе к концу месяца они навестили Марию в Хансдоне. Джейн с удовлетворением отметила про себя, что ее падчерица имеет более здоровый цвет лица, хотя и остается очень худенькой, к тому же она призналась, что страдает от головных болей. Пока они разговаривали, из-за колонны выглянула маленькая рыжая головка с любопытными глазами. – Вот вы где! – раздался голос леди Брайан; тут она увидела, кто стоит здесь, и поторопилась сделать реверанс. – Идите-ка сюда, маленькая шалунья! – воскликнул Генрих; Елизавета побежала к нему, и он подхватил ее на руки. – Поздоровайтесь с королевой Джейн, вашей новой мачехой. Джейн удивилась, как подросла Елизавета с тех пор, как она видела малышку в последний раз. Младенческая пухлость совершенно исчезла, теперь это была крепкая маленькая девочка. Генрих горячо поцеловал ее и сказал, какая она красавица. Мария смотрела на это с нежностью и, казалось, с легкой завистью. Сама она в присутствии Генриха нервничала и имела немного обиженный вид, если говорить по правде. А Елизавета была еще слишком мала, чтобы чем-нибудь обидеть короля, и было очевидно, что его любовь к ней ничем не омрачена. Малышка хорошо знала, чем очаровать отца. Она погладила бороду Генриха и несколько раз легонько поцеловала его в щеку, а потом задумчиво посмотрела на Джейн и величественно протянула ей руку для поцелуя. Все засмеялись. – Нет, дорогая, это ты должна целовать руку королеве, как тебе наверняка известно, – укорил дочку Генрих. Джейн протянула Елизавете руку и получила довольно высокомерный клевок, потом порывисто, ведь нужно было оправдать звание мачехи и хоть немного восполнить понесенную Елизаветой потерю, взяла девочку на руки. Малышка оказалась тяжелой и не выказала особой радости по поводу того, что оказалась в объятиях мачехи. Но когда Джейн улыбнулась и ласково заговорила с ней, сказав, что они станут лучшими подругами, Елизавета немного оттаяла и вскоре уже делилась с мачехой своими достижениями: она знает весь алфавит и умеет считать до двадцати. Потом девочка заерзала, давая понять, что хочет спуститься на пол, и забралась на колени к Генриху, который сидя беседовал с Марией. Он не возражал против такого вмешательства в разговор и был с ней очень ласков. Тут Джейн невольно пришло в голову, что они выглядят как обычная счастливая семья: отец, мать и две дочери. Кто, глядя на них, догадался бы, какие трагедии и драмы скрывались за этой трогательной картинкой? Она поняла, что восстановление семейной гармонии было в немалой степени ее заслугой, и почувствовала себя неизмеримо лучше. Из плохого выросло хорошее, и за это нужно было благодарить Господа. Джейн специально уделила время тому, чтобы посидеть с Марией и поинтересоваться, есть ли у нее все, в чем она нуждается. Мария выражала трогательную благодарность. – До чего же хорошо, что ваша милость стали дружны со мной, – сказала она. – Я не могу передать, как ценю все, что вы для меня сделали. – Я много лет хотела помочь вам, – сказала Джейн и взяла Марию за руку. – И очень рада, что мне наконец-то это удалось. – Мое здоровье чудесным образом улучшилось, – сказала Мария. – Значит, скоро вы будете готовы вернуться ко двору, – вступил в разговор Генрих. – Мы устроим публичную церемонию воссоединения, чтобы весь мир видел. Мария отнеслась к этой идее с едва заметным испугом. – И Елизавета тоже должна побывать при дворе, – проговорила Джейн, пытаясь вызволить Нобеля из не слишком нежных рук младшей дочери короля. – Вам бы этого хотелось, Елизавета? – Да, – ответила девочка, отпуская собачку, и завертелась, подражая движениям животного; такой танец очень любили при дворе. – Она дочь своей матери, – пробормотала Мария, когда Генрих встал и принялся показывать Елизавете, как правильно делать танцевальные шаги. – Ваша милость, присмотритесь к ней. Я не могу ее не любить, она такая очаровательная, но, боюсь, по крови она мне не родная. Джейн уставилась на падчерицу: – Прошу прощения? – Она – дочь Марка Смитона, – тихо проговорила Мария. – Вы разве не замечаете сходства? – Совсем не замечаю. – (Марию нужно срочно вывести из этого глупого заблуждения.) – Стоит только взглянуть на Елизавету, сразу ясно, кто ее отец, и сам он, имея на это самые основательные причины, никогда не выражал по поводу отцовства этого ребенка никаких сомнений. Марию слова Джейн, похоже, не убедили, но тут вернулся Генрих, неся под мышкой извивающуюся Елизавету, и шанса сказать что-нибудь еще не представилось. Прощаясь, Мария тепло обняла мачеху, ясно давая понять, что не обиделась на ее возражения.
Увидев Генриха с дочерьми и поняв, каким любящим отцом он может быть, Джейн снова с тяжелым сердцем вспомнила о невыношенном сыне, который так отчаянно нужен. Мысли о потерянном ребенке и о том, как она подвела мужа, не оставляли ее. Какая жестокая несправедливость, что она, дочь столь плодовитых родителей, не смогла сразу доказать свою способность к деторождению. Здоровье отца тоже сильно беспокоило Джейн. Писал он в последнее время редко, что само по себе казалось недобрым знаком. Нечасто приходившие письма от матери были неизменно бодрыми, хотя Джейн опасалась, что от нее скрывают правду. Эдвард говорил, что отцу не становится лучше, и даже обычно беспечный Томас тревожился. По дороге назад из Хансдона Джейн почувствовала себя перегруженной тревогами и печалями. Некоторые вещи она не могла обсудить с Генрихом, у которого хватало своих забот, и довериться было некому. Маргарет Дуглас в тюрьме. Элеонор Ратленд делала над собой усилия, чтобы казаться дружелюбной; Мэри Монтигл была достаточно мила и обходительна, но Джейн плохо знала их обеих, в чем, вероятно, была виновата сама: она постоянно сознавала необходимость блюсти королевское достоинство и не поощряла своих дам к нормальным человеческим отношениям. Легкость в общении и приятельская близость с фрейлинами теперь были для нее под запретом. Генрих наклонился к ней с седла: – Вы как-то притихли к вечеру, дорогая. С вами все в порядке? – Просто я устала, – уклонилась от прямого ответа Джейн. – Скоро мы будем в Уолтхэме, – сказал король. – Вестники уже поскакали вперед. Ужин приготовят к нашему приезду. Джейн заставила себя улыбнуться ему.
– Дорогая, что с вами, почему вы ничуть не веселее сегодня? – спросил Генрих, входя на следующее утро в комнаты Джейн. Он застал супругу глядящей в пространство пустым взглядом, а ее фрейлин – склонившимися над шитьем. – Оставьте нас, – приказал король. – Мне одиноко, – сказала Джейн, когда дамы вышли. – И у меня душа не на месте, все мне не мило. Глаза у Генриха заблестели. – Может, вы ждете ребенка? Джейн удивилась. Да, в последнее время она была чересчур эмоциональна, но приписывала это тревогам, чувству вины и ночным видениям. – Пока не знаю, – ответила она. – Но теперь, когда вам угодно было сделать меня своей супругой, вокруг меня остались только слуги, нет никого, с кем я могла бы близко общаться и весело проводить время, за исключением вашей милости и леди Марии, которую, буде на то ваша воля, мы скоро увидим при дворе. Ей уже стало лучше. – Да, скоро она приедет, дорогая, если вам так станет веселее, – пообещал Генрих, потом встал, подошел к окну и остановился там, спиной к Джейн. – Боже, нам и правда нужно как-то развеяться. Мои советники уже рассуждают так, будто надежды на наследника нет. Меня это угнетает. Но я надеюсь, дорогая, мы еще докажем, что они ошибаются. – Он обернулся и попытался изобразить на лице улыбку. – Мы женаты всего три месяца! – напомнила ему Джейн. – Конечно. Я становлюсь старым пессимистом. Пойдемте прогуляемся по саду. Сегодня прекрасный день. – Генрих протянул ей руку.
Глава 30
1536 годСентябрь выдался необыкновенно теплым. Джейн сидела и обмахивалась веером в тени дуба в Гринвичском парке. Рядом с ней растянулся на траве и тяжело дышал Нобель. Месячные крови задерживались уже на неделю. Этого она и желала. Неделю спустя Джейн сказала Генриху: – Кажется, я беременна. Король изменился лицом: – Дорогая! Слава Богу, слава Богу! Вы себе не представляете, как я молился об этом. И уже почти утратил надежду. – Он заключил жену в объятия так осторожно, будто она была вазой из венецианского стекла. – Это прекрасная новость, восхитительная новость! Теперь вы должны заботиться о себе. Больше никакой езды верхом! Настроение у короля мигом поднялось, и он начал строить планы: какой двор будет у принца и какими турнирами отметят его рождение. Генрих даже начал прикидывать, какие брачные союзы подойдут его сыну. – И вас нужно короновать, Джейн, как можно скорее. Обещаю вам, я такое приготовлю, что вы удивитесь. Король тут же собрал своих советников, каждому дал задание и отправил плотников готовить к коронационному банкету Вестминстер-Холл. Затрат не жалели. Благодаря стараниям Кромвеля и посланцев монарха королевские сундуки наполнились награбленными в монастырях сокровищами. Генрих с чопорным видом зачитывал Джейн некоторые отчеты об этих инспекционных рейдах. – Я и не представлял, до какого уровня разложения они дошли! – распалял себя он. – Распутство, содомия, жизнь в недопустимой роскоши! Раки с фальшивыми мощами! Я читаю все это снова и снова. Говорю вам, Джейн, я возмущен: в этих Божьих домах слово Господа не соблюдается как положено. – И он выпячивал губы, кипя внутри от праведного гнева. – И правильно я их позакрывал! Клянусь, я очищу свою Церковь от суеверий и папизма! Джейн не хотелось верить в то, что говорил ей Генрих, она просто не могла принять его слова. Все эти шокирующие открытия пришлись как-то очень кстати. Может быть, в монастырях и творились какие-то греховные дела, но сколько их придумали порученцы короля? Она ничего не ответила. Значительная часть этих денег тратилась на нее. Это была как будто плата за грех. И вдруг все прекратилось.
Чума! Джейн слышала, как дамы в панике повторяли это слово, и у нее едва не остановилось сердце. Тут же вспомнилась страшная эпидемия потливой лихорадки; прошло восемь лет, но живые и страшные картины того, что тогда творилось, мигом всплыли перед глазами Джейн, сразу пришли на память Марджери и Энтони, которых сразила болезнь в пору цветущей юности. Смерть, страдания… Но главное – уберечь бесценный плод, который она носила в себе. И тут явился Генрих – буквально вломился в дверь с бледным от страха лицом. – Дорогая, в Лондоне чума. В такую жаркую погоду зараза будет распространяться, как лесной пожар. Ради безопасности мы переезжаем в Виндзор. Нам нельзя испытывать судьбу. Давно уже при дворе не паковали вещи с такой поспешностью. Придворные носились туда-сюда, собирая пожитки и приводя лошадей. В конюшнях толклась целая толпа людей. Генрих орал, отдавая приказы, без конца торопил всех и приходил в ярость от нетерпения. Джейн радовалась, что ее не мучает тошнота, как некоторых других женщин. Она чувствовала себя хорошо, может быть, немного усталой, только разум ее обуял страх из-за чумы. Ей было просто необходимо, чтобы этот ребенок родился живым и здоровым, и Джейн заторопилась в Виндзор. Скорее бы, скорее. Наконец сборы были закончены, и они выехали. Джейн лежала в носилках, повязав вокруг рта и носа платок для защиты от инфекции, как распорядился Генрих. Стояла жара, пыльные дороги были изрезаны колеями. Она подумала, каково приходится людям, оставшимся в душном, смрадном городе, где мертвецов не успевают хоронить, потому что могильные ямы наполняются быстрее, чем их роют. И врачи ничего не могут поделать. Люди вынуждены сидеть за закрытыми дверями, сжимаясь от страха и изнывая от беспросветной тоски. Какое Джейн испытала облегчение, когда вдалеке показалась круглая башня Виндзора, а потом и весь массивный замок, который доминировал над всей округой. Как приятно было улечься наконец в своих апартаментах и потеряться в огромной постели с шелковыми занавесками и балдахином из золотой и серебряной парчи. Когда вечером Генрих пришел к Джейн, он сообщил, что эту кровать изготовили для его матери. Он был теперь гораздо спокойнее, чем утром. – Вашу коронацию придется отложить, дорогая, – продолжил король, – я назначил ее на воскресенье перед Днем Всех Святых. – Надеюсь, чума к тому времени сойдет на нет, – отозвалась Джейн. – Я молюсь об этом, – поддержал ее Генрих. – А теперь, моя милая, отдыхайте. Джейн крепко закрыла глаза, не смея глядеть во тьму: вдруг она там? А когда наконец уснула, в ее сны прокралась чума.
Шапуи попросил о встрече с Джейн. Они прогуливались по Северной террасе и любовались впечатляющим видом сельских красот; разнообразили картину возвышавшиеся неподалеку шпили колледжа Итон. – Что-то беспокоит ваше превосходительство, – сказала Джейн. – Вы не ошиблись, мадам. – В добрых глазах посла отобразилась боль. – Это закрытие монастырей – оно не только безнравственно, но и катастрофично для жителей Англии. Множество монахов и монахинь оказались изгнанными в мир с крошечным содержанием. И теперь те, кто приходил на помощь бедным и больным, зависят от своих бывших прихожан или благотворителей. Если раньше монастыри давали приют нищим, бродягам, теперь их бывшие насельники нередко сами вынуждены просить подаяние. Не такую картину рисовал ей Генрих. Он кормил ее банальностями или вообще не предвидел последствий своих действий? А может, это Шапуи преувеличивал, потому что, как и она сама, всеми силами души противился роспуску монастырей? – Приходским служащим придется нелегко, – продолжил он. – Люди говорят, они уже напряжены до предела, а число тех, кто приходит за помощью, все растет. Джейн вспомнила длинные очереди ожидавших милостыни нищих в Бедвин-Магне. – Уже становится очевидным, что кое-где они не справляются, – сообщил ей Шапуи. – Ваша милость, нужно что-то делать. Люди обозлены и возмущены. Они протестуют против закрытия монастырей и отмены старых религиозных традиций. Святые места оскверняют! Запрещено искать чудеса, больные и умирающие лишены всякой надежды. – Он в отчаянии покачал головой, этот добрый, честный человек. – Король говорит, что монастыри пришли в упадок. Джейн решила, что ее долг – выказать лояльность к Генриху. Она не хотела, чтобы ее вовлекали в дискуссии о религии и политике. – Ваша милость, если это так, почему людей ужасает их упразднение? Они же не дураки. И понимают, ради чего это делается. Я заметил, в каком ужасе они наблюдали, как офицеры короля сбрасывают с постаментов почитаемые образы Мадонны и святых, разбивают топорами прекрасные витражи. Они видят, как грузят на телеги и увозят к королю церковные сокровища – дорогие одежды, алтарную утварь, даже камни и металл с крыш; ропщут против тех, кто скупает земли и превращает аббатства в личные поместья. Люди считают это святотатством! И помимо этого, их еще обложили налогами в поддержку церковных реформ, которых они не хотят, и вынудили оказывать помощь выгнанным из монастырей монахам и монахиням! Мадам, я прибегаю к вам в надежде, что вы сможете умолить короля: пусть он поймет ошибочность своих решений и остановит все это. – Мессир Шапуи, я несколько раз пыталась, но безуспешно. Король знает, как я к этому отношусь. – Предупредите его, мадам! Предупредите о том, что может произойти, если он будет упорствовать в своем чудовищном безрассудстве. Люди возмущены до предела и опечалены. Они больше не будут терпеть. Я говорю это, желая блага королю. – Я знаю, – помолчав, ответила Джейн. – Поверьте, я попытаюсь заставить его прислушаться. Обещаю. Это слишком сложные вещи, я не могу обсуждать их с вами. Мне нужно идти и переодеться, я должна позировать мастеру Гольбейну. Она покинула посла с упавшим сердцем.
Дамы одели Джейн в великолепное платье из алого бархата с дамастовым киртлом и расшитыми золотой нитью верхними рукавами. Тяжелое ожерелье из жемчуга и рубинов сочеталось с каймой на вырезе, а крупная брошь была создана самим мастером Гольбейном. На голову королеве они надели украшенный драгоценными камнями капор с вуалью, наброшенной поверх него в модном ракушечном стиле. Генрих распорядился, чтобы Гольбейн написал портреты их обоих, дабы тем отметить беременность Джейн. Руки она должна была сложить на животе, словно оберегая находящегося там ребенка. К моменту окончания работы она – даст Бог – начнет быстро прибавлять в теле, и все поймут значение картины. Гольбейна только что назначили королевским живописцем. У него была студия во дворце Йорк, но мастер покинул Лондон вместе со всем двором. – Он исключительно одаренный художник и достоин моего покровительства, – сказал Генрих. – Кромвель тоже находит его весьма полезным, потому что за работой над портретами он слышит всякие разговоры. Джейн видела портрет Генриха, созданный Гольбейном, и была поражена исходившим от картины ощущением силы и реального присутствия героя, которое подчеркивалось использованием настоящих золотых листьев. Однако во время позирования сама она сильно переживала из-за разговора с Шапуи; и когда художник показал ей набросок, Джейн увидела, что он уловил ее настроение, – она выглядела напряженной и озабоченной; Гольбейн не льстил ей и очень точно изобразил ее поджатые губы. На рисунке она выглядела женщиной, которая встревожена, так как собирается обсудить с мужем какой-то вызывающий серьезные разногласия вопрос.
Генрих только-только вошел в апартаменты Джейн и мыл руки перед ужином, как вдруг появился секретарь Кромвеля. – Доклад от лорда Кромвеля, ваша милость, – с поклоном произнес он и терпеливо дожидался, пока слуги не унесут рукомойник и не подадут королю полотенце. Генрих взял свиток: – Благодарю вас, Ральф. Можете идти. Он сел за стол. Джейн следила, как по мере чтения выражение лица супруга становится все более озабоченным. – Чума распространяется за пределы Сити в сторону Вестминстера, – сказал король. – Несколько человек она сразила в самом аббатстве. – Думаю, придется отложить вашу коронацию до следующего сезона. – Конечно, лучше поберечься, – ответила Джейн. – Мы должны думать о ребенке. – Вот-вот! Я ни за что на свете не стану рисковать вашей или его жизнью! – Но здесь мы пока в безопасности? Генрих погладил ее по плечу: – Будь это не так, я уже давно поехал бы дальше.
В последнюю ночь сентября призрак появился снова. Сжавшись от страха, Джейн спрашивала себя: что он предвещает на сей раз? Скосит их всех чума? Или она потеряет ребенка? Королева терзалась дурными предчувствиями. Через несколько дней она получила ответ.
Новость привез гонец из Лондона. В Луте, в далеком Линкольншире, произошел бунт. Расхаживая взад-вперед по комнате Джейн, Генрих выкладывал перед ней голые факты. Стаккато тона выдавало гнев короля. – Это был протест против моих религиозных реформ. В тех краях, на севере особенно, старые идеи очень сильны. Но, Джейн, это было не просто стихийное возмущение народа. Бунт организовали, причем люди не бедные, – предатели все они! Именно это предсказывал Шапуи. Надо было ей поговорить с Генрихом, рассказать об опасениях испанского посла, но она смалодушничала, ее слишком занимали собственные страхи. И в любом случае что мог сделать Генрих? У него не было времени предпринять какие-то шаги. И главное, разве он послушался бы ее? Скорее просто отмахнулся бы от ее страхов или разозлился, что она вмешивается не в свои дела. – Я созвал экстренное заседание Совета, и меня, наверное, уже ждут, – сказал ей Генрих. – Не бойтесь, дорогая. Я разберусь с этими негодяями, они получат по заслугам! Однако время шло, наступил октябрь, листва на деревьях пожелтела или окрасилась багрянцем, а ситуация не улучшалась, напротив, становилась все напряженнее. Это было восстание. Собралась целая армия мятежников, люди сходились отовсюду и примыкали к ней. Поступали новости, что люди Норфолка пополнили ряды инсургентов, а мятеж распространился на Йоркшир. – Повстанцы захватили Йорк! – громыхал Генрих, вне себя от гнева. Джейн казалось, что она замечает и в самом короле искорки страха. Это было настоящее восстание. Джейн переживала, страшась за них обоих, за ребенка, которого носила под поясом, и за сестру Лиззи, жившую в Йорке с юным Генри и малышкой Марджери, едва сводя концы с концами на вдовьи доходы. Джейн посылала ей деньги и беспокоилась о ней. Последнее письмо Лиззи дало надежду, что ситуация исправляется: похоже, за ней ухаживал сэр Артур Дарси, младший сын лорда Дарси, пэра от северных графств. Но теперь Джейн боялась, что Лиззи грозит опасность, ведь мятежники вполне могли сорвать гнев на сестре королевы. – Много раненых или убитых? – спросила она Генриха, страшась услышать ответ. – Нет, – сказал король. – Похоже, все эти северяне заодно. Во главе мятежников, предположительно, встал некий почтенный бюргер из Йорка по имени Роберт Аск. К ним присоединились люди из Халла под предводительством какого-то проходимца Роберта Констебла. Даже лорд Дарси поддержал бунтарей и уступил им замок Понтерфракт, нарушив клятву верности королю! Он всегда создавал проблемы. Когда я доберусь до него, он заплатит за это головой! При упоминании имени лорда Дарси Джейн похолодела. Не дай Бог, ее сестра будет привлечена к делу об измене. – Сэр, я должна сказать вам. Сэр Артур Дарси – претендент на руку моей сестры, леди Утред. Глаза Генриха сузились. – Так напишите ей сейчас же. Скажите, пусть больше не общается с ним.
Все при дворе понимали, что положение очень серьезное. Создалась приглушенная атмосфера страха и неуверенности, люди лихорадочно строили домыслы один страшнее другого; само собой, все развлечения были отменены, да и охоты к ним никто не проявлял. Генрих проводил долгие часы со своими советниками, строил планы, как справиться с мятежниками. А когда распространилась новость, что сорокатысячная армия бунтовщиков движется на юг, возникла паника. – Успокойтесь, мадам! – строго приказал Генрих, когда Джейн, в страхе пробежав через весь замок, в отчаянии бросилась к нему. Он в это время совещался у себя в кабинете с Кромвелем, который, увидев ее, встал. – Но люди говорят, армия мятежников идет сюда! – Это правда, – сказал Генрих с таким видом, будто нес на плечах тяжесть всего мира. – Они называют это Благодатным паломничеством. Предполагается, что это будет мирный протест против моих реформ. – Тем не менее, похоже, эти предатели готовы подкрепить свои требования вооруженной силой, – заметил Кромвель. – Они несут знамена со знаками Пяти ран Христовых и называют свое восстание Крестовым походом. И хотят, чтобы король примирился с Римом, восстановил монастыри и прежние церковные устои. В тоне лорд-канцлера слышалось возмущение. Джейн опустилась на скамью, сердце у нее колотилось. Почему, ну почему Генрих не хочет дать этим людям то, чего они хотят? Тогда они разошлись бы по домам и больше не было бы никаких проблем. Опасность миновала бы. Разве он не видит, что его политические шаги ведут к самоуничтожению и у мятежников есть веские причины для протестов? Несмотря на все свои страхи, в душе Джейн аплодировала их решительности. – Мадам, это восстание – наиболее серьезная угроза власти короля из всех, с какими мы сталкивались, – проговорил Кромвель, очень сурово глядя на нее. Наверное, он догадывается, на чьей стороне ее симпатии, подумала Джейн. Ей хотелось сказать ему, что, каковы бы ни были ее убеждения, прежде всего она верна своему господину и супругу. – Я поведу армию на север против мятежников, – заявил Генрих. – Нет! – воскликнула она и вскочила. – Вас могут убить! – Дорогая, эти предатели испугаются, увидев во главе войска самого короля, который идет вершить правосудие. Джейн заметила в глазах Генриха воинственные огоньки, он уже вел победоносную битву и заранее ликовал. Как зауважают, как будут бояться его люди, когда он безжалостно подавит бунт! – Прошу вас, не оставляйте меня! – взмолилась Джейн. – Я так напугана! Генрих сжал ее руки: – Думаете, мастер Кромвель не проявит рвения, чтобы обеспечить вашу безопасность? Я оставлю здесь много крепких мужчин, которые защитят вас. Вам нечего бояться. – Но что, если вас убьют или возьмут в плен? Генрих потемнел лицом: – Вы не должны думать о таких вещах; уверяю вас, этого не произойдет. И, дорогая, мне нужно, чтобы вы остались здесь регентом в мое отсутствие. Джейн была потрясена. Она и не думала, что Генрих так уверен в ней. – Но откуда мне знать, что делать? – пролепетала королева. – Архиепископ Кранмер и мои советники помогут вам, – сказал Генрих. – Но вы должны доверять и собственной мудрости, Джейн, полагайтесь на свои способности. Прежде всего вы будете управлять двором, пока меня нет. Джейн собралась. Надо показать Генриху, что она достойна такой чести. Ей не раз приходилось слышать рассказы Екатерины о том, как она регентствовала, когда Генрих воевал во Франции, и о вторжении шотландцев. Екатерина смело взялась за дело, и Англия одержала славную победу. Нужно последовать примеру старой королевы. – Для меня большая честь, что вы доверяете мне свое королевство, – сказала Джейн. – Я не подведу вас. Она знала, что Генриха не отговорить. Кромвель налил ей немного вина, чтобы она успокоилась. Джейн тихонько прихлебывала его, пока король планировал кампанию и отдавал распоряжения, а Кромвель яростно строчил на бумаге. Турнирную площадку в Гринвиче велено было превратить в мастерскую, где королевские оружейники приведут в порядок старые доспехи Генриха, которые извлекут из хранилища на постоялом дворе в Саутуарке. Джейн слушала вполуха. Она думала только о том, что Генрих уедет далеко от нее и там лицом к лицу встретится со смертельной опасностью.
Король никуда не поехал. Джейн не скрывала облегчения. Пыхтя от раздражения и досады, Генрих понуро сидел в амбразуре окна в ее покоях. – Дело в том, что я не могу скопить достаточные силы за такое короткое время. Поэтому посылаю Норфолка и Саффолка на север с теми людьми, которых сумел набрать, и поручаю им использовать сперва уговоры, а уже потом прибегать к насилию. Может, он и подлец, этот Норфолк, но храбрый генерал, а Саффолк твердо верен мне. Горстка крестьян с серпами и секачами не сможет противостоять двум славным воинам. Я уверен, они сокрушат мятежников. – Как я рада, что вы не поедете на север! – воскликнула Джейн, беря супруга за руку. – Я хотел сам вести в бой своих людей, – хмуро ответил он, – и преподать урок этим бунтарям. Я не позволю нарушать мои законы и насмехаться над ними!
Джейн возвращалась в свои покои, когда из тени навстречу ей выступила какая-то фигура. – Мессир Шапуи! – выдохнула она. – Вы напугали меня! – Простите, ваша милость, – ответил он и поклонился, – но Благодатное паломничество очень тревожит меня. Оно может стоить королю трона, вы понимаете. Да, это приходило Джейн на ум в самые мрачные ночные часы. – Он принимает серьезные меры, чтобы справиться с мятежом, – ответила она. – Я знаю об этом. Но, мадам, опасность ситуации может быть снята только в том случае, если король прислушается к доводам разума. Ваша милость, вы говорили с ним, как обещали? – Еще нет, – призналась Джейн, воздерживаясь от оправдания себя тем, что в последнее время Генрих пребывал в сильном гневе и она боялась заговаривать с ним о проблемах. – Тогда я прошу вас, не молчите! Обратитесь к королю завтра во всеуслышание. Завтра Джейн будет сидеть на троне под балдахином рядом с Генрихом в приемном зале. Послушать, какие меры собирается принять король для подавления бунта, соберется весь двор. Осмелится ли она подать голос? Джейн затрясло при одной мысли об этом. От Шапуи не укрылось ее замешательство. – Я буду там, мадам, и еще многие люди, которые желают вам блага и одобрят восстановление монастырей. Конечно, он преувеличивал. Джейн знала, что многие придворные сломя голову понеслись хлопотать о покупке монастырских земель и прочей собственности. Но может быть, некоторые, вроде нее самой, втайне и осуждали роспуск святых обителей. И она была для них последней надеждой, если мятежники не восторжествуют. – Я сделаю это, – решительно заявила Джейн, и Шапуи улыбнулся.
Джейн сидела на троне, роскошно одетая, смотрела на море непокрытых голов и слушала речь Генриха, в которой тот описывал, какие действия от его имени предпримут Норфолк и Саффолк. Ладони у нее вспотели, а сердце в груди билось так сильно, что она была уверена: король наверняка слышит этот стук. Он вот-вот закончит, и тогда она должна обратиться к нему с мольбой. Если не сделает этого, момент будет упущен. Все зааплодировали, одобрительные крики разнеслись по роскошному залу. Генрих сидел и благосклонно принимал восторги, крепко вцепившись пальцами в подлокотники кресла. Лицо короля выражало решимость. Джейн увидела, что Шапуи смотрит на нее и ободряюще улыбается. Сейчас или никогда. Джейн встала, все притихли. Генрих удивленно поднял взгляд на супругу, а потом, когда она упала перед ним на колени, нахмурился. Послышался ропот. Она набрала в грудь воздуха и почувствовала, как люди потянулись вперед, чтобы расслышать каждое ее слово. – Сэр, – начала Джейн. – Сэр… – Слова не шли у нее с языка, и она прочистила горло. – Сэр, я умоляю вас, ради сохранения мира и ради тех ваших любящих подданных, которые сожалеют об утрате прежних традиций, отнеситесь милостиво к монастырям. Я прошу вас восстановить те, что вы закрыли. Нехорошо, когда подданные восстают против своего принца, но, вероятно, Господь допустил это восстание как наказание за разрушение множества церквей. Она замолчала, видя, что Генриха трясет от ярости. – Вы забываетесь, мадам! – прорычал он. – Это вас совершенно не касается. Я могу напомнить вам, что последняя королева приняла смерть за то, что слишком много вмешивалась в дела государства. Пойдите и найдите себе какое-нибудь другое занятие! – Он указал рукой на дверь. Она зашла слишком далеко. Обмирая от страха, с пылающим лицом и выскакивающим из груди сердцем, готовым разорваться, Джейн неуверенно встала и сделала реверанс. Потом стала торопливо пробираться сквозь толпу, ряды придворных расступались перед ней, люди глазели на нее, улыбались, перешептывались, прикрывая рты ладонями. Дамы поспешили вслед за госпожой, и Джейн замедлила шаг, пытаясь вернуть себе достоинство. Она потеряла любовь короля, это ясно. Вернувшись в свои покои, Джейн бросилась на кровать и зарыдала. Вот каково мнение Генриха о ее мудрости! Он отмахнулся от нее, как от надоедливой мухи. И разговаривал в таком тоне с матерью своего ребенка! Как он мог?! Ей следовало раньше выучить этот урок: королевский авторитет и власть значили для него больше, чем что-либо или кто-либо иной на всем белом свете. Это Анна сделала его таким, и он больше не допустит, чтобы над ним властвовала женщина. Ну что же, никогда больше она не будет вмешиваться в политику. И ясно даст понять это Шапуи и всем прочим доброхотам. Она пригнет голову и будет молча залечивать сердечную рану, демонстрируя обожание, почитание и покорность мужу и занимаясь домашними делами. Только так она могла сохранить любовь Генриха. В дверь постучала Элеонор Ратленд: – Ваша милость, здесь приоресса Клементорпа, она хочет просить вас о помощи в сохранении монастыря. Джейн промокнула глаза. – Скажите ей, что я ничего не могу сделать! – крикнула она.
В тот вечер Джейн удивилась, увидев Генриха. Спать она легла совершенно разбитая, слова разгневанного супруга звенели у нее в ушах, и попытки уснуть не приводили к успеху. Потом у постели появилась Мэри Монтигл: – Король здесь, мадам. Девушка исчезла, и вошел Генрих. Он был одет в бархатный ночной халат и шапочку, и вид имел весьма печальный. Подошел, сел на кровать: – Простите меня, Джейн, за сегодняшнюю вспышку гнева, но вы не должны были вмешиваться в политические дела, которые вас не касаются. Джейн собралась было объяснить, какие мотивы ею двигали, но поняла, что лучше держать язык за зубами. Он извинился, ей тоже нужно выразить раскаяние. – Я очень сожалею, что расстроила вас. – Джейн почувствовала, как глаза у нее наполняются слезами. – Я думала, что потеряла вашу любовь, а она для меня дороже всего на свете. – Дорогая, этого никогда не случится! – сказал он, беря ее за руку. – Я знаю, вы говорили из искреннего убеждения, даже если вас ввели в заблуждение неправильными советами, но я не могу допустить, чтобы королева ставила под сомнение мою политику. Святой Павел говорил, что жена должна хранить молчание и учиться у мужа. – Как я и намерена поступать, – сказала ему Джейн. – Значит, мы снова друзья. – Генрих улыбнулся, скинул с плеч халат и забрался на постель. – И чтобы порадовать вас, я послал за Марией. – После нашего примирения для меня нет большей радости! – заявила Джейн, чувствуя невероятное облегчение. Это гнев и замешательство, ничто иное, заставили Генриха так грубо говорить с ней, и не стоило молить его о чем-то публично. И ни к чему было так терзаться. Рука короля снова лежала на ее животе. – Надеюсь, малыш скоро начнет быстро подрастать, – прошептал Генрих.
Глава 31
1536 годГерцоги отправились на север, новость о скором прибытии ко двору Марии распространилась по округе, и у ворот Виндзора, где для нее готовились апартаменты, собирались толпы зевак. Когда Генрих призвал ко двору старую воспитательницу Марии леди Солсбери, люди возликовали, и Джейн намеренно пригласила уважаемую старую даму выпить с ней вина и рассказать о былых временах. Тогда Джейн благоговела перед графиней, потому что в жилах бывшей Маргарет Поул текла королевская кровь Плантагенетов и она была пэром в собственном праве. Но теперь Джейн радовалась обществу этой близкой ей по духу дамы. Они вместе проверили, чтобы к приезду Марии все было на своих местах.
Наконец похолодало, и чума стала постепенно отступать. Джейн стояла с Генрихом у ревущего камина в приемном зале и ждала появления Марии. Придворные заполнили просторные апартаменты, всем не терпелось увидеть, как король снова официально примет свою дочь. Мария вошла, облаченная в дорогой наряд, который справил ей отец; за спиной у нее выстроились роскошно одетые придворные дамы, которых он назначил. Девушка дважды присела в реверансе – у дверей и в центре зала, – а потом упала на колени перед королем. – Сэр, – взволнованно произнесла она, – я жажду получить ваше отцовское благословение. – И я с готовностью даю его вам, моя любимая дочь, – ответил Генрих, взял ее за руки, поднял и поцеловал с очевидной приязнью. Джейн тоже обняла и расцеловала Марию, заметив, что девушка выглядит истощенной и вся дрожит. – Мы очень рады видеть вас здесь! – сказала королева. Генрих повернулся к стоявшим рядом членам Тайного совета: – Некоторые из вас желали, чтобы я отправил это сокровище на смерть! Джейн содрогнулась от его бестактности. Марии не пристало слушать это! – Было бы очень жаль потерять ваше главное сокровище в Англии, – быстро проговорила она. Генрих улыбнулся: – Нет, нет! – И похлопал ее по животу на глазах у всех. – Эдуард! – Король не мог сдержаться. – Эдуард! Джейн покраснела. Она еще не начала прибавлять в теле, и он не должен был раскрывать их секрет. Имя они пока еще тоже не обсуждали! Джейн чувствовала, как люди таращатся на нее, и слышала возбужденный ропот голосов. Тут Джейн обратила внимание на Марию, которая качалась на ногах и была смертельно бледна. Не успела она протянуть руку, чтобы поддержать падчерицу, как та без чувств упала на пол. Раздались встревоженные голоса. Генрих встал на колени и умолял дочь прийти в себя, похлопывая ее по щекам. – Пошлите за врачом! – крикнул он. – И принесите холодную влажную ткань и немного вина! – распорядилась Джейн. Мария открыла глаза и ничего не понимающим взглядом посмотрела вокруг. – Вы очнулись, дочь моя, – сказал Генрих. – Все хорошо, вам теперь ничто не угрожает. Джейн мягко промакнула лоб Марии, и скоро краска вернулась на лицо девушки. Генрих поднял ее на ноги, взял за руку и прошелся с ней по залу, чтобы она окончательно пришла в себя. Потом он приказал дамам отвести Марию обратно в ее покои. Отдохнув, она разделила ужин с Генрихом и Джейн. Ела она совсем мало и выглядела напряженной. – Мария, вам нечего бояться, – заверил ее Генрих. – Та, что причинила вам столько зла и удерживала меня от встреч с вами, расплатилась за это сполна. Дочь неуверенно смотрела на него. Он не собирался вспоминать о том, как травил ее и принуждал к покорности уже после смерти Анны. – Желая порадовать вас, я хочу, чтобы вы взяли себе вот это, – сказал король и передал Марии небольшую золотую шкатулку, которая стояла рядом с его тарелкой. Девушка открыла ее и в удивлении проговорила: – Это украшения моей матери. – Она вынула из шкатулки толстую нитку жемчуга, а потом помрачнела. – Но этот крест – он принадлежал ей. Последнее слово было произнесено с такой злостью, что Джейн испугалась. – Значит, вам как раз и полагается владеть им, – сказал Генрих. – Компенсация за страдания, которые причинила вам эта женщина. – Я отдаю половину ее украшений вам, а другую – Елизавете. – Благодарю вас, сэр, – сказала Мария. – Я очень рада получить материнские, но, надеюсь, вы простите меня, если я не стану носить остальные. – Мы понимаем, – вмешалась в разговор Джейн, прежде чем Генрих успел заговорить. – Продайте их, если хотите, – добавил король, – но вам понадобится хороший набор украшений, раз уж я по просьбе вашей мачехи обустраиваю для вас комнаты в Хэмптон-Корте, Гринвиче и других моих резиденциях. Джейн протянула Марии руку: – И мы станем подругами. Вы будете главенствовать над всеми дамами, будете первой после меня. Мария улыбнулась в ответ. В глазах у нее стояли слезы.
Время шло, Генрих со все большим напряжением ждал вестей с севера. – Герцоги уже должны были добраться до места, – говорил он. – Хотел бы я знать, что там происходит. Джейн беспокоилась за сестру. Лиззи не отвечала на ее письма, может быть, она их даже не получала. И если отец и мать в Вулфхолле знают об угрозе Благодатного паломничества, они тоже наверняка беспокоятся, в том числе и за безопасность Джейн. Ведь если случится худшее и Генриха свергнут с трона, что тогда будет с ней? Желая отвлечься от этих страхов, Джейн спросила Генриха, нельзя ли привезти ко двору Елизавету, и он согласился. Девочке будет спокойнее в Виндзоре, чем к северу от Лондона, в Хатфилде или Эшридже. Елизавета прибыла в сопровождении леди Брайан и новой фрейлины Кейт Чепернаун, красавица-сестра которой служила вместе с Джейн у королевы Екатерины. Кейт была круглолицей и курносой и по внешности не шла ни в какое сравнение с Джоан, но отличалась добротой и была исключительно хорошо образованна, да и с Елизаветой прекрасно ладила. Сегодня они должны были обедать с дочерьми Генриха. Джейн взяла Марию за руку и пошла с ней рядом, как с ровней. У дверей в приемный зал Мария отступила назад, чтобы дать королеве пройти первой. Та покачала головой и сказала: – Нет, мы войдем вместе. Мария стояла за стулом Джейн, пока все слушали фанфары, возвестившие о прибытии короля, и не садилась, пока он не занял свое место. Принесли плошки с водой, чтобы Генрих и Джейн могли вымыть руки, и Мария взяла на себя обязанность поднести королю и королеве салфетки. Потом она села за стол на помосте, немного дальше от короля, чем Джейн. Елизавета, посаженная за стол, установленный под прямым углом к главному, демонстрировала прекрасные манеры, но время от времени проказничала, на что Генрих смотрел сквозь пальцы. Елизавета бо́льшую часть времени оставалась в своих апартаментах. Джейн иногда навещала малышку и играла с ней. Так же поступали Мария и леди Солсбери, которую девушка считала почти что второй матерью. Как приятно было видеть, что Мария радуется переменам, произошедшим в ее судьбе, получает удовольствие от новых нарядов, которые заменили ее старые, изношенные платья, и тратит вдруг появившиеся деньги на благие дела, а также вознаграждает тех, кто проявлял к ней доброту. Наконец-то она жила, как подобает жить в двадцать лет юной леди королевских кровей: охотилась, играла в карты, танцевала, музицировала и смеялась над выходками своей новой шутихи Джани. Генриху остроты Джани тоже были по душе. Однажды вечером она насмешила его едва ли не до слез. – Боже, шуткам этой женщины нет цены! – сквозь смех проговорил король. – Что получится, если скрестить сову и каплуна? – спросила Джани, упиваясь восхищением своего соверена. – Скажи нам! – приказал Генрих. – Петушок, который не спит всю ночь! – Шутиха осклабилась. Все снова засмеялись, но Мария выглядела озадаченной. – Думаю, она не поняла шутки, – тихо проговорила Джейн. – Кажется, она совершенно невинна в отношениях с мужчинами. И не знакома с пошлостями. – Не могу в это поверить, – ответил Генрих. Когда шутиха закончила свои дурачества и слуги стали готовить зал к представлению масок, король подозвал к себе Фрэнсиса Брайана. Тот был в костюме Тезея и собирался на битву с Минотавром, хотя все равно напоминал сатира. – Фрэнсис, королева утверждает, что моя дочь совершенно невинна, но я не могу в это поверить, – сказал Генрих. – Потанцуйте с ней. Проверьте для меня, насколько она целомудренна. Используйте слова, от которых она может покраснеть. – Сэр, это злая шутка! – мягко упрекнула его Джейн. – Ничего с ней не случится, – беспечно ответил король. – Не будьте слишком грубы, Фрэнсис. Брайан усмехнулся и отошел, чтобы занять свое место среди масок. Когда начались танцы, Джейн увидела, как он поклонился Марии и вывел ее на площадку. Девушка улыбалась и держала себя грациозно. Похоже, никакие его слова не обижали ее. Вскоре после этого Брайан вернулся к королю. – Не могу в это поверить, – пробормотал он. – Я спросил леди Марию, не хочет ли она посмотреть на мой мерный ярд, потому что он впечатляет. Она ответила с полным простодушием, что не знала о существовании таких вещей в комнатах придворных и хотела бы взглянуть на него, но лучше приведет с собой своих дам. – Фрэнсис, вы негодяй! – воскликнула Джейн. – Слава Богу, она невинна! – восхитился Генрих. Она была не только невинна, но еще и сломлена. Страдания, вызванные Великим делом, потеря любимой матери и принуждение к покорности сделали свое дело. Джейн знала, что Мария больше всего, даже больше восстановления в правах на престол, жаждет выйти замуж и родить детей. А Генрих до сих пор не удосужился подыскать ей супруга. Королева придерживалась мнения, что все это связано с недомоганиями Марии и ее женскими проблемами, о которых девушка не могла говорить спокойно: любое упоминание о них вызывало у нее ярость и прилив жара к щекам. Даже когда Джейн спросила, не хочет ли Мария, чтобы король нашел ей подходящего мужа, и предложила поговорить об этом с Генрихом, девушка залилась краской. – Я бастард, мадам! – воскликнула она со слезами на глазах. – Ни один принц не захочет жениться на мне, а отец едва ли позволит мне выйти замуж за простого человека. Мне придется смириться с тем фактом, что, пока он жив, я останусь леди Марией, самой несчастной женщиной во всем христианском мире. И никакие слова не могли утешить бедняжку. Джейн все-таки поговорила об этом с королем. – Я подумаю, – ответил он. – Но давайте подождем рождения юного Эдуарда. Тогда я с большей радостью отнесусь к замужеству Марии, потому что ее супруг не сможет строить планы сесть на мой трон.
Джейн чувствовала себя хорошо, разве что немного усталой, а потому ужаснулась, ощутив липкость между ног. Это случилось в начале ноября за обедом. – Прошу вас извинить меня, но у меня немного кружится голова, – сказала она Генриху. Он сразу забеспокоился: – Пойдите и лягте, дорогая. Дамы, помогите королеве. Этого она и боялась. Ребенок с кровью выходил из нее. Мэри Монтигл, которая помогала ей в уборной, принесла мягкую ткань и стала утешать госпожу, пока та сидела и безутешно плакала. Кровотечение усиливалось, начались до боли знакомые ужасные спазмы. Ближе к вечеру Джейн лежала на постели, пытаясь примириться с фактом, что ее надежды снова перечеркнуты, и готовилась сама обрушить эту новость на Генриха. За королем уже послали. – Дорогая, мне горько слышать, что вам нездоровится, – сказал он, торопливо входя в дверь, потом увидел ее лицо, распухшее от слез, и простонал: – Нет! На мгновение Джейн показалось, что он сейчас тоже заплачет. – Это Божья воля, – тихо сказала Джейн, и глаза ее снова наполнились слезами. – Мне так жаль. – Что мне сделать, дабы ублажить Господа?! – воскликнул Генрих, сжав руки в кулаки. – Этот брак чист, ничто ему не препятствует! Почему Он не дает мне сыновей? Если кто-нибудь и мог догадаться, отчего Господь злится на Генриха, то это была Джейн. И если Он недоволен и ею тоже, нетрудно было понять почему. Что еще она могла сделать во искупление своей вины? Она пыталась спасти монастыри; она стала матерью для Марии и Елизаветы; она истово молилась. Она никому не причиняла зла. Неужели все это не искупило ее вины в свержении Анны? – Мы должны молиться и попробовать еще раз, – сказала она, вкладывая в свой голос больше убежденности, чем испытывала на самом деле. – Сколько раз я уже слышал это, – вздохнул король. – Мне очень жаль, Генрих. Я так старалась беречь себя. – Я знаю. – Он похлопал ее по руке и снова вздохнул. – Часто мне приходит на ум, что все это происходит вообще без всякой причины.
Уже на следующий день Джейн встала с постели; боли она почти не испытывала, и кровотечение ослабло. Чтобы отвлечься от утраты, она занялась делами. Узнав, что вертоградарь, который занимался садом королевы в Гринвиче, переживает трудные времена, она послала письмо Кромвелю с просьбой помочь старику деньгами. «Вы не можете совершить более богоугодного дела, чтобы увеличить свои вечные заслуги в грядущем мире», – написала ему Джейн. Она приказала смотрителю парка в Хэмптон-Корте отправить оленину в подарок джентльменам из Королевской капеллы, которые радовали ее своим пением. Джейн распорядилась, чтобы была произведена инспекция всех ее владений и обрадовалась, когда слуги доложили ей, что все арендаторы земли и фермеры довольны ею и рады от всего сердца, потому что, по их словам, год ее замужества с королем стал для Англии годом мира. Они ей льстили. Уже два месяца, как в стране пылало восстание, на севере к нему примыкало все больше сторонников. К счастью, большинство лордов сплотились вокруг короны и юг страны не был заражен мятежом. – Знаете, что это означает? – весело воскликнул Генрих, глядя из окна галереи на замерзший сад. – Мои реформы и роспуск монастырей одобряет большинство моих подданных. Но сейчас декабрь, время для битв прошло. Советники рекомендуют мне обойтись мягко с мятежниками, так что я намерен немного поиграть с ними. Придется слегка слукавить. – Он заговорщицки улыбнулся Джейн. – Что вы имеете в виду? – спросила она. – Я отправил примирительное послание мастеру Аску, уверяя, что готов пойти навстречу его требованиям, и передал Норфолку право утвердить соглашение. Я сообщил ему, что сам приеду на север позже. Пообещал королевское прощение всем мятежникам, предложил провести вашу коронацию в кафедральном соборе Йорка и там же, в Йорке, собрать парламент. Джейн была потрясена. – А как же монастыри и ваши реформы? – Я дал им то, что они хотят. – Генрих, значит, вы прекратите роспуск монастырей? – Джейн! – Он посмотрел на нее едва ли не с жалостью. – Как вы наивны! Нет, дорогая, я не намерен этого делать. Закон есть закон. Но есть много способов изловить змею. Я пригласил мастера Аска провести Рождество при дворе, если он распустит свою армию. Джейн задрожала от страха. Аск, судя по всему, был человеком искренним и стоял за принципы, разделяемые ею. Догадывался ли он, что его заманивают в ловушку? А Генрих ликовал: – Мы окажем ему королевское гостеприимство, а? Обыграем его!
Когда они покинули Виндзор и переехали во дворец Йорк, переименованный в Уайтхолл и по закону объявленный главной резиденцией короля и местом официальных заседаний парламента, Мария отправилась домой, в Хансдон, куда вскоре по ее приглашению должна была приехать Елизавета. В Уайтхолле они застали мастера Гольбейна, который был весь погружен в работу над заказанной Генрихом для его личных покоев фреской с изображением династии Тюдоров: ее основателей – родителей Генриха, короля Генриха VII и королевы Елизаветы, на заднем плане и самого Генриха с Джейн – на переднем. Для позирования Джейн облачалась в платье из узорчатой золотой парчи с длинным церемониальным шлейфом, лиф его пересекали жемчуга в шесть рядов, а на шее висел крест в форме буквы «Тау». Нобель был при ней – спал на ее шлейфе, и обычно молчаливый мастер Гольбейн с улыбкой настаивал на том, чтобы песика тоже включили в картину. Портрет Джейн был уже закончен и выполнен отлично, но она сама считала, что выглядит на нем чопорной и настороженной, а люди хвалили сходство, и это ее расстраивало. Хотя Генриху портрет понравился, и картину повесили в его кабинете.
Джейн обсуждала с мастером Хайесом, королевским ювелиром, новогодний подарок для Генриха, когда Нан Стэнхоуп, или леди Бошан, как все, включая близких, должны были теперь называть ее, вошла в покои королевы с весьма раздраженным видом. Мастер Хайес быстро завершил разговор и откланялся. Как только он удалился, Нан взорвалась: – Граф Суррей на этот раз зашел слишком далеко! Только потому, что его отец снова в фаворе, он полагает, что может поступать, как ему нравится. И раз он мил королю, то все сойдет ему с рук! – Что он натворил? – поинтересовалась Джейн. – Открыто делал мне авансы и выражал страсть, хотя прекрасно знает, что его ухаживания не приветствуются. Он делает это, чтобы позлить Эдварда. В противном случае он и внимания на меня не обратил бы, потому что ненавидит нас, Сеймуров, и считает безродными выскочками. Эдвард в ярости. – Вы хотите, чтобы я поговорила с Сурреем? – спросила Джейн. – А вы это сделаете? Эдвард предупредил его, но ему все равно. Он продолжает подстерегать меня и делать непристойные предложения. – Мы не можем это так оставить! Это возмутительно. Идите к Эдварду. Я сейчас приглашу сюда Суррея. Джейн позвала одного из своих вестовых: – Пожалуйста, сообщите графу Суррею, что королева хочет видеть его немедленно. Суррей явился – высокий девятнадцатилетний юноша, высокомерный и ветреный. Он много путешествовал, был прекрасно образован, знаменит поэтическими успехами и проникнут духом Франции во вкусах и манерах, как и его кузина Анна Болейн. Однако ни это, ни его дикие выходки и распутство не отвращали от него короля. Джейн подозревала, что Генрих в некотором роде смотрит на него как на сына, потому что графа очень любил покойный герцог Ричмонд. К тому же не было сомнений в талантах Суррея в качестве турнирного бойца и его чрезвычайной эрудиции. Граф Суррей и правда держался как принц крови! Он отвесил изящнейший поклон, но Джейн не предложила ему сесть. Только она открыла рот, чтобы высказать ему недовольство, как объявили о прибытии Генриха. – Что привело вас сюда, милорд Суррей? – спросил он, хлопая молодого человека по спине. – Я сам в нетерпении ожидаю ответа от вашей милости, – ответил Суррей, с ухмылкой глядя на Джейн. – Королева вызвала меня. И приказала явиться срочно. – Дело и правда неотложное, – сказала Джейн. – Сэр, граф упорно оказывает знаки внимания леди Бошан, хотя и она сама, и лорд Бошан ясно дали понять, что они нежелательны. Мой брат весьма рассержен, и леди Бошан пожаловалась мне. Генрих печально взглянул на Суррея: – Увы, глупый и гордый мальчик, о чем вы только думаете? Если леди говорит «нет», это означает «нет». – Сэр, по своему опыту могу сказать, что «нет» часто означает «да» или «может быть», – возразил Суррей. – Я не думал, что ей будет неприятно иметь графа к своим услугам. – Клянусь Богом, приятель, ее муж будет в ярости! – не выдержал Генрих. – Вы больше не приблизитесь к ней. – Да, ваша милость, – пробормотал Суррей, сердито глядя на Джейн. Когда он ушел, король покачал головой: – У этого мальчика талант наживать себе врагов! Когда-нибудь он доиграется. Нан была рада слышать, что сам король приказал Суррею держаться от нее подальше, но вскоре она опять выражала возмущение, потому что отвергнутый ухажер сам отказался от нее в самых нелестных выражениях, написав стихотворение, которое распространил среди придворных, и теперь все смеялись над ней. Генрих рассердился, но было поздно. Вражда разгорелась. – Когда-нибудь я отплачу за это Суррею, – сквозь зубы прорычал Эдвард. – Я ему отомщу!
Маргарет Дуглас и лорд Томас продолжали томиться в Тауэре. Джейн без конца просила Генриха освободить их, но он упорно отказывался, утверждая, что они еще не понесли достаточного наказания за свой проступок. Мир должен знать, что узурпация королевских привилегий – это серьезное преступление. – Но сколько еще вы продержите их в тюрьме? – спросила Джейн однажды, когда они допоздна засиделись после ужина, попивая вино у камина. – Сколько захочу! – отрезал Генрих, и она поняла, что давить на него не следует. – Разумеется. Но мне не хватает придворных дам. – Я знаю, – отозвался он, снова наполняя свой кубок, – и я подумал об этом. Не хотите ли взять к себе леди Рочфорд? После казни лорда Рочфорда у нее серьезные финансовые затруднения. Она обратилась за помощью к лорду Кромвелю. Услышав об этом, я велел лорду Уилтширу увеличить ей содержание. Он не сильно обрадовался, потому как терпеть ее не может, и сказал, что сделает это исключительно для моего удовольствия. – Но он ее свекор. – Да, и она подтвердила инцест между его сыном и дочерью. Губы Генриха брезгливо изогнулись. – Она всегда недолюбливала королеву Анну. – У нее были на то веские причины! И она любит леди Марию. Она знает, как вести себя при дворе, и, я полагаю, заслуживает некоторого признания за сыгранную ею роль в раскрытии этих гнусных измен. – Тогда я с радостью приму ее к своему двору.
Леди Рочфорд прибыла из Кента за неделю до Рождества, закутанная в меха. Было холодно. Она выразила благодарность за назначение и принялась оказывать разные услуги, демонстрируя должное почтение к королеве. Однако Джейн находила нечто отталкивающее в ее кошачьем лице с заостренным подбородком, пухлыми губами и вечно недовольным выражением. Когда придворные дамы обменивались последними сплетнями и рассказывали друг другу пикантные истории, леди Рочфорд проявляла живой интерес к скабрезным подробностям. Джейн считала это неприличным. Конечно, леди Рочфорд заслуживала сочувствия, ведь она столько пережила, и все же Джейн не могла удержаться от мысли, что лорд Рочфорд, каким бы порочным он ни был, имел причины для измен жене. Если бы она нашла удобный предлог, то без колебаний избавилась бы от этой особы, но пока приходилось мириться с ее неприятным обществом.
Мария и Елизавета приехали к ним в Уайтхолл. На приглашении ко двору младшей сводной сестры особенно настаивала старшая. Планировалось, что обе отправятся с Генрихом и Джейн в Гринвич, где проведут Рождество. Однако зима выдалась суровая, дороги покрылись льдом и стали опасными. Темза в Лондоне замерзла. За три дня до праздника все тепло оделись в меха, сели на лошадей – Елизавета, визжавшая от восторга, была на руках у отца – и поехали из Вестминстера в Сити. Джейн нервничала – вдруг ее кобыла поскользнется на льду, – но все же испытывала восторг: они оказались на широком просторе между двумя берегами реки, холодный ветер хлестал ее по щекам, а с обеих сторон поглазеть на них собрались толпы людей. – Счастливого Рождества! – снова и снова кричал с седла Генрих, а Елизавета, по-детски лепеча, повторяла его слова и махала горожанам. Лондонский Сити был украшен в их честь гобеленами и парчовыми полотнищами, свисавшими из окон, на многих дверях висели венки из остролиста. На углу каждой улицы королевскую семью встречали благословениями священники в дорогих ризах, сотни людей, невзирая на холод, отважились выйти из домов и радостно кричали, видя короля с женой и дочерьми на пути к собору Святого Павла. Они ехали на службу, которой отмечалось начало празднования Юлетид. Джейн была тронута, слыша, как часто повторяется в толпе ее имя и имя Марии.
По окончании мессы Генрих с семейством вышел на улицу под громогласные овации, все снова сели на лошадей, пришпорили их и поскакали обратно через замерзшую реку на Суррейский берег. Мария замыкала группу, к вящей радости толпы. Вскоре они уже приближались к дворцу Гринвич, где Джейн предстояло впервые возглавлять двенадцатидневные рождественские торжества. Теперь ей стало легче исполнять обязанности королевы, день ото дня она становилась увереннее и больше не переживала так сильно по поводу того, что думают о ней люди. Джейн твердо выучила урок: она королева и все люди обязаны оказывать ей почтение, что бы при этом ни было у них на уме.
Мастер Аск ожидал их в Гринвиче. Генрих дал ему аудиенцию в первый же вечер в присутствии Джейн. – Добро пожаловать, мой добрый Аск, – сказал король, когда гость встал перед ним на колени, явно ошеломленный тем, что находится в присутствии своего соверена. Аск очень почтительно поклонился Джейн, а когда она протянула ему руку для поцелуя, улыбнулся: – Кажется, мы с вами троюродные брат и сестра, ваша милость, через Клиффордов. Говорил он с сильным йоркширским акцентом, а одет был в добротный черный костюм, как подобает законнику и человеку благочестивому. – Тогда добро пожаловать, кузен, – улыбнулась ему Джейн. Генрих милостиво склонил голову: – Я выразил желание, чтобы здесь, перед моим Советом, вы попросили о том, чего желаете, и я дарую вам это. Аск выглядел смущенным. – Сэр, ваше величество позволяет тирану по имени Кромвель руководить собой. Все это знают; если бы не он, семь тысяч бедных монахов и священников, которые примкнули ко мне, не превратились бы в нищих бродяг. – Лорд Кромвель должен за многое ответить, – кивнул Генрих. Джейн изумилась, услышав это. Неужели Кромвеля принесут в жертву ради умиротворения восставших? – Скажите мне, чего вы хотите? – спросил Генрих. – Боюсь, меня неправильно информировали о происходящем в моем королевстве. Ответ у Аска был заготовлен. – Сэр, мы просим восстановить монастыри. Мы хотим, чтобы были наказаны епископы-еретики и злонамеренные советники, преданы суду некоторые исполнители и объявлены недействительными законы, которые противоречат Слову Божьему. Мы также просим, чтобы парламент при обсуждении этих вопросов заседал в Йорке. Джейн слушала его со все возрастающим волнением. Генрих в любой момент мог взорваться от гнева. Те, кто ставил под сомнение его законы, вступали на очень опасную почву: ей это было известно по собственному горькому опыту. Она задержала дыхание. – Все эти просьбы я выполню, – сказал Генрих. – Все будет возмещено тем, с кем поступили несправедливо, и после Рождества вы благополучно отправитесь домой. А пока в знак моей доброй воли я бы хотел преподнести вам подарок, соответствующий времени года. «Какая добрая воля?» – удивилась про себя Джейн. Это был один из тех случаев, когда она ощущала неприязнь к супругу. Аск выпучил глаза, когда Генрих передал ему куртку из алого шелка. – Не знаю, как и благодарить вашу милость, – сказал он. – По-моему, вы человек добрый и искренний. Я пошлю приказ своим людям, чтобы они расходились, и сообщу им, что сам король на нашей стороне. – Я сдержу свое слово, – пообещал Генрих. Джейн принуждала себя улыбаться, но за уходом Аска следила с тяжелым чувством. Она понимала: этот честный, набожный человек скоро узнает, как жестоко его обманули и предали.
В день Святого Стефана вестник попросил ее прийти в кабинет короля. Облаченная в бархатное платье и мягкие туфли, готовая к предстоящим торжествам, Джейн тут же явилась к супругу и застала его стоящим у окна с видом на Темзу; стены вокруг оконного проема украшали фрески со сценами из Жития Иоанна Крестителя. Лицо короля было мрачным, голос тихим. – Дорогая, сядьте. У меня плохие новости. Ваш отец отправился к Господу. Он умер в Вулфхолле пять дней назад. Умер. Ее отец, который был ей дорог, несмотря на все скандальные происшествия, связанные с ним. Но это осталось в далеком прошлом, и сейчас Джейн думала только о том, что он покинул ее навсегда. Она беспомощно плакала, уткнувшись в дорогой дублет Генриха, и содрогалась от первых ужасных спазмов горя. А потом, подумав, какой одинокой и несчастной, наверное, чувствует себя мать, разрыдалась еще сильнее. Генрих послал за ее братьями. По их лицам Джейн догадалась, что те уже все знают. Они попросили разрешения на отъезд: Эдвард – чтобы вступить во владение имениями, переходившими ему по наследству, и организовать похороны; Томас – в надежде отвоевать, что возможно, у старшего брата, а Гарри – утешить и поддержать мать. Генрих охотно дал им позволение. – Я тоже должна поехать, – сказала Джейн. – Побуду немного с матерью. – Нет! – отрезал Эдвард. – Вы теперь королева. У матери сейчас хватает забот и без того, чтобы соблюдать церемонии. – Но я приеду как частное лицо, – запротестовала Джейн. – Подождите, пока не наступит Новый год и погода не улучшится, – посоветовал Генрих. – После похорон ваша матушка будет нуждаться в утешении. А вы нужны здесь, при дворе. – Конечно, – отозвалась Джейн, беря себя в руки. – Где его похоронят? – В церкви Бедвин-Магны, – ответил Эдвард. – Он хотел покоиться в приорате Истон, но его распустили, потому что он лежал в руинах. Благодаря доброте его милости я только что купил землю и строения. Джейн онемела. Глаза вновь наполнились слезами. Да, из-за этого ужасного роспуска монастырей ее отец не может быть похоронен в том месте, которое сам выбрал. Она утерла глаза. – Надеюсь, вы простите меня, сэр, если я сегодня не буду принимать участия в празднествах. Я помолюсь за душу отца. А вы, мои братья, с Божьей помощью поскорее отправляйтесь в путь. Передайте матушке мою горячую любовь и соболезнования. Придворный траур не объявили. Сэр Джон никогда не был особенно заметной фигурой, и немногие знали о его кончине. Джейн провела день в скорбном уединении, после чего надела на лицо улыбку и постаралась хорошо исполнять свою роль хозяйки торжеств, подавляя глубокую печаль. Однако всеобщее веселье было насмешкой над ее чувствами, и она ощущала вину за то, что включилась в него. Генрих же сказал, что это отвлечет ее от переживаний по поводу утраты и, кроме того, она королева, а не только осиротевшая дочь. Поэтому Джейн даже не отдала отцу должных почестей ношением траурной одежды.
Глава 32
1537 годС наступлением нового, 1537 года мастер Аск отправился домой, убежденный, что соверен на его стороне, а Эдвард и Томас вернулись ко двору, оставив Гарри в Вулфхолле управлять поместьем. «Мать держалась стойко, – сказали они Джейн, – и похороны были хорошо организованы». Эдвард отдал распоряжение, чтобы в память об отце воздвигли красивый памятник. Очевидно, скандал, спровоцированный сэром Джоном, был похоронен вместе с ним. Генрих отправил Томаса во флот, сказав, что это ему подойдет и направит его способности в нужное русло, а Брайан хотел оставить место новоиспеченного флотоводца при дворе вакантным, пока тот отсутствует. Томас ликовал. Ничто не могло вызвать у него большей радости, чем грядущая возможность испытать приключения в открытом море. Он расхаживал по двору важный, как бентамский петух, похваляясь перед каждым, кто готов был его слушать, своим высоким назначением. Монастыри продолжали закрывать, налоги оставались тяжелыми, и больше никто не заикался о переносе заседаний парламента в Йорк или о коронации там Джейн. Еще немного – и мастер Аск поймет, что никаких изменений не произошло, Генрих не собирается исполнять своих обещаний, и мятежники осознают, что их обманули. В феврале Джейн без всякого удивления выслушала новость о том, что они вновь собирают силы. – Больше никаких нежных слов! – громогласно заявил Генрих. – Норфолк поедет на север, и на этот раз я пошлю с ним огромную армию, чтобы преподать этим изменникам урок, которого они не забудут. Их так проучат, что они больше не осмелятся подвергать сомнению волю своего короля! Ужинать он пришел, кипя от гнева, и не только из-за мятежников. – Вы, наверное, слышали о моем кузене Реджинальде Поуле. – Имя он буквально выплюнул из себя, будто это был словесный яд. – Сын леди Солсбери. В прошлом году он написал язвительный, обидный и предательский трактат против меня – после всего, что я сделал для его продвижения! Оттого и уехал в изгнание в Италию. Сегодня я получил два донесения из Рима. Этот проходимец-папа наградил его кардинальской шапкой! И поручил ему готовить выступление против меня, пока я занят борьбой с мятежниками! Очевидно, все принцы христианского мира с воодушевлением объединяются, чтобы противостоять мне! И даже мой родственник согласился в этом участвовать! Подумать только! Это худшая из измен! – Глаза его сверкали ненавистью. – Я вызвал Реджинальда в Англию под предлогом, что хочу получить от него объяснения некоторых трудных мест в его трактате; но мне ясно, он не приедет. – Наверное, он догадывается, что его ждет, – заметила Джейн. – Да, но здесь его семья, – сказал Генрих, и у Джейн перехватило дыхание. – Они все старой королевской крови. Леди Солсбери считает, что она знатнее меня, ведь ее отец был братом короля Эдуарда Четвертого и самозванца Ричарда Третьего. Тот тоже был предателем! Честное слово, Джейн, все семейство заражено изменой. Я убежден, истинная цель этих новых нападок – сместить меня и посадить на трон леди Солсбери или одного из ее сыновей. До Реджинальда мне не добраться, но остальные-то здесь, и, клянусь всем святым, я заставлю их страдать! Редко Джейн видела мужа в таком остервенении, и тем не менее она различила страх за этим ураганом ярости. Он боялся своих родственников Плантагенетов, Поулов и Эксетеров. На дальнем плане сознания у него всегда теплилось подозрение, что они устроят заговор для свержения его с трона; и обида на них тоже была, потому что Генрих не сомневался: они считают себя более достойными короны, чем он, и на Тюдоров смотрят свысока как на династию слишком молодую и имеющую слабые основания для притязаний на престол. – Кромвель уже пишет леди Солсбери об измене ее сына, – сказал Генрих. – Посмотрим, что она на это ответит. – Он отпихнул от себя тарелку и бросил на стол салфетку. – Простите, Джейн, но я сегодня не могу есть.
Три дня спустя король продолжал пребывать в скверном настроении. – Леди Солсбери написала мне. Она ужасается тому, что сделал Реджинальд, и говорит, что он ей больше не сын. Однако Кромвель настороже, он опасается, как бы из страха она и ее сыновья не объединились с Эксетерами против меня. Отныне и впредь они будут находиться под наблюдением. – Он мрачно улыбнулся Джейн. Она испугалась: уж не задумал ли Генрих убить их всех? Он не сможет жить спокойно, пока не сведет их всех в могилу. – Пришло известие с севера, – продолжил король, накладывая себе на тарелку еды; по крайней мере, аппетит к нему вернулся, хотя он и продолжал вести себя как поднятый из берлоги медведь. – Там объявлено военное положение, и Норфолк с Саффолком разбираются с мятежниками, как они того заслуживают. – (Джейн могла легко представить, что это означает.) – Уилтшир пришел на помощь. Он не делает секрета из своего желания вернуть мое расположение. Само собой, человек, осудивший на смерть собственных сына и дочь, не засомневается, искать ли ему милости короля, подписавшего приговор. Казалось, Уилтшир готов на все, лишь бы сохранить положение при дворе. Пока он потерял только должность лорда-хранителя личной печати, которую теперь занимал Кромвель. Джейн про себя удивлялась: как только Уилтширу удается засыпать по ночам? Но его амбициозность была всем известна, так же как и тот факт, что этот человек всегда действовал исключительно и только в своих интересах.
Джейн планировала поехать в Вулфхолл в феврале, но Генрих не хотел отпускать ее одну в такое неспокойное время, и она отчасти порадовалась, услышав его отказ. Королева чувствовала себя неизмеримо усталой и относила это на счет переживаний из-за смерти отца. Написала матери и объяснила ситуацию. Та прислала в ответ свои благословения и сообщила, что сама она здорова и Гарри хорошо справляется с имением в отсутствие Эдварда. Джейн нужно было набраться сил, прежде чем задумываться о посещении Вулфхолла. Она отправила еще одно послание Лиззи, но не получила ответа. Тревога ее усиливалась. Господи, лишь бы ее сестре ничто не угрожало!
Норфолк разбил мятежников и повесил всех изменников, до которых смог добраться. Север королевства превратился в лес из виселиц. А в Лондоне радостно звонили колокола, и в церквях возносились благодарственные молитвы. Генрих тоже торжествовал: – Больше двухсот человек казнены. Их тела оставлены гнить на виселицах в качестве предупреждения для всех, кто посмеет замыслить мятеж в будущем. – А что с лордом Дарси? – спросила Джейн. – Его захватили и везут на юг, в Тауэр. Аск и Констебл скрываются, но их разыщут, не беспокойтесь! Стоявший рядом Кромвель был доволен, как поймавший мышь кот. – Эта победа усилила трон. Его милость теперь более могуществен, чем когда-либо прежде, и уважение к нему в христианском мире тоже возрастет. – Я рада слышать это, – сказала Джейн. – Но я боюсь за свою сестру, леди Утред. Кромвель улыбнулся: – Вас порадует новость, что я получил от нее весточку, мадам. Она в Йорке и в безопасности, хотя, как я понимаю, юный Дарси все еще доискивается ее руки. Генрих хмыкнул и нахмурился. – Она не получала моих писем, в которых я передавала ей желание короля, – сказала Джейн. – Не стоит беспокоиться, ваша милость. Сэр Артур Дарси не участвовал в мятеже. – Какое для меня облегчение слышать это! – Джейн повернулась к Генриху. – Вот теперь, сэр, я могу со спокойным сердцем радоваться вашей великой победе! Могла быть и еще одна причина для радости, но Джейн пока не была уверена. Еще рано.
В тот вечер Генрих пришел в спальню к Джейн и овладел ею с особенным пылом. – Я чувствую себя новым человеком, – сказал он, утолив желание и держа ее в объятиях. – Вы знаете, дорогая, если я извлек какой-то урок для себя из этого восстания, то вот он: наверное, я слишком далеко зашел в своих реформах. В прошлом году я представил на утверждение собору духовенства и парламенту десять положений доктрины моей Церкви. Мне казалось, что в них заключен некий средний путь между традиционной религией и более радикальными устремлениями реформаторов. Но теперь я понимаю: надо больше склоняться в сторону традиционного, чтобы не вызывать мятежей в будущем. Об этом и просили восставшие! Джейн задержала дыхание. Генрих намотал на палец локон ее волос: – Я попросил Кранмера написать книгу с изложением доктрин Церкви Англии. Она будет называться «Учреждение христианского человека» и возвестит о возвращении к более традиционным постулатам веры. Это были хорошие новости. – Реформаторы не обрадуются, – заметила Джейн. – Им придется смириться. Мы только что увидели, куда нас могут завести реформы. Мои нововведения должны быть правильными, нужными Церкви. Джейн вдохнула: – А монастыри? – Рассадники папства и греха! Нет, Джейн, этот закон останется в силе.
Середина марта принесла первый теплый день в году, и вместе с наступлением настоящей весны Джейн ощутила торжествующую уверенность в том, что ее надежды оправдываются. – Я снова жду ребенка, – сказала она Генриху, когда тот лег с ней в постель в намерении предаться любви. Он тут же отстранился от нее: – Вы уверены? – У меня уже два месяца нет кровей. Сомнений не осталось. Я все время была усталой, и грудь у меня стала чувствительной, но я очень счастлива. Генрих нежно обнял ее: – Дорогая, я молился об этом! Может быть, Небеса наконец улыбнутся мне. Сын увенчает мою победу. Он будет воистину посланный Богом. – Поцелуй короля был полон радости. – На этот раз мы должны проявлять величайшую осторожность. Джейн перебрала в уме все плохое, что может случиться. Вдруг она снова не выносит ребенка или родит мертвого, как Анна? Ей никогда не забыть страданий прежней королевы. А еще придется вынести родовые муки. Или родится девочка? Ее охватил страх. – Что с вами, дорогая? – пробормотал Генрих, продолжая прижимать жену к себе. – Я просто забеспокоилась, вдруг мы снова разочаруемся. – Вы не должны волноваться. Отдыхайте и сохраняйте спокойствие. Когда пройдет опасный период, мы сообщим всем радостную новость. И тогда вас коронуют!
Норфолк и Саффолк вернулись ко двору в ореоле славы, король тепло принял их. Норфолк снова был в чести, и между Говардами и Сеймурами пролегла линия фронта – старая гвардия против новой. Эдварда продолжала точить изнутри обида на Суррея, а тот всячески старался провоцировать брата королевы. Норфолк, разумеется, встал на сторону своего сына. – Во всем виноват Суррей! – сказал Эдвард, сидя рядом с Джейн в ее личном саду. – От него одни проблемы. Граф никак не может смириться с тем фактом, что мы, Сеймуры, теперь занимаем более высокое положение, чем он, и страшно ревнует. – Скоро у него появится новая причина для этого, – отозвалась Джейн. – Я беременна. – Джейн! Это превосходная новость! – Эдвард лучисто заулыбался. – Когда? – В октябре, я думаю. – Король Сеймур на троне – подумать только! Суррей и его приятели позеленеют от зависти. Ни одному из Говардов нечего противопоставить этому. Ах, как мне не терпится увидеть его лицо, когда он узнает. – Будьте терпеливы. Об этом объявят через некоторое время. И вообще никакой уверенности не было в этом деле с наследниками. – Тогда я никому не скажу. Надеюсь, ты чувствуешь себя хорошо? – Отлично. Королевские врачи уверяют меня, что все идет как положено. Доктор Баттс и доктор Чеймберс задали ей множество вопросов, после чего удалились, мудро покачивая головами. – Хорошо! Я буду молиться о благополучном исходе. На свои мольбы я тоже получил ответ. Нан ждет ребенка и должна родить примерно в одно время с тобой. Вы можете поддерживать друг друга! Джейн тепло и с искренней радостью поздравила его. Но если Эдвард предполагал, что она собирается вступить с Нан в доверительные отношения двух будущих мам и предаваться с ней милым беседам, то сильно ошибался. Они стали бы ссориться по поводу каждой мелочи, относящейся к процессу вынашивания и взращивания ребенка. Нан всегда нужно настоять на своем, и Джейн не собиралась мириться с этим. Однако Эдварда заботило нечто более серьезное. – Джейн, это соперничество с Сурреем. Оно не только из-за Нан. Я за реформы, а Говарды – убежденные католики и числят себя защитниками старой веры, к тому же стремятся главенствовать при дворе. Разумеется, они этого не добьются, но попыток не прекратят. Будь осторожна. – На меня они не могут пожаловаться. Я тоже за старую веру. – Ты из семьи Сеймур, сестрица. Одного этого достаточно.
Стояла теплая погода, но Генрих не мог наслаждаться ею. Проблема с ногой снова обострилась, теперь воспаление перекинулось на вторую голень. Он ходил, хромая, с бинтами под гольфами и очень жалел себя. – В следующем месяце я собирался поехать на север, чтобы привести в благоговейный страх и трепет тех, кто посмел восставать против меня, – сказал он Джейн, когда они вместе наблюдали за партией в теннис: Суррей разносил сэра Томаса Уайетта. – Но буду честен с вами: из-за ног врачи посоветовали мне не ездить далеко в жару. – Мне очень жаль вас, Генрих, – тихо проговорила она. – Сильно болит? – Очень, – признался король. Лучше не становилось. На следующий день король остался в своих покоях. Джейн сидела с ним и с тревогой смотрела, как врачи пробуют одно за другим разные лечебные средства и ставят припарки, которые Генрих изобрел сам. Процедуры он переносил плохо, даже покрикивал на врачей, когда ему становилось больно. – Почему бы не попробовать травяные ванны? – предложила Джейн. – Говорят, они бывают очень эффективными. Генрих прислушался к ее совету, но пользы это не принесло. Неспособность заниматься делами и боль подавляли его и делали раздражительным. Как король он не мог допустить, чтобы его считали потерявшим хватку, и Джейн понимала, как тяготит его, мужчину, который всегда вел очень активную жизнь, эта беспомощность. К тому же Генрих был брезглив и находил свое состояние отвратительным и унижающим достоинство. Совсем отчаявшись, Джейн позвала королевского шута Уилла Сомерса, не без оснований полагая, что если кто-то и может поднять настроение ее супругу, то это он. Сомерс был добряком, ненавязчиво и постоянно присутствовал в жизни своего господина, и только ему было позволено откровенно говорить с королем. Иногда Джейн казалось, что шут – единственный настоящий друг Генриха. Все чего-то домогались от короля. Сомерс был не такой. – Ну что, Гэл, как ты? – войдя, бодро сказал шут, одетый в потрепанную коричневую накидку; в руках он вертел свой жезл – палку, обвешанную бубенчиками. – Какая-нибудь старуха поколотила тебя, а? Или это был трусливый француз? Джейн не сдержала улыбки. – Убирайся! – прорычал Генрих. – Но мне здесь нравится! – возразил шут, садясь на корточки у камина, чтобы погреть руки. – Да ладно тебе, Гэл! То, что можно поправить, нужно сносить стойко. И королева тут у тебя такая миленькая. Что же ты не улыбнешься ей? У нее много забот, пока ты здесь валяешься. Все эти суетливые придворные и этот ее вечно унылый братец. Малоприятная компания, когда привыкнешь к такому красавцу, который к тому же сидит на троне. Как там его зовут? А то люди начинают забывать… – Ну ладно, ладно, – сдался Генрих. – Ты добился своего, дурак. Но валяться тут, как ты выразился, с двумя больными ногами и правда паршиво, когда за окном так ярко светит солнце. – Могло быть и хуже, Гэл. Представь, что у тебя три больные ноги или четыре. Джейн не прерывала их, подавляя улыбку. Может быть, Уиллу удастся ободрить короля, применив свою обычную магию. Но сегодня ему придется нелегко.
На следующий день Джейн сидела и шила в покоях Генриха, когда вошел вестник и объявил о прибытии французского купца. – О нет! – простонал король. – Не сейчас. Но я же сам согласился принять его и, полагаю, должен сделать это. – Ты можешь купить мне накидку! – крикнул Уилл. Генрих дал ему затрещину, шут ускакал и спрятался за креслом. Купец вошел, раболепно раскланялся и выложил перед королем свои товары. Генрих обвел мрачным взглядом скроенные по последней моде бархатные береты, кружевные оборки, узорчатую кайму, вышитые перчатки и другие изысканные и роскошные парижские новинки. – Я слишком стар, чтобы носить такое, – буркнул он. – Но это очень красиво, – сказала Джейн, примеряя пару перчаток. – Ну ладно, отложите их. – Генрих посмотрел на другие вещи. – Хм. Вот этот воротник хорош. Я возьму его. И вот эту шляпу. И еще меха и рулон вот того полотна. Купец поклонился и сложил выбранные товары отдельно от других, после чего сказал: – У меня есть кое-что особенное для вашей милости. – Он положил перед Генрихом полированное серебряное зеркало, украшенное ангелочками. – И это тоже, – распорядился Генрих. Джейн подозревала, что ему становится лучше. Он никогда не упускал случая украсить себя и обожал, когда все мужчины при дворе бросались копировать его нововведения в одежде. Не прошло и трех дней, как король был снова на ногах, его дурное настроение улетучилось. – Надеюсь, вы в добром здравии, дорогая, – сказал он, когда Джейн пришла его проведать. – Лучше не бывало, – ответила она. – Хорошо! Потому что мы отправляемся в паломничество в Кентербери, к гробнице Святого Фомы[72]. Услышав это, Джейн изумилась: – Но ведь поклонение у гробниц запрещено? – Отныне нет. И нам необходимо заступничество святого благоверного мученика. – У меня потеплело на сердце от этой новости, – выдохнула Джейн. – Но мне нельзя ехать верхом. – Вы поедете в носилках, устроитесь на подушках. Нам с вами обоим эта поездка пойдет на пользу.
Они миновали Рочестер и Ситтингборн и уже въезжали в Кентербери. Джейн махала рукой из носилок любопытным горожанам, выстроившимся вдоль улиц, чтобы поглазеть на них. Вскоре они с Генрихом уже входили в величественный собор и вместе опускались на колени перед позолоченной и украшенной драгоценными камнями гробницей, одной из самых почитаемых в христианском мире. Склонив голову, Джейн упрашивала святого Фому заступиться за нее перед Господом: пусть ее ребенок родится живым и здоровым. Она была абсолютно уверена, что Генрих возносит к небесам ту же мольбу. Из Кентербери они поехали в Дувр, где король осмотрел новый причал, после чего неспешно отправились назад. Путешествие закончилось в Хэмптон-Корте. Джейн любовалась обновленной Королевской капеллой с хрустальными окнами и прекрасными голубыми с позолотой веерными сводами, с которых спускались раскрывающиеся бутоны, а на арках сидели трубящие в трубы купидоны и был выведен девиз Генриха: «Dieu et mon Droit»[73]. Джейн заметила, что витраж с изображением святой Анны, покровительницы ее предшественницы, разобран. Скамья для короля и королевы, как и прежде, находилась на галерее над главным залом капеллы, с нее было отлично видно все внутреннее пространство церкви с полом, вымощенным плиткой в черную клетку. Гербы короля и королевы вырезали на каменных плитах по обе стороны от дверей. Все сияло великолепием. Джейн никогда еще ничего подобного не видела. – И как своевременно все закончили, – улыбнулся Генрих. – Скоро здесь будут крестить нашего сына. Однако вершиной славы Хэмптон-Корта был новый королевский Главный зал – огромный, с держащимся на балках сводом, мощеным полом и красивой галереей для музыкантов за дубовой перегородкой. Стены со свойственными Генриху расточительностью и вкусом к приятному были увешаны гобеленами. На них изображались сцены из жизни праотца Авраама, и стоило это королю целого состояния. Апартаменты королевы начали обустраивать заново для Анны, но ей не довелось пожить в них, они так и стояли незаконченными до самой ее смерти. Джейн не нравился вкус предшественницы, поэтому Генрих распорядился, чтобы комнаты для новой супруги оформили в старинном стиле: стены отделали резными деревянными панелями, потолок украсили позолотой и зеркалами. Спальни короля и королевы соединялись личной галереей, по лестнице можно было спуститься в заново разбитый сад, который Джейн осмотрела с большим удовольствием. Должен был появиться еще и балкон, с которого она и ее дамы могли бы наблюдать за охотой в парке. Однако рабочие еще не закончили его. На самом деле Хэмптон-Корт пока напоминал огромную строительную площадку, и Джейн разместили на втором этаже в дышавших обветшалым величием комнатах королевы Екатерины с видом на внутренний двор. В спальне Джейн стояла роскошная кровать, помещенная в круглую нишу, расписанную ее гербами и задрапированную шторами, которые долгими зимними вечерами она сама украшала вышивкой в ожидании момента, когда работы во дворце будут завершены. Но теперь стало понятно, что до рождения ребенка этого не случится. Джейн взяла с собой Нан – посмотреть на ее новое жилище. Но та, по своему обыкновению, все испортила. Подобрав юбки, она перешагивала через доски и ведра с краской, оглядывалась, а потом понимающе улыбнулась Джейн и сказала: – Впечатляет. Но не кажется ли вам, что это великолепие граничит с вульгарностью? – И в ее зеленых глазах мелькнули бесовские искры. – По-моему, это очень красивые апартаменты, – спокойно ответила Джейн. – Ну, после Вулфхолла вам должно так казаться, – съязвила Нан, продолжая улыбаться. – Вулфхолл – это милый старый дом, – возразила Джейн, раздражаясь. Она знала, что едкие замечания Нан еще долго будут крутиться у нее в голове. – Да, но не совсем дворец. – Нет, он на это никогда не претендовал, а вы, судя по только что сказанному, вообще не любите дворцы. Слишком вульгарно. – Она улыбнулась и, не успела Нан возразить, продолжила: – А теперь я была бы вам очень признательна, если бы вы оставили меня и дали мне немного отдохнуть. Нан не смела перечить ей: Джейн была королевой. Слегка покраснев, она сделала подчеркнуто глубокий реверанс и удалилась.
Ближе к концу марта Джейн приняла смотрителя госпиталя Святой Екатерины у Тауэрского моста. – Ваша милость, – обратился он к ней, вставая на колени. – Госпиталь Святой Екатерины был основан в двенадцатом столетии королевой Матильдой Булонской, женой короля Стефана, и все это время служил церковью и богадельней благодаря покровительству королев Англии. Мы просим, чтобы вы продолжили эту благородную традицию. – Охотно, – улыбнулась Джейн и кивнула ему, чтобы он поднялся. – И я с удовольствием позабочусь о сокращении ежегодных налогов для госпиталя. Краем глаза она видела ожидавшего приема лорда Кромвеля. – Ваша милость! – воскликнул смотритель и раскраснелся от благодарности. – Вы так добры! Она протянула ему руку для поцелуя, и он удалился, напоследок еще раз приподняв с головы берет. Его место занял Кромвель. – Мадам, я получил письмо от леди Утред из Йорка, – радостно сообщил он. – Это прекрасная новость! С ней все хорошо? – Да, мадам. По велению короля я написал ей и предложил помощь, если она в чем-то нуждается. В ответ она попросила меня уговорить его милость, чтобы тот даровал ей одно из упраздняемых аббатств. – (Джейн показалось или в улыбке Кромвеля сквозило злорадство? Какой стыд – ее родная сестра ищет себе выгоды от разорения монастырей!) – Очевидно, она надеется стать фермершей, – добавил Кромвель. – Ей нужно как-то поправить свои дела, милорд. Кромвель откашлялся. Улыбка исчезла. – Есть и другой способ сделать это. У меня есть сын Грегори, многообещающий молодой человек, смею сказать, и хорошо обеспеченный. Ваш брат, лорд Бошан, полагает, что вы можете одобрить брак между ним и леди Утред. Как же амбициозны мужчины! Настанет ли этому конец? Теперь ему захотелось еще сильнее сблизиться с королем посредством брака. Тем не менее, если учесть, как ловко Кромвель строил козни для свержения Анны Болейн, эти родственные узы могут послужить Джейн хорошей защитой в случае, если она не родит королю сына. Очень полезно заручиться дружбой такого могущественного человека, как Кромвель. Более того, как замечательно будет иметь рядом Лиззи, а также племянника и племянницу, которых Джейн никогда не видела. Малышка Марджери может стать подружкой ее собственного ребенка… – Конечно, это так, милорд, – ответила Джейн, – но я слышала, что моя сестра поощряла ухаживания сэра Артура Дарси. Кромвель изобразил, что до боли огорчен: – Это весьма неподходящий союз, учитывая, что его отец находится в Тауэре как предатель и вскоре может лишиться головы. Кроме того, мне известно из надежных источников, что сэр Артур не особенно ревностный ее поклонник, это мягко говоря. «Есть ли в стране хоть одно место, не охваченное разветвленной шпионской сетью этого господина?» – подумала Джейн, а вслух сказала: – Я напишу сестре. Если она выразит охоту к замужеству и король согласится, я тоже благословлю этот брак.
На следующий день Генрих устроил для Джейн поездку по реке в Уайтхолл с целью посмотреть фрески Гольбейна, к этому моменту уже законченные. Когда они вошли в приемный зал, Джейн невольно отшатнулась, такой ошеломляющий эффект произвела на нее живопись. Четыре величественные фигуры стояли в античном интерьере с классическими розетками, причудливыми колоннами и фризами, обманками и нишами в форме ракушек, но прежде всего внимание привлекала фигура Генриха. Он выглядел таким могучим и властным – ноги широко расставлены, руки на бедрах, во взгляде – стальная решимость, – что Джейн ощутила благоговейный страх. Это действительно было произведение искусства, и Генрих с большим удовольствием любовался им, похлопывая Гольбейна по спине. Художник воспринимал похвалы короля с обычным молчаливым почтением. – Таким я хочу выглядеть для своих подданных, – заявил Генрих, – не только королем, но и главой Церкви. – Все захотят иметь копии, – сказала Джейн. – Мы будем поощрять это как проявление лояльности и одобрения моих реформ.
Глава 33
1537 годК моменту, когда в апреле все расцвело, Джейн пропустила уже три месячных цикла, живот у нее слегка округлился. Судя по всему, беременность развивалась успешно, и Генрих сообщил радостную новость Тайному совету в Уайтхолле. После этого лорд-канцлер вышел в главный зал – Генрих и Джейн смотрели на это с помоста – и объявил собравшемуся двору: – Мы уповаем на Господа, чтобы королева, которая сейчас ждет ребенка, произвела на свет много здоровых детей к утешению и радости его величества короля и всего королевства. Загромыхали аплодисменты, полетели в воздух головные уборы; напирая друг на друга, люди устремились вперед, к помосту, чтобы принести поздравления. Генрих, получая добрые пожелания, ликовал и являл собой воплощение королевской власти и мужественности, а Джейн сидела рядом вся красная и кивала головой, выражая признательность. Во все концы королевства разослали герольдов для оглашения новости. – Повсюду торжество и веселье, – радостно сообщил Эдвард, когда несколько дней спустя пришел навестить Джейн. – Король стал другим человеком, – сказала она ему. – Он воспрял и телом, и духом. Ему гораздо лучше. – И все потому, что у тебя будет ребенок, моя премудрая сестрица! Добрые известия скоро перебрались за море. Из Кале леди Лайл, жена коменданта, приходившаяся кузиной королю, прислала две крошечные рубашечки с чепчиками, которые она собственноручно расшила золотой нитью, – миниатюрные копии ночных сорочек, введенных в моду среди дам самой Джейн. Кроме того, леди Лайл просила, чтобы одну из ее дочерей приняли на службу к королеве. «Пусть Господь сподобит Вас благополучно родить принца, – писала она, – к радости всех верных подданных». Генрих суетился вокруг Джейн, следил, чтобы она не перетруждалась, много гуляла на свежем воздухе и хорошо питалась – ей подавали самые изысканные деликатесы. Чтобы порадовать супругу, он назначил Эдварда личным советником и даровал ему обширные земли, а когда Томас вернулся из первого заморского вояжа, взял его джентльменом в свои личные покои. Гарри призвали обратно ко двору и посвятили в рыцари. Он привез с собой длинный список указаний от матери, что Джейн должна и чего не должна делать, пока носит ребенка. Гарри обещал вернуться в Вулфхолл к уборочной поре. «Дай Бог, – думала Джейн, – чтобы вскоре после этого настала пора для главного урожая». Она считала месяцы, оставшиеся до октября, когда должен появиться на свет ребенок. Теперь Джейн не была такой усталой и чувствовала себя хорошо, только все время испытывала голод, особенно ей хотелось перепелиного мяса, но, к сожалению, перепелок было мало. Генрих озаботился тем, чтобы заказать доставку птицы из Кале: он приказал лорду Лайлу, если там перепелок не найдется, поискать во Фландрии. Чего бы это ни стоило, но Джейн должна получить желаемое! И лорд Лайл не подвел. На последней неделе мая прибыл большой ящик с птицами, и Джейн с Генрихом уничтожили дюжину за обедом и вторую – за ужином. – Кажется, мне теперь долго не захочется смотреть на перепелок, – сказал Генрих, вытирая салфеткой руки и рот. – А мне захочется, – отозвалась Джейн. – Они были изумительно вкусные. Надеюсь, лорд Лайл пришлет нам еще. – Пришлет, – подтвердил Генрих. – Ведь его жена хочет, чтобы ее дочь оказалась в числе ваших слуг! – На таких условиях я, пожалуй, соглашусь принять ее! – со смехом ответила Джейн.
В начале июня из-за жаркой погоды в Лондоне второй год подряд вспыхнула эпидемия чумы. Джейн с тревогой слушала известия о страшных последствиях. Генрих, ни минуты не колеблясь, приказал двору перебираться в безопасный Виндзор. – Пришпорьте коней, прошу вас! – кричала Джейн из-под полотняной маски, сидя в носилках за кожаными шторами. – Я хочу скорее добраться до места. Не могу вынести мысль, что ребенок может пострадать. Генрих ехал рядом с ней и твердым голосом сказал: – Успокойтесь, дорогая. Паника не принесет пользы ни вам, ни ребенку. Мы не можем ехать быстрее. Я не хочу, чтобы вас слишком сильно трясло. Но Джейн не могла успокоиться. Она ужасно боялась чумы, тем более что в Лондоне, как говорили люди, страшная болезнь уносила жизни сотен людей каждую неделю. Затворившись в Виндзоре, королева изо дня в день уговаривалась с Господом, соблюдала все праздники в церковном календаре, постилась, чтобы освободиться от груза вины, которую несла, и молила Всевышнего спасти ее и ребенка от чумы. В конце концов Генрих и все прочие стали сильно волноваться за нее. Король был с ней строг и запретил предаваться столь суровой аскезе. – Больше никаких постов! – приказал он. – Это вредит ребенку. И успокойтесь, я запретил людям из города приближаться ко двору. И снова отложил коронацию, не только из-за эпидемии. Я думаю, сейчас не стоит подвергать вас такому испытанию – церемония слишком длинная и утомительная. Но я вам обещаю, дорогая: как только родится наш сын, вы будете коронованы.
На душе у Джейн стало легче, когда она получила письмо от Лиззи: сестра с готовностью откликнулась на предложение Кромвеля. Артур Дарси воспринял ситуацию с нелестной для него холодностью. «Он сказал, что с радостью женился бы на мне, но не сомневается: южный лорд быстро заставит меня позабыть северного», – с едкой горечью писала Лиззи. Она заканчивала свои дела в Йорке и готовилась к поездке в Лондон. Джейн огорчилась, прочитав, что малышку Марджери придется оставить дома. «Она слишком слабенькая, чтобы вынести долгое путешествие, – объясняла Лиззи, – и хотя мне очень неприятно расставаться с ней, монахини из приората Уилберфосс охотно возьмут ее на попечение, а я оставлю им все деньги, которые смогу выручить от продажи своих вещей. В этом монастыре всего одиннадцать сестер, но все они святые, о девочке будут хорошо заботиться. А потом, даст Бог, она окрепнет и я заберу ее к себе». Джейн едва не заплакала, прочитав это, к тому же она беспокоилась, не закроют ли Уилберфосс, но возможность такого брака появляется не каждый день, ведь благодаря ему Лиззи, Генри и Марджери будут жить в достатке до конца дней.
Шел пятый месяц беременности, и Джейн впервые ощутила, как внутри у нее зашевелилось дитя, будто бабочка замахала крыльями. В тот момент она сидела с Генрихом в парке и наблюдала, как фрейлины играют в мяч. – Ой! – воскликнула Джейн, вновь ощутив трепыхание внутри. – Генрих, пощупайте! – Она схватила его руку и положила на свой живот, туго обтянутый киртлом. – Ребенок? – удивленно проговорил король. – Да, погодите! Вот! – Слава Богу, да! Вы начали быстро прибавлять! – Король пришел в восторг. – Нужно немедленно объявить об этом! Когда объявление было сделано, дамы ослабили шнуровку на набрюшнике королевы, и округлившийся живот Джейн был явлен всему миру. В таком виде она проследовала по всему дворцу, чтобы отобедать с королем в его приемном зале. По пути придворные кланялись ей как матери наследника. На столе стояло блюдо с перепелками, на этот раз присланными леди Марией. В воскресенье, на Троицу, лондонцы отважились, несмотря на чуму, прийти на благодарственную мессу в собор Святого Павла, и по всему королевству в церквях пели «Te Deum». Новость о том, что королева начала быстро прибавлять, обрадовала людей, которые хорошо понимали, как важно для короля обрести наследника, и они благодарили Господа, что кровавый призрак династических распрей отступил. Горожане жгли костры на улицах и веселились. При дворе были и другие поводы для торжеств: в полдень состоялось бракосочетание Марджери Хорсман и сэра Майкла Листера, хранителя королевской сокровищницы. Король с королевой присутствовали, но по завершении церемонии по настоянию Генриха сразу ушли. – Вам нужно беречь себя, дорогая, – сказал он и самолично проводил супругу в ее спальню, чтобы она отдохнула. На самом деле по велению короля Джейн все лето отдыхала, не принимая участия в публичных делах. Она наслаждалась этим вынужденным покоем и мирным течением ежедневных дел. Считалось неприличным, чтобы доктора присутствовали при родах королевы или любой другой женщины, поэтому придворные врачи уступили место повитухе, очень опрятной женщине, имевшей прекрасные рекомендации. Она уже разместилась во дворце. Джейн утешала мысль, что в церквях по всей стране возносят молитвы о ее благополучном разрешении от бремени. Генрих пребывал в прекрасном расположении духа. Джейн никогда не видела его более счастливым. Он каждый день охотился в Большом парке Виндзора, и добытую им дичь подавали Джейн вместе с любимыми перепелками, которыми ее исправно снабжали лорд и леди Лайл. Однажды вечером она как раз брала себе добавку, и тут Генрих отложил нож и наклонился к ней. – Я знаю, вы считаете ошибкой мой приказ о закрытии мелких монастырей, – сказал он, – но, уверяю вас, я не намерен стирать с лица земли все аббатства и приораты. Ради того, чтобы порадовать вас и показать Господу, что я остаюсь верным сыном Церкви, я решил для спасения вашей души и своей восстановить приорат Стиксуолд в Линкольншире. Генрих не переставал удивлять ее. Какой же противоречивый он человек! Готовность короля пойти ради нее на такой шаг глубоко тронула Джейн. Может быть, произошел перелом, прилив сменился отливом, и в конце концов она выиграет. – Не могу выразить, как это меня радует, – сказала Джейн, взяла руку Генриха и поднесла ее к губам. – Господь вознаградит вас за это, я уверена. И я осмеливаюсь попросить вас еще об одном одолжении. Я слышала, что недавно вашей милости отошел приорат Бишем, и это огорчает меня, потому что в его церкви много почитаемых могил. Там лежат графы Солсбери и Уорик. Не согласитесь ли вы восстановить и этот монастырь ради меня? Генриху стало неуютно. Все знали, что его отец держал последнего графа Уорика узником в Тауэре с детских лет и причиной этого было то, что в мальчике текла кровь Плантагенетов, а это делало его опасным для династии Тюдоров. Невинного страдальца постигла смерть на эшафоте. Королева Екатерина иногда упоминала об Уорике – говорила, что брак с принцем Артуром был замешан на его крови: отец Екатерины ясно дал понять, что переговоры о брачном союзе не продвинутся дальше, пока не устранен Уорик. – Я сделаю больше, – сказал Генрих, – я восстановлю Бишем как аббатство. – Потомки возблагодарят вас так же горячо, как благодарю я, – сказала ему Джейн. Однако этой ночью ей приснилось большое аббатство, все в руинах. Это был Бишем, она знала, хотя никогда там не бывала. Джейн резко проснулась, встревоженная. Было ли это предвестием? Рядом лежал Генрих – он ровно дышал, и Джейн не хотелось его будить. Королева была рада, что супруг остался с ней в постели. Они не занимались любовью с того момента, как Генрих узнал о ее беременности, но он приходил ради компании, как говорил ей. Джейн было приятно услышать от герцогини Норфолк, что он не спал ни с Екатериной, ни с Анной, когда те были в положении, а потом леди Рочфорд все испортила, упомянув о том, как его милость находил утешение от вынужденного воздержания у других женщин. И все же Джейн не думала, что Генрих обманывает ее. Она наверняка догадалась бы, да и леди Рочфорд не отказала бы себе в удовольствии сообщить ей об измене короля.
На следующее утро за завтраком Джейн услышала голоса дам, доносившиеся из спальни. Всех слов она разобрать не могла, но поняла, что леди Рочфорд говорила о ком-то, повешенном в цепях. Джейн переглянулась с Мэри Монтигл, которая прислуживала ей. Девушка выглядела смущенной. – Кого повесили в цепях? – спросила Джейн. – Мадам, это был бунтовщик, мастер Констебл. – Мэри замялась. – Его поймали, и мастера Аска тоже. Мы подумали, лучше не расстраивать вас. Очевидно, Генрих считал так же, потому что не упомянул об этом. – А что значит – повешены в цепях? – Герцог Саффолк, мой отец, говорил, что его заковали в цепи и повесили над воротами Халла, где оставили умирать. Джейн вздрогнула. Сколько времени продлятся его муки? – А мастер Аск? – Умер смертью изменника, – прошептала Мэри. Джейн ужаснулась, ей стало очень жаль этого доброго и честного человека, преданного жестокой казни за убеждения. Она не могла вынести мысли о его страданиях. – А что с лордом Дарси? – Мадам, он был казнен в прошлом месяце на Тауэрском холме. Его голова до сих пор висит на Лондонском мосту. Джейн ничего не сказала Генриху. Для него эти люди были бунтарями и изменниками, и он поступил с ними так, как повелевал закон. Она не знала, что двигало Констеблом или Дарси, но Аск, упокой Господь его душу, действовал, исходя из принципов, которые она разделяла. И теперь могла только молиться о том, чтобы надежды этого человека оправдались, раз Генрих уже решил восстановить два упраздненных монастыря. Чего только не сделает для нее король, если она родит ему сына!
Тянулись напоенные ароматами летние дни; Джейн постепенно охватывала эйфория, как будто она и ребенок завернулись в кокон и существовали в своем особом, безопасном и радостном мире. Ее больше не тревожила чума, которая к тому же, вероятно, отступала, по крайней мере вблизи Виндзора о ней не слышали. Покой Джейн нарушил Суррей – горячая голова. Злость и возмущение Эдварда вкупе с ответной ненавистью и презрением Суррея вылились в открытую вражду. Однажды после обеда брат пришел в покои Джейн и шокировал ее своим видом: лицо у него было в синяках и кровоподтеках, его трясло от ярости, а такое случалось с ним редко. Хорошо, что Генрих был рядом. – Суррей ударил меня в лицо, – сказал им Эдвард, и Джейн послала фрейлин за водой и чистой тканью. – Я выскажу ему все, что думаю! – вспыхнул Генрих. – Драка при дворе! Я этого не допущу. Наказание для проливающих кровь – усекновение правой руки. – Сэр, его отец герцог не простит этого! – воскликнула Джейн. – Герцогу нечего будет возразить! Таков закон, – парировал король. – Скажите мне, лорд Бошан, вы чем-то спровоцировали нападение? Эдвард покраснел: – Сэр, я высказал предположение, что милорд Суррей симпатизировал Аску и его бунтовщикам. – А это правда? – нахмурился Генрих. – Я так думаю, сэр. Я рассчитывал, что он опровергнет мои слова. – Хм. Мне нужно посоветоваться с Кромвелем. Когда король ушел, Джейн повернулась к Эдварду: – Если Суррей потеряет руку, Говарды начнут мстить. Молюсь, чтобы король проявил милосердие. Вражды и без того хватает. Эдвард пожал плечами, утираясь платком: – Мне все равно. Он это заслужил. Наконец Генрих вернулся: – Я обсудил это дело с Кромвелем, ему кажется, что нет никаких свидетельств в пользу того, что лорд Суррей склонялся к измене, а потому я намерен отнестись к нему снисходительно. Он проведет две недели под замком здесь, в Виндзоре, и за это время, надеюсь, поймет, как глупо вел себя. – Благодарю вашу милость, – просветлев, сказал Эдвард. Однако Джейн оставалась задумчивой; в ней поселились опасения, как бы сегодняшняя ссора не посеяла семена для более горьких всходов.
Джейн позвала к себе Марджери Хорсман, превратившуюся в леди Листер и в связи с этим произведенную в придворные дамы. Несмотря на взаимные симпатии, в отношениях между ними сохранялась некая натянутость, и Джейн с тоской вспоминала их былую дружбу. Теперь она стала увереннее, почувствовала себя королевой, особенно в последнее время, ведь она носила под сердцем наследника английского престола, и начала сожалеть, что раньше по необходимости, которую сама себе придумала, держалась так отчужденно. Теперь Джейн рассуждала так: если ранг Марджери повысился и ее положение при дворе упрочилось, вероятно, они снова смогут стать подругами. Она улыбнулась Марджери: – Садитесь. Я хочу, чтобы вы написали для меня письмо леди Лайл. Мне нужна новая фрейлина вам на замену. Леди Лайл проявила столько старания, присылая мне перепелок, и несколько раз спрашивала, не приму ли я на службу одну из ее дочерей. Я в долгу перед ней и хочу, чтобы вы составили приглашение для ее дочерей. Пусть приедут ко двору и представятся. Мне хотелось бы увидеть обеих, прежде чем я сделаю выбор – кого из них взять на службу. – Это очень мудро, мадам. – Марджери улыбнулась. – Но что будет с той, которую не выберут? – Ее возьмет к себе герцогиня Саффолк. Это уже условлено. Скажите леди Лайл, что ее дочери должны привезти с собой два платья: одно атласное, другое дамастовое. Я обеспечу их жалованьем и едой, но о том, чтобы девушка, которую я выберу, была прилично одета, пусть позаботится она сама, и еще пусть внушит ей, что, служа королеве, нужно быть серьезной, рассудительной и сдержанной, а главное – послушной и безропотно выполнять требования старших дам – миледи Ратленд и миледи Сассекс. Она должна быть преданной Господу и добродетельной, потому что я ценю эти качества превыше всех прочих. Джейн замолчала и неловко заерзала на сиденье мягкого кресла. Живот уже был большой, шнуровку на платьях распускали до максимума, и она не переставала удивляться, куда растет, и с легкой опаской думала: неужели беременность увеличит ее в обхвате еще больше? – Я всегда настороженно отношусь к юницам, которые прибывают ко двору. Тут царят гордыня, зависть, язвительность и насмешки, к тому же очень много соблазнов. Вы, наверное, с удовольствием предупредите обо всем этом леди Лайл, но подчеркните особо, что мой двор не такой, как у предыдущей королевы. – Она помолчала, перебирая пальцами жемчуг. – Вы помните, какой несчастной я была, когда служила ей? Вы были мне доброй подругой. – Говоря это, Джейн с надеждой взглянула на Марджери, и – вот радость! – та улыбнулась. – Ваша милость тоже были мне хорошей подругой, – сказала она. – И снова буду. Я поступила неправильно, когда отдалила вас от себя, но я так боялась уронить свое достоинство, так не хотела, чтобы люди смотрели на меня свысока и думали, мол, какая-то деревенская девушка вознеслась до того, что наденет корону, куда ей, она совсем для этого не годится. – Думаю, я это понимала, мадам, хотя и сожалела об утрате вашей дружбы. Ничто не порадует меня больше, чем честь удостоиться ее снова. Джейн взяла руку Марджери и пожала ее: – Спасибо вам, милая подруга.
Леди Мария прибыла ко двору. – Как незамужняя дама, я не могу быть вашей наперсницей в уединении, но стану первой, кто приветствует появление на свет моего нового брата, – сказала она, после того как Джейн обняла ее. Ближе к концу июля Лиззи, совершив долгую поездку на юг, прибыла из Йорка. Как приятно было увидеться с сестрой, которая в свои девятнадцать лет уже так много пережила, и познакомиться с ее сынишкой, который, хотя и был шумным непоседой, тем не менее демонстрировал, что хорошим манерам его научили. Лиззи выглядела совсем взрослой женщиной. Она очень скучала по дочери, но Кромвель поспешил заверить ее, что его агент в Йоркшире буквально накануне сообщил, что ребенок здоров и с ним все в порядке. Сам Кромвель теперь был рыцарем ордена Подвязки, а это самый высокий рыцарский статус, какого может достичь англичанин. Будущая невестка ему явно нравилась, и он всячески старался оказать ей почтение и встретить приветливо. Он подготовил для Лиззи и Грегори свой дом в Мортлейке, и в начале августа Джейн отправилась туда на барке, чтобы присутствовать на свадьбе. Грегори был миловидным молодым человеком, и она не сомневалась – новобрачные будут счастливы. Лиззи тоже так считала. – Как хорошо иметь мужа примерно своего возраста, – сказала она Джейн при прощании. – Энтони – прекрасный человек, но он был на сорок лет старше меня. А больше всего меня утешает мысль, что лорд Кромвель мной доволен и обещает быть мне добрым господином и отцом. – У него есть все основания быть довольным, – сказала Джейн, поцеловала Лиззи и пошла по освещенной факелами аллее к своей барке.
В августе дамы сообщили Джейн, что при дворе делают ставки на то, какого пола родится ребенок и когда это произойдет. – Все доктора уверяют меня, что будет мальчик, – сказала Джейн, – такого же мнения держатся прорицатели и астрологи, с которыми советовался Генрих. Тревога охватывала Джейн всякий раз, как король рассказывал ей о своих встречах с предсказателями будущего или о том, что для него составили гороскоп. Это возвращало ее к мыслям об исключительной важности исхода этой беременности, о том, какие огромные надежды на нее возлагались. – Господи Иисусе, если это в Твоей власти, пошли нам принца! – с придыханием говорила она. Эдвард уехал в Элветам наблюдать за строительными работами, на досуге он с удовольствием охотился с собаками и соколами. Когда наступил сентябрь, старший брат написал Джейн – засвидетельствовал свое почтение к ней и королю, а также передал горячую мольбу о том, чтобы Господь вскорости послал ему племянника. Столь многое зависело от того, родит ли она сына. Но что могла поделать сама Джейн? Ей оставалось только молиться и ждать. А срок подходил к концу.
Глава 34
1537 годВ начале сентября они вернулись в Хэмптон-Корт, где должен был появиться на свет ребенок. Генрих пребывал в напряженном ожидании, суетился вокруг Джейн, как курица-наседка, и боялся, как бы она не навредила чем-нибудь младенцу, который стал весьма активным, будто ему не терпелось поскорее увидеть мир. До родов оставался примерно месяц, когда состоялась официальная церемония, после которой будущая мать уже не должна была покидать свои покои. Джейн очень волновалась. Сперва в сопровождении дам, прочих служителей своего двора и большого числа придворных она присутствовала на мессе и молилась о благополучном разрешении от бремени, затем проследовала в Главный зал, где ее усадили на трон и потчевали приправленным пряностями вином. Пока она пила его небольшими глотками, камергер очень громким голосом призвал всех молиться, чтобы Бог послал королеве удачу. После этого Джейн встала, передала кубок Элизе Даррелл и официально попрощалась с придворными. Леди Мария и герцогиня Саффолк отвели ее в спальню; другие дамы шли следом и, получив разрешение оставить королеву, удалились. Дамастовые шторы над дверями были задвинуты, и мир за ними перестал существовать для затворницы. Джейн в изумлении окинула взглядом спальню, моргая глазами в тусклом свете. Она знала, что время перед родами ей предстоит провести в уединении и ни один мужчина, за исключением короля и духовника, не должен видеть ее, но не догадывалась, что за то время, пока она молилась в церкви и сидела в главном зале, обстановку в комнате поменяли. Стены, потолок и даже окна, кроме одного, были завешены гобеленами; хотя была середина дня, зажгли свечи. В комнате было очень тепло, потому что день выдался жаркий, и первое, о чем попросила Джейн, – это открыть окно и впустить внутрь немного свежего воздуха. На полу лежали новые ковры, а рядом с роскошной кроватью, где она проведет время, когда будущей матери положено лежать, находилась постель с соломенным тюфяком, на которой она будет рожать. На алом, отделанном горностаевым мехом покрывале с синей бархатной каймой лежали тонкая батистовая сорочка и накидка из алого бархата с горностаевой опушкой – она наденет их после родов. Рядом установили алтарь со Святыми Дарами, чтобы Джейн могла слушать мессы и молиться о заступничестве и помощи Господа и Его Святой Матери во время родовых мук. Буфет был заполнен золотой посудой, на которой ей станут подавать еду. Повитуха в безупречно белом переднике, надетом поверх темного платья, стояла наготове. Служившие у Джейн мужчины на время оставили свои должности. Их обязанности, пока не пройдут роды, возьмут на себя дамы: они будут выступать в роли дворецких, нарезать мясо, разливать вино. Все необходимое будет доставляться к дверям покоев. Обстановка получилась немного подавляющая, и Джейн радовалась, что рядом с ней в качестве наперсниц остались ее замужние дамы и сестра Лиззи: они развлекут ее и подбодрят во время родов. Джейн написала матери – попросила приехать, но та оправлялась от летней простуды и не могла совершить долгую поездку из Уилтшира. Джейн готова была отдать все на свете, чтобы видеть мать рядом, ведь та произвела на свет десять детей и была очень опытной. Ее присутствие стало бы большим утешением и подспорьем. Время шло неумолимо, и эйфория, защищавшая Джейн от страхов, ослабевала. Ее сменяли тревожные мысли о том, что роды – опасный процесс, во время которого она сама или ребенок – или, не дай Боже, оба – могут погибнуть. Такое случалось со многими женщинами, претерпевавшими в родах невыносимые муки, а некоторые – Джейн слышала, как дамы шептались об этом, – оставались калеками. Она утешала себя тем, что приглашенная акушерка имеет большой опыт и весьма искусна в своем деле; это была общительная, добрая и умелая женщина. Повитуха готовила для королевы расслабляющие травяные ванны, учила правильно дышать, чтобы справиться с самыми страшными болями во время родов. – Лучше рожать сидя или на корточках, – говорила она, – потому что если вы ляжете, то будете толкать ребенка скорее вверх, чем вниз, а это труднее. – Это очень больно? – со страхом спрашивала Джейн. – У каждой женщины это происходит по-своему, мадам, но в общем – да, может быть больно. Но не бойтесь боли, в конце концов ваши страдания окупятся: как только у вас на руках окажется сын, вы все забудете. Джейн отчаянно надеялась на это.
Королева сидела в кресле и думала, как ей хотелось бы прогуляться по саду, когда Марджери привела дочерей леди Лайл, только что прибывших из Кале. Поговорив с обеими, Джейн сразу выбрала старшую, Анну Бассет, милое юное создание с чистым личиком, светлыми волосами и хорошими манерами. Попросив девушек подождать за дверью, она обернулась к Марджери: – Мне больше нравится Анна. А вы как думаете? – Она обладает многими хорошими качествами, мадам. Получила образование во Франции и добилась там успехов. Но ее одежда не отвечает требованиям. – Я согласна. Этот французский капор придется убрать. Я была бы весьма признательна вам, если бы вы для нее нашли платье из алого дамаста и капор в виде фронтона, чтобы она могла являться ко мне в таком виде, пока не обзаведется собственным нарядом. О чем только думала ее мать? Марджери занялась поиском необходимого, а Джейн снова позвала Анну Бассет и приветствовала ее как новую фрейлину королевы. – Только, – сказала она обрадованной юной леди, – вы должны обзавестись двумя капорами в форме фронтонов и двумя хорошими платьями из черного бархата и черного атласа. Поднимите немного юбку. Нет, эта льняная сорочка слишком груба, вам нужна батистовая. На первое время вам одолжат подходящую одежду. – Джейн подняла взгляд на пояс Анны. – Сколько там жемчужин? – Кажется, сто двадцать, мадам, – ответила девушка, все сильнее смущаясь. Джейн вздохнула: – Боюсь, этого мало. Напишите матери и попросите у нее другой пояс. И скажите ей: если вы не появитесь при дворе в подходящей одежде, вам не позволят присутствовать на крестинах. – Да, мадам. Видя растерянное лицо Анны Бассет, Джейн подобралась. Она снова взялась за старое – компенсировала недостаточную родовитость происхождения подчеркиванием своего нынешнего королевского величия. Джейн напомнила себе, что имеет полное право так поступать, ведь она носила под сердцем бесценное сокровище, и тем не менее ей не стоило терять человечность. Королева улыбнулась Анне и сказала: – Надеюсь, вам будет хорошо при дворе.
В ту ночь, забираясь в постель со своим раздутым животом, Джейн краем глаза приметила в углу какую-то тень. По крайней мере, ей так показалось. Она заставила себя пристальнее вглядеться во тьму, но ничего не увидела. Однако одного намека на ее присутствие хватило, чтобы королева испугалась. Сейчас ей меньше всего хотелось видеть тени по углам. Но если это была Анна, а Джейн уже успела убедить себя, что это она, у нее имелась основательная причина для появления, ведь бывшая королева наверняка завидовала бы своей сопернице, носившей сына. Анне не хотелось бы, чтобы новая супруга короля исполнила то, что не удалось ей самой. Джейн испугалась за ребенка. Вот если бы Генрих был рядом с ней в постели, было бы куда легче. Но такое не допускалось во время предродового уединения королевы. А страшиться было чего: погода стояла жаркая, чума вернулась, и Лондон переживал ужасныевремена. Повидаться с Джейн, хромая, пришел Генрих; он заверил супругу, что в Хэмптон-Корте им не грозит никакая опасность. – Дорогая, вам нечего бояться. Как и раньше, я приказал, чтобы никто из посторонних не приближался ко двору, и предупредил Кранмера, чтобы тот не покидал дворец Ламбет, пока чума не утихнет. Заверения мужа не успокоили Джейн. Она тряслась от страха. Неужели это из-за привидевшейся ночью тени? А если так, предвещало ли ее появление очередное ужасное несчастье? Джейн натянула на лицо храбрую улыбку: – Как ваша нога? Болит? – Немного, – вздохнул Генрих. – Норфолк хочет, чтобы я поехал на север. Говорит, мое присутствие там успокоит последние вспышки возмущения. – Вы же не оставите меня! – воскликнула Джейн, исполненная дурных предчувствий. – Нет, Джейн. Воспаление на обеих ногах, и врачи советуют мне не ездить далеко в жаркую пору. Да я в любом случае не стал бы никуда отлучаться, ведь скоро придет ваше время, за что я смиренно возношу благодарения Всемогущему Господу. Но вам нужно успокоиться. Это расстраивает ребенка. – Я постараюсь, Генрих, – пообещала она. – Вы всегда даете мне мудрые советы. – Рад видеть вас такой любящей и послушной, – сказал он. – Вы с готовностью соглашаетесь с тем, что я считаю целесообразным, и мне это приятно, особенно если учесть, что вы, как женщина, склонны принимать близко к сердцу любое неприятное известие или слух, пущенный глупыми людьми. Джейн повесила голову. Она знала, что должна быть сильной ради ребенка. – Как только мои ноги придут в порядок, я отправлюсь охотиться, – сообщил ей король. – Не бойтесь, я условился с Тайным советом, что не уеду далеко. Буду держаться самое большее в шестидесяти милях отсюда, ведь, по вашему мнению, до родов осталось меньше времени, чем вы рассчитывали, когда начали быстро прибавлять. Поверьте, я не забываю о том, как важно исполнение наших надежд, от этого зависит наш собственный покой и благополучие моего королевства. Джейн немного успокоилась, хотя шестьдесят миль – довольно большое расстояние. Однако через два дня она снова приуныла: король сообщил ей, что из-за чумы хочет минимизировать риск заражения и сократить количество находящихся в Хэмптон-Корте людей. – Поэтому я перееду со своим двором в Эшер и там буду ждать счастливых известий. – Я буду скучать без вас, – сказала ему Джейн, едва сдерживая слезы. – Это недалеко, – ответил Генрих. – Я доберусь сюда за час, если понадобится. И принялся радостно описывать нишу для рыцарской таблички принца, которую он готовил в Виндзоре, но Джейн едва слушала его. Она могла думать только о том, что король от нее уезжает, а из всех людей, которых она хотела бы сейчас иметь рядом с собой, Генрих был нужен ей больше всех.
– Ждать уже недолго, ваша милость, – сказала повитуха, опуская сорочку Джейн. – Принц появится со дня на день. Но тот, похоже, не торопился. Заканчивалась первая неделя октября. Мария, которая обещала присутствовать на крестинах ребенка одного из своих арендаторов, поспешила в Хансдон, уверенная, что в результате пропустит радостное событие при дворе, однако, когда она вернулась, Джейн все еще была на сносях. Два дня спустя ближе к вечеру она почувствовала легкие спазмы, как будто начинались месячные крови, потом это ощущение повторилось. Затем потоком отошли воды. – Ваша милость, вам нужно лечь, – сказала акушерка. – Роды начались, но, так как у вас первый ребенок, это может занять какое-то время. Генриху сообщили. Из Эшера пришел ответ: король послал герольдов в Лондон для оглашения радостного известия. Скоро по милости Божьей зазвонят колокола, оповещая людей о счастливом событии. Схватки наступали регулярно, терпеть боль Джейн могла, только расхаживая по комнате взад-вперед. Когда они стали более сильными и частыми, лучше было, если наклонишься вперед и схватишься за стол. Немного погодя она уже не знала, что с собой делать: схватки были очень сильные, и так продолжалось всю ночь. А потом все прекратилось; Джейн была рада передышке, хотя беспокоилась, что она предвещает. Акушерка заверила ее, что тут нет ничего необычного. – Схватки возобновятся немного погодя, – сказала она. Джейн провела день, лежа в постели и разговаривая с дамами. Они исполняли для нее музыку и показывали крошечные вещи из приданого, которое приготовили для новорожденного. Наготове стояли две колыбели: большая позолоченная – церемониальная, с гербом Англии, в которой принца будут показывать гостям, – и маленькая, где он будет спать. Вечером Джейн рассказали, что по всему Лондону звонят в колокола, во всех приходских церквах служат мессы, а народу на них собирается столько, что все не умещаются внутри и толпятся у дверей на улицах. Из собора Святого Павла к Вестминстерскому аббатству прошла торжественная процессия духовенства в праздничных ризах, а лорд-мэр и олдермены вели за собой членов торговых гильдий и ливрейных компаний из Сити: все молились о благополучном исходе родов. В пять вечера схватки начались снова, по мере приближения ночи они усиливались. Каждый новый приступ Джейн сопровождала криком, так ей было легче. Элеонор Ратленд и Мэри Монтигл завязали на ней специальный родильный пояс – длинный кусок пергамента, на котором была написана молитва к святой Маргарите Антиохийской. – Ее заступничество особенно помогает женщинам при родах, – сказала Мэри. Но очевидно, святая Маргарита была занята где-то в другом месте, потому что Джейн не испытала никакого облегчения. – Распахните все двери и шкафы, – настаивала Лиззи. – Это раскроет лоно. Но это тоже не помогло. Джейн находилась в таком плачевном состоянии, что акушерка быстро приготовила настой из макового семени, пижмы, петрушки, мяты, кресса, ивовых листьев и кирказона, который дал несчастной роженице благословенное забытье, и она проспала самые тяжелые приступы. Однако в полночь Джейн проснулась от невыносимой боли и начала кричать. В одурманенном состоянии она забыла, отчего ей больно, и решила, что, если будет кричать достаточно громко, кто-нибудь придет и прекратит ее страдания. Действие снотворного постепенно проходило, и Джейн сквозь туман в глазах различила столпившихся вокруг ее постели женщин, которые тревожно переговаривались. Она снова закричала, чтобы они обратили на нее внимание. – Вы должны тужиться, мадам, – говорила ей акушерка. – Тужьтесь! Ребенок вот-вот родится, но без вашей помощи он не может. Она стала тужиться, сперва слабо, потому что изнемогала от усталости, но потом повитуха велела ей опустить подбородок к груди, и это помогло. Потом Джейн каким-то чудом обнаружила, что, когда тужится, боль стихает, и она напряглась изо всех сил, стремясь вытолкнуть из себя плод. – Роды не зря называют тяжелым делом! – с улыбкой сказала повитуха. – Очень хорошо, мадам, почти готово. Женщины подбадривали Джейн выкриками. – Головка показалась! – объявила акушерка. – Надо еще разок подтолкнуть, ну, мадам! Джейн натужилась, и вдруг ребенок вывернулся из нее, и она почувствовала, будто ее тело разорвалось надвое. Боль утихла. Все закончилось. Она лежала, изможденная, и слушала плач своего ребенка. – Слава Богу, принц! – прокричала акушерка. Младенца положили на руки Джейн. Он громко плакал – милый малыш с личиком в форме сердечка, розовенький, здоровый. У него были большие глаза Генриха, светлые волосы и заостренный подбородок, как у нее. Джейн заплакала от счастья. Она родила наследника для английского престола! А потом, еще раз посмотрев на сына, испытала прилив такого сильного чувства любви, какого до сих пор не знала.
Тут началась невероятная суета, хотя за окном стояла глубокая ночь. Леди Рочфорд подбежала к дверям и заговорила с кем-то, кто стоял там. – Немедленно пошлите гонца в Эшер, пусть разбудят короля и сообщат ему, что королева благополучно родила сына. Джейн лежала довольная, с ребенком на руках, служанки обмывали ее и убирали все вокруг, а она представляла себе, как гонец галопом скачет в Эшер с радостной вестью. До чего же ей хотелось увидеть лицо Генриха, когда он обо всем узнает. Не прошло и часа, как король появился, за ним шла Мария. К этому моменту Джейн уже переложили на большую кровать, и принц лежал рядом с ней, спеленутый и завернутый в бархатную мантию с горностаевой опушкой, с маленьким золотым чепчиком на головке. Каким же крошечным он казался в огромной колыбели! – Дайте мне приветствовать своего сына! – воскликнул Генрих, врываясь в спальню королевы. Согнувшись над люлькой, он подхватил малыша на руки, слезы радости оросили его лицо. – Как он прекрасен! – воскликнула Мария и тоже заплакала, восхищенно глядя на младенца. Генрих повернулся к Джейн: – Дорогая, как мне отблагодарить вас? Вы подарили мне самое ценное сокровище во всем мире – здорового мальчика. Двадцать семь лет я ждал этого момента! Наконец-то у Англии есть наследник, и будущее моей династии обеспечено. Мы избавлены от страхов, что королевство охватит гражданская война. – Генрих раздулся от гордости и был буквально вне себя от восторга. – Мы назовем его Эдуард, – сказал он, с обожанием глядя на ребенка. – Эдуард, потому что он родился накануне дня Святого Эдуарда Исповедника, покровителя короля. Эдуард, герцог Корнуэльский и принц Уэльский. Джейн обрадовалась, ведь так же звали ее старшего брата. Он будет очень горд, когда услышит новость. Эдуард – хорошее старое английское имя. Оно подойдет малышу. – Благослови тебя Господь, мой бесценный мальчик! Генрих осторожно положил сына в колыбель. Мария и другие дамы со слезами на глазах наблюдали за этой сценой. Потом король склонился над постелью и с глубокой нежностью поцеловал Джейн: – Тысяча благодарностей вам, моя дорогая, за то, что доставили мне такую радость. – Она улыбнулась ему, усталая, но счастливая, а король повернулся к дамам. – Пошлите за Кромвелем! – приказал он. – Я поговорю с ним прямо сейчас. Дорогая, я скоро вернусь. Это не может ждать. Мария села рядом с Джейн и взяла ее за руку. – Я так рада за вас, – сказала она. – Несмотря на то что этот ребенок занимает место перед вами в очереди на престол? – спросила Джейн. – Да! – заявила Мария, влажными глазами глядя на колыбель. – Может быть, теперь, когда у моего отца родился сын, он с большей охотой возьмется за устройство брака для меня. – Я поговорю с ним об этом, не бойтесь. Джейн понимала, что, родив сына, она становится очень влиятельной, ведь Генрих будет готов на все, чтобы порадовать мать своего наследника. Как же приятно обладать такой властью! Вернувшись после разговора с Кромвелем, король продолжал ликовать: – Я приказал разослать глашатаев по всему королевству, чтобы объявить о рождении принца. В восемь часов в соборе Святого Павла и во всех лондонских церквах споют «Te Deum». А сейчас, дорогая, вам полагается заслуженный отдых, и я тоже попытаюсь уснуть, хотя сомневаюсь, что мне это удастся. Я должен еще разок взглянуть на своего сына, хочу убедиться, что это не сон! Пока король любовался дремлющим младенцем, Джейн потянулась и взяла его руку. – Останьтесь со мной, – попросила она; дамы приняли испуганный вид, Мария покраснела, а повитуха явно была возмущена, но Джейн было все равно. – Я просто хочу, чтобы вы были здесь, рядом со мной, именно этой ночью, – сказала она Генриху. Некоторое время король пристально вглядывался в нее, а потом кивнул и сказал: – Оставьте нас. Я позову, если ребенок проснется. Дамы, сделав реверансы, удалились, король снял берет, накидку, дублет, бриджи и туфли и лег рядом с Джейн в рубахе, нижних штанах и чулках, осторожно обняв ее рукой. Она расслабилась, прильнув к нему, ей нравилась эта новая близость, узы любви и крови, которые связали их, благословение материнства и отцовства. Трудно было поверить, что испытания позади, а их сын спит рядом, неслышно дыша. Акушерка была права. Боль забывается – страдания окупились сторицей. Джейн почувствовала себя обновленной, будто с ее плеч сняли огромную тяжесть. Господь даровал ей долгожданного мальчика и тем ясно показал свое благоволение. Она решила отринуть прошлое. Анна ее больше не потревожит.
В восемь утра их разбудил колокольный звон, оповещающий о грандиозном событии. Первым делом Джейн подумала о ребенке, наклонилась к колыбели – вот он, ее мальчик, мирно спит. – Он плакал ночью, – пробормотал Генрих. – Кормилица пришла и накормила его. Здоровая баба с большими грудями! С ней он не пропадет. Отличный малыш, сосет так жадно. Джейн взяла на руки ребенка и покачала его, говоря нежные слова. Молочно-голубые глаза распахнулись и поглядели на нее. «Что он увидел? – подумала Джейн. – Знает ли уже сейчас, что я его мать?» Генрих погладил маленькую ручку: – В Сити будут звонить в колокола весь день и по всей Англии. У моих подданных есть отличный повод для торжеств. И мне пора подниматься – получать поздравления. Джейн задумчиво взглянула на него: – Иногда мне хочется, чтобы мы были обычной семьей и могли тихо радоваться рождению сына. Спасибо вам за эту ночь. Для меня очень важно, что вы были рядом со мной в этот бесценный и краткий миг, перед тем как мир властно потребует нас к себе. Генрих поцеловал ее – долго и любовно: – Часть меня всегда хочет быть обычным человеком; думаю, потому я и понимаю своих подданных, а они говорят, что я для них свой. Я разделяю ваши чувства. Но мы не частные лица, Джейн, и в этой колыбели лежит не просто ребенок, а следующий король Англии. – Мне это прекрасно известно, – с оттенком грусти проговорила Джейн, – но он все равно мой малыш. Генрих улыбнулся ей и встал с постели: – Вы сегодня выглядите свежей и отдохнувшей. – Я чувствую себя хорошо, – ответила она. – Ну что ж, выполняйте распоряжения акушерки! – наставительным тоном произнес Генрих. – Я приду позже навестить вас и Эдуарда. – Буду с нетерпением ждать, – взволнованно ответила Джейн.
Вечером король пришел к ней ужинать, стол накрыли рядом с постелью. – Я так голодна! – сказала ему Джейн, опираясь спиной на подушку. В это время Марджери кормила ее с ложки бульоном. – Это какая-то еда для больных. Я готова съесть быка! Генрих погрозил ей пальцем: – Вы должны делать, что вам говорят! Король весело жевал и рассказывал о том, что происходит в городе: – В Лондоне продолжаются торжества! Мы все так долго ждали принца, можно сказать, изголодались, что люди радуются, словно родился сам Иоанн Креститель! На всех окнах и дверях висят флаги и гирлянды, на улицах жгут костры; христославы разыгрывают представление на Чипсайде, епископы устроили пиры для народа, все шумят, особенно после того, как торговцы со Стального двора[74] выкатили несколько больших бочек вина и пива для всех. Вы слышите пушки Тауэра? Джейн прислушалась – и правда, до нее донесся отдаленный грохот. – Я приказал в честь рождения принца устроить салют из двух тысяч залпов. – Приятно слышать, что в городе так бурно празднуют! – сказала Джейн. – Да, дорогая, я попросил лорд-мэра объехать улицы и от моего имени поблагодарить людей за демонстрацию любви и преданности, а также призвать их молиться Господу за нашего принца. – А Эдвард доволен? – спросила Джейн, сожалея, что братьям нельзя навестить ее. – Он счастлив. Говорит, что это самая радостная новость для Англии за долгие годы. – Он тоже ждет появления на свет ребенка, – сказала она. – Нан должна скоро родить. – Дай Бог, чтобы они были так же счастливы, как мы, – отозвался Генрих.
Лондонские колокола прекратили трезвон в десять вечера. Вдруг стало тихо. Джейн сразу заметила это. Она чувствовала себя так хорошо, что акушерка позволила ей садиться в постели, и королева воспользовалась случаем, чтобы написать письма с новостью о рождении сына. Это была ее привилегия, и Джейн с гордостью принялась за дело. Первое письмо она адресовала матери, второе – Томасу, корабль которого патрулировал Английский канал. Затем она взялась за послание к Кромвелю. Джейн считала, что сочинила его весьма удачно. Слова дышали королевским достоинством, что весьма подходило к случаю.
Мы разрешились от бремени и произвели на свет принца, зачатого в неоспоримо законном брачном союзе между милордом Его Величеством королем и нами. Повелеваем Вам передать эту новость Тайному совету. Королева Джейн.
Она снова почувствовала голод и крикнула фрейлинам: – Прошу вас, пошлите кого-нибудь на кухню, пусть посмотрят, нет ли там чего-нибудь получше, чем этот пресный бульон. – Чего бы вам хотелось, мадам? – спросили они. – Какой-нибудь рыбы в соусе, если там есть. Мясо тоже подойдет. Ей принесли жареной оленины в винном соусе малмси. Вкус был отменный. Джейн ела и читала письма с поздравлениями, которые потоком текли во дворец. Генрих сказал, что его секретари работают круглые сутки – сообщают о рождении королевского наследника иностранным принцам и прочим знатным особам. А потом в спальню торопливо вошла Лиззи. Глаза ее сияли. – Эдвард за дверью! Нан родила сына, и его тоже назовут Эдвардом, как отца и в честь принца, потому что они появились на свет в один и тот же день! – Прекрасная новость! Он, должно быть, очень горд! Как и Нан, разумеется. У них имелось множество причин назвать ребенка Эдвардом, однако злобный бесенок в голове Джейн прошептал: а ведь, выбрав такое имя, Нан тем самым заявляет всему миру, что ее ребенок тоже займет важное место в нем. Джейн уже чувствовала, как завязывается соперничество. – Он хочет, чтобы вы стали крестной матерью, – сказала Лиззи. – С радостью принимаю это предложение, – согласилась Джейн, отбрасывая в сторону недобрые мысли. Несмотря ни на что, это был счастливый день для Сеймуров.
На следующий день Джейн решила побаловать себя, считая, что она это заслужила: на обед ей подали жареного каплуна, и она с удовольствием поглощала его; малыш Эдуард спал здоровым крепким сном в колыбели рядом с ее постелью. Тут пришел Генрих, и стало ясно, что больше отказываться от притязаний общества было нельзя. Джейн знала: король уже давно занимался устройством двора для принца. Столько людей собрал в услужение такому крошке! Четыреста! – Для принца все готово, – объявил король. Джейн знала, что ей придется разлучиться с сыном, что заботу о нем возьмут на себя главная воспитательница, кормилицы, няньки, что он будет жить в прекрасных апартаментах рядом с теннисным кортом, за окнами которых находился очень милый садик, куда малыша будут выводить на прогулки. Генрих говорил, что комнаты принца, которые обустраивали, пока Джейн находилась в уединении, великолепны. Ей хотелось бы самой взглянуть на них. У ее ребенка будет все самое лучшее: в этом на Генриха можно было положиться. О! Но как же сжалось у нее сердце, когда леди Брайан вышла вперед, чтобы забрать ребенка, – леди Брайан, которая была воспитательницей по очереди обеих дочерей короля и справлялась со своим делом очень хорошо. С ней была главная няня, по-матерински хлопотливая леди Сибил Пенн. – Пойдемте, милорд принц, – сказала леди Брайан. – Нужно попрощаться с вашей леди матушкой. Она подняла Эдуарда и передала его Джейн, та взяла малыша на руки и стала впитывать в себя взглядом каждую пору младенца и целовать его с такой страстью, будто хотела проглотить. Какая мука – отдавать его леди Брайан, видеть, как его уносят. Сердце Джейн разрывалось. Она взглянула на свои пустые руки, и глаза ее затуманились слезами. – Его будут приносить к вам каждый день, – сказал Генрих, – так часто, как вы пожелаете. И когда вы сами оправитесь, сможете навещать его. Детская совсем рядом. Джейн через силу улыбнулась. Ей перетянули грудь, чтобы молоко пропало, и она чувствовала себя нездоровой. Женщины вспоминали, как королева Анна настаивала на том, чтобы кормить грудью Елизавету, но король запретил ей это. Ну, с Джейн ему ссориться не придется. Она не хотела кормить Эдуарда. Он прекрасно рос и толстел на молоке кормилицы, и хорошо. Все знали, что женщина не может зачать, пока кормит младенца, а обязанность королевы – вынашивать детей. Тем не менее Джейн горячо надеялась, что ей не придется в скором времени снова испытать родовые муки. А если и придется, акушерка говорила, что во второй раз будет легче. Сев поудобнее, Джейн заметила, что Генрих выглядит задумчивым. – Что-нибудь не так? – спросила она. – В Лондоне по-прежнему чума, – ответил он. – Я не могу испытывать судьбу и подвергать риску здоровье нашего сына. Я распорядился, чтобы каждую комнату, зал и двор в его апартаментах мели ежедневно и мыли с мылом. Все, к чему он прикасается, должно быть безупречно чистым. Джейн одобрила предусмотрительность короля. Наряду с практичностью это было одно из качеств, которые ей нравились в нем. Он видел проблему и решал ее. Это вселяло надежду, что все будет хорошо. Тревога, вспыхнувшая в голове, как только Генрих заговорил о чуме, утихла. – Крестины состоятся вечером в понедельник, – сказал он. – Из-за чумы я велел, чтобы количество гостей сократили. Но все пройдет с надлежащей пышностью и соблюдением церемоний. Я раздумывал, кого выбрать крестными родителями. Надеюсь, вы не будете возражать против архиепископа Кранмера, леди Марии и герцогов Норфолка и Саффолка? Кранмер не упустит возможности заразить ее сына протестантской ересью, если Джейн не ошибалась в своих подозрениях на его счет. Самое меньшее, он поведет Эдуарда по пути Реформации, подальше от традиционной веры, которой придерживалась сама Джейн. Норфолк будет старательно исполнять свою роль, хотя бы из желания остаться в фаворе, но ни один Говард никогда не полюбит соверена, в котором течет кровь Сеймуров. Саффолк верен королю, и этим все сказано, а вот Мария, несомненно, будет любить и защищать своего нового брата. – Я довольна. – Джейн улыбнулась. Она не станет нарушать гармонию между ними, подвергая сомнению выбор, сделанный супругом.
Генрих, может, и ограничил число гостей, однако на крестины принца все равно прибыло четыреста человек. Поздно вечером в понедельник, незадолго до полуночи, все они собрались во внутреннем дворе, под окнами апартаментов Джейн. Лежа на своей роскошной постели, на покрывале из алого дамаста с золотой парчовой каймой, она видела в темноте мерцающие огни множества факелов. Одетая в алую мантию с горностаевой опушкой, с распущенными по плечам волосами, Джейн принимала поздравления от крестных родителей сына и гостей самого высокого ранга. Рядом с ней на кресле с дорогой обивкой сидел король, раздувшись от гордости за сына, которым все восхищались. Леди Эксетер вынула принца из церемониальной колыбели и держала на руках, а Генрих собственными руками накинул на плечи малыша мантию с длинным шлейфом. Мальчик трех дней от роду, Эдуард озирался по сторонам, широко раскрыв глаза, и вел себя очень хорошо, как будто понимал торжественность обстановки. Потом его положили на подушку. Леди Эксетер взяла на руки драгоценную ношу, герцог Норфолк поддерживал подушку со стороны головки младенца, Саффолк – у ножек, а граф Арундел нес шлейф. За дверями выстроились джентльмены из Тайного совета, которые должны были держать над принцем парчовый полог, пока его препровождают для совершения крещения в Королевскую капеллу. Позади шли няня Сибил Пенн и акушерка, имевшая очень важный вид. Вся компания удалилась, шаги стихли вдалеке. Джейн лежала и наслаждалась моментом триумфа, Генрих приказал подать вина. Они сели рядом, взялись за руки и прислушались к доносившимся со двора звукам – все выстраивались в процессию. Генрих объяснил, что ее возглавят рыцари, церемониймейстеры, сквайры и офицеры двора, за ними пойдут епископы, аббаты, духовенство из Королевской капеллы и Тайный совет в полном составе, все иностранные послы и множество лордов. Приглашен был даже граф Уилтшир, хотя человеку с его амбициями, вероятно, было горько видеть, как Джейн преуспела в том, чего не смогла сделать его дочь. Однако Генрих не держал на него зла – даже не лишил его места в Совете. Четырехлетняя леди Елизавета тоже была там. Генрих распорядился, чтобы она принимала участие в крестинах, так как хотел продемонстрировать всему миру – обе его дочери счастливы уступить первенство новорожденному брату. Нести Елизавету в процессии поручили Эдварду, а девочка подарит наследнику богато расшитую крестильную сорочку, в которую принца облачат после окунания в купель. Следом за ними пойдет леди Мария в сопровождении множества дам. Томас тоже будет там – он успел сопроводить восвояси четыре французских корабля и вовремя вернуться ко двору. – Какое прекрасное зрелище, – сказала Джейн. Ей хотелось бы присутствовать на церемонии и самой увидеть, как архиепископ Кранмер окунет принца в серебряную купель, установленную на покрытом золотой парчой помосте, как описал ей все это Генрих. Он позаботился обо всем. В капелле соорудили шатер из гобеленов и поставили в него чашу с ароматизированной водой и жаровню с углями, чтобы принц не простудился, когда его разденут. По окончании церемонии снова исполнят «Te Deum». Вдалеке зазвучали трубы. Генрих улыбнулся Джейн. Процессия возвращалась. Наконец они услышали возглас герольдмейстера ордена Подвязки: – Боже, своим всемогуществом и бесконечной милостью даруй долгую и счастливую жизнь высокородному и прекрасному принцу Эдуарду, дражайшему и безмерно любимому сыну нашего самого могучего и милосердного владыки короля Генриха Восьмого! После этого принца торжественно внесли в спальню королевы. Следом вошла Мария, держа за руку Елизавету, позади них толпились почетные гости. Леди Эксетер положила малыша Эдуарда на руки матери, и Джейн благословила его. Потом ребенка взял Генрих, плакавший от радости, и призвал на своего сына милость и покровительство Господа, Девы Марии и святого Георгия. Крошка принц закапризничал, и его унесли в детскую, а гостям подали закуски: гиппокрас и вафли – дворянам, хлеб и вино – всем остальным. Генрих приказал раздать милостыню бедным, которые собрались у ворот дворца. Последние гости, прощаясь, целовали руку короля и королевы уже под утро. – Сегодня народ будет веселиться – жечь костры и поднимать заздравные тосты, – сказал Генрих. – Это большая радость. Благодарение Всемогущему Господу, который послал нам такого прекрасного принца, чтобы наследовать корону Англии, – отозвалась Джейн. – Едва ли я смогу уснуть! Генрих поцеловал ее на ночь. – Вы были безупречны, дорогая. Королева до кончиков пальцев. Я так горжусь вами, – сказал он и оставил супругу отдыхать. Джейн лежала и чувствовала себя счастливой и спокойной. Она все еще не до конца верила, что родила наследника, который безмятежно спал в детской. Скоро ее снова воцерковят, она вступит в мир и будет наслаждаться своим новым статусом матери принца. Джейн представила, как учит сынишку читать, а Генрих рассказывал ей, что осваивал этот навык под руководством матери, и принимает участие в планировании его женитьбы, так как это было обязанностью королевы. Мечта о том, что они с Генрихом состарятся в окружении своих детей, не казалась такой уж недостижимой. Король обрел долгожданного наследника и теперь, наверное, снова станет милостивым властителем, каким был до того, как Анна превратила его в жестокого деспота. Джейн всегда видела в нем хорошие черты, хотя и порицала в душе его безжалостность. Появление на свет Эдуарда предвещало наступление золотой эры. Придворные понимали это, и все англичане, предававшиеся веселому разгулу на улицах, тоже это чувствовали. Джейн уснула, и сны ее были счастливыми.
Глава 35
1537 годНа следующее утро по просьбе Джейн леди Брайан принесла к ней Эдуарда. Молодая мать с удовлетворением отметила, что сын спокоен и хорошо накормлен, а его пеленки безупречно чисты. Как же восхитителен ее маленький сынок! Держа принца на руках, Джейн испытала прилив ликующей любви такой силы, что на глаза навернулись слезы. – Его маленькая милость такой хороший ребенок, мадам, – сообщила леди Брайан. – Он кушает и засыпает без хлопот. Конечно, иногда он плачет, но сразу успокаивается, стоит только покачать колыбельку. И проявляет такой интерес ко всему вокруг! Он уже очень развитый ребенок. Джейн улыбнулась: – Я знаю, что могу положиться на вас, вы хорошо о нем позаботитесь, леди Брайан. Скажите, кто заменил вас в качестве воспитательницы леди Елизаветы? – Леди Трой, мадам, хотя, мне кажется, Кейт Чепернаун хотела занять это место. Но леди Трой безупречна. – Рада слышать это и очень довольна, что за Эдуардом присматриваете именно вы. Принца унесли, Джейн отдыхала до обеда, когда ей подали лосося в густом винном соусе с луком и кислым соком. Она сама просила приготовить ей это блюдо. Через час Джейн пожалела, что съела так много, потому что почувствовала похожую на схватки боль в животе и вскоре начала бегать на горшок, не слушая приказания акушерки оставаться в постели. Горничные прибежали помочь ей, но она так стыдилась безобразного вида и запаха испражнений, что крикнула им, чтобы ушли, сама все убрала и подмылась. Наконец приступ прошел, и Джейн заползла обратно в кровать, чувствуя себя больной, слабой и изможденной. Сердце тревожно стучало, тело пробивала неприятная дрожь, особенно сильно тряслись руки и ноги. Дамы встревожились и позвали акушерку. Лиззи протирала губкой лоб королевы, а Марджери разминала ей руки. – Ну, мадам, я ведь велела вам не вставать! – корила ее повитуха. – Вот что случается, когда глупо рискуешь. – Эта добрая женщина наслаждалась своей скоротечной властью – еще бы, ведь она могла командовать самой королевой Англии. – Теперь, ваша милость, оставайтесь в постели, а если снова наступит слабость, позовите меня. Джейн едва заметно кивнула. – Мне очень хочется пить, – прохрипела она. – Принесите немного вина, – распорядилась акушерка, – и молока, чтобы привести в порядок желудок королевы. Фрейлины выполнили приказание, и Джейн залпом выпила оба напитка, но жажда не проходила. К ужину она почувствовала себя лучше и попросила яиц в лунном свете – это было ее любимое детское блюдо. Его готовила мать, смешивая яичные желтки с подслащенной розовой водой. Генрих, пришедший ее проведать, смотрел на них с отвращением. – Это вкусно, Генрих. Попробуйте ложечку. Он скривился. – По-моему, лучше вам было еще посидеть на бульоне, – сказал он. – А теперь, дорогая, ради вашего здоровья отдохните. Я видел малыша Эдуарда, он чувствует себя прекрасно. Король сам задул свечи и оставил жену. Джейн заснула. Но посреди ночи очнулась и, спотыкаясь в темноте, поспешила к горшку, там ее вырвало отвратительной смесью яиц и марципановых печений, которые она съела после ужина. А потом кишечник ее снова ослаб – из него потекло, и Джейн позвала на помощь, хотя это было унизительно, что дамы увидят, как их королева опустилась до нижайшего человеческого состояния. После первого жестокого натиска последовало еще несколько, которые следовали один за другим с безжалостной частотой. Женщины только успевали обмывать ее, а повитуха явно была напугана, ведь королева была на ее попечении. – Пошлите за королем! – крикнула она. – Нет! – запротестовала Джейн. – Я не хочу, чтобы он видел меня такой. К тому же сейчас четыре часа утра, он наверняка спит. Но ее проигнорировали, и вскоре Джейн услышала голос Генриха в наружном покое. Король озабоченным тоном спрашивал, что с ней. – Сэр, она не хочет, чтобы вы входили. – Говорила леди Рочфорд. – Это очень понятно, – отозвался Генрих. – Я подожду здесь прихода врачей. Он вообще отличался брезгливостью, а болезни приводили его в ужас, поэтому Джейн удивилась, что на этот раз король остался. Но потом болезненные спазмы снова скрутили ее, и она забыла о нем. К шести часам, когда занялась заря, в ней уже не осталось ничего, что можно было выпустить из себя наружу с рвотой или поносом, но Джейн чувствовала себя страшно измученной и больной. Доктора с мрачными лицами смотрели на нее, распростертую на постели. Они исследовали ее мочу, составили гороскоп, пустили ей кровь, чтобы уравновесить гуморы в теле, и дали выпить порошок фиалкового корня с соком черной смородины. И еще послали за епископом Карлайла, исповедником Джейн. «Нет причин для беспокойства, – заверили они ее, – это лишь для того, чтобы дать вам духовное утешение». Она пустыми глазами следила, как горничные стараются проветрить комнату к приходу епископа. Бывший директор Итона, которого очень хвалили за эрудицию и ораторское искусство, епископ Олдрич всегда был прекрасным духовным наставником. Тепло улыбнувшись Джейн, он помолился у ее постели и совершил миропомазание для больных, сопровождая свои действия заздравной молитвой. – Я умру? – спросила его Джейн. – Все, кажется, сильно встревожены. – Если бы я так считал, то совершил бы миропомазание, которое применяется в критических случаях, – ответил он. – Это естественно, что мы все беспокоимся за вас, ведь вы явно сильно страдаете. – Где король? – Сидит в наружном покое, в халате. – Пожалуйста, попросите его вернуться в постель. Я теперь буду спать и надеюсь, мне станет лучше. Но прежде чем вы уйдете, не могли бы вы попросить моих фрейлин, чтобы они принесли мне чего-нибудь попить? Эта ужасная жажда никак не проходит. – Вашей милости нужно пить только кипяченую и процеженную воду, – посоветовал епископ. – Я заметил, что это очень эффективно при проблемах с желудком. – Хорошо, попросите их, пусть принесут. Благодарю вас. Однако акушерка заявила, что ничего подобного не слышала! – Всем известно, что вода вредна для вас. Я пошлю за элем. Его тут же принесли, и Джейн удалось выпить несколько глотков, прежде чем она провалилась в глубокий сон.
Она проспала все утро, а когда очнулась, комната была проветрена и в ней пахло сухими душистыми травами и цветами, которые принесли и расставили повсюду. Джейн стало лучше, только во рту пересохло и тело дрожало мелкой дрожью. Послали за Генрихом. Через несколько минут он был у ее постели. – Слава Богу, вам лучше! – воскликнул король, горячо целуя ее в лоб. – Я так волновался, и все остальные тоже. Прошел слух, что вы больны, и люди толпятся повсюду. Пришлось даже издать официальный бюллетень и объяснить, что происходит. Джейн поняла, что она была на краю гибели, но ей повезло. – Исповедник заверил меня, что все не так серьезно, как мне казалось. Я думала, что умираю. Она увидела слезы в глазах Генриха. – И я тоже! – Он схватил ее руку. – Но ведь теперь вам лучше, правда? – Правда! Видите, я сижу в постели. Тошнота прошла. И сил прибавилось. – Тогда я пойду в часовню и поблагодарю Господа за ваше спасение. Вы так дороги мне, Джейн. Мысль, что я могу потерять вас… – Он утер слезу. – Но теперь, раз вам стало лучше, мы можем продолжить празднования в честь рождения принца. И завтра – пусть это поможет вам поправиться – я объявлю Эдуарда принцем Уэльским. Ваш брат Эдвард станет графом Хартфордом, а Томас будет произведен в рыцари. Я планирую отправить его с дипломатической миссией, чтобы посмотреть, как он проявит себя. Это вас радует? – Разве может быть иначе?! – воскликнула Джейн. – Какая это честь для них! Генрих, вы так добры ко мне и моим родным. Она испытывала восторженный трепет при мысли, что благодаря ей – ну и, разумеется, способностям самого Эдварда – высокое положение и процветание ее семьи теперь были обеспечены.
Через два дня, в пятницу, принцу Эдуарду исполнилась неделя от роду. Вся Англия продолжала торжествовать. Джейн постепенно оправлялась, и Генрих снова обедал с ней. – Я хочу просить вас об одолжении, – сказала она. – Хм? – Король ловко отрезал ей два лучших куска мяса. – Мне очень хочется, чтобы вы простили леди Маргарет Дуглас. Теперь у вас есть наследник, она исключена из очереди на престол и совсем присмирела. – Ее следует помиловать и выпустить, – кивнул Генрих. – Мы обе в долгу перед вами. – Джейн положила ладонь на его руку. – А лорд Томас? – Я слышал, он очень болен. Если поправится, я освобожу его. – Мне грустно слышать о его болезни. Я помолюсь за него. – Этот глупец такого не заслуживает, – буркнул Генрих. – И если я отпущу его, пусть лучше не пытается увидеться с Маргарет и не пишет ей дурацких стихов. – А что с их брачным договором? – Расторгнут. У меня есть мысль выдать ее замуж за итальянского принца, чтобы упрочить связи с флорентийскими Медичи. Они очень богаты. И Маргарет полюбит Италию. Кстати, раз вам теперь лучше, я намерен завтра вернуться в Эшер, чтобы не упустить конец охотничьего сезона. Но к вашему воцерковлению я вернусь. Акушерка сказала, что это произойдет в начале следующего месяца, если все пойдет хорошо. – Я буду скучать по вас, – сказала ему Джейн, – но вам здесь нечем развлечься. Поезжайте и насладитесь охотой. Со мной все будет в порядке.
Вечером Джейн встала, чтобы воспользоваться горшком, теперь это было ей разрешено. Она выдавила из себя всего каплю и почувствовала, что задыхается. Больная легла в постель, но удушье не прекращалось, и около десяти вечера она почувствовала боль в груди и испугалась. Чем больше Джейн тревожилась, тем хуже ей становилось. Короля проинформировали немедленно, он быстро явился, весьма озабоченный, за ним следовали доктора. К этому моменту сердцебиение у Джейн участилось и боль пронзала ей грудь при каждом вздохе. Она боялась, что задохнется. Доктор Чеймберс, как мог, старался ее успокоить: – Ваша милость, вы тревожитесь из-за пустяка. Если вы успокоитесь, вам станет лучше. Расслабьтесь и дышите глубоко. Джейн легла ровно, слова доктора утешили ее, и она попыталась прогнать страх. Однако, хотя мышцы ее расслабились, боль и одышка не исчезли и сердце продолжало бешено колотиться. Она увидела, как доктор Баттс и доктор Чеймберс тревожно переглянулись. Что с ней происходит? – Мне легче, если я сяду, – сказала им Джейн, и ей помогли приподняться на постели, взбили подушки и осторожно опустили на них. – Не волнуйтесь, мадам, – уговаривал ее доктор Чеймберс. – Все будет хорошо. Потом они с доктором Баттсом и Генрихом удалились в соседнюю комнату. Джейн испуганно следила за ними. Генрих вернулся, улыбаясь, но она чувствовала, как он напряжен. – Они думают, это какая-то простуда, ничего серьезного. – Но меня не знобит, – задыхаясь, проговорила Джейн. – И мне становится хуже! Король нахмурился: – Жар, может быть, прошел. Не нужно так пугаться, от этого станет только хуже. Постарайтесь уснуть, дорогая. Она схватила его за руку и взмолилась: – Останьтесь со мной! – Конечно, – кивнул Генрих. – Я не оставлю вас, пока вы не поправитесь.
Джейн удалось ненадолго забыться, но, когда она проснулась, тупая боль в груди и ужасная одышка никуда не делись. Поверхностное дыхание давало некоторое облегчение. Генрих не мог скрыть тревогу. Он снова позвал докторов, они еще раз осмотрели больную и посовещались с королем, при этом вид у обоих был весьма растерянный. Они не понимают, что с ней творится, заключила Джейн. Генрих вышел в наружный покой, но дверь за ним закрылась неплотно, и она услышала слова короля: – Прикажите всем лондонским священникам, мэру, олдерменам и всем гильдиям – пусть устроят торжественную процессию, идут в собор Святого Павла и просят о заступничестве Господа, благополучии принца и здоровье королевы. По крайней мере, Генрих первым упомянул Эдуарда, значит о ней не слишком беспокоился. Прошла суббота, симптомы болезни ухудшились, и к вечеру воскресенья Джейн уже не могла лечь на спину, так как сразу начинала задыхаться. Генрих пролежал рядом с ней всю ночь, на расстоянии, потому что она не могла вынести, если он прислонялся к ней, но все время держал за руку. Пока он спал, Джейн едва дышала, лежа без сна под прохладным сквозняком, – она настояла, чтобы окно не закрывали. Снаружи в комнату лился лунный свет, на стене появилась тень. Нет! Только не сейчас! И тут Джейн впервые ясно разглядела хорошо знакомые черты: узкое лицо, заостренный подбородок, темные глаза, сверкавшие мстительной ненавистью. Теперь она не сомневалась, кто это приходил к ней во мраке ночи и что предвещало появление этой тени. «Я умру», – в отчаянии подумала Джейн.
Утром она твердо сказала себе: «Это все ночные страхи». Но теперь несчастная уже хваталась за соломинку. Дышать было так трудно, что приходилось наклоняться вперед и раскидывать в стороны руки. Она не могла найти удобной позы, ворочалась так и этак и ужасно нервничала. – Откройте окно! – с трудом проговорила Джейн. – Оно открыто, мадам, – ответила Мэри Монтигл, не в силах скрыть тревогу. – Мне нужен воздух! – прошептала Джейн. – Как же холодно! – Она бредит. Это говорил Генрих, в голосе его отчетливо слышался страх. Забыв о своих охотничьих планах, он все время был с ней. – У нее отекли лодыжки, – заметила акушерка. – Боже! – воскликнул король. – Неужели никто не может ничего сделать? Позовите врачей! – Воздуха, прошу! – молила Джейн. Марджери схватила несколько листов с нотами, которые Генрих оставил рядом с лютней на столе, и начала обмахивать ими королеву.
Пришли доктора и начали суетиться вокруг больной. Примерно через час она почувствовала, что дышать стало немного легче и боль в груди слегка утихла. – Есть надежда на выздоровление, – объявил доктор Чеймберс, когда Джейн шепотом сообщила ему добрые вести. Она увидела выражение величайшего облегчения на лице Генриха и слезинку на его щеке. Он оставил ее на минутку, чтобы переговорить с врачами, и вернулся, лучась улыбкой. – Даст Бог, скоро вам станет лучше! – сказал он, беря Джейн за руку. – Если так, я поеду в Эшер, как планировал, но если нет, то не оставлю вас, пока не удостоверюсь, что опасность миновала. – Мне угрожала опасность? – уставилась на него Джейн. – Врачи говорят так. Но, хвала Господу, вы немного оправились. Чеймберс с Баттсом сказали мне: если ваше состояние неухудшится ночью, они очень надеются, что самое страшное останется позади.
К вечеру Джейн опять начала задыхаться, на пищу смотреть не могла, поэтому Генрих быстро ушел и ужинал в одиночестве, но обещал вернуться, чтобы пожелать ей доброй ночи. Он отсутствовал примерно час. За это время боль вернулась, мстя за временную передышку, и Джейн не могла вдохнуть. – Она синеет! – крикнула акушерка. – Позовите докторов. Быстро! И короля! – А сама потянула Джейн за руки. – Дышите, вдох – выдох, вдох – выдох! – командовала повитуха. Джейн хватала ртом воздух. Ноги у нее похолодели, а руки – она сама видела – стали сизыми. – Помогите! – выдавила из себя несчастная. – Не могу дышать. Дверь распахнулась. В спальню ворвался Генрих. – Матерь Божья! – воскликнул он, увидев жену. – Джейн! Джейн! Следом за ним прибежали доктора. Она больше не могла бороться. Легкие не дышали. Ей так хотелось остаться с Генрихом, так хотелось остаться, но она не могла вдохнуть, сил не хватало. И ей было холодно, очень холодно. Но кое-что она должна была сделать – увидеть своего малыша, своего бесценного мальчика в последний раз и благословить, чтобы это благословение сопровождало его всю жизнь. Джейн откинулась на подушки, чувствуя, что растворяется в небытии. – Эдуард, – прошептала она, но больше не могла произнести ни слова. – Принести принца? Это был голос Марии. Она пришла, благослови ее Господь, когда мачехе нужна была помощь. – Нет, мадам, мы не можем рисковать, – сказал доктор Чеймберс. – Тут нет никакого риска! – возразил Генрих. – Я здесь, а я бы не остался, если бы мог заразиться. Принесите ребенка. – Его слова прервались рыданием. – Я принесу его. Кто это сказал? Кромвель? Даже он здесь? Все происходило как во сне, голоса и лица расплывались и перемешивались. – Поторопитесь! Времени мало. – Нет! – Это Генрих вскрикнул мучительно. Джейн открыла глаза, понимая, что нужно попрощаться. Она так много хотела сказать ему, но не могла – последнее дыхание нужно сберечь для Эдуарда. Она услышала, как колокол на главном дворе прозвонил два раза. Тень была здесь, на стене, манила ее. Джейн слабо подняла руку и указала в ту сторону, сжимаясь от страха. Если это звало ее в вечность, значит ей точно уготован ад. – Что она делает? – спросил Генрих. – Думаю, бредит, – отозвалась Мария. Джейн понимала, что пришел епископ Карлайл, встал рядом с ней на колени, дал ей последнее причастие, помазал миром и отпустил грехи. Про себя она молилась, чтобы Господь не оставил милостью Эдуарда и Генриха, когда ее не будет, и простил ей все прегрешения, надеясь, что испытанное при жизни искреннее раскаяние зачтется ей, когда она предстанет перед судом Господним. Она вновь бросила взгляд на стену, тени там не было. Может, ей привиделось? И она все-таки отправится на небеса? Ждут ли ее там Энтони, Марджери и отец? Как бы ей хотелось, чтобы сейчас рядом была мать. Генрих, низко опустив голову, сжимал ее руку и безутешно плакал. Она услышала слова Кромвеля: – Все собираются в Королевской капелле. Если молитва спасет ее милость… – Завершения фразы Джейн не услышала. – Не было еще ни одной женщины, которую так любили бы люди – все, богатые и бедные, – сказала Мария. – Сэр, я послал за герцогом Норфолком, чтобы тот распоряжался, пока вы заняты здесь, – произнес Кромвель упавшим голосом и замолчал. Джейн и не догадывалась, что он относится к ней с такой теплотой. – Боже, что я могу для нее сделать! – воскликнул Генрих; его голос прозвучал где-то совсем рядом. – Вся моя власть ничего не стоит. Я теряю свое самое дорогое сокровище и ничем не могу помочь. О дорогая, не оставляйте меня! – Он с рыданиями повалился на постель и обхватил жену руками. Джейн смутно сознавала, что рядом с ней положили ребенка. Она слышала его сопение, чувствовала тепло маленького тельца, прикасавшегося к ее ледяной коже. Жадно хватая ртом воздух, королева попыталась поднять руку и благословить младенца, но сил не хватило, поэтому она благословила сердцем своего милого сыночка, своего маленького короля. Она дала ему жизнь, а он ей – надежду на искупление грехов и на будущее. Жизнь ее угасала, и образ его личика в форме сердечка, милее которого не было на свете, Джейн забирала собой в вечный свет.
От автора
Возвышение Джейн Сеймур выпало на три самых бурных года в английской истории. Она оказалась в центре потрясений и драматических событий, связанных с Реформацией, стала свидетельницей падения Анны Болейн и сохранила приверженность старой вере в то время, когда Церковь Англии сотрясали перемены геологического масштаба. Если бы сохранились какие-нибудь письма, в которых были бы отражены ее взгляды на эти события, мы знали бы больше о ее роли в них, но таких писем нет, и Джейн остается для нас загадкой. Историки без конца спорят, была она, робкая и добродетельная, послушным инструментом в руках амбициозного семейства и безропотно подчинялась властному королю или сама так же жаждала возвышения, как ее родные, и сыграла активную роль в свержении королевы, которой служила. Учитывая скудость достоверных источников, прийти к окончательному выводу невозможно. И тем не менее беллетристы, берущиеся воссоздавать образ Джейн Сеймур, вынуждены склоняться к тому или иному мнению. Для меня это был сложный выбор. Чтобы сделать его, мне пришлось заново осмыслить исторические свидетельства, на которых основывается моя книга, в поисках ключей к созданию портрета этой женщины. Что нам известно о Джейн Сеймур, помимо голых фактов из ее жизни? Мы знаем, что, когда только начался процесс роспуска монастырей, она просила об их восстановлении. Это весьма определенно относит ее к лагерю традиционалистов, как и тот факт, что Джейн несколько лет служила Екатерине Арагонской и, вероятно, некоторое время оставалась при ней уже после того, как несчастная королева была отправлена в ссылку. Вероятно, Джейн находилась в тени или под мощным влиянием своих амбициозных братьев. Однако сохранила старую веру, хотя ее старший брат Эдвард, будущий лорд-протектор Англии, был реформистом, а значит, его сестра обладала собственным мнением. Придерживаясь реакционных взглядов и, возможно, из личной преданности, Джейн стала заступницей для дочери Екатерины Арагонской леди Марии, о которой в книге всегда говорит как о законной принцессе, несмотря на то что та была объявлена бастардом. Она упрашивала Генриха VIII наладить отношения с дочерью и вернуть ее ко двору. Джейн добивалась этого не только ради самой Марии, но и потому, что ей самой было одиноко при дворе, она нуждалась в подруге, близкой к себе по статусу. И это подтверждает мое предположение, что, став королевой, она почувствовала необходимость подчеркнуть свой новый ранг и создать дистанцию между собой и теми, кто был ниже ее по положению. Я не считаю это проявлением снобизма, скорее это поступок дочери рыцаря, которая ощущала свою ущербность, страдала от недостатка уверенности в себе рядом со знатными придворными дамами. В такой ситуации, естественно, она старалась, как могла, заставить окружающих уважать свой новый высокий статус. Некоторые находят в Джейн определенную неотесанность, выводя ее из нервозности, которую она испытывала во время официального приема императорского посла Шапуи. Как я уже говорила, писем Джейн почти не оставила. Но в одном, где она в формальных выражениях оповещает о рождении сына, чувствуется вполне понятное торжество и уверенность в себе, а значит, к этому моменту «деревенская девушка» уже освоилась с новой для себя ролью. Записанных высказываний Джейн тоже сохранилось крайне мало, но они позволяют предполагать, что это была женщина гуманная и склонная к состраданию. Дерзкая мольба о спасении монастырей, публично обращенная к Генриху, многое говорит о ее духовной отваге, тем более что произошло это в момент, когда по стране шло маршем Благодатное паломничество, и, выражая свое мнение, Джейн открыто становилась на сторону мятежников, которые противились королевским реформам и требовали прекратить роспуск святых обителей. На основании этих свидетельств мы можем считать Джейн человеком думающим и совестливым, не боящимся поднимать голос, когда задеты принципы. Однако многие исследователи выставляют Джейн не в таком лестном свете. Кто-то соглашается с викторианским биографом королевы Агнес Стрикленд, которая считает ее поведение бесстыдным и утверждает, что согласие Джейн принять ухаживания Генриха VIII стало началом ужасных бед, которые постигли ее госпожу, и дальше исследовательница мечет громы и молнии: «В Писании ситуация, когда служанка занимает место своей госпожи, порицается как особенно позорная… тошнотворное ощущение ужаса и отвращения должно охватить всякий склонный к правде и справедливости ум, когда речь заходит о поступках скромницы Джейн Сеймур. Она принимала авансы супруга своей госпожи… она пассивно наблюдала за смертными муками Анны Болейн… она видела, как против королевы выдвигают целую серию убийственных обвинений, которые в конце концов привели ее на эшафот». Стрикленд охотно забывает о том, что десятью годами раньше сама Анна начала строить планы, как занять место своей царственной повелительницы, и позже замышляла ее убийство. Однако если критические выпады этой исследовательницы рождены ее религиозными и моральными убеждениями, то современные хулители Джейн высказываются против нее скорее из подспудной преданности Анне Болейн. Однако единственное свидетельство вовлеченности Джейн в свержение Анны – это ее согласие на словах очернить госпожу в глазах Генриха. Но такой поступок невозможно приравнять к потворству заговору с целью уничтожения соперницы. Арест Анны 2 мая 1536 года стал для большинства людей сюрпризом, скорее даже шокировал, ведь многие считали: если Генрих и решит избавиться от нее, то только путем аннулирования брака. Кроме Томаса Кромвеля, который позднее признавался, что после случившегося 18 апреля выдумал любовные приключения королевы, коалиция ее противников, собравшаяся в начале 1536 года, едва ли имела ясное представление о том, к чему в конечном итоге должны привести их совместные усилия. Никакие известные нам сведения о Джейн Сеймур не подтверждают, что она замышляла смерть Анны, как голословно утверждает Стрикленд. Многие современники Екатерины Арагонской – вообще говоря, большая часть христианского мира – считали ее брак с Генрихом VIII законным, такой взгляд подкрепляют и объективные исследования соответствующих положений канонического права. Джейн явно держалась того же мнения и наверняка относилась к Анне Болейн всего лишь как к другой женщине, которая узурпировала место Екатерины и стала причиной ее несчастий. Она не могла смотреть на Анну как на законную супругу Генриха VIII, и это, несомненно, укрепляло ее решимость, когда она принимала ухаживания короля. Раз Джейн не признавала состоятельным его брак с Анной, то и любовные отношения с Генрихом не казались ей адюльтером. В действительности – и об этом говорится в книге – она, вероятно, считала Анну причиной многих неприятностей, которые нарушали мир и покой в королевстве: плохого обращения с законной королевой и ее дочерью, еретических реформ, пролития крови честных людей. Надеялась ли она, что король женится на ней? Скорее всего, поначалу нет, хотя ее родные вполне могли ожидать для себя каких-то выгод от этой любовной интрижки. Все они, без сомнения, знали, что Анна Болейн была простой фрейлиной, когда король решил взять ее в жены. Но Джейн видела, как Генрих одну за другой менял любовниц, так что, может быть, она просто решила воспользоваться удачным моментом и извлечь из интереса к себе короля как можно больше пользы. В этом на нее вполне могли давить родственники, особенно братья. Или, что вполне вероятно, она просто любила Генриха. Анна знала об увлечении короля Джейн и возмущалась. Нам известно (из мемуаров Джейн Дормер), что королева и фрейлина «цапались», доходило и до шлепков. Наказывать слуг, в том числе и физически, – привилегия госпожи. Я не могу поверить, что раздавать удары и шлепки могла Джейн. Ситуация изменилась в начале 1536 года, когда составилась неудачливая коалиция из придворных консерваторов и радикалов, которые вознамерились свергнуть Анну Болейн. Джейн попросили при каждом удобном случае напоминать королю о недостатках и промахах Анны. Похоже, она согласилась. Повторюсь, Джейн могла рассматривать это как возможность освободить Генриха – и Англию – от пагубного влияния Анны, хотя не предвидела более тяжелых последствий для соперницы, чем развод с королем. Может быть, Джейн верила обвинениям против Анны или хотела верить. История с башней Мирефлорес – чистая выдумка и продолжает линию, начатую в моем предыдущем романе «Анна Болейн. Страсть короля». Но почему Джейн с такой тревогой ждала вердикта по делу Анны? Страстно желала получить корону? Или страдала из-за чувства вины и боялась услышать, что станет королевой, в буквальном смысле переступив через труп Анны? Ответов на эти вопросы мы не знаем. Но нам известно, что Генрих VIII после женитьбы на Джейн ожидал от супруги послушания и покорности, а сам относился к ней покровительственно, понимая, что у нее совсем нет опыта. Она не вмешивалась в политику и, судя по замечанию Шапуи, не вступала в дискуссии на подобные темы. Поэтому весьма маловероятно, что Джейн была вовлечена в драматические события конца апреля 1536 года, хотя могла быть в курсе происходящего. Чувствовала ли она себя до некоторой степени ответственной, ведь настраивала же Генриха против Анны и поощряла его ухаживания? По моей теории – да. Исходя из этого посыла, я и набрасывала портрет Джейн. Сохранила ли она девственность до брака? Генрих начал оказывать ей знаки внимания в октябре 1535 года, их любовная история динамично развивалась до февраля 1536-го, когда Джейн вернула присланный ей королем кошелек с золотыми и попросила приберечь его до того времени, когда благополучно выйдет замуж. После этого, в марте, Генрих поселил брата Джейн с супругой в апартаментах в Гринвиче, куда мог приходить по потайной галерее и посещать возлюбленную в присутствии родственников. Получается, о ее девственности все вдруг забеспокоились через пять месяцев после начала отношений. В предыдущем году Генрих обдумывал расторжение брака с Анной, но его удержало от этого следующее соображение: развод с Анной станет косвенным признанием того, что, отстранив от себя Екатерину, он поступил неправильно, и тогда у его подданных возникнут неоправданные ожидания, не примет ли король супругу обратно. Но теперь Екатерина перешла в мир иной, а у Анны только что случился выкидыш – она не выносила сына, – так что аннулирование брака не будет сопровождаться никакими инсинуациями. И тем не менее Генрих колебался. Если он избавится от Анны, это все равно могут посчитать признанием женитьбы на ней ошибкой. Только в конце апреля, когда королю предъявили шокирующие свидетельства, он наконец решился освободиться от Анны. А у него под крылом как раз приютилась с виду целомудренная Джейн. Известно, что Генрих впервые заговорил с ней о женитьбе перед арестом Анны 2 мая. Я подозреваю, это произошло после прочтения обвинений. Но была, вероятно, и другая причина, почему он решил взять в жены Джейн. Что именно происходило между ними в предшествовавший февралю период? Разумеется, у Анны были поводы ревновать короля. 26 июня 1536 года некий Джон Хилл был обвинен в клевете на Генриха за утверждение, что король познал королеву уже полгода назад. Говоря это, обвиняемый имел в виду, что где-то в декабре или январе Генрих либо попросил ее руки, либо – что более вероятно – сделал своей любовницей. Будучи историком, я бы не принимала всерьез это клеветническое утверждение, однако сохранилось еще одно свидетельство, странным образом подкрепляющее первое. В июне доктор Ортис, императорский посол в Риме, сообщал, что новая королева Джейн на пятом или шестом месяце беременности. Вероятно, посол передавал непроверенные слухи, которым не стоит придавать особого значения, тем не менее нельзя полностью отрицать вероятность того, что Генрих и Джейн стали любовниками зимой 1535–36 годов и интимные отношения между ними продолжались до февраля, когда она сама или ее родные заметили уязвимость Анны и решили, что вакансия супруги короля в скором времени может освободиться или что при вступлении в брак она уже была беременна. Последнее обстоятельство объяснило бы ту поспешность, с которой была решена участь Анны. В 1929 году Фрэнсис Хакетт в изрядно романтизированной биографии Генриха VIII поставил несколько весьма важных для сути дела вопросов: «Почему развод с Анной откладывался много месяцев, а потом вдруг возникла такая спешка? Зачем жениться на незнатной женщине? К чему, наконец, такой поспешный брак? Ведь не было никаких разговоров о поисках невесты во Франции или в Империи. Почему казнь, а не развод? Смерть Анны была дважды необходима, если беременность Джейн переходила в стадию, когда становилась заметной. Генриху для принятия решения нужно было только одно: знать, что Джейн Сеймур способна стать матерью. Обеспечить себя наследником мужского пола – это было его манией. Их скоропостижное сочетание браком заняло всего десять дней: не было соответствующих случаю приготовлений, общественность никто не оповещал, и прочих положенных, по обычаю церемоний Генрих не соблюдал. Отсюда – тихо проведенные Джейн первые месяцы после свадьбы, предположение Генриха (в августе), что он не может быть отцом, и отсюда же – длинный промежуток от момента женитьбы до зачатия Эдуарда. Беременность Джейн могла стать поводом для поспешного и неотвратимого устранения Анны Болейн». Столь скорое падение Анны также может объясняться желанием Кромвеля действовать быстро, чтобы король не успел испытать жалости к опальной супруге и не оказал ей снисхождения, но у Генриха не было нужды совершать помолвку с Джейн на следующее утро после казни или жениться на ней через десять дней, если его новая королева не была беременна. Когда Джейн просила за Марию, Генрих напомнил ей про общих детей, которые у них появятся. Сама Мария во всех письмах, отправленных в июне, выражает надежду, что королева родит сына или окажется плодовитой. Разумеется, оба они – и Генрих, и Мария – могли облекать в слова абстрактные надежды на будущее. Но если Джейн была в положении, то могла потерять ребенка на ранней стадии (довольно обычная ситуация), в противном случае король объявил бы о ее беременности. Я понимаю, эти рассуждения содержат в себе противоречия, что отразилось на страницах книги. Как историк, я бы не стала утверждать, что Джейн была беременна, выходя замуж, но держала бы в уме возможность этого. Вероятно, была у Джейн и еще одна неудачно закончившаяся беременность. Среди бумаг герцога Ратленда в замке Бельвуар сохранилось опубликованное лондонским издателем Томасом Колуэллом описание того, как в 1536 году была вновь принята при дворе леди Мария. В нем упоминается обморок Марии и то, как король гладил по животу Джейн, которая была «great with child» (букв. «велика с ребенком»), и приговаривал: «Эдуард, Эдуард!» Выражение «great with child» необязательно означает, что у Джейн был большой живот, а только то, что она ждала ребенка. Эти слова в те времена использовались и для описания женщин на ранних сроках беременности. Колуэлл был успешным издателем с 1560 года до своей смерти в 1576-м. В опубликованном описании это событие происходит в Виндзоре 17 декабря 1536 года, но нам известно, что Мария вернулась ко двору в октябре, а 17 декабря двор находился в Уайтхолле. В рассказе имеются и другие изъяны: так, в нем утверждается, что «было приказано называть ее [Марию] леди принцесса, а другую – леди Елизавета», что некорректно, однако детальное описание самой встречи выглядит убедительным и может действительно относиться к визиту Марии в Виндзор в октябре 1536 года и основываться на свидетельствах очевидцев или ином недоступном нам, но современном моменту источнике. Невозможно представить, чтобы возвращение Марии ко двору не сопровождалось какой-нибудь церемонией. Тем не менее, принимая во внимание косвенные свидетельства этого документа, большинство историков в целом игнорируют его, вероятно, из-за многочисленных неточностей, что не является чем-то исключительным, когда речь идет о текстах, составленных во временно́м промежутке от 23 до 40 лет после описываемых событий, а еще и потому, что Джейн никак не могла в тот момент ожидать рождения Эдуарда VI, даже если дело происходило в декабре 1536 года. Но что, если в октябре 1536-го она была беременна другим ребенком? Очень непохоже, что Джейн могла зачать в феврале, в таком случае имелись бы и другие упоминания о ее состоянии, как в 1537 году, когда она определенно была беременна, например: объявление Тайному совету, публичные празднования и молебны, особенно если учитывать, что появление ребенка на свет ожидалось в ноябре. А в августе Генрих выражал сомнения в том, что у него будут дети от Джейн. Тем не менее беременность ребенком, зачатым в августе и потерянным в октябре или ноябре, нельзя сбрасывать со счетов. Нет ничего необычного в том, что у женщины за короткий промежуток времени произошло два выкидыша, а следующая беременность развивалась удачно. На самом деле вероятность успешного вынашивания плода больше, если зачатие происходит в течение шести месяцев после несвоевременного прерывания предыдущей беременности. Я понимаю, что эта теория тоже противоречива, и, хотя как историк отношусь к ней с осторожностью, моя книга – произведение художественной литературы, и я не могла не поставить перед собой вопрос: а что, если?.. Я не стала развивать в романе линию, основанную на широко распространенных безосновательных утверждениях, что Джейн перенесла кесарево сечение. Слухи об этом циркулировали по Лондону в то время, но в 1585 году католический автор Николас Сандер, враждебно настроенный к Генриху VIII, написал: «…когда Джейн претерпевала родовые муки, ее ноги были раздвинуты в стороны, чтобы дать проход ребенку, или (по утверждениям других) ей рассекли лоно, чтобы можно было вытащить готового родиться младенца, из-за чего королева и умерла. Роды ее были тяжелыми, короля спросили, какую из двух жизней спасать. Он ответил – ребенка, потому что легко мог взять себе другую жену». Дальше говорится о кесареве сечении, однако первое свидетельство о проведении подобной операции на живой роженице появляется не раньше 1610 года, а если бы Джейн ее и сделали, то все закончилось бы быстрой и мучительной смертью роженицы. До XX века кесарево сечение не умели проводить безопасно для матери. Тем не менее эта версия событий получила широкое распространение и продолжает существовать. В своей хронике 1643 года сэр Ричард Бейкер заявляет, что Джейн «по необходимости разрезали», а в старинной балладе «Смерть королевы Джейн», которая существует в многочисленных версиях, самая ранняя из которых датируется 1612 годом, хотя разрешение на публикацию баллады под названием «Плач по королеве Джейн» было выдано в 1560-м, говорится, что роды Джейн длились шесть дней и даже больше. Она молила, чтобы ей разрезали бок ради спасения ребенка, и Генрих неохотно согласился на это. Есть и другая причина, почему я не принимаю этот миф. Принято считать, что Джейн умерла от родильной горячки, но в источниках нет упоминаний о жаре, лихорадке. Когда я изучала их и просматривала хронологию событий, у меня создалось впечатление, что Джейн одновременно страдала от двух разных недугов. Роды королевы продолжались с вечера 8 октября 1537 года до двух часов после полуночи 12-го, когда родился ее сын. Вечером 12-го Джейн писала письма, сообщая о радостном событии, а ночью 15-го сидела в постели и принимала гостей, которые были на крестинах. Похоже, никаких осложнений у нее не было, роды прошли нормально. Я сама рожала первого ребенка примерно столько же времени, и опыт Джейн, описанный в романе, отражает мой, за исключением того, что мне давали таблетки снотворного, а не тюдоровский травяной настой! Джейн стала плохо себя чувствовать только вечером 16 октября, через четыре дня после рождения Эдуарда. Состояние больной описано ее духовником, епископом Карлайла, и врачами в бюллетене, где утверждается, что королева испытывала «естественную слабость (natural lax, то есть поносила. – Е. Б.), но начала приходить в себя [повеселела] и (судя по всему) поправляется, так продолжалось до вечера. Всю эту ночь она была очень больна (sick)». Слово «sick» в данном случае означает «больна» в общем смысле слова, тут не обязательно имеются в виду тошнота и рвота. Некоторые исследователи понимают слово «lax» как послеродовое кровотечение (из чего развилось несколько теорий), но с 1400 года оно (иногда в форме «laske») означает «расстройство кишечника», от него происходит слово «laxative» – «слабительное». На следующий день, в среду, Джейн стало лучше, и больше никаких бюллетеней о ее болезненном состоянии не составляли до вечера пятницы, 19 октября. Самочувствие королевы ухудшилось в субботу и воскресенье, а в ночь на понедельник больная пребывала «в большой опасности». Во вторник вечером короля позвали к ее постели, так как стало ясно, что она умирает. Джейн отошла в мир иной на следующее утро, 24 октября. После ее смерти болезнь приписали «ошибке тех, кто был рядом с ней, подверг ее воздействию холода и позволил есть то, чего желала ее болезненная фантазия». Других описаний смертельной болезни королевы Джейн не существует. Судя по всему, первая стадия болезни – это пищевое отравление, но оно быстро прошло. Упоминание в заключении о причинах смерти о вкушении королевой неподходящей пищи можно считать добавленным для большей убедительности. А вот слова о том, что Джейн было холодно, стали основанием для заявлений о ее гибели от родильной горячки. Однако это состояние в то время уже умели определять довольно точно, и оно, разумеется, было бы описано как таковое. Скорее всего, этот холод объясняется совершенно иначе. Я показала исторические свидетельства Сюзанне Шульд, медицинской сестре с тридцатилетним опытом работы в неотложной медицинской помощи; она, в свою очередь, обсудила их с коллегами – докторами медицины Мелиссой Рокфеллер, Карен Маори и Мишель Секверре. Кроме того, я проконсультировалась с Сильвией Говард, опытной акушеркой. Я безмерно благодарна этим пяти экспертам-медикам: они выдвинули несколько предположений относительно причин смерти Джейн Сеймур, которые опровергли прежде сформулированные теории. Их мнения легли в основу моей интерпретации событий. Любые ошибки в толковании и изложении предоставленной мне экспертами информации относятся на мой счет. Вкратце ситуация выглядит такой, как описано ниже. Как я подозреваю, Джейн, скорее всего, перенесла два разных заболевания, и первое – это, вероятно, пищевое отравление (моя личная теория). При рассмотрении второго, так как в отчетах нет упоминаний о лихорадке, кажется маловероятным, что это была родильная горячка или эндометрит, у которых сходные симптомы. Судя по имеющимся свидетельствам, смерть, возможно, наступила вследствие сочетания обезвоживания и закупорки кровеносного сосуда, что привело в конечном итоге к параличу сердца. Может быть, у Джейн развился тромбоз в ноге или почечной лоханке, тромб оторвался и мигрировал в правый желудочек сердца и легкие. Спровоцировать это могло то, что она бегала в туалет при отравлении или вставала с постели, чтобы слуги перестелили белье. Закупорка кровеносного сосуда не всегда ведет к мгновенной смерти. У Джейн могло быть несколько мелких тромбов, которые затруднили работу сердца и дыхательных мышц и ослабили ее дыхание, особенно если из-за анемии у нее был нарушен кислородный обмен. Современники отмечали, что у королевы была бледная белая кожа, а это может свидетельствовать о малокровии. Если Джейн страдала от анемии и обезвоживания после пищевого отравления, ее сердце могло испытывать непомерную нагрузку, и оно не выдержало прибавления к этим проблемам закупорки сосудов. Сердце у нее было относительно молодое, и оно сдало не сразу, отсюда и продолжительность ее последней болезни. Сочетание анемии, возможной значительной кровопотери в процессе долгих родов, обезвоживания от диареи с малой подвижностью при соблюдении постельного режима могло привести к закупорке сосудов и появлению нескольких тромбов. Этих факторов было недостаточно для провоцирования мгновенной смерти, но хватило для постепенного развития кардиопульмональной недостаточности, результатом которой стала гибель Джейн. Симптомы, которые она испытывала перед кончиной, особенно постоянное ощущение холода, навели меня на мысль, что кожа ее, особенно конечности, должны были приобрести синюшный оттенок. Сюзанна Шульд, которая наблюдала такие состояния много раз, описала мне, как ей видятся стадии последней болезни Джейн, и объяснила, какая терминология используется во врачебной практике, за что я ей очень благодарна. Помимо моих личных теорий, о которых написано выше, изложенные в этой книге события существенно подкреплены историческими источниками. Начальные главы романа полны художественного вымысла, потому что о детских годах Джейн мы имеем только отрывочные сведения. Часть текста основывается на материалах, собранных для неопубликованного романа о Джейн Сеймур, который я назвала «Некая юная леди». История семьи Сеймур, изложенная в романе сэром Джоном, на самом деле была менее цветистой. Хотя Сеймуры называли себя потомками одного из рыцарей, пришедших с Вильгельмом Завоевателем, предположительно носившего фамилию Сен-Мор в честь Сен-Мор-сюр-Луар, родившегося в Турени, их первый точно известный предок – это Уильям де Сент-Мор, который владел поместьем в Монмутшире в 1240 году. Семейная ветвь, к которой принадлежала Джейн, отделилась от общего фамильного древа в Уилтшире в конце XIV века. Достоверных свидетельств о том, что реальная Джейн хотела стать монахиней, не существует, но, учитывая ее смелую мольбу о восстановлении монастырей, можно заключить, что она имела особое почтение к святым обителям вообще или к некоторым из них. Из этого я вывожу предположение, что в определенный период жизни Джейн могла раздумывать о вступлении в монастырь. Мы не знаем, почему Джейн так долго не могли подыскать подходящего супруга и по какой причине младшие сестры были выданы замуж раньше ее, но это могло объясняться желанием Джейн посвятить себя религии. Нет ясных свидетельств и о том, что сэр Фрэнсис Брайан ухаживал за Джейн, хотя он определенно был ей другом и не всегда действовал в личных интересах, насколько об этом можно судить. Похоже, в семействе Сеймур действительно разразился какой-то скандал за несколько лет до того, как Джейн привлекла внимание Генриха VIII. В 1519 году Эдвард Сеймур уже был женат на Кэтрин, дочери и сонаследнице сэра Эдварда Филлола. Она родила двоих сыновей: Джона – предположительно в 1519-м и Эдварда – приблизительно в 1527-м, после чего отправилась в монастырь. Ее отец в завещании 1527 года, которое Эдвард позже оспорил, постановляет, что «по многим разнообразным причинам и соображениям» ни Кэтрин, «ни наследники ее тела, ни сэр Эдвард Сеймур, муж ее, ни при каких условиях» не унаследуют «никакую часть его земель» и он оставляет ей 40 фунтов, «при условии, что она будет вести добродетельную жизнь в какой-нибудь обители для женщин». В июле того же года он умер. Вероятно, после этого скандал и вышел на свет. Кэтрин изгнали из семейства Сеймур, и, оставшись без средств к существованию, она была вынуждена уйти в монастырь, хотя нет сведений о том, что это был именно Эймсбери. Я выбрала его из-за близости к Вулфхоллу. Благодаря этому Кэтрин могла заявить права на оставленные ей 40 фунтов. Она умерла в начале 1535 года, и Эдвард сразу женился на неукротимой Энн Стэнхоуп, леди, печально известной своей заносчивостью. Но была ли у Кэтрин любовная связь со свекром, сэром Джоном Сеймуром? Запись на полях в «Книге пэров», изданной в XVII веке Винсентом из геральдической палаты, утверждает, что Эдвард отверг Кэтрин «quia pater ejus post nuptias eam congovit» – «потому что его отец познал ее после свадьбы». Есть еще только одно свидетельство в том же роде: в 1674 году Питер Хейлин заявил, что некий колдун предсказал будущее Эдварду и дал ему «увидеть знакомого джентльмена в более вольной позе с его женой, чем то приличествовало бы чести обоих. И он так уверовал в дьявольскую иллюзию, что не только начал по возвращении домой сторониться общества жены, но предоставил своей следующей супруге прекрасную возможность давить на себя, и та понуждала его лишить наследства детей от первого брака». Кажется, у Эдварда действительно были сомнения по поводу отцовства его сыновей от Кэтрин, так как в 1540 году, подстрекаемый своей норовистой женой Энн Стэнхоуп, он оставил без наследства их обоих. Если кровосмесительная связь на самом деле имела место, это давало еще больше поводов скрывать эту неприятную историю, но нам следует помнить, что сэр Уильям Филлол по неясным причинам лишил наследства и Кэтрин, и Эдварда. Вероятно – и эту версию я решила изложить в романе, – он не одобрял того, как его зять обращается с женой. Безразличие Эдварда могло толкнуть несчастную женщину в объятия его отца, что, конечно, непростительно. Название Вулфхолл я привожу в старинной форме, а оно происходит от саксонского Ulfela (Ульф-Холл, по имени главы клана, который им владел), упомянутого в кадастровой книге Вильгельма Завоевателя в 1086 году. О чувствах Шапуи к Марии мне намекнул биограф имперского посла Лорен Маккей. В романе есть линия сверхъестественного. Отвращение Джейн к Беддингтон-парку базируется на моей собственной реакции на этот дом (теперь в нем размещается специальная школа Кэри-Мэнор), когда я приехала туда однажды вечером, чтобы показать его одному другу-историку. Мы оба испытали такой страх, что я быстро повернула назад, хотя полностью согласна с тем, что тут, вероятно, сыграло роль мое гиперактивное воображение. В Беддингтоне Джейн привиделось лицо в окне церковной башни – вероятно, сэра Уолтера Рэли, голова которого похоронена там. Ее преследовала также тень Анны Болейн. Но реальна ли она? Или это проекция мучимого угрызениями совести сознания Джейн? В парке Хатфилда ей привиделась картинка из будущего, так как в 1558 году королева Елизавета I получила известие о своем восшествии на престол, сидя под тем же деревом. Сон Джейн о разрушенном монастыре оказался вещим: аббатство Бишем было распущено в 1538 году, меньше чем через год после ее смерти.Замечание о титулах: Джейн постоянно вспоминает о Екатерине Арагонской и предпочитает, упоминая ее, говорить «истинная королева». Анну Болейн она именует королевой только по необходимости. Сторонники Екатерины тоже тайно называли ее королевой, а Марию принцессой, даже после того, как обе они были лишены этих титулов. Императорский посол Шапуи никогда не относился к Анне Болейн как к королеве; в письмах он называет ее Леди или Наложницей. В книге те, кто строит заговор против Анны, следуют его примеру.
Я глубоко признательна изумительной команде сотрудников «Headline», творческая энергия и поддержка которых сделали эту книгу неизмеримо лучше. Перечислю всех поименно: Мэри Эванс, управляющий директор и выпускающий редактор; Флора Рис, редактор; Кейтлин Рейнор, заместитель директора по связям с общественностью; Джо Лиддьярд, главный маркетолог; Сиобан Хупер, главный дизайнер; Патрик Инсоул, арт-директор; Луиза Ротвелл, директор по производству; Сара Адамс, ассистент редактора; Франсес Дойл, директор по цифровой стратегии; Ребекка Бадер, директор по продажам; Джейн Селли, редактор; Сара Ковард и Каролин Претти, корректоры; а также восхитительные «Бальбуссо Твинс», которые выполнили прекрасную художественную работу. Огромная благодарность всем читателям, которые покупают мои книги; любителям истории, которые общаются со мной через «Фейсбук»; блогерам, писавшим отзывы и продвигавшим мою книгу; тем, кто упоминает мои работы в статьях и исторических публикациях; и всем организаторам мероприятий, приглашавшим меня выступать с лекциями и презентациями. Меня глубоко трогают ваши интерес и поддержка. Я благодарна своим друзьям-историкам, которые выслушивали мои теории и делились со мной своими бесценными открытиями. Отдельное спасибо Трейси Борман, Сиобан Кларк, Саре Гриствуд, Элизабет Нортон, Линде Портер, Николе Таллис, Кристоферу Уорику и Джозефин Росс. И наконец, как обычно, я безмерно благодарна умнейшему и неутомимому Джулиану Александеру, который на протяжении тридцати лет является моим литературным агентом. Огромное спасибо моей семье за то, что они праздновали успех вместе со мной и не обижались на меня, когда рабочее давление в котлах поднималось слишком высоко. Передаю благодарности моим любимым детям Джону и Кейт, а также Ранкину – моей путеводной звезде за то, что направляет меня по жизни и придает ей смысл.
Действующие лица
В порядке появления или первого упоминания. Курсивом набраны имена вымышленных персонажей.Сэр Джон Сеймур из Вулфхолла, смотритель леса Савернейк; Джейн Сеймур, его старшая дочь; Эвдард Сеймур, старший из выживших сыновей сэра Джона Сеймура и брат Джейн; Кэтрин Филлол, жена Эдварда Сеймура; Сэр Уильям Филлол, ее отец; Вильгельм Завоеватель, король Англии с 1066 по 1087 год; Маргарет (Марджери) Уэнтворт, леди Сеймур, жена сэра Джона Сеймура и мать Джейн; Дороти, леди Филлол, жена сэра Уильяма Филлола и мать Кэтрин; Томас, младший сын сэра Джона Сеймура и брат Джейн; Мария Тюдор, дочь Генриха VII, сестра Генриха VIII, третья жена Людовика XII, короля Франции; первая жена Чарльза Брэндона, герцога Саффолка; Генрих VIII, король Англии; Кардинал Томас Уолси, архиепископ Йоркский, лорд-канцлер Англии, главный министр Генриха VIII; Элизабет (Лиззи), третья дочь сэра Джона Сеймура и сестра Джейн; Генри (Гарри), младший сын сэра Джона Сеймура и брат Джейн; Марджери, вторая дочь сэра Джона Сеймура и сестра Джейн; Джон, старший сын сэра Джона Сеймура и брат Джейн; Уильям де Сент-Мор, нормандский основатель семьи Сеймур; Сэр Томас Мор, тайный советник, позже лорд-канцлер Англии; известный ученый, гуманист, писатель; Элизабет Даррелл, леди Сеймур, бабушка Джейн со стороны отца; Эдуард III, король Англии с 1327 по 1377 год; Сэр Генри Горячая Шпора Перси (1364–1403), предок Маргарет Уэнтворт, леди Сеймур; Элизабет Тилни, герцогиня Норфолк; Джон Скелтон, придворный поэт, в прошлом наставник короля Генриха VIII; Сэр Генри Уэнтворт, дед Джейн со стороны матери; Отец Джеймс, домашний священник Сеймуров; Флоранс Боннёв, приоресса Эймсбери; Джон Сеймур, старший сын Эдварда Сеймура и Кэтрин Филлол; Дороти, младшая дочь сэра Джона Сеймура и сестра Джейн; Чарльз Брэндон, герцог Саффолк, второй муж Марии Тюдор, королевы Франции, шурин Генриха VIII; Генри Фицрой, герцог Ричмонд, незаконнорожденный сын Генриха VIII; Джоан Бейкер, служанка в Вулфхолле, любовница Эдварда Сеймура; Эдвард (Нэд), младший сын Эдварда Сеймура и Кэтрин Филлол; Сэр Эдвард Даррелл, дядя Джейн; Ричард Фокс, епископ Винчестерский; Екатерина Арагонская, королева Англии, первая жена Генриха VIII; Принцесса Мария, дочь Генриха VIII и Екатерины Арагонской; Сэр Фрэнсис Брайан, придворный, джентльмен из личных покоев Генриха VIII, кузен Джейн; Колдун из Амбуаза, Франция; Леонардо да Винчи, художник и изобретатель; Томас, приор Харли; Папа Климент VII; Папа Юлий II; Мартин Лютер, монах из Виттенберга, Германия, религиозный реформатор и основатель протестантизма; Маргарет, леди Брайан, мать сэра Фрэнсиса Брайана; бывшая наставница принцессы Марии; Элизабет (Бесс) Чеймберс, главная фрейлина Екатерины Арагонской; Марджери Хорсман, фрейлина Екатерины Арагонской; Исабель и Бланш де Варгас, сестры-близнецы, фрейлины Екатерины Арагонской; Джоан Чепернаун, фрейлина Екатерины Арагонской; Дороти Бэдби, фрейлина Екатерины Арагонской; Энн (Нан) Стэнхоуп, фрейлина Екатерины Арагонской; Анна Болейн, фрейлина Екатерины Арагонской; Фридесвида Найт, фрейлина Екатерины Арагонской; Фердинанд V, король Арагона, и Изабелла I, королева Кастилии, соправители Испании, родители Екатерины Арагонской; Мария де Салинас, леди Уиллоуби, придворная дама Екатерины Арагонской; Мод Грин, леди Парр, придворная дама Екатерины Арагонской; Гертруда Блаунт, маркиза Эксетер, жена Генри Куртене, маркиза Эксетера, кузина Генриха VIII; Маргарет Поул, графиня Солсбери, кузина Генриха VIII; Артур Тюдор, принц Уэльский, старший брат Генриха VIII, первый муж Екатерины Арагонской; Джордж Болейн, позже виконт Рочфорд, брат Анны Болейн; Генри Перси, граф Нортумберленд; Сэр Николас Кэри, главный конюший Генриха VIII, шурин сэра Фрэнсиса Брайана; Юстас Шапуи, императорский посол в Англии; Карл V, император Священной Римской империи, король Испании, племянник Екатерины Арагонской; Сэр Томас Болейн, граф Уилтшир и Ормонд, отец Анны Болейн. Сэр Энтони Утред, комендант Бервика; Священник из Бедвин-Магны; Уильям Блаунт, лорд Маунтжой, камергер Екатерины Арагонской; Томас Говард, герцог Норфолк, дядя Анны Болейн; Элиза Даррелл, фрейлина Екатерины Арагонской; Томас Кромвель, государственный секретарь и главный министр Генриха VIII; Стивен Гардинер, епископ Винчестерский; Уильям Уорхэм, архиепископ Кентерберийский; Томас Кранмер, капеллан Болейнов, позже архиепископ Кентерберийский; Уильям Дормер, жених Джейн Сеймур; Сэр Роберт Дормер, его отец; Джейн Ньюдигейт, леди Дормер, жена сэра Роберта; Себастиан Ньюдигейт, бывший джентльмен из личных покоев, ныне монах в Лондонском картезианском монастыре; Сэр Уильям Сидни, придворный; Анна Пакенхэм, леди Сидни; Мэри Сидни, их дочь; Генри Утред, сын сэра Энтони Утреда и Элизабет Сеймур; Миссис Маршалл, главная фрейлина Анны Болейн; Принцесса Елизавета, дочь Генриха VIII и Анны Болейн; Мэри Кэри, сестра Анны Болейн; Анна Парр, дочь Мод, леди Парр, фрейлина Анны Болейн; Мадж Шелтон, кузина и придворная дама Анны Болейн; Энн Савиль, фрейлина Анны Болейн; Сэр Генри Норрис, хранителькоролевского стула, управляющий личными покоями короля; Мэри Норрис, его дочь, фрейлина Анны Болейн; Мэри Зуш, фрейлина Анны Болейн; Миссис Орчард, горничная Анны Болейн; Элизабет Холланд, фрейлина Анны Болейн, любовница герцога Норфолка; Джон, лорд Хасси, ее дядя; Леди Маргарет Дуглас, племянница Генриха VIII; Маргарита Тюдор, ее мать, сестра Генриха VIII; Яков IV, король Шотландии, первый муж Маргариты Тюдор; Арчибальд Дуглас, граф Ангус, второй муж Маргариты Тюдор и отец Маргарет Дуглас; Сэр Томас Уайетт, поэт, придворный и дипломат; Генри Говард, граф Суррей, сын и наследник Томаса Говарда, герцога Норфолка; Франсес де Вер, фрейлина Анны Болейн; Мэри Говард, герцогиня Ричмонд, дочь Томаса Говарда, герцога Норфолка, фрейлина Анны Болейн; жена Генри Фицроя, герцога Ричмонда, незаконнорожденного сына Генриха VIII; Элизабет Браун, графиня Уорчестер, придворная дама Анны Болейн; Сэр Уильям Фицуильям, ее сводный брат, казначей королевского двора; Анна Гейнсфорд, леди Зуш, фрейлина Анны Болейн; Элеонор Пастон, графиня Ратленд, придворная дама Анны Болейн; Анна Болейн, леди Шелтон, тетя Анны Болейн, главная воспитательница леди Марии; Энн Брэй, леди Кобэм, придворная дама Анны Болейн; Грейс Ньюпорт, леди Паркер, придворная дама Анны Болейн; Джейн Паркер, жена Джорджа Болейна, виконта Рочфорда, невестка Анны Болейн; Анна Саваж, леди Беркли, придворная дама Анны Болейн; Элизабет Бартон, монахиня и провидица, Святая дева из Кента, или Святая монахиня из Кента; Элизабет Вуд, леди Болейн, жена сэра Джеймса Болейна, придворная дама Анны Болейн; Джоан Эшли, фрейлина Анны Болейн; Уильям Стаффорд, второй муж Мэри Кэри, сестры Анны Болейн; Майлс Ковердейл, ученый-реформатор, переводчик Библии на английский язык; Лорд Томас Говард, младший брат герцога Норфолка; Кэтрин Кэри, дочь Мэри Кэри и, вероятно, Генриха VIII; Прекрасная Розамунда, или Розамунда де Клиффорд (ум. 1176), любовница Генриха II; Элеонора Кастильская, королева, жена Эдуарда I; Стивен Сагар, аббат монастыря Хейлс; Хью Латимер, епископ Уорчестерский; Брат Томас, старый монах из Хейлса; Томас, лорд Беркли; Эдуард II, король Англии с 1307 по 1327 год; Изабелла Французская, жена Эдуарда II, королева; Эдвард Стаффорд, герцог Бекингем, кузен Генриха VIII; Сэр Николас Пойнц, придворный; Клемент Смит, джентльмен из Эссекса; Сэр Фрэнсис Уэстон, придворный, джентльмен из личных покоев Генриха VIII; Марк Смитон, музыкант в личных покоях короля; Сэр Уильям Сэндис, лорд-камергер Генриха VIII; Марджери Утред, дочь сэра Энтони Утреда и Элизабет Сеймур, племянница Джейн Сеймур; Лукас Хоренбут, придворный художник Генриха VIII; Ганс Гольбейн, его бывший ученик, придворный художник Генриха VIII; Хорхе де Атека, епископ Лландаффский, духовник Екатерины Арагонской; Генри Куртене, маркиз Эксетер, кузен Генриха VIII; Генри Поул, лорд Монтегю, старший сын Маргарет Поул, графини Солсбери, кузен Генриха VIII; Франциск I, король Франции; Джон Скип, капеллан Анны Болейн; Сэр Энтони Браун, джентльмен из личных покоев Генриха VIII, брат Элизабет Браун, графини Уорчестер; Уильям Бреретон, джентльмен из личных покоев Генриха VIII; Сэр Уильям Полет, ревизор королевского двора; Томас Хинидж, хранитель королевского стула, управляющий личными покоями короля; Мэри Брэндон, леди Монтигл, дочь Чарльза Брэндона, герцога Саффолка, придворная дама Джейн Сеймур; Маргарет Стэнли, графиня Сассекс, придворная дама Джейн Сеймур; Роберт Брюс, король Шотландии с 1306 по 1329 год; Сэр Уильям Комптон, хранитель королевского стула, управляющий личными покоями короля; Сэр Питер Комптон, его родственник; Сэр Джон Расселл, придворный и дипломат; Мастер Чапмен, главный садовник у Джейн Сеймур; Мадлен Валуа, дочь Франциска I, короля Франции; Томас, лорд Одли, лорд-канцлер Англии; Сэр Томас Ризли, тайный советник; Томас, лорд Дарси, пэр от северных графств; Сэр Артур Дарси, сын Томаса, лорда Дарси; Роберт Аск, бюргер из Йорка, лидер бунтовщиков; Роберт Констебл из Халла, лидер бунтовщиков; Кейт Чепернаун, няня леди Елизаветы; Джани, шутиха леди Марии; Генрих VII, король Англии, отец Генриха VIII; Елизавета Йоркская, королева Англии, мать Генриха VIII; Корнелиус Реджинальд Поул, сын Маргарет Поул, графини Солсбери; Эдуард IV, король Англии с 1461 по 1483 год; Ричард III, король Англии с 1483 по 1485 год; последний правитель из династии Плантагенетов; Уилл Сомерс, шут Генриха VIII; Святой Томас Бекет, архиепископ Кентерберийский; Смотритель госпиталя Святой Екатерины у Тауэрского моста; Матильда Булонская, жена короля Стефана; Стефан, король Англии с 1135 по 1154 год; Грегори Кромвель, сын Томаса Кромвеля; Хонора Гренвилл, леди Лайл, жена Артура Плантагенета, лорда Лайла; Артур Плантагенет, лорд Лайл, кузен Генриха VIII, комендант Кале; Сэр Майкл Листер, хранитель королевской сокровищницы; Эдвард Плантагенет, граф Уорик, брат Маргарет Поул, графини Солсбери, кузен Генриха VIII; Кэтрин Уиллоуби, герцогиня Саффолк, вторая жена Чарльза Брэндона, герцога Саффолка; Анна Бассет, дочь Хоноры Гренвилл, леди Лайл, фрейлина Джейн Сеймур; Принц Эдуард, сын Генриха VIII и Джейн Сеймур; Доктор Уильям Баттс, врач Генриха VIII; Доктор Джон Чеймберс, врач Генриха VIII.
Хронология событий
1491 год Рождение Генриха VIII. 1494 год Брак сэра Джона Сеймура и Маргарет (Марджери) Уэнтворт. 1499 год Рождение Джона Сеймура. 1500 год Рождение Эдварда Сеймура. 1503 год Рождение Генри (Гарри) Сеймура. 1505 год Рождение Энтони Сеймура. 1508 год Январь – рождение Джейн Сеймур. Декабрь – рождение Томаса Сеймура. 1509 год Апрель – восшествие на престол Генриха VIII. Июнь – брак Екатерины Арагонской и Генриха VIII, коронация Екатерины. 1510 год Смерть Джона Сеймура. 1512 год Рождение Марджери Сеймур. 1514 год Брак Марии Тюдор, сестры Генриха VIII, с Людовиком XII Французским. 1516 год Рождение принцессы Марии, дочери Генриха VIII и Екатерины Арагонской. 1517 год Мартин Лютер публикует в Германии свои девяносто пять тезисов и инспирирует протестантскую Реформацию. 1518 год Рождение Элизабет Сеймур. Брак Эдварда Сеймура и Кэтрин Филлол. 1519 год Рождение Дороти Сеймур. Рождение Джона, старшего сына Эдварда Сеймура и Кэтрин Филлол. 1527 год Рождение Эдварда (Нэда), младшего сына Эдварда Сеймура и Кэтрин Филлол. Сэр Уильям Филлол лишает наследства Кэтрин. Смерть сэра Уильяма Филлола. Эдвард Сеймур отвергает Кэтрин Филлол. Генрих VIII поднимает вопрос о законности своего брака с Екатериной Арагонской и просит папу аннулировать его. Генрих VIII решает жениться на Анне Болейн. Джейн Сеймур прибывает ко двору и становится фрейлиной Екатерины Арагонской. 1528 год Эпидемия потливой лихорадки. Смерть Марджери Сеймур. Смерть Энтони Сеймура. Кардинал Кампеджо, папский легат, прибывает в Англию для разбирательства дела короля. 1529 год Суд легатов заседает в монастыре Черных Братьев в Лондоне; Екатерина Арагонская обращается к Генриху VIII за справедливостью; дело возвращают в Рим. Кардинал Уолси попадает в опалу; сэр Томас Мор назначен лорд-канцлером. Юстас Шапуи назначен послом Карла V в Англии. 1530 год Генрих VIII начинает опрашивать университеты с целью выяснить их мнение по его делу. Смерть кардинала Уолси. 1531 год Элизабет Сеймур выходит замуж за Энтони Утреда. Екатерина Арагонская удалена от двора; Джейн Сеймур остается при ней. Томас Кромвель становится главным советником Генриха VIII. 1532 год Сэр Томас Мор уходит в отставку с поста лорд-канцлера. Август – смерть Уильяма Уорхэма, архиепископа Кентерберийского, открывает путь к назначению на его место радикала Томаса Кранмера. Помолвка Джейн Сеймур с Уильямом Дормером под вопросом. Анна Болейн становится любовницей Генриха VIII. Сентябрь – Анна Болейн получает титул маркизы Пемброк. 1533 год Январь – Генрих VIII тайно женится на Анне Болейн. Апрель – парламент издает Акт об ограничении апелляции (к папе), который становится краеугольным камнем законодательного обоснования Реформации в Англии. Джейн Сеймур покидает двор Екатерины Арагонской и поступает на службу к Анне Болейн. Апрель – Анна Болейн появляется при дворе как королева Англии. Май – архиепископ Кранмер объявляет брак Генриха VIII и Екатерины Арагонской кровосмесительным и незаконным и подтверждает действительность брака Генриха и Анны Болейн. 1 июня – коронация Анны Болейн. 7 сентября – рождение принцессы Елизаветы, дочери Генриха VIII и Анны Болейн. 1534 год Смерть Кэтрин Филлол. Брак сэра Эдварда Сеймура и Энн (Нан) Стэнхоуп. Март – папа объявляет брак Генриха VIII и Екатерины Арагонской действительным. Парламент издает Акт о супрематии, который провозглашает Генриха VIII верховным главой Церкви Англии, и Акт о правопреемстве, которым законными наследниками объявляются дети королевы Анны и короля. Заключение в тюрьму сэра Томаса Мора и Джона Фишера, епископа Рочестера, за отказ клятвенно подтвердить признание верховности короля над Церковью. У Анны Болейн рождается мертвый ребенок. 1535 год У Анны Болейн рождается второй мертвый ребенок. Казнь Джона Фишера, епископа Рочестера, сэра Томаса Мора и нескольких монахов-картезианцев. Генрих VIII и Анна Болейн совершают объезд западных территорий королевства. Генрих VIII посещает Вулфхолл, дом семьи Сеймуров. Смерть сэра Энтони Утреда. Рождение Марджери Утред, дочери сэра Энтони Утреда и Элизабет Сеймур. Генрих VIII начинает ухаживать за Джейн Сеймур. Брак Дороти Сеймур с сэром Клементом Смитом. 1536 год 7 января – смерть Екатерины Арагонской. 29 января – Анна Болейн рожает недоношенного сына. 2 мая – Анна Болейн арестована и заключена в Тауэр. 15 мая – суд признает Анну Болейн виновной в измене и приговаривает к смерти. 17 мая – брак Генриха VIII и Анны Болейн расторгнут. 19 мая – Анна Болейн обезглавлена в лондонском Тауэре. 20 мая – помолвка Генриха VIII и Джейн Сеймур. 30 мая – брак Генриха VIII и Джейн Сеймур. 4 июня – Джейн Сеймур объявлена королевой Англии. Новым Актом о престолонаследии право занять трон передано детям Джейн от короля. Леди Мария подписывает покаяние, признает брак своей матери кровосмесительным и незаконным. Генрих VIII примиряется с дочерью. Вспыхивает восстание – Благодатное паломничество. Декабрь – смерть сэра Джона Сеймура. 1537 год Благодатное паломничество подавлено. 12 октября – рождение принца Эдуарда, сына Генриха VIII и Джейн Сеймур. 24 октября – смерть Джейн Сеймур.Элисон Уэйр Королева секретов. Роман об Анне Клевской
© 2019 Alison Weir © Е. Л. Бутенко, перевод, 2021 © Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021 Издательство АЗБУКА®* * *
Джону и Джо с любовью, а также Энн с благодарностью за щедрую помощь
1539
Англия. Дом Тюдоров
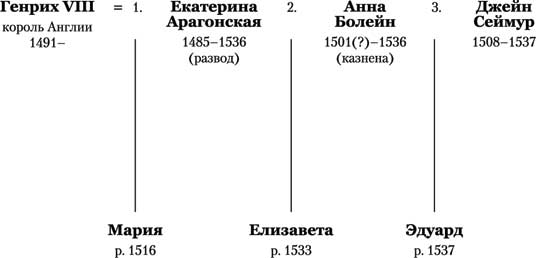
Клебе. Дом Ламарков


Часть первая. Принцесса Клевская
Глава 1
1530 годАнна смотрела из окна гейтхауса[75] на катившую внизу карету. Девушка радовалась, что на ней красивое новое шелковое платье, и понимала, чего ждут от нее родители. В четырнадцать лет она должна была знать все домашние премудрости и уметь произвести впечатление на гостей своими добродетелями. Каждое лето отец, известный подданным как герцог Иоганн III, перебирался с женой и детьми сюда, в Шваненбург — огромный дворец, построенный на крутом каменистом холме, который возвышался над могучим Рейном и славным городом Клеве. Сегодня к ним ненадолго приехали погостить дядя Отто фон Вилих, добродушный владыка Геннепа, и тетя Элизабет, никому не позволявшая забывать, что она дочь герцога Иоганна I. Они наверняка везли с собой Отто, дядиного побочного сына. Хотя двор Клеве имел репутацию места, где строго блюдут правила морали, бастардам здесь не отказывали в милостях. Дед Анны со стороны матери, герцог Иоганн II, имел тридцать шесть незаконнорожденных детей; не зря его прозвали «делатель детей». Умер он, когда Анне было шесть лет, так что помнила она его весьма смутно, тем не менее живые подтверждения дедовской необузданной плодовитости встречались ей при дворе и в домах клевской знати на каждом шагу. Казалось, она в родстве почти со всеми в находившихся под властью отца объединенных герцогствах и графствах Клеве, Марк, Юлих, Берг, Равенсберг, Зютфен и Равенштайн. Герцог Иоганн, как обычно, был одет роскошно, когда вышел приветствовать гостей, карета которых подкатила к гейтхаусу. Темные волосы коротко подстрижены, челка и борода аккуратно расчесаны, мощная фигура облачена в алый дамаст. Анна смотрела на отца с восторгом. Да, герцог любил покрасоваться, выставить напоказ свое великолепие. По распоряжению Иоганна его жена и дети надели дорогие шелка и украсили себя золотыми цепями. Анна стояла в одном ряду с младшими братом и сестрой, Вильгельмом и Амалией, которую в семье любовно называли Эмили. Отцу и матери не пришлось напоминать детям, что нужно поклониться, так как придворные правила вежливости отпрыскам герцога внушали с колыбели. Не позволяли забывать и о том, что они были потомками королей Франции и Англии, а также кузенами великого императора Священной Римской империи Карла V, повелителя их отца. Сознание этого должно было проявляться во всех поступках детей. Когда юный Отто фон Вилих ступил на землю, сердце Анны едва не остановилось. Ей этот внебрачный кузен, двумя годами старше ее, казался Божьим даром, снизошедшим на мостовую. О, как он был красив! Непослушные каштановые кудри и высокие скулы, точеный подбородок, полные губы и веселые глаза. Да, Отто был прелестен! Когда он приветствовал всех, выражая должное почтение хозяину и хозяйке, в нем почти не наблюдалось неуклюжести, свойственной молодым людям его возраста. Поклонившись Анне, он выпрямился, и улыбка его была такой милой, что сердце юной девы буквально разрывалось на части. Анна была помолвлена, а значит, все равно что выдана замуж, в одиннадцать лет. Обращаясь к ней официально, люди называли ее мадам маркиза, потому что будущим супругом принцессы Клеве был Франциск, маркиз Понт-а-Муссон, старший сын Антуана, герцога Лоррейнского. Жених и невеста никогда не встречались. Анна не видела даже портрета своего суженого, и хотя ей постоянно напоминали о ее великом предназначении, перспектива замужества казалась почти нереальной. Часть приданого уже была выплачена, и Анна ожидала, что свадьба состоится в этом году, как только Франциск достигнет брачного возраста — четырнадцати лет. Она была слишком юна, чтобы выражать свою волю в момент помолвки. Ее согласие подразумевалось контрактом, который подписал отец. Анна беспрекословно приняла выбранного для нее мужа, так как ей с детства внушали, в чем состоит долг дочери герцога. Но теперь, видя Отто фон Вилиха, Анна впервые пожалела, что желания были высказаны за нее старшими. Глаз от чарующей улыбки юноши было не оторвать. Пока Анна боролась с собой, силясь не выдать нескромных чувств, хотя мир вокруг нее рушился, отец вел гостей через Рыцарский зал. Его серьезное грубоватое лицо оживлялось, когда он показывал дяде Отто скульптуры. — Говорят, этот зал был создан Юлием Цезарем, — заявил герцог Иоганн. — Ах, какие здесь устраивали церемонии! Я их прекрасно помню, — отозвалась тетя Элизабет. Они медленно шествовали через парадные залы. Анна ничего не замечала, кроме Отто, который шел рядом и не сводил с нее глаз. — Мы обставили эти апартаменты на манер великолепных французских замков Луары, — похвалялся отец, обводя унизанной кольцами рукой красивую мебель и гобелены. Анна заметила, как дядя и тетя обменялись завистливыми взглядами. Мать выглядела безмятежной. Все это великолепие было для нее чем-то вполне естественным, ведь она богатая наследница и принесла отцу обширные земли и титулы. Герцогиня Мария украшала собой двор Клеве по-королевски, но со скромностью, проявляя почтительность к супругу, как и подобает женщине. И она, и отец — оба были строги в соблюдении сложного этикета, установленного для герцогов Клеве их бургундскими предками. Уже почти сотню лет в том, что касается придворных манер и стиля, двор Бургундии задавал тон в христианском мире. Мать и отец перенимали новые идеи от великолепного французского двора, находившегося неподалеку, к западу от Клеве, а также из Италии, откуда новшества проникали на север благодаря заезжим визитерам, путешествовавшим по Рейну. Иногда Анна чувствовала, что отцовский двор на вкус матери был слишком утонченным и свободомыслящим; он казался гораздо более либеральным, чем двор Юлиха. Но мать никогда не критиковала происходящее в Клеве. Когда они достигли личных апартаментов, подали вино, игристый «Эльблинг», который отцу регулярно доставляли вверх по реке с виноградников на Мозеле. Дядя Отто и тетя Элизабет с готовностью приняли кубки. Благо вечер еще не наступил: правила при дворе были строгие, и все вино, даже герцогское, гофмейстер, очень серьезно относившийся к своим обязанностям, запирал на ключ в девять часов. Потягивая напитки из кубков тончайшего венецианского стекла, взрослые вели беседу, сперва довольно скованно, потом постепенно расслабляясь, а дети молча слушали. Анна ни на миг не забывала, что рядом с ней сидит Отто. — У вашего отца чудесный дворец, — сказал он. — Надеюсь, вам удастся познакомиться с ним получше. — Она почувствовала жалость к своему кузену, поскольку у Отто не было никакой надежды унаследовать приличный дом, хотя не его вина, что он родился бастардом. — Но я уверена, вам живется хорошо в Геннепе. — Не так, как вам здесь, Анна, — ответил он и снова одарил ее обворожительной улыбкой, а она затрепетала, услышав из его уст свое имя. — Но мне повезло. Мой отец и мачеха относятся ко мне как к своему законному сыну. Ведь других детей у них нет, понимаете? — А друзья у вас есть? — Да, к тому же я учусь, и у меня очень добродушный наставник. Ведь мне придется самому прокладывать себе путь в жизни, может быть, на службе Церкви. — О нет! — воскликнула Анна, не успев удержаться. — То есть вы могли бы иметь более счастливую жизнь, занимаясь чем-нибудь другим. — Вы думаете об удовольствиях, которых я буду лишен, — усмехнулся Отто, и Анна зарделась. — Поверьте, я тоже о них думаю. Но у меня нет наследства, Анна. После смерти отца все перейдет моему кузену. Что еще мне остается? — Мой отец найдет вам место здесь или доктор Олислегер, его главный советник. Я уверена! — Как вы добры, Анна, — пробормотал Отто. Глаза их встретились, и она прочла в его взгляде ответ на все свои надежды. — Ничто не доставило бы мне большего удовольствия, чем возможность остаться при дворе Клеве. Тогда я смог бы чаще видеть вас. От его слов у Анны перехватило дыхание. — Значит, я попрошу за вас, — пообещала она и заметила, что ее мать наблюдает за ними, слегка хмурясь. Отец переключился на свою любимую тему, и герцогиня не сомневалась: скоро прозвучит имя Эразма. Великий ученый-гуманист был кумиром отца; герцог восхищался им, как никем другим, и советовался с ним по религиозным вопросам. — Эразм говорит, Церковь — это не папа, епископы и клир, — произнес герцог Иоганн. — Это весь христианский люд. Тетя Элизабет выглядела озадаченной, герцогиня сохраняла непроницаемое выражение лица. Анна знала, что в отношении религии мать с отцом не согласна. Набожная, словно монахиня, она, вероятно, внутренне морщилась, слыша, как о Святом отце, сидевшем в Риме, отзываются уничижительно, будто он какая-то мелкая сошка. — Эразм проповедует всеобщий мир и терпимость, — продолжил отец, ничего не замечая. — Нет и не может быть более высокого идеала. Он вдохновляет меня жить так, как я живу, как управляю своим герцогством и своим двором, как воспитываю своих детей. — Это высокий идеал, но опасный, — заметил дядя Отто. — Даже если Эразм и не имел такого намерения, он исподволь подстрекает людей к нападкам на Церковь. Отсюда один шаг до ереси Мартина Лютера. — Лютер во многом говорит разумные вещи, — возразил отец. — В Церкви действительно творятся ужасные вещи, и она нуждается в очищении. — Милорд запретил труды Лютера, — быстро проговорила мать. — Да, дважды, — подтвердил герцог. — Но некоторые обвинения, выдвинутые им против Церкви, справедливы. Никто не должен платить священникам за отпущение грехов и спасение от Чистилища; неправильно, что князья Церкви живут в роскоши, когда наш Господь был простым плотником. Но отрицание пяти таинств — это уже чистая ересь. — Ваш зять не согласился бы с этим, — сказал дядя Отто. — Курфюрст Саксонии держится радикальных взглядов, — с болью в голосе ответил отец, — и я боюсь, Сибилла заразилась ими, ведь жена обязана следовать за своим мужем. Курфюрст призывает меня вступить в его Шмалькальденскую лигу германских лютеранских принцев, но я никогда этого не сделаю. — И тем не менее вы породнились с ним благодаря браку дочери, — не уступал дядя Отто. — Вы связаны с лигой, нравится вам это или нет. Настал черед матери принять страдальческий вид: замужество дочери с протестантом шло вразрез со всеми ее убеждениями. Казалось, разгорается ссора, но тут колокол на вершине башни Йоханнистурм во внутреннем дворе пробил четыре раза, и герцогиня Мария ухватилась за открывшуюся возможность избежать дальнейших пререканий. Анна полагала, матери не хотелось, чтобы ее отпрыски слушали разговоры, направленные против Церкви и истинной веры, в которой она их взрастила. — Дети, — бодро проговорила герцогиня, — почему бы вам не показать кузену Отто остальную часть замка? Все повскакивали на ноги. Анна втайне возликовала. — Мы с удовольствием сделаем это, — честно признался тринадцатилетний Вильгельм. Анна понимала, что скоро Отто прослушает лекцию об архитектуре Шваненбурга и славной истории Клеве, и не ошиблась. Пока они шли назад через парадные залы, Вильгельм, наделенный всеми добродетелями, кроме чувства юмора, гуманности и сочувствия к другим, разглагольствовал о том, что родился здесь, в Шваненбурге, и похвалялся богатством и процветанием герцогства Клеве. — Нашего отца прозвали Иоганн Миролюбивый, потому что он правит весьма мудро, — хвастал Вильгельм. — Когда он женился на нашей матери, она принесла ему Юлих, Берг и земли, которые тянутся на четыре сотни миль. Став герцогом Клеве, я унаследую все это и буду таким же мудрым, как мой отец. Анна увидела, что Отто подавляет улыбку. — Отто приехал сюда не затем, чтобы выслушивать все это, Bruder[76]. Сегодня такой прекрасный день, и вас освободили от послеобеденных уроков. — Она повернулась к Отто и почувствовала, как ее бросило в жар. — Хотите подняться на Шванентурм? Оттуда открывается прелестный вид, и я расскажу вам легенду о Лоэнгрине. — Слишком жарко ползти туда по всем этим ступенькам, — надув розовые губки, капризно проговорила Эмили. — Какая же вы лентяйка, сестрица, — вздохнула Анна. — Но я очень хотел бы полюбоваться видами, — сказал Отто, не сводя сверкающих глаз с Анны, — и физическая нагрузка пойдет нам на пользу. — Думаю, Отто больше понравится осмотреть Шпигельтурм, — вмешался Вильгельм, как будто Отто ничего не говорил. — Архивы герцогства — это самое интересное. — О Вильгельм, вы всегда настаиваете на своем! — воскликнула Эмили. — Вы можете сводить туда Отто позже, — твердо сказала Анна. — Но сперва он хочет подняться на Шванентурм. — Тогда ведите его сами, — начальственно заявил Вильгельм. — А я пойду и поищу то, что хочу показать ему. — Я пойду с вами, — присоединилась к брату Эмили. — Помогу искать. — Просто вам лень подниматься наверх, — хмуро пробурчал Вильгельм, вовсе не обрадовавшись тому, что двенадцатилетняя сестрица решила составить ему компанию. — Пойдемте. — Анна протянула руку Отто. — Оставим их, пускай препираются. И она решительно повела своего кузена к башне. Вильгельм не успел остановить ее. Вот повезло! Вся жизнь Анны строилась вокруг правил, ритуалов, бесконечного шитья и проходила под строгим материнским надзором. Возможность провести немного времени наедине с прекрасным юношей превосходила любые ее самые буйные фантазии. Невероятно, что все сложилось так легко, без всяких усилий с ее стороны. Это была эскапада, которую мать наверняка не одобрила бы, ведь она неустанно твердила, что юная леди никогда не должна оставаться наедине с мужчиной, чтобы не скомпрометировать свою репутацию. Хотя ни разу не объяснила, что именно может произойти, впрочем, было ясно: речь шла о чем-то ужасающем. Но ведь Отто не в счет, правда? Он член семьи и ненамного старше Анны. Могучая башня Шванентурм возвышалась над ними, на мощеный двор падала ее квадратная черная тень. Анна остро ощущала, что по пятам за ней идет Отто. Она радовалась, что надела новое красное шелковое платье с золотым лифом, расшитым петлями из жемчуга. В этом наряде и с распущенными по спине светлыми волосами Анна чувствовала себя красавицей. Сибилла, изображенная на портрете с раскосыми глазами и длинными золотистыми локонами, которые пленили курфюрста, считалась главной красоткой в семье, все соглашались с этим, но сегодня Анна упивалась мыслью, что тоже может выглядеть прелестно. Стражники у дверей взяли на караул при их приближении. — Эту башню построил мой предок, герцог Адольф, — сказала Анна, налегая на тяжелую дверь. — Позвольте мне, — вмешался Отто и тоже приложил силу. Анна пошла вперед, приподняв пышные юбки, чтобы удобнее было подниматься по ступенькам. — Старая башня рухнула лет сто назад, — продолжила она, пытаясь спрятать свою нервозность за стеной фактов. — Герцог Адольф сделал ее выше прежней. — Да, она и правда высокая! — поддакнул Отто. — Эти ступеньки, наверное, никогда не закончатся. Давайте немного передохнем. Анна повернулась и поймала на себе восторженный взгляд юноши. — Вы очень милы, — сказал Отто, — и это платье вам к лицу. Глаза его совершили путешествие от ее стройной талии к выпуклостям груди под бархатным лифом. Затрепетав от похвалы, Анна улыбнулась, просто не могла удержаться. Она знала: нельзя позволять ему говорить такие интимные вещи, а себе — принимать комплименты. Но ее так и распирало от радости; она не могла сдвинуться с места, уйти и испортить этот момент. Оба они слегка запыхались, когда преодолели последний лестничный пролет, который вел к туррету[77] наверху башни, и вошли в узкую, почти ничем не обставленную комнату с окнами в каждом торце. Турецкий ковер в свое время, наверное, обошелся предкам Анны в целое состояние, но теперь был потертым. Девушка подошла к окну с видом на реку. Внизу перед ней простирался город Клеве — лоскутное одеяло из красных крыш и шпилей. Отто остановился сбоку от нее. — Прекрасный вид, — сказал он, глядя поверх ее плеча. Анна чувствовала его дыхание, оно нежно касалось уха. — Так поведайте же мне о Лоэнгрине. — Голос Отто был как ласка. Анна попыталась сосредоточиться на легенде, которую обещала рассказать, но разум ее был переполнен этим странным, головокружительным чувством. Неужели это любовь? Она видела, как сильно любят друг друга ее родители, и знала, наслушавшись болтовни фрейлин и горничных, что любовь иногда бывает похожей на помешательство и толкает людей на глупые поступки, как будто они лишились рассудка. Любовь способна сделать человека невероятно счастливым или бесконечно несчастным. И теперь, стоя в этой пыльной комнатушке, впервые оказавшись наедине с молодым человеком, Анна поняла, что такое сильное влечение к кому-то. Чувство было восхитительное, но и пугающее, словно ее тянуло к чему-то грандиозному и опасному, и она не знала, как остановить себя. Но она должна! Скоро ей предстоит стать замужней женщиной, и Анна научена хранить верность своему будущему супругу. — Вы знаете, почему эту башню называют Лебединой?[78] — спросила она у Отто, заставив себя собраться с мыслями и продолжить разговор. — Не думаю, что в Лимбурге вы слышали легенды, которые известны в Клеве. — Когда я был маленьким, мать рассказывала мне разные истории, но я почти все забыл. — Над нами, наверху туррета, есть золоченый флюгер, — сказала Анна, слегка задыхаясь. — На нем сидит лебедь, которого в старину изображали на своих гербах графы Клеве в честь Рыцаря Лебедя, загадочного Лоэнгрина. Взгляните сюда. — Она повернулась и вытащила из-под лифа эмалевую подвеску. — Это моя личная эмблема. Два белых лебедя обозначают невинность и чистоту. Отто взял руку Анны в свою и наклонился, чтобы рассмотреть, что лежит у нее на ладони. И вдруг легонько поцеловал ее запястье. Анна вздрогнула от удовольствия. Она еще не обезумела — пока нет. Была научена, что добродетельная женщина не должна позволять мужчине целовать себя, пока не станет его нареченной невестой. Анна отдернула руку, и Отто выпрямился. Слегка дрожащим голосом она продолжила рассказ: — Два белых лебедя направляли лодку Лоэнгрина, когда он плыл по Рейну давным-давно, чтобы посетить графиню Клеве по имени Эльза. Она пребывала в большой печали, потому что ее супруг умер и какой-то деспот пытался занять его место, принудив несчастную вдову выйти за него замуж. Лоэнгрин пришел на помощь. Он сверг тирана и женился на Эльзе. Отто во все глаза глядел на Анну. — Если она была так же красива, как другая принцесса Клеве, которую я могу назвать, тогда я снимаю перед Лоэнгрином шляпу. — Голос его звучал немного хрипло. Анна вдруг ощутила жар на щеках. Она понятия не имела, как реагировать на такой комплимент. — Он был знаменитым героем, — вновь заговорила Анна, стараясь сохранить спокойствие. — Но на следующий день после свадьбы он взял с Эльзы обещание никогда не спрашивать, как его зовут и кто его предки. Неизвестный ей и никому другому, он был рыцарем Святого Грааля и часто отправлялся выполнять секретные поручения. Эльза согласилась, они жили счастливо, и у них родилось трое прекрасных сыновей, которые стали моими предками. — Сейчас вы скажете, что все закончилось плохо, — высказал предположение Отто. — Да. Эльзе очень хотелось узнать, получат ли ее сыновья большое наследство от отца. Она не смогла удержаться и задала ему вопрос, которого поклялась никогда не задавать. Когда она это сделала, Лоэнгрин испытал невыразимую муку. Вырвался из ее объятий и покинул замок — этот самый замок. И там, на реке, его ждали два лебедя с лодкой, на которой он прибыл в Клеве. Он уплыл на ней, и больше его никто не видел. Отто качал головой, не отрывая глаз от Анны: — И что стало с Эльзой? — Ее охватила такая печаль от этой утраты, что она умерла. Ведь она очень любила Лоэнгрина. Впервые Анне стало ясно, как ужасна была потеря Эльзы. Вероятно, на ее лице отразилась печаль, потому что Отто без всяких предисловий шагнул к ней и обнял ее, прижав к себе. Не успела Анна остановить его, как он прикоснулся губами к ее губам и лизнул ее язык своим. Это было чрезвычайно странно, приятно и вместе с тем отвратительно. Она и представить себе не могла, что поцелуи могут быть такими, но знала: так делать нельзя, это плохо. Что подумают о ней родители? — Нет, — сказала Анна, отстраняясь. Отто крепко держал ее в своих объятиях. — Да! — выдохнул он. — Прошу вас, не лишайте нас этого удовольствия! В этом нет ничего дурного. Не нужно бояться. — У меня может быть ребенок, — запротестовала Анна и удивилась, когда Отто засмеялся. — Может, — предостерегающим тоном повторила она. — Матушка Лёве говорила, что от поцелуев появляются дети. — Кто такая матушка Лёве? — спросил Отто, а сам при этом терся носом о ее нос, пока она вполсилы пыталась высвободиться. — Моя няня. — Ничего-то она не знает! Ребенка от поцелуев у вас быть не может. Это безвредно. И вам понравилось, я точно знаю. — Он продолжал крепко держать ее и так соблазнительно улыбался, что у Анны стали подкашиваться колени. Как же страшно говорить о таких вещах с мужчиной! Отто снова поцеловал ее, на этот раз мягко и нежно, а потом потянул на ковер, целуя ее полузакрытые глаза и гладя по щекам. Руки его блуждали повсюду, и восхитительное ощущение, которое он пробуждал в ней, затмило звучавший в голове тревожный колокольчик. Он сказал, тут нечего бояться, и она ему поверила. Он был гостем в доме ее отца — благовоспитанный молодой человек, который, она могла на это рассчитывать, знал, как следует себя вести. И в нем нарастало захватывающее дух возбуждение, которое было таким заразительным. — О Анна! — тихо воскликнул Отто, не отрывая от нее глаз и наматывая на пальцы локон ее волос; дыхание его становилось все более частым и прерывистым. — Позвольте мне любить вас! Я не причиню вам вреда. Его губы вновь сомкнулись на ее губах с большей горячностью, а потом он протянул руку вниз, задрал ей юбку, сорочку и — к изумлению Анны — начал нежно трогать ее потайные места. Она не сопротивлялась: ее слишком сильно захватили чувства и ощущения, о которых Анна никогда даже не мечтала. — Как у вас есть губы здесь, — прошептал он, нежно водя по ее рту языком, — так же есть они и здесь, для тех же целей. Пальцы его двигались ритмично, исследовали ее все смелее, и Анна почувствовала нараставшее внутри исключительно приятное ощущение. Она не испугалась, но удивилась, как мало знала свое собственное тело, и никакого стыда не было. Вот оно, безумие, о котором шептались женщины! Жила ли она вообще до этого момента? То, что случилось дальше, было невероятно прекрасно, и Анна отдалась этому, ни о чем больше не думая, потому что просто не могла мыслить разумно. Несильная боль, а потом она вознеслась на Небеса. Удовольствие нарастало, и она почувствовала, как тело Отто содрогается в спазмах. Он вскрикнул и стал медленно расслабляться, лежа поверх нее и внутри нее, прижимая ее к себе и бормоча бессвязные слова любви, а ее накрыло волной безудержного экстаза, который все усиливался и усиливался, пока она не подумала, что вот-вот потеряет сознание. Она лежала, совершенно ошеломленная, а он повернул к ней голову и улыбнулся: — Вам понравилось, как мы целовались, Анна? Девушка кивнула, думая, какие же красивые у него глаза. — О милая Анна, — проворковал Отто, снова касаясь ее губ губами, — вам понравилось, правда? Я вижу. — Да. Я и не представляла, что бывают такие удовольствия. — Анна лежала в его объятиях, чувствуя себя невероятно счастливой, и ей хотелось, чтобы это мгновение длилось как можно дольше. — Вот для чего Бог создал мужчину и женщину! — Отто улыбнулся. — Так делать было нельзя, да? Здравомыслие возвращалось к ней, и вместе с ним явилось осознание того, что она участвовала в чем-то запретном. — Конечно нет. — Он отпустил ее и, сев, стал зашнуровывать рейтузы. — Но пусть это будет нашим секретом. Родители этого не поймут. Они считают, такие удовольствия доступны только в браке, но я не вижу ничего дурного в том, чтобы наслаждаться ими и раньше. Анна ощутила чувство вины. Унесенная потоком безумия, она нарушила заповеди, внушенные ей матерью. Но это было так прекрасно! Почему же тогда она чувствует, как в нее заползает страх? Это был страх, что все откроется, — поняла Анна, — и ничего больше. Неужели она станет жалеть о том, что доставило ей такую радость? — Мы можем пожениться, Анна? — спросил Отто, глядя на нее жадными глазами. — Мне хотелось бы этого! — с жаром отозвалась она. — Но меня обещали сыну герцога Лоррейнского. — Слова застыли у нее в горле. Отто молча уставился на нее: — Я не знал. Анна покачала головой: — Я этого не хочу, но мой отец ищет союза с Лоррейном. Слишком поздно поняла она: то, что сотворили они с Отто, должно было произойти после брака. Они похитили сокровище, по праву принадлежавшее Франциску. — Помолвку можно расторгнуть, — сказал Отто. — Сомневаюсь, — покачала головой Анна, почувствовала, как подступают к глазам слезы, и поняла, что на ее лице должно было отобразиться страдание. Бедняжка встала, привела в порядок платье и направилась к двери. — Куда вы, Liebling?[79] — с изумленным видом спросил Отто. — Нам нужно возвращаться. Мы пробыли здесь слишком долго, — ответила Анна. Он снова обнял ее и поцеловал, долго и страстно, не оставив в ней никаких сомнений по поводу его чувств. Теперь они принадлежали друг другу, и ничто не могло изменить этого: вот о чем говорили ей его губы. Анну захлестнули эмоции. Ей хотелось, чтобы этот момент длился вечно, но она заставила себя отстраниться, не смея оставаться наедине с ним еще хоть на миг дольше. — Я люблю вас, Анна, — услышала она шепот Отто. Не обращая внимания на болезненное ощущение между ног, она стала торопливо спускаться по лестнице. Ей нужно поскорее добраться до своих покоев, где можно будет излить в слезах свою печаль. Там есть чистая вода, мыло и полотенце, чтобы смыть с себя следы греха, и она снимет платье, которым так гордилась, но которое теперь замарано пятнами ее морального падения. Отто прав. Произошедшее между ними нужно держать в секрете; к тому же у Анны просто не имелось в запасе слов для описания случившегося. Если родители узнают, ее станут винить. Начать с того, что она не должна была оставаться наедине с Отто, тем более позволять ему целовать себя и ложиться рядом с собой. Они скажут, что он обесчестил ее, принцессу Клеве, находясь гостем в доме ее отца. Но все же было не так! Она легла с ним по своей воле — и была в полном восторге. Отто сказал, что любит ее, и завел речь о браке, хотя никогда им не принадлежать друг другу. Глаза Анны вновь наполнились слезами. Она вышла из башни, молясь про себя, чтобы стражники не заметили ее отчаяния. — Анна! — крикнул у нее за спиной Отто. — С вами все в порядке? — Шпигельтурм там! — срывающимся голосом крикнула она в ответ. — Они будут ждать вас. Скажите им… скажите, что у меня разболелась голова и я пошла прилечь. Оставив Отто стоять столбом, Анна быстро пошла в свои покои. К счастью, там никого не было. Матушка Лёве, по своему обыкновению, наслаждалась послеобеденным сном. Заливаясь слезами, Анна расшнуровала лиф и рукава платья и сбросила его на пол, потом налила воды из кувшина в таз. Обмывая себя, она заметила кровь на батистовой сорочке. Были ли это месячные гости, о появлении которых предупреждала мать? Когда Анна спросила, почему у женщин должна течь кровь, мать просто ответила, что такова воля Божья и она узнает об этом больше ближе к свадьбе. Анна задумалась, имеет ли эта кровь отношение к тому, что случилось сегодня. Она поменяла сорочку, а испачканную положила отмокать в таз с водой. А что делать с платьем? На его подкладке тоже была кровь. Анна взяла влажную тряпку, которой мыла себя, и принялась оттирать пятна. Вскоре они стали почти незаметными; если специально не искать, ничего и не увидишь. Сырое платье было засунуто в сундук, а надето другое, из кремового шелка с алой отделкой. Потом Анна посмотрела на себя в зеркало, чтобы проверить, не приметит ли кто, что она плакала. Глаза слегка покраснели, но объяснить это можно, сославшись на головную боль. А голова у нее и правда побаливала от груза любви, вины и отчаяния, который она теперь несла.
Когда башенный колокол позвал всех к ужину, Анна быстро спустилась по лестнице и прибыла в столовую вовремя. Отец терпеть не мог опозданий. Отто уже был там с дядей Отто и тетей Элизабет. Анне хотелось броситься к нему в объятия, но вместо этого она заставила себя не смотреть на него, понимая, что он жадно ищет ее взгляда. Никто не должен догадаться, что у них есть тайна. — Как ваша голова? Лучше? — спросила тетя Элизабет. — Гораздо лучше, благодарю вас, — ответила Анна. — Вы сменили платье, дитя мое, — заметила мать. — В том было жарко. — Она молилась, чтобы Отто не выдал их каким-нибудь случайным словом или взглядом; мать иногда бывала очень наблюдательной. Трапеза оказалась тяжелым испытанием. Анна старалась вести себя как обычно и съесть отборного карпа и жареную свинину, которые ей положили. Она не смела вспоминать о случившемся в башне, чтобы не залиться краской и не выдать себя. Это было нелегко, когда Отто, такой красивый, сидел в опасной близости от нее, и живот у Анны сжимался от любви и желания. Ей потребовалось собрать все внутренние силы, чтобы не подавать виду. Но, кажется, никто не заметил в ее поведении ничего необычного. После ужина пришли музыканты с трубами, лютнями и арфами. Мать предпочла бы всегда слушать только арфу, свой любимый инструмент, если бы это было в ее власти. Когда отзвучала последняя нота, герцогиня одарила музыкантов улыбкой, что случалось с ней нечасто. — Мне хотелось бы потанцевать, — задумчиво проговорила Эмили, — или спеть. Мать нахмурилась: — Мое дорогое дитя, вам известно, что женщине неприлично танцевать и петь на людях. — Знаю, — мрачно буркнула Эмили, — но я так люблю музыку и танцы. Тетя Элизабет неодобрительно посмотрела на нее. — Она унаследовала от меня любовь к музыке, — объяснила мать. Элизабет понимающе улыбнулась. Мужчины говорили о политике. — Император амбициозен. Он хочет получить графство Гелдерн, — сказал отец. — Но оно отойдет жениху Анны. — Анна увидела, как помрачнел Отто, а герцог Иоганн продолжил как ни в чем не бывало: — Герцог Карл бездетен, и Франциск, как его внучатый племянник, станет наследником. У меня у самого есть виды на Гелдерн, но я отказался от них по условиям брачного контракта. Я удовлетворюсь тем, что моя дочь станет герцогиней Гелдерна. Анна с трудом сохраняла спокойствие. Ей,разумеется, вовсе не улыбалась такая перспектива. В ее воображении Франциск превратился из обходительного, улыбчивого юноши во вздорного, подозрительного мужчину. — Но у императора тоже есть притязания на Гелдерн, разве нет? — спросил дядя Отто. — Да, через его мать, — ответил герцог Иоганн. — Но если он будет настаивать, мы готовы к этому. Клеве, может быть, и является частью Священной Римской империи, но, кроме того, это одно из мощнейших германских княжеств. Мы не позволим императору диктовать нам свои условия. Мы защитим свою независимость. У нас есть свои суды и собственная армия, и я контролирую нашу внешнюю политику. Вильгельм жадно слушал отца. — Но Карл очень силен. Возникнет распря, — заметил дядя Отто. — Ах, но он будет занят войной с Англией, если король Генрих продолжит попытки развестись с теткой его императорского величества Екатериной, чтобы жениться на куртизанке. Я рассчитываю, что Карл, скорее, озаботится этим да еще турками, которые посягают на его восточные границы, так что ему будет не до Гелдерна. Я способен собрать сильную армию. — Герцог замолчал, ожидая, пока слуга заново наполнит вином его кубок. — Один раз я встречался с королем Генрихом, вы знаете. Восемь лет назад, когда посещал его королевство в свите императора. — И каков он, отец? — спросил Вильгельм. — Красив. Высокопарен. Горд своим новым титулом. Папа только что назвал его Защитником Веры за книгу, которую король написал против Мартина Лютера. Беседа тянулась бесконечно. Никакой возможности перемолвиться с Отто хотя бы словечком, ведь между ними сидели Вильгельм и Эмили. Ровно в девять часов явился гофмейстер, чтобы убрать вино, и это был сигнал: пора расходиться. При дворе запрещалось засиживаться дольше за игрой в карты, выпивкой или просто разговорами, и отцу нравилось подавать в этом добрый пример. Все пожелали друг другу спокойной ночи. Когда Анна покидала зал, то почувствовала, как кто-то сзади взял ее за руку и вложил что-то ей в ладонь. Она обернулась и увидела с тоской смотревшего на нее Отто. К счастью, кажется, никто ничего не заметил. Выходя из столовой, Анна получила родительское благословение и взбежала по лестнице в свою комнату. Только там она раскрыла ладонь. На ней лежал крошечный сверток из кусочка дамаста, а внутри него — кольцо, украшенное красной эмалью. К нему была приложена записка: «Милая Анна, прошу вас, примите этот знак моего глубокого почтения. На фамильном гербе моей семьи изображено красное кольцо, так что это для меня особый символ. Надеюсь, вы будете носить его и вспоминать добрым словом своего верного слугу». Он преподнес ей такую вещь! Ах, если бы это было обручальное кольцо! Но все равно, как бы там ни было, а оно символизировало вечную любовь. Анна не посмела сохранить записку. С болью в сердце она разорвала ее на мелкие кусочки и выбросила в окно. А кольцо спрятала под неприколоченной доской в углу своей спальни.
Через два дня фон Вилихи уехали. Анна разрывалась между грустью оттого, что пришлось распрощаться с Отто, и облегчением. Больше не нужно защищаться от его настойчивых попыток тайком переговорить с ней. Раз он уехал, забрав с собой страх разоблачения, Анна могла расслабиться и сказать себе, что не должна больше о нем думать, чтобы не сойти с ума. Не смела она и попросить отца о месте для Отто, чтобы ее явный интерес к делам этого молодого человека не вызвал неудобных вопросов. И все же было невероятно трудно вернуться к обыденной жизни, а ведь они с Эмили бо́льшую часть времени проводили в апартаментах матери в кругу женщин и редко оставались одни, за исключением ночи, которую проводили вдвоем с сестрой в их общей спальне. Вильгельму повезло больше. С семилетнего возраста он получал образование под руководством ученого советника отца герра Хересбаха, которого порекомендовал сам Эразм. Брат без конца хвастал, что Эразм посвятил ему, пятилетнему мальчику, книгу. Теперь он бегло изъяснялся на латыни и французском, тогда как Анна и Эмили говорили только по-немецки. Мать не верила в необходимость образования для женщин, помимо обучения их чтению и письму. — Знатным дамам неприлично быть образованными, — часто говаривала она. — Вам, девочки, не нужно говорить ни на каком другом языке. Анна не могла представить, чтобы ее мать когда-нибудь поддавалась такой страсти, какую испытала она сама. Матушка, внешнее сходство с которой Анны все отмечали, в других отношениях (с грустью понимала дочь) была слишком степенной, слишком спокойной, слишком набожной. Она следила за дочерьми почти непрерывно. Даже когда Анна и Эмили выходили на улицу немного погулять, мать была тут как тут — шла сзади вместе со своими дамами. — Мы всегда у нее под рукой! — ворчала Эмили, видя, что мать следит за ними, пока они обходят сад. Анна заметила, что стала еще больше раздражаться из-за этой постоянной материнской бдительности. — Герцогиня — мудрая женщина, — с укоризной говорила им матушка Лёве, когда, вернувшись домой, сестры жаловались ей на заведенные матерью порядки. — Это редкость — встретить мать, которая так строго следила бы за своими детьми. Няня тоже была дамой весьма достойной, несмотря на полноту, румяные щеки и туго закрученные вокруг ушей косицы. Анна и Эмили не сомневались в ее любви к ним, но она в один голос с матерью внушала им необходимость быть скромными, целомудренными и покорными. Все, чему они научились от матери и няни, было направлено на то, чтобы сделать из них добродетельных будущих жен для принцев; и если они отклонялись от намеченного для них узкого пути или начинали предаваться несбыточным мечтам, что ж, тогда мать и матушка Лёве быстро находили им занятие и отвлекали от глупостей молитвами или шитьем. «Не дай Бог, — думала Анна, — чтобы они когда-нибудь узнали, как далеко я уклонилась от их предписаний!» — Вы должны быть как монахини, — снова завела речь о своем мать. Она имела склонность давать им наставления, пока они работали иглами. Прошла неделя после отъезда гостей, и Анна с легкой тревогой размышляла, заметила ли мать ее реакцию на Отто. — Вы должны научиться строго следить за своими глазами. Никогда не позволяйте им заглядываться туда, куда не нужно. Будьте скромны в жестах и выражении лица. «Даже если заметила, то не могла знать всей правды», — заверила себя Анна, подавляя угрызения совести, которые не давали ей покоя. Ее продолжало удивлять, что она так беспечно отнеслась к наставлениям матери. Строго следить за глазами? Да она вообще ни за чем не уследила! «Я не достойна стать чьей-нибудь женой, — с горечью в душе твердила себе Анна. — Не достойна любви родных. Если бы они знали, какова я на самом деле, то отвергли бы меня, и поделом». Она ничего никому не говорила о своих страданиях. Нужно было держать в секрете и радость, и печаль, и чувство вины. Это стало ее наказанием. Теперь Анне хотелось иметь больше разных занятий, чтобы отвлечься. Дни тянулись томительно скучно, похожие один на другой: все тот же неизбывный круговорот из молитв, шитья, вязания, готовки и наставлений о том, как управлять большим хозяйством. Однако игры и пение были запрещены в Клеве как непристойные. Эмили хитро обходила этот запрет. Среди разных вещей, в беспорядке засунутых под ее кровать, имелась лютня, на которой она тихонько играла по ночам или в те редкие моменты свободы, которые ей удавалось улучить. И еще Эмили записывала слова песен, которые сочинила. Но Анне не хватало дерзости на такое безрассудство, к тому же она не умела играть ни на каком инструменте и петь тоже, конечно, даже не пробовала. Казалось, ее мир вечно будет ограничен пределами замка и церкви, хотя иногда им с Эмили позволяли развлекать за ужином гостей вместе с герцогом и герцогиней, потому что в Клеве родители воспитывали своих дочерей так, чтобы те могли быть радушными хозяйками. Гости, которых специально подбирали, были неизменно или ученые-гуманисты, или церковники, или советники, которых хотел приветить отец. Они хвалили очарование и грацию Анны, а мать одобрительно взирала на это, убеждаясь, что сделала все очень хорошо, вырастив своих дочерей такими добродетельными. Мать держала детей в строгости, но, несмотря на это, Анна любила ее. Она была камнем, на котором покоилось основание их мира, и становилась путеводной звездой, когда жизнь разлаживалась. От одного вида ее бесстрастного лица, звука ее спокойного голоса возникало ощущение благополучия и безопасности. А вера ее вдохновляла. Как и отец, мать дружила с учеными-гуманистами, но те, которых принимали в ее круг и сажали за стол, держались с ней одного мнения в неприятии учения Мартина Лютера. Мать искала утешения у своего духовника отца Герехта, приора картезианского монастыря в Кантаве, неподалеку от ее родного Юлиха. Он был монахом ордена картезианцев, отличавшегося большой строгостью, и тем не менее, хотя вел затворническую аскетическую жизнь за монастырскими стенами, не утратил сострадания и любви к живущим в миру несчастным душам и каждую неделю приезжал ко двору. Он написал два трактата против Лютера, но не питал к нему ненависти. Анна любила слушать проповеди отца Герехта, потому что говорил он в них только о любви. — Никогда не упускайте из виду любовь Господа к людям, — говорил монах, благосклонно улыбаясь ей и Эмили, сидевшим за столом с матерью. — Вы христианские принцессы и должны нести перед собой Святое Сердце Господне как объект особого почитания и подражания. Анна пыталась следовать его советам, но по мере взросления обнаруживала, что мир предлагает слишком много вещей, отвлекающих от этого, и бо́льшая часть из них была для нее под запретом. Мать, разумеется, не опускалась до мирских развлечений. Ее задачей было вырастить своих детей добрыми католиками. — Я всегда напоминаю им семейный девиз: «Candida nostra fides» — «Наша вера чиста», — сказала она, делая небольшой глоток вина. — Так и должно быть. Двор моего супруга — школа этого Нового Учения. Верно, что мы можем многое узнать из этих заново открытых текстов Древней Греции и Рима, и все же я боюсь, они подвигнут людей на то, чтобы подвергать сомнению учения Церкви. — Изучение античных трудов казалось замечательным делом несколько лет назад, — заявил отец Герехт, когда подали фрукты, — но ваша милость правы, это оказалось опасным, так как действительно привело к тому, что люди стали задаваться вопросами по поводу веры и религиозных доктрин. — Он выглядел расстроенным. — Некоторые считают, что Писание должно быть доступно для чтения всем. Монах не упомянул Эразма, да это было и не нужно: все они знали, что Эразм — сторонник перевода Писания на язык народа и сам занимается этим. К тому же герцог Иоганн поддерживал идею реформатора. Мать ни за что не стала бы критиковать супруга или открыто перечить ему. А так как герцог любил Эразма, она и его не подвергала критике. Герцогиня Мария просто сидела и с задумчивым видом изящно резала еду. Отец Герехт покачал головой: — Если мирянам будет позволено читать Писание, они, того и гляди, начнут хвастаться, что разбираются в нем лучше церковников, которые обучены толковать его и рукоположением в сан наделены духовной силой для этого. Вильгельм, с интересом слушавший разговор, вдруг заговорил: — Простите меня, отец, но, говорят, не все священники достаточно образованны для толкования Святого Писания своей пастве, и некоторые объясняют его избирательно, сообразуясь со своими нуждами. — Вильгельм! — воскликнула шокированная мать. Старый монах улыбнулся: — Ваша милость, в юном возрасте вполне естественно задавать вопросы, и если молодой человек слышал такое, значит ему нужно услышать и о том, что подобные случаи крайне редки. Продажные души есть везде, чем бы люди ни занимались, даже среди священников, к сожалению. Но большинство набожны и честны в своем призвании. Такой ответ удовлетворяет вас, мой юный господин? — Да, отец. — Вильгельм не выглядел убежденным. — Я надеюсь на это, — строго сказала мать. Сын повесил голову.
Оставалось совсем немного времени до пятнадцатого дня рождения Анны. Он приходился на сентябрь, Эмили родилась в октябре, и отмечали оба праздника всегда вместе. Обычно устраивали небольшой торжественный ужин с родителями и несколькими приглашенными гостями, которые приезжали с поздравлениями и подарками. По крайне мере, это был повод нарядиться. Анна стояла в сорочке посреди своей комнаты и рассматривала красивую одежду, разложенную на ее кровати. Эмили юлила вокруг, уже одетая в зеленое как мох платье с широким черным бархатным поясом и тщательно отделанными разрезами на узких рукавах. — Черный бархат — это слишком мрачно, Анна. — Да, но это мое самое дорогое платье. — Анна наклонилась над копной алого бархата. — Я надену это. И наверное, мой новый Stickelchen, из-под которого будут видны косы. — Она взяла в руки расшитый бусинами головной убор с декоративной золотистой вуалью. — Весьма уместно, мадам маркиза, — прокомментировала матушка Лёве, деловито вошедшая в комнату со стопкой чистого белья, которое собиралась положить в сундук под кроватью. — Теперь, когда вы почти уже солидная леди пятнадцати лет, нужно и выглядеть соответственно! Но это алое не сочетается с вашим головным убором. Наденьте лучше красный шелк. Анна заколебалась. Она не притрагивалась к этому наряду с июня, не хотелось ей делать этого и сейчас. На платье остались едва заметные пятна — напоминания о том, что произошло между ней и Отто, если кто-нибудь присмотрится хорошенько. — Нет, я лучше надену черное, — быстро сказала она. — Золотой пояс с большой пряжкой хорошо будет смотреться с ним. Матушка Лёве зашнуровала на ней платье. — Хочу заметить вам, миледи, что вы поправились. В прошлый раз я затягивала его туже. — Это потому, что она слишком налегает на Kuchen[80], — съехидничала Эмили. Анна не засмеялась. Она вовсе не ела пирожных больше, чем обычно, и тем не менее замечала, что грудь у нее в последние недели увеличивается как-то слишком быстро и живот округлился. Все это означало, что она превращается в женщину. Анна это понимала, но ей не хотелось стать толстухой. Она надела пояс. И правда: талия ее стала шире. — Мне нужно последить за диетой. — Для юных леди вашего возраста поправляться — это обычное дело, — утешила ее матушка Лёве. — Если вы будете меньше есть, все это уйдет, помяните мое слово.
Но ничего никуда не уходило. Через месяц, когда вокруг башен начал завывать ветер, камни на мостовой стали скользкими от прилипших к ним осенних листьев и все в замке занялись приготовлениями к отъезду в Дюссельдорф, как делали каждую зиму, Анне уже было не отмахнуться от того факта, что ее живот и груди определенно раздулись. Может, она больна, хотя чувствует себя прекрасно? И какое же заболевание проявляется таким образом? Ужасная возможность открылась ей. Когда замужние женщины двора ее матери были enceinte[81], их животы увеличивались в размерах. Дамы эти отправлялись на несколько месяцев в свои поместья, потом снова появлялись при дворе стройные как тростинки и без конца трещали о своих младенцах. Но она не может быть enceinte. Начать с того, что она не замужем, и Отто уверял ее, что поцелуи, даже более интимного свойства, безвредны. Матушка Лёве говорила, что это не так, дабы отвратить своих воспитанниц от желания целоваться с любым молодым человеком, который им понравится. Но что, если Отто ошибался? Что, если поцелуи вовсе не так безвредны, как он говорил?
Глава 2
1530–1531 годыНаступивший ноябрь принес с собой туманы. Подготовка к отъезду почти завершилась. Завтра они покинут Шваненбург. Ночью Анна лежала без сна, держа руки на животе. Он явно стал толще, и ей часто приходилось бегать в клозет. Она встала и опустилась на колени рядом с кроватью. Приподняв доску пола, вытащила кольцо Отто. Оно должно поехать с ней; она ни за что не оставит его здесь. Кроме этой драгоценности, у нее больше ничего не осталось от любимого. Анна вернулась в постель, но сон ускользал от нее. Посмеет ли она посоветоваться с одним из отцовских врачей? Доктора дают клятву не разглашать тайны своих пациентов, но не посчитает ли доктор Шульц более обязывающим с точки зрения морали долг верности своему господину? И как Анна сможет подобрать слова, чтобы объяснить ему, чем они занимались с Отто? Но ей нужно понять, что с ней происходит, иначе она могла умереть или, не дай Боже, заиметь ребенка, а это еще хуже. Держать в секрете симптомы «болезни» больше не представлялось возможным. Ей уже приходилось затягивать пояса так туго, как только она осмеливалась, и надевать на себя самые широкие сорочки до того, как утром приходила матушка Лёве, чтобы помочь ей одеться. Вскоре сама няня наверняка заметит неладное.
Анне не удалось обмануть матушку Лёве. На следующее утро эта уважаемая дама вплыла в комнату прежде, чем ее воспитанница успела встать с постели. — Торопитесь, мадам маркиза! — сказала нянюшка. — Нас ждет путь в сотню миль, и ваш батюшка хочет выехать как можно скорее, чтобы успеть за день проехать как можно больше. Я сейчас налью вам теплой воды и положу сорочку поближе к печке, чтобы согрелась. Анна выскользнула из постели. Еще недавно ее совсем не беспокоило раздевание и мытье на глазах у няни. Повернувшись к ней спиной, Анна спустила ночную рубашку до талии, взяла чистую тряпицу и стала намыливать лицо и руки, молясь, чтобы матушка Лёве не заметила, как изменилось ее тело. — Анна, взгляните на меня! — Матушка Лёве назвала ее по имени, как в детстве, и строгость команды не оставила у воспитанницы никаких сомнений в том, что ее тайна раскрыта. На лице матушки Лёве изобразился такой ужас, что Анна похолодела. — Вы ничего не хотите мне сказать, дитя? — запинаясь, проговорила няня. — Mein Gott[82], я догадывалась, но сказала себе, нет, только не моя Анна, это невозможно. Она хорошая девочка и невинна в таких делах. Анна ничего подобного не сделает. Скажите мне, что вы не опозорили нас всех! Анна бросилась в слезы. — Я не знаю! — прорыдала она. — Он сказал, ничего плохого не будет. Рука матушки Лёве подлетела ко рту. — Он? Лучше расскажите мне все! — Няня силилась совладать с собой, но то, что она в шоке, было очевидно. Анна повесила голову и приготовилась встретиться лицом к лицу с последствиями своего безумства, зная, что матушка Лёве тут ничем ей не поможет. И все же, по мере того как история вываливалась из нее отдельными кусками, с дрожью и использованием неуклюжих эвфемизмов, ей становилось легче, она будто снимала с плеч невыносимо тяжелую ношу. Пока Анна говорила, матушка Лёве дрожащими руками одевала ее. «Эта история плохо скажется на няне», — поняла воспитанница. Мать решит, что та недостаточно хорошо следила за своей подопечной и не внушила ей должным образом правила приличия. Но это будет несправедливо, потому что мать сама предложила Анне, Эмили и Вильгельму показать Отто замок. Она не сказала, что они должны взять с собой матушку Лёве, так как знала, что та спит. И мать сама втолковывала Анне, что необходимо быть целомудренной, а значит, она тоже не преуспела в выполнении своего долга, потому что не объяснила Анне, от чего ей нужно защищать себя и воздерживаться. — Он точно был внутри вас? — сурово спросила матушка Лёве, и щеки у нее порозовели. — Да, — прошептала Анна. — Он сказал мне, что это поцелуй и он безвреден. — Безвреден, как же! Этим мужчина и женщина занимаются, чтобы завести ребенка. И кажется, у вас он завелся, бедная овечка. — Няня тяжело вздохнула. — Что теперь делать, я даже не знаю. Нужно сказать вашей матушке. — Нет! — крикнула Анна, вдруг разозлившись на Отто за обман — неужели он сделал это намеренно? — и страшась испуга матери, ее разочарования и гнева, который наверняка за этим последует. — У меня нет выбора, — твердо заявила матушка Лёве. — Герцогиня должна знать и решить, что делать. Но предоставьте это мне, я скажу ей сама, по-своему, чтобы она поняла: хотя вы повели себя глупо и недостойно, вашей неопытностью воспользовался юный проходимец, которому следовало бы дважды подумать, прежде чем решаться на такое! Анна дрожала. Она хотела возразить, что нет, все было не так! Но не посмела. Ей нужна была поддержка матушки Лёве. — Как вы думаете, что она скажет? — прошептала бедняжка. — То, что сказала бы любая мать, услышав такую новость! — отрезала няня. — И вы должны принять ее праведный гнев. Но думаю, я достаточно хорошо ее знаю: когда госпожа успокоится, она поступит по справедливости. — Вы скажете ей прямо сейчас? — запинаясь, проговорила Анна. — Нет, дитя. — Матушка Лёве сняла с крючка накидку Анны. — Нам нужно ехать. Лучше подождать, пока мы не доберемся до Дюссельдорфа. — Но на дорогу уйдет три дня! — воскликнула Анна. — И в пути трудно будет поговорить с глазу на глаз. Нет, мы должны подождать приезда, и мне нужно обдумать, как подступиться с этим к вашей почтенной матушке.
Никогда еще поездка не казалась Анне такой долгой. Прошла целая вечность, но вот наконец вдалеке показались окутанные туманом стены, шпили и купола столицы герцогства. Анна родилась здесь, во дворце с видом на Рейн, и отсюда Сибилла уехала, чтобы выйти замуж за курфюрста Саксонии. Но сегодня возвращение домой, обычно такое приятное, не радовало Анну. Ее слишком сильно угнетал страх. Спустившись из кареты и ступив во двор, она думала только о том, что сегодня вечером решится ее судьба. Анна не могла представить, какой она будет. Расторгнут ли помолвку? Отправят ли ее саму в монастырь доживать дни в стыде? Или еще хуже, вдруг родители лишат ее наследства? Или — и она принялась лелеять в душе золотой огонек надежды — заставят Отто жениться на ней? Может быть, в конце концов все обернется к лучшему. Отец слезал с коня, удовлетворенно окидывая взглядом две башни по бокам от выхода с просторного двора, каждая была увенчана куполом. Мать отдавала распоряжения фрейлинам, чтобы те занялись ее багажом. — Девочки, идите в свои комнаты, — сказала она дочерям. — А вы, Анна, постарайтесь принять более веселый вид. Скоро Рождество. — Да, миледи, — ответила Анна, вымученно улыбнулась и быстро отвела глаза, чтобы мать не заметила блеснувшие в них слезы. К Рождеству ее могут изгнать из семьи. Анна пошла к лестнице, Эмили держалась следом, и они вместе поднялись в свои комнаты на втором этаже. Личные покои по приезде всегда заново поражали Анну роскошью, но сегодня не произвели на нее никакого впечатления. Она закрыла за собой дверь и, давясь слезами, опустилась на резной деревянный ларь. Горничная постучалась к ней, спрашивая, нужно ли разбирать вещи, но Анна отослала ее. Она сильно нервничала и не могла взяться ни за чтение, ни за вышивку, а вместо этого встала у окна и устремила взор на крытые серой плиткой крыши галереи и лоджии, которые находились внизу и выходили на ту сторону, где располагалась пристань. В апартаментах под ней обустраивается мать, не подозревающая, что ее мир вот-вот рухнет. При мысли об этом Анна снова заплакала.
Ужин для детей герцога, как обычно, подали в их собственных покоях. Анна только взглянула на поставленную перед ней тарелку с Sauerbraten[83] и жареным шпинатом и отослала все это обратно на кухню. Ее тошнило. — Я не голодна, — сказала она горничной. Ее лихорадило от тревожного ожидания: поговорила матушка Лёве с матерью или еще нет? Только когда колокол пробил семь раз, няня пришла к ней в комнату с мрачным лицом. Анна встала, вся дрожа, не в силах произнести ни слова. Горло у нее сжималось. Она пошла впереди матушки Лёве вниз по лестнице через общие комнаты к двери, которая вела в покои матери; ноги у нее подкашивались. Стражники взяли на караул, подняв скрещенные пики. Вперед выскочил церемониймейстер и открыл двери. — Мадам маркиза де Понт-а-Муссон! — объявил он. Анна прошла за ним. Делая реверанс, она тревожно вглядывалась в лицо матери. Герцогиня была одна, сидела в своем привычном кресле. По ее кивку двери за Анной и матушкой Лёве закрылись. Анна пришла в ужас, увидев, что мать недавно плакала, чего не случалось с ней никогда. Она делилась своими тяготами с Господом, уверенная в Его помощи. Но, очевидно, в этом испытании, уготованном ей дочерью, на поддержку Всевышнего рассчитывать не приходилось. — Садитесь, Анна, — произнесла мать, указывая на стул, и ее голос дрогнул. — Вы знаете, зачем вас сюда позвали. Повторять сказанное матушкой Лёве слишком тяжело, так что не будем на этом задерживаться. Вам нужно исповедаться, пройти покаяние и примириться с Господом. Меня тревожит то, что происходит сейчас… Матушка Лёве считает, вы где-то на пятом месяце… — Она невольно вздрогнула. — Да, миледи, — прошептала Анна. — Мне так жаль. — В этом я не сомневаюсь. — Голос матери был резким. — Думая о том, сколько раз я взывала к вашей добродетели, меня тянет к слезам. Если бы вы прислушивались к моим словам должным образом, мы сейчас не вели бы этот разговор. Но сделанного не исправишь, как бы это нас ни печалило. И матушка Лёве сообщила мне, как сильно огорчены вы тем, что вам придется жить с последствиями своего греха. Я держу в уме ваши юные годы и вашу невинность. Мне хочется думать, больше согрешили против вас, чем вы сами. Кажется, так и было. Анна наклонила голову. Она не заслуживает такого понимания и будет вечно благодарна матушке Лёве за то, что та представила ее проступок в таком вызывающем сочувствие свете. Настал момент молить о своем будущем. — Миледи, — осмелилась подать голос Анна, — мы поступили очень плохо, но мы любим друг друга. Отто хочет жениться на мне! Мать уставилась на нее: — Вы в своем уме, девочка? Вы действительно думаете, что ваш господин и отец отдаст вас замуж за бастарда? Анна никогда не слышала, чтобы мать говорила с такой горячностью. — Но это позволит нам избежать позора, миледи, — прошептала она. — Для этого есть другие способы! — Герцогиня покачала головой, как будто приходя в отчаяние. — Анна, послушайте меня. Никто не должен знать, что вы ждете ребенка. Вы кому-нибудь говорили? — Нет, мадам. Но разве не нужно сообщить Отто? Глаза матери округлились от удивления. — Ни в коем случае! Его следовало бы выпороть за то, что он сделал с вами, но лучше ему пребывать в неведении относительно того, какие это имело последствия. И ваш отец тоже ничего не должен знать. Это разобьет ему сердце… как разбито мое. — Голос герцогини снова дрогнул. Анну переполняло раскаяние — и негодование. Она причинила боль матери, и все же та вела себя очень неразумно. — Итак, — мать снова заговорила оживленно, — мы скажем, что вы больны, у вас несварение желудка. Матушка Лёве обратила внимание, что в последнее время вы мало едите, может быть, и другие это заметили. Вы отправитесь в Шлоссбург, где воздух здоровый, и там к весне, по милости Божьей, полностью поправитесь. Матушка Лёве поедет с вами, она же пригласит повитуху, которая поможет в должное время. Когда… когда все закончится, вы сможете вернуться ко двору, как будто ничего не случилось, и никто ничего не узнает. — Да, матушка, — безучастно ответила Анна. Наказание оказалось не таким уж и строгим, мать могла вовсе отказаться от нее, лишить своей любви, но неужели она не способна проявить больше понимания и использовать свое заметное влияние на отца, чтобы убедить его: пусть позволит Анне выйти замуж за Отто! Какое это было бы счастье! А теперь… — Что будет с ребенком? — спросила несчастная, разыгрывая свою последнюю карту. — Ему нужен отец. Мать поджала губы: — Вам следовало думать об этом раньше! Младенца отдадут кормилице и вырастят. Кто его родители — останется тайной. Матушка Лёве, вы организуете это, пока находитесь в Золингене. — Да, мадам, — кивнула няня. Герцогиня повернулась к Анне: — Вам, вероятно, сейчас так не кажется, но все это к лучшему. Я рассчитываю на ваше содействие и благоразумие. — Да, мадам, — прошептала Анна, не в силах больше сдерживать слезы. — Мне исповедаться отцу Герехту? Ей стало дурно от такой перспективы, и она вдруг испугалась при мысли о том, что ее ждет, когда она лишится утешительного присутствия матери. — Нет. Матушка Лёве устроит, чтобы в Шлоссбурге к вам пришел священник, который вас не знает, — ответила герцогиня. Несмотря на возмущение, Анна понимала, что ей крупно повезло. — Мадам, я не знаю, как благодарить вас за доброту ко мне, которой я не заслуживаю и знаю это, — проговорила она сквозь слезы. — Простите меня, что я так опечалила вас. И я буду скучать. — Анна встала на колени и уткнула лицо в ладони, вздрагивая от рыданий всем телом. На плечо ей легла чья-то мягкая рука. Девушка подняла мокрое лицо и увидела склонившуюся над собой мать. — Я тоже буду скучать по вам, моя Анна, — сказала герцогиня более мягким голосом. Анне стало ясно, что сдержанность матери была вызвана скорее печалью, чем неодобрением. Она, как обычно, скрывала эмоции. Сама Анна пока еще не овладела этим искусством. Раскинув руки, она обхватила мать за талию и воскликнула: — Не бросайте меня! Пожалуйста, не прогоняйте. Лучше я умру, чем потеряю вашу любовь. Мать отцепила от себя ее руки и держала их в своих: — Никто не гонит вас, Анна. Я делаю то, что в ваших интересах, из любви к вам. А теперь идите в свою комнату, лягте в постель и притворитесь больной. А когда вы уедете, мы станем писать друг другу, и вы будете сообщать мне, как идут дела. Даю вам свое благословение, и да хранит вас Господь.
Шлоссбург Анна всегда любила. Она провела здесь бо́льшую часть детства. Изолированный на скалистом плато высоко над рекой Вуппер и окруженный густыми лесами прекрасный замок, в былые времена главная твердыня предков герцогини Марии, графов Берга, был также и любимой резиденцией герцога. Окрестности его славились богатыми дичью охотничьими угодьями, к тому же это было прекрасное место для проведения придворных праздников, которые так любил отец Анны. В прежние времена Шлоссбург, занимавший выгодное положение на местности и способный выдержать осаду, был крепостью. Теперь он представлял собой скопление похожих на мельницы для перца башенок и прелестных черно-белых деревянных домов, окружавших донжон. Отец ценил Шлоссбург за красоту и безопасность, которую замок давал семье, и еще за то, что это было гораздо более здоровое место для детей, чем Дюссельдорф с его городским воздухом. Опираясь на руку матушки Лёве, — горничная, которую выбрала няня, ждала их, чтобы поприветствовать, внутри мощных арочных ворот Цвингертор, — Анна медленно шла по двору, понимая, что за ней сочувственно наблюдают двое рыцарей из ее эскорта. Очевидно, она весьма убедительно разыгрывала болезнь, и мужчины, без сомнения, думали, что их юная госпожа приехала сюда в отчаянной надежде продлить свою жизнь. К счастью, была зима, и тяжелая меховая накидка скрывала выступавший живот «страдалицы». По великолепной парадной лестнице Анна поднималась с трудом, перешагивая со ступеньки на ступеньку. Наконец они достигли общих комнат на первом этаже и вступили в просторный Рыцарский зал с боковыми галереями. Издавна его использовали для торжественных государственных церемоний, которые устраивали герцоги Клеве, а до них — графы Берга. Двадцать лет назад здесь состоялась свадьба отца с матерью, а потом была помолвка Сибиллы с курфюрстом. Сегодня к приезду гостей в двух элегантных каминах во французском стиле разожгли огонь, но зал все равно не прогрелся, словно ему было необходимо присутствие толпы людей, чтобы напитаться их теплом. Свечи не горели, что придавало залу мрачности, и, проходя мимо каменных колонн, на которых покоился высокий потолок с деревянными балками, Анна дрожала от холода и ощущения покинутости. За Рыцарским залом располагались просторные личные покои членов семьи герцога. Много дней провела Анна в комнате фрейлин матери, Kemenate, где жили женщины семьи, когда отец отсутствовал. Из всех окон открывались прекрасные виды на живописные окрестные пейзажи. Позади Kemenate находилась часовня, где герцогиня, проживая в резиденции, каждый день участвовала в литургии Часов[84], сама произносила слова службы, а дети стояли рядом с ней на коленях. Слуги приготовили спальню для Анны. Стоявшая в углу печь, отделанная зеленой плиткой, была затоплена, перина взбита, гобелены с изображением цветов повешены на стены. Матушка Лёве приказала молоденькой горничной Герде распаковать сундуки Анны, и вскоре комнаты приобрели жилой вид, за исключением того, что люди, которые делали Шлоссбург настоящим домом, отсутствовали.
Когда наступила зима, ребенок подрос и стал толкаться в утробе у Анны. Сама она превратилась в затворницу и почти не выходила из своей комнаты. За ней присматривали матушка Лёве и горничная Герда, которой сказали, что ее госпожа страдает тяжелой формой водянки. Догадывалась ли служанка, чем страдала Анна на самом деле, кто знает. Герда была неграмотной дочерью фермера, обладала живым воображением, была расторопна и очень добра к Анне. Оставалось надеяться, что она не вникает в подробности жизни своих господ и не задается лишними вопросами. Когда ребенок впервые зашевелился, Анна с новой силой ощутила реальность того, что в ней растет новая жизнь. Она заплакала от мысли, что ее ребенку не суждено узнать ни материнской любви, ни отцовской. Об Отто она старалась не думать, чувствуя, что если погрузится в мысли о нем, то сойдет с ума от тоски и горя. Он должен был находиться здесь, рядом с ней. Как можно держать его в неведении? Какая жестокость — оставлять младенца сиротой. Матушка Лёве осторожно расспросила местных жителей и нашла опытную повитуху, которой сплела историю об одной замужней фрейлине герцогини, оказавшейся в сложных обстоятельствах; сказала, что эта несчастная, получив разрешение укрыться в замке, нуждалась в помощи и сохранении ее истории в строгой тайне, и пообещала щедро заплатить и за то, и за другое. Обрадованная такой удачей, повитуха взялась, когда придет время, найти хорошую кормилицу для ребенка. Ее сестра была на сносях и могла оказаться полезной: молока у нее было много, когда она выкармливала своего последнего младенца. Матушка Лёве посетила дом повитухи и дом ее сестры и сообщила, что в обоих царила безупречная чистота. Еще лучше было то, что акушерка знала одну семью, где один за другим умерли шестеро новорожденных детей, и эти люди отчаянно хотели иметь ребенка. Муж, мастер Шмидт, был успешным и уважаемым кузнецом, изготавливал мечи, имел добротный дом из дерева и камня, а его жена отличалась набожностью. Монахини из расположенного в городе монастыря Грефрат возьмут на себя заботы о выхаживании малыша. Все было устроено. Анна понимала, что у нее нет выбора. Мать говорила, мол, все делается ради ее же блага, но сама Анна не могла в это поверить.
Время тянулось медленно. Дни проходили за шитьем приданого для младенца, которое отправят вместе с ним в дом приемных родителей, в легких прогулках и молитвах. Каждую неделю Анна писала матери, но сообщать было особенно не о чем, кроме того, что она здорова и ест хорошо. Свежий воздух Шлоссбурга делал свое дело. Каждый день она гуляла вокруг замка — выходила через боковые ворота в разбитый на крутом холме сад, который заканчивался обрывом; далеко внизу блестели воды Вуппера. В этой холмистой местности, окруженной лесами, легко было поверить в сказки о ведьмах, феях и призраках, которые Анна слышала в детстве. Герда верила, что в замке обитают привидения, но матушка Лёве сразу велела горничной замолчать и забыть эти глупости. «Беременным женщинам, — шепнула она на ухо Анне, — не нужно испытывать страх». Но Анна, отчаянно нуждавшаяся в каком-нибудь отвлечении, обнаружила, что ей хочется узнать больше. Слышала ли Герда сама что-нибудь? Видела ли собственными глазами? — Нет, мадам, — призналась девушка. — Но мой кузен здесь конюхом, и однажды он видел высокую фигуру в черном капюшоне, она стояла у окна в Rittersaal[85]. «Это могла быть я, — подумала Анна, — в своей темной накидке. Разве я не достаточно печальна, чтобы блуждать по замку призраком из настоящего?» — Я здесь ничего странного не замечала, — сказала она, — но люблю истории о привидениях. Герда знала их множество и могла заполнить рассказами томительные часы ожидания. Сведенные вместе судьбой, несмотря на разницу в ранге и положении, девушки крепко подружились. Матушка Лёве, строгая поборница соблюдения этикета, не препятствовала этому. Она понимала, как одинока Анна, как скучает по родным и как сильно нуждается в компании. А тут была Герда, примерно того же возраста, с льняными волосами, веселая и словоохотливая. Справившись со своими делами, она тут же появлялась в комнате Анны и развлекала ее болтовней. Последние недели беременности были скрашены бесконечными мрачными легендами и волшебными сказками. Ребенок становился тяжелее, вечерние посиделки становились продолжительнее, начали раскрываться первые весенние бутоны. И однажды утром в середине марта Анна ощутила первые схватки. Повитуха, обосновавшаяся в замке две недели назад со своим родильным креслом, объяснила Анне, чего ожидать. Потом она сказала, что роды были легкие. Но ничто не могло подготовить Анну к тому, с какой силой навалились на нее схватки и какую боль она испытала. Это продолжалось много часов. Однако она была молода, сильна и переносила родовые муки хорошо. Только в самом конце почувствовала, что больше терпеть не в силах, но тут, побужденная совершить последнее невероятное усилие, она ощутила, как ребенок выскользнул из нее в мир, и ее страдания закончились. Матушка Лёве положила крошечного малыша ей на руки всего на несколько мгновений, чтобы он получил материнское благословение, прежде чем будет навечно разлучен с ней. Сердце Анны захолонуло, когда она его увидела. Он был совершенен, восхитителен, и она увидела в нем Отто. Никогда еще ей ничего не хотелось так сильно, как оставить его при себе, но она знала, что об этом не может быть и речи. Самый ужасный в ее жизни момент наступил, когда вернулась матушка Лёве, чтобы забрать у нее младенца. Анна храбро проглотила слезы, поцеловала крошечную головку и отдала ребенка. — Его зовут Иоганн, — прошептала она, — в честь моего отца. Оставшись одна, Анна лежала и заливалась слезами, чувствуя себя так, будто у нее вырвали сердце. Матушка Лёве застала ее в таком состоянии. — Перестаньте, овечка моя! Ну, ну. Все к лучшему, поверьте. Я договорилась, чтобы мне время от времени сообщали о нем, и вы будете знать, что он здоров и счастлив. А теперь вам нужно думать о будущем. Вы принцесса. У вас есть предназначение, которое нужно выполнить, и я уверена, вы сделаете это с гордостью. Роды у вас прошли легко, проблемы позади. Вам повезло. — Повезло? — Анна горько заплакала. — Когда у меня ноют руки от желания подержать моего малыша, моего Liebling! Когда я так ужасно по нему тоскую. Если это удача, как тогда ощущается горе?
Телесные раны затянулись, молоко иссякло, но пустые руки продолжали болеть оттого, что на них не лежал потерянный ребенок. Анна вернулась в Дюссельдорф совершенно здоровой, но сердце ее обливалось кровью от сожалений: ах, что было бы, если б только… Возвращение к привычной жизни казалось невозможным, ей никогда не стать прежней. Но шли месяцы, ее тайная печаль превратилась в глухое оцепенение души, и Анна начала понимать мудрость, заключенную в словах матушки Лёве. Скандала избежать удалось, и в этом ей действительно повезло. Но тем не менее Анне хотелось плакать всякий раз, как она задумывалась, какой могла бы быть жизнь, если бы ей позволили разделить ее с любимым мужчиной и их ребенком.
Глава 3
1538–1539 годыОтец умирал. Надежды не было. Последние четыре года у него медленно, но неуклонно угасал разум. Раньше люди называли его Миролюбивым, а теперь дали ему прозвище Простак. Анна не знала, какой недуг его гнетет, и доктора, казалось, тоже. Началось это через три года после ее возвращения из Шлоссбурга. Отец стал забывать незначительные вещи, делал замечания невпопад или обращался к людям, называя их чужими именами. Иногда мать сомневалась, действительно ли у ее супруга какие-то проблемы, но потом он говорил или делал что-нибудь странное, и все его близкие снова впадали в беспокойство. В октябре герцога Иоганна сразила новая болезнь — обычная простуда, что дало его личному врачу, доктору Сеферу, возможность внимательно осмотреть своего господина. — У него все смешалось в голове, — сказал он матери, которая в нетерпении ждала за дверями спальни вместе с детьми, — но телесные рефлексы тоже нарушены. Это нечто новое, и я ничего не понимаю. Никогда такого не видел. — Это может быть серьезно? — тревожно спросила мать. — Увы, я не знаю, мадам. Нужно посмотреть, как пойдут дела дальше. — Я буду молиться за него, — сказала герцогиня и повела дочерей в часовню, где они провели следующие несколько часов, умоляя Господа вернуть отцу здоровье. В ноябре они с предельной ясностью осознали, что дела действительно идут плохо, когда отец вдруг ни с того ни с сего упал на пол вниз лицом. Он не поскользнулся и не споткнулся — просто потерял контроль над своими ногами. Врачи беспомощно стояли вокруг, хмурились и имели очень мрачный вид. Болезнь неуклонно прогрессировала, пока не достигла стадии, когда отец начал временами не узнавать свою супругу. Иногда он называл ее Матильдой, именем собственной матери. К Рождеству герцог уже не вставал с постели и говорил с трудом. В один из редких дней, когда отец узнал мать, Анна видела, как он попытался взять ее за руку и посмотрел на жену полными любви глазами. — Вы должно… быть… мучаетесь… как проклятые, — пробормотал он, с трудом подбирая нужные слова после долгих мучительных пауз. Больше связных фраз Анна от отца не слышала. Наступил январь, и состояние герцога еще ухудшилось. Доктора продолжали качать головами и говорить, что ничего не могут сделать. Мать ходила по дому тенью и пыталась убедить себя, что это Божья воля. — Он ушел от меня, мойлюбимый мужчина. Осталась одна пустая оболочка. Как это больно, — как-то раз сказала она. Сердце Анны обливалось кровью от жалости, когда она стояла у постели отца и смотрела на него. Герцог Иоганн то и дело погружался в забытье, нитка слюны сползала вниз по обросшему седой щетиной подбородку. Неужели эта пустая скорлупа — тот жизнерадостный рыцарь, который ослеплял своих подданных ярким атласом, бархатом и пышными перьями на шляпах? — Осталось недолго, — тихо сказал доктор Сефер матери. Та перекрестилась и послала за сыном. Уже несколько месяцев Вильгельм был герцогом во всем, кроме собственно самого титула. Молодой человек двадцати двух лет от роду, среднего роста, приятной наружности, с крепким телом и густой каштановой бородой, по цвету такой же, как обстриженные до верха ушей волосы, Вильгельм оставался таким же серьезным и лишенным чувства юмора, как в детстве, но заслуживал похвал за добродетель и умение соблюдать этикет. Никто и никогда не встречал сына герцога Иоганна в таверне, не заставал в объятиях шлюхи, но иногда Анну раздражали ханжество брата и его непоколебимая уверенность в собственной правоте. И все же, наблюдая за ним сейчас, — вот он, сидит у постели отца, угловатое лицо застыло, ясные глаза затуманены слезами, — она была вынуждена согласиться, что в нем есть задатки великого правителя. Вильгельм был прекрасно образован, говорил по-французски лучше всех германских принцев, так же блестяще овладел итальянскими манерами и был решительно намерен сделать Клеве уважаемым в христианском мире герцогством. Скоро это будет его Клеве, со всеми графствами и подвластными землями. Анна уже давно относилась к брату настороженно. Если он раскроет ее секрет, ей несдобровать. Однажды — ей никогда этого не забыть, — услышав, что сестра одного из советников герцога Иоганна бросила мужа, Вильгельм буквально взорвался от ярости и сказал, что, будь это его сестра, он убил бы ее. Анна молилась, чтобы брат никогда не узнал о существовании у него безвестного племянника, который — по словам матушки Лёве, извещавшей ее о мальчике далеко не так часто, как хотелось бы, — прекрасно жил в Золингене и хотел ковать мечи, как его приемный отец. Внук герцога Клеве — кузнец! Тоска по сыну тупой болью сопровождала каждый прожитый Анной день. Вильгельм с мучительной грустью смотрел на умирающего отца: — Какая трагедия! Он был самым миролюбивым правителем своего времени. Когда они покинули душную спальню и открыли окна в галерее, впуская в дом холодный чистый воздух, Анна, понизив голос, сказала брату: — Мать считает, болезнь отца — это Божья кара за то, что он отказался признавать власть папы и Римской церкви. Она говорит, Господу не угодно, чтобы Церковь в Клеве становилась под контроль государства. Погруженная в печаль, герцогиня была непривычно молчаливой. — Матушка, конечно, так и думает, — ответил Вильгельм. — Она верная дочь Римской церкви. Но отец полагал, что поступает правильно. И в отличие от короля Англии, который порвал с папой просто потому, что ему вздумалось завести себе новую жену, отец действовал из принципа и позаботился о том, чтобы сохранить, насколько это возможно, дружеские отношения с Ватиканом. Я не стану ничего менять, что бы ни говорила мать. — И он надменно взглянул на Анну. Она приподняла брови. Не было секретом, что Вильгельм — реформист, как отец, а также друг и покровитель своих подданных лютеран (он даже пригласил одного из них священником ко двору), но в сердце он оставался католиком и ортодоксом. Многие ожидали, что сын герцога прислушается к настояниям матери и вернется к покорности Риму. Вильгельм сам часто говорил, что не примет никакого решения без материнского совета, и Анна предчувствовала, что в отношении религии ее брат поступит так же. Но это будет чистая формальность. Какое бы решение он ни принял, мать не станет бросать ему вызов; так она вела себя с мужем, такую же линию поведения избрала и с сыном. С тех пор как Вильгельм взял в свои руки власть, Анна ощутила, что отношения в семье стали более напряженными. Брат ревниво оберегал своих женщин и отличался гораздо более строгими взглядами на женскую благопристойность, чем отец. Мать была строга, но Вильгельм оказался еще более строгим. Он ясно дал понять, что Анна и Эмили, пока не выйдут замуж, останутся в уединении вместе с матерью в личных покоях, за исключением тех случаев, когда их появления на людях потребует государственная необходимость. При этом помолвку Анны расторгли четыре года назад, и близких перспектив замужества не предвиделось. Ей было двадцать три, и ни один другой принц не просил ее руки. Даже если бы такие нашлись, Вильгельм, вероятно, отказал бы им. Его казна была истощена. Как мог он раскошелиться на выплату приданого? Сидя в покоях матери и перебирая вместе с Эмили шелковые нитки для вышивания, Анна размышляла, какой была бы ее жизнь, выйди она замуж за Франциска Лоррейнского. Она не расстроилась, когда отец сообщил, что предварительное соглашение о помолвке аннулировано. Сделать это было несложно, так как ни она, ни Франциск на момент его заключения еще не доросли до того возраста, когда требовалось их согласие на брак. Нет, Анна испытала одно лишь облегчение. Случись это пару лет назад, она снова воспылала бы надеждой, что ей позволят выйти замуж за Отто, но теперь — нет. Анна хранила его кольцо в маленькой шкатулке вместе с немногочисленными личными сокровищами. Даже узнав, что ее возлюбленный женился, она не нашла в себе сил избавиться от его подарка. После того злосчастного визита Анна больше не виделась с Отто; иногда она задумывалась, каков он сейчас из себя и вспоминает ли иногда о ней. Сама же, думая о нем, ощущала горечь обиды, смешанную с благодарностью за то, что Отто, по крайней мере, дал ей познать радость телесной любви, которой она, вполне вероятно, никогда больше не испытает. Может быть, расторжение помолвки было частью Божественного плана, в соответствии с которым Анна должна находиться здесь, в Клеве, когда понадобится матери. Или таким образом Господь уберег ее от опасности быть вовлеченной в войну, так как, к бессильной ярости герцога Лоррейнского, бездетного герцога Гелдерна убедили, что его страна с бо́льшим успехом сохранит независимость, находясь в руках Вильгельма, чем Франциска, и тот объявил брата Анны своим наследником, вот почему причин выдавать Анну замуж за Франциска не осталось. И когда в прошлом году герцог Карл умер, Вильгельм унаследовал Гелдерн, увеличив территории, контролируемые Клеве. Однако император пришел из-за этого в ярость и заявил, что Гелдерн по праву принадлежит ему. Все сходились во мнении, что он его получит, чего бы это ни стоило. — Конечно, император зол, — говорил Вильгельм, сверкая глазами. — Он понимает, что обладание Гелдерном дает мне огромные стратегические преимущества. Теперь ему нужно пересекать мои владения, чтобы попасть в свою Бургундию. До сих пор Клеве было окружено со всех сторон чужими землями, но теперь у нас есть выход к Зёйдерзе и Северному морю, что повышает наш военный потенциал. А значит, могла разгореться война. Даже если бы Анна вышла за Франциска и они вступили во владение Гелдерном в прошлом году, император все равно мог выразить недовольство этим и она оказалась бы втянутой в конфликт. Анне хотелось, чтобы намечался какой-нибудь брак. Она невольно предавалась мечтам о том, как разделяет радости плоти с любимым мужем. Много раз у нее возникало искушение совершить то, что, согласно учению Церкви, считалось моральным грехом, который мог навлечь на нее вечное проклятие, если она не покается. Но Анна удерживалась от того, чтобы признаваться в таких помыслах отцу Герехту или любому другому священнику. Разве могли понять ее они, давшие обет безбрачия? Святые отцы, конечно, были бы шокированы тем, что женщина сознается в столь низких желаниях. Более того, покаяние потребует от нее обещания никогда больше не совершать подобного греха, а Анна опасалась, что такого испытания ей не вынести. Святой Павел утверждал, что лучше вступить в брак, чем гореть в аду, и она отчетливо понимала, о чем он говорил, но перспектив замужества не было, — и что ей оставалось? Только сгореть.
Анна была одна, когда на последней неделе января Вильгельм пришел в женские покои в Дюссельдорфе. Мать находилась в часовне, а Эмили сидела с отцом: была ее очередь. Анна налила брату вина. Вильгельм кивнул, взял кубок и сел: — У меня есть новости, которые касаются вас. Сибилла написала мне, что к саксонскому двору прибыли послы от короля Англии и осторожно завели разговоры с вице-канцлером курфюрста о возможности союза с Клеве. Известно, что здоровье отца ухудшилось, а курфюрст — мой верный союзник. В этом деле ему можно доверять, он меня не предаст, потому как желает моего вступления в Шмалькальденскую лигу. Вы должны помнить его вице-канцлера, он приезжал сюда с визитом два года назад, а кроме того, бывал в Англии и знает там кое-кого. Человек он хороший, трезво мыслящий и надежный. Мы можем рассчитывать на него, он уладит это дело как надо и без лишней огласки. — А какое отношение это имеет ко мне? — поинтересовалась Анна и сделала глоток вина. Вильгельм сел прямее. Было заметно, что он борется с волнением, а такое случалось с ним нечасто. — Похоже, главный секретарь короля Генриха, лорд Кромвель, порекомендовал вас в качестве невесты для своего суверена, и король неявно проявил к этому интерес, отправив своих людей вести переговоры о союзе. Анна, вы можете стать королевой Англии! На мгновение Анна онемела, потом обнаружила, что дрожит. Нет. Нет! Матримониальные проблемы Генриха Английского много лет давали пищу для сплетен всему христианскому миру. У него было три жены, и все умерли ужасной смертью. Первая, по слухам, была отравлена, вторая попала под меч, а третья умерла при родах в позапрошлом году. По отзывам, он был тиран как в спальне, так и вне ее. — Вы, кажется, не слишком обрадованы, — заметил Вильгельм, слегка приуныв. — Вас это удивляет? Какова цена короны, если этот человек — чудовище? — Некоторые говорят, ему не повезло. Первые две жены не смогли родить ему наследника, а третья умерла, делая это. — Но второй он отрубил голову! Вы хотите подвергнуть меня риску испытать такую же участь? — Она была потаскухой, изменила ему с другим мужчиной. Вы, Анна, скроены иначе. Вас не коснулось дыхание ни одного скандала. Анна почувствовала, как щеки у нее запылали от стыда. — Надеюсь, что нет, — сказала она, внутренне содрогнувшись от мысли: вдруг ужасный Генрих Английский обнаружит, что она не девственница? А потом решительно заявила: — Я не хочу выходить замуж за этого короля. — Но, сестра, союз с Англией принесет неизмеримую выгоду Клеве, — строго возразил Вильгельм. — Ваш долг — помочь герцогству, заключив удачный брак. Было ясно, что он уже все решил. С упавшим сердцем Анна поняла, что от нее в этом деле мало что зависит. — Но зачем Англии союз с Клеве? — Давайте прогуляемся, и я вам все объясню. Они надели накидки и перчатки, после чего Вильгельм повел Анну на галерею с лоджией, откуда была видна пристань. Там они остановились и некоторое время наблюдали за проходившими по Рейну лодками и за тем, как с судов выгружают на причалы разные товары. — Недавно папа отлучил короля Генриха от Церкви, — сообщил сестре Вильгельм. — Вследствие этого два верных сына Церкви — император и король Франции — объединились, оставив Генриха в изоляции. Англия не так сильна, как Империя или Франция, но до недавних пор, вступая в альянсы то с одной, то с другой, ей удавалось сохранять баланс сил в христианском мире. Генрих уже давно ведет переговоры о браке с герцогиней Миланской, племянницей императора, но недавний пакт между Карлом и королем Франциском положил им конец. Король вне себя. Он готовится к войне и ищет себе новых друзей и другую невесту. Ему нужен союзник, который поддержит его борьбу с врагами; союзник, связанный с ним узами родства. Анна неохотно приходила к пониманию того, зачем понадобился королю Генриху альянс с Клеве, одним из самых сильных герцогств Германии, способным собрать огромную армию. — Союз между Англией, Клеве и нашими друзьями, владыками немецких протестантских герцогств, снова сместит баланс сил в Европе в пользу Англии, — сказал Вильгельм, показывая, что им нужно двигаться, так как ветер был холодный. Анна прошла за ним через дверь, которая вела в его личный сад. — Как вам известно, протестантские государства Германии — как занозы в боку у императора, они восстают против его попыток установить католическую веру по всей Империи; союз между ними и Англией отвратит Карла от любых намерений объединиться с Францией, чтобы пойти войной на Генриха. Теперь вы понимаете, почему король склонен к альянсу с нами и женитьбе на вас. Лорд Кромвель, главный советник его величества, настаивает на этом браке. Он реформист, как отец и я сам. Анна остановилась у солнечных часов, водя пальцем по орнаменту на них. Казалось, король для себя уже тоже все решил. Какой смысл ей, женщине, протестовать? — Вы задумались, Schwester[86], — сказал Вильгельм, подходя к ней. — Это прекрасный брак. Вы станете королевой. — Я попаду в опасное положение. Он вздохнул: — Нет, пока есть я, чтобы защитить вас. — Император, несмотря на всю свою мощь, мало что сделал для защиты своей тетки, королевы Екатерины, когда король Генрих оставил ее! — Я не император. И сказать по правде, страх короля Генриха перед вторжением Карла в Англию удержал его от расправы над Екатериной. Анна, я всегда знал, что ваша добродетель и миловидность обеспечат вам хорошего мужа. Король полюбит вас, не сомневайтесь. Кроме того, ему нужна моя дружба; поэтому вы можете быть уверены, он не станет плохо обращаться с вами. Но важнее всего, что этот союз нужен нам. Для нас тоже представляет опасность недавний пакт между Францией и Империей. Если Франциск поддержит претензии Карла на Гелдерн, нам придется вести войну. С помощью Англии мы имеем шанс ее выиграть. Что могла противопоставить Анна пылу Вильгельма, воле короля Генриха и упоминанию об опасности, грозившей ее родной стране? Ничего. Она была бессильна и понимала это, но все же предприняла последнюю попытку спастись от неминуемой участи: — А не может король Генрих жениться на Эмили? Лишь только слова были произнесены, Анна возненавидела себя за то, что сказала их. Как же низко она опустилась, пожелав сестре вступить в брак, который сама считала отвратительным! — Выбор в невесты именно вас, Анна, вполне очевиден. Как моя старшая сестра, вы унаследуете Клеве, если оба мы — я и Сибилла — умрем бездетными. У Сибиллы, разумеется, есть три сына, но королю Генриху лучше других известно, что маленькие дети умирают по совершенно разным причинам. Анна перекрестилась: — Не дай Бог! — Аминь! — с жаром произнес Вильгельм, взял сестру за руку и повел ее обратно к дверям. — Пока король Генрих думает, что у него есть шанс через вас заполучить Клеве, вы всегда будете для него на первом месте. Анна повернулась к брату: — А как поступил бы отец в этой ситуации? — Так же, как я, — твердо ответил Вильгельм. — Он был бы за союз.
Анна дежурила у постели отца, молясь, чтобы он пришел в себя и стал таким, как прежде, хотя бы на несколько мгновений. Если бы отец знал, что принесенный им Клеве мир находился под угрозой, то пришел бы в ужас, но отдал ли бы он свою дочь тирану во избежание войны? Вопреки заверениям Вильгельма Анне хотелось верить, что нет. Но отец не очнулся. Он больше не реагировал на окружающий мир, был уже почти с ангелами. Анна печально встала, поправила одеяло и налила отцу сердечных капель, которые, скорее всего, не будут выпиты. После этого она пошла искать мать.
Та все знала о переговорах, которые велись в Саксонии. — Честно говоря, я не знаю, на что решиться, — сказала герцогиня Мария, когда они взялись за вышивание алтарной пелены с двух противоположных концов. — Это был бы важный союз для Клеве. Но я содрогаюсь при мысли, что мне придется отдать свою дочь человеку, отлученному от Церкви, которого должны осыпать бранью все верные католики за его отступничество и поругание моральных принципов. Когда его отвергла герцогиня Миланская, она сказала, что, будь у нее две головы, одну она могла бы отдать в распоряжение его милости! Как я ей аплодировала! В душе Анны затеплилась надежда. — Вы сказали об этом Вильгельму? Брат всегда прислушивался к словам матери. — Я сказала ему, что решение должен принять он. Хоть я и одобряю союз, но не стану поддерживать ваше замужество с этим человеком. Значит, надежды нет. Курфюрст написал Вильгельму. Король Генрих желает знать, сохраняют ли оба герцога Клеве, отец и сын, в каком-нибудь виде верность епископу Рима, как ему было угодно именовать папу; держатся ли они старой, папской веры и, если так, не склонны ли изменить свои взгляды? — Думаю, мы спокойно можем удовлетворить короля в этом смысле. — Вильгельм улыбнулся Анне. — И в другом тоже, ведь его посол тайком расспрашивал о вашей внешности и личных качествах. Он хотел вызнать все о вашей фигуре, росте и цвете лица, образовании, какие занятия вам по душе и как вы себя ведете. Анну бросило в жар. — О моей фигуре? Это как-то неделикатно. Разве нет? Bruder, надеюсь, вы не стали отвечать на этот вопрос! Вильгельм пожал плечами: — Анна, когда принцы не могут встретиться со своими предполагаемыми невестами лично, они должны полагаться на описания, сделанные послами, и на портреты. Король попросил, чтобы ему прислали ваше изображение. Анна кипела от негодования: — Значит, этот жизненно важный альянс зависит от того, понравятся ли ему мое лицо, моя фигура и поведение! Разумеется, мои желания ничего не значат, не важно, есть ли у меня предпочтения относительно того, за какого мужчину я хотела бы выйти замуж. Я должна вступить в брак ради блага своей страны, и какая разница, что за мерзавец этот король! — Ее трясло от возмущения. — Успокойтесь, Schwester, — сказал Вильгельм, вставая из-за стола и выдвигая для нее стул. — Решение пока не принято. На самом деле я думаю, что немного потяну время. Она была изумлена. — Зачем? — Мне не нравится отношение англичан. Их посол обменивается с нами фехтовальными уколами. Курфюрст жалуется, что Генрих, видимо, не собирается напрямую просить вашей руки, скорее он намерен подтолкнуть нас к тому, чтобы мы сами вас ему предложили, чего не позволит моя гордость, так как разыгрывать из себя поклонника — это мужская роль. Его послы ведут себя так, будто замужество с королем — высочайшая честь, которой может удостоиться принцесса из дома Клеве. И мы должны рассматривать это как невероятное одолжение с его стороны. — Тогда вы правы, что решили подождать, — прошипела Анна. — Никогда еще я не испытывала такого унижения!
Смерть отца на первой неделе февраля принесла всем облегчение, но, хотя ее давно ждали, сильно всех опечалила. Мать облачилась в глубокий траур и батистовый Stickelchen, похожий на монашеский вимпл, и удалилась в часовню молиться о душе супруга. Осиротевшие Анна и Эмили стояли на коленях рядом с ней и проливали обильные слезы. Оставив женщин скорбеть в уединении, новый герцог Вильгельм V с горестным лицом, дрожа от озноба, сопроводил гроб с телом отца к месту упокоения в Клеве. Вернувшись домой, Вильгельм слег. Болезнь его была серьезной, и в течение нескольких недель над ним висела опасность отправиться вслед за герцогом Иоганном в могилу. В случае смерти Вильгельма, сохрани его Господь, суверенной правительницей Клеве станет Сибилла. Будет ли она искать союза с Англией? Почти наверняка да, ведь ее супруг курфюрст был всей душой за это. Брат или сестра, судьба Анны от этого не изменится. Ко всеобщему облегчению, Вильгельм медленно шел на поправку. К третьей неделе марта, худой и бледный, он уже мог сидеть в кресле и принимать посетителей. Из окна своей комнаты Анна увидела гонца в ливрее курфюрста, который галопом влетел во двор. Через час Вильгельм позвал ее в свою спальню и с ноткой ликования в голосе сообщил, что члены английской депутации расстроены медленным продвижением дела и король Генрих отправляет в Клеве специального посланника, дабы договориться о союзе. Англичане попросили курфюрста, чтобы тот убедил Вильгельма обдумать дело серьезно, ибо оно касается лично короля. «А лично меня оно не касается?!» — про себя кипятилась Анна. — Англичане в нетерпении! — продолжил Вильгельм. — Курфюрст пишет, что они неустанно твердят ему: положение протестантов заметно улучшится благодаря влиянию лютеранской королевы Англии; король Генрих так привязывается к своим супругам, что управлять им лучше всего через его жен. — Но я не лютеранка! — возразила Анна. — Как они смеют предполагать такое! — Они просто хотят ублажить курфюрста, Анна. Он уже обещал сделать все возможное для достижения этого союза и теперь уговаривает меня согласиться на брак. Он дал слово послать в Англию ваш портрет. — Сперва он должен был посоветоваться с вами, — сказала Анна. — Он не имеет права действовать от имени Клеве. — Schwester, — терпеливо проговорил Вильгельм, — он действует от моего имени. Ему пришлось, потому что я был болен. Но портрет не отправят, по крайней мере пока. Желая дать мне время все взвесить, курфюрст сказал послам, что его придворный художник мейстер Кранах заболел. Как не порадоваться этой краткой отсрочке! — Полагаю, о том, что я могу захотеть увидеть портрет короля, никто не подумал, — сказала Анна. — Так ли он красив, как о нем говорят? Никому не пришло в голову, что для меня это может иметь значение? Вильгельм строго посмотрел на нее: — Этого не требуется. Есть более важные мотивы, которые стоят на кону в этой игре с помолвкой. Вашим долгом будет любить своего супруга, и вы должны приложить к этому усилия, изучить его, чтобы знать, чем его порадовать. — Разумеется, я надеюсь полюбить своего супруга! — воскликнула Анна. — Но есть огромная разница между любовью по обязанности, о которой вы говорите, и настоящей любовью, какая была между матерью и отцом и какую явно нашла Сибилла с курфюрстом. Обрести в браке именно ее я и рассчитываю. — Тогда я буду молиться, чтобы вы ее обрели, Анна. И все же за браком с принцем стоит нечто большее. Королю Генриху уже рассказали о вашей красоте и добродетели. Сибилла и курфюрст восхваляли присущие вам совестливость, честность и серьезность. — Надеюсь, они не создали впечатления, что я образец женского совершенства, ведь я всего лишь человек! Надеюсь, король не будет введен в заблуждение. — Скажу вам как мужчина, Анна, многие джентльмены нашли бы вас весьма привлекательной. — Вильгельм редко делал комплименты, так как порицал грех тщеславия. Анна была тронута и поцеловала брата в щеку. — Так, значит, вы не станете переживать? — спросил он, приподняв одну бровь. — Не стану, — со вздохом согласилась она. — Я буду с добрыми надеждами ждать прибытия английских послов. Вернувшись в свою комнату, Анна утешилась мыслями о том, что все еще зыбко, переговоры о замужестве могут длиться долго, а помолвки нередко распадаются. Взяв зеркало, она вгляделась в отполированную серебряную поверхность и осталась довольна собой. Да, привлекательна, но красива ли? Нет. У нее было розовое лицо, по форме напоминавшее сердце, с милым ротиком и аккуратно изогнутыми бровями, но веки были слишком тяжелые, подбородок чересчур заостренный, а нос не в меру длинный и широкий у основания. Тем не менее она отличалась высоким ростом и грацией, имела ладную стройную фигуру и нежные руки. Достаточно ли этого, чтобы порадовать такого мужчину, как король Генрих, внимания которого, вероятно, всю жизнь доискивались прекрасные женщины? Или король, как и ее брат, ценил в дамах более глубокие качества, такие как скромность, смирение и благочестие? Она молилась, чтобы последнее оказалось правдой.
Ранней весной, вызвав множество кривотолков при дворе, доктор Хайнрих Олислегер, вице-канцлер, и другие сановники Клеве вернулись из Кёльна и поспешили с докладом к герцогу. Вильгельм потребовал, чтобы мать, Анна и Эмили присутствовали на аудиенции, и они скромно сидели в углу приемного зала. Доктор Олислегер, крепкий мужчина лет сорока, с бородой как лопата и пушистыми усами, богач, бюргер по происхождению, был убежденным гуманистом и одним из ближайших советников отца. — Ваша милость, — сказал Олислегер, — мы встретились с английскими послами и имели с ними предварительные беседы. Говорил за всех доктор Уоттон, он законник; герр Карне — ученый и дипломат, герр Берд — член королевского Тайного совета. Герра Барнса вы знаете как главного эмиссара короля у протестантских принцев. Его прислали в надежде, что он сумеет снискать ваше расположение. Все они хорошо изъясняются по-немецки. Вильгельм кивнул: — Послы рассказали вам, с какой целью их сюда отправили? Доктор Олислегер позволил себе криво усмехнуться: — Они явно имели намерение разузнать о внешности и характере леди Анны. — Он поклонился ей и продолжил: — Думаю, они остались довольны полученными от нас сведениями, так как сразу заявили, что король Генрих наделил их полномочиями предложить вашей милости его дружбу. Послы жаждут получить аудиенцию. Полагаю, им необходимо убедиться, что вы искренне заинтересованы в альянсе. Если это так, они хотели бы увидеть принцессу и отправить королю ее портрет. Если она ему понравится, король будет рад оказать честь дому и семье вашей милости, заключив союз. Анна едва могла сдержать возмущение. Возмутительно, что король Генрих поставил столь важный альянс в зависимость от ее внешней привлекательности! Но постепенно ею стала овладевать мысль, что, вероятно, как и она, король желал заключить брак, в котором могла расцвести любовь. И кто посмел бы бросить ему упрек за то, что и в четвертый раз он не оставляет надежды обрести семейное счастье? Может быть, их супружество и не превзойдет пределов ее мечтаний, но вдруг, при взаимном стремлении наладить отношения, все-таки окажется успешным? Это было бы выгодно всем. Вильгельм задумался: — Мне не хотелось бы, чтобы со стороны это выглядело так, будто я бросаюсь в распростертые объятия короля Англии, ликуя по поводу выпавшего на долю моей сестры счастья. Если мы обнадежим его величество и какое-то время подержим в ожидании, это может дать нам большие преимущества. Но главное, я намерен убедиться, что с леди Анной будут хорошо обращаться в Англии и обеспечат ей статус и положение, которых она заслуживает. Его величеству нужно дать понять, что в доме нашей почтенной матушки ее воспитали добродетельной. Меня беспокоит, как она будет жить королевой при дворе, который славится развратом. Имея в виду случившееся с другими женами короля, я должен быть уверен, что моя сестра будет счастлива. Анна ощутила жаркую благодарность к Вильгельму, но доктор Олислегер, похоже, испытывал сомнения. — Ваша милость, король, вероятно, не расположен к ожиданию. Он может обидеться на любую задержку с нашей стороны, и тогда мы утратим все преимущества, которые имеем, потому что брак не состоится. По моему скромному мнению, переговоры нужно завершить как можно скорее. — Очень хорошо, — сказал Вильгельм. — Скажите послам, чтобы они явились в Клеве через два дня, и я приму их.
Прошло два дня, а Вильгельм по-прежнему мешкал в Дюссельдорфе. Только вечером он отправился в Клеве. — По-моему, это выглядит грубостью с его стороны — заставлять послов ждать, — сказала Анна Эмили. Одетые в ночные сорочки, они сидели на кровати Анны и все не ложились спать. — Ему нужен этот союз, как и королю Генриху. Лучше бы они уже перестали играть в игры и обо всем договорились. — Вам, похоже, начинает нравиться идея выйти замуж за короля, — заметила Эмили, сплетая в косу свои длинные волосы. — Я не уверена, — призналась Анна. — Сперва я испугалась, но теперь вижу преимущества этого союза и хочу быть полезной Клеве. — Благородная дева приносит себя в жертву ради своего народа! — провозгласила Эмили, закидывая косу за плечо. — Что-то вроде этого, — улыбнулась Анна. — Я буду скучать по вам, — сказала сестра, и у нее на глазах заблестели слезы. — Я еще не уехала, и пока нет уверенности, что это произойдет, — ответила Анна, чувствуя, как сжалось у нее горло при мысли о расставании, возможно навсегда, с Клеве, с сестрой и со всеми, кого она любила. Ее вырастили в понимании того, что однажды это произойдет. У нее на глазах Сибилла уехала в Саксонию, Анне тогда было всего четырнадцать лет; она знала, что ей самой повезло задержаться дома так надолго, но перспектива расставания с семьей и родной страной разбивала ей сердце. Она была уверена, что будет ужасно скучать по дому. — Мы станем писать друг другу, и может быть, вы приедете навестить меня в Англию, — сказала Анна, стараясь придать голосу столько живости, сколько могла. — Мне бы понравилось отправиться в Англию и стать королевой, — вздохнула Эмили. — И выйти замуж за человека, который похоронил трех несчастных жен? — Может, это они сделали его несчастным. Анна задумалась: — Полагаю, это возможно. — Подумайте сами, — продолжила Эмили, откидываясь на подушку и потягиваясь, словно кошка. — Королю был нужен сын, поэтому он пытался развестись со своей первой женой, которая не смогла родить ему наследника, а та упрямо отказывалась давать согласие. Понятно, почему он на нее разгневался. Потом вторая жена, Анна Болейн, тоже не смогла произвести на свет сына и была неверна королю. Это измена. Она получила по заслугам. С третьей женой он был счастлив, и не его вина, что она умерла при родах. Разве не так? — Так, — вынужденно согласилась Анна. — Но он намного старше меня — больше чем в два раза. Боюсь, я ему не понравлюсь, и, если так случится, меня ждет ужасная участь. — Глупости, Анна! Любой мужчина был бы счастлив получить вас в жены. Король полюбит вас, как только увидит. — Надеюсь, вы правы. Если я обрету любовь, какая была между нашими родителями, то буду вполне удовлетворена. Эмили ушла спать. Оставшись одна, Анна долго лежала без сна и размышляла: очевидно, король расположен к ней и ищет счастья в браке. Если она ему понравится, постарается ничем его не обижать и будет вести себя так, что ее никто ни в чем не сможет упрекнуть или обвинить, и король Генрих не заметит ничего неладного в брачную ночь, тогда с ней все будет хорошо. Вероятно, она и сама встретит счастье. Ох, но сколько же тут «если»!
Вильгельм вернулся из Клеве. Анна расстроилась, узнав от матери, что он не встретился с послами, хотя и заставил их прождать невероятно долго. Следом за ним приехал доктор Олислегер, который поговорил-таки с англичанами. Когда Вильгельм призвал Анну в свой кабинет, чтобы она послушала, как прошла встреча, Олислегер уже был там и ждал ее. — Миледи Анна, — начал он, — я, доктор Хограве и другие советники герцога имели долгую беседу с англичанами. — Вы сами не поговорили с ними?! — с вызовом спросила Анна у брата. — Вице-канцлер Олислегер, следуя моим указаниям, объяснил английским послам мое отсутствие. — Вильгельм слабо улыбнулся. — Нам не годится демонстрировать излишнее нетерпение. Анна бросила на него недовольный взгляд. Его медлительность могла стоить Клеве выгодного союза. — Я заверил английских посланников, — начал Олислегер, — что с нашей стороны нет намеренного затягивания переговоров. Но, сир, они продолжают вести себя так, будто король делает нам большое одолжение, и выражают изумление, что вы не спешите принять выпавшее на долю вашей сестры счастье. Они полагают, вы тянете время, чтобы выжать наиболее выгодные условия контракта из их господина. — И они правы, — сказал Вильгельм. — Я не уверен, что могу позволить себе снабдить леди Анну достойным приданым. И хочу знать больше об условиях, которые предлагает король Генрих, и какое содержание он выделит ей для обеспечения ее нужд. После этого я определюсь с ответом. — То же самое сказал послам и я, сир. А также сообщил им, как вы приказали, что они получат портреты обеих леди в течение четырнадцати дней. — Обеих леди? — удивленно переспросила Анна. — Да, мадам. Об этом просил король. Анна строго взглянула на Вильгельма: — Но я думала, речь шла только обо мне как о старшей сестре? — Мне тоже преподносили это так, — ответил ей брат, — но его величество желает сделать выбор. Анна не вполне сознавала, что почувствовала. С одной стороны, она испытала облегчение, — может быть, ей не придется покидать Клеве; с другой — ее гордость была немного уязвлена. Вдруг король решит, что Эмили нравится ему больше? Как унизительно это будет для Анны, если он предпочтет ей младшую сестру и та первой выйдет замуж! Впредь ее всегда будут считать отвергнутой невестой. Вильгельм продолжил беседу с Олислегером, не обращая внимания на смятение сестры. — Они могут взять портреты, написанные шесть лет назад. — Нет, только не мой, прошу вас! — запротестовала Анна. Ее изобразили в профиль, да к тому же в выбранной матерью гадкой шапке. Она выглядела какой-то толстой крестьянкой, и подбородок был слишком тяжелый. Ей не хотелось, чтобы король Генрих или кто угодно другой видел ее такой. Эмили была гораздо больше похожа на себя и явно выигрывала. Не было сомнений, кого выберет король. Вильгельм нахмурился. — Если мне будет позволено высказать свое мнение, — вмешался Олислегер, — тот портрет леди Анны показывает ее не такой, какая она есть. Анна благодарно улыбнулась ему. — Тогда мы должны заказать другой, — решил герцог, — и найти для этого самого лучшего художника. — Я позабочусь об этом, — пообещал Олислегер.
Послы без толку сидели в Клеве уже пять недель. Даже курфюрст Саксонии начал терять терпение и прислал вице-канцлера Бурхарда, дабы тот побудил Вильгельма к продолжению переговоров. Вильгельм настоял, чтобы Анна и Эмили присутствовали, когда он принимал этого весьма почтенного и влиятельного государственного мужа, и устроил все так, что английские послы тоже стали свидетелями встречи. Анна собиралась с духом, желая произвести хорошее впечатление на англичан, но потом Вильгельм обмолвился, что послов не будут представлять ни ей, ни Эмили. — Вы не пойдете общаться с гостями, будете стоять за моим креслом и обе оденетесь, как велит вам мать. Я попросил ее, чтобы вас обеих одели скромно и неброско. Это означало, что их облачат в закрытые платья длиной от шеи до пят и огромные, украшенные перьями шляпы, которые будут затенять лица. «Да уж, — с горечью размышляла Анна, — трудно придумать для предполагаемых невест более не подобающий случаю наряд!» — Мы похожи на пугал! — пожаловалась Эмили, когда они степенно шествовали в приемный зал. — Послы решат, что Вильгельм прячет нас, потому что мы калеки или уродины, — в сердцах бросила Анна. — У вашего брата есть свои соображения, — твердо заявила мать, и ее было не переубедить.
Вице-канцлер Бурхард, одетый в торжественную черную мантию, поклонился Вильгельму. У него было лицо уставшего от жизни человека, хитрые глаза и тяжелый двойной подбородок. Анна украдкой разглядывала английских послов, которые стояли в некотором отдалении. Главный среди них, доктор Уоттон, имел вытянутое лицо и казался с виду добряком. Все англичане смотрели на Анну и Эмили с нескрываемым интересом. Аудиенция состояла из простого обмена любезностями. Только после обеда, когда Бурхард удалился с Вильгельмом и Олислегером в личный кабинет герцога, они занялись тем, ради чего собрались сегодня. Анна, сидевшая с Эмили и матерью за столом, наблюдала, как Вильгельм отвергает все попытки Бурхарда подтолкнуть его к одобрению союза. — Англичане устали от проволочек и надуманных извинений, — горячился саксонец. — Они говорят, что вам, господин Олислегер, это прекрасно известно. Олислегер утер лоб. — Так и есть. — Он в отчаянии поглядел на сверкавшего взглядом Вильгельма. — Больше всего их беспокоит, что они не видели юных леди или не смогли толком их рассмотреть. За обедом послы жаловались на то, как были одеты их милости сегодня утром. Они назвали наряды девушек чудовищными — простите, что говорю это при вас, миледи, — и сказали, что не имели возможности ни разглядеть их лиц, ни познакомиться с ними лично. Боюсь, я вспылил и позволил себе спросить, не хотят ли они лицезреть их голыми?! — Действительно! — воскликнула мать. Анна вся сжалась от стыда. Эмили хихикнула. — Мои извинения, ваши милости. — Олислегер выглядел сконфуженным. — Послы ответили, что всего лишь хотели увидеть юных леди. Я пообещал, что вскоре организую это. — Прошу вас, милорд герцог, — вмешался Бурхард, — пошлите послов к королю, чтобы предложить ему леди Анну. По крайней мере, в этом случае вы узнаете, каковы намерения англичан и какие условия предлагает король. Олислегер согласно кивнул. — Я никого не могу сейчас отправить, — раздраженно ответил Вильгельм. — Дипломаты нужны мне для встречи в Гелдерне. Вице-канцлер Бурхард вздохнул: — Милорд, это никуда нас не приведет. Может быть, вы снимете с себя груз и объясните настоящую причину, почему вас тревожит продвижение переговоров о браке, о чем я вынужден был конфиденциально сообщить английским послам. Анна пристально взглянула на брата. Вильгельм на мгновение смешался, но потом пришел в себя и, обращаясь к ней, сказал: — Меня беспокоит, Анна, что ваша помолвка с Франциском Лоррейнским все еще в силе и вы не свободны для замужества. Анна оторопела: — Но отец говорил, что предварительное соглашение не имеет силы, потому что обещания были даны друг другу отцами, так как Франциск и я были слишком маленькими, чтобы давать согласие. Он сказал мне, что мы свободны вступать в брак, когда и с кем захотим. — Мне он говорил то же самое, — подтвердила мать. — И это правда, как я не раз заверял его милость, — сказал Олислегер, — и послов. — Тогда, сын мой, о чем тут беспокоиться? — спросила герцогиня. Вильгельм вздохнул: — Мадам, я знаю, мой отец считал предварительное соглашение аннулированным, но формально этого не было сделано. — Этого и не нужно, — вмешался Бурхард. — Очевидно, герцог Лоррейнский не станет возражать, потому что хочет женить своего сына на дочери французского короля. Олислегер повернулся к Вильгельму: — Заверяю вашу милость, вам не стоит больше тревожиться об этом. Во имя любви Господа, позвольте нам приступить к переговорам. Последовала долгая пауза. — Хорошо, — сказал Вильгельм. — Я отправлю посла в Англию. Анна напряглась. Похоже, она все-таки станет королевой англичан.
Глава 4
1539 годВ том году июль в Шваненбурге выдался жаркий. Заниматься чтением или вышивать было трудно. Но мешала Анне не только удушливая жара. Мать пришла к ней и сообщила, что король Генрих сам выразил озабоченность, действительно ли она свободна от прежде данных обещаний. — Послы требуют письменного подтверждения того, что ее помолвка официально расторгнута, — сказала герцогиня. — Король желает, чтобы это дело разрешилось, потому как слышал о вашей добродетели, уме и прочих достоинствах. Если вы не свободны, он попросит руки Эмили, но предпочел бы вас, так как вы старшая. Он тревожится только о том, чтобы ничто не препятствовало вам выйти за него замуж. — Мать улыбнулась. — Думаю, доктор Олислегер сможет удовлетворить его в этом. — Я уверена, тут не о чем беспокоиться, — сказала Анна. Мать положила ладонь на ее руку: — Надеюсь, вы довольны этим браком, дитя? — Да, миледи. Признаюсь, сперва он был мне не по душе, но я понимаю, в чем мой долг, и постараюсь стать хорошей супругой для короля, чтобы вы и Клеве могли мной гордиться. — Анна осознала, что примирилась с ожидавшей ее участью, и даже испытывала радостный трепет в душе от предвкушения великой судьбы. — Послы хотят встретиться с вами, и я думаю, сейчас самое время, раз вы скоро станете королевой англичан. — Разумеется. Я буду рада принять их. — Хорошо. Я организую встречу с ними в саду сегодня после обеда. Скажите вашим горничным, чтобы одели вас в алое бархатное платье. Оно вам очень идет, и вы будете выглядеть превосходно. Анна согласилась. Алое платье — самое роскошное из всех, что у нее имелись. Из того красного шелкового, с предательскими пятнами, она выросла. Как дорого она заплатила за свое удовольствие… и, может быть, заплатит еще больше. Эта мысль не давала ей покоя и приходила в голову чаще и чаще, по мере того как ее брак с королем становился все более вероятным. Может ли мужчина узнать, что его жена не девственница? А еще страшнее, способен ли он определить, что она рожала? Решительно отбросив в сторону неуместные страхи, Анна пошла переодеваться для встречи с послами.
Сидя на каменной скамье в саду между матерью и Эмили, Анна чувствовала, что выглядит принцессой до кончиков ногтей. Юбка платья, обшитая золотой тесьмой, мягкими складками лежала вокруг ее ног; длинные рукава, собранные над локтями узорными лентами, свисали почти до земли; поверх расшитого драгоценными камнями лифа лежали тяжелые цепи и крест, усыпанный самоцветами; на голове у нее был изящно отделанный Stickelchen из шелкового дамаста, надетый поверх крылатой батистовой шапочки и покрытый вуалью из золотистых нитей; пальцы унизаны кольцами. Когда послы подошли и низко поклонились, Анна грациозно кивнула им. Доктор Уоттон, выступавший в роли главы делегации, вел себя с изысканной вежливостью; он явно имел большой опыт в искусстве дипломатии. — Мне говорили, что красотой ваша милость превосходит герцогиню Миланскую, как золотое Солнце затмевает своим блеском серебряную Луну, — сказал он. — И теперь я сам вижу, что это правда. Его величество — счастливейший из мужчин. Говорят, вы наделены множеством прекрасных качеств. — Леди Анне привили все добродетели и навыки, необходимые супруге, — сказала герцогиня Мария. — Она умеет читать и писать, готовить и весьма умела в обращении с иглой. — Восхитительно, восхитительно! — воскликнул доктор Уоттон. —Вы музыкальны, миледи? — Я не пою и не играю на музыкальных инструментах, сэр, но люблю музыку, — ответила Анна. Ей показалось или в его добродушии просквозило легкое недовольство? — На каких языках вы говорите? — Только на немецком, сэр, — ответила она, чувствуя свою ущербность. Неужели посол ожидал, что она владеет английским? — Но я уверена, что быстро выучусь говорить по-английски. — Очень хорошо, очень хорошо. — Уоттон повернулся к матери. — Ваша милость, удалось ли сделать что-то, чтобы его величество получил затребованные портреты? — Увы, нет, — призналась мать. — Мы надеялись, что их напишет мейстер Вертингер, но он занят другими заказами. Мы послали за мейстером Кранахом в Саксонию, однако пока не получили ответа. — Ничего, мадам. Его величество пришлет своего художника, мастера Гольбейна, если это приемлемо. — Разумеется. — Герцогиня улыбнулась. — Я уверена, герцог Вильгельм даст разрешение. Мы все наслышаны о работах Ганса Гольбейна. — Я также получил указания сказать вам, мадам, и герцогу, что, если имеются какие-либо затруднения с приданым, мой господин ставит добродетель и дружбу превыше денег. «Генриху, похоже, не терпится», — подумала Анна. Все короли хотели денег. — Он очень щедр, — с расширившимися от удивления глазами отозвалась мать.
В начале августа двор переехал в Дюрен, охотничий замок Вильгельма, расположенный в гористой части герцогства Юлих. Бо́льшую часть времени герцог проводил, запершись в кабинете с доктором Уоттоном и послами. Наконец он назначил доктора Олислегера и Вернера фон Гохштадена, великого магистра двора[87] Клеве, послами в Англию. — Они будут обладать полномочиями для улаживания всех вопросов, — сказал Вильгельм Анне, когда семья собралась за столом на ужин. — И мы предложим приличную сумму в качестве приданого, несмотря на намек короля, что мы можем отказаться от выплаты. — Спасибо вам, Bruder, — поблагодарила Анна. Она не хотела ехать в Англию без приданого, чтобы не чувствовать себя ущербной. Мать закончила трапезу и повернулась к ней: — Кажется, мое дорогое дитя, вы скоро отправитесь в Англию. — Если королю понравится мой портрет, — сказала Анна, чувствуя, как при мысли о расставании с родными в горле у нее встает ком. — Он может предпочесть мой, — встряла Эмили. — Тогда я порадуюсь за вас, — отозвалась Анна. По правде говоря, она сама до сих пор не понимала, испытает в таком случае зависть к сестре или облегчение. — Думаю, он попросит руки Анны, — сказал Вильгельм. — Мне жаль будет разлучаться с любой из вас. — Мать выглядела печальной. — Но я знаю, в чем состоит мой долг, так же как вы знаете свой. Именно ради этого вас так старательно растили и воспитывали. — Доктор Уоттон задал мне странный вопрос, Анна, — сказал Вильгельм. — Он поинтересовался, не имеете ли вы склонности к кое-каким увеселениям этой страны? — Он имел в виду, не пьяница ли я?! — ужаснулась Анна. Эмили фыркнула и, едва сдерживая смех, ткнулась носом в свой кубок, а мать возмутилась: — Какая наглость! И это притом что вы, сын мой, известны своей воздержанностью. Эти англичане невозможны! — Но вопрос вполне оправдан, ведь мы, немцы, славимся любовью к пиву и вину, в общем, говорю об этом с сожалением, — к пьянству. Лютер и тот называл нас запойными демонами. В Англии о нашей репутации, без сомнения, известно. — Король опасается, как бы ему не подсунули вместо жены пивную бочку! Эмили захохотала, Анна тоже прыснула со смеху. — Надеюсь, что нет! — откликнулась мать, но даже ей с трудом удалось подавить улыбку.
В начале августа в Дюрен приехал Ганс Гольбейн. — Художник приехал! — крикнула Эмили, высовываясь из красивого эркерного окна в башне Герцогини, возведенной отцом для своих женщин. Анна присоединилась к сестре, но успела заметить только спину Гольбейна, когда тот входил в дверь, расположенную внизу, под ними. Девушки наблюдали, как из повозки на двор выгружают мольберт и другие приспособления. — Не позвать ли нам горничных? Пора подбирать наряды. — Я надену алый бархат, — сказала Анна. — Это платье произвело хорошее впечатление на доктора Уоттона, надеюсь, оно понравится и королю. Говоря это, она следила глазами за коренастой фигурой снова появившегося во дворе Гольбейна: лакей вел художника к отведенным ему апартаментам в гостевом доме из красного кирпича, стоявшем напротив башни. — Он выглядит довольно брюзгливым, правда? — поделилась наблюдением Эмили. И не ошиблась. Подтверждения не замедлили явиться во время первого же сеанса позирования. Гольбейн оказался человеком молчаливым; его квадратное лицо имело львиные черты и обрамлялось широкой, наподобие лопаты, бородой и коротко подрезанной челкой. К работе художник относился весьма серьезно, разговоров не поощрял и, хотя был способен поддержать беседу с Анной по-немецки, делал это, только когда был в настроении, а по большей части молчал. — Пожалуйста, не шевелитесь, — скомандовал ей Гольбейн. Несколько набросков уже были сделаны, и теперь он писал портрет на небольшом круглом куске пергамента, который сам вырезал. — Это будет миниатюра? В Англию легче послать миниатюру, чем большую картину. — Да, ваша милость. Большой портрет я напишу позже. А теперь, прошу вас, не разговаривайте. — Можно мне посмотреть, как вы рисуете? — спросила Эмили, сидевшая у стены и ерзавшая от скуки. — Нет, принцесса. — Художник взглянул на Анну. — Не двигайтесь, миледи, и не отворачивайтесь от меня. Положите правую руку поверх левой. Утро заканчивалось, солнце поднялось высоко, и Анне в ее роскошном платье стало жарко, хотелось снять головной убор. Волосы под ним взмокли от пота и прилипли к голове. Она подняла руку, чтобы утереть лоб. — Не шевелитесь! — одернул ее Гольбейн. Время тянулось бесконечно. Тишина, как и жара, подавляла. Эмили зевала. Наконец мастер отложил кисть. — На сегодня достаточно. — Можно посмотреть? — Не сейчас. Когда я закончу. Надеюсь, завтра. Доброго дня, ваши милости. — И он принялся вытирать кисти. Анна поняла, что их отпускают. Слава Богу, портрет скоро будет готов. Она молилась, чтобы он был похож и она выглядела привлекательно. К счастью, Гольбейн пользовался хорошей репутацией. Принцесса не разочаровалась. Когда на следующий день художник заявил, что закончил работу, Анна внутренне затрепетала, увидев себя на портрете скромно улыбающейся и написанной весьма изящно. Цвет лица был чистый, взгляд спокойный и лицо милое. Доктор Уоттон, которого позвали посмотреть миниатюру, был доволен. — Мастер Гольбейн, вы сделали портрет очень похожим. Настала очередь Эмили. Пока Гольбейн делал первый набросок и резко командовал, чтобы она не шевелилась, Уоттон стоял за плечом художника, что того сильно раздражало. — Это прелестно! — провозгласил Уоттон, беря в руки законченный рисунок. — Какое сходство! Не нужно писать миниатюру. Этот рисунок подойдет. Гольбейн рассердился. — Мне поручили написать две миниатюры, — резко возразил он. — Король лично дал такое распоряжение. — Король хотел увидеть портреты как можно скорее, — отреагировал Уоттон. — Предпочтительно — еще вчера! Позвольте мне отправить этот рисунок и миниатюру сегодня. Уверяю вас, его величество будет доволен. Я ручаюсь. Гольбейн закатил глаза и сказал: — Очень хорошо, доктор Уоттон, — но по голосу было слышно, что он вовсе не рад. Анна взглянула на портрет Эмили. Сестра выглядела необычно для себя мрачной. Ее красивое платье не попало на рисунок, но короля Генриха, несомненно, больше интересовало лицо. Предпочтет ли он ее Анне? Она так не думала, потому что этот портрет не показывал Эмили во всей красе. В нем не был схвачен ни ее солнечный характер, ни остроумие. Сделано ли это нарочно, чтобы выбор точно пал на Анну? Или Эмили выглядела бы иначе, если бы Гольбейну дали шанс написать миниатюру? В любом случае теперь уже было поздно что-то менять; портреты отправят королю Генриху сегодня, и вскоре они узнают, которой из них суждено носить корону Англии.
Вильгельму, казалось, было все равно, которую из его сестер выберет король, если тот решился-таки взять одну из них в жены. Анна понимала, что по большому счету нет никакой разницы, имя какой принцессы впишут в брачный договор; целью стремлений обеих сторон являлся этот союз сам по себе. — Его величество был очарован портретом леди Анны, — сияя улыбкой, сообщил доктор Уоттон, — и сразу заявил, что хочет жениться именно на ней. — Посланник поклонился Анне так почтительно, будто она уже была королевой. Сцена эта происходила в кабинете Вильгельма, куда его сестры спешно явились по требованию Уоттона. Обрадованная, что выбор пал на нее, но не вполне уверенная в своих чувствах касательно ставшего почти решенным брака, Анна улыбнулась послу. — Король оказывает мне высочайшую честь, — сказала она, взглянув на Эмили, которая наверняка чувствовала себя уязвленной тем, что выбор пал не на нее, но хорошо это скрывала. — Его величество с нетерпением ждет вашего прибытия в Англию, — сказал ей доктор Уоттон. — Уже наступил сентябрь. — Он повернулся к Вильгельму. — Вы готовы заключить контракт, сир? — Конечно готов, доктор Уоттон, — с ликующим видом ответил тот.
Анна смотрела с помоста, как ее брат подписывает брачный договор: Вильгельм размашисто поставил подпись на глазах у всего двора. Потом, по его кивку, она встала, чувствуя на себе выжидательные взгляды всех, кто был в зале. Анна боялась этого момента, никогда прежде ей не приходилось выступать перед людьми, но было понятно: нужно привыкать, ведь у королевы Англии будет много публичных обязанностей. Анна набрала в грудь воздуха: — Я хочу выразить сердечную благодарность его милости, моему брату, и людям Клеве за то, что выбрали меня для брачного союза, лучше которого я не могу и желать. Ну вот, дело сделано, все, как просил Вильгельм, и голос ее ни разу не дрогнул. Анна сделала реверанс и села. Мать одобрительно смотрела на нее. Вильгельм занял место рядом с ней, опустившись в огромное кресло, и подозвал своих послов. Им предстояло обсудить множество деталей контракта: приданое, которое Анна привезет с собой; содержание, которое выделит ей король Генрих; состав ее двора и как она доберется до Англии. Обязанности посла Вильгельм возложил на доктора Олислегера; ему-то и был передан список поручений. — Скажите его величеству о моем желании, чтобы он вел переговоры с вами, как со мной, если бы я присутствовал там лично. Да поможет вам Бог.
В тот вечер Анна попросила, чтобы матушка Лёве прислуживала ей в спальне. — Кое-что сильно меня тревожит, — призналась она, стоя у окна и вглядываясь в ночь. — Скоро я уеду в Англию. И как буду тогда узнавать о житье малыша Иоганна в Золингене? — Так же, как и сейчас, — заверила ее няня, — хотя новостей придется ждать чуть дольше. Ваша достопочтенная матушка уже сказала мне, что я отправлюсь с вами. Фрау Шмидт обещала по-прежнему сообщать мне о том, как идут дела у Иоганна. Анна вздохнула с облегчением, но разум ее все равно не успокоился. — Мы должны соблюдать осторожность. Риск теперь будет гораздо больше. Король считает меня девственницей. Что он со мной сделает, если узнает? Это не дает мне покоя. Матушка Лёве положила руку ей на плечо, чтобы успокоить: — Прошло восемь лет, Liebling, и за это время никто ничего не узнал. Мы были осторожны и предусмотрительны, будем поступать так и дальше. Если кто-нибудь спросит, я скажу, что у меня в Клеве есть любимый племянник и мне хочется знать, как он растет. Чему тут удивляться? Ни о какой связи с вами никто не заподозрит. — Нет, конечно нет. Я тревожусь напрасно. — Анна помолчала. — Матушка Лёве, скоро я уеду из Клеве, может быть, навеки. Я всегда надеялась, что однажды, когда малыш подрастет, смогу увидеть своего сына, но теперь, боюсь, моя надежда была напрасной. Нельзя ли мне как-нибудь увидеть его? Матушка Лёве с озабоченным видом покачала головой, что огорчило Анну: — Нет. Это невозможно. Мы договорились, что вы больше никогда его не увидите. Для Иоганна его настоящие родители Шмидты. Они считают, что его мать — моя подруга, которая пришла к монахиням за помощью, когда оказалась в трудном положении. Liebling, вы не можете встретиться с мальчиком — это вызовет подозрения. Ваше имя теперь известно по всему христианскому миру, и визит будущей королевы Англии в скромный дом кузнеца в Золингене не останется незамеченным! — Да, разумеется. Я это понимаю. Но нельзя ли увидеть его издали? Мне очень хочется узнать, какой он с виду, прежде чем я уеду. Другого шанса у меня, вероятно, не будет. — Глаза Анны наполнились слезами. Неутоленная жажда видеть сына терзала ее. — Пожалуйста! Матушка Лёве хмуро расправляла постель: — По правде говоря, я не знаю, как это устроить. Вы не можете поехать за тридцать миль в Шлоссбург, не имея на то основательной причины. Как вы объясните это? — А они не могут приехать сюда, в Дюссельдорф? — Но с какой стати? — Сошлитесь на то, что я хочу купить хороший меч в подарок королю, и попросите мейстера Шмидта привезти мне несколько штук на выбор. Скажите, что мне хвалили его искусство. Матушка Лёве по-прежнему сомневалась. — А зачем он повезет с собой семью, если сам едет по делу? — Придумала! — воскликнула Анна. — Намекните ему, мол, если Иоганн станет его учеником, а это наверняка вскоре случится, мальчику может быть полезен визит ко двору. Няня покачала головой: — Затея рискованная. Предлагать такое очень странно. Мейстер Шмидт может почуять неладное. Он и так все эти годы задавался вопросом: кто мать Иоганна? Желание увидеть сына для матери вполне естественно. Вдруг он догадается? Анна сняла с шеи ожерелье и положила его в ларец. — Теперь уже вы беспокоитесь напрасно. — Нет, Анна. Я этого не сделаю. Ваша почтенная матушка полагается на меня в том, чтобы сохранить тайну, и я до сих пор не подводила ее. Она придет в ужас, если узнает, что вы затеваете, да к тому же ваш брак с королем Генрихом приближается. Liebling, я знаю, вам тяжело, но поймите, это невозможно. Анна потерпела поражение. Пока матушка Лёве помогала ей готовиться ко сну, она боролась с волной эмоций, которые грозили поглотить ее целиком, но, когда дверь закрылась и свеча была потушена, Анна дала волю бурным слезам, и не в первый раз.
Однажды в октябре за ужином Вильгельм объявил, что получил письмо от доктора Олислегера. — Поездка прошла хорошо. По приезде в Лондон сам лорд Кромвель пригласил их на обед и проявил сочувствие к нашей ситуации. Он сказал, что намерение императора отнять у меня Гелдерн бесчестно. Теперь я убежден, что этот договор окажется для нас выгодным. Анна гордилась тем, что оказывает такую услугу своей стране. — Послы уже встречались с королем? — Да, они ездили в его замок Виндзор, потом вместе с его свитой отправились в Хэмптон-Корт. Он оказал им почести, развлекал охотой и пиром. Они сообщили, что король находится в радостном настроении, добром здравии и с нетерпением ждет окончания переговоров. — Они займут много времени? — спросила Анна, передавая матери блюдо с едой. — У обеих сторон есть немало вопросов, которые необходимо уладить. Нам нужно организовать для вас достойный эскорт, который демонстрировал бы великолепие Клеве. Мы должны отобрать в свиту людей, которые будут сопровождать вас, и решить, кто из них останется с вами в Англии, по крайней мере до тех пор, пока вы не свыкнетесь с тамошними обычаями. Запомните, Анна, пока вы принцесса Клеве, ваш долг — делать все, что в ваших силах, для блага родной страны, но как только выйдете замуж, станете англичанкой и должны вести себя соответственно. Король ждет от вас этого. Анна осушила кубок доброго рейнского вина. — Признаюсь, меня это немного страшит. Я постараюсь изучить английские обычаи и надеюсь, король будет терпелив со мной. Но было бы утешительно иметь рядом нескольких немцев. Я очень благодарна вам за то, что вы позволили мне взять с собой матушку Лёве. Герцогиня улыбнулась: — Она вам с детства будто вторая мать, и я доверяю ей, как никому другому. Матушка Лёве будет вашей доверенной помощницей и возьмет под начало ваших фрейлин. Надеюсь, король согласится, чтобы она осталась при вас и управляла вашими придворными дамами. — Мне нужно взяться за изучение английского! — воскликнула Анна. — Иначе как я смогу общаться с королем? — Я думал об этом, — отозвался Вильгельм. — Искать вам учителя здесь, вероятно, уже поздно. Я попрошу совета у доктора Уоттона. — А когда, по-вашему, состоится свадьба? — осмелилась спросить Анна. — До Рождества. — Так скоро! Трудно было поверить, что всего через несколько недель ее место за этим столом опустеет и она будет справлять Рождество на чужой стороне. Сердце разрывалось при мысли, что ей придется попрощаться с семьей и она, может быть, никогда больше не увидит лица любимой матери. Анна сжала лежавшие на коленях руки, костяшки пальцев побелели от напряжения. — Срок придет, не успеем мы оглянуться, — живо сказала мать. — Нам так много всего нужно сделать.
Новости из Англии приходили в Клеве нерегулярно. Много времени ушло на обсуждение приданого Анны, но король Генрих проявил сговорчивость. Хотя в конце концов сошлись на сумме в сто тысяч золотых флоринов, он великодушно настоял на том, чтобы Вильгельм на самом деле не выплачивал эти деньги. И сам согласился на требование Вильгельма, чтобы Анна получала такое же содержание, как ее предшественницы, а оно составляло двадцать тысяч золотых флоринов. — И если по смерти короля вы останетесь бездетной вдовой, — объяснил Вильгельм, — то будете получать пенсию в пятнадцать тысяч флоринов до конца дней, даже если захотите вернуться в Клеве. И буде у вас возникнет такое желание, вы можете забрать с собой всю вашу одежду, украшения и посуду. — Он одарил сестру улыбкой, что случалось нечасто. — Анна, если все пойдет по плану, вы заживете в роскоши и никогда ни в чем не будете нуждаться. — И Клеве будет в безопасности, — отозвалась она, немного потеплев к королю Генриху. Может быть, и правда, грешили больше против него, чем он сам. Ради них обоих ей хотелось думать о нем хорошо. Вильгельм просматривал самый последний, детальнейший отчет доктора Олислегера. — Решено, что вы доедете до Кале за мой счет. Кале — английский город, и король Генрих возьмет на себя все расходы по доставке вас оттуда к нему в Англию. — Он перевернул страницу. — Предусмотрены и действия на тот случай, если я умру бездетным. Сибилла, разумеется, унаследует Клеве, а вы с Эмили вместе получите сто шестьдесят тысяч флоринов и несколько замков с пятью тысячами флоринов дохода в год до конца жизни. — Значит, теперь все устроено? — Почти. Возникли споры о том, каким образом вы доберетесь до Англии. Так как скоро зима, я сказал доктору Олислегеру, что, по-моему, вам лучше ехать в Кале по суше, потому как, если вас повезут морем, — а вы никогда не были на корабле, Анна, и не знаете, каково это, — суровая погода может привести к вашей болезни или испортить вам цвет лица, а вы наверняка захотите выглядеть как можно лучше при встрече с королем. — Значит, я должна ехать по суше. — Это не так просто, как может показаться. — Вильгельм вздохнул. Порывшись в ящике, он достал оттуда карту. — Видите ли, путь до Кале лежит через Нидерланды, а это земли императора, управляемые его сестрой, королевой-регентом. Нет никаких гарантий, что император даст вам охранную грамоту для проезда через его владения. Единственный способ обойти это препятствие — ехать морем. Но даже если вы рискнете предпринять этот вояж, существует опасность нападения судов подданных императора. Что, если вы попадете в их руки без охранной грамоты? — А каково мнение короля на этот счет? — Король — глава английского морского флота, Анна. Говорят, море у него в крови, и он не видит причин, которые помешали бы его прекрасным кораблям доставить вас в его королевство. Он хочет, чтобы вы плыли морем из Хардервейка, что на побережье Гелдерна. Но тогда вам придется пересечь Зёйдерзе, а это опасно для кораблей: даже в хорошую погоду там сложно пробираться через плотины и дамбы. Король понимает это. Он отправил в Гелдерн двоих опытных капитанов для составления лоцманских карт, но они предупредили его, что ни один корабль не может подойти близко к побережью, иначе сядет на мель. Анна совсем растерялась: — И как же я попаду в Англию? Послы, кажется, ездят туда-сюда беспрепятственно, но у меня на пути сплошь непреодолимые преграды. — Вы бесценный груз. — Вильгельм улыбнулся, скручивая карту. — Доктор Олислегер попросил короля, чтобы тот лично запросил охранную грамоту у королевы-регента в Брюсселе с разрешением вам следовать по суше через Брабант. — И вы надеетесь, что королева-регент даст ее? — У меня есть на то причины. Если разрешение будет получено, вы отправитесь вдоль северного побережья в Кале. До него примерно двести пятьдесят миль. Король договаривается с графом Саутгемптоном, своим лордом главным адмиралом, чтобы тот встретил вас там с эскортом и перевез через море в Англию. Доктор Олислегер пишет, что лорд Кромвель уже занимается снаряжением кораблей, которые доставят вас, и определяет место, где вы высадитесь, кто должен вас там встречать и в каком месте примет вас его величество. — Я бы предпочла не вызывать такой суматохи! — Анна, — строго сказал Вильгельм, — вам предстоит стать супругой короля Англии. Все, что касается вас, должно нести на себе отпечаток его величия. Отныне вы будете причиной всевозможных сует и хлопот, так что вам лучше к этому привыкнуть. Я тоже намерен сделать так, чтобы вы прибыли в Кале с почетом, я снабжу вас золотом, драгоценностями и всем прочим, что подобает иметь невесте такого могучего короля. Анне хотелось, чтобы Вильгельм умерил помпезность своих речей. — А что, если королева-регент не даст охранную грамоту? — Тогда нам придется искать способ отправить вас морем под надежным корабельным конвоем. Но будем надеяться, этого не произойдет. Я обещал королю, что буду сообщать ему в письмах о своих планах относительно вашей поездки, чтобы он мог все подготовить к вашему приезду. — Вильгельм потянулся вперед, сидя в кресле, и взял руки Анны. — Schwester, это будет хороший брак для вас. Король проявил заботу о вашем комфорте и достойном приеме. Доктор Олислегер присовокупил к своему письму послание от него с благодарностью за доброжелательность, проявленную мной при обсуждении альянса. Он побуждает к скорейшему заключению контракта, так как приближается зима. Анна, он хочет жениться как можно скорее. У вас нетерпеливый жених!
Мать, занятая приготовлениями и то и дело справлявшаяся с бесконечным списком необходимых дел, очень обрадовалась, узнав, что лорд Кромвель также занят распоряжениями о подготовке апартаментов королевы в главном королевском дворце Уайтхолл и обустройством Сент-Джеймсского дворца, где Генрих и Анна проведут медовый месяц. — Говорят, инициалы «Г» и «А» в королевских дворцах вырезали на всех каминах и потолках, вышили на занавесах и постельном белье, высекли на камне, где нужно, — сказала герцогиня Мария. Они сидели в комнате Анны, окруженные стопками нательного белья и полотенец: на всех нужно было вышить новый вензель «AR»[88]. — Мне говорили, что Сент-Джеймсский дворец расположен уединенно посреди парка. Анна, увлеченно работавшая иглой, вдруг ощутила холодок. Медовый месяц. Брачная ночь приближалась, а вместе с ней рос страх разоблачения и его последствий. Она не могла сдержаться и неожиданно выпалила: — Mutter[89], мне боязно! Вдруг король догадается, что я… не девственница… и родила ребенка… Мать поспешила успокоить ее: — Нет, дочь моя, я так не думаю. И я уверена, вы понимаете, что, когда будете исполнять свой долг, как того потребует от вас супруг, должны вести себя так, будто все это для вас внове. Несмотря на добрый совет матери, Анна понимала: ответа на свой вопрос она так и не получила. А был еще один, который она не решалась задать. Должна ли добродетельная женщина испытывать удовольствие на брачном ложе? Она не могла представить, что переживет с королем такой же экстаз, какой пробудил в ней Отто, и все же надеялась в супружеской спальне снова познать это восхитительное ощущение полноты чувств. Генрих наверняка умелый любовник, ведь у него было три жены — и, говорят, множество любовниц в свое время, — но ему уже к пятидесяти, и юношеский пыл, вероятно, давно в нем угас. Анна совершенно не представляла, чего от него ожидать; ясно было одно: король хочет, чтобы она родила ему сыновей, так как сейчас будущее династии зависело от одного маленького мальчика всего-то двух лет от роду. Дай Бог ей оказаться плодовитой! — Я слышала, главные английские лорды накупили парчи и шелку к вашему приезду. — Голос матери вывел Анну из задумчивости. — Вас ожидает великолепный прием! — Герцогиня окинула дочь искательным взглядом. — Не нужно так волноваться, дитя мое. На брачном ложе совершенно нечего бояться.
Глава 5
1539 годКороль Генрих подписал договор! Английский двор, как сообщал доктор Уоттон, возликовал и окунулся в суматоху приготовлений. Отныне к Анне следовало обращаться как к королеве Англии и вести себя в ее присутствии соответственно. Невесту английского короля немедленно обособили от всех, даже от матери, которую, как и Вильгельма, она теперь превосходила рангом и которая должна была кланяться ей. Обращаясь к Анне, следовало говорить «ваше величество» или «ваша милость» и соблюдать по отношению к ней всевозможные церемонии; за столом она сидела на высоком стуле. Прежняя жизнь уже не казалась ей ограниченной. Анна скорее скучала по ней: тогда она могла получать хотя бы немного удовольствия от дружеского общения. А потом из Англии прибыла юная миссис Сюзанна Гилман. Представляя ее Анне, Вильгельм сообщил, что она дочь знаменитого фламандского художника Герарда Хоренбота и сама находится при дворе как весьма умелый художник и иллюстратор, но самое главное, эта англичанка говорила по-немецки. — Я оставлю вас знакомиться, — завершил церемонию Вильгельм и закрыл за собой дверь покоев Анны. — Рада принять вас, миссис Гилман. — Его величество прислал меня служить вашей милости, — ответила гостья. — Он понимает, что вы почти не знаете Англию, и подумал, что я могла бы рассказать вам об обычаях, принятых при английском дворе. — Ваш приезд — нежданная удача, — с улыбкой сказала Анна. Ей сразу понравилось открытое, пышущее здоровьем лицо миссис Гилман и ее приятные манеры. — Очень на это надеюсь. — Миссис Гилман улыбнулась. — Я хорошо знаю двор, потому что работаю там. Я служила покойной королеве Джейн как камеристка ее личных покоев. Мой отец — один из художников короля. Он научил меня моему ремеслу. Анну это поразило. — Я не знала, что женщины могут быть художниками! Никогда о таком не слышала. — Ваша милость, при английском дворе не делают различий, так что у женщин есть разные возможности. Там вы найдете женщин-ученых, дам, которые сочиняют песни, стихи и музицируют. — Это совсем не похоже на Клеве, — сказала Анна, слегка смутившись. — Здесь не одобряют такие занятия женщин. Боюсь, в Англии я окажусь в невыгодном положении, потому что ничего этого не умею. — Не волнуйтесь, ваша милость, там есть также множество женщин, обладающих добродетелями и навыками, которыми вы особенно славитесь и которыми восхищается король. — Значит, обо мне говорят при английском дворе? — Мадам, — сказала миссис Гилман, — будьте уверены, каждое слово, приходящее отсюда, разносится по двору за пять минут! — О Боже! — воскликнула Анна, и они обе засмеялись. — Ваш отец должен знать мейстера Гольбейна, — продолжила она. — Конечно они знакомы. Мейстер Гольбейн был его учеником. Такой сложный человек! — Верно, — согласилась Анна. Женщины переглянулись, в глазах у обеих блеснули веселые заговорщицкие искры, и начало дружбе было положено. — Я так благодарна вам, миссис Гилман, за то, что вы проделали столь длинный путь, — продолжила беседу Анна. — Для меня это удовольствие, мадам. Король щедро снабдил меня деньгами на дорогу и выделил средства, чтобы меня сопровождал мой супруг. Мы поженились совсем недавно. — Сколько лет вы прожили в Англии? — Около восемнадцати, мадам. Я там вполне обжилась. Надеюсь, вы, ваша милость, тоже будете счастливы в этой стране. Король жаждет поскорее увидеть вас. При дворе все только об этом и говорят. — Тогда, надеюсь, я их не разочарую! — Анна улыбнулась. — Я хочу, чтобы вы рассказали мне все, что нужно знать, о придворных обычаях и о том, чем я могу порадовать короля. — О, думаю, вы прекрасно с этим справитесь. Его милость попросил меня немного поучить вас английскому языку, чтобы вы могли соблюдать правила вежливости, когда прибудете. Анну это обрадовало. Мать распорядилась, чтобы уроки миссис Гилман проходили в женской комнате, самой уютной в ее апартаментах, а сама на это время удалялась вместе со своими дамами в покои поменьше. Занятия шли хорошо, хотя, несмотря на желание учиться, Анна находила английский язык сложным. В чем-то он был похож на немецкий, но, казалось, не следовал никаким логичным правилам. Она овладевала им медленно. Мать согласилась, чтобы Анна позвала мужа миссис Гилман на ужин вместе с женой. Супруги высоко оценили честь быть приглашенными за герцогский стол, и Анне понравился веселый мистер Гилман, успешный виноторговец, который явно очень любил свою жену. — Мы познакомились, когда я доставлял вино во дворец Уайтхолл, — сказал он Анне. — На Сюзанну едва не опрокинулась бочка, и я ее спас. — Глаза его заблестели. — Это было не самое элегантное начало ухаживаний, — заметила его жена. Глядя на них, Анна впала в задумчивость. Они были так безусловно счастливы, так гармонировали друг с другом. Как было бы замечательно, если бы она сама могла найти такое легкое удовольствие в общении с королем Генрихом! Сюзанна, а именно так вскоре стала называть ее Анна, без конца рассказывала о роскоши английских королевских дворцов, запланированных по случаю свадьбы торжествах и великолепии двора, который окружит Анну. — Вашей милости будут служить самые знатные дамы королевства, — говорила она, — и у вас будет собственный совет и свои служители на разных должностях. — Я не знаю, с чего мне нужно будет начать! — Не стоит беспокоиться. Вас прекрасно обучили нормам придворного этикета, и там найдется немало людей, которые вам все подскажут. — Включая вас, я надеюсь! — с горячностью произнесла Анна. — Разумеется. Его величество дал мне место камеристки при вашей милости, прежде чем я покинула Англию. — Это меня очень радует. — Анна улыбнулась. — Вы будете главной из моих камеристок. — Вы оказываете мне большую честь, мадам, даже не зная какую, ведь за места при вашем дворе идет острая борьба, на каждый пост есть по меньшей мере дюжина претендентов, некоторые люди готовы пойти на подкуп. Разумеется, многие должности достанутся тем, кто служил прежним двум королевам и обладает опытом в исполнении своих обязанностей. — Надеюсь, мне позволят оставить при себе некоторых из моих немецких слуг, — сказала Анна. — Это дело короля, — ответила ей Сюзанна. Хорошо бы это не оказалось пустой отговоркой.
Анна сидела за столом в покоях матери. Нужно было вышивать сорочки, которые поедут с ней в Англию, но она отлынивала от работы, завороженно наблюдая за тем, как Сюзанна рисует изящные миниатюры на темы библейских сцен. — Это для часослова, — объяснила художница. — Не представляю, как вам удается рисовать мелкие детали на таком маленьком пространстве! — восхитилась Анна. Они подружились, хотя были знакомы всего несколько дней, и сейчас, когда за окном стемнело и горничные ушли, подбросив в очаг дров, Анна осмелилась задать вопрос, который долгое время не решалась произнести вслух и никогда не задала бы ни одному послу. — Сюзанна, а король… какой он? — Ваша милость имеет в виду его характер? — Да. Прошу вас, скажите мне правду. Художница отложила кисть: — Я всегда находила его очаровательным. Конечно, не стоит забывать, что он король, но у него прекрасные манеры, он всегда дружелюбен и обходителен с дамами. Ему присуще качество, которое в Англии называют чувством локтя: его величество умеет одновременно быть накоротке с людьми и оставаться королем, если вы понимаете, о чем я. Ко мне он всегда был добр и щедр. — Ко мне король тоже проявил доброту и щедрость. И все же я слышала, что он бывает грубым и безжалостным. — Так говорят, — отозвалась Сюзанна, — но мне не довелось увидеть его с этой стороны. — Но как же королева Анна? Он приказал отрубить ей голову. Своей жене! Сюзанна покачала головой: — Она была шлюхой. Платила музыканту за его услуги. Она даже спала со своим братом. И убила бы короля, если бы ее не остановил лорд Кромвель. Это он раскрыл ее козни. — Правда? — с сомнением спросила Анна. — Большинство людей, с которыми я разговаривала здесь, считают, что лорд Кромвель просто использовал возможность избавиться от нее, потому что она не смогла родить королю сына. — О мадам, все было совсем не так, — поспешила заверить ее Сюзанна. — Король простил ей то, что она не выносила последнего ребенка, и надеялся, что скоро она снова будет enceinte. Но потом открылись ее преступления… — Художница помолчала. — Мадам, имя этой женщины не произносят при дворе. Вы поступите правильно, если будете избегать упоминаний о ней при его величестве. Ее измена глубоко ранила короля как мужчину и как суверена. — Можете быть уверены, я не заикнусь о ней, — пообещала Анна. — Она заслужила смерть, — сказала Сюзанна с ноткой горячности в голосе. — Это из-за нее король так сурово обращался с королевой Екатериной. Королева Джейн говорила, что его милость по натуре хороший человек, но его сбила с пути Анна. — Кому и знать, как не ей, — заметила Анна, чувствуя, что на сердце у нее потеплело. — Скажите, он сильно любил королеву Джейн? — Да, он был предан ей и глубоко скорбел по ее кончине. Много недель не выходил из уединения. Это тоже, как ни печально само по себе, внушало надежду. Значит, король мог быть хорошим, любящим мужем. Неудивительно, что он надеялся обрести счастье в новом браке. — А какой была королева Джейн? — осторожно спросила Анна. — Мягкой и довольно робкой, хотя и старалась преодолеть это. Всячески подчеркивала свой королевский статус, но была доброй и щедрой госпожой. Это трагедия, что она умерла, не увидев, как растет ее сын. — Он еще так мал. Ему нужна мать. — Мадам, у него есть воспитательница, которая в нем души не чает, и огромный штат слуг. Ни одного ребенка так не баловали и не суетились так вокруг него. — Все равно я постараюсь стать ему матерью, — решительно заявила Анна, — и дочерям короля, хотя леди Мария почти одного со мной возраста! — Мать нужна леди Елизавете, — сказала Сюзанна. — Она потеряла свою, когда была совсем крошкой, а ее воспитательницу перевели к принцу Эдуарду. — Как, должно быть, ужасно — расти в сознании, что вашей матери отрубили голову, — задумчиво проговорила Анна. — Не могу представить, что она чувствует. Я особенно постараюсь подружиться с леди Елизаветой. Бедная девочка! Если ей не дано заботиться о собственном ребенке, она изольет свои неудовлетворенные материнские чувства на детей Генриха.
Вильгельм позвал Анну в библиотеку, его святилище, где держал присланные Эразмом бесценные книги, карты и портреты предков. Анна расчувствовалась, увидев среди них портрет отца — такого здорового и словно живого, стоящего на коленях перед Благословенной Девой с Младенцем. Они сели на скамью, где лежало несколько подушек с гербом Клеве. — Анна, вы должны знать, что решение короля жениться на германской принцессе вызвало множество разных толков и ликования среди лютеран. Не один только курфюрст надеется, что этот брак поведет короля дальше по пути религиозных реформ. Некоторые даже предвкушают, что вы убедите его величество перейти в протестантскую веру. — Но я католичка. Зачем мне это делать? — Вот именно, Schwester, но это не так широко известно. Многие ошибочно полагают, что, раз Клеве порвало с Римом и сочувственно относится к реформам, мы должны быть лютеранами. Доктор Олислегер пишет, что английские реформаторы надеются увидеть в своей новой королеве вторую Анну Болейн, которая была другом протестантам, и рассчитывают, что вскоре обретут нового друга и защитника на троне. — Тогда мне их жаль. Это напрасные надежды. — И к тому же опасные. Хотя король симпатизировал реформистам, когда находился под влиянием королевы Анны, он отошел от этой позиции и теперь придерживается более консервативных взглядов. В этом году он заставил парламент принять акт, говорящий о возврате к старым доктринам. Сейчас опасно защищать реформы или проявлять симпатии к лютеранам. Я знаю, мы не всегда держались одной с вами точки зрения на религию, но теперь я думаю, хорошо, что вы верная католичка. — И всегда ею буду. Боюсь, протестантам суждено разочароваться во мне. — Не сближайтесь с ними, — посоветовал ей Вильгельм. — В Англии еретиков сжигают.
Мать была занята составлением для Анны нового, достойного будущей королевы гардероба. В ее покоях повсюду лежали рулоны дорогих тканей, доставленные на выбор дюссельдорфскими торговцами. — Все должно быть по немецкой моде. Анна не хотела перечить матери, но отметила про себя, что Сюзанна хмурится. — Английская королева, конечно, должна носить английские платья, — осмелилась высказать свое мнение она. — Нет! — отрезала мать. — Я слышала, что они нескромные. Пусть вас видят в приличных немецких платьях и головных уборах. За спиной у Анны Сюзанна молча качала головой. Но вмешиваться она не могла. Мать была крайне раздражена, когда король Генрих прислал в Клеве портного по имени Уильям Уилкинсон. — Неужели король считает меня неспособной выбрать свадебный наряд для своей дочери? Этот мейстер Уилкинсон хочет сделать ваше платье в английском стиле. Я сказала ему «нет»! — Если бы я оделась по английской моде, разве это не был бы комплимент моей новой стране? Герцогиня покачала головой: — Нет, дитя. Отставим в сторону скромность, вы отправляетесь в Англию как представительница Клеве, живое воплощение союза. Вы должны надеть лучшее из того, что может дать Клеве. Пусть ваш наряд соответствует нашим обычаям. Это послужит напоминанием о вашем положении в мире. Ваш отец хотел бы этого. Мнению почившего и горько оплакиваемого отца Анне нечего было противопоставить. Однако мейстер Уилкинсон оказался непреклонным. Платья, которые он сошьет, будут в английском стиле. Так распорядился король. И вот в течение нескольких недель, пока он работал при дворе, Анне приходилось терпеть жалобы матери. Английские платья никуда не годятся; они некрасивые, и вырезы у них совершенно неприличные… Когда мать ушла, Анна подняла одно из платьев, чтобы показать его Эмили, и обе они прыснули со смеху. — Вильгельм умер бы! — хохоча, проговорила Эмили. В противоположность английским, наряды, сшитые немецкими портными под руководством матери, имели вырезы под самое горло, юбки с ровным краем без шлейфов, что заставило английского портного покачать головой. На примерку ушла целая вечность. Анна ощущала на себе тяжесть бархата и шелковистость дамаста. Платья были сшиты так, чтобы пояс застегивался выше талии, имели длинные свисающие рукава, отороченные мехом или расшитые по краю золотой нитью; многие были богато украшены золотом. К платьям сделали немало поясов с декоративными пряжками. Мать заказала киртлы из дамаста и шелка, чтобы они виднелись из-под раскрывающихся спереди юбок. Изготовили и новые Stickelchen, богато украшенные бисером и драгоценными камнями, несколько белых льняных, а также вуали и батистовые чепцы. Ларец для драгоценностей Анны — вещь сама по себе прекрасная, из чеканного серебра с накладками из слоновой кости, — был полон тяжелых серебряных гривен и цепочек, ожерелий и подвесок, а также колец и перстней. Новый гардероб Анны пополнялся день ото дня. Мать никому не давала сидеть без дела. Времени терять было нельзя, так как скоро наступит зима, а до того Анна и вся ее свита должны быть собраны и готовы к отъезду в Англию. Анну терзали опасения, что старания матери могут оказаться напрасными и король не позволит ей носить немецкие платья, раз уж он обеспечил ее новым гардеробом в английском стиле. Втайне она считала, что английские платья идут ей больше…
На третьей неделе октября послы Вильгельма вернулись в Дюссельдорф. Анна присутствовала, когда брат принимал их и доктора Уоттона в своем кабинете. — Ваша милость, король Генрих желает, чтобы леди Анна приехала в Англию как можно скорее, — сказал доктор Олислегер. — Мы здесь для того, чтобы сопроводить ее в Кале. — Господа, мы до сих пор ждем охранной грамоты от королевы-регента, — ответил Вильгельм. — Король сам просил этот документ у императора. Без него леди Анна не может ехать. — Его величество уверен, что документ вскоре будет получен, — сказал Вернер фон Гохштаден, представительный мужчина, близкий к семье герцога и преданный ей. — Лорд Кромвель прислал это вам, миледи, — сказал Олислегер, передавая Анне письмо. — Он желает поздравить вас с помолвкой. «Обычно, — подумала Анна, — поздравляют счастливого жениха, который наконец-то получил выбранную им даму». Доктор Олислегер вслух прочел письмо, переводя его на немецкий. Оно состояло из вежливых фраз в подобающем случаю почтительном тоне. Анна улыбнулась: — Я очень благодарна лорду Кромвелю за его добрые пожелания. Из всех людей именно его она хотела бы иметь на своей стороне; он добился этогобрака для нее, и она была обязана ему. Доктор Уоттон обратился к ней: — Лорд Кромвель поручил мне сказать, что шлет вам многочисленные поздравления, а также богатые дары в связи с помолвкой от его величества, как принято. Мне поручено передать это вам. Он протянул Анне письмо с королевской печатью. Оно было от короля. Анна не стала его вскрывать, а поднесла к губам и поцеловала. Мужчины одобрительно взирали на то, как она кладет послание жениха в карман. Ей хотелось прочесть его в одиночестве. — Мне также велено передать вам вот это, ваша милость, — добавил Олислегер, протягивая ей какой-то сверток. — Это вручила мне леди Лайл, супруга представителя короля в Кале, когда мы проезжали там по пути домой. Леди Лайл не терпится снискать ваше благоволение. Анна вскрыла пакет. Там лежали изящно расшитые перчатки из испанской кожи. — Какая прелесть! — Дражайшая сестрица, вы должны помнить, ничто в этом мире не делается просто так, — предупредил ее Вильгельм. — Вы еще не знакомы с игрой в патронаж. Уверяю вас, леди Лайл надеется получить взамен какую-нибудь милость, когда вы приобретете влияние на короля. — Может, и так, но я должна поблагодарить ее за такой продуманный подарок, — настояла на своем Анна. — Доктор Олислегер, будьте добры, сообщите леди Лайл, что мне очень понравился ее подарок и что он доставил мне большое удовольствие. Вильгельм в легкой досаде качал головой: — Дайте женщине палец… — Она проявила щедрость… — Так поступят и многие другие люди, когда корона окажется у вас на голове. Вице-канцлер Олислегер и великий магистр Гохштаден подтвердят это. Не так ли, господа? — Разумеется, ваша милость. Патронаж — негодное, но соблазнительное занятие. — Так что упражняйтесь в нем изредка и с умом, — посоветовал Вильгельм. — Лорд и леди Лайл оказали нам радушный прием, — продолжил доктор Олислегер. — Король поручил лорду Лайлу подготовить все к приезду вашей милости в Кале. Милорд сказал мне, что он занят обновлением королевского дворца; они называют его Казначейским. Действительно, весь город приводится в образцовый порядок. Мы видели, что на главных воротах, ведущих в город, идут строительные работы; улицы мостят заново. — Боже, сколько суеты, и все из-за меня! — воскликнула Анна. — Нет, Schwester, из-за королевы Англии! — поправил ее Вильгельм. — Вы еще не до конца осознали, какой важной персоной стали.
Позже, когда они с матерью сидели у очага в женских покоях, Анна передала Сюзанне письмо короля и попросила перевести его. Та прочла вслух:
Моей дорогой и бесконечно любимой супруге леди Анне. В этих нескольких строках от Вашего преданного слуги я заверяю Вас в своих любовных намерениях, так как не могу лично поговорить с Вами. Надеюсь вскоре получить от Вас весточку, чтобы быть уверенным в добром здравии моей дорогой госпожи. С другим посланием шлю Вам украшение, которое выбрал для Вас в надежде, что Вы сохраните его при себе навечно в знак искренней любви ко мне. Кажется, ждать нашей встречи еще так долго. Буду считать дни до Вашего приезда. Надеюсь скоро заключить Вас в объятия, на сем пока заканчиваю, Ваш любящий слуга и суверен, Генрих R.[90]
«Никто, — подумала Анна, приложив письмо к груди рядом с сердцем, — никогда не получал более прекрасного послания». Вдруг она ощутила радость, что согласилась на этот брак, что поедет в Англию, что станет супругой человека, способного так выразительно писать о любви. Это не было письмо тирана, женоубийцы или человека без чувств. Слухи лгали, она больше не сомневалась. Все будет хорошо. Мать заглядывала ей через плечо. Заметив это, Анна подняла глаза и улыбнулась, а герцогиня сказала: — Весьма уместно и трогательно.
Послы привезли с собой копию подписанного договора. И на нем, в самом низу стояла личная подпись короля Генриха: «Генрих R.». На следующий день Вильгельм устроил торжественный прием в главном зале в Дюссельдорфе, где собрались все придворные, чтобы стать свидетелями того, как он ратифицирует договор. Мать и Анна выражали одобрение изящными кивками головы. Наутро пришло известие от королевы-регента. — Анна, с разрешения императора она дала вам охранную грамоту! — триумфально объявил Вильгельм. — И позволяет вашей свите сопровождать вас через Фландрию в Кале. Препятствий для поездки не осталось. Путь к замужеству был свободен. У Анны засосало под ложечкой.
Вскоре они узнали, что король очень обрадовался известию о получении охранной грамоты. — Он принудил королеву-регента издать распоряжения для обеспечения вам и вашей свите комфортной поездки, — сказал Вильгельм Анне, показывая ей письмо от Генриха. Снова у нее внутри все затрепетало. Это происходило на самом деле! Назад хода нет. В тот вечер с ними ужинал доктор Уоттон. Он пришел с книгой для Анны, присланной в подарок королем. Это был свежеотпечатанный перевод работы немецкого реформатора Вольфганга Капито «Краткое изложение псалмов», выполненный Ричардом Тавернером[91]. — Его величество полагает, что вам будет приятно увидеть посвящение ему, — сказал Уоттон. — Я прочту его для вас по-немецки. Мистер Тавернер молит Господа, чтобы Тот послал королю Генриху то, что мудрый царь Соломон считал сладчайшей и наилучшей частью жизни мужчины и неоценимым сокровищем, — разумную и мудрую женщину в супруги. Следует надеяться, — продолжает он, — что она будет плодоносной лозой в доме его величества, и дети, как раскинувшиеся ветви оливы, усядутся вокруг отцовского стола. И глядь! Господь уже услышал горячие мольбы подданных короля, так как самая прекрасная леди была послана ему Всевышним и готова приехать в его королевство. Дальше мистер Тавернер молит Господа усмирить природу, чтобы погода во время поездки была мягкой и нареченная невеста благополучно прибыла к его милости во исполнение сердечных желаний короля, ожиданий его подданных и в утверждение славы Господней. Слушая эти напыщенные, но горячие слова, Анна испугалась. Сколько же людей возлагают на нее надежды! Удастся ли ей оправдать их? Она собралась с духом и ответила: — Молюсь, чтобы у меня получилось доставить радость королю и его подданным. — Не сомневаюсь, что у вас это получится, мадам, — лучась улыбкой, сказал Уоттон. Он сообщил ей о том, что повсюду, где она будет проезжать по пути в Лондон, ведутся спешные приготовления. — Каждый город стремится обставить ваш приезд с возможным великолепием, — радостно вещал посол. — Все подданные короля желают выразить свою радость по поводу того, что их королева воплощает в себе союз, который они считают весьма выгодным. «Лишь бы мне оказаться достойной всего этого», — молилась про себя Анна. После ужина доктор Уоттон извлек из кожаной сумы свиток и передал его Вильгельму: — Это, ваша милость, копия королевской жалованной грамоты, которой леди Анне выделяется содержание. Вильгельм просмотрел документ и показал его сестре. Это был длинный список поместий со странными английскими названиями. — Мадам, по заключении брака все это становится вашим, — объяснил Уоттон. — Эти владения обеспечат вас доходами от арендной платы и налогов как королеву или, да не допустит этого Господь, как вдовствующую королеву в случае вашего вдовства. Если вы захотите совершить путешествие по Англии, то сможете использовать эти дома по своему усмотрению. Арендаторы ваших земель с радостью окажут вам гостеприимство. Анна была потрясена. — Их так много! — Да. — Уоттон улыбнулся. — Они дают ежегодный доход, который составляет условленное в договоре содержание. Вам ничего не нужно делать. Ваши служащие, советники, управляющие и экономы будут вести все дела в отношении вашей собственности к вашей выгоде. Покойная королева Джейн получила такой же дар от короля. Это необходимо для вашей жизни в Англии в соответствии с условиями брачного контракта. — Вы станете богатой женщиной, Анна, — сказал Вильгельм, в высшей степени удовлетворенный. — Я понимаю, какая удача мне выпала, — ответила она. — Теперь осталось только обвенчаться, — подытожил доктор Уоттон.
Все складывалось так удачно, что Анна, по всей видимости, могла оказаться в Англии к концу ноября. В начале месяца доктор Уоттон попросил о встрече с ней. Вильгельм, разумеется, присутствовал, мать тоже. Посла распирало от желания поделиться новостями. — Король приедет в Кентербери, чтобы встретить вас, ваша милость! — объявил он. — Его величество не в силах ждать дольше. Вы обвенчаетесь там, и оттуда король сам будет сопровождать вас в Лондон. У Анны перехватило дыхание. Через несколько недель она увидит его — этого мужчину, образ которого преследовал ее и наяву, и во сне уже не один месяц. — Его величество оказывает мне огромную честь. — Вот именно! — отозвалась мать. — Я дам указания матушке Лёве, пусть проследит за тем, чтобы при въезде в Кентербери вы были одеты по-королевски. — Восхитительно, восхитительно! — воскликнул доктор Уоттон. — Где совершится обряд венчания? — спросил Вильгельм. — В соборе? Я слышал, это чудо света. — Не могу сказать, ваша милость. Предыдущие браки его величества заключались в домашней обстановке. — Мне все равно, где я вступлю в брак с королем, — сказала Анна. — Важно, что мы станем супругами и наши великие страны объединятся. Доктор Уоттон с признательностью посмотрел на нее: — Ваша милость, вы ухватили самую суть дела. Вам будет приятно услышать, что, пока мы здесь разговариваем, лорд главный адмирал Англии и многочисленная депутация лордов Тайного совета готовятся к отбытию в Кале. Они должны встретить там вашу милость и сопровождать при пересечении Английского канала. — Я распорядился, чтобы мою сестру по пути туда эскортировали четыреста всадников, — сказал Вильгельм, не желая уступать англичанам. Доктор Уоттон поклонился: — Превосходно, сир. — Он снова повернулся к Анне. — В Дувре вашу милость встретят остальные лорды Совета и проводят в Кентербери, к королю, который отвезет вас в Лондон праздновать Рождество. Вам это понравится, мадам, потому что при дворе отмечают все двенадцать дней Юлетид, с пышными торжествами, которые в этом году в честь вашего брака будут ярче обычных. Король распорядился, чтобы ваш официальный въезд в Лондон состоялся в день наступления Нового года, а ваша коронация пройдет в Вестминстерском аббатстве на Сретение. Все это звучало восхитительно и превосходило любые ожидания Анны. Встречали ли раньше какую-нибудь королеву с такой торжественностью?
Из Лондона прибыл курьер в красной ливрее, украшенной розой Тюдоров и забрызганной грязью от быстрой скачки. Гонца прислал сам король из дворца Хэмптон-Корт. Его величество жаждал узнать, когда ее милость отправится в путь. — Немедленно, — ответил вестнику Вильгельм.
Часть вторая. Королева Англии
Глава 6
1539 годВильгельм отправился в Шваненбург, где 25 ноября должен был собраться эскорт Анны, подобающим образом одетый и снаряженный. И пусть никто не посмеет сказать, что Клеве отправило свою принцессу в Англию недостаточно почетно! Кортеж тщательно продумывался много недель: кто поедет с ней до Кале, кто отправится в Англию, кто останется там, а кто вернется домой. Анну должны были сопровождать знатнейшие дворяне и сановники страны. Возглавит эскорт доктор Олислегер; доктор Уоттон и члены его свиты тоже включатся в него. В Дюссельдорфе, занятая последними приготовлениями среди суматохи сборов, проходивших под руководством матери, которая, попеременно то подбадривая, то распекая, совершила чудеса за отведенное ей краткое время, Анна не имела возможности задумываться о том, что скоро ей придется говорить прощальные слова. Из Брюсселя пришли добрые вести; их доставил отправленный Вильгельмом гонец. — Анна, — объявила мать, — королева-регент намерена прислать знатного человека, который проследит, чтобы с вами хорошо обращались во владениях императора, пока вы не проедете Гравлин, где вступите на территорию Англии. Это весьма дружелюбный и почетный жест. Очевидно, что, несмотря на распрю между Вильгельмом и императором по поводу Гелдерна, вы будете в безопасности и под защитой во Фландрии. — Это огромное облегчение. — Анна улыбнулась. — Все так добры ко мне. — А как же иначе! — сказала мать. Она опытным взглядом окидывала женские покои, еще раз проверяя, на месте ли составленные один на другой, обитые железом сундуки, холщовые мешки, сумки и ящики, готовые к погрузке в повозки и на вьючных мулов, которые потянутся вслед за процессией Анны. Герцогиня не догадывалась, что среди личных вещей дочери спрятано кольцо, оставшееся для нее единственным напоминанием о том, какой прекрасной может быть любовь. Делать больше было нечего, кроме как помочь Анне одеться. Настало утро отъезда в Шваненбург, где она распрощается с родными. — Не могу выразить, как я вам благодарна за то, что вы так основательно собрали меня в путь, — сказала Анна, чувствуя, что к горлу подкатывает ком. Ей хотелось обнять мать и никогда не отпускать, но герцогиня не поощряла открытого выражения привязанности и эмоций. — Это был мой долг и мое удовольствие, — ответила мать. — Теперь я вполне удовлетворена: вы поедете в Англию, снабженная всем необходимым королеве.
Анна не могла уснуть. Ее подушка была мокра от слез. Это случалось уже много раз за последние недели. В ночные часы человек нередко оказывается под властью мрачных мыслей и впадает в отчаяние. Как она сможет поехать в Англию и оставить все, что было ей знакомо и привычно, может быть, навсегда? Зачем согласилась на это? Ей невыносимо было расставаться не только с матерью, Вильгельмом и Эмили, но еще и с тем маленьким мальчиком, который жил в Золингене и по которому она тосковала каждый день. Она не поедет! Скажет, что совершила ужасную ошибку. Напишет письмо с извинениями королю и все объяснит. Он легко найдет себе другую невесту. Но потом Анна ощущала укол совести. А как же союз, жизненно важный для безопасности Клеве? Какой позор падет на Вильгельма из-за того, что она позволила английскому королю увлечься собой и обманула его надежды, да и на самого Генриха тоже! Это будет расценено как величайшее оскорбление. Что скажет мать, которая всегда учила ее ставить долг превыше всего и так напряженно трудилась, чтобы обеспечить ей достойный отъезд? Что подумают доктор Олислегер, доктор Уоттон и лорд Кромвель, которые месяцами вели переговоры о браке? Как быть с ожидающими ее в Шваненбурге лордами и леди из эскорта? Как они отреагируют, если получат приказ разъезжаться по домам? Анна не могла больше лежать в постели и терзаться этими тревожными мыслями. Она встала, осушила слезы, обула бархатные туфли и надела тяжелый ночной халат, подбитый мехом горностая. Спускаясь по лестнице в башне, она услышала отдаленный бой часов — полночь — и вдруг увидела матушку Лёве, которая шла ей навстречу, завернувшись в черную накидку. — Миледи! Я как раз ищу вас, — громким шепотом сообщила няня. — Я привела кое-кого повидаться с вами. Он ждет внизу. Сердце у Анны заколотилось. Нет, конечно, этого не может быть… Матушка Лёве сама сказала, что это невозможно. — Там?.. — начала было она, но няня, показав ей широкую спину, уже быстро спускалась по лестнице, так что Анна поспешила вслед за ней во двор. Мужчина в дорогой меховой накидке, с золотой цепью, аккуратно одетая женщина и маленький мальчик, закутанный от холода, стояли на мостовой. При виде Анны мужчина низко поклонился, а женщина сделала быстрый реверанс, толкнув локтем мальчика. Тот тоже поклонился. — Золинген желает выразить уважение и пожелать вашей милости счастья, — сказала матушка Лёве. — Позвольте представить вам мэра города, фрау Шмидт и ее сына. Эти добрые люди собирались прибыть сюда раньше, но были застигнуты бурей и пережидали ее. Мэр сделал шаг вперед, и Анна оторвала взгляд от ребенка. — Ваша милость, примите уверения в верности и сердечные пожелания удачи от всех людей Золингена. Мы давно питаем добрые чувства к герцогскому дому, ведь вы сами и ваши родные часто гостите в Шлоссбурге, и мы понимаем, какое благо вы приносите Клеве, согласившись на этот брак. Мы хотим сделать вам подарок, чтобы выразить свои чувства и нашу благодарность. Мы решили, что преподнести его должен один из наших самых юных горожан. Выйдите вперед, мальчик. Ребенок снял шапку и вынул из-под накидки маленький сундучок. Анна не могла оторвать глаз от лица малыша. В мерцающем свете стенных факелов оно выглядело красивым: голубые глаза, вишневые губы и светлые волосы, как у нее и Отто; нос немного длинноват, а в остальном — совершенство. — Ваша милость, прошу, примите этот скромный дар, — произнес мальчик заученную фразу. Анна наклонилась и взяла сундучок, упиваясь мгновением, когда ее рука коснулась нежной кожи ребенка. Внутри лежала красивая золотая подвеска в форме сердца, украшенная эмалевыми узлами вечной любви, синим и красным. — Благодарю вас, — сказала Анна, а потом, поддавшись порыву, наклонилась и поцеловала мальчика в щеку. Ей хотелось обнять его, но она не посмела. Пусть изголодавшееся сердце довольствуется тем, что можно. Выпрямившись, Анна добавила: — Господин мэр, этот подарок и тот очаровательный способ, каким он был преподнесен, глубоко тронули меня. Это великолепное украшение я буду хранить как память о вас и обо всех добрых людях Золингена. — Голос ее дрогнул, и она испугалась, как бы не расплакаться, ведь, увидев всего на миг своего малютку-сына, она вновь теряла его, теперь уже навсегда. — Простите, — сказала Анна, — меня переполняют эмоции при мысли о расставании с Клеве и теми, кто здесь живет и так дорог мне. А этот подарок воплощает в себе все то, что я оставляю позади. Примите мою самую смиренную благодарность, я буду молиться, чтобы Господь благословил вас за вашу доброту. Говоря это, Анна еще раз взглянула на милое лицо сына, после чего отвернулась, чтобы никто не увидел ее слез, и пошла к башне. Матушка Лёве поравнялась с ней на ступенях лестницы. Она обняла Анну и держала ее в объятиях, пока та рыдала, говоря сквозь всхлипы: — Спасибо вам, спасибо, что устроили эту встречу. Вы не представляете, как много она значит для меня. — Но я представляю, — ответила няня; ее голос прозвучал глухо, потому что она говорила, уткнувшись в плечо Анны. — Давным-давно, до того как я овдовела, у меня был ребенок, маленький мальчик. Он умер вскоре после рождения. Так что, да, Анна, я знаю, что такое скорбь по своему малышу. Любая мать поймет это. И устроить все было нетрудно. Мэр — мой кузен. Когда я услышала, что он собирается преподнести вам подарок, шепнуть ему на ухо нужное словечко оказалось достаточно. — Он красавец, мой сын. И так хорошо говорит. Шмидты прекрасно его воспитывают. — Они в нем души не чают. Вы можете спокойно отправляться в Англию, зная, что дали ему все самое лучшее. — Да, — неохотно согласилась Анна, утирая глаза. — А теперь давайте ложиться спать, — сказала матушка Лёве. — Утром нам рано вставать.
Во дворе стояла карета, в которой Анна отправится в Англию, — закрытая, изящная, золоченая, украшенная резным орнаментом во французском стиле и разноцветными гербами Клеве, с козлами для возницы и золотой фигуркой гордо выступающего клевского льва, установленной спереди наподобие носовой фигуры корабля. Крыша была затянута золотой парчой, на окнах висели шторы из такого же материала. Их можно было крепко связать внизу для приватности или защиты от сквозняков. Четыре золоченых колеса доходили стоящему рядом человеку до уровня груди, внутри карета тоже имела роскошную отделку. — Какой великолепный экипаж! — воскликнула Анна, выйдя из дому в новой дорожной накидке с широким капюшоном, отороченной соболиным мехом. — Он похож на тот, в котором уезжала на свою свадьбу Сибилла. — Похож, — подтвердила мать, — и подвешен на цепях, так что вас ждет комфортная поездка, если не помешают погода и плохие дороги. Двор был полон повозок, коней и людей. Весь багаж погрузили, хаос чудесным образом превратился в порядок, и они были готовы к отправке. Вскоре башни и шпили Дюссельдорфа заметно уменьшились в размерах. Анна задумчиво смотрела назад, а город постепенно таял вдали. Сидевшая рядом мать осторожно положила ладонь на ее руки и пожала их — редкий жест, выдававший чувства герцогини. Матушка Лёве, занимавшая место напротив, задорно глянула на них обеих. — До Дуйсбурга отсюда меньше тридцати миль, ваши милости. Ночь они собирались провести в тамошнем замке. — А оттуда останется всего триста двадцать. — Анна улыбнулась. — Для меня, по крайней мере. — Счастливица, — вздохнула Эмили, сидевшая сбоку от матушки Лёве. — Хотелось бы мне поехать в Англию. «И вы наверняка поехали бы без тени сомнения», — подумала Анна. Она откинулась на спинку сиденья и предалась воспоминаниям о вечерней встрече, глядя на мать и сестру, как будто хотела, чтобы их лица навечно запечатлелись в ее памяти.
На следующий день они прибыли в Шваненбург, где их ожидал герцог. Во дворах замка толпились вооруженные мужчины, которые будут сопровождать Анну в Кале. Когда она вошла в Рыцарский зал, то обнаружила, что он полон более высокопоставленных членов эскорта, которые, увидев ее, возликовали. Анна подняла руку в приветственном жесте, а герцог призвал всех к тишине и проводил сестру на помост, где она, поблагодарив брата, села рядом с ним в резное кресло, стоявшее под балдахином, поскольку теперь Анна была фактически королевой. В ожидании, когда начнется церемония представления, она рассматривала собравшуюся перед ней толпу и узнавала многих представителей семейств высшего дворянства Клеве. Впереди всех стояли доктор Олислегер и его дородный кузен Герман, граф фон Нойенар, второй человек в свите. Анна посочувствовала графу: тот оставлял дома больную жену, но его профессиональное владение латинским и французским было необходимо. Мать, разодетая в узорчатый златотканый дамаст, приветствовала своего сводного брата, дядю Иоганна, бастарда из Юлиха, который мог бы позавидовать ее наследству, но был слишком добродушен и ленив, чтобы обижаться на нее. Анна увидела своих кузину и кузена — Анастасию Гунтеру Шварцбург и Франца фон Вальдека, которые обменивались шутками, как и подобает четырнадцатилетним подросткам. Красавец Франц был многообещающим сыном Анниной тетушки, другой Анны Клевской, и Филипа, графа фон Вальдека; Франц будет в числе восьми пажей, а Анастасия займет должность одной из пяти камеристок Анны. Другие ее будущие слуги толкались вокруг Сюзанны Гилман, которая улыбнулась и сделала реверанс, встретившись взглядом с Анной. Вдруг зазвучали трубы, и герольды начали по очереди, в соответствии с рангом, выкрикивать имена собравшихся. Один за другим выходили вперед члены эскорта Анны, низко кланялись и нагибались поцеловать ей руку. Внезапно, до сих пор скрытый из виду, перед глазами у нее возник — нет, этого не могло быть… Анне захотелось отшатнуться и пришлось напрячь все силы, чтобы сохранить самообладание, потому что из поклона поднялся теперь уже взрослый, но сохранивший прелесть лица, приобретшего, однако, более зрелые черты, мужчина, который навязчиво являлся ей в воспоминаниях и наводил на мысли о том, что могло бы быть, если бы… Отто фон Вилих. Рядом с ним стояла миловидная, вся в украшениях молодая женщина. Отто поднял глаза на Анну, и она увидела в них знакомое тепло и память о тайне, которую они оба хранили. Анна заставила себя улыбнуться паре, силясь не замечать, как застучало у нее в груди сердце. Прошлое всегда возвращалось к ней, чтобы упрекнуть за тот единственный отроческий грешок. И все же видеть Отто было приятно, хотя она и отпрянула от него, задержала дыхание, когда он вышел вперед; однако, наблюдая за ним, никто не заподозрил бы, что этот молодой мужчина с такими уважительными манерами знает Анну гораздо лучше, чем следовало бы. Теперь она занимала более высокое положение — сидела на троне королевой, но чувствовала чистый, беспримесный ужас оттого, что Отто находится в ее свите и вместе с ней отправляется в Англию. Как такое могло случиться? Мать знала, что он сделал. Почему она не остановила Вильгельма, когда тот решил включить его в свиту? Доктор Олислегер что-то тихо говорил ей на ухо. — Мой племянник, ваша милость, Флоренц де Дьячето. Моя сестра вышла замуж за флорентийца, но он родился в Антверпене. Анна поняла, что Отто и его жена отошли, а перед ней раскланивался остроносый молодой человек с длинными курчавыми волосами. Несмотря на разыгравшееся сердце, она заставила себя милостиво улыбнуться жизнерадостному Флоренцу, за ним — великому магистру Гохштадену, потом вице-канцлеру Бурхарду и маршалу Дульцику; обоих прислал курфюрст для демонстрации одобрения альянса. Процессия казалась бесконечной. Голос герольда раздавался вновь и вновь: — Милорд Иоганн фон Бюрен-Дроссар… Милорд Вернер фон Паллант, лорд Бредебент… — (Глаза Анны остекленели, улыбка застыла на лице.) — Леди Магдалена фон Нассау-Дилленбург… леди Кетелер… леди Александрина фон Тенгнагель… Последняя оказалась согбенной, сморщенной старухой, которой, наверное, было лет сто от роду, и тем не менее, к изумлению Анны, она все равно ехала в Кале. Помнится, Вильгельм говорил ей, что эта старая женщина настаивала на поездке, утверждая, что это ее право. Может быть, Отто сказал то же самое… Как только завершилась эта длительная церемония, Анна последовала за матерью в женские покои и быстро заперла за собой дверь, пока не вошли их приближенные. — Mutter, как случилось, что Отто фон Вилих попал в мою свиту? Мать беспомощно покачала головой: — Он ваш кузен. У него есть право. Что я могла сказать, не возбудив подозрений Вильгельма? — Вы могли сказать, что он вам не нравится. — Анна расхаживала взад-вперед по комнате, она была вне себя. — Этого недостаточно для отказа. — Но, Mutter, одно его присутствие подвергает меня опасности. Если появится хотя бы намек, что между нами что-то было, это может вызвать подозрения у короля. Вдруг он решит, будто я привезла с собой любовника. — Анна, возьмите себя в руки! Отто теперь женат. Он любит свою супругу, и она любит его. Ваша тетя говорила мне. Он не станет подвергать опасности ни свой счастливый брак, ни надежды на продвижение по службе в Англии. Ему тоже есть что терять. Успокойтесь, и давайте готовиться к вечернему пиру. Мать была права; она говорила разумно. Анна перестала расхаживать по комнате и постепенно ощутила, что внутреннее напряжение спало. И все же, как только представится возможность, Анна постарается найти повод, чтобы отправить Отто домой.
Карета ждала у гейтхауса. Двор был забит людьми и лошадьми. Вильгельм поцеловал Анну в обе щеки. — Господь да пребудет с вами, Schwester. Пишите и сообщайте нам, как у вас идут дела в Англии. — Вильгельм остался верен себе и не смог удержаться от напыщенного наказа: — Помните, вы едете туда, чтобы поддержать честь Клеве. — Сделаю все, что в моих силах, для поддержки интересов моей родной страны. Прощайте. Да хранит вас Господь в здравии! — Она взяла руку брата и сжала ее. Искушение было велико, но Анна не обняла Вильгельма. Эмили, напротив, распахнула крепкие объятия для сестры. — Я буду сильно скучать по вам, — сквозь слезы произнесла она. Анна начала всхлипывать, хотя строго наказала себе не плакать. — Я тоже буду скучать по вам, Liebling, — пробормотала она. — Берегите себя. Может быть, в следующем году наступит ваш черед отправиться в свадебное путешествие. — Вдруг у Анны в голове промелькнуло видение: годы пролетели, они постарели, но в памяти остались такими же. — Приезжайте ко мне в Англию, если сможете. — Я приеду, приеду! — воскликнула Эмили и энергично закивала; лицо ее было мокро, капюшон на голове сдвинулся набок. Самое трудное прощание осталось напоследок. Анна встала на колени, чтобы в последний раз получить материнское благословение. — Да хранит вас Господь, мое дорогое дитя, — ровным голосом произнесла мать. — Пусть Он благословляет каждый день вашей жизни, убережет вас во время поездки и сделает счастливой и плодовитой в браке. Анна поднялась на ноги и обняла ее, вглядываясь в любимое лицо. Впервые она заметила, что мать стареет. Скоро ей исполнится пятьдесят. Увидятся ли они еще хотя бы раз? Дай-то Бог. Снова глаза Анны наполнились слезами. В ней как будто образовалась плотина, ждавшая момента, чтобы прорваться. — Прощайте, Анна, — сказала герцогиня, проводя пальцами по щекам дочери. Это был самый нежный материнский жест, какой Анна могла припомнить. — Поезжайте и будьте хорошей королевой во славу Клеве. — Я буду, дорогая мама, — нетвердым голосом дала слово Анна. — Прощайте. Она забралась в карету и устроилась на алых бархатных подушках. Матушка Лёве сидела напротив с Сюзанной Гилман. Под сиденье Анны положили каменные бутыли с горячей водой, чтобы всем было тепло. Анна отодвинула штору на окне и заставила себя улыбнуться родным. Она не хотела, чтобы в памяти у них запечатлелось на прощание ее заплаканное лицо. «Будут письма», — напомнила она себе, хотя мать сказала, что сама не станет писать, пока не дождется вестей от Анны о ее благополучном прибытии в Англию. Вероятно, подумалось Анне, мать просто не хочет в первые дни после разлуки расстраивать ее напоминаниями о доме. Где-то впереди затрубили трубы, возница щелкнул кнутом, застучали по мостовой копыта, и огромная процессия тронулась в путь. Анна махала матери, Вильгельму и Эмили, чувствуя, что грудь у нее вот-вот разорвется от эмоционального накала, а потом карета, находившаяся в середине кавалькады, сопровождающей Анну в Кале и дальше в Англию, прогромыхала под аркой гейтхауса. Спереди и сзади доносился топот двухсот двадцати восьми лошадей, которые везли ее свиту из двухсот шестидесяти трех человек, и маршевый шаг солдат эскорта. Вильгельм выделил ей сотню личных слуг. Среди них числились казначей, широкоплечий Яспер Брокгаузен с женой Герти (оба нравились Анне), и повар, мейстер Шуленбург, под пламенным руководством которого она провела много часов, постигая искусство кулинарии на дворцовых кухнях. По настоянию матери Вильгельм позволил Анне взять с собой хорошего врача — доктора Сефера. Были у нее личный священник, секретарь, грумы, пажи и ливрейные лакеи. Ее зять, курфюрст Саксонии, одолжил ей тридцать трубачей и двух барабанщиков, чтобы оповещать местных жителей о прибытии в каждое место, где она будет останавливаться по пути. Это они дали сигнал к отъезду. Большинство членов ее немецкой свиты вернутся в Клеве после свадьбы. Анна про себя молилась, чтобы король Генрих позволил ей оставить при себе, по крайней мере, матушку Лёве и нескольких горничных, да еще доктора Сефера. Но только — прошу Тебя, Господи! — не Отто фон Вилиха.
К Фландрии они продвигались медленно. Первую ночь провели в принадлежавшем герцогу Вильгельму замке Вейнендале в Равенштайне. За второй день проехали всего три мили и остановились в замке Батенбург в Гелдерне на берегу Мааса. Анна сразу ушла в свои покои, избегая опасности столкнуться с Отто фон Вилихом. На следующее утро во время завтрака доктор Уоттон попросил о встрече с ней. — Ваша милость, я получил известие из Англии. Его величество решил не проводить ваше бракосочетание в Кентербери. Он считает, что вашей милости понадобится время на отдых после поездки, и он примет вас в своем дворце в Гринвиче, где вы и поженитесь. — Я довольна любым решением его величества, которое он посчитает наилучшим, — сказала Анна, втайне радуясь краткой отсрочке, потому что в ней росло беспокойство при мысли о скорой встрече с будущим супругом. Они проехали через Тилбург и Хогстратен и теперь направлялись к Антверпену. С каждой милей Анна удалялась от того, что было ей знакомо и любимо ею; тоска по дому грозила поглотить ее. В городах тосковать было некогда: невесту короля радостно встречали, устраивали пиры и праздники, но во время долгих дорожных переездов и по ночам у нее было слишком много свободного времени для грустных мыслей обо всем том, что она оставила позади. — Эта поездка тянется невыносимо долго, — жаловалась Анна, поднимая шторку и глядя на очередное бесконечное пространство замерзших плоских полей. — Мы прибудем в Кале очень поздно. Уже декабрь. Король надеялся, что к этому моменту мы будем женаты. — Тут ничего не поделаешь, — отвечала матушка Лёве. — Но мне неприятно заставлять его ждать, — растравляла себе душу Анна. — Мужчин нужно держать в ожидании, — заметила Сюзанна. — Это увеличивает их пыл. Они не ценят то, что достается без труда. К моменту, когда ваша милость доберется до Гринвича, король будет в лихорадочном нетерпении! — Или в раздражении! — возразила Анна. — Я скажу доктору Олислегеру и доктору Уоттону, что не намерена оставаться в Антверпене больше чем на день. Если нам повезет, мы окажемся в Кале через шесть дней после этого. Она поежилась. Каменные бутыли, которые наполняли горячей водой каждое утро, остыли, шторы были почти бесполезны для защиты от сквозняков, и все, кто сидел с ней в карете, кутались в накидки, надевали на головы капюшоны, укрывались одеялами и натягивали на руки толстые перчатки. Анна уже почти жалела, что не отправилась морем!
Когда они приближались к Антверпену, доктор Уоттон поехал рядом с каретой. — Ваша милость, — окликнул он Анну, и Сюзанна отодвинула штору, — в четырех милях от города английские купцы из Компании торговцев-авантюристов встретят вас и проводят туда, где вы остановитесь. — Это очень благородно с их стороны, — ответила Анна, — но я надеюсь, они поймут, если мы не задержимся здесь надолго. Время поджимает. — Да, мадам, но мы зависим от погоды. Слабый ветер беспокоит меня. — О Боже! — Анна совсем пала духом. — Не беспокойтесь, ваша милость. Его величество — опытный мореход. Он понимает такие вещи. К тому же у меня есть и хорошие новости. Представители императора будут сопровождать вас из Антверпена в Гравлин. Они присоединятся к вашей свите в Антверпене. — Говорят, это процветающий и богатый город, — сказала Анна. — Один из крупнейших торговых центров христианского мира, там больше тысячи иностранных торговых домов, многие из них заведены англичанами. Милорд Кромвель и английские купцы вместе постарались устроить вам хороший прием. Смотрите, вот там вдалеке я уже вижу купцов! Анна тоже заметила приближающуюся группу всадников, а позади них — мощные стены и бастионы Антверпена.
Саксонские трубачи сыграли фанфары, карета остановилась, шторы с окон были отдернуты. Анна спустилась на землю, а пятьдесят купцов-авантюристов, все в бархатных куртках и с золотыми цепями на шее, поклонились ей. Глава Компании мастер Воан преклонил колени, чтобы поцеловать Анне руку. — Добро пожаловать в Антверпен, ваша милость! — провозгласил он, широко улыбаясь. Хотя время было послеобеденное, купцы привели с собой процессию из восьмидесяти факельщиков, чтобы освещать путь в город. У Красных ворот Анну ждали представители императора граф Бюрен и Ферри де Мелен с великолепным имперским эскортом. Они должны были въехать в город с двух сторон от кареты Анны. — Милорды, — сказала она, — я в долгу перед его императорским величеством за заботу, с которой он прислал вас обоих ко мне. Мужчины поклонились. — Для нас это удовольствие и большая честь, — сказал граф. Анна удивилась и была тронута зрелищем огромной толпы, запрудившей широкие улицы города, радостно кричавшей и махавшей ей руками. Было ли это предвестием того, что ожидало ее в Англии, думала она, поднимая в приветствии одетую в перчатку руку и грациозно кивая головой направо и налево. — Я никогда еще не видел, чтобы при въезде кого-нибудь в Антверпен, даже императора, собиралось столько людей! — воскликнул граф Бюрен. Пока они медленно ехали сквозь толпу к центру города, он указывал на интересные места. — Английский дом, где вы остановитесь, находится вон там. Через мгновение Анна увидела впереди величественный фасад трехэтажного здания, протянувшийся не меньше чем на сотню ярдов. Его венчала крыша со ступенчатым коньком, какие были популярны во Фландрии. Вперед вышел глава купцов Воан: — Добро пожаловать в наше скромное жилище, мадам. — Но это великолепный дом. — Анна улыбнулась, а Воан проводил ее в прекрасно обставленные комнаты. — Я благодарна вам за заботу обо мне. Он поклонился и объявил, что Английский дом на день предоставлен в распоряжение Анны и ее свиты. Вечером будет устроен грандиозный пир в ее честь. Но, разумеется, почетной гостье нужно отдохнуть, перед тем как двери будут широко открыты для всех, кто хотел бы ей представиться. Анна была слишком взволнована, чтобы отдыхать. Она приказала горничным, чтобы те помогли ей вымыться и переодеться, потом спустилась вниз и пожелала осмотреть сад позади дома, который краешком глаза увидела из своего окна. Воан и доктор Уоттон проводили ее туда и прогулялись с ней по крытой галерее, сооруженной по периметру сада. На ней разместилось множество лавок и ларьков, хозяева которых торопливо сворачивали торговлю. — У нас тут больше сотни лавок, мадам, — сказал Анне мастер Воан. — Здесь мы продаем купцам со всей Европы прекрасные английские шерстяные ткани. — Шерсть — источник богатства Англии, — добавил Уоттон. — На нее большой спрос повсюду. Анне хотелось бы осмотреть сад, но ее попросили вернуться в дом, так как там встречи с ней ждали люди. После этого Анну увлекло в водоворот приветствий, любезностей и пиршества. Столько народу пришло встретиться с ней или просто поглазеть на нее с любопытством; скамьи вокруг уставленных яствами столов были забиты купцами — хозяевами Английского дома, знатью и официальными лицами — лучшими и славнейшими людьми Антверпена. Всем не терпелось познакомиться с будущей королевой. Анна едва успевала сунуть что-нибудь в рот. Сюзанна переводила, и ее царственная ученица постепенно овладевала искусством поддерживать ничего не значащие разговоры с незнакомцами, делая вид, что ей приятно их общество. Это давалось Анне нелегко. В кровать она повалилась только после полуночи. Утром нужно было рано вставать, потому что двери дома останутся открытыми для всех до самого вечера, и им придется провести здесь еще не одну ночь, прежде чем они продолжат путь.
На следующий день посмотреть на Анну собралось столько же народу, сколько и накануне. Когда она наконец освободилась от желавших представиться ей, уже наступали сумерки, голова у нее шла кругом. Анна во главе свиты придворных поднялась по лестнице в свои покои. В трубе завывал огонь, ей стало жарко в роскошном черном с золотом наряде. — Мне нужно немного подышать воздухом, — сказала она сильно раскрасневшейся матушке Лёве, которая сидела и занималась шитьем. — Тут очень душно! — Анна потянулась за накидкой. Она спускалась вниз с Сюзанной, шедшей следом, и встретилась с доктором Уоттоном. — Ваша милость! — приветствовал он ее с улыбкой, которая всегда была у него наготове. — Я как раз шел искать вас. Можем мы поговорить? — Разумеется. Пойдемте со мной в сад. — Я получил письмо от лорда Кромвеля, — сказал Уоттон, когда они медленно побрели по засыпанной гравием дорожке мимо затейливых цветников и декоративных деревьев в огромных горшках. — Его величество хочет узнать, какие немецкие обычаи ваша милость хотели бы соблюдать в Англии, чтобы помочь вам быстрее и легче привыкнуть к новой жизни. Он особенно интересуется одним, который называется breadstiks[92]. Сюзанна засмеялась. — Он имеет в виду Brautstückes! — сказала она Анне. — Доктор Уоттон, это означает «невестины вещички». В Германии наутро после свадьбы знатный мужчина дарит своей жене подарок. Это могут быть деньги, земли или драгоценности. Он также раздает Brautstückes ее горничным, — обычно кольца, брошки или диадемы; а мужчинам, которые ей служат, — накидки, дублеты или куртки из шелка или бархата. Так поступил курфюрст Саксонский, когда женился на леди Сибилле. — Вероятно, его величество подарит вашей милости Brautstückes наутро после свадьбы! — Доктор Уоттон улыбнулся. — Это было бы очень приятно, — сказала Анна. — Я бесконечно ценю заботу его величества о моем счастье. Мне так же не терпится увидеть его, как ему — встретиться со мной. Надеюсь, завтра мы продолжим путь? — Да, мадам, и я думаю, в субботу доберемся до Брюгге. — Оттуда уже недалеко до Кале? — Около семидесяти миль, мадам. Бо́льшая часть пути уже позади. — Какое облегчение! Доктор Уоттон раскланялся, и Анна с Сюзанной возобновили прогулку по саду. Они встретили Анастасию фон Шварцбург и Гербергу, еще одну юную камеристку Анны: девушки, хихикая, возвращались в дом. Увидев свою госпожу, они покраснели и торопливо сделали реверанс. — Поспешите, — строго сказала Анна. — Если матушка Лёве увидит вас на улице без присмотра, вы получите нагоняй! Юные леди поблагодарили ее и побежали в дом. — Вы лучше пойдите за ними, как будто гуляли вместе, — сказала Анна Сюзанне. — Я подожду вас здесь. Какое благословение — побыть одной, пусть даже совсем недолго. Анна стояла посреди сада, который освещался только светом, горевшим в окнах дома, откуда доносился звон посуды: шла подготовка к ужину, и еще кто-то играл на лютне. Вдруг из тени вышел мужчина. — Ваша милость, простите меня! Перед Анной стоял на одном колене Отто фон Вилих. От неожиданности она растерялась и не знала, что сказать, а потому отозвалась эхом: — Простить? — За то, что напугал вас, миледи, и… за мои юношеские поступки. — Отто повесил свою прекрасную голову; волосы у него и теперь были длинные и буйные. — О… Встаньте, прошу вас. — Я хотел, чтобы ваша милость знали, я не искал места в вашей свите и не имел желания смущать вас своим присутствием. Это все мой родственник, эрбгофмейстер фон Вилих, он попросил за меня, и герцогсогласился. Я бы принес вам извинения раньше, но не было никакой возможности приблизиться к вашей милости и… ну, признаюсь, мне не хотелось встречаться с вами. Я обязан принести вам глубочайшие извинения за то, что случилось, когда мы были юными. Сможете ли вы когда-нибудь отыскать в своем сердце прощение для меня? Отто сильно изменился, но что-то от непослушного мальчика, каким он был тогда, чувствовалось в нем и сейчас. И хотя он согрешил больше, потому как знал, что делает, а она нет, Анна тоже была виновата. А теперь ее возлюбленный счастливо женат. — Я охотно прощаю вас, — сказал она, протянула ему руку для поцелуя и, вздрогнув от прикосновения его губ, отдернула ее. — Но при одном условии: вы поклянетесь, что никогда и никому не скажете. — Конечно, — сразу согласился Отто; его голубые глаза были исполнены понимания и чего-то еще. Ей показалось, или это нечто большее, чем почтительное восхищение? — Я торжественно обещаю никогда не говорить об этом. У меня есть свои причины желать, чтобы случившееся осталось в забвении. — Отто покаянно улыбнулся. Анне захотелось сказать ему, что у него есть сын, но тут она увидела возвращавшуюся Сюзанну, и вообще, пусть лучше Отто живет в неведении. В горле у нее встал ком. — Благодарю вас, сэр, — сказала Анна, когда ее компаньонка подошла ближе. — Я обдумаю вашу просьбу, но должна вас предупредить, что в настоящее время для вашей жены нет места среди моих дам. Отто понял ее уловку и откланялся, сказав напоследок: — Благодарю вас, мадам. — Красивый молодой человек, — заметила Сюзанна, глядя ему вслед, и они продолжили обходить по кругу сад. — Да, — согласилась Анна. — Он мой кузен. Ее обуревали разные эмоции, но главной была одна — чувство облегчения. Отто не представлял для нее угрозы, и она больше его не боялась.
Глава 7
1539 годВ Брюгге Анна прибыла на день позже, продрогшая, вымокшая и упавшая духом из-за опоздания. Она удалилась в свои покои такая уставшая, что даже думать не могла об осмотре достопримечательностей этого славного города. Доставка ящика вина от городских властей ее приободрила, и она с благодарностью выпила кубок, за ним другой и еще один. Первый помог ей расслабиться, второй согрел, а после третьего она определенно почувствовала себя счастливой. Вечер Анна провела весьма оживленно, со своими дамами; за ужином они рассказывали друг другу разные забавные истории. Из Брюгге она отправилась в Ауденбюрг, Ньивпорт и Дюнкерк. В понедельник, 8 декабря, ее карету остановили гонцы из Кале. Они сообщили, что лорд-адмирал и его свита провели там уже какое-то время, а горожане развлекали их в меру сил в ожидании своей новой королевы. Доктор Уоттон, сидевший на лошади рядом с каретой, получил письмо от адмирала. — Леди Лайл прислали много подарков для вашей милости, и она готовит для вас роскошный стол. Надеюсь, вы любите оленину и хряковину! Анна улыбнулась: — Уверена, меня порадует ее гостеприимство. — Ее светлость — неугомонная женщина. — Я не возражаю, если это будет означать, что я наконец-то на английской земле, — сказала Анна, и процессия тронулась. — Задержки в пути, должно быть, стоили моему брату гораздо больше, чем он рассчитывал. — Мы прибудем в Кале в четверг, — заверил ее Уоттон и пришпорил коня. — И как только ваша милость вступит в пределы Англии, вы и вся ваша свита окажетесь на попечении короля. Если нам повезет, мы пересечем Канал в субботу. На следующий день Анна была в Гравлине, где комендант города приказал устроить в ее честь пушечный салют. Здесь она проведет две ночи, чтобы отдохнуть и подготовиться к официальному приему в Кале. Осталось проехать всего шестнадцать миль… Рано утром в четверг граф Бюрен и Ферри де Мелен попрощались с Анной, обеспечив ее благополучный переезд через владения императора. Она сердечно поблагодарила их и села в ожидавшую ее карету. Еще не было восьми часов, когда, сразу за Гравлином, они достигли дорожной заставы. Здесь Анна, впереди которой двигались трубачи и барабанщики, пересекла границу Англии. Ее ожидала многочисленная группа всадников, лейб-гвардейцев в бархатных куртках и с золотыми цепями, а также состоявшая из лучников стража в ливреях самого короля. Высокий мужчина средних лет с аристократическими чертами лица вышел вперед и поклонился Анне. Наверное, это был наместник короля, комендант Кале. Ей говорили, что Артур Плантагенет, виконт Лайл, побочный сын короля Эдуарда IV, приходился дядей его величеству. — Ваша милость, примите мои сердечные приветствия и добро пожаловать в Кале! — сказал лорд Лайл — воплощение учтивости. Когда с обменом любезностями было покончено, процессия перестроилась: каждый из королевских гвардейцев поехал рядом с одним из членов эскорта Анны. До ворот Кале осталось меньше мили, и Анна увидела на открытом пространстве рядом с церковью лорда главного адмирала, графа Саутгемптона, ожидавшего ее во главе большой депутации, чтобы выразить свое почтение. Он выглядел впечатляюще в мундире из пурпурного бархата и золотой парчи, с украшенным драгоценными камнями свистком, который висел на цепочке у него на шее. Стоявшие рядом с ним лорды были одеты похоже, а в свите находились сотни джентльменов в мундирах из красного дамаста и синего бархата, цветов королевского герба Англии. Казалось, ради нее служилых людей облачили во все виды самого шикарного английского военного обмундирования. Карета подъезжала к приветственной группе, и Анна занервничала. Все они — подданные ее мужа и наверняка станут оценивать и обсуждать свою новую королеву. Она должна вести себя так, чтобы заслужить их уважение и — желательно — любовь. Анна села прямо, приказав себе улыбаться и не терять грации. Матушка Лёве подала ей руку, как будто говоря: «Мужайтесь!» Снова загремели трубы, и карета остановилась. Пока Анна спускалась и впервые ступала на английскую землю, все мужчины из свиты адмирала встали на колени. Сам он вышел вперед и низко поклонился. Величавый, похожий на быка, с крупными чертами лица, выступающим носом и проницательными глазами, он выглядел грозным; такому человеку никто не захотел бы попасться на пути, и тем не менее, когда Анна протянула ему руку, он тепло улыбнулся. — Ваша милость, эти джентльмены — придворные короля, — сказал ей Саутгемптон. Снова и снова она протягивала руку для поцелуев, примечая, что у сэра Томаса Сеймура красивое лицо и озорные глаза, у сэра Фрэнсиса Брайана распутная улыбка под повязкой на одном глазу, а в мистере Калпепере есть что-то неопределенное и отталкивающее. Мистер Кромвель, представительный молодой мужчина в прекрасно сшитом костюме, был, очевидно, сыном лорда Кромвеля. После обеда они наконец увидели гавань Кале с массивными воротами, стоявшими, как часовые, при въезде на пристань. Множество кораблей и лодок стояли на якоре у морских ворот, где круглая башня защищала вход в гавань. Анна залюбовалась морем, которое видела впервые. Она чувствовала соленый запах бурливой воды и слышала крики паривших над головой чаек. Очень скоро она окажется посреди этого холодного серого пространства, будет пересекать узкий пролив, отделявший материковую Европу от Англии. На горизонте виднелось английское побережье. — Это, мадам, Лантерн-гейт[93], главный вход в город, — сказал ей комендант, указывая вперед, а Сюзанна наклонилась к Анне и перевела. — Городские стены тянутся до замка Ризебанк. Кале находится под властью Англии с тех пор, как его завоевал король Эдуард Третий около двухсот лет назад. К сожалению, это все, что осталось от английских владений во Франции. — Я уверена, горожане рады быть англичанами, — сказала Анна. Адмирал заулыбался: — Так и есть, мадам. И Кале очень важен для его величества, поэтому он не жалеет средств на оборону города. У меня под началом сильный гарнизон, который насчитывает пятьсот отборных солдат, а также кавалерийский отряд в пятьдесят всадников. Они были уже почти у Лантерн-гейт. Стоявшие в гавани королевские корабли вдруг грянули салютом, казалось, одновременно выстрелили из сотен пушек, а в ответ раздался залп из города, который длился дольше. Грохот стоял оглушительный. — Какой восхитительный прием! — крикнула Анна матушке Лёве и Сюзанне. Высунувшись из окна кареты, она поблагодарила коменданта. — Это сделано по личному распоряжению короля, мадам, — сказал он ей, — которое я выполнил с большим удовольствием. — Ваша милость, вы видите корабль вон там? — спросил Анну адмирал. — Это «Лев», он отвезет вас в Англию. Корабль был украшен множеством шелковых с золотом флажков, а три стоявших рядом на якоре судна увешаны вымпелами, большими и маленькими флагами, на концах рей встали матросы. Когда Анна проезжала через Лантерн-гейт, корабельные пушки выпустили еще один оглушительный залп салюта, а когда появилась с другой стороны, то все вокруг заволокло таким густым дымом, что ни один человек из ее свиты не мог разглядеть другого. Люди кашляли и были потрясены увиденным. — С каждым шагом все чудеснее, милорд! — заметила Анна, как только смогла говорить. — Вы позволите представить вам мою супругу, ваша милость? — спросил комендант, когда Анна спустилась на землю из кареты. Значит, вот она — амбициозная леди Лайл! Это была гордая матрона с изящной фигурой и длинным аристократическим носом. — Добро пожаловать в Кале, ваша милость, — громко сказала леди Лайл. Анна протянула ей руку в перчатке для поцелуя. Лорд и леди Лайл повели шедшую во главе свиты и рядом с адмиралом Анну по узким улицам, забитым людьми, которые вытягивали шеи, чтобы хоть краешком глаза увидеть свою новую королеву. По обеим сторонам выстроились в шеренги и поддерживали порядок пятьсот солдат в королевских ливреях. Анна заметила, что некоторые зеваки со смехом указывали на ее немецких фрейлин. — Почему они смеются? — спросила она, стараясь не выдать, как это раздосадовало ее саму. Адмирал заметно смутился и ответил: — Просто не умеют себя вести. Прошу вас простить их. Мадам, вы скоро узнаете, что английский народ может быть ограниченным и недалеким. Они считают все чужое странным и, кажется, находят что-то чудно́е в нарядах ваших дам. Не обращайте на них внимания. Анна оглянулась на своих фрейлин в строгих черных платьях и Stickelchen; их одежда походила на ее платье с той лишь разницей, что на ней был черный бархат с отделкой из золотой парчи. Разумеется, городской люд не осмелится насмехаться над ней! Однако Анна забеспокоилась, что роскошный гардероб, которым снабдила ее мать, не понравится англичанам. Комендант показывал ей красивейшие здания Кале: прекрасную церковь Святой Марии, великолепную ратушу с башней, возвышавшейся над рыночной площадью, и здание купеческой гильдии «Степл инн». Перед ним выстроились купцы, которые преподнесли Анне толстый кошель с сотней золотых суверенов. Она от души поблагодарила их, и процессия двинулась дальше ко дворцу Казначейства, где ей предстояло остановиться. Там мэр Кале с низким поклоном вручил гостье еще один тяжелый кошелек с золотыми монетами и украшение в виде латинской буквы «С». — Это означает Кале[94], ja?[95] — спросила Анна. — Нет, мадам, — сказал переводчик, — это означает Клеве[96] в честь вашей милости. Анна благодарно улыбнулась. Сейчас было не время указывать на ошибки в правописании.
Дворец Казначейства имел два внутренних двора и был красиво обставлен. Запах краски еще не выветрился, на полах лежала свежая подстилка из тростника. После того как лорды и мэр отвели Анну в покои королевы и пообещали быть к ее услугам все время подготовки к отплытию в Дувр, она в изнеможении опустилась на постель, а ее дамы засуетились вокруг, разбирая и раскладывая по местам вещи. — Не нужно распаковывать много, — сказала им Анна. — Я надеюсь отправиться в Англию через день или два. Доктор Уоттон предлагал ехать сегодня, но было уже слишком поздно, и она не могла разочаровать своих щедрых хозяев, покинув Кале так сразу. Анна встала и осмотрела прекрасные апартаменты, состоявшие из четырнадцати комнат, соединенных галереей с видом на личный сад. Дверь, сейчас запертая, вела из ее спальни в покои короля. Повсюду были начертаны инициалы «А. R.», заявлявшие всему миру о ее королевском статусе, однако, приглядевшись внимательнее, Анна обнаружила, что позолота на некоторых потрескалась. Они совсем не были новыми. Эти комнаты принадлежали покойной королеве Анне. Останавливалась ли она в них когда-нибудь? Анна поежилась. Вдруг она почувствовала себя очень одинокой и затосковала по дому. Вот бы рядом были мать и Эмили, они бы весело поболтали с сестрой, и она бы немного развеялась. Анна поймала себя даже на том, что скучает по суровым наставлениям Вильгельма. Как ужасно никогда больше не увидеть родных. Если это будет в ее власти, она с ними встретится, обязательно встретится. Но нельзя ей погрязнуть в жалости к себе. Ее жизненный путь определен. Какой смысл предаваться печали? — Давайте выпьем вина! — предложила она своим дамам. — Анастасия, налейте нам, пожалуйста. Взяв наполненный кубок, Анна вернулась в галерею. Там висели картины, закрытые шторами для защиты от солнечного света, проникавшего внутрь сквозь решетчатые окна. Сегодня небо было серым, его затянули облака. Отдернув занавески, Анна обнаружила вставленную в раму карту Кале, вычерченную с большим искусством. Глаза ее расширились, когда она раздвинула шторы на соседней картине и увидела портрет великолепно одетого красавца-мужчины с коротко подстриженными волосами, аккуратной бородкой, веселыми глазами и легкой улыбкой на устах. На золоченой раме внизу было вырезано: «Король Генрих Восьмой». Анна глядела на портрет как завороженная. Перспектива замужества мгновенно стала казаться ей восхитительной. Она могла полюбить этого человека, сомнений у нее не было. Его доброта и забота о ее комфорте вполне совпадали с впечатлением от этого портрета. Вот если бы она увидела изображение короля Генриха раньше, то не колебалась бы… Анна быстро вернулась в спальню. Скорее бы в Англию. Ждать больше не было сил.
Вечером повидаться с ней пришел адмирал. Она встретилась с ним в своем приемном зале. — Надеюсь, ваша милость хорошо поужинали? — осведомился он. — Оленина была вкуснейшая, милорд, — ответила Анна. — Я написал его величеству о прибытии вашей милости, — продолжил адмирал. — И воспользовался случаем похвалить превосходные качества, которые нашел в вас. Молюсь, чтобы ваш союз был благословлен детьми и, если что-нибудь случится с моим господином, не дай Бог, мы имели бы отпрыска королевских кровей, который будет править нами. — Я об этом тоже молюсь, — отозвалась Анна, тронутая и одновременно встревоженная его словами. Как она перенесет беременность в этой чужой стране и со странным мужем? Но большинству принцесс приходилось справляться с такими проблемами, и король, конечно, будет рад, если молодая жена родит ему ребенка. Она и сама обрадуется не меньше и младенцу, и открытию заново тех радостей, которые испытала с Отто, занимаясь тем, что предначертано Господом для продолжения рода. На сердце у Анны потеплело от мыслей о том, какой будет любовь с ее прекрасным королем. И ее ждет еще одна радость. Потеряв одного ребенка, она обретет в другом утешение, которое было ей так нужно. — Его величество ждет не дождется приезда вашей милости в Англию, — говорил меж тем адмирал. — Я тоже жажду встречи с его величеством, — с улыбкой ответила Анна. — Мне приказано сопроводить вас туда как можно скорее. У меня есть прогноз по приливам, составленный на ближайшую неделю. Вечерние приливы нам не годятся, потому что высаживаться на берег ночью непросто. Поэтому, с согласия вашей милости, нам нужно быть на борту готовыми к отплытию в четыре часа утром во вторник. — Я буду готова, — пообещала Анна. И да пошлет им Господь попутный ветер и хорошую погоду!
В понедельник вечером адмирал явился снова, вид у него был встревоженный. — Ветра нет, мадам. Мы не сможем отплыть завтра. Мне очень жаль. — Как вы думаете, получится у нас выйти в море на следующий день? — спросила она, досадуя на очередную отсрочку. — Надеюсь. А я тем временем организую кое-какие развлечения для вашей милости, чтобы вы немного развеялись, пока задерживаетесь здесь. — Вы очень добры, милорд. После ужина адмирал повел Анну, леди и лордов из ее свиты смотреть корабли и устроил для нее банкет на борту «Льва», где подавали марципаны, желе, печенье и засахаренные фрукты. После этого в честь почетной гостьи были устроены поединки. Смотреть, как отважные конные рыцари, одетые в костюмы своих геральдических цветов, сшибаются друг с другом на турнирной площадке, было увлекательно и страшно, дух захватывало при звоне скрещиваемых копий. Английские лорды вызывали на поединки немецких. Анна увидела цвета Отто фон Вилиха и, когда он появился на поле, задержала дыхание; снова вдохнула она, только когда Отто вышел победителем. При дворе Клеве редко устраивали рыцарские турниры, но доктор Уоттон заверил Анну, что в Англии они очень популярны и вскоре она увидит новые. — Его величество — один из величайших поклонников турниров. Анну это впечатлило, ведь королю уже сорок девять, а все бойцы, которых она видела сегодня, — молодые люди. Приятно было узнать, что ее будущий супруг в хорошей форме.
К пущему разочарованию Анны, погода оставалась неблагоприятной во вторник, и адмирал демонстрировал все признаки беспокойства из-за своей неспособности выполнить приказания суверена. — Я снова написал его величеству, — сообщил он Анне утром в среду. — Разумеется, он понимает, что людям не под силу управлять морем, но отсрочка расстраивает его. Я распорядился, чтобы семеро джентльменов следили за погодой и немедленно дали мне знать, как только сложатся подходящие для мореплавания условия. Надеюсь, погода и ветер позволят нам совершить переход в Англию завтра. — Я тоже на это надеюсь, — отозвалась Анна. — Как только погода наладится, я прикажу трубить в трубы. Ваша милость, вы можете быть готовой к отплытию, как только услышите сигнал? — Я буду готова к отъезду немедленно. Мне не терпится попасть в Англию! Их беседу прервал церемониймейстер, сообщивший о прибытии лорда и леди Лайл. Адмирал встал. — Приветствую вас, ваша милость. У миледи имеется две просьбы к вам, — сказал комендант Кале. Леди Лайл с надеждой смотрела на Анну: — Мадам, у меня есть дочери от первого мужа, милые девушки, и обе так хотят поступить на службу. Старшей, Анне, повезло, ей дали место при дворе вашей милости, но мне не удалось обеспечить место для младшей, Кэтрин, а им так жаль разлучаться… — Леди Лайл, — оборвала ее Анна, — я все понимаю, но такие вопросы должна обсуждать с его милостью королем. — Бедняжка Кэтрин так расстроилась, — продолжила причитать леди Лайл, как будто не слышала сказанного. — Я постараюсь, — твердо пообещала Анна. — Вам нужно что-нибудь еще, миледи? — О да! — Ее светлость расплылась в улыбке. — Не окажет ли ваша милость нам честь отужинать с нами сегодня вечером? Анне меньше всего хотелось этого. Взглянув на адмирала, она прочла в его глазах намек на сочувствие. — Вы очень добры, и я благодарю вас обоих, — сказала Анна, не желая обижать лорда и леди еще одним отказом.
Адмирал и его джентльмены изо всех сил старались развлечь Анну. Они играли для нее на музыкальных инструментах, пели и вели долгие разговоры о великолепии английских королевских дворцов и приготовлениях, которые делались к ее приезду. Должна состояться впечатляющая церемония встречи, — сообщили они Анне, — на которой будет присутствовать вся знать и все самые состоятельные люди королевства. — Все спешно кинулись шить новую одежду, так что портные не успевали справляться с заказами, — шутливо заметил сэр Фрэнсис Брайан, который всегда имел сардонический вид, и повязка на глазу усиливала это впечатление. — Мой костюм был готов буквально за пару часов до отъезда в Дувр. Анне вновь стало неловко, что ее приезд вызвал такую суматоху. По совету доктора Уоттона она объявила, что будет держать открытый двор. Все желающие могли приходить к ней, чтобы засвидетельствовать свое почтение. — Я хочу лучше узнать подданных милорда короля, — сказала она. Ей хотелось порадовать Генриха, дать ему повод для любви к себе. Целыми днями Анна сидела с Сюзанной, пытаясь постичь сложности английского языка. — Почему bough, cough и rough пишутся одинаково, кроме первой буквы, но произносите вы их по-разному? — спрашивала она, недоумевая. — Вашей милости нужно просто запомнить это, — с улыбкой отвечала Сюзанна. — Никогда мне не одолеть этот английский! — вздыхала Анна. Но как же тогда она сможет общаться со своим супругом? Не могут же они всегда иметь при себе переводчика! В свободное время Анна овладевала другими средствами порадовать короля. В тот вечер Анна подошла к доктору Олислегеру: — Я слышала, его величество любит играть в карты, но меня никогда этому не учили. Пожалуйста, попросите адмирала показать мне несколько игр, которые нравятся королю. Доктор Олислегер задумался. В Клеве не одобряли карты и другие азартные игры. Однако адмирал с радостью согласился. И вот Анна уже сидела за столом с ним и лордом Уильямом Говардом и осваивала игру в сент, а доктор Уоттон, Сюзанна и несколько английских джентльменов стояли рядом. Анне не потребовалось много времени, чтобы запомнить правила. — Ваша милость, вы играете так же прекрасно, как любая другая благородная дама, какую я видел за этим занятием, — сделал ей комплимент адмирал. Анна поймала себя на том, что ей очень нравится играть, особенно после того как на стол подали отличное французское вино. Вспоминая, как в Клеве она развлекала избранных гостей, Анна решила, что сегодня пригласит на ужин этих славных джентльменов, которые так скрасили ее день. — Милорд, — обратилась она к адмиралу, — не доставите ли вы мне удовольствие отужинать со мной сегодня вечером, и приводите с собой каких-нибудь благородных джентльменов, чтобы они присоединились к нам. Я получу возможность больше узнать о правилах, которые вы, англичане, соблюдаете за столом. Она что-то сказала не так. Анна поняла это по тишине, которая воцарилась среди веселого собрания, и по тому, как изменились лица мужчин, когда доктор Уоттон перевел ее слова. Сюзанна подавала ей тревожные сигналы глазами. — Мадам, — помолчав, сказал адмирал, — прошу у вас прощения, но боюсь, это считается в Англии не подходящим для незамужней дамы, еще меньше — для королевы, приглашать джентльмена на ужин. Я не стал бы ни за что на свете вызывать гнев его величества, принимая ваше милостивое приглашение, не обижайтесь на мой отказ. Анна смутилась и повернулась к доктору Уоттону: — Думаю, возникло какое-то недопонимание. Пожалуйста, повторите мое приглашение и объясните милорду, что в Клеве принято, чтобы незамужняя дама приглашала джентльменов за стол, и что мои отец и мать поощряли это. После того как Уоттон перевел, адмирал учтиво принял приглашение и привел с собой на ужин восемь других джентльменов. Анне нравилось исполнять роль хозяйки. До сих пор ей не доводилось принимать столько гостей и пытаться очаровать их. Еда была превосходная, и с помощью Сюзанны разговор, как и вино, тек рекой. Позже, когда адмирал собрался уходить, Анна задержала его. — Милорд, было ли в нашем милом ужине что-то такое, чего не одобрил бы его величество? — игриво спросила она. — Мадам, ничего такого не было. Я сообщу его величеству, что ваша благосклонность к нам и ваше безупречное поведение достойны всяческих похвал.
Через два дня они все еще сидели в Кале. Ветер окреп, но приобрел такую силу, что теперь было опасно выходить в море. — Нам остается только надеяться, что он утихнет, — сетовал адмирал. — Некоторые отчаянные капитаны решаются плыть в такую погоду на свой страх и риск. Я слышал, сегодня старый голландский корабль пропал в море недалеко от Булони. — Какой ужас! — вздохнула Анна. — Если так пойдет, я не выйду замуж до Рождества. Надеюсь, король не рассердится. — Вовсе нет, — заверил ее адмирал. — Он рассердится гораздо больше, если мы подвергнем опасности вашу жизнь, пустившись в плавание. К счастью, ветер благоприятствует тем, кто идет в обратном направлении, и гонец из Англии сумел добраться сюда, хотя это было опасно. Его величество получил мои письма. Хотя он жаждет скорейшего прибытия вашей милости, но воспринимает отсрочку спокойно и от души желает, чтобы я ободрил вас и вашу свиту. Это было еще одно свидетельство заботы о ней короля. — Я благодарю его величество, — сказала Анна, воспрянув духом. — И глубоко признательна ему за его доброту. Адмирал и комендант охотно взялись выполнять пожелание короля. В дни, предшествовавшие Рождеству, устраивали пиры и турниры для утешения и развлечения Анны. В рождественскую ночь, когда ей и многочисленным гостям подали вино с пряностями и вафли, неожиданно появился ликующий адмирал. — Ваша милость, — провозгласил он, — ветер меняется.
Наконец в полдень 27 декабря адмирал под звук фанфар проводил Анну на борт «Льва». Находиться на корабле было странно и немного боязно от сознания, что палуба качается под ногами и внизу — морская бездна, но Анна поборола страх. Через несколько часов она будет в Англии, где ее ждет король. Капитан корабля почтительно приветствовал ее, и вместе с Сюзанной, шедшей следом в качестве переводчицы, важную пассажирку проводили в отведенную ей очень красиво отделанную каюту с дубовыми панелями на стенах и широким решетчатым окном с видом на море. Адмирал посоветовал Анне оставаться здесь во время перехода. — Моряки суеверны относительно женщин на борту, — сказал он ей, но она махнула рукой. — Я немного нервничаю в море, милорд. И предпочла бы находиться на палубе, чтобы наблюдать за происходящим. Адмирал замялся. — Хорошо, мадам. Но если возникнут сложности, капитан попросит, чтобы вы вернулись в каюту. Он проводил ее и Сюзанну обратно на палубу, где некоторые члены ее свиты ждали, пока их отведут в каюты. Остальные плыли на других судах, сопровождавших «Льва» в Англию, а таких было пятьдесят. Анна стояла с Сюзанной у левого фальшборта и смотрела, как поднимают якорь. В нескольких футах от нее находилась женщина, закутанная в зеленую накидку, с ней был один из солдат эскорта. Видя, что Анна смотрит на нее, женщина сделал реверанс. Анна улыбнулась ей и сказала: — Вы были с леди Лайл у Лантерн-гейт, когда меня встречали в Кале, верно? — Была, ваша милость, — ответила женщина; она была англичанкой лет около сорока, с темными волосами, узким лицом и заостренным подбородком. — Вы были в ее свите? — Нет, мадам. Мой муж — солдат в гарнизоне Кале, но теперь он получил должность при дворе в гвардии короля, поэтому мы возвращаемся в Англию. — И вы?.. — Мистресс Стаффорд, мадам. — Женщина снова сделала реверанс. Анна заметила, что Сюзанна, переводившая разговор, холодно смотрит на ее новую знакомую. — Вы долго пробыли в Кале? — Последние пять лет, и даже больше, мадам. Корабль отчаливал. Ветер надул паруса, и судно грациозно отошло от пристани. К ним присоединился адмирал. — Корабль двигается так мягко, — с надеждой произнесла Анна. — Обычно это так, пока он в гавани, мадам. Когда они вышли в море, плавание пошло уже не так гладко. «Лев» сразу начал раскачиваться на волнах. Анну затошнило, и она испугалась, не зная, как вынесет качку. — Сколько нам идти до Англии? — спросила она. — При таком хорошем ветре, как сейчас, мадам, к вечеру мы будем в Дувре. Адмирал вовсе не казался озабоченным, из чего Анна заключила, что корабль идет нормально, и попыталась подавить нараставшую внутри панику. От качки она шаталась, спотыкалась, и ей приходилось хвататься за фальшборт, чтобы удержаться на ногах. Ах, но принцессе Клеве не годится терять лицо. — Простите меня, мадам, но я лучше пойду в женскую каюту, — сказала мистресс Стаффорд и удалилась. — Скоро ваши ноги привыкнут, — улыбнулся адмирал. Анне верилось в это с трудом. — Думаю, я тоже лучше отправлюсь к себе, — сказала она и пошла в каюту вместе с Сюзанной. Не успела посеревшая лицом матушка Лёве закрыть за ними дверь, как Сюзанна сказала: — Вы знаете, кто эта женщина, мадам? — Нет, — ответила Анна. — А я должна? — Это Мэри Болейн, сестра почившей королевы. У нее дурная репутация. Она с позором покинула двор, после того как вышла замуж за солдата Стаффорда. Королева Анна не одобряла этот брак, потому что жених был намного ниже Мэри по статусу и без гроша. Она упросила короля прогнать их. Мэри никогда больше не видела королеву Анну. — Тяжело ей, наверное, жить с воспоминаниями о том, что сделали с ее сестрой. Почему у нее дурная репутация? Корабль снова накренился. Анна быстро села на кровать, а Сюзанна схватилась за дверную ручку, чтобы не упасть. — Мэри свободно дарила свою благосклонность, — фыркнула она. — Лучше, чтобы вашу милость не видели в обществе этой женщины. Матушка Лёве качала головой, неодобрительно поджав губы. — Надеюсь, этого не произойдет, — сказала Анна. — Она ведь не появится при дворе? — Нет, мадам. Для нее там нет места. Вот и хорошо. Анна выглянула в окно, французский берег удалялся. Далеко за ним оставался Клеве и все те, кого она любила, но впереди ее ждал король Генрих. Анна легла и стала молиться, чтобы море немного утихло. Как ужасно, когда вас швыряет из стороны в сторону без всякого ритма. Ей хотелось, чтобы время шло побыстрее, хотелось снова оказаться на твердой земле, а не быть отданной на милость безжалостной морской пучины. Адмирал сказал, что она привыкнет, но пока этого не произошло. Оставалось только лежать и молить Господа и Его Святую Матерь, чтобы они сохранили путешественников живыми и невредимыми. Было темно, когда на пороге каюты появился адмирал и сообщил, что ветер отнес их к северу от Дувра, но скоро они высадятся на берег недалеко от города Дил. Более приятных слов Анна в жизни не слышала. Она рассчитывала находиться на палубе, когда впервые увидит Англию, однако, посмотрев в окно, ничего не смогла разглядеть, кроме нескольких далеких огней во тьме. — Давайте-ка лучше подготовим вашу милость к прибытию, — сказала матушка Лёве и подозвала Гербергу с Анастасией. Обе они выглядели зелеными и едва держались на ногах от слабости. Герберга расчесала Анне волосы и заново заплела косы, надела на нее Stickelchen и прошлась щеткой по черному бархатному платью своей госпожи. Анастасия, пошатываясь, зачерпнула воды из бочки и плеснула ее в серебряный таз, чтобы Анна умыла лицо и руки. Матушка Лёве принесла украшения и подбитую соболиным мехом накидку. Снаружи доносились крики моряков. Качка постепенно утихла, что принесло долгожданное облегчение. В дверь постучал адмирал. — Мадам, мы достигли берегов Англии! — Он одобрительно взглянул на Анну. — Если мне будет позволено заметить, ваша милость, вы выглядите до кончиков ногтей королевой. Давайте поспешим, лодки уже готовы. Лодки? Неужели, только что пройдя одно испытание, ей придется столкнуться с новым? Похоже, что да. Капитан ждал ее, чтобы помочь сесть в гребную шлюпку, которую потом через борт судна на веревках опустят на воду. Анна поблагодарила его за благополучную доставку в Англию, потом собралась с духом и залезла в утлый челн. К счастью, недолгая поездка оказалась спокойнее, чем она предполагала. — Эти холмы называются Даунс, мадам, — объяснял по пути адмирал, — и они дают хорошее укрытие для якорной стоянки. А вон там, в море, расположены коварные Гудвиновы пески, где погибло много кораблей. Признаюсь, я немного волновался, когда нас отнесло ветром к северу, но капитану удалось привести нас сюда без происшествий. Анна перекрестилась. А что, если бы не удалось? Береговые огни стали заметно ближе. — Где мы? — Это Дил, мадам. — (Вдалеке церковный колокол пробил пять раз.) — Мы прибыли вовремя. — Адмирал улыбнулся. Матросы подгребли к берегу и помогли Анне сойти на сушу. Какое облегчение — снова стоять на твердой земле. Пока мужчины подавали сигналы, к ним на полном скаку приближался всадник, а за ним мчался галопом еще один с факелом в руке. Подъехав, он буквально соскочил с седла. — Это ее милость королева? — задыхаясь, спросил мужчина. — Да, сэр. — Анна напрактиковалась приветствовать людей по-английски. — Я очень рада наконец оказаться в Англии. Незнакомец припал на колено, поцеловал ей руку, после чего встал. — Сэр Томас Чейни, лорд-хранитель Пяти портов[97], к вашим услугам. Добро пожаловать, мадам, от имени короля! Милорд адмирал. — Он снова поклонился. — Мы подумали, что вы пристанете здесь, когда не увидели вас в Дувре. Следом за ним подъехала целая кавалькада всадников. Вскоре на берегу собралось множество людей, которые приехали встречать Анну. — Мадам, здесь холодно, — сказал сэр Томас. — Давайте не будем задерживаться. Пойдемте, я провожу вас в замок. Карету Анны сгрузили с корабля. Она забралась в нее вместе с Сюзанной и в сопровождении процессии проделала короткий путь вдоль берега к замку Дил. Сэр Томас извинился за то, что замок не подготовлен к ее приезду. — Это крепость, мадам, построенная его милостью для защиты королевства на случай вторжения французов. Но вы, по крайней мере, сможете освежиться здесь, прежде чем мы отправимся в Дувр. Когда Анна вошла в приземистый, похожий на цветок с шестью полукруглыми лепестками форт, ее поразила суровая простота внутреннего убранства. Но в помещениях было чисто, а на кухне шла готовка. Для угощения нежданной гостьи на стол выставили разные сласти и засахаренные фрукты, и Анна, не евшая ничего с завтрака, с аппетитом принялась за них, запивая лакомства пряным вином, которое англичане называли гиппокрас. Только она успела слегка перекусить, как доложили о прибытии герцога Саффолка. В комнату вошел дородный, роскошно одетый мужчина с белой бородой лопатой и крупным носом; он поклонился и поцеловал Анне руку. — Добро пожаловать в Англию, ваша милость, — сказал герцог, окидывая ее взглядом знатока. — Надеюсь, переход через Канал прошел удачно. Я прибыл с епископом Чичестера, рыцарями и леди, чтобы сопровождать вас в Дуврский замок. Анна улыбнулась. Снова надев накидку, она прошла следом за Саффолком через подъемный мост. Большинство членов ее свиты, включая доктора Олислегера, доктора Уоттона, матушку Лёве и Отто фон Вилиха, уже высадились на берег и ждали ее среди толпы английских придворных и солдат. Все смотрели на Анну. Она снова села в карету. Закончится ли когда-нибудь эта поездка? В темноте они проехали около девяти миль, и наконец Анна увидела выраставшую впереди могучую крепость на вершине высокой скалы у самого моря. — Впереди Дуврский замок! — крикнул кто-то. Процессия поднималась все выше и выше, наконец они проехали через несколько массивных ворот и оказались в центральном внутреннем дворе замка, ярко освещенном факелами. Здесь находилась Большая башня, где, по словам герцога, Анне предстояло остановиться. Перед башней собралась еще одна толпа людей. Саффолк представил Анне больше сорока лордов и джентльменов, свою молодую жену, миловидную рыжеволосую женщину с живыми глазами и вздернутым носиком, а также других богато одетых леди. Было уже одиннадцать часов, и Анна устала. Герцогиня Саффолк и английские дамы — женщины из свиты Анны шли следом — отвели гостью по винтовой лестнице в ее покои, которые были обставлены со всеми возможными роскошью и удобством, какие позволяло это древнее здание. Огромные сундуки Анны уже доставили, и ее горничные слетелись к ним, чтобы распаковать вещи. — Думаю, ее милость готова ложиться в постель, — твердо сказала матушка Лёве, и английские леди расступились, давая возможность камеристкам Анны раздеть ее. — Gute nacht![98] — многозначительно произнесла няня. Герцогиня Саффолк уловила намек и выгнала остальных дам из комнаты. Анна едва держалась на ногах, пока ее одевали в ночную сорочку. Она была донельзя счастлива, что наконец-то оказалась в постели. И хотя голова шла кругом от английских впечатлений, Анна мгновенно погрузилась в сон.
Глава 8
1539–1540 годыПроснулась Анна свежей и хорошо отдохнувшей. Согласившись на предложение леди Саффолк, она поднялась на крышу и ахнула: какой же потрясающий вид открывался оттуда! День был ясный, морозный, море блестело под низко стоящим солнцем. Анна даже разглядела вдали берег Франции, а вокруг нее расстилалась Англия — зеленая, холмистая, поросшая густыми лесами. Вернувшись в свои покои, Анна села завтракать. Тут явился доктор Олислегер. — Рад видеть вас в добром здравии на английской земле, — сказал он с отеческой улыбкой. — Герцог Саффолк, доктор Уоттон и я считаем, что вам и вашей свите необходимо отдохнуть в Дувре весь воскресный день и понедельник. Анна была рада перерыву в путешествии. Но тем не менее ей не терпелось продолжить путь. Поэтому на следующее утро она вызвала герцога Саффолка и спросила, могут ли они двинуться дальше? — Мадам, вы смотрели в окно? День ненастный и ветреный. — Милорд, мне очень хочется поскорее увидеться с королем. Саффолк грубовато улыбнулся ей: — Ну тогда, мадам, я с радостью возьмусь сопровождать вас. Багаж погрузили, снова образовалась длинная процессия, которая, извиваясь змеей, потянулась вниз по дороге с холма и дальше на запад через Кент. Погода была действительно ужасная. Ветер дул нещадно и то и дело распахивал шторы на окнах. Всю дорогу Анне летели в лицо ледяная крупа и мокрый снег. Герцог и лорд-хранитель ехали верхом по бокам от нее, щеки и носы у них покраснели от холода. В десяти милях от Кентербери, на известковом холме у местечка Бархэм, их ждал архиепископ; его одеяние хлопало полами на ветру. При нем находились три других епископа и большое количество хорошо одетых джентльменов из Кента, которые проводили Анну в город. Архиепископ Кранмер оказался очень серьезным и ученым человеком со смуглым печальным лицом. Он вел себя довольно сдержанно, но, несмотря на это, Анна не могла отказать ему в вежливости. А когда прекрасный город Кентербери появился вдали и она, высунувшись из окна, чтобы полюбоваться на него, восхищенно ахнула, пораженная видом высоких шпилей собора, архиепископ, казалось, был этим очень доволен. Когда они въезжали в городские ворота, уже наступали сумерки; на улицах зажгли факелы. Мэр и знатные горожане приветствовали Анну, раздался громкий треск пушечных выстрелов. — Ваша доброта очень радует меня, — сказала она мэру по-английски и была тронута, когда Кранмер вышел вперед и преподнес ей чашу, полную золотых суверенов. Люди собирались толпами, невзирая на непогоду, чтобы поглазеть, как Анна едет по городу, и она держала на лице улыбку, хотя вокруг свистел ветер и хлестал ледяной дождь. Сразу за городской стеной Кентербери архиепископ провел Анну через гейтхаус древнего монастыря Святого Августина, где она должна была переночевать. Разумеется, теперь это уже не был монастырь. Вильгельм говорил ей, что король Генрих закрыл большинство английских святых обителей и забрал себе их сокровища. Но очевидно, эту сохранил для себя, превратив во дворец. — Это самое удобное место для ночлега, — объяснил архиепископ, — так как находится прямо на дороге между Лондоном и Дувром. Дом заметно улучшили к приезду вашей милости. Работы только что закончены. Крыло, предназначенное для новой королевы, располагалось под прямым углом к королевскому, было выстроено из кирпича и дерева и покрыто черепичной крышей. На пересечении крыльев, как объяснил Кранмер, когда-то находилась часовня настоятеля, а теперь — Королевская часовня. — Это было одно из первых аббатств в Англии, — сказал Кранмер. — Его основал в шестом веке сам святой. Анне подумалось, пережила ли религиозные реформы короля гробница Святого Августина? Но спрашивать не стала. В большом покое, комнате просторной и великолепной, ее встретили сорок или пятьдесят фрейлин. Анна тепло поздоровалась с ними, теперь уже достаточно уверенная в себе, чтобы сделать это по-английски. — Я так рада видеть подданных его величества, которые пришли встречать меня с такой любовью, что сразу забыла о дурной погоде. Анна в изумлении осмотрела свои новые апартаменты. Камины имели каменные полки, стены были оштукатурены и побелены, а стрельчатые окна, разделенные узкими колоннами, остеклены витражами с изображениями ее геральдических знаков рядом со знаками короля. На стенах приемного зала и зала дежурной стражи нарисовали ее фамильные гербы. В комнатах пахло углем, который жгли в каминах, чтобы просушить штукатурку и краску. Вечером архиепископ устроил пир в приемном зале короля, и когда вечер был в разгаре и кубки заново наполнили вином, хозяин торжества вдруг проявил неожиданное остроумие. Анна приятно проводила время и начала расслабляться. — Все поют хвалы вашей милости, — сказал ей Кранмер. — Признаюсь, меня немного тревожило намерение короля жениться на леди, которая не говорит по-английски, но, увидев вашу милость воочию и услышав, как далеко вы продвинулись в овладении нашим языком, я перестал сомневаться. Вы вели себя безупречно. — Благодарю вас, милорд. Кранмер льстил ей, она это знала, потому что ее английский оставлял желать много лучшего, но все же почувствовала себя счастливой, как и полагалось невесте. Осталось совсем немного, и она встретится лицом к лицу со своим супругом королем!
На следующий день Анна покинула Кентербери и поехала в маленькую деревушку Ситтингборн. — Там мы не задержимся надолго, — сказал ей герцог Саффолк, когда они ехали по улице, застроенной милыми коттеджами. —Поблизости нет ни одного королевского дома, поэтому вашей милости придется устроиться в гостинице. Она превосходная, и многие короли и королевы в прошлом останавливались там по пути в Дувр или обратно. Анне «Красный лев» очень приглянулся: низкий потолок с толстыми балками, выложенный кирпичом пол и добродушный хозяин, который всячески старался угодить важной гостье. Он подал ей отличный ужин, состоявший из сочного ростбифа и яблочного пирога, запитого двумя кружками местного эля, который Анна захотела попробовать, и он пришелся ей по вкусу. Бог знает, где заночевала ее свита и английский контингент. Наверное, их расквартировали по домам на много миль вокруг! После ужина Анна пригласила доктора Уоттона присоединиться к ней в гостиной и предложила ему эля, который тот с благодарностью принял, сказав: — Вашей милости приятно будет узнать, что король официально встретится с вами через четыре дня в Блэкхите. Сердце Анны заколотилось от радостного предвкушения. Скоро она увидит его, этого прекрасного мужчину с портрета. Она будет считать часы до этого момента… Вечером, оставшись в уютной спальне под крышей дома, где стояла резная деревянная кровать с балдахином, Анна изучала свое отражение в зеркале. Понравится ли королю то, что он увидит? Предпочитает он более миниатюрных женщин или ему нравятся пышнотелые? Она едва ли была такой — за последние недели потеряла много веса и боялась, что теперь стала скорее худой, чем стройной. Дорожные неудобства и плохая погода тоже не помогли делу. Нос, казалось, стал длиннее, подбородок заострился. О, к черту все это! Она была почти замужем, и теперь уже ничего не изменить. Король видел ее портрет и был очарован.
В канун Нового года Анна отправилась из Ситтингборна в Рочестер. В двух милях от города, на Рейнхэмском холме, ее встретил герцог Норфолк, солдафон с лицом непробиваемым, как стена, и резкими манерами. За его спиной низко кланялись, стоя под ледяным дождем, два других лорда, несколько рядов всадников и большая группа джентльменов в промокших бархатных костюмах. — Ваша милость, король поручил мне приветствовать вас и проводить в ваш дом, — пролаял герцог. — Вы проведете там две ночи, это даст вашей милости возможность отдохнуть, а в день Нового года для вас будет устроен праздник и вечером пир. — Голос его звучал недовольно. Проезжая через толпу рочестерских горожан, жавшихся друг к другу из-за непогоды, Анна раздвинула шторы на окнах и махала людям рукой, не страшась ледяного ветра. Наконец ей помогли выйти из кареты около собора монастыря, который каким-то чудом не был закрыт королем, и проводили во дворец епископа. В нем никто не жил, — объяснил Кранмер. Последний приходской священник, обитавший здесь, увы, совершил измену и был по справедливости наказан. В главном зале Анну ждала с приветствиями какая-то дама. Это была леди Браун. Поднимаясь из реверанса, она посмотрела на Анну тяжелым взглядом, в котором, казалось, сквозила неприязнь. Анна удивилась, — может, она допустила какую-то оплошность в одежде или в правилах вежливости, — но леди Браун вела себя если и холодно, то вполне корректно, и сообщила, что ее назначили помогать в надзоре за новыми фрейлинами, которые присоединятся к ним в Дартфорде, где будет совершена последняя остановка перед Гринвичем. Анне показалось странным, что эта женщина проявляла такую недоброжелательность к своей королеве. «Вероятно, — милостиво подумала она, — леди Браун сама этого не замечает. Ну ничего, матушка Лёве с ней разберется». Та тоже будет отвечать за фрейлин, и Анна не сомневалась, кто в скором времени получит первенство. Епископский дворец оказался красивым старым домом, хорошо меблированным, хотя и выглядел заброшенным, словно его сохранили в прежнем виде в память о несчастном последнем обитателе. Как бы то ни было, а в спальне стояла роскошная кровать с красивыми занавесками, которая затмевала все остальное. — Это одна из лучших кроватей его величества, — сообщила леди Браун. — Он приказал, чтобы ее привезли сюда для вас. — Как он добр, — сказала Анна, снова тронутая заботливостью короля. Часть спальни, очевидно, служила кабинетом, здесь стояли стол и книжные стеллажи, сейчас совершенно пустые. Покойный епископ, вероятно, был человеком большой учености, потому что в доме имелось еще два отдельных кабинета и две галереи, уставленные шкафами, полными книг; к некоторым были приделаны цепочки, как в публичной библиотеке. Комнаты Анны тянулись вдоль трехстороннего двора, позади которого находился сад. В свое время этот дворец, вероятно, был прекрасен, но время это, судя по всему, давно прошло. — Здесь холодно, — сказала Анна, дрожа в своей накидке. В очаге весело потрескивал огонь, окна были завешены плотными шторами. Тем не менее ночью постельное белье казалось ей сырым. Сюзанна, лежавшая на соломенном тюфяке в ногах постели Анны, почувствовала то же самое. — Это особенность места, мадам, — тихо проговорила она в темноте. — Море близко, и берег болотистый. Анна свернулась в клубок под одеялом и спросила: — Что случилось с епископом Рочестера? Сюзанна заколебалась. — С Фишером? Ему отрубили голову, мадам, за отказ признать короля главой Церкви и одобрить брак его милости с королевой Анной. Епископа казнили примерно в то же время, что и сэра Томаса Мора, пять лет назад. Анна много слышала о Море от отца и Вильгельма, потому что тот был большим другом Эразма и уважаемым во всем мире ученым. Она, как и вся Европа, была потрясена известием о его ужасной кончине. — Они не хотели признавать Анну Болейн королевой, — пробормотала Анна, — и тем не менее не прошло и года, как король и ей тоже отрубил голову. Как поворачивается колесо Судьбы. Господи, не допусти, чтобы оно и для меня повернулось в ту же сторону! Она вздохнула: — Это не похоже на канун Нового года. В Клеве сейчас пируют и слушают музыку. Тихий ужин с двумя герцогами и Кранмером прошел немного напряженно. Трое мужчин: один спокойный и ученый, другой грубый и туповатый, третий высокомерный и неприветливый — не составляли душевной компании. — Здесь мы тоже так делаем, мадам, — отвечала Сюзанна. — Но так как вы прибыли поздно и погода ужасная, это нелегко было организовать. Праздник будет завтра. — Трудно поверить, что наступит тысяча пятьсот сороковой год, — сказала Анна. — Будем надеяться, он принесет нам счастье.
К вечеру в день Нового года дождь вдруг прекратился, и под окном Анны устроили травлю быка. Она смотрела сквозь зеленоватое стекло, за спиной у нее толкались камеристки. Центральная часть двора была обведена веревками, многие люди из свиты Анны стояли за кордоном или у других окон, предвкушая грядущую битву. Анна заметила, что зрители передают друг другу деньги. Наверное, они делали ставки на победителя. Украшенного разноцветными лентами быка провели по арене и прицепили цепью с железным кольцом к крепкому шесту в центре площадки. — У собаки цель — вцепиться быку в нос и не отпускать, — объяснила Сюзанна. — Нос — самая уязвимая часть тела у быка. Бык, конечно, будет пытаться сбросить с себя собаку. Многие псы погибают. — Это популярная забава в Англии? — спросила Анна, которой было жаль и быка, и собаку, огромного мастифа, которого привели во двор под громкие крики. Пес выглядел разъяренным, из пасти у него текла слюна. — Да, мадам. Тут как раз паж объявил о приходе сэра Энтони Брауна, супруга леди Браун. Высокий мужчина с ястребиным носом и тяжелыми веками вошел в комнату и поклонился. Казалось, он на мгновение растерялся, когда поднялся из поклона и посмотрел на Анну. «Что со мной не так?» — в смятении подумала она. Тем не менее сэр Энтони повел себя учтиво, в отличие от своей жены. — Ваша милость, скоро прибудет джентльмен из Тайного совета его величества с новогодним подарком от короля. — Это большая милость со стороны его величества, — сказала Анна и улыбнулась. Сэр Энтони ушел, и она вернулась к окну. Собака кружила вокруг привязанного к шесту быка, готовясь к прыжку. Когда скачок был совершен, раздался коллективный вздох стоявших у окон зрителей. Однако бык боднул пса и отшвырнул его в сторону. Пес поднялся, окровавленный, но не напуганный, и снова стал готовиться к броску. — Мадам, — шепнула на ухо Анне Сюзанна, — тут несколько джентльменов, которые хотят повидаться с вами. Анна неохотно оторвала взгляд от забавы, повернулась и увидела восьмерых кланявшихся ей мужчин в одинаковых глянцевитых крапчатых куртках с капюшонами. Что это за шутка? И почему она ощутила, что эти люди взволнованы? Отчего у Сюзанны такой ошарашенный вид? Один из джентльменов, высокий полный мужчина с редеющими рыжими волосами, красными щеками, римским носом и чопорным тонкогубым ртом, напряженно всматривался в нее. Вдруг он без предупреждения шагнул вперед и, к ужасу Анны, обнял ее и поцеловал. Она разозлилась. Как смеет этот наглец так фамильярничать с ней?! Король узнает об этом! Отшатнувшись от кислого, тошнотворного запаха пота и еще чего похуже, Анна изумилась, обнаружив, что остальные джентльмены не находят в поведении своего сотоварища ничего предосудительного и широко улыбаются. Она сердито взглянула на своего обидчика, но тот отвернулся и как раз забирал у одного из своих приятелей небольшой ларец из слоновой кости. — Новогодний подарок от короля, мадам, — сказал нахальный незнакомец, широким жестом вручая Анне гостинец. Голос у него был до странности высокий для такого крупного мужчины. Она открыла сундучок. Внутри лежала золотая подвеска, украшенная двумя рубинами, сапфиром и жемчужиной. Такой вещью, наверное, можно было заплатить выкуп за короля. Анна закрыла ларчик и прижала драгоценность к груди. — Прошу вас, поблагодарите его величество, сэр, — запинаясь, проговорила она по-английски. — Скажите, что я всегда буду дорожить этой вещью. — Я передам ему, — ответил толстяк. Последовала пауза, в продолжение которой он буквально сверлил Анну взглядом. — Вы приехали из Гринвича, господа? — спросила она, пытаясь завязать разговор с другими джентльменами. — Да, мадам, — ответил за всех толстяк, а Анна старалась не дышать, чтобы не чувствовать исходившей от него вони. — Мы прекрасно прокатились на лодке, всего четыре часа, а потом час скакали из Грейвзенда. — Хорошо, господа, я желаю вам благополучного возвращения, — сказала Анна, надеясь, что они посчитают свою миссию выполненной, а себя отпущенными. Однако мужчины не сдвинулись с места, стояли и смотрели на нее, поэтому Анна отвернулась к окну, чтобы сделать свое послание более доходчивым. Затоптанный пес лежал на боку на булыжной мостовой, бык ревел от ярости, из носа у него текла кровь. Анна услышала, как за ее спиной затворилась дверь. — О, что за… — начала было говорить она, но Сюзанна остановила ее взглядом. Повернувшись, Анна увидела, что семеро джентльменов стоят там, где стояли, ушел только их толстый предводитель. Ну и дела! Гнев все еще кипел в ней. — Вам нужно от меня что-нибудь еще, господа? — Ваша милость может спросить, нет ли чего-нибудь, что мы можем сделать для вас, — ответил молодой человек, стоявший дальше всех от нее. Она уже видела его в Кале и сразу невзлюбила. Теперь Анна вспомнила: это был мистер Калпепер, один из фаворитов короля. Не успела она ответить, как дверь снова отворилась и, к изумлению Анны, из-за нее показался тот же толстый мужчина, теперь уже одетый в куртку из пурпурного бархата. Когда лорды и рыцари встали на колени, оказывая ему почтение, Анна поняла, ужасаясь и недоумевая, что этим чудовищем был сам король. Потрясенная, она упала на колени, чувствуя, как щеки ее заливает краской смущения и стыда. Это не мужчина с увиденного в Кале портрета! Нет! Тот был в расцвете сил, привлекательный и с правильными чертами лица. Он почти не походил на человека, стоявшего перед ней сейчас. Почему никто не позаботился о том, чтобы подготовить ее к реальности? Ведь король выглядел гораздо старше пятидесяти лет; лицо у него было суровое, со следами гневливости и нездоровья. И он был огромный! Куртка с массивными накладками на плечах и пышными рукавами длиной до сапог, отчего казалось, что в ширину он такой же, как в высоту; под белыми рейтузами, обтягивавшими его мощные, как стволы деревьев, ноги, проступали ниже баз какие-то обмотки. Бинты? Из-за этого от него так пахло? И ей предстояло стать женой этого человека, разделять с ним ложе и терпеть его запах! От такой перспективы у Анны закружилась голова. Она вся дрожала, когда король поднял ее с колен, и они встретились взглядами. У него были стальные голубые глаза под сходившимися у переносицы бровями, отчего казалось, что он постоянно хмурится. Король галантно поклонился. Обмирая от ужаса (как же она не догадалась, кто он, да еще так пренебрежительно отнеслась к нему!), Анна постаралась придать лицу любящее выражение, опасаясь, что оно больше походит на гримасу. Склонив голову, она снова опустилась на колени, но король мягко поднял ее, снова обнял и поцеловал. Анна старалась не дрогнуть. — Надеюсь, ваша дорога сюда не была слишком тяжелой, мадам, и все было сделано для вашего удобства? Анна беспомощно посмотрела на Сюзанну, которая быстро вышла вперед и перевела слова короля. Хорошо, что у нее была хотя бы такая поддержка. — Поездка была долгая, сир, — Анна запнулась, — но я благодарю ваше величество за заботу о моем комфорте. Сир, простите, что я так грубо приняла вас, но я не узнала вашу милость. Король хохотнул: — Я всегда любил переодевания, мадам, и риск их последствий! — Пока Сюзанна переводила, он протянул Анне унизанную кольцами руку. — Доставьте мне удовольствие, пойдемте ужинать. Анна вложила ладонь в его руку, сигнализируя Сюзанне, чтобы та шла следом как переводчик и компаньонка, и король повел их в гостиную, где у камина был накрыт стол для двоих. Сюзанна скромно заняла указанное ей место на стуле рядом с очагом. — Вы ожидали пира, Анне. Могу я называть вас Анне? — спросил король. — Анна, ваша милость, — поправила она его. — Ах! — На мгновение он задумался. — Мне это нравится. Анна с тревогой подумала: уж не вспоминает ли король о ее тезке, которую предпочел бы забыть навсегда? — Вместо пира я решил, что мы могли бы познакомиться поближе наедине, — продолжил он. Она так разволновалась, не зная, были ли они на равных, чтобы знакомиться ближе прямо сейчас, и каких последствий этого знакомства ей ожидать, что совершенно смутилась, однако заставила себя принять кубок рейнского. Вскоре по ее жилам разлилось благотворное тепло, и Анна немного расслабилась. Ужас никуда не делся, но слегка отдалился. Стол был уставлен яствами. Жареный лебедь в собственном оперении, огромный рождественский пирог с начинкой из мяса и приправленных специями сушеных фруктов, студень из свинины, белое мясо под названием индейка, оказавшееся очень вкусным, и великолепный паштет из оленины. Неудивительно, что король растолстел! И все же, хотя пища была вкусная, Анна ела совсем мало. Ей был отвратителен шедший от короля запах, и она слишком нервничала, так что есть совсем не хотелось. Манеры короля за столом были изысканными, а беседа, несмотря ни на что, оказалась занимательной. Он говорил о приятных вещах, рассказывал, как празднуют Рождество при его дворе, и о великолепном приеме, который планируется провести через два дня рядом с Гринвичем. Генрих сказал, что их бракосочетание состоится в воскресенье, на следующий день после приема. «Всего три дня», — подумала Анна, впадая в панику. — Я должен извиниться, Анна, за то, что устроил вам сегодня такой сюрприз, — сказал король. — Я хотел увидеться с вами приватно, прежде чем официально приму вас. Мой предок, король Генрих Шестой, сделал то же самое, когда приехала его невеста, это было сто лет назад. Анна немного успокоилась, увидев романтическую сторону в своем женихе. Ей нравилось его уважение к истории и традициям. Это давало почву для общения. — Мне было бы интересно узнать о ваших предках, сир. Король заулыбался и начал рассказывать о соперничавших королевских домах Ланкастеров и Йорков, отпрыском которых был он сам, о красной и белой розах, их эмблемах, которые соединились в розе Тюдоров — родовом знаке его семьи. Этот символ она уже видела повсюду на королевских домах и ливреях. Напрасно пыталась Анна по ходу беседы понять короля и угадать, какого он мнения о ней. Англичане, которых она слышала раньше, были людьми сдержанными, к тому же рядом сидела Сюзанна, а разговор через переводчика всегда несколько неестественен. Но Генрих определенно не вел себя как мужчина, очарованный своей невестой. Анна подумала, что тридцать долгих лет у власти сделали его черствым, не станет он нацеплять на рукав повязку с изображением сердца и самые глубокие мысли и чувства привык никому не раскрывать. Может, он так же разочарован в ней, как она в нем, но заставляет себя быть приятным компаньоном. Она была вынуждена признать, что король проявил себя безупречно учтивым и заботливым. И все-таки было в нем что-то от зверя, выжидающего момента для броска. Несмотря на всю свою любезность, он пугал ее; Анна не могла представить интимной близости с ним. Ей приходилось сдерживать дрожь отвращения при мысли об этом. В конце вечера король поцеловал Анне руку и пожелал доброй ночи. — Я пообедаю с вами завтра. Мне нужно ждать благоприятного прилива, чтобы вернуться в Гринвич, а он не наступит до вечера. Когда король уходил, Анна сделала низкий реверанс, и как только шаги его затихли вдали, бросила отчаянный взгляд на Сюзанну и кинулась в ее объятия, воскликнув: — О Господи! Господи, помоги мне!
Утром пришел сэр Энтони Браун с новыми подарками от короля. — Это для вас, ваша милость, с комплиментами от его величества. Анна удивилась, почему Генрих не принес подарки сам, но отвлеклась на роскошные меха, которые были размашисто выложены перед ней, чтобы вызвать восторг: партлет[99] с собольей опушкой, соболиные шкурки, чтобы заворачивать их вокруг шеи, муфта и меховая шапка. Король не мог бы выбрать ничего более подходящего и желанного такой холодной зимой. Анна надела партлет к обеду и от всего сердца поблагодарила Генриха. Сегодня он был не так общителен, и ей вновь показалось, будто его тяготят какие-то мысли или что-то рассердило, поэтому трапеза прошла в неловком молчании. Наконец королю принесли накидку. Генрих проводил Анну вниз, к дверям, поцеловал ей руку и попрощался. Она стояла на крыльце со своими дамами, махала ему вслед и чувствовала облегчение, видя, что ее жених уезжает. Если бы только, если бы только она могла собрать вещи и вернуться в Клеве ко всем, кто ей дорог! Если бы король был таким, как на портрете! Глаза Анны затуманились слезами, и она шатаясь пошла в дом, не слыша, что ее окликает Сюзанна. Ей хотелось поскорее отыскать матушку Лёве и выплакать свою печаль на ее мягкой груди.
Матушка Лёве была с ней строга. «Долг всегда нужно ставить выше личных чувств», — заявила она, заново укладывая в сундук личные вещи Анны. Вечером им предстояло отправиться в Дартфорд. — Ваша почтенная мать сказала бы то же самое, Анна. Как жена, вы обязаны изучить своего супруга и понять, как сделать его счастливым. — Ничего иного я сделать не посмею, — печально проговорила Анна, глядя в огонь. — Он пугает меня. Я все время думаю про то, что слышала о нем и во что мне так не хотелось верить. Но теперь я боюсь, это была правда. Легко представить его себе грубым и безжалостным. Каким он будет и со мной, если я не осчастливлю его. — Тогда вам нужно быть осторожной и слушаться его во всем. Господь послал вас друг другу, и вы должны использовать это к своей пользе. — Матушка Лёве чопорно поджала губы, но глаза ее были полны сочувствия. — Больше никаких разговоров о бегстве в Клеве. — О, я не посмею. — Анна через силу улыбнулась. — Гнев моего брата будет ужаснее, чем гнев короля. Я думаю, он убьет меня. И король тоже может меня убить, если узнает, что я родила незаконного ребенка. Ледяные пальцы страха пересчитали ей позвонки. В дверь постучали. — Можно войти, мадам? — спросила Сюзанна. — Да, конечно, — отозвалась Анна, но при виде своей милой подруги, которая несла целую охапку вещей и смотрела на нее с заботой и сочувствием, ощутила, как на глаза снова наворачиваются слезы. — Мы говорим о короле. Она знала, что не следует обсуждать его с людьми низшего ранга, но доверяла и Сюзанне, и матушке Лёве. Они понимали, как она несчастна. — Что вы думаете по поводу этой шарады? — спросила она Сюзанну, помогая ей складывать платья. Та помолчала. — Я думаю, он сыграл с вами злую шутку. — Он извинился. По-моему, у него есть некое романтическое представление о себе как о странствующем рыцаре, который приехал, чтобы удивить свою принцессу. — Немного же в этом было романтичного! — фыркнула матушка Лёве. — Анна была очень расстроена. — Я знаю, — кивнула Сюзанна. — За обедом он вел себя отстраненно, и временами мне казалось, он на что-то сердится. Может, какая-то заминка с подготовкой к свадьбе или его расстроили государственные дела. — Или причина во мне. — Анна вздохнула. — Он приехал специально для того, чтобы повидаться со мной, и не подал ни единого знака, что я ему понравилась, и вел себя вовсе не как нетерпеливый жених. — Ну, если наш жених не испытывает нетерпения, значит он дурак, — пропыхтела старая няня. — Он был очень любезен с вами, — сказала Сюзанна. — Я надеялась на нечто большее, чем любезность, — фыркнула Анна, скручивая между пальцами пояс. — Дитя, короли женятся ради блага государства, — возразила матушка Лёве, запирая сундук. — Любовь приходит позже. Его любезность — хорошее начало. Сюзанна, брак которой был основан на любви и которая была безусловно счастлива в нем, бросила на Анну сочувственный взгляд. — Но должна же быть какая-то симпатия, а я вообще не уверена, что нравлюсь королю. Знаю, я не красавица, но, при всей скромности, скажу, что считаю себя миловидной. — Вы очень милая, — подтвердила Сюзанна. — А красота зависит от личного восприятия. — Да, но у меня такой длинный нос и подбородок слишком острый! — А король — идеал мужской красоты? — с вызовом спросила Сюзанна. Анна вздохнула: — Конечно нет. Хотя, смею заметить, говорить такое — это измена. Но главное, разумеется, в том, нравлюсь ли я ему. Помните, я говорила, что король очень настаивал на том, чтобы получить мой портрет? Если бы он ему не понравился, сомневаюсь, что я оказалась бы здесь. Меня беспокоит, что мейстер Гольбейн написал меня в фас, в самом выгодном ракурсе. На портрете не видно моих недостатков, и король, может быть, злится, потому как думает, что его обманули. Он, без сомнения, разозлится еще сильнее, если узнает о прочих ее «недостатках»: о недостатке девственности, например. — Анна, портрет был очень на вас похож, и нет никаких доказательств, что король недоволен вами, — заявила матушка Лёве. — У него, вероятно, много забот, которые тяготят его. Он был очень учтив и щедр. Взгляните на украшение, которое он вам подарил, и на эти восхитительные меха! В прошлом он не колеблясь избавлялся от своих жен. Будьте уверены, если бы вы ему не понравились, он без колебаний отправил бы вас назад в Клеве! Анна не была в этом так уверена. — Тогда он рискует нажить себе врага в лице моего брата и других немецких принцев и остаться один на один с враждебными Францией и Империей. Нет, он, должно быть, злится оттого, что не может отправить меня домой. А я хотела бы, чтобы отправил! — Чепуха! Вы придумываете какие-то невозможные вещи, и на каком основании? Чувство, впечатление! Вы говорите, король проявил к вам любезность, и только, но он поцеловал и обнял вас. Его поведение было совершенно подобающим случаю. Анна хотела бы иметь такую же уверенность, как матушка Лёве. — Вот подождите, пока выйдете замуж, — рассуждала няня, — тогда он покажет вам настоящую привязанность мужа к жене. «Не дай Бог!» — подумала Анна. Явились непрошеные видения того, как она ложится в постель с королем, а ведь это станет реальностью всего через три дня. Анна не представляла, как вынесет это. Перед глазами стояла только одна картина: как она сжимается от страха на супружеском ложе в брачную ночь…
Недалеко от города Дартфорда Анну ждали придворные, назначенные королем служить ей. Она стояла под ударами ледяного ветра, а Норфолк представлял ей графа Ратленда, кузена короля и ее нового камергера; сэра Томаса Денни, ее канцлера; сэра Джона Дадли, главного конюшего, и всех прочих, кто займет должности в совете, который станет управлять всеми ее делами. Потом архиепископ Кранмер и герцог Саффолк познакомили ее с тридцатью английскими леди и фрейлинами, которые приветствовали свою новую госпожу с должным почтением. К моменту, когда представление новых слуг завершилось, Анна уже промерзла до костей. — Эти леди отныне будут постоянно служить вашей милости, — сообщил ей Норфолк, когда они проходили через гейтхаус к ее покоям, где, слава Тебе, Господи, наконец-то будет тепло. — Какое-то время они будут выполнять свои обязанности вместе с вашими немецкими помощницами. Какое-то время. Анна расстроилась, услышав это; про себя она молилась, чтобы ее соотечественницам позволили остаться. Сюзанна, конечно, никуда не денется, но Анне ненавистна была мысль о расставании с теми, кто верно служил ей и столько времени составлял компанию. Но страшнее всего было потерять матушку Лёве. Она будет молить за нее короля на коленях, если понадобится. Ее забросили в страну, полную чужих людей; она разлучилась с матерью, сестрой и братом, и матушка Лёве была для нее якорем. Страх предстоящего брака терзал бедную невесту днем и ночью, и она нуждалась в своей старой няне, как никогда прежде. Анна заставила себя слушать Норфолка, который объяснял, что дом, где она находится, — это покинутое аббатство, закрытое королем в прошлом году. — Король собирается снести его, — продолжил Норфолк в своей обычной бесцеремонной манере. — Он намерен построить здесь прекрасный дворец. Анна огляделась: вокруг изукрашенные узорами монастырские здания, позади них — большая церковь. В свое время это была прекрасная женская обитель. Анна ощутила укол жалости к сестрам, которых выставили на улицу, бросили в мир, где они должны сами защищать себя. Им-то уж точно некуда податься. За последние четыре года в Англии закрылись почти все монастыри.
В тот вечер Анна вошла в комнату во внутренних покоях короля и обнаружила там ожидавших ее новых придворных дам. Неприятно было сознавать, что теперь ей придется проводить дни с этими незнакомками, ведь королеву редко оставляют без внимания. Она должна расположить их к себе, если хочет существовать в гармонии и иметь моральную поддержку. Анна попросила женщин подняться из реверансов и сесть. С помощью Сюзанны, которая переводила беседу, ей удалось поговорить с каждой. Главной была племянница короля леди Маргарет Дуглас, рыжеволосая красавица, которая сразу понравилась Анне тем, что тепло приветствовала ее. Следующей по рангу шла дочь Норфолка, миледи герцогиня Ричмонд, вдова внебрачного сына короля; она была весьма миловидна, но вела себя менее дружелюбно, подтвердив подозрения Анны, что семья Говард недолюбливает ее. Да и с чего бы им ее любить, — рассудила она, — ведь они главный католический клан в стране, тогда как сама Анна воплощала собой союз короля с протестантскими принцами Германии. Герцогиню Саффолк она уже знала, поскольку та путешествовала с ней из Дувра. Кэтрин Уиллоуби оказалась живой, своевольной молодой женщиной решительно реформистских взглядов, ее все любили. По контрасту с ней графиня Ратленд, свойственница короля, показалась Анне немного заносчивой; не отнеслась она с теплом и к сердцеликой леди Рочфорд, так же как к леди Эдгкумбе, от обеих веяло самодовольством, и Анна не раз замечала, как они перешептываются и с многозначительным видом кивают в ее сторону. Из камеристок ей пришлись по душе Маргарет Уайетт, леди Ли, брат которой был поэтом, и Анна Парр, миссис Герберт, весьма образованная дама, настоящий ученый-гуманист. Заинтриговала Анну Элизабет Сеймур, сестра покойной королевы Джейн и жена сына лорда Кромвеля, миловидное создание с изящными манерами и очень приятная собеседница. Если Джейн была такой же, как сестра, легко понять, почему король глубоко скорбел по ней. Анна Бассет, дочь леди Лайл, пышногрудая блондинка, оказалась весьма самовлюбленной, как и опасалась Анна. Своим хорошеньким личиком она будет всегда и везде привлекать внимание. Анна решила не просить у короля место для ее сестры; одной представительницы этого семейства при дворе вполне достаточно! У миниатюрной племянницы Норфолка Кэтрин Говард, одной из фрейлин, на щеках появлялись милые ямочки, когда к ней обращались, и она смотрела на Анну во все глаза. Эта девушка имела развязные манеры и всегда готова была рассмеяться. Хотя Кэтрин сообщила Анне, что ей девятнадцать, она больше походила на девочку: руки и ступни у нее были маленькие, и она искренне радовалась своему новому посту. Анна сразу почувствовала себя ее покровительницей. Остальные девушки являли собой веселую компанию. Пятнадцатилетняя Кейт Кэри была так похожа на короля, что Анна заподозрила, уж не приходится ли эта девочка побочной дочерью Генриху. Она не удивилась, когда Сюзанна шепнула ей на ухо, что Кейт — дочь Мэри Стаффорд. Ее не взволновало это свидетельство неверности короля; дело прошлое. Анна не думала, что ей придется столкнуться с любовными похождениями супруга, учитывая его больные ноги и ожирение. — Известно ли вашей милости, что тетушка короля, леди Бриджит, была здесь монахиней? — спросила леди Ратленд. — Она давно умерла, до закрытия обители. Анна пожалела, что Генрих не избавил Дартфорд от участи других монастырей, хотя бы в память о своей тетке. — Здешние монахини славились благочестием и ученостью, — сказала леди Рочфорд. — Обитель пользовалась королевским покровительством. — Да, — подхватила миссис Герберт, — но его величество правильно поступил, что распустил ее. Это был один из богатейших монастырей в стране и, без сомнения, школа папизма. Почувствовав, что между дамами существует напряженность по религиозным вопросам, Анна предложила им познакомиться с ее немецкими фрейлинами, которые сидели, не участвуя в беседе, с одной стороны зала. Но у них было мало общего: в отличие от английских леди, немецкие не играли в карты, не пели, не танцевали и не музицировали, да к тому же не говорили по-английски. Анна боялась, что они окажутся в изоляции, ведь их так мало. Именно это уже и происходило. В девять часов, понимая, что завтра ей рано вставать для официального приема в Гринвиче, Анна печально удалилась в бывший дом приорессы. Здесь, как и в Кентербери, была установлена еще одна роскошная королевская кровать. Засыпая, Анна напоминала себе, какую заботу о ней проявлял Генрих, что должно было демонстрировать некоторую его симпатию к невесте…
Глава 9
1540 годКогда в полдень на следующий день Анна, сидя в золоченой карете с матушкой Лёве и Сюзанной, спускалась с Шутерс-Хилл[100], она увидела внизу, на зеленом лугу Блэкхита, огромное сборище людей. Позади шли двенадцать немецких фрейлин, все в похожих на ее наряд платьях, с тяжелыми золотыми цепями на шеях, и остальная ее клевская свита. За ними торжественно выступали герцоги Норфолк и Саффолк, архиепископ Кентерберийский и другие епископы, а также лорды и леди, которые присоединились к Анне в момент ее проезда через Кент. Сюзанна показала Анне мэра, членов Лондонской корпорации в красных мантиях и немецких торговцев со Стального двора[101]. На широкой пустоши собрались сотни рыцарей, солдат и ливрейных слуг, а также толпа горожан. Казалось, все английское дворянство тоже явилось сюда, и коней набралось не меньше пяти тысяч. Все глаза были устремлены на карету Анны; люди жадно ловили возможность увидеть новую королеву хоть краешком глаза. — Не могу поверить, что все это ради меня, — благоговейно произнесла она. — Ваш брат герцог был бы весьма доволен, — сказала матушка Лёве. — Король взял на себя много трудов и пошел на значительные расходы, чтобы обеспечить вам такой роскошный прием. Вот какова мера его любви к вам. — В голосе ее слышался многозначительный намек. У подножия холма карета остановилась рядом с красивым шелковым шатром, окруженным палатками меньшего размера. По обеим сторонам от входа выстроились новые назначенные ко двору Анны слуги, которые выехали из Дартфорда на заре и прибыли на место заранее. Главный камергер, граф Ратленд, поклонился; он был очень похож на своего кузена короля. Вперед вышла леди Маргарет Дуглас, чтобы приветствовать Анну; ее сопровождали герцогиня Ричмонд и другая племянница короля, туповатая с виду маркиза Дорсет, с толпой важных леди. Весь двор отдал Анне честь, и она вышла из кареты. — Сердечно благодарю вас всех, — сказала она по-английски, потом повернулась к своим главным леди и расцеловала их одну за другой. Ее придворный податель милостыни, доктор Кайе, произнес длинную речь на латыни, из которой Анна не поняла ни слова, после чего новой королеве официально представили всех тех, кто дал клятву служить ей, что заняло довольно значительное время, так как каждый становился на колени и целовал своей повелительнице руку. Когда церемония закончилась, все дрожали от холода, но стужу пришлось терпеть еще несколько минут, выслушивая ответ доктора Олислегера на произнесенную в честь Анны речь. Только после этого сама Анна и ее дамы смогли наконец войти в павильон, где январский холод разгоняли жаровни с углями, на которых дымились ароматные травы, что было весьма уместно. Длинный стол был накрыт для банкета, и все с жадностью налетели на еду, радуясь, что получили передышку от церемоний. После банкета дамы помогли Анне переодеться в роскошное платье из золотистой тафты, скроенное по голландской моде, с круглой юбкой. Английские дамы удивились, что у него нет шлейфа, какой обычно носили здесь при дворе женщины высокого ранга, но некоторые отозвались о таком наряде лестно. — Такое платье гораздо легче носить, чем эти двадцать ярдов ткани, которые тянутся следом за мной, — сказала леди Маргарет. Матушка Лёве заново заплела Анне волосы и накрыла их льняным платком, поверх которого надела Stickelchen, обшитый восточным жемчугом, и черный бархатный венец. На плечи Анны она накинула партлет, украшенный драгоценными камнями, а на грудь приколола брошь с огненными рубинами. Волосы и костюм были приведены в полный порядок. Анна стояла в павильоне и ждала прибытия короля. Она не могла унять дрожь, думая о том, что до свадьбы остался всего день. Весть о ее приезде отправили в Гринвич, расположенный в трех милях, и когда явился граф Ратленд с сообщением, что его величество скоро прибудет, Анна сглотнула от волнения, молясь о том, чтобы справиться с испытанием. «И пожалуйста, Господи, — она глубоко вздохнула, — сделай так, чтобы я немного больше полюбила короля». Через мгновение вдалеке раздались звуки труб, и сердце у Анны быстро застучало. Он ехал. — Ваша милость, пора, — сказал ей Ратленд. — Король в полумиле отсюда. Вы должны встречать его. Снаружи павильона — о ужас! — Анна увидела предназначенную для нее кобылу в дорогой попоне; поводья держал в руках главный конюший, сэр Джон Дадли. В Клеве женщин не поощряли к езде верхом. Анну везде возили в носилках или каретах, она боялась садиться на лошадь. Одного взгляда на суровое смуглое лицо сэра Джона хватило, чтобы отказаться от намерения признаться в своей слабости. Анна решительно ступила на блок для посадки и осторожно села боком в деревянное седло. К счастью, кобыла под ней оказалась покладистая и крепкая. Взяв в руки поводья, Анна тронулась с места в окружении своих лакеев, одетых в ливреи с золотыми львами Клеве. Впереди ехала большая группа немецких и английских джентльменов; за ними следовал сэр Джон Дадли, который вел коня Анны, а позади двигались ее дамы на лошадях в порядке старшинства; дальше шли пешком ее йомены и слуги, замыкавшие шествие. Торговцы со Стального двора на лошадях заняли места с двух сторон от дороги в Гринвич. Позади них стояли многочисленные джентльмены и эсквайры, а впереди — мэр и его братия, а также знатнейшие горожане Лондона. Проехав вперед, Анна различила вдалеке приближавшихся королевских трубачей; следом за ними в строгом порядке маршировали копьеносцы в темных бархатных дублетах с золотыми служебными медальонами. — Ваша милость, это отборная гвардия короля, офицеры почетного эскорта, — сказал сэр Джон, а Сюзанна перевела. Процессия остановилась, чтобы дать пройти военным. После них рядами шли представители духовенства, законники, служащие королевского двора, члены Тайного совета и джентльмены из личных покоев короля; сэр Джон показывал и называл их всех. Наконец перед Анной появился сам король в сопровождении Норфолка, Саффолка и Кранмера и в окружении десяти лакеев, облаченных в златотканые ливреи. Несмотря на полноту, Генрих выглядел величественно, совсем не так, как в Рочестере. Он сидел на прекрасном рысаке, облаченный в дорогую парчу с орнаментом из золотых нитей и жемчуга. Пурпурная бархатная куртка была украшена аппликацией из золотого дамаста и пересекающимися полосами подходящего к нему кружева; рукава с разрезами оторочены золотой каймой и застегнуты крупными пуговицами с бриллиантами, рубинами и восточным жемчугом. На груди висела гривна, усыпанная рубинами и жемчугом. Меч и пояс сверкали бриллиантами и изумрудами. Берет тоже был по краю расшит самоцветами. Генрих сверкал как божество под неярким январским солнцем, и толпа, разинув рот, глазела на него, проезжавшего мимо. Он величественно поворачивал голову направо и налево, поднимал руку в приветствии, и Анна почувствовала, как в ней что-то шевельнулось. Никогда еще не видела она правителя, к которому относились бы с таким почтением и придворные, и простолюдины. Ряды придворных по бокам от нее сдвинулись назад, освободив пространство между ней и королем. На некотором расстоянии от каменного креста, стоявшего на Блэкхите, Генрих натянул удила и остановился. Доктор Олислегер вышел вперед, чтобы переводить. Король снял головной убор и, не дожидаясь, когда к нему приблизится Анна, как полагалось, рысью поскакал приветствовать ее. Она с облегчением отметила про себя, что он рад ее видеть. — Миледи Анна, добро пожаловать в Англию! — провозгласил Генрих, чтобы все слышали, и поклонился ей с седла. Анна ответила ему тем же. — Ваше величество, для меня большая честь и радость находиться здесь. Ее ободрили его теплый прием и осознание, что на нее смотрят тысячи людей. Улыбаясь ей очень по-доброму, Генрих подвел своего коня к ее лошади, наклонился и обнял свою невесту под громкие крики зрителей. Сегодня от него пахло свежее, травами и мылом. — Видите, как рады мои подданные вашему приезду, мадам! — сказал король. Анна отрепетировала свои слова. — Сир, я намерена быть им доброй, любящей госпожой и покорной, любящей женой вашему величеству, — с улыбкой, во весь голос произнесла она. — Я благодарю вас и всех этих добрых людей за оказанный мне восхитительный прием. Пока они обменивались любезностями и Анна несмело думала, что, может быть, все-таки понравилась королю, члены его свиты занимали свои места среди огромного скопления людей на лугу Блэкхит. Анна заметила, что один из гвардейцев короля ускакал в сторону Гринвича, чтобы подготовиться к прибытию туда суверена. По пути обратно к павильону Генрих дал Анне почетное место справа от себя и ехал так близко к ней, что их плечи соприкасались. Все радостно кричали и радовались, видя королевскую чету, и Анна почувствовала, что если эти люди пока еще не полюбили ее, то все-таки испытывают к ней в основном добрые чувства. В павильоне король приказал подать вина со специями, чтобы они согрелись, наскоро перехватил кое-чего с наполненного блюдами банкетного стола и представил Анне лорда-канцлера и лорда Кромвеля. Анне интереснее всего было познакомиться с Кромвелем, так как он больше других сделал для того, чтобы этот брак состоялся. Кромвель, тучный мужчина с орлиным взором, крупными чертами лица и отточенными манерами, склонился над ее рукой: — Добро пожаловать в Англию, ваша милость. Надеюсь, ваша поездка была комфортной, насколько нам удалось этого добиться. Нам? Она-то думала, что распоряжения, благодаря которым все оказывали ей помощь и проявляли доброту, исходили от короля. Но, разумеется, приводил их в исполнение Кромвель. Тем не менее ей не понравилось, как бесцеремонно этот человек объединил себя с королем, как будто они были единым целым. Неприятен был и оценивающий взгляд Кромвеля. Какая грубость! Но Анне говорили, что Кромвель — сын кузнеца, так чего от него ждать? Наконец, к радости Анны, наступил момент отъезда в Гринвич. Снаружи, у павильона, стояли пустые конные носилки, отделанные золотой парчой и алым бархатом. — Это мой подарок вам, миледи, — сказал король. — После свадьбы вы должны ездить в английском транспорте. — Я благодарю вашу милость. Анна сделала реверанс. Носилки были прекрасные, и все же ей было жаль расставаться со своей великолепной золоченой каретой, украшенной клевским львом. Но пока, как сказал Генрих, она может использовать ее для участия в процессиях. Впереди двинулись трубачи, король скакал верхом рядом с каретой Анны. Они проехали мимо рядов рыцарей и эсквайров в сопровождении двух объединившихся свит. В карете, следовавшей позади Анны, сидели шесть ее немецких камеристок, ясные лица и узорчатые платья которых вызывали восторженные крики зрителей. Дальше катились кареты с английскими фрейлинами, горничными и прачками, а за ними везли ее новые носилки, за которыми скакали на лошадях ее слуги-мужчины. Они миновали олений парк. Когда карета взобралась на вершину холма, стал виден краснокирпичный дворец Гринвич, расположенный внизу, наберегу Темзы. Анна в изумлении смотрела из окна на крашеные крыши и будто парящие в воздухе турреты. Здание было похоже на дворцы из немецких легенд. — Гринвич! — провозгласил король. — Мадам, я родился здесь, и это второй из моих лучших домов после Уайтхолла. В лодках на Темзе Анна видела жителей Лондона; они наблюдали за процессией с реки. — Все лондонские гильдии вышли на воду на своих барках, — сказал Генрих. Когда они подъехали ближе, Анна заметила, что на некоторых лодках были нарисованы королевские гербы Англии или Клеве; она слышала мелодии, наигрываемые менестрелями, и голоса поющих мужчин и детей. Король остановил процессию на набережной рядом с дворцом, чтобы все могли послушать. — Вы не думаете, что это достойно похвал, мадам? — Это очень хорошо, — ответила Анна, боясь, что ее ограниченный английский не передаст в полной мере, какой прекрасной казалась ей музыка. Их прибытие во дворец было встречено пушечным салютом с массивной центральной башни, возвышавшейся над длинным фасадом дворца, который выходил на реку. Здесь, видимо, располагались главные апартаменты, на которые, судя по множеству тянущихся рядами эркерных окон, денег не пожалели. Оставив позади встроенный в основание башни гейтхаус, они въехали во внутренний двор, где король спешился, помог Анне выйти из кареты, после чего любовно обнял ее и поцеловал на глазах у радостно кричавшей и аплодировавшей свиты. — Добро пожаловать домой, мадам! — громогласно произнес Генрих и повел ее за руку через великолепный главный зал, где вдоль стен, как статуи, неподвижно замерли стражники, и дальше — в ее апартаменты. Обстановка там была роскошная: все кругом либо расписано, либо позолочено. Анна вновь ощутила запах свежего дерева и краски, а вдалеке слышался приглушенный скрежет пил и стук молотков. — Извините за шум, мадам, но люди еще ремонтируют мои апартаменты, — объяснил король. — Они работают только днем и скоро все закончат. Им приказано не беспокоить вас больше, чем потребует самая срочная необходимость. Будущие супруги вошли в приемный зал. — Здесь, — продолжил Генрих, — вы будете появляться перед своим двором. Анна в благоговении смотрела на потолок, украшенный золотыми розетками, дорогую севильскую плитку, которой был выложен очаг, и отделанные желто-зелеными изразцами ниши с выходившими на реку окнами. В дальнем конце зала на помосте под балдахином с гербами Англии и Клеве стояло обтянутое бархатом складное кресло. Это будет ее трон. Они прошли через личные покои; церемониймейстеры отворяли перед ними двери и отдавали честь. — Это, мадам, ваши личные апартаменты. Только самые привилегированные люди, к которым вы благоволите, могут сюда входить. Все здесь было устроено с такой же роскошью, как и в приемном зале, но внимание Анны привлекла стоявшая в углу дровяная печь, отделанная зеленым кафелем. Она была очень похожа на печи в Германии! Король явно сделал больше того, что было нужно для обеспечения ее комфорта. Анна присела в реверансе: — Благодарю ваше величество за то, что даете мне такие gut[102] комнаты и эту Ofen[103]. — Надеюсь, вам будет удобно здесь, мадам, — ответил король, и вновь она почувствовала в его манере говорить отстраненную, отточенную годами учтивость. — А теперь вас ждут ваши дамы, чтобы обслужить и помочь вам устроиться. Я должен покинуть вас на время для занятий делами государства. Но вечером мы увидимся, потому что будет устроен пир в вашу честь. — Он поцеловал ей руку и поклонился, на что она ответила низким реверансом. — Вот! — сказала матушка Лёве, когда Генрих ушел. — Я говорила вам, что беспокоиться не о чем! — Надеюсь, что не о чем. — Анна со вздохом опустилась на стул. — Ни одной королеве не оказывали такого пышного приема, — сказала ей Сюзанна. — Для королевы Джейн не звучали такие фанфары. О ее браке с королем мы узнали, когда она вдруг появилась на троне в приемном зале королевы в Уайтхолле и ее титул был объявлен двору. Разумеется, и до того ходили разговоры, что король женится на ней. — Но леди Анна — из королевской семьи! — возмущенно воскликнула матушка Лёве. — Королева Джейн была всего лишь камеристкой. Она не принесла королю никакого великого союза. — Она принесла королю любовь, что не менее важно, — возразила Анна. Матушка Лёве открыла было рот, чтобы запротестовать, но замолчала, так как явились английские леди. — Не думаю, что я смогу полюбить его, — шепнула Анна Сюзанне, а матушка Лёве заторопилась навстречу вновь прибывшим, как будто была их госпожой, без сомнения намереваясь установить над ними главенство. Сюзанна сочувственно взглянула на Анну. — Я так боюсь завтрашнего дня, что и сказать нельзя, — призналась Анна, она пыталась прогнать мысли о брачной ночи, но тщетно. Через два дня она может оказаться в Тауэре! — Бояться нечего, — пробормотала Сюзанна. — Сперва может быть немного больно, но это скоро пройдет. Анна ничего не ответила; даже перед этой милой подругой она не могла облегчить душу. — Все будет хорошо, я уверена. — Сюзанна улыбнулась.
Платье Анны было из мягчайшего бархата цвета елей, какие растут на холмах вокруг Шлоссбурга. На плечи поверх длинных узких рукавов с полосами вышивки и златоткаными манжетами она накинула подаренных королем соболей. Голову покрывала расшитая жемчугом и драгоценными камнями шапочка. Входя в приемный зал короля в сопровождении длинной процессии дам, Анна чувствовала, что взгляды всех, кто был там, прикованы к ней. Теперь так будет всегда. Она поняла, как ей повезло вести при дворе в Клеве такую уединенную жизнь; тогда изоляция ее возмущала, но сейчас… Как же Анна жаждала уединения и покоя! Банкет устроили роскошный, король был, как обычно, внимателен, однако Анна вновь уловила клокотавшее в нем недовольство. Ей хотелось спросить, все ли хорошо, и таким образом показать, что она намерена быть ему не только женой, но и верной помощницей, однако не посмела. Как всегда, в присутствии Генриха Анна ощущала благоговейный страх и боялась произнести хоть слово, несмотря на ободряющее присутствие Сюзанны, выступавшей в роли переводчицы. — Нам нужно будет выбрать девиз, который выгравируют на вашем обручальном кольце и для использования в других случаях, — сказал Генрих, когда два кондитера внесли в зал прекрасного сахарного лебедя — дань признательности Клеве. Король грациозно кивнул, лучась удовольствием от аплодисментов придворных. Повара поставили угощение на стол и принялись нарезать его. — Какой девиз мне выбрать, сир? — спросила Анна. — Вы сами должны сказать. Каким, по-вашему, он должен быть? Анна на мгновение задумалась. — Какая-нибудь строчка с обращением к Господу за защитой от бед и невзгод. Генрих одобрительно кивнул: — Может быть, подойдет вот такая: «Господь, дай сил держаться». — Это превосходно, сир. — Хорошо. Я передам это ювелиру. А теперь вам нужно выбрать себе какой-нибудь знак в качестве эмблемы. — Могу я использовать лебедя Клеве, сир? Или, если вам это не нравится, герцогскую корону? — Вы можете использовать и то и другое, если хотите, — благодушно согласился Генрих.
После банкета Анна переоделась в платье из тафты и вернулась в приемный зал смотреть танцы. Она сидела на помосте в кресле справа от короля, молясь, лишь бы он не попросил ее станцевать. Этому ее не учили, в Клеве на такие занятия вообще смотрели косо. Но Генрих не попросил. Может быть, потому, что сам сейчас уже не мог танцевать, хотя Анна слышала, что в молодые годы он был весьма умелым танцором, а также превосходным спортсменом и вообще демонстрировал успехи почти во всех занятиях. Король остался на троне и смотрел, как пары перед ним выстраиваются в линию и меняются местами, берутся за руки и кружась расходятся. Время от времени он заговаривал с Анной, указывая ей то на одного лорда, то на другого или объясняя какие-то правила танца. Что-то все-таки беспокоило его, или он просто устал после долгого дня, так же как и она сама, а может, грустил, что юность прошла и он больше не может участвовать в развлечениях молодых. Но вот Генрих поднялся и приказал подать пряное вино и вафли: это был сигнал, что праздник подходит к концу. Анна обрадовалась и залпом выпила вино, ей нужно было как-то заглушить страх перед завтрашним днем. Несмотря на общее настроение придворных — предвкушение торжества — и разговоры о свадьбе, обрывки которых доносились до ее слуха, король не упомянул о грядущем венчании и даже не сказал, к какому времени ей нужно быть готовой. И так, — Анна это отчетливо понимала, — быть не должно. Опасения ее подтвердились. Только она вернулась в свои покои, как объявили о приходе вице-канцлера Олислегера и великого магистра Гохштадена; оба имели весьма встревоженный вид. Стоило им спросить, можно ли поговорить с ней наедине, и Анна сразу решила: сейчас она услышит, что король отправляет ее домой. — Ваша милость, — начал доктор Олислегер, когда они остались в кабинете одни, — просим прощения, что побеспокоили вас в столь позднее время, но мы только сейчас вернулись со встречи с лордом Кромвелем и Тайным советом. Возникла проблема, о которой вам нужно знать. Лорд Кромвель призвал нас, потому как король и его советники обеспокоены тем, что ваша помолвка с сыном герцога Лоррейнского не была расторгнута должным образом. Если это подтвердится, возникнут препятствия к вашему браку. На мгновение Анна онемела. Теперь ей стало ясно, что так беспокоило короля. Она не знала, смеяться ей, плакать или облегченно вздохнуть. — Но это не проблема, — наконец проговорила она. — Да, мадам, — согласился Гохштаден. — Прошлым летом советник герцога Вильгельма заверил доктора Уоттона, что ваша милость не связаны никакими условиями, заключенными между Клеве и Лоррейном, и вы свободны выйти замуж за кого пожелаете. Однако лорд Кромвель утверждает, что осенью в Виндзоре король упорно настаивал: он не подпишет брачный договор без официального подтверждения расторжения помолвки. Тем не менее, мадам, нам его величество ничего подобного не говорил. Он вообще не заводил речи об этом. И был более чем счастлив подписать брачный договор. Тем не менее на сегодняшней встрече доктор Уоттон заявил, что он просил нас привезти доказательства, и тайные советники подтвердили, что мы обещали в Виндзоре сделать это, но мы ничего такого не помним. Мадам, мы полагали, что советники герцога предоставили достаточно заверений, чтобы удовлетворить короля, поэтому не привезли с собой никакого письменного документа. — Но почему его величество выражает эти сомнения теперь, в последнюю минуту? — спросила ничего не понимающая Анна. — Это предлог, чтобы избавиться от меня? — Вовсе нет, мадам! — Доктор Олислегер был шокирован таким предположением. — Король ожидал, что мы привезем доказательства, о которых он просил. Мне сказали, его величество тревожит совесть: так как в прошлом он дважды вступал в кровосмесительные браки, которые повлекли за собой много дурных последствий, то теперь беспокоится, как бы ему снова не жениться на леди, которая для него под запретом. Он не может настроить ни свой ум, ни свое сердце на любовь к вам, пока его сомнения не будут разрешены. Как можно настроить свое сердце на любовь к кому-то? Анна сама пыталась это сделать и не преуспела. Вы или любите, или нет. Угрызения свести короля происходили лишь оттого, что, говоря по-простому, он не хотел жениться на ней. Она сразу об этом догадалась. — Могут эти сомнения быть как-то разрешены? — спросила Анна, предвидя свое возвращение в Клеве, брошенной и опозоренной безвинно, и втайне радуясь, что освободится от нелюбимого жениха. — Я уверен, что да, и быстро, — заверил ее Гохштаден. — Очевидно, произошло недопонимание с обеих сторон. — Ни ваша милость, ни маркиз не давали обетов, поэтому для расторжения помолвки не нужно решения церковного суда, — вступил в разговор доктор Олислегер. — Мы сказали об этом лорду Кромвелю, который сходил к королю, а потом сообщил нам, что тот не готов заключить брак. Лорд Кромвель обязал нас заверить его, что, как только мы вернемся в Клеве, сразу пришлем ему доказательства, которые устранят все сомнения. Мадам, это было весьма неприятно. Нас просто выставили несведущими глупцами. — Доктор Олислегер, всегда отличавшийся безупречной учтивостью и выдержкой, проявлял признаки того, что теряет эти свои качества. — И что же теперь будет? — спросила Анна. Казалось, они зашли в тупик. — Мы сказали, что обсудим все с вами и дадим ответ завтра утром. — Но утром я должна выйти замуж! — Мадам, король отложил церемонию до вторника, чтобы дать время для решения проблемы, — сообщил ей Гохштаден. — Не беспокойтесь, все будет хорошо. Анна не была в этом уверена, и, вероятно, сомнения отобразились на ее лице. — Лучше иметь счастливого жениха, чем колеблющегося, — заметил доктор Олислегер.
Анна ушла в свою спальню, радуясь, что матушка Лёве выгнала оттуда всех остальных дам и сама стала помогать ей. Взгляд ее упал на свадебное платье, приготовленное к утру. Как же ей хотелось, чтобы рядом была мать, всегда спокойная и безмятежная! — Все в порядке? — спросила матушка Лёве. Анна покачала головой и сняла шапочку. — Нет. Свадьба отложена до вторника. Возникла проблема. — Она объяснила, в чем дело. — Думаю, король ищет повод избавиться от меня, но доктор Олислегер и великий магистр Гохштаден утверждают, что нет. А я в этом сомневаюсь. Анна опустилась в кресло у камина. Матушка Лёве взялась расплетать ей волосы. — Я удивлена. У него было достаточно времени, чтобы успокоить свою совесть на этот счет. Если он испытывал сомнения, зачем было подписывать контракт? — Может ли быть, что, когда он увидел меня не на портрете, я ему не понравилась? Это единственное объяснение, какое я способна придумать. — Или кто-нибудь внушил ему эти сомнения, — предположила матушка Лёве. — У меня есть глаза и уши, и английский я понимаю лучше, чем говорю на нем. Католики не хотят этого брака. Им ненавистен союз короля с протестантскими принцами. В памяти всплыло кислое лицо герцога Норфолка. Анна легко могла представить, как он тайно пытается расстроить ее брак. — Может быть, — медленно проговорила она. — Но что, если доказательств нет? За мной на всю жизнь останется слава невесты, которую отправил домой король Англии. И этого будет ничем не исправить. Ни один мужчина не захочет меня… — Хватит! — крикнула матушка Лёве. — Королю нужен этот союз. — Он поступает так, как ему нравится. Это слова Лютера о нем. Матушка Лёве взъярилась: — Никогда не слышала о принцессе, которая приехала бы в другую страну, чтобы выйти замуж, и была отправлена домой. Даже этот король не осмелится пойти на такое. Ваш брат этого не потерпит. — А что он может сделать? Клеве не в состоянии объявить войну Англии. — Он может настроить немецких принцев против короля. Курфюрст Саксонский выступал за этот брак. Он не допустит, чтобы вас оскорбили. Анна вздохнула: — Никакой принц не затеет войну ради чести принцессы. Когда король развелся с королевой Екатериной, разве император пришел ей на помощь? Нет. Если дойдет до этого, я охотно отправлюсь домой. Лучше бы я вообще сюда не приезжала! Слезы, которые она старательно сдерживала, полились потоком, и старая няня обняла Анну за плечи и держала, пока та горестно раскачивалась из стороны в сторону. — Я бы сделала все, лишь бы избежать брачной ночи, — всхлипывала она. — Вам лучше всех известно почему! Вдруг король обнаружит, что я не девственница? Что он со мной сделает? — Ш-ш-ш, ш-ш-ш, — утешала ее матушка Лёве, поглаживая по волосам. — Ни один мужчина не может сказать, девственница ли женщина. — Но как быть с этими серебристыми полосками на животе, где кожа растягивалась? И груди у меня не такие упругие, как были до родов. Разве это не говорит само за себя? — Король — мужчина, — небрежно отмахнулась матушка Лёве. — Он ничего не заметит. — Но он будет ждать, что у меня пойдет кровь, — тревожилась Анна. Матушка Лёве на мгновение задумалась. — Держите под рукой иголку, спрячьте ее под подушку. Уколите себе палец и помажьте простыню. Он не заметит разницы. Все будет хорошо, вот увидите. Анна взмолилась, чтобы няня оказалась права.
На следующее утро Анна сидела в ожидании неизвестно чего. Приближалось время обеда, и она уже готова была кричать от досады, когда к ней явились Олислегер и Гохштаден. Один взгляд на их лица сказал ей, что встреча прошла не так, как они планировали. — Какие новости? — без предисловий спросила Анна. Заговорил доктор Олислегер: — Мадам, мы сказали лордам, что весьма озадачены. Мы указали на то, что предварительное соглашение, безусловно, было расторгнуто, и я предложил остаться здесь в качестве заложника, пока из Клеве не пришлют доказательства. Они сказали, что увидятся с королем после обеда и узнают, как он относится к такому предложению. Будем ждать его ответа.
За обедом подали множество блюд, но Анна почти ничего не ела. Что бы ни решил король, на ней это скажется плохо. В четыре часа, когда она уже едва не лезла на стену от беспокойства, явился лорд Кромвель с непроницаемым лицом. С ним пришли два секретаря в черных мантиях. — Ваша милость, — начал Кромвель, кивая Сюзанне, чтобы та переводила, — насколько я понимаю, вам известно о затруднениях, возникших в связи с предварительным соглашением, заключенным с Лоррейном. Будьте уверены, его милость хочет лишь устранить любые поводы для сомнений. Он посоветовался с архиепископом Кранмером, и тот подтвердил: так как вы были юны, когда состоялось обручение с маркизом, официальный отказ ваш или юного джентльмена может сделать помолвку недействительной. Король теперь просит, чтобы вы отказались от помолвки сами. Он считает, что такого заявления, сделанного в присутствии достойного доверия человека и нотариусов, будет достаточно для соблюдения закона. Эти слова удивили Анну. Казалось, теперь король делает все возможное для устранения препятствий к браку, а не ищет предлога отказаться от нее, как она опасалась. Кромвель продолжал говорить: — Его милость назначил меня быть этим доверенным лицом, а эти джентльмены — нотариусы, которые станут свидетелями. Леди Анна, я прошу вас сейчас официально подтвердить, что вы отказываетесь от своей помолвки и свободны вступить в брак. Анна немного подумала. Казалось, не было причин противиться тому, о чем ее просили. — Я отказываюсь от своей помолвки. Я свободна от любых обязательств. — Благодарю вас, мадам. Я сообщу его милости о вашем надлежащем поведении. Вы сделали все прекрасно. Он помолчал, и Анне показалось, что в его лице промелькнула какая-то неуверенность. Стало ясно, что не она одна испытывала тревогу по поводу ее предстоящего брака. Кромвель поддерживал этот союз, и успешное завершение дела было для него критически важным. От этого могла зависеть вся его дальнейшая карьера. И Анна вдруг ощутила сочувствие к нему. Она думала, Кромвель скажет что-нибудь еще, но тот поклонился и собрался уходить. — Милорд, — обратилась к нему Анна, — не сомневайтесь, я постараюсь быть хорошей женой королю. Я сознаю, какую честь он мне оказал и как много вы лично сделали ради меня. Если хотите, я готова быть вашим другом. Хитрые глаза Кромвеля смотрели на нее расчетливо, цинично. — Благодарю вас, ваша милость, — наконец произнес государственный секретарь, — считайте меня навечно вашим.
Анна все еще не была уверена, состоится ли свадьба во вторник. В канун Богоявления, перед праздником Двенадцатой ночи, Генрих сопровождал ее на мессу. Пока они шли по дворцу сквозь толпу придворных, улыбаясь направо и налево, он не сказал ни слова по поводу недавно разыгравшейся драмы. Был, как обычно, любезен и ровно настолько же непроницаем. После мессы король проводил Анну до ее приемного зала и там, вызвав Кромвеля и его нотариусов, составил письменный патент, которым выделял ей содержание. — Генрих, милостью Божьей… — сумела разобрать Анна в верхней строке, когда он вручил ей документ. Все она прочесть не могла, но увидела длинный список земель и привилегий, которыми отныне обладала. Хорошо, что можно полагаться на свой Совет, который станет следить за имениями и собирать с них налоги. Больше всего Анну поразило, какой крупной землевладелицей она становилась. Казалось, ее владения располагались по всей Англии. — Это приданое, мадам, такое же, какое было у королевы Джейн, — сказал ей Генрих, впервые упомянув свою покойную супругу. — Как вы щедры! Я от всего сердца благодарю вашу милость. — Это то, что вам полагается. Все должны видеть, что моя королева живет в комфорте и великолепии, подобающем ее рангу. — Король поклонился. — Готовьтесь, мадам. Мы поженимся утром. Я пришлю своих лордов, и они проводят вас в Королевскую капеллу в восемь часов.
Глава 10
1540 годСвадебное платье было прекрасным. Сшитое из золотой парчи с орнаментом из крупных цветов, украшенное большими восточными жемчужинами, оно имело длинные висячие рукава и круглую юбку по голландской моде. Как подобало невесте, которая должна быть девственницей, Анне распустили волосы и возложили на голову усыпанный бриллиантами золотой венец. К волосам и на платье прикололи веточки розмарина. — Розмарин символизирует любовь, верность и плодовитость, — сказала ей матушка Лёве. Главные фрейлины двора принесли золотые цепочки и украшенный самоцветами крест. Матушка Лёве настояла, что наденет его на шею Анне сама, и пояс с золотыми накладками и камнями тоже. Когда невеста была готова, она вся сверкала — такой получился эффект. Вильгельм прислал в Англию в качестве своего заместителя дворянина из Клеве, барона Оберштайна, чтобы тот присутствовал на свадьбе и отдал Анну мужу. Это был щеголеватый молодой человек, явно державшийся довольно высокого мнения о себе и пунктуально выполнявший свои обязанности. В семь часов вместе с великим магистром Гохштаденом он уже ждал Анну в приемном зале королевы. Граф Эссекс, которому тоже поручили сопровождать невесту в капеллу, опоздал. Незадолго до восьми явился извиняющийся лорд Кромвель и сказал, что заменит Эссекса, но только он произнес эти слова, как в комнату рысцой вбежал престарелый граф, от которого разило перегаром. Кланяясь Анне, он едва не свалился с ног и настоял, далеко не любезным тоном, на исполнении своих обязанностей. Покачивая головой за спиной у старика, Кромвель неохотно согласился. Лицо Гохштадена застыло в недоумении. Анна горячо надеялась, что Эссекс будет вести себя как полагается. Она бросила беспокойный взгляд на барона Оберштайна, но тот стоял по стойке смирно, готовый к выходу. Предводительствуемая Кромвелем, с Оберштайном и Гохштаденом, шедшими по бокам от нее, и Эссексом, который плелся позади, Анна прошла сквозь толпу придворных, выстроившихся на пути, чтобы увидеть ее. Не привыкшая к такому вниманию и выражению почтения, Анна шла, опустив глаза и склонив голову. Многочисленные лорды, ожидавшие ее в приемном зале короля, пошли впереди к галерее капеллы. Там она увидела Генриха в дублете и базах из золотой парчи, верхнем платье из алого атласа с разрезами и вышивкой, с украшенным бриллиантами поясом и дорогой гривной на шее. Он был ослепителен. Приблизившись, Анна сделала три низких реверанса, а король с изящным поклоном приподнял головной убор. Лицо его ничего не выражало, ни намека на то, что король рад жениться на ней. Анна сказала себе, что, вероятно, это особенность ее жениха — не показывать чувств на публике. Позже, когда они останутся одни, он, наверное, откроет ей свое истинное «я» и свои чувства. Когда они останутся одни… При этой мысли Анна задрожала. Генрих протянул ей руку. Она положила на нее свою, и они вместе вошли в Королевскую капеллу, где их ждал архиепископ Кранмер. Барон Оберштайн от имени герцога с подчеркнутой церемонностью отдал королю Анну. Кранмер напряженно смотрел на жениха и невесту: — Кто-нибудь из вас двоих пришел на эту торжественную церемонию с ложными намерениями? — Нет, — с непроницаемым лицом сказал король. — Нет, — ответила Анна. — Я обязан предупредить вас обоих, — продолжил архиепископ, — во имя Отца, Сына и Святого Духа, что, если одному из вас известно о каких-либо препятствиях к венчанию, вы должны немедленно заявить об этом. Последовала недолгая пауза. — Мне ничего такого не известно, — произнес король, и Анна повторила за ним. Кранмер повернулся к гостям, спросил, знают ли они о каких-либо законных препятствиях к браку. Все до единого ответили «нет». Архиепископ, кажется, удовлетворился этим и приступил к церемонии венчания. По его кивку король надел на палец Анны кольцо, и она разглядела на нем выбранный Генрихом девиз: «Господь, дай сил держаться». Никогда еще она не нуждалась сильнее в Божественной защите и помощи. Обратного пути не было, в Клеве ей не вернуться. Их объявили мужем и женой. Кранмер благословил молодых и пожелал, чтобы их союз был плодоносным. Анна наконец стала королевой Англии. Лорды низко кланялись, когда король вел ее рука об руку в свою праздничную молельню[104] слушать венчальную мессу. Кранмер прочел «Agnus Dei» и «Pax Domini», потом благословил Анну поцелуем, после чего король в свою очередь обнял и поцеловал ее. Получив причастие, Генрих и Анна поставили свои свечи на подсвечники у алтаря. По окончании службы им предложили вино со специями, затрубили трубы, и герольд торжественно прошествовал по дворцу, объявляя во всеуслышание титул и форму обращения к Анне. Когда он вернулся, проделав путь среди толпы придворных, которым не терпелось увидеть новую королеву — или попасться ей на глаза, — король в награду дал глашатаю кошелек с серебряными шиллингами. Поставив кубок, Генрих поцеловал Анне руку и ушел в свои личные покои переодеваться, а герцоги Норфолк и Саффолк вместе со всеми придворными дамами проводили Анну в ее комнаты. Она не успела снять подвенечное платье, как вскоре после девяти часов ее позвали слушать мессу Святой Троицы: был праздник Богоявления. Как и подобало королеве Англии, Анна шла в процессии, которую возглавлял сержант при оружии[105] и другие официальные лица, и прибыла в праздничную молельню одновременно с королем, одетым в платье из дорогой тафты с подкладкой из вышитого алого бархата. Идя бок о бок, они ввели в Королевскую капеллу свои свиты для участия в великолепной церемонии приношения даров, будто шли по стопам Трех Царей. После мессы под звук фанфар Генрих и Анна вошли в приемный зал короля, чтобы пообедать в присутствии всего двора: главные лорды и государственные сановники готовы были прислуживать им. Напряженная от волнения, Анна села в кресло рядом с королевским троном. Угощение подавали с большими церемониями, и ели в основном в молчании, лишь изредка король интересовался, нравится ли ей то или другое блюдо, к которым она едва прикасалась, или отпускал ремарки в адрес Норфолка или Саффолка. Когда обед закончился, Анна с облегчением скрылась в своих апартаментах, но даже здесь она не могла расслабиться, потому что вокруг вились дамы, поздравляли ее и хвалили: как хорошо она держалась. — Вы были до последнего дюйма королевой, мадам! — восторгалась Маргарет Дуглас. — И так прекрасно выглядели; все смотрели на вас! — воскликнула Сюзанна. Только герцогиня Ричмонд и леди Рочфорд держались в стороне. Может быть, для них Анна олицетворяла союз, который они не одобряли, но разве нельзя было попытаться полюбить ее саму за то, какая она? После обеда Анна отдыхала, лежа на постели, радуясь, что с нее сняли тяжелое парчовое платье. Она попыталась уснуть, но это было невозможно. Мысли о грядущей ночи не давали ей покоя. Уже стемнело, когда матушка Лёве пришла будить ее и принесла кружку ягодного эля с пряностями, который очень любили при дворе и наливали всем, кто приходил за питьем, каждый вечер в буфетной рядом с кухней. Анна с благодарностью приняла его, надеясь, что он поможет ей одолеть страх. Пора было готовиться к вечерним торжествам. Дамы облачили ее в платье из тафты с пышными рукавами и Stickelchen, который был на ней в субботу во время церемонии встречи в Блэкхите. Ее немецкие фрейлины, одетые в похожие наряды, находились в приподнятом настроении. Анне тоже хотелось бы чувствовать себя как на празднике и вместе с ними беззаботно веселиться. Им не придется ложиться в постель со страшным мужчиной, от которого дурно пахнет и который мог не без причины сильно разозлиться на нее. С ним Анна встретилась в капелле, где отслужили вечерню, после чего они ужинали наедине; с ними была только Сюзанна. И снова Генрих проявлял внимание и заботливость. Он заговорил о своих дочерях Марии и Елизавете, о принце Эдуарде, который, судя по словам короля, был очень самоуверенным мальчиком и с нетерпением ждал встречи с Анной. — Я стану для него матерью, — сказала она, делая глоток вина и пытаясь не думать о другом ребенке, который потерял родителей. — Принц, должно быть, скучает по королеве Джейн. — Он ее не знал. Она умерла через двенадцать дней после родов, — ответил король, и по его лицу пробежала тень. — У него есть няня, матушка Джек, которую он любит, и леди Брайан: она весьма умело заправляет всем в его детской. Все мои дети находились на ее попечении. Казалось, в жизни принца нет места для Анны. Она постаралась не падать духом. И была рада, когда Генрих отпустил какую-то шутку и оживился, переключившись на разговор о своих конях. Но дистанция между ними все равно сохранялась. Убрали остатки второй подачи блюд, Анна допила третий кубок вина. Они перешли в приемный зал, где собрались наиболее близкие к королю придворные, чтобы поучаствовать в сладком банкете. За ним последовали развлечения, и Анна радовалась возможности ненадолго отвлечься от своих страхов. Она никогда не видела ничего подобного маскараду Гименея. Что сказали бы в Клеве, если бы увидели лордов и леди, танцующих вместе в очень открытых костюмах, или услышали шутки, которые, судя по гоготу публики, были откровенно непристойными? К счастью, Анна не понимала их смысла. Но некоторые лорды из ее эскорта понимали; Олислегер и Гохштаден оба покраснели до ушей. У Анны их смущение вызывало жалость. Но, казалось, никто больше не испытывал неприятных ощущений; придворные пронзительно смеялись. Многие были пьяны. Анна попыталась сама немного захмелеть, но сегодня, когда она больше всего нуждалась в этом, вино как будто не оказывало на нее никакого действия. Сидевший рядом король объяснял, что Гименей, бог брака, выступает в роли арбитра в споре между Юноной, богиней супружества, и Венерой, богиней любви и желания, которая предпочитала сохранять свободу. Разумеется, никакого реального состязания не было, особенно в данной ситуации: брак победил, как все и предсказывали. Анна не ожидала, что по завершении шутливых дебатов между божествами участники игры, мужчины и женщины, бросятся к зрителям и начнут поднимать всех на ноги и побуждать к танцам. Лукавая нимфа, очень похожая на Анну Бассет — боже правый, это и была Анна Бассет, известная кокетка! — подошла к самому королю, улыбаясь и протягивая к нему руку. Однако тот повернулся к ней и сказал: — Простите меня, прекрасная нимфа, но сегодня я должен чтить свою королеву, — после чего, изрядно удивив Анну, подал ей свою толстую руку. В ужасе уставившись на нее, Анна подумала: неужели король и правда просил ее присоединиться к нему и пойти кружиться среди пар по залу? — Вы составите мне компанию, мадам? — спросил он, подтвердив ее опасения. Она не умела танцевать! Что ей делать? Осмелится она выставить себя на посмешище перед всем двором? Или рискнет расстроить короля? Что хуже? Анна набрала в грудь воздуха и сказала, принимая руку Генриха: — Если это порадует ваше величество, хотя, боюсь, я весьма неопытна в танцах. — Тогда я вас научу, — бодро сказал король. Придворные расступились, Анна с Генрихом сошли с помоста, музыка стихла. Король, не отпуская руки Анны, развернул ее лицом к себе. — Мы станцуем павану — королевскую павану! — воскликнул он, и музыканты завели другую мелодию, более медленную, с четким ритмом тамбуринов. — Вы делаете один шаг на два удара, — сказал Генрих. — Отхо́дите в сторону, а потом ступаете вперед. Это очень медленный и величавый танец, весьма подходящий для торжественных случаев. Анна быстро усвоила движения и вскоре уже двигалась по полу легко и изящно. В конце она сделала низкий реверанс, а король поклонился, и они вернулись на помост под громкие одобрительные возгласы придворных. Генрих склонился к ней и сказал: — Становится поздно. Пора нам идти на покой. У Анны закружилась голова. Король подал знак матушке Лёве. — Пусть дамы помогут королеве лечь в постель, — приказал он и встал. Танцоры остановились, все сделали низкие реверансы. — Мадам, мы скоро увидимся, — с поклоном сказал Генрих и удалился; за ним последовали его джентльмены, ухмыляясь и подталкивая друг друга локтями.
Вернувшись в свои покои, Анна пыталась побороть панику. Дрожа всем телом, она быстро прошла в спальню; фрейлины едва поспевали за ней. Удивительно, но, пока она пировала внизу, ее кровать заменили на другую — расписную, дубовую. На подголовнике выше их с королем инициалов была вырезана дата ее помолвки — «1539». Анна залилась краской, увидев резные изображения с обеих сторон — херувим ужасающе приапический и беременный. Послание не могло быть более откровенным. Она силилась унять растревоженное сердце, пока с нее снимали платье и матушка Лёве надевала на нее сорочку из тончайшего батиста. Анастасия открепила розмарин от свадебного платья Анны и разбросала веточки поверх покрывала. Волосы Анне расчесали до блеска, и она забралась в постель на той стороне, где был изображен беременный херувим, оперлась спиной на высокую подушку и натянула одеяло поверх груди. Матушка Лёве разложила ее локоны по плечам как блестящую золотом накидку. Они в молчании ждали прибытия короля и церемонии укладывания молодоженов в постель. «Сварить бы в кипящем масле того, кто придумал этот унизительный ритуал!» — сердито думала Анна. Происходящее между двумя людьми на брачном ложе должно оставаться их личным делом. Но вот она лежит в ночной сорочке и ждет, пока над ней совершат насилие (другого слова не подберешь) и разыграют этот отвратительный спектакль! Она забыла положить под подушку иглу! А теперь уже поздно. Из-за дверей, ведущих в покои, донесся звук приближающихся шагов и возглас: «Дорогу его милости королю!» Анна натянула на себя одеяло сильнее, до самого подбородка. Дверь открылась, и появился Генрих, одетый в подбитый мехом ночной халат поверх длинной сорочки и с ночным колпаком на голове. Позади него толпились его джентльмены; они вошли в комнату, шутили и смеялись, таращились на Анну, а она обмирала от страха. Король не обращал на них внимания — или, может быть, он тоже стеснялся, потому что имел вид человека, которого вынуждают заниматься чем-то противным. Анна про себя молилась, чтобы такое неприятное чувство вызывала у короля не она. Наконец в спальню вошел архиепископ Кранмер. Теперь Анна поняла, почему Генриху было не по себе. Ему не хотелось, чтобы служитель Господа слышал непристойные шутки. Вероятно, как и она, он предпочел бы, чтобы эта глупая забава поскорее закончилась. — Во имя Англии и святого Георгия! — крикнул какой-то юнец, когда король поклонился Анне и тяжело взобрался на постель рядом с ней. От его больной ноги пахнуло гнильем. Они лежали рядом, не касаясь друг друга, пока Кранмер благословлял их ложе, окроплял его святой водой и молился, чтобы муж и жена зачали плод. Потом по кивку короля все покинули спальню. Матушка Лёве удалилась последней, задув все свечи. Спальня — единственное место, где Сюзанна не могла выступать переводчицей, и Анна лежала в страхе. На невысоком поставце у дальней стены было оставлено вино, и ей очень хотелось глотнуть его для храбрости перед испытанием, которое ждало впереди. — Не хотите ли вина, сир? — осторожно спросила она. — Думаю, я выпил достаточно. Может быть, мы выпьем немного позже. Анна почувствовала, как его рука змеей скользит по ней, придвигает ее к середине кровати, чтобы она лежала, прижавшись к нему, к его толстенному животу. Забинтованная нога Генриха была накрыта одеялом, и запах не был таким отвратительным. Она могла его выносить. «Я многое способна вынести», — сказала себе Анна. — Не бойтесь меня, — прошептал ей на ухо Генрих. — Я знаю, чем порадовать даму, как и подобает джентльмену. Его борода грубо колола ей висок. Анна почувствовала, как король прильнул к ней всем телом, и внутренне сморщилась, когда он задрал ей ночную рубашку и отбросил в сторону простыню и покрывало. Неприятно было лежать перед ним нагой, но протестовать она не смела. Ее долг — подчиняться мужу во всем, отныне и навсегда. Мать, покраснев, сказала так, внушая Анне необходимость быть верной и любящей женой. С Отто все было бы совсем по-другому! Но нет, нельзя сейчас о нем думать. Генрих поцеловал ее в губы, от него пахнуло вином, а потом она ощутила, как его рука путешествует по ее телу — жадно лапает груди, спускается вниз, к ягодицам, скользит по животу. Там она остановилась, и Генрих отстранился; в мерцающем свете догоравших в очаге поленьев его глаза рыскали по телу Анны. Она вся сжалась под этим пристальным взглядом. Неужели он заметил? Немного погодя Генрих убрал руку и лег на подушку. — Увы, мадам, — пробормотал он, — кажется, я действительно выпил слишком много вина, меня клонит в сон. Я приду к вам снова следующей ночью. Минуту назад он вовсе не казался сонным. — Я чем-то обидела вашу милость? — в ужасе прошептала Анна. — Чем вы могли меня обидеть? — спросил он, в его глазах отражались пляшущие язычки пламени очага. Анна испугалась, — вдруг в вопросе короля кроется какой-то потаенный смысл? — Я хочу только одного — радовать вас. Генрих с трудом поднялся с постели, потянулся за своим халатом и ответил: — Я это знаю. Если вы хотите порадовать меня, Анна, ложитесь спать. Спокойной ночи. Он подвязал поясом халат, прошел к двери и бесшумно закрыл ее за собой. Король догадался. Анна была в этом уверена. Но он ничего не сказал. Вероятно, был слишком шокирован. Кто мог ожидать, что принцесса из благородного герцогского дома скрывает столь мрачную тайну? Вдруг Генрих подумал, что ему подсунули опороченную невесту, обманули и выставили дураком? Она почувствовала, что король старательно подбирал слова. Генрих не знал, как реагировать, что сказать или сделать. Но он поймет, когда переспит с этим. Анна ни секунды не сомневалась, что это не сойдет ей с рук.
Утром она проснулась рано. Все было как будто в тумане. Она перевернулась на спину и лежала в напряженном ожидании, что в любой момент услышит шаги пришедшей за ней королевской стражи. В семь часов в спальню деловито вошла матушка Лёве. — Доброе утро, ваша милость, — сказала она, открывая занавески, и улыбнулась Анне. — Вы не поделитесь со мной? Все прошло хорошо? — Нет, — прошептала Анна, и слезы потекли по ее лицу. — Он догадался. Я знаю, он догадался! Он трогал меня и смотрел… Потом остановился и сказал, что устал. И ушел от меня. О Боже, что со мной будет? Матушка Лёве села на кровать и обняла Анну: — Тише, дорогая. Это меня вовсе не удивляет. Его уход может вовсе не означать того, о чем вы подумали. — Как это? — Анна попыталась сесть. — Прошлой ночью, после того как вас уложили в постель, мы с Сюзанной не ложились, и несколько английских леди были в дружелюбном настроении. Мы выпили немного вина, леди Рочфорд слегка развеселилась и сказала нам, что у короля мало мужской силы, он, вероятно, бесполезен в отношениях с женщинами. — Она так сказала? Откуда ей знать? — Ее покойный муж был братом королевы Анны. Анна мысленно сопоставила факты. — Его казнили за инцест с ней. Матушка Лёве поджала губы. — Герцогиня Ричмонд шепнула мне потом, по секрету, что обвинения против него выдвинула сама леди Рочфорд. — Зачем она это сделала?! — Анна пришла в такой ужас, что почти забыла о своих собственных затруднениях. — Может быть, ревновала к любви между братом и сестрой. — Какой любви? Кровосмесительной? — Кто знает? Большинство людей здесь не хотят говорить о том, что случилось. Леди Рочфорд сказала только, что, по словам королевы Анны, король импотент. — Но у него есть сын от королевы Джейн. — Анна, я уже давно потеряла своего супруга, но пробыла замужем достаточно времени, чтобы понять: мужское желание зависит от здоровья и настроения. Оно может быть непредсказуемым. Анна ощутила, как по ее венам мягким теплом разливается облегчение. Конечно, такому властному мужчине, как король, невероятно унизительно страдать импотенцией. Может быть, он боялся этого брака так же, как она! И все же он был в возбуждении, она это чувствовала. Неужели вид ее тела лишил Генриха мужской силы? — Он хотел меня, я знаю, — сказала она, чувствуя, что щеки у нее вспыхнули. — Но когда коснулся моего тела и посмотрел на него, остановился и сказал, что слишком много выпил. — Вот именно, — кивая, проговорила матушка Лёве. — Вино может привести мужчину к неудаче в постели, особенно при таком здоровье, как у него. Нога сильно беспокоит короля, это видно. Что не способствует пробуждению желания. Анна, вы должны набраться терпения. Ведите себя так, будто все в порядке. Изображайте невинность. И радуйтесь, что сегодня вам не нужно появляться при дворе. А теперь вытрите глаза, и когда вы успокоитесь, я позову ваших дам, они помогут вам одеться. Они не должны видеть вас такой. Представьте, какие поползут слухи! Анна лежала и пыталась унять трепещущее сердце. Может быть, поведение короля никак не связано с ней. Если он был не способен к любви, пускай; она будет избавлена от его объятий. Но она не забеременеет, и ее, без сомнения, станут винить в этом. Пойдут мрачные разговоры онаследнике, невозможность родить детей и для нее самой станет большой печалью: она не сможет заменить того, потерянного ребенка; но это лучше, чем пережить публичный позор. Заставив себя встать, Анна стойко вынесла услуги своих помощниц, размышляя, придет ли повидаться с ней король. Она надеялась, он не забудет про обычай Brautstückes; это подтвердило бы его внимательное отношение к ней. Однако надежды не оправдались: никто не пришел — ни сам король, ни его посланец с подарками. Анна сидела в своих личных покоях и пыталась сосредоточиться на вышивке — она копировала орнамент в технике Kreuzstich[106] по книге, которую привезла с собой из Клеве. В последний раз Анна открывала ее в Дюссельдорфе… На Анну нахлынули воспоминания о родной стране и обо всех, кого она любила и потеряла. Слеза упала на лежавшую у нее на коленях ткань. Так не пойдет! Она должна выглядеть счастливой невестой. И пусть никто не догадывается, что не все у нее идет гладко. Нужно как-то отвлечься. Анна спросила Сюзанну и Маргарет Дуглас, не прогуляются ли они с ней по ее личному саду. Обе радостно закутались в меха, натянули перчатки и вышли вместе с ней в маленький, уединенный, замерзший садик. Они прошли мимо аккуратных прямоугольных цветочных клумб с низкими оградками и полосатыми столбами по углам, на которых сидели фигуры геральдических животных. Прогулялись по дорожкам между ними, беседуя о свадьбе и вчерашних великолепных торжествах. Анна старательно изображала восторг и признательность.
В тот день Генрих так и не показался в покоях супруги. Во время обеда явился его подавальщик блюд, чтобы пожелать Анне от имени короля приятной трапезы. — Он будет приходить каждый день, мадам, — объяснила герцогиня Саффолк. — У короля в обычае присылать его. Когда Генрих не пришел разделить с ней ложе, Анна не знала, испытывать ей облегчение или страх. Радуясь, что осталась одна, она позвала Сюзанну спать с ней рядом на тюфяке. — Мне нравится леди Маргарет, — сказала она. — Странно, что эта женщина до сих пор не замужем. Наверняка она — ценный приз для любого мужчины. — Мадам, она влюбилась в Томаса Говарда, младшего брата герцога Норфолка, — ответила ей Сюзанна. — Они тайно заключили предварительное соглашение о браке, что было глупо, потому что леди Маргарет — племянница короля и ему решать, за кого она выйдет замуж. В результате их обоих отправили в Тауэр — ну и скандал был! — и приговорили к смерти. Рука Анны подлетела ко рту. Генрих обрек на смерть собственную племянницу?! Милую, очаровательную леди Маргарет! — Их не казнили, — продолжила Сюзанна, — но продержали в тюрьме много месяцев. В конце концов леди Маргарет выпустили, а вот лорд Томас заболел и умер. Она была в большом горе и отправилась жить с герцогиней Ричмонд во дворце Норфолка в Кеннингхолле, где провела много времени. Ко двору она вернулась только ради того, чтобы служить вам. Лорда Томаса она любила по-настоящему, и я думаю, до сих пор скорбит о нем. — Какая трагическая история, — с чувством проговорила Анна; ее собственные проблемы на этом фоне казались такими мелкими. Когда они задули свечи, она лежала без сна и печалилась, думая, что ей не суждено познать такую сильную любовь, какую испытала Маргарет Дуглас, и что, если король обрек на смерть родную по крови племянницу, не говоря уже о жене, которую сперва обожал, чего он не сделает с грешницей вроде нее самой?
На следующий день период уединения завершился. Анна пошла гулять в Гринвичский парк, взяв с собой только Сюзанну и своих английских дам, так как уже ощущала некоторое недовольство предпочтением, которое она оказывала своим немецким помощницам и в особенности матушке Лёве. Анна понимала: нельзя допускать, чтобы ее двор разделился; если это произойдет, сформируются противоборствующие группы, возникнут распри и нездоровое соперничество. На вершине холма позади дворца рядом со старой заброшенной башней она встретила четверых молодых джентльменов из своей свиты; они верхом охотились с соколами. Анна узнала Флоренца де Дьячето, Франца фон Вальдека и Германа, графа фон Нойенара. Четвертым был Отто фон Вилих: одетый в черный бархат, он выглядел весьма изящным на своем прекрасном жеребце. Все поклонились ей с сёдел. Анна встретилась глазами с Отто. Как же он красив — голубые глаза, высокие скулы и буйные кудри! Отто мило улыбнулся ей, и она ощутила слабый толчок желания. Как же Анна завидовала его жене! Произошел обмен любезностями. Анна поймала себя на том, что ей хочется поделиться своими проблемами с Отто. Это было бы безумием, она знала, но чувствовала, что он бы ее понял. В конце концов, он же ей не чужой. Но о таком нельзя было и помыслить. Анна не могла — не посмела бы — остаться с ним или с любым другим мужчиной наедине. Поэтому она улыбнулась всем четверым джентльменам и пошла дальше.
Той ночью Генрих пришел к Анне в постель, прислав заранее церемониймейстера с оповещением о времени своего прибытия. Он вошел через дверь, соединявшую их апартаменты, улыбаясь, но его пронзительные глаза смотрели на нее оценивающе. Хорошо еще, что король не выглядел сердитым. — Добрый вечер, Анна, — сказал Генрих, снимая ночной халат. — Добрый вечер, ваша милость, — ответила она, надеясь, что при этом имеет довольный вид, и радуясь, что немного подучила английский. Занималась Анна упорно; спать с королем и не иметь возможности поговорить с ним — это заставляло ее чувствовать себя ущербной. — Нет нужды церемониться, когда мы вдвоем. Вы можете называть меня Генрих. — Благодарю вас, ваша… Генрих, — сказала она и улыбнулась. — На следующей неделе я устраиваю турнир в честь нашего бракосочетания, — воодушевленно сообщил он ей, снимая с себя ночную сорочку. Анна еще не слышала от него такого тона. Странно, что не планировались никакие другие празднества. По воспоминаниям Анны, когда Сибилла вышла замуж, свадебные торжества продолжались много дней. Разумеется, они должны быть еще более пышными, когда король женится на иностранной принцессе. Может, Генрих посчитал ее дорогостоящий прием в Кале и Блэкхите достаточными для того, чтобы отметить их вступление в брак? И кажется, мать говорила, что Генрих планировал провести медовый месяц в Сент-Джеймсском дворце, однако ничего не было слышно о том, чтобы они собирались переезжать туда. Какая досада — сидеть в четырех стенах и не иметь ни малейшего представления о том, что происходит за закрытыми дверями апартаментов короля и зала совета! Если бы только она знала, что у Генриха на уме. Король задул свечу у кровати и повернулся к Анне. На этот раз он не стал снимать с нее ночную сорочку, а сказал: — Идите сюда, — и притянул к себе, потом взгромоздился на нее, вдавив глубоко в перину. Он был такой тяжелый, что Анна едва могла дышать. Она раздвинула ноги, чтобы ему было удобнее, и ждала, пока он войдет в нее, но чувствовала, что ничего не происходит. После нескольких невыносимых моментов, в продолжение которых Анна боялась, что задохнется, он скатился с нее, тяжело дыша, и сказал: — Я не могу, Анна. Сожалею. — Он указал на свою ногу. — Меня постоянно мучает боль. И сегодня сильнее обычного. Простите меня. Она поняла, что он пытался ей сказать. Слабый нездоровый запах объяснил все. — Сир… Генрих, тут не за что просить прощения. Мне жаль, что вы страдаете от боли. Чем я могу помочь? — Вы очень добры, но мои доктора уже все испробовали. Может, завтра станет лучше. Давайте поспим. — И король устроился на постели поудобнее. Очевидно, возвращаться в свои апартаменты сегодня вечером он не собирался. — Я надеюсь на это, — сказала Анна. — Спокойной ночи, Генрих. — Спокойной ночи, милая, — ответил он и поцеловал ее в лоб. Ласковое слово смутило Анну, это было так неожиданно. Сбывались слова матушки Лёве: все изменится после свадьбы, и сегодня проявленное друг к другу участие сломало лед. Больше не нужно было хитрить. Генрих открылся ей во всей своей уязвимости, и она выказала готовность помочь. Ему это явно понравилось. Утром Анна забеспокоилась, вдруг она прочла ситуацию неверно, но нет. — Доброе утро, Анна, — проснувшись, сказал Генрих. — Который час? Она посмотрела на каминные часы и ответила: — Sieben… семь. — Правда? Тогда я должен идти. У меня встреча с послами. — Морщась от боли, он сполз с кровати, прошел по комнате и взял свой халат. Надев его, вернулся к постели, взял руку Анны и поцеловал, сказав: — Всего доброго, дорогая. Я приду к вам сегодня вечером.
Этой ночью дела шли не лучше, и следующей тоже. Матушка Лёве говорила правду. Король был импотентом. Когда он пришел к Анне на пятую ночь, то даже не пытался совокупиться с ней. Они лежали и вели неловкую беседу, потом Генрих встал и предложил ей сыграть с ним в карты. — В сент, ja? — Как вам угодно, — согласился он. Победив в первой партии, он похвалил свою партнершу: — Вы хорошо играете, Анна, — а потом предложил: — Давайте я теперь научу вас играть в примеро. Анна обнаружила, что ей приятно находиться в его обществе, и подозревала, что ему тоже нравится быть с ней. Он старался, как мог, создать легкую атмосферу и помочь ей понять его слова. Потом даже попросил научить его нескольким словам по-немецки. Спать они легли после двенадцати. Генрих вернулся к ней на следующую ночь, и еще раз, и еще, пропустив одну. Порядок был заведен. Король, очевидно, бросил притворяться, что пытается привести их брак к необходимому завершению, потому что даже не пробовал прикоснуться к жене. Вместо этого они играли то в карты, то в шахматы или просто ложились спать. Страхи Анны начали отступать. Хотя она продолжала болезненно сознавать свою ограниченность. Языковой барьер не позволял говорить об интимных вещах и вести непринужденную беседу, что могло бы пробудить более глубокие чувства между ними. Как и чем можно очаровать мужчину — об этом она понятия не имела. Развлекать Генриха музыкой и танцами не могла, поскольку ни того ни другого не умела. Что ей оставалось? В ее силах было предложить супругу теплый прием и демонстрировать, как ей нравится его общество. Но достаточно ли этого?
Глава 11
1540 годАнна была замужем меньше недели, когда лорд Кромвель попросил у нее аудиенции. Она держалась с ним настороже, понимая, что он знает мысли короля и может сказать вещи, которые ей не хотелось бы слышать. Кромвель обладал большой властью, которую мог использовать к ее пользе или во вред, и хотя Анна предложила ему дружбу, она не знала, что получит взамен. Принимать государственного секретаря она решила, сидя на троне под балдахином, чтобы подчеркнуть свой ранг. Это придавало ей уверенности. — Ваша милость, — сказал Кромвель, целуя ей руку. Когда он поднялся из поклона, глаза его были бесстрастными, ничего-то по ним не угадать. — Я пришел к вам по деликатному делу. Сердце Анны пропустило один удар. Неужели король пожаловался ему, что она не девственница? Прошу тебя, Господи, только не это! — Его величество не хочет обижать вас, мадам, но он просит, чтобы вы перестали носить немецкие платья. Вы королева Англии, и он хотел видеть вас одетой в английские наряды. А она-то боялась, что ее сейчас отправят в Тауэр! У Анны с собой были английские платья, сшитые для нее мастером Уилкинсоном. Большинство так и остались ненадетыми, потому что даже на большом расстоянии от Клеве неодобрение матери обладало серьезной сдерживающей силой. Она подумала обо всей той немецкой одежде, которую приказала сшить для нее мать: столько денег и труда потрачено напрасно! Но сильнее всего ее огорчало, что Генрих сам не завел разговора об этом, а прислал Кромвеля. Вот чего стоила их дружба! Она не смела встретиться взглядом с Сюзанной, которая переводила беседу. — Милорд, я, как обычно, готова повиноваться желаниям короля, — сказала Анна Кромвелю, — но мои немецкие платья стоили огромных денег. — Мадам, вы можете послать за портным в любое время. Король возьмет на себя оплату их замены на наряды, которые придутся ему по вкусу. — Прошу вас, поблагодарите от меня его величество, раз уж он предпочел обсудить этот вопрос через вашу светлость. — Кромвель строго взглянул на нее, но она решила проигнорировать это. — А что насчет костюмов моих немецких дам? — Им тоже рекомендуется носить английские платья, и я уверен, вы поймете это правильно. — Разумеется, — сказала Анна, вставая. — Что-нибудь еще, милорд? Кромвель с поклоном удалился. Анна посмотрела на своих фрейлин, понимая, что ее у них на глазах поставили в неловкое положение. Из-за слов Кромвеля она чувствовала себя так, будто нанесла королю какую-то обиду, когда намерением матери было отправить ее в Англию одетой с такой роскошью, которая не посрамила бы чести не только Клеве, но и короля Генриха. — Мадам, сегодня утром, когда вы гуляли в саду, лорд Кромвель сказал нам то же самое, — сообщила ей Сюзанна. — Он попросил нас мягко уговорить вас носить платья по английской моде. — Ему следовало сначала побеседовать со мной! — сердито бросила Анна. — Как и Генриху! Она быстро ушла в свою гардеробную и вместе с разъяренной матушкой Лёве и несколькими девушками, бывшими на подхвате, начала во все возрастающем смятении вытаскивать из шкафов одно за другим свои платья. Не останавливало ее даже то, что английские дамы смотрели на них с презрением. — Сколько же потребуется работы, чтобы их переделать, — со стоном проговорила Анна. — И у них нет шлейфов. Я не знаю, с чего начать. — Мадам, — сказала Маргарет Дуглас, — у вас уже есть английские платья. Эти можно переделать на досуге. Анна едва сдерживала слезы. Все труды, вся материнская забота о ней — все насмарку. И еще одна связь с Клеве будет оборвана. Она решительно выпрямилась и приказала: — Вызовите портного.
На турнир Анна надела одно из своих английских платьев с похожим на гало французским капором; этот тип головного убора приобрел такую популярность при дворе, что теперь считался атрибутом английской моды. Дамы говорили ей, что она выглядит очень привлекательно, но Анна чувствовала себя полуголой в платье с квадратным низким вырезом и с непокрытыми волосами. Тем не менее на лице Генриха, когда он провожал ее на королевскую трибуну, читалось одобрение, и это радовало. Ловить на себе восхищенные взгляды зрителей тоже было приятно. Даже Кромвель сделал ей комплимент. Анна чувствовала, что вступает в права королевы с достоинством. Она увереннее говорила по-английски. С сознанием долга соблюдала все обряды церкви Англии. Начала открывать для себя, что английские платья носить удобнее, чем немецкие, хотя нужно было привыкнуть к шлейфам. Она заказала несколько новых нарядов из черного атласа и дамаста, чтобы блистать в украшениях, которые для пущего эффекта преподнес ей Генрих. Он, может, и забыл про Brautstückes, но однажды вечером пришел на ужин с прекрасной брошью и парной к ней подвеской. Их придумал сам Гольбейн, они состояли из переплетенных монограмм «Г» и «А». Во время перерыва в поединках Анна спросила у Генриха, можно ли ей потратить часть своих доходов на украшения. — Да, конечно. Вы можете поступать, как вам нравится, — ответил он и после обеда прислал к ней своего ювелира с разными драгоценностями, чтобы она посмотрела. — Разумеется, ваша милость может заказать украшение по своему желанию, — сказал ей мастер Хайес. Анна рассматривала разложенный перед ней изысканный набор предметов. — Не показывайте мне ничего больше. Вот эта вещь прекрасна. — Она указала на брошь с бриллиантами, на которой были изображены крошечные сценки. — Эти картинки рассказывают историю о Самсоне, мадам, — пояснил ювелир. Вещь была очень дорогая, но Анна купила ее.
Присутствие Анны при дворе, который не видел королевы больше двух лет, сделало ее объектом жадного интереса: многие родовитые дворяне и придворные джентльмены уже частенько захаживали в ее апартаменты, и всем, казалось, что-то было от нее нужно. — Как мне понять, к кому благоволить, а кого избегать? — спросила она у доктора Олислегера вечером после турнира. — Я ничего не знаю ни об одном из них. — Они ищут вашего покровительства, мадам. Надеются, что вы передадите их просьбы королю и замолвите за них словечко при случае. Некоторые лорды разбогатели, беря с просителей плату за посредничество в разных делах или за покровительство. Так устроена жизнь при дворе. — Но я понятия не имею о предпочтениях короля в таких делах. Боюсь, многие сильно разочаруются во мне. — Лучше вам ни во что не ввязываться, мадам, пока вы не узнаете получше этого короля и его двор. В течение следующих нескольких дней Анна заметила, что некоторые люди смотрят на нее с плохо скрываемым любопытством; один или двое даже усмехались и перекидывались какими-то ехидными фразами, прикрыв рты ладонями. Просветила ее Сюзанна. Однажды вечером она вошла в приемный зал с пылающим лицом и сказала, опускаясь на колени перед изумленной Анной: — О мадам, не знаю, как сообщить вам, о чем говорят люди при дворе, но вы должны знать. Лучше бы только не мне выпало на долю делать это. — Что они говорят?! — тревожно вскричала Анна. Сюзанна сглотнула. — Они говорят, — простите меня, мадам, — что король сказал, мол, у него больше не будет детей для благополучия государства, потому как, хотя он способен на акт, ведущий к продолжению рода с другими, но с вами ему это не удается. Некоторые шепчутся, что он импотент, но большинство из тех, кого я слышала, считают виноватой в этом вашу милость. В Анне разбушевался гнев. — В этом виноват он! — крикнула она, не в силах сдержаться. — Я решила никогда ни с кем не говорить о его неспособности привести к завершению наш брак, а теперь, оказывается, он растрезвонил об этом всем и возложил вину на меня. И считает себя человеком чести! Как смеет он делать меня козлом отпущения за свою несостоятельность! Сюзанна безмолвно смотрела на нее. — Мадам, я не представляла… Но плотину внутри Анны прорвало. — Неудивительно, что люди пялятся на меня! Они, наверное, думают, какие такие страсти таятся под моими королевскими нарядами и что такого отвратительного во мне, раз король не может меня любить? Это ужасно и до крайности унизительно! Как после такого я смогу показаться на люди и выйти из своих апартаментов? — Мадам, прошу вас, успокойтесь… — Как я могу? Нужно что-то сделать, как-то прекратить эти оскорбительные разговоры! Анна помолчала — у нее от возмущения голова шла кругом — и попыталась вернуть себе самообладание. Был один человек, который обладал силой и средствами остановить это. — Пошлите за лордом Кромвелем, — распорядилась она. — Скажите, что я хочу поговорить с ним наедине, прямо сейчас. Вернулся посыльный. Его светлость молит о снисхождении, но он занят делами государства. Он послушно явится на ее призыв, как только сможет.
Когда Генрих пришел к ней в постель в ту ночь, она едва могла вести себя с ним прилично. Будь он человеком пониже рангом, она бы высказала ему все. Но Анна никогда не забывала о том, что короля нельзя обижать. Разумеется, не имело никакого значения, что обижена она! Генрих раздал карты, потом остановился. — Что случилось, Анна? Она недостаточно хорошо владела английским, чтобы углубляться в детали, поэтому после долгой паузы ответила: — Люди говорят. О нас. Они знают, что мы не… У короля хватило такта изобразить, что ему неприятно. Его бледная кожа порозовела. — Они считают, что я плохая. Что я вам не нравлюсь. Это делает меня очень несчастной. Откуда они знают такие вещи? — Она посмотрела ему прямо в глаза. — Это просто сплетни. Двор полнится ими. Не обращайте внимания. — Говорят, вы сказали, что можете делать это с другими, но не со мной, — возразила Анна. — Но где они такое слышали? — Она была намерена пришпилить его к месту. — Анна, что это? — вспыхнул Генрих. — Вы решили устроить мне допрос? — Скажите, что вы не говорили таких вещей! — воскликнула Анна. — Разумеется, не говорил! — рявкнул он. — Довольно! — Король не взглянул на нее. Анна подозревала, что он лжет. Генрих встал и, бросив на стол карты, пробормотал: — Пожалуй, я пойду и поищу себе более душевную компанию. Желаю вам спокойной ночи, мадам. И супруг ее ушел, громко протопав к двери.
Когда наступило утро, Анна проснулась, чувствуя себя крайне несчастной и встревоженной. Глупо было злить короля. Хотя она и чувствовала себя обиженной, но решила извиниться при первой возможности. Анна надеялась, что Кромвель скоро появится; тогда она сможет объяснить, что понимает, как была не права. Она выложит ему всю правду, и он подскажет ей, как теперь подступиться к Генриху. Анна ждала и ждала, но Кромвель не появлялся. Злость и досада росли в ней. Было ясно, что господин главный министр, скорее всего, просто избегает ее. Если Анна прогневала короля или Кромвель считает катастрофу их личной жизни ее виной, вполне естественно, что он не осмелится встревать в ссору Генриха с ней. Мало того, будет всеми силами отстраняться от нее, не желая, чтобы на него возложили ответственность за неудачный брак короля или приписали ему поддержку неугодной суверену супруги. Анна продолжала терзаться сомнениями, когда к ней в личные покои пришел камергер ее двора граф Ратленд; выглядел он при этом необычно для себя скованным. — Да, милорд? — начала разговор Анна. — Ваша милость, милорд Кромвель просил меня поговорить с вами о личном деле. Он принимает близко к сердцу ваши интересы и желает видеть вас и его величество счастливыми и довольными, а потому советует вам вести себя любезно с королем. Анна онемела. Она боялась, что сейчас взорвется от ярости. Генрих побежал к Кромвелю жаловаться, как будто это грязное дело целиком и полностью лежало на ее совести. Из чего был сделан вывод, что в проблемах, которые возникли в их браке, тоже виновата Анна. Граф смотрел на нее с сочувствием: — Думаю, произошло какое-то недопонимание, мадам, которое король воспринял плохо. Если мне будет позволена такая смелость, я наблюдал, как вы ведете себя по отношению к нему, и могу честно заявить, что никто не нашел бы в ваших поступках ничего предосудительного. От его доброты у Анны едва не потекли слезы. Ратленд был кузеном и приближенным Генриха. Он не мог критиковать своего суверена, но тем не менее открывал путь к примирению, предлагал средство для восстановления хрупкого равновесия между ней и королем. Это было недопонимание. — Боюсь, вчера вечером я говорила с его величеством невежливо, — призналась Анна. — Я была расстроена после того, как Сюзанна передала мне досужие сплетни, о которых она, вполне справедливо, посчитала, мне нужно знать. Мой английский плох, и его милость воспринял мои слова так, будто я его обвиняю в том, что источник этих сплетен — он. Он ушел прежде, чем я успела объяснить и извиниться. — Я уверен, его милость примет ваши извинения, — заверил ее Ратленд, потом помолчал и добавил: — Мне известно об этих слухах, мадам. Имея большой опыт службы при дворе, я научился не обращать внимания на досужие разговоры. И советую вашей милости поступать так же. — Я сделаю так, как вы говорите, — отозвалась Анна, заставляя себя улыбнуться. — Будьте добры, спросите его милость, придет ли он к мне сегодня вечером. — Разумеется, мадам. — Камергер поклонился и ушел.
Генрих пришел. Анна догадалась, что Ратленд умело справился со своей миссией, так как ее супруг был в благостном настроении и отмахнулся от ее извинений. Может, он чувствовал себя виноватым за то, что так расстроил ее, если и правда был источником сплетен. Король распорядился, чтобы ужин подали в личных покоях королевы и с ними осталась одна Сюзанна. Потом сказал, что назначил Анне секретаря. — Уильям Паджет — добрый малый, здравомыслящий и надежный, к тому же умеет обращаться с деньгами. Он служил клерком при Тайном совете. — Генрих застонал. — И леди Лайл пристает ко мне, чтобы я нашел место для ее дочери при вашем дворе. Эта женщина никогда не знает, где остановиться. Она даже прислала мармелад, чтобы задобрить меня, и вынудила доктора Олислегера попросить за нее. — Это я виновата, — сказала ему Анна. — Я попросила его, не зная, как вы относитесь к таким вещам. Сир, со своей стороны, я бы сказала ей, что, как бы настойчиво доктор Олислегер ни уговаривал вашу милость взять еще одну камеристку, это невозможно. Фрейлины и камеристки были назначены до моего приезда сюда, так что пока им придется набраться терпения. — Вот именно! — Генрих одобрительно кивнул. Его благодушие испарилось, когда после ужина к нему подошла леди Ратленд: — Сир, леди Лайл попросила меня убедить вашу милость, чтобы вы назначили ее дочь одной из фрейлин королевы. Вам следует знать, что она прислала мне подарки — по бочке вина и селедки. — Это подкуп, мадам! — взревел Генрих. — Скажите ее светлости, что король не хочет больше принимать фрейлин, пока какая-нибудь из тех, что уже служат королеве, не предпочтет другое место. Леди Ратленд наклонила голову: — Конечно, сир. — Посоветуйте ей обратиться к матушке Лёве, — сказала Анна. — Скажите, что она может посодействовать в этом вопросе, как никто другой. И на этом все закончится! Генрих усмехнулся, и хорошее настроение вернулось к нему. — Ей-богу, Анна, вы заставили бы покраснеть самого Макиавелли! Надо сделать вас членом Совета.
Через два дня Генрих пришел ужинать в брюзгливом настроении. — Вы бы последили за этой девкой Анной Бассет, — буркнул он. — Она подстерегла меня сегодня, когда настала моя очередь стрелять по мишеням. И попросила не забывать ее сестру. — Я поговорю с ней, — обещала Анна. — Не нужно! — фыркнув, сказал Генрих. — Я ответил ей, что многие уже говорили со мной насчет ее сестры, но я не дам ей места, так как намерен иметь при дворе юных леди порядочных и умеющих блюсти свою честь. Это заставило ее умолкнуть! — Матушка Лёве сегодня получила крупную взятку от леди Лайл, — призналась Анна. — Она очень твердо написала в ответ, что ваша милость постановили: новых девушек принимать не будут, пока какая-нибудь не покинет свой пост, чтобы выйти замуж. — Именно так, — подтвердил Генрих, и потом его тон изменился. — Анна, мне нужно обсудить с вами вопрос о ваших соотечественниках. Барон фон Оберштайн, доктор Олислегер, великий магистр Гохштаден и многие другие члены вашего эскорта через несколько дней вернутся в Клевс, как и планировалось. Анна знала и боялась этого, потому что с их отъездом оборвется еще одна ниточка, связывающая ее с домом. Ей хотелось поправить Генриха, который неправильно произнес Клеве, но она не посмела. Большинство англичан называли ее родину Клевс в рифму с «плебс», а не Клеве, что рифмовалось бы с «в гневе». Со временем, вероятно, она сама станет так говорить. — Но, — продолжил Генрих, — я оставляю графа Вальдека и многих других ваших немецких джентльменов и девушек, пока вы не освоитесь с жизнью в этом королевстве. — Он снова проявил доброту, свидетельств которой с момента заключения брака было немного. — Я очень благодарна вашей милости, — сказала ему Анна, глубоко тронутая и испытавшая облегчение. Когда Генрих вел себя так, она могла многое ему простить.
На третьей неделе января король устроил пир в своем приемном зале в честь уезжающих лордов и сановников. На нем присутствовали Анна и многие знатные дворяне. Кромвель тоже пришел — Кромвель, который так беззастенчиво отказался выполнить просьбу Анны, а теперь делал вид, что ничего не было. — Нас встречали здесь с большими почестями, — сказал сидевший справа от Анны доктор Олислегер, — так я и передам по приезде вашему брату герцогу. Король проявил большую щедрость. Воистину, я думаю, вам очень повезло с браком. Анна заглянула в глаза этого мудрого и верного, испытанного временем советника, который так старался сделать ее королевой, и не увидела в них иронии. Олислегер не знал, чего не хватает в ее супружестве. Она подумала о Вильгельме, о том, какие надежды он возлагал на этот альянс и как нуждался в дружбе Англии, которая даст ему опору в борьбе против амбиций императора. Нет, она не станет обременять ни одного из них правдой. К тому же, несмотря ни на что, король начинал ей нравиться; каждый день Анна молилась, чтобы проблема, лежавшая между ними невидимым мечом, разрешилась, и она смогла родить Генриху детей, чем завоевала бы любовь короля и его подданных. К радости Анны, Генрих сказал, что, наверное, оставит матушку Лёве и ее любимых немецких девушек, Катарину и Гертруду, и еще больше двух десятков других ее соотечественников. Английские фрейлины Анны так и не желали подружиться с немецкими; она начала понимать, что англичане вообще не доверяли иностранцам, или чужакам, как они их называли. Местные косо смотрели на немецкие платья и передразнивали гортанный немецкий акцент. Анна подозревала, что некоторые из ее девушек, включая Анастасию, скучали по дому и были рады уехать, но отважная, жизнерадостная Катарина и мягкая, верная Гертруда с удовольствием остались бы. Обе были преданы Анне и матушке Лёве, которая обращалась с ними как со своими внучками. Четырнадцатилетний кузен Анны, Франц фон Вальдек, тоже оставался при ней в качестве пажа, и ее это радовало. Разрешили не уезжать и Отто фон Вилиху, его жене Ханне, Флоренцу де Дьячето, Брокгаузенам, доктору Сеферу, повару Анны мейстеру Шуленбургу. Двор ее теперь был весьма многочисленным. «Ни одной королеве, — думала она, — не служило столько людей». Не так обрадовало Анну, что в качестве официального переводчика доктора Олислегера заменит его надменный сборщик податей Уаймонд Кэри, хотя Сюзанна Гилман продолжит исполнять эту должность в личных делах. Анне сразу не понравилось, как держал себя Кэри. Этот крупный мужчина с расчетливыми глазами и длинной кустистой бородой был слишком вежливым, слишком отчужденным и слишком строгим, но, очевидно, он великолепно управлялся с делами. Нужно попытаться с ним поладить, это ее долг. Анна улыбнулась с неподдельным удовольствием, когда Кэри сообщил, что король поручил ему купить подарки и выделить деньги всем, кто возвращался в Германию. Она предложила свою помощь в выборе и получила отпор, вежливый, но твердый. Однако сегодня, стоя в приемном зале и ожидая момента прощания со своими людьми, она вынуждена была признать, что Кэри не посрамил ее честь. Лорды и послы Клеве и Саксонии были сильно впечатлены ценными дарами, а поднесли им деньги и посуду. Обошлось все это наверняка в огромную сумму! Настала пора говорить прощальные слова. Анна стояла на помосте и задерживалась взглядом на каждом, кто должен был уехать: любовно посмотрела на доктора Олислегера, великого магистра Гохштадена, барона Оберштайна и Франца Бурхарда, всех этих добрых людей, которые верно служили ей и всей ее семье. Анна боялась, как бы затаенная в сердце печаль нежданно не прорвалась наружу. Все-таки жене короля не подобало терять самообладание. Они должны увезти с собой в Клеве впечатление о королеве безмятежной и довольной своим высоким положением. Один за другим уезжающие подходили к ней за разрешением отбыть. Самые сильные чувства охватили Анну, когда над ее рукой склонился доктор Олислегер. — Да пребудет с вами Господь, милый друг! Я стольким вам обязана. Глядя, как процессия ее соотечественников выходит в огромные двери, Анна вдруг забеспокоилась: нужно сделать так, чтобы родные не тревожились за нее. Она не знала, дошли ли до кого-нибудь из покидавших Англию сегодня эти ужасные слухи, но если дошли и они передадут их в Клеве… Нет, Анна решилась снабдить их напоследок сладкой ложью. Когда попрощаться подошла леди Кетелер, Анна задержала ее и сказала: — Миледи, прошу вас передать герцогине, моей матери, и моему брату герцогу, я от всего сердца благодарю их за то, что выбрали мне такого супруга, лучше которого я не могу и желать. Никакой другой брак не доставил бы мне большего удовольствия. — Я передам им, мадам, — пообещала леди Кетелер и тоже ушла.
Анна сидела в своей спальне и писала ободряющие письма матери и брату, которые заберет с собой и отвезет в Клеве доктор Уоттон. Сюзанна подкладывала дрова в камин, и тут объявили о приходе короля. Они были женаты уже три недели, а он до сих пор так и не сделал ее своей. Анна предполагала, что эта ночь будет такой же, как предыдущие. Генрих заберется к ней в постель, полежит рядом, попытается завести разговор, потом задремлет или предложит сыграть в карты. Он всегда был мил и любезен, но не делал попыток прикоснуться к ней. Сегодня король был в добром расположении духа. — Я послал за принцем, Анна, чтобы его привезли ко двору и он познакомился со своей новой мачехой. — Ах, я так рада! Мне очень хотелось встретиться с вашими детьми. — Вы скоро увидитесь с Марией и Елизаветой. Мария была нездорова, но теперь, хвала Господу, ей много лучше. Эдуард абсолютно здоров, что для меня большое утешение. Он весьма развитый ребенок, в чем вы скоро убедитесь. Анна отложила перо. Она уже была в ночной сорочке. Сюзанна задула свечи и ушла, а король тяжело опустился на постель. Запечатав письма, Анна присоединилась к нему. Может быть, напоминание о единственном сыне, которого могла в любой день сразить какая-нибудь детская болезнь, заставило Генриха потянуться к ней. «Пусть сегодня я стану его женой по-настоящему», — про себя взмолилась Анна. Но нет. Пока Генрих обнимал и целовал ее, стало ясно, что ничего не случится. Вскоре он слегка вздохнул и отпустил жену. Они лежали молча в свете огня от очага. — Вы нравитесь мне, Анна, — через некоторое время сказал Генрих. — Вы мне очень нравитесь, но, кажется, Господу не угодно, чтобы я любил вас. — Есть много других путей, помимо любви, — прошептала она. — Да, но королю нужны наследники, а мой ум никак не подтолкнуть к тому, что нужно для этого произвести. — Вы больны, Генрих? — осмелилась спросить Анна. — Боль в ноге сильно мучает меня. — Можно как-то ее облегчить? — Доктора делают все, что могут. Простите, Анна. — Мне очень жаль, что вы так страдаете. — Она взяла его за руку и продолжала держать в своей, когда они уснули.
Принц оказался очень красивым, с белокурыми волосами и серьезным личиком, печальными голубыми глазами, румяными щеками и заостренным подбородком. У Анны сжалось сердце: малыш напомнил ей об Иоганне. Мальчику еще не было двух с половиной лет, но он стянул с головы шапочку с пером, изящно поклонился собравшимся придворным, потом протопал от гувернантки к своему отцу и встал перед ним на колени. — Эдуард, сын мой! — воскликнул Генрих, поднял его на руки и поцеловал. — Анна, вот главное сокровище Англии. Эдуард, поприветствуйте свою новую мачеху. Он поставил мальчика на пол, и тот поклонился Анне, затем поднял взгляд и посмотрел на нее с очень важным видом. Анне хотелось посадить его к себе на колени, но, казалось, этого лучше не делать. Это был необычный ребенок. Его с рождения окружали почестями как драгоценного наследника великого короля, и, похоже, мальчик уже сознавал это. Анна сделала реверанс, желая, чтобы его глаза потеплели. Может быть, как многие маленькие дети, Эдуард дичился новых людей, но она в этом сомневалась. Он был прирожденный король. — А вот и достопочтенная леди Брайан, — объявил Генрих, представляя воспитательницу принца Анне. Леди Брайан входила в лета, но производила впечатление особы распорядительной и преданной своему делу. Пока Генрих расспрашивал ее об успехах сына, Анна пыталась наладить контакт с малышом, который стоял в длинных юбках из красного дамаста и спокойно рассматривал роскошную обстановку приемного зала своего отца. Анна протянула мальчику купленный специально для него мячик, ярко раскрашенную милую вещицу; такую игрушку она с радостью подарила бы своему сыну. Эдуард взял мячик, словно бы по обязанности, и сказал без всякого чувства: — Спасибо, миледи. Она засомневалась, знает ли он, что делать с этой штукой, и показала, как мячик отскакивает от пола, после чего мягко кинула игрушку обратно Эдуарду. Он, конечно, не поймал его, потому как был слишком мал, чтобы так быстро среагировать, но потом поднял мяч и бросил Анне. Вскоре малыш уже громко хохотал, особенно когда она специально роняла мяч, притворяясь, что никак не может понять, куда он укатился. — Вон! Вон он! — кричал Эдуард, тыча пальцем, как всякий нормальный ребенок. Бедняжка! Он не знал своей матери, а отец, высоченный, мощный, одетый в меха и бархат, должно быть, казался мальчику каким-то полубогом и вызывал благоговение. Анна надеялась, что сможет заменить Эдуарду мать. Это пошло бы на пользу и ему, и ей. Король и придворные наблюдали за игрой. — Давай, Эдуард, поймай его! — подбадривал Генрих. Принц настороженно поглядел на него. Тогда Генрих наклонился и поднял мяч, и Эдуард радостно хохотнул. — Вы скачете на деревянной лошадке, которую я вам подарил? — спросил его отец. — Да, сир, — прошепелявил мальчик. — Хорошо, хорошо. — Генрих лучился улыбкой. — Скоро у вас будет настоящий пони для катания. Вам он понравится, правда? Эдуард задумался. Кони, как и короли, очевидно, пугали его. — А потом мы научим вас обращаться с мечом! — Генрих замечтался. Ребенку было всего два года! Глядя на отца и сына, Анна подумала, что, наверное, у короля есть причины желать, чтобы его сын поскорее вырос. Любой внимательный человек увидел бы, что Генрих болен и может не дожить до взросления сына. Вероятно, сам он тоже это понимал. Когда Эдуард устал от игры, король сел на трон, а сын устроился на стульчике у его ног. Позвали музыкантов. Музыка была одним из любимых развлечений при дворе. Анна уже наняла нескольких исполнителей, и сегодня их позвали играть для короля, чтобы Генрих сам убедился, как они искусны. — Браво! — воскликнул он, когда заиграли рондо, а придворные по его кивку поднялись и начали танцевать. Принц сидел и таращил на них глазёнки. Генрих наклонился к Анне. — Милорд Кромвель говорит, в Венеции есть очень искусные музыканты-евреи, которые прячутся от инквизиции. Я намерен предложить им убежище в Англии. Они прекрасные мастера. Вы примете их к своему двору, Анна? — Охотно, сир. — Она улыбнулась, снова радостно изумляясь его доброте.
Анна начинала привыкать к английским обычаям. В ее жизни устанавливался определенный порядок. Бо́льшую часть времени она проводила в личных покоях, работала иглой, играла в карты или в кости со своими дамами и джентльменами. Лучше всего было сидеть за игральным столом с Отто, ведь в таких случаях она могла совершенно законно наслаждаться его обществом. Иногда Анна приглашала кого-нибудь, чтобы развлечь своих слуг, например Уилла Сомерса, королевского шута, остроты которого вызывали много смеха, или акробата, заставлявшего всех разевать рот при виде тройных сальто, которые он вертел. Ханна фон Вилих, время от времени исполнявшая обязанности дежурной фрейлины, принесла Анне попугая. Птица привлекла к себе много внимания экзотическим оперением и смешила всех, повторяя слова, которые нельзя было произносить. Был один момент, когда у нее замерло сердце: король находился у нее в гостях, и вдруг из золоченой клетки, висевшей у окна, раздался крик: «Гарри — плохой мальчик!» Анна залилась краской, а Генрих резко повернул голову и разразился хохотом. — Простите меня, ваша милость! — воскликнула Анна. — Попугая назвали Гарри в честь вас. Мы говорим ему, что он плохой мальчик, когда он кусает нас. Генрих усмехнулся: — По крайней мере, я не кусаюсь! Все дамы захихикали. Анна продолжала уделять время занятиям английским. С помощью коротких, ломаных фраз и жестов она уже могла добиться понимания и кое-как поддерживать простые разговоры, но беглой ее речь никак нельзя было назвать. Хорошо, что королева жила уединенно, — это давало ей возможность лучше овладеть языком до того, как придется выполнять более ответственные публичные роли. В следующем месяце ее коронуют, потом наступит весна, а вместе с ней — Пасха и большие торжества при дворе, о которых говорили ее дамы. К этому времени нужно получше овладеть английским. Генрих был с ней терпелив. Ждал, не торопя, пока она подберет в голове нужное слово. Постепенно ее словарный запас расширялся. Но росла и тревога: момент коронации приближался, а о ней до сих пор не было сказано ни слова и не делалось никаких приготовлений. Анна напомнила себе, что почившая королева так и не была коронована.
В конце января король пришел к ней ужинать, что случалось два-три раза в неделю. Настроение у него было кипуче-радостное. — Император рассорился с королем Франции! — ликуя, объявил Генрих. — Я всегда говорил, что любовники из них выйдут неважные! Оба начали искать моей дружбы. Всего несколько месяцев назад они объединялись, чтобы пойти на меня войной! Анна сияла улыбкой, но в голове у нее завертелись тревожные мысли о возможных последствиях, если Генрих заключит пакт с одним из правителей. — Император проявляет особенный интерес к возобновлению нашей дружбы, — продолжил Генрих. — Карл так лицемерил по поводу моего отлучения от Церкви, а теперь, очевидно, это не имеет для него значения, пока я на одной с ним стороне в борьбе против этого лиса Франциска! Моя дорогая, это заметно усиливает мои позиции! Анна не слишком хорошо разбиралась в политике, но понимала: если Генрих заключит новый договор с Карлом, ему больше не нужен будет альянс с Клеве. Она не могла молчать. — Сир, вы останетесь другом Клеве? Я вас умоляю. Император угрожает Гелдерну. Генрих вскинул бровь: — Не знал, что вы политик, мадам! Ну-ну! Успокойтесь, я намерен сохранить дружбу с вашим братом. В альянсе с императором пока нет никакой уверенности, и если я решусь на него, то потребую гарантий. Я выставлю свои условия! — Он откинулся на спинку кресла и допил вино, очень довольный собой, а потом сообщил Анне еще одну новость: — На следующей неделе вас будет официально встречать Лондон. Все-таки коронация состоится! Леди Рочфорд говорила, что короли и королевы всегда проходят с торжественной процессиейчерез Лондон, прежде чем отправиться на коронацию в Вестминстерское аббатство. — На улицах устроят живые картины, из фонтанчиков будет течь вино, — рассказала она Анне. — Мы выйдем из Гринвича на барке в следующее воскресенье, — говорил Генрих. — Анна, наденьте английское платье. — Разумеется, сир. У меня есть одно из золотой парчи, я надену его на коронацию. Последовала пауза. — Она отложена до Пятидесятницы, — сказал Генрих, отрезая себе еще кусок жареного мяса. — Тогда погода будет лучше. Анна подавила разочарование и подозрения: опять что-то не так. Сомнения обуревали ее все время знакомства с Генрихом. Никогда она не была уверена в нем и не могла постичь, что происходит в его королевской голове. Впадала в беспокойство, потом ей казалось, что все идет нормально, пока какой-нибудь очередной неожиданный поворот событий, вроде отложенной коронации, не заставлял ее задуматься вновь. — Тогда я поберегу это платье, — через силу улыбнувшись, сказала Анна.
Глава 12
1540 годБерега Темзы на протяжении всего пути из Гринвича заполонили толпы людей: горожане хотели посмотреть, как Анна поплывет мимо в своей барке. — Все нарядились как на праздник, мадам, — заметила Маргарет Дуглас. Она, матушка Лёве, Сюзанна, а также герцогини Ричмонд и Саффолк сидели, тесно прижавшись друг к другу, рядом с королевой в роскошно отделанной каюте на корме судна, которое англичане называли «государев дом». Впереди восемнадцать гребцов дружно работали веслами, быстро направляя лодку в сторону Вестминстера. Барка Анны шла четвертой в великолепной флотилии весело украшенных кораблей. Сразу перед ней находилось судно с королевскими гвардейцами, дальше впереди следовала барка самого Генриха, а до нее — другая, с придворными. Анна думала, что они с королем поедут вместе, бок о бок, и так совершится ее въезд в Лондон, но была разочарована, узнав, что они отправятся в путь порознь. Это разожгло в ней очередную искру беспокойства, ставшего неотъемлемой частью ее жизни. Несмотря на это, Анна заставила себя улыбаться и махать рукой людям. Флаги и вымпелы громко хлопали на ветру. Позади барки Анны шли другие, с ее дамами и слугами, мэром и олдерменами[107], членами всех лондонских гильдий; их лодки были богато украшены щитами и золотой парчой. Следом за ними тянулись суда помельче, в которых сидели представители английской знати и епископы. В воздухе висел пороховой дым. Впереди показался лондонский Тауэр, стоявший стражем на краю города. Анна подавила дрожь, вспомнив, что там держали в заточении и казнили королеву Анну и сэра Томаса Мора. Сжалась ли та Анна от страха при виде этой башни, понимая, что может никогда из нее не выйти? Вдруг, когда они приблизились к крепости, воздух сотряс грохот пушек, которые дали залп салюта из тысячи стволов. Он прогремел сильнее грома, и Анна закрыла ладонями уши. К счастью, вскоре Тауэр остался позади, и теперь они скользили по стремнине под Лондонским мостом. Вдоль правого берега тянулся Лондон с огромными домами, садами и многочисленными церковными шпилями, высившимися позади них. Анна слышала колокольный звон и радостные крики собравшихся на берегу горожан. Барка обогнула отмель на реке, впереди показались дворец Уайтхолл и огромное аббатство Вестминстер. Лодка причалила у лестницы Вестминстерского моста, где Анну ждал король. Она сошла на берег под аплодисменты толпы и сделала реверанс своему мужу, который провел ее под аркой огромного гейтхауса и дальше во дворец. Вот и все. Ни живых картин, ни процессии через город, ни официального приветствия мэром. Может быть, думала Анна, пока Генрих вел ее в апартаменты королевы, это тоже отложили до коронации. Однако Пятидесятница не за горами: всего три месяца, и наступит май. По крайней мере, прием в Лондоне был теплым. Анна любовалась богатым декором Уайтхолла: прекрасные галереи, великолепные гобелены, роскошно обставленные залы. Дворец оказался таким большим и так сложно устроенным, что в нем легко можно было заблудиться. Комнаты Анны выходили окнами на реку и личный сад королевы. Какой восторг — находиться здесь, совсем рядом с Лондоном! Анну охватило ликование. Может, в конце концов все сложится хорошо и коронация состоится так быстро, что она и не заметит.
В Уайтхолле они провели пять дней. Утром, целуя Анне руку на прощание, Генрих сказал, что не придет к ней сегодня вечером. — Сейчас пост, Анна, и я должен воздерживаться от посещения вашего ложа. — Конечно, — кивнула она. Значит, они не будут спать вместе до самой Пасхи, целых шесть недель. По ночам будет немного тоскливо без массивного Генриха под боком. Близость в постели сблизила их мыслями, если не сердцами и телами. Анне показалось, что Генрих как будто испытывал легкое облегчение, вероятно радуясь избавлению от еженощного унижения — лежать рядом с ней без всякого толка. Он не пытался сделать ее своей с той позорной ночи в Гринвиче. Если быть до конца честной, она тоже чувствовала облегчение, но и грустила, что они так и не довели до завершения их брачный союз, и наслаждение, к которому она стремилась, ускользало от нее. А она-то надеялась к этому времени уже носить ребенка короля и опасалась, что вскоре люди начнут убеждаться в правдивости не так давно будораживших двор слухов. Когда Генрих ушел, Анна лежала в апатии и уже ощущала одиночество, размышляя: интересно, все ли набожные супруги воздерживаются от любви во время поста? Она не могла представить, чтобы Отто фон Вилих покинул ложе своей дорогой Ханны на такой долгий срок. В последние дни мысли ее все чаще отвлекались на Отто. Хотя они редко разговаривали и беседы их состояли в основном из обмена любезностями, Анна чувствовала на себе его подбадривающий, восхищенный взгляд. Ей хотелось, чтобы Отто узнал об их сыне. Она чувствовала себя виноватой, что обманывает его. По совести, он имел право знать о своем ребенке, но нужно быть прагматичной. Анна старалась задвинуть мысли об Иоганне в самый дальний угол сознания. Воспоминания о нем причиняли одну только боль, и она пыталась не погружаться в них, а вместо этого предавалась размышлениям об Отто. Он был единственным мужчиной в ее жизни, которого она по-настоящему желала, которому отдала свою девственность. Анна понимала, что Отто навсегда останется для нее тем мужчиной, по которому она будет судить обо всех остальных; в сравнении с ним король был жалким супругом. Разумеется, брак состоит не из одной только физической любви, но чего бы она только не отдала за ночь удовольствий, какие доставил ей Отто! Теперь Анна жила воспоминаниями. Вероятно, другой любви ей познать не придется. Невыносимо было видеть, как нежно Отто обращается со своей женой. Несмотря на доброту, часто выказываемую Анне Генрихом, его отношение к супруге ярко контрастировало с тем, как ведет себя Отто с Ханной: за всеми его словами и жестами читались сильная привязанность и любовь. Анна пыталась не испытывать ненависти к Ханне, но это давалось ей с трудом. Хватит лежать и хандрить. Анна встала и позвала горничных. Умывая лицо, она думала: добрался ли уже доктор Уоттон до Клеве и передал ли ее письма матери и Вильгельму? Вот бы получить от них весточку. Она вдруг с тревогой осознала, что не помнит голоса матери.
В начале марта они переехали из Уайтхолла в Хэмптон-Корт. Анна видела Гринвич и Уайтхолл и считала эти дворцы прекрасными, но, когда барка, везшая ее и Генриха, прошла изгиб реки у местечка Темза-Диттон[108], она ахнула, увидев огромный краснокирпичный дворец. Приютившийся на берегу реки в окружении обширного парка, Хэмптон-Корт был великолепен! Они сошли на берег у дворцового спуска к воде и, пройдя по крытой галерее с эркерными окнами, оказались прямо у апартаментов короля. — Я не хочу, чтобы мои подданные всегда видели, чем я занимаюсь или куда иду, — сказал Генрих. Анна успела заметить, что он почти с одержимостью охранял свою личную жизнь от посторонних, и связывала это с присущей ему боязнью измены. Судя по рассказам, королю приходилось иметь дело с заговорами и предательствами на протяжении всего правления. Сюзанна осторожно намекнула — говорить такие вещи открыто было опасно, — что есть некие люди, которые считают себя имеющими больше прав на престол, чем он. Генрих как будто прочел мысли супруги. — Никогда не раскрывайте своих намерений, Анна. Если бы я узнал, что шапке известны мои мысли, то бросил бы ее в огонь. — Это было одно из самых откровенных высказываний, какие ей довелось услышать от своего супруга. Двери открылись, и Анна вступила в апартаменты, прекраснее которых в жизни не видела. Они были отделаны дубовыми панелями, с лепными потолками и роскошными фризами с путти и классическими орнаментами. Стены сверкали позолотой и серебрением, некоторые были завешены парчовыми шторами и бархатом с вышитыми королевскими гербами. Изысканные витражные вставки с геральдическими знаками искрились в окнах, остекленных хрусталем. Анна шла по роскошному ковру, думая, что ее мать хватил бы удар: ковры следовало класть на столы, чтобы не испортить! Генрих провел ее через свои личные покои, в которых имелся встроенный в стену алебастровый фонтан. Распахнулась противоположная дверь, и они вошли в приемный зал; вдоль стен застыли стражники. — Мы называем этот зал Райским, — гордо заявил Генрих. Потрясенная Анна сразу сообразила почему. Все здесь сверкало драгоценными камнями и металлами, потолок был украшен прекрасной росписью, а над стоявшим на помосте троном был натянут парчовый балдахин. Она никогда еще не видела такой роскошной комнаты, но даже это не подготовило ее к захватывающему дух зрелищу Главного зала. Стоя на полу, покрытом в шахматном порядке зелено-белой плиткой, Анна смотрела на потрясающий дубовый каминный купол и галерею для менестрелей над ним, широкие витражные окна и огромные гобелены на стенах, изображавшие, по словам Генриха, историю Авраама и сверкавшие золотыми и серебряными нитями. Венцом всего была великолепная крыша на деревянных консольных балках. — Вам нравится Хэмптон-Корт? — спросил Генрих. — Он восхитителен, как дворец из легенды, — выдохнула Анна. Она не до конца верила, что все это великолепие принадлежит ей и она может вволю наслаждаться им. — Тогда вам понравятся и ваши покои, — продолжил Генрих, взял ее за руку и повел обратно через свои покои в королевскую спальню. Там перед ними открыли дверь в личную галерею короля с картинами на религиозные темы, зеркалами и картами. — Дверь в дальнем конце ведет в апартаменты королевы, — пояснил Генрих. Анна подумала: интересно, сколько ее предшественниц приятно проводили там время? Она вошла в свою опочивальню и в благоговении огляделась. — Я приказал, чтобы эти комнаты оформили в старинном стиле, и пригласил немецкого мастера. Вам будет приятно это узнать. Их обновили перед вашим приездом. Она обвела взглядом комнаты и увидела вставленные в потолок зеркала и тонкую гротескную резьбу на стенных панелях. Спинку кровати украшал резной медальон с ее гербом. Остальные покои были отделаны с той же роскошью. Окна с одной стороны выходили в просторный двор с крытой галереей, с другой находился личный сад королевы, а за ним раскинулся огромный парк. Но больше всего Анне понравился широкий балкон. — Отсюда вы с дамами сможете наблюдать за охотой в парке, — сказал ей король. — А теперь, мадам, я оставлю вас устраиваться. Увидимся за ужином. — Он поклонился и ушел. Дамы занялись распаковыванием вещей. Тем временем Анна позвала Сюзанну и вместе с ней спустилась по лестнице в сад. Там работал какой-то человек, краснощекий старик. Увидев ее, он выпрямился и прикоснулся к шапке. — Какой красивый сад, — сказала Анна. — Верно, леди. Устроен ею. — Ею? — Королевой. Она любила бывать здесь. Мы с ней вместе работали тут. Я Чепмен, главный садовник. Теперь она с праотцами, но я не могу забыть ее светлое лицо и милую улыбку. Анна и Сюзанна обменялись взглядами. — Вам нужно осмотреть и другие сады, госпожа, — продолжил Чепмен. — Вы ничего подобного не видали, и бо́льшая часть — это моя работа. Король Гарри говорит мне: «Я хочу живые изгороди с амбразурами» или «Хочу дерево в форме всадника», — и я все это делал, чтобы его порадовать. Вы приходите как-нибудь посмотреть. — Мы придем, — пообещала Анна, оглядываясь вокруг. Цветы набирали бутоны под бледным мартовским солнцем, в воздухе едва заметно пахло весной. — Вы леди при новой королеве? — спросил Чепмен, с любопытством поглядывая на них. Сюзанна подавила смешок. — Я новая королева, — с улыбкой произнесла Анна. Старый садовник разинул рот, стянул с головы шапку и поклонился: — Прошу прощения, ваша милость. Теперь это ваш сад. Вы говорите Чепмену, чего желаете. — Он прекрасен такой, какой есть. Я хочу, чтобы он таким и остался. Старик вгляделся в нее: — Как пожелаете, ваша милость. Вы такая же светлая, как она, не то что говорят. — Он немного не в себе, — тихо проговорила Сюзанна, когда они неспешно пошли по дорожке между прямоугольными газонами, обнесенными низкими загородками, с цветочным бордюром вдоль краев и вездесущими столбами в зелено-белую полоску, на которых сидели раскрашенные фигуры геральдических животных короля. — Он явно был предан королеве Джейн, — заметила Анна. — Ее многие любили, — отозвалась Сюзанна. — Мой брат Лукас написал несколько ее портретов, все в миниатюрах. Может быть, когда-нибудь он изобразит и вас? — Нужно попросить его об этом. — Анна улыбнулась. — Только прикажите, ваша милость! — Это были апартаменты королевы Джейн? — спросила Анна, глядя на окна наверху. — Предназначались для нее, но она так и не успела пожить в них. Король хотел, чтобы там все переделали после королевы Анны… Королева Джейн пользовалась комнатами старой королевы в башне. Там родился принц Эдуард. — И там она умерла, — добавила Анна, радуясь, что ей не придется жить в тех покоях. — Да. Ее похоронили с почестями в церкви[109]. Леди Мария и все дамы много дней проводили ночные бдения над ее телом. — Отчего она умерла? Тяжелые роды? — Роды были долгие, но заболела она несколько дней спустя. Это была ужасная трагедия для Англии и для принца, конечно. «И трагедия, что у принца не осталось надежды заиметь брата», — подумала Анна. — Бедный малыш. Я хочу стать для него матерью, — заявила она.
На следующее утро король пришел повидаться с супругой. Анна приняла его в своих личных покоях, фрейлины присели в реверансах, юбки шарами раздулись вокруг их ног. Генрих взмахом руки велел дамам удалиться и опустился в кресло у камина. — Я получил вести из Клеве, которые вас обрадуют, Анна. Ваш брат отправляет в Англию постоянного посла. — Это хорошее известие, сир! — Анна, он просит военной помощи против императора. — Карл вторгся в Гелдерн? — в тревоге спросила она. — Нет, но угрожает этим. Ваш брат пишет, что вы знаете нового посла. Его зовут доктор Карл Харст. — Я знаю его, — подтвердила довольная Анна. — Он много лет служил моему отцу и брату как советник и был послом при дворе императора. Это весьма ученый человек. — Так пишет мне и герцог Вильгельм. Он сообщил, что у почтенного доктора есть дипломы из университетов Гейдельберга, Кёльна, Орлеана и Лёвена. Этот господин в высшей степени подходит для должности посла, являясь доктором права и юристом, к тому же он бывал в Италии. С нетерпением жду возможности пообщаться с ним. Он говорит по-английски? — Нет, сир, но бегло говорит на латыни, и он был близким другом Эразма. — Ха! Тогда я еще больше хочу приветствовать его. Вы встречались с Эразмом, Анна? — Увы, нет, но мой отец восхищался им и подражал ему. Можно сказать, у нас в Клеве эразмианский двор! — Я однажды встречался с Эразмом, когда был ребенком, — стал рассказывать Генрих. — Он приехал во дворец Элтхэм. — Вдруг глаза короля наполнились слезами. — Сир? Что случилось? — Анна удивилась, увидев Генриха настолько поддавшимся эмоциям. — Ничего, — буркнул он. — Просто я вспомнил, как был молодым, когда весь мир и вся жизнь впереди и все складывается превосходно. Эразм привез с собой Томаса Мора. Я попросил Мора написать кое-что для меня. Он был лучшим человеком в моем королевстве… — Голос короля оборвался, но Анна не знала, что сказать. — Доктор Харст скоро будет здесь, — произнес Генрих, приходя в себя. — Я собираюсь принять его так же, как встречал послов Клеве прошлой осенью. Анна, доктор Уоттон сообщил мне, что передал ваши письма вашей матери герцогине и герцогу, чему они очень обрадовались. Узнав о вашем благополучии, они возвеселились духом и оказали Уоттону самый сердечный прием. Он сообщает, что все они в добром здравии и ваша сестра тоже, вам будет приятно это слышать. — Более приятных известий я в жизни не получала, — сказала ему Анна, чувствуя, что и сама близка к слезам от воспоминаний о матери, Эмили и ребенке, имени которого произносить нельзя. — Когда прибудет доктор Харст? — В любой из ближайших дней. Он покинул Клеве незадолго до того, как Уоттон отправил свое письмо мне. Анна начала считать часы. Как прекрасно будет получить больше новостей из дому и быть в курсе того, что происходит в Клеве.
Через два дня король громко притопал в ее покои в дурном настроении. — Ваш посол здесь! — рявкнул он, пока Анна и ее дамы торопливо приседали в реверансе. — Прочь, прочь, леди! Я буду говорить с королевой! Женщины бросились врассыпную. — Сир, что случилось?! — воскликнула Анна. — Меня обманули! — проревел Генрих. — Клеве настолько бедно, что не может собрать своего посла так, как подобает статусу его господина? Он прибыл в таком виде, будто какой-то проходимец, почти без слуг. Посол герцога должен был явиться к моему двору роскошно одетым и в сопровождении свиты, которая отражала бы великолепие государства, с которым я вступил в альянс! Анна была сбита с толку и возмущена. — Сир, доктор Харст — хороший человек. Его мало заботят придворные условности, но за ум и преданность он весьма уважаем в Клеве. — Если этот господин так мудр, мадам, почему не знает, как оказать честь своей стране и мне?! — прорычал король. — Я уверена, он вовсе не желал проявить к вам неуважение, — возразила Анна. — Я не приму его! Он не дождется от меня радушной встречи! — Лицо Генриха пылало; он развернулся и, сердито шурша дамастом и шелком, вышел вон. Анна стояла совершенно потрясенная. Что ей делать? Для успеха миссии доктору Харсту нужно подсказать, как смягчить сердце короля. Если понадобится, она сама даст ему денег на хороший костюм и наем слуг. — Вызовите ко мне посла Клеве, — приказала она церемониймейстеру.
Анна с улыбкой протянула руку доктору Харсту. Кто-то же должен дать послу почувствовать, что ему здесь рады! Одетый в меховую накидку и с бархатной шапкой на голове, он выглядел достаточно представительно, но его смуглое скуластое лицо с тяжелыми бровями и мясистыми щеками несло на себе печать озабоченности. — Ваша милость, я не рассчитывал на такую любезность после того, как камергер короля сообщил мне, что его величество меня не примет. — Доктор Харст, король рассердился, что вы прибыли в неподобающем виде. Но я могу помочь вам с этим. Послу явно было не по себе. — Мадам, дело не в моем платье или в малочисленности свиты, его величество обидело не это. Как только я приехал, лорд Кромвель тут же явился и потребовал ответа, привез ли я доказательства. — Доказательства? Какие доказательства? — Документы, подтверждающие, что ваша помолвка с сыном герцога Лоррейнского официально расторгнута. У Анны перехватило дыхание. — Вас просили привезти их? — Нет, мадам, не просили. За ними отправили в Клеве доктора Уоттона, раз уж его величество твердо решил получить удовлетворение в этом вопросе. Когда я уезжал, как раз велись большие розыски в архивах. — Все это лишнее! — вздохнула Анна. — Меня заверили, что король только желает успокоить себя в смысле состоятельности вашего с ним брака, то есть в его неоспоримой законности. Учитывая его брачную историю, это не лишено оснований. — Да, полагаю, что да. — Анне хотелось бы верить в это. — Но я забываю о приличиях. — Она налила гостю вина. — Надеюсь, вы отдохнули после поездки и устроились с комфортом. Харст выглядел расстроенным. — Увы, мадам, мне не отвели никаких комнат. Я собираюсь искать приют в гостинице. Какой стыд! — Мне очень жаль, что с вами так обошлись. Я поговорю с королем. Доктор Харст поднял руку, чтобы остановить ее: — Ничего страшного. Когда король перестанет сердиться на меня, я попытаюсь сам снискать его милость. Дружественных отношений нужно добиваться любой ценой. Герцогу необходимы люди и оружие для борьбы с императором. — Королю это известно, доктор Харст. Ради брата я прибавлю свой голос к вашему. Посол сделал глоток вина: — Я рад видеть, что с вашей милостью так хорошо обращаются, и слышать, что вы уже имеете некое влияние на короля. — О, я бы так не сказала! Его милость поступает, как ему заблагорассудится, но раз или два прислушивался к моему мнению. — Это прекрасное начало, — сказал доктор Харст. — Джентльмены, встречавшие меня по приезде, сказали, что подданные короля любят вашу милость и благодарят Господа за то, что Он послал в их страну такую добрую королеву. — Как трогательно! — Анна улыбнулась. — В Англии мне оказали прекрасный прием, особенно в Блэкхите, где меня официально встречал король. Я никогда не видела, чтобы столько людей собралось в одном месте. — Доктор Уоттон рассказал герцогу, как любит король вашу милость, и добавил, что очень обрадовался, увидев взаимность с вашей стороны. — Король был очень добр ко мне, — сказала Анна, радуясь, что доктор Уоттон, который наверняка все знал, так отозвался о ее браке. — Он дал мне все основания полюбить его. Она подумала о грязных слухах, бесплодных ночах, своей неспособности постичь истинные чувства Генриха и признала себя лгуньей. Но потом вспомнила постоянную задумчивость короля, растущую симпатию между ними, омрачавшую его жизнь боль и поняла, что в ее словах есть доля правды. — Мы слышали от послов курфюрста Саксонского, что ваш брак начался радостно, и все в Клеве желают, чтобы по благословению Божию ваша жизнь и дальше складывалась так же успешно. Похоже, и ее брат, и все вообще за границей были уверены, что все идет хорошо. Анна подумала, неужели никто из ее вернувшихся слуг или даже сам доктор Уоттон не сказал ничего такого, что заставило бы Вильгельма усомниться в ее благополучии? И возможно ли, что он нимало не удивился, когда Уоттон снова поднял вопрос о ее давнишней помолвке? — Позвольте мне помочь вам с деньгами, чтобы вы могли приобрести все необходимое при дворе, — сказала Анна. — Нам нужно задобрить короля. — Благослови вас Бог, но нет, — ответил Харст. — У меня есть деньги, хотя я мог бы найти им лучшее применение. А теперь, мадам, с вашего позволения, я должен идти искать себе пристанище.
Когда Анна впервые пришла на мессу в Хэмптон-Корте, то была потрясена красотой Королевской капеллы. Сидя рядом с Генрихом на королевской скамье, откуда был прекрасно виден неф, где собрались на службу придворные, Анна рассматривала великолепный потолок с веерными сводами, раскрашенный ярко-синей краской и золотом, со спускающимися вниз «бутонами», трубящими путти и девизом короля: «Dieu et mon Droit»[110], написанным повсюду на ребрах сводов. Капеллу украшали разноцветные витражные окна, резные хоры, картины, гобелены и уложенная в шахматном порядке мраморная плитка на полу. Здесь упокоилась с почестями королева Джейн; здесь крестили принца. Здесь, даст Бог, когда-нибудь будет крещен и ее, Анны, ребенок, хотя надежда на это была слабой. После мессы она спросила Генриха, можно ли ей задержаться в капелле и полюбоваться резным декором. Король отдал распоряжение священнику и разрешил Анне остаться в церкви в сопровождении одной Сюзанны. Она увлеченно разглядывала тончайшие изображения сцен из Святого Писания на витражах, как вдруг ее благоговейное созерцание было прервано звуком чьих-то шагов. — Мне сказали, я могу найти вашу милость здесь, — сказал доктор Харст. Выглядел он превосходно в отделанном мехом дамастовом платье; украшенную самоцветом шапку с пером посол снял с головы и держал в руках. — Надеюсь, я не помешал вам. — Вовсе нет, — сказала Анна, приглашая его сесть с ней на переднюю скамью. — Все ли хорошо у вас с королем? Харст горестно улыбнулся: — Я пресмыкаюсь перед ним, и он постепенно смягчается, так что да, наши отношения улучшаются. — Рада слышать это. Я начинаю понимать, что король бывает весьма заносчивым и нетерпимым, к тому же легко выходит из себя. Думаю, скоро он проявит больше дружелюбия, особенно если вы заговорите с ним об Эразме! Ну а чем я могу быть вам полезна сегодня? — Тут, скорее, дело в том, что вам следует узнать некоторые вещи, мадам. Король настаивает на добавлении нового пункта к брачному договору. Его величество хочет, чтобы ему гарантировали заблаговременное предупреждение на случай, если ваш брат затеет войну против императора. Герцог же опасается, что король хочет таким образом избежать вовлечения Англии в конфликт. — Но он обещал помощь Клеве! — Анна была шокирована. — Да, мадам. Вероятно, ему нужно время, чтобы подготовить и вооружить войска. Но герцог очень не хочет соглашаться. Он боится открытым согласием спровоцировать императора и короля Франции. Тем не менее он желает приватно уступить требованию короля. — Король удовлетворится этим? — Нет, мадам. — На лице Харста было написано, как ему трудно с Генрихом. — Но я должен постараться убедить его. У меня есть и хорошие новости. Ваш брат издал нотариально заверенный сертификат, подтверждающий, что предварительное соглашение с Лоррейном расторгнуто. Герцог уверен, что этот документ удовлетворит короля. — Харст помолчал. — Больше меня заботит, что, по моему впечатлению, реформаторы как здесь, при дворе, так и за границей радуются перспективе, что вы станете защитницей протестантов. — Невероятно! — Анна встревожилась. — Разве они не видят, что я никогда не отступалась от обрядов своей веры? — Они полагают, вы просто подстраиваетесь под ожидания, мадам, и будете стараться привести короля к поддержке их взглядов на религию, как делала покойная королева Анна. — Я не имею желания ни в чем подражать королеве Анне, и меньше всего в защите лютеранской веры, — заявила она. — Тем не менее завязавшаяся дружба между королем, Клеве и Шмалькальденской лигой подвигла многих к тому, чтобы возлагать на вас большие надежды. Люди уже говорят, что с вашим воцарением гонения на протестантов прекратились. — Это простое совпадение, доктор Харст. Я замужем всего два месяца. Боюсь, реформисты разочаруются, потому что я не смогу оказать поддержку их делу. — Я знал, что вы так ответите. Будет разумно не вовлекаться в религиозные распри, которые рвут на части английский двор и всю Европу. — Это хороший совет, мой добрый друг. Я запомню его. Покинув капеллу, она увидела в галерее лорда Кромвеля. Он разговаривал с двумя клерками и следил за ней взглядом. Анна заново осознала, какой здравый совет дал ей доктор Харст.
Глава 13
1540 годСтоя у стола в своих личных покоях, Анна вскрыла пакет. В тонкую бумагу был завернут миниатюрный алый берет, украшенный золотыми пуговками и изящным пером. — Это прекрасно подойдет принцу Эдуарду, — сказала она портному. — Благодарю вас за труды. Она не могла дождаться момента, когда сможет передать шапочку Генриху, который через два дня отправлялся в Ричмонд встречаться с детьми, но должен был вернуться и провести Пасху с ней в Хэмптон-Корте. К тому моменту пост завершится, и он сможет вновь делить с ней ложе. К своему удивлению, Анна обнаружила, что ждет этого с нетерпением. «Как все меняется», — размышляла она, вспоминая свой ужас при первом появлении перед ней Генриха в Рочестере. Но с тех пор Анна поняла, что привязанность не имеет ничего общего с внешностью: завоевывает сердца скрывающаяся за ней личность человека. Она ни на мгновение не принимала это чувство за любовь, но любезность и доброта супруга произвели переворот в ее чувствах по отношению к нему. Когда Генрих в тот вечер пришел ужинать, Анна показала ему маленький берет. — Что за милая идея, Анна! — воскликнул он, любуясь вещицей. — Это прекрасно подойдет Эдуарду. По-моему, вы придумали отличный подарок. — Генрих поздоровался с Сюзанной и сел за стол, очень довольный. — Жду не дождусь встречи с детьми. Нечасто случается, что они собираются в одном месте. Генрих сказал Анне, что старается держать Эдуарда и Елизавету как можно дальше от двора, в отведенных им загородных дворцах, где воздух более здоровый. — Я сожалею об этом, сир, потому что хотела бы стать для них матерью, — сказала Анна, стараясь не выдать своей тоски по материнству. — Скоро их привезут ко двору, — пообещал Генрих. — Мне особенно хочется встретиться с леди Марией, — продолжила Анна. — Мы с ней почти одного возраста. Бедная Мария. Судя по тому, что Анна успела узнать, ей пришлось пережить тяжелые времена, после того как брак ее родителей расстроился. На первый план один за другим выдвигались все новые наследники престола и так же быстро отвергались. Марию объявили незаконнорожденной, как и ее сводную сестру Елизавету, и она теперь не считалась завидной невестой. Анна слышала, что Мария то и дело чем-нибудь болеет. Ничего удивительного. И она надеялась сделать что-нибудь хорошее для своей падчерицы. Раз у Генриха появился сын и наследник, не осталось причин, чтобы не вернуть ее в очередь на престолонаследие. Это невероятно повысило бы шансы Марии на обретение супруга. — Мы вскоре пригласим ее ко двору, — сказал король. — Я знаю, ей не терпится увидеться с вами. Анна надеялась, что до Марии не дошли слухи о том, какие надежды испытывают реформаторы. Девушка была крепка в старой вере, как и ее мать, королева Екатерина. Она может плохо подумать о мачехе, которая якобы питает симпатии к лютеранам. — Я слышала, ее милость наделена многими добродетелями, — сказала Анна, накалывая на нож кусок куриного мяса. — Генрих, вы не беспокоитесь, что они могут пропасть понапрасну? — Пропасть понапрасну? — нахмурился он. — Выйдя замуж за какого-нибудь могущественного принца, она могла бы быть принести вам пользу, — осмелилась намекнуть Анна. — И, учитывая ее превосходные качества, могла бы содействовать продвижению ваших интересов за рубежом, особенно если принять во внимание кровное родство, ведь она кузина императора. Кажется упущением, что ей до сих пор не нашли подходящего супруга. — Это как посмотреть. — Генрих пронзил Анну стальным взглядом. — У меня всего один сын, и я должен думать о том, что будет, если, не дай Бог, с ним что-нибудь случится. Амбициозный муж может начать усиливать притязания Марии на трон. — Но она следующая в ряду наследников вашей милости. Глаза Генриха сузились. — Вы не понимаете, Анна. Мой союз с ее матерью не был законным браком. Бастард не может наследовать трон. — Но если надежды на принца не оправдаются, она лучший выбор, так как родная вам по крови? Генрих стукнул кулаком по столу, и Анна подскочила. — Довольно, мадам! Не вмешивайтесь в дела, в которых ничего не смыслите! Мария — моя дочь, и я буду поступать с ней так, как считаю нужным. — Простите меня, сир. — Анна нервно заламывала руки. Она зашла слишком далеко и понимала это. — Я только хотела помочь. — Это не помощь, мадам! Я имел дело с королевами, которые слишком много вмешивались в политику. — Он встал, вытирая рот салфеткой. — Я оставлю вас подумать о том, как следует вести себя жене. Когда Генрих ушел, Анна бросилась в слезы.
В ее покои пришел граф Ратленд. Видя мрачное выражение его лица, Анна поняла, в чем дело. — Король опять пожаловался на меня, — ровным голосом сказала она. — Я знаю, что обидела его, хотя и ненамеренно. — Да, боюсь, это так, мадам. — Камергер вздохнул. — Я знаю, что ваша милость никогда специально не стали бы злить его величество. Но лорд Кромвель сегодня утром сказал мне, что король пожаловался ему на ваше упрямство и своеволие. — Я предложила восстановить леди Марию в правах на наследование, — призналась Анна. Обычно спокойный Ратленд не сумел сдержать недовольства. — Мадам, предполагать, что Мария — законная дочь короля, — это измена. — Я не замышляла измены! — испуганно воскликнула Анна. — Король выразил тревогу, что у него всего один сын, и я пыталась помочь ему найти способ, как обеспечить переход власти по наследству к его кровным родственникам. — Намерение было хорошее, — ответил Ратленд, — и, несомненно, король поймет это и простит вашу неосведомленность. Мадам, вы не пережили этих трудных лет, пока шло Великое дело, когда король пытался развестись с королевой Екатериной, или вдовствующей принцессой, как мне следует называть ее. Для него это остается весьма чувствительным делом. Мой совет вам: избегайте этой темы и вообще вопроса наследования любой ценой. — Не волнуйтесь, я приму его! — горячо ответила Анна, с отчаянным сомнением размышляя, вернет ли она себе когда-нибудь расположение короля.
К удивлению Анны, Генрих в тот же вечер пришел в ее личные покои. Она была так рада видеть мужа, что бросилась на колени к его ногам. — Ваша милость, простите меня, если я сказала что-то не то. Я только хотела помочь. — Вы прощены, — изрек он. — Мне сказали, что вы говорили из одного лишь беспокойства за мою безопасность. Ратленд, этот добрый, храбрый человек, опять заступился за нее. Она облагодетельствует его, как только появится возможность. — Я так благодарна вашей милости. Отныне я во всех важных делах буду полагаться исключительно на вашу мудрость. Генрих сел у огня, и Анна попросила Сюзанну принести ему дорогого сака[111], который он так любил и заказывал в Испании. — Мне нужно кое о чем спросить вас, Анна, — сказал король, с удовольствием пригубив вино. — Это касается вашей помолвки с сыном герцога Лоррейнского. Что вы об этом знаете? Анна не колебалась. — В детстве я была обещана ему в жены, это правда, но позже отец сказал мне, что предварительное соглашение расторгнуто. — Вы сами не давали ему обещания? — Нет. Я была слишком мала, а когда стала старше, от меня этого не требовали. — Хм. В продолжение всего ужина Генрих оставался погруженным в свои мысли, а потом ушел, оставив Анну в глубокой задумчивости. Зачем, если его так беспокоила ее помолвка, он довел дело до женитьбы и перед венчанием заявил, что не знает ни о каких препятствиях к браку? Какой смысл? Она молилась, чтобы сертификат, о котором упоминал доктор Харст, успокоил разум короля.
Однажды ясным мартовским днем Анна отправилась в сад, взяв с собой для компании только Сюзанну. Разговор зашел об их юных годах. Они делились приятными воспоминаниями: оказалось, что детство у Сюзанны было такое же счастливое, как у самой Анны, хотя проходило в совершенно других условиях. Конечно, ее наперсница пользовалась большей свободой, ей даже позволяли поощрять внимание к себе юношей, что Анна посчитала немного скандальным. Сказать по правде, она позавидовала тому, что Сюзанне были доступны такие вольности. А потом Сюзанна спросила, совершено невинно, любила ли Анна кого-нибудь до короля. Анна уставилась на нее: — Конечно нет. Как я могла? У меня не было возможности. И никто бы мне этого не позволил. — Естественно, — согласилась Сюзанна. — Но может быть, вы восхищались каким-нибудь молодым человеком издали? Я видела нескольких красивых немецких джентльменов в вашей свите. Там есть один такой с каштановыми волосами, он особенно очарователен. — Меня учили не давать воли глазам, как учат монахинь, — коротко ответила Анна, боясь, что Сюзанна имеет в виду Отто, и не желая продолжать этот разговор. Такие вопросы задевали чувствительные струны и слишком приближались к секретным местам. Но откуда Сюзанне знать о том, что случилось между ней и Отто? После этого Анна стала держаться со своей подругой настороже. Хотя эта девушка нравилась ей, Анна сознавала необходимость не затрагивать даже обиняком некоторых тем и не поощрять слишком большую фамильярность. В сложившихся обстоятельствах так было безопаснее.
Генрих и Анна вместе отпраздновали Пасху в Хэмптон-Корте, и супружеские визиты возобновились. Но ничего не изменилось. Генрих не совершал попыток прикоснуться к ней и выглядел озабоченным. Иногда, лежа рядом с ним, Анна слышала, как король вздыхает и стонет во сне. Хорошо бы он облегчил свою душу и открылся ей. Может быть, она способна помочь ему. Но приходилось ограничиваться попытками ублажить его, не вызвав неудовольствия. Весна была в разгаре, и Анна любовалась красотой просыпающихся садов Хэмптон-Корта. Больше всего она любила сидеть в маленьком банкетном домике рядом с рыбными прудами. На дворцовой территории было несколько таких садовых построек, и однажды вечером, прогуливаясь и наслаждаясь закатом, Анна услышала музыку и голоса, доносившиеся из одной, расположенной на возвышении в Горном саду. Должно быть, там развлекался Генрих. Чувствуя себя брошенной, Анна смотрела на озаренные свечами окна и слушала, как играют музыканты и смеются мужчины. — Это место только для джентльменов, мадам, — сказала ей леди Саффолк, делая многозначительное лицо. Немного приободрившись, Анна вошла в розарий; тут росли сотни кустов, которые велел посадить Генрих. Это было восхитительно! Потом побрела назад через сад душистых трав, вдыхая головокружительный аромат, и застала за работой садовников. Вдруг в порыве чувства она вынула из кармана несколько золотых монет и настояла, чтобы мужчины взяли их. — Ваши труды доставляют мне такое удовольствие, — сказала Анна, когда они стали, запинаясь, благодарить ее. Навстречу ей шел доктор Харст. — Мне сказали, ваша милость в саду, — с поклоном произнес он. — Можем мы поговорить приватно? — Разумеется. — Анна увела его в свой личный сад. — Сегодня у меня была аудиенция с королем. Когда он принял меня, я понял: его что-то расстроило. Он не сказал никаких любезностей, но пожаловался на нежелание герцога согласиться на добавление известного пункта в договор. Он распекал меня, мадам! — (Анна легко могла представить это.) — И по-прежнему недоволен тем, что у меня мало нарядов. Сказал, что герцог сослужил вам и мне плохую услугу, не снабдив меня одеждой и свитой, которые соответствовали бы моему положению. Всем своим видом он давал понять, что мое посольство мало значит для него, а это оскорбительно для него самого и для вашей милости. — О Боже! — Анна покачала головой. — Мне так жаль. Доктор вздохнул: — Честно говоря, мадам, я задаюсь вопросом: могу ли быть чем-то полезен герцогу при этом дворе? Я чувствую, что меня здесь презирают или держат за ничтожество. Ни посол императора, ни посол Франции ничуть не считаются с моим присутствием. На самом деле они не соизволили даже познакомиться со мной. — У посла императора есть на то причины, конечно, — сказала Анна. — Его повелитель становится все более враждебным по отношению к Клеве, и он, вероятно, предполагает, что вы ищете поддержки со стороны короля. — В настоящее время шансов на это крайне мало, — пробормотал Харст. — Боюсь, я подвожу всех. — Доктор Харст, — твердо сказала Анна, — мой брат не мог прислать лучшего или более опытного эмиссара. Вы преданы мне и моим родным. Когда вы здесь, я чувствую себя увереннее, так как знаю, что могу рассчитывать на вашу поддержку, если она потребуется. — Ваша милость, вы очень добры. — Он вздохнул. — Боюсь, у меня нет здесь никакого влияния. — Мне бы хотелось что-то сделать для вас, но недавно в разговоре с королем я завела речь кое о чем, и его величество предупредил меня, чтобы я не вмешивалась в политику. Я бы попросила о помощи, в которой так нуждается мой брат, но не осмеливаюсь, чтобы вновь не рассердить короля. Печальные глаза Харста исполнились тревоги. — Но разрыва не произошло? — Нет-нет. Я прощена. Его величество добр и вежлив, и прекрасный компаньон. Мы с ним снова друзья. — Рад слышать это, и герцог тоже обрадуется. — Наберитесь терпения, — посоветовала Анна. — Король не будет злиться вечно, я это знаю по своему опыту.
Все говорили о грядущей коронации, турнирах и развлечениях, которыми она будет отмечена. Но уже наступил апрель, а окончательной ясности не было, и Анна беспокоилась. — Никаких приготовлений не делается, — сказала она доктору Харсту, вызвав его в свои личные покои. — До Пятидесятницы осталось всего шесть недель. Подготовка к коронации уже должна была начаться. — Меня это тоже тревожит, — признался Харст. — Думаю, мне следует известить герцога. Сомневаюсь, что король прислушается к каким-либо жалобам с моей стороны. — У меня есть идея получше, — заявила Анна. — Скажите лорду Кромвелю и графу Саутгемптону, что вы слышали разговоры о моей коронации, и спросите их, каковы намерения короля. Харст посмотрел на нее с сомнением: — Это может быть недальновидно, мадам. Король раздражится, а Клеве сейчас так нужна его дружба. Я только что получил известия от доктора Олислегера. Император потребовал, чтобы герцог Вильгельм уступил ему Гелдерн. Рука Анны подлетела ко рту. — Нет! Как он смеет? Это все равно что объявить войну. Я должна молить короля о помощи! — Она встала и уже собралась бежать, но Харст схватил ее за руку. — Нет, мадам! Ваш брат хочет избежать войны. Между императором и королем Франции существует напряжение, оба делают пробные шаги в поисках дружбы Англии. Из тех сведений, что мне удалось собрать в разговорах с советниками, следует, чтокороль склоняется к императору. Он, вероятно, не захочет провоцировать его, принимая сторону Клеве в этом конфликте. Анна слушала посла во все возраставшем смятении. — Значит, этот союз напрасен. — Вовсе нет, мадам! — Харст говорил решительно. — Король получил жену, которой может гордиться. Он не отказывает Клеве в поддержке. И не ищет дружбы императора. Нам нужно полагаться на верность короля союзу и не сердить его. «Как в спальне, так и в зале Совета», — подумала Анна. Генрих никогда не заявит прямо о своих намерениях и не откроет своих мыслей. — Я буду молиться, чтобы дело обернулось в пользу Клеве. По большому счету моя коронация не имеет особого значения.
Анна вошла в свои личные покои и услышала, как ее дамы обсуждают закрытие последних крупных монастырей. Кентербери, Крайстчерч, Уолтем и Рочестер, где она останавливалась: все уступили воле короля и сдались его посланникам. — Не думала, что доживу до этого дня, — печально проговорила Маргарет Дуглас и сердито воткнула иглу в пяльцы с вышивкой. — Вначале король намеревался закрыть только мелкие обители. — Вот и хорошо, — вмешалась в разговор леди Саффолк. — Все они рассадники папизма. Большинство дам согласно кивнули. Маргарет, верная католичка, казалось, хотела возразить, но промолчала. Критика короля приравнивалась к измене, а Маргарет по собственному опыту знала, каково это — быть приговоренной к смерти и томиться в Тауэре. Только вчера Генрих пришел ужинать к Анне, и на большом пальце у него сверкал огромный рубин, прежде украшавший гробницу Святого Томаса Бекета в Кентербери. — Бекет предал своего короля, — сказал он ей. — В прошлом году я велел вынуть его кости и выбросить их в навозную кучу. Именно такое погребение он и заслужил. Анна внутренне содрогнулась. С каким ожесточением это было сказано! Хотя Генрих держался старой веры и соблюдал ее обряды, он фактически стал папой в своем королевстве. Анну беспокоило, что изъятые церковные ценности король помещал в свои сундуки и продавал монастырские земли верным ему дворянам. Это был умный ход: повязать лордов узами благодарности, сделать обязанными себе и таким образом заручиться их верностью Короне. Едва ли лорды стали бы протестовать против реформ, приносящих им такую личную выгоду. Доктор Харст разделял ее тревоги. Когда в следующий раз они остались одни во время прогулки по саду, он открыл Анне свои мысли. — Простите меня, мадам, я не хочу плохо говорить о короле, но узнал, что теперь в Англии больным и бедным людям некуда податься, потому что они перестали получать помощь от монастырей. — Не говоря уже о монахах и монахинях, которых выставили на улицу, — пробормотала Анна. — Король говорит, им всем дали пенсию, но она невелика и не может компенсировать утрату тем, у кого было истинное призвание к монашеской жизни. Но кто посмеет подать голос в их защиту? — Двух аббатов, которые отказались сдавать свои обители, повесили. Это, вероятно, заставило умолкнуть несогласных. — Король как будто поощряет лютеранство, — задумчиво произнесла Анна, садясь на каменную скамью. — Протестанты аплодируют роспуску монастырей. Меня беспокоит, что люди здесь, и католики, и реформисты, видят во мне поборницу преобразований, а некоторые даже считают, будто я держусь лютеранских взглядов. — Я знаю, мадам, — сказал Харст, присаживаясь рядом с ней. — Мне пришлось поправить одного клерка, который утверждал, будто вы отказывались ехать в Англию, пока здесь оставался хотя бы один монастырь. — Могу в это поверить, — с горечью произнесла Анна. — Я уверена, они обвиняют меня в закрытии этих последних обителей. — Ваша милость, вы должны разубедить их, усердно соблюдая обряды Церкви. — Я это делаю, доктор Харст, делаю! Я ни за что не стану протестанткой в Англии. Наказание за ересь ужасно. — Анну передернуло, когда она представила себе, каково это — взойти на костер. — И тем не менее реформаторы процветают. Даже лорд Кромвель в их числе. — Они не еретики. Их желание — реформировать Церковь изнутри. А что до лорда Кромвеля, при дворе ходят разговоры… — Харст понизил голос. — Его положение шатко. Вы знакомы с Гардинером, епископом Винчестерским? Он стойкий католик и ненавидит всех реформаторов, в особенности Кромвеля, который изгнал его из Совета. Но теперь Гардинер вернулся и в фаворе у короля. Это верный знак, что влияние Кромвеля уже не так велико, как раньше. — Это Кромвель устроил мой брак. — Анна в страхе посмотрела на Харста. — Гардинер, я слышала, очень близок с герцогом Норфолком. Говарды не принимают меня. Они могут убедить короля, чтобы тот развелся со мной, и для этого будут веские основания… — Она зажала рот рукой, осознав, что сказала. — Вы имеете в виду вашу прежнюю помолвку, мадам? — Харст выглядел озадаченным. — Это не препятствие, и этой проблемой уже занимаются. Ваш брак законен, и нет никаких оснований для его расторжения, что бы ни говорили Норфолк и Гардинер. Анна прикусила язык. — Если король решит избавиться от меня, способ найдется. Посмотрите, что случилось с двумя первыми королевами! — Мадам, — твердо сказал Харст, — вы видите проблемы там, где их нет. Король как-то намекал вам, что хочет с вами расстаться? Анна задумалась. — Ходили слухи, что он считает меня непривлекательной, но, кроме этого, больше ничего. — Тогда вашей милости нечего бояться. И если что-нибудь тревожит вас, я здесь и готов служить вам и защищать ваши интересы. Я сделаю так, что меня услышат! Анна позволила себе успокоиться, приняв пламенные заверения доктора Харста. Но внутри у нее продолжал копошиться червь сомнения. Повторяющиеся утомительные разбирательства по поводу расторгнутой помолвки, ее так и не получивший реального завершения брак, отложенная коронация, не говоря уже о наличии сил, которые, вероятно, работают против нее при дворе, и ее неспособность постичь, что у короля на уме, — все это создавало у Анны ощущение уязвимости. Если бы только Генрих мог или сделал бы ее своей женой во всех смыслах! Если бы она могла родить ему сына! Тогда Анна стала бы непобедимой. Сколько раз, — подумала она, — такие же мысли посещали ее предшественниц?
На второй неделе апреля двор переехал обратно в Уайтхолл, чтобы король мог присутствовать на открытии сессии парламента. Анне было грустно покидать Хэмптон-Корт, и она надеялась на скорое возвращение. Казалось, слухи о неустойчивом положении Кромвеля не подтверждались, так как вскоре после этого Генрих дал ему титул графа Эссекса и назначил лордом главным камергером Англии. Анна смотрела, как Кромвель встал на колени перед королем в приемном зале, чтобы ему на голову возложили венец, накинули на него мантию и вручили патент на дворянство. Харст ошибся. Теперь, в свете возвышения Кромвеля, ослабление позиций грозило католической партии. Анна почувствовала себя увереннее. После церемонии Генрих ужинал с ней в ее личных покоях. — Вы видели лицо Норфолка? — ликуя, спросил он и разломил напополам белый хлебец. — Он ненавидит Кромвеля, потому что тот не был рожден в замке и не может проследить свою родословную до Адама, и сказал мне в лицо, что не следует отдавать графство благородных Буршье сыну кузнеца. Я ответил ему, что сын кузнеца был мне гораздо более полезен, чем все Буршье, вместе взятые. — Я слышала, Норфолк не любит Кромвеля, так как тот за реформы, — осмелилась заметить Анна. — Норфолк завидует власти Кромвеля, — сказал Генрих. — Ему ненавистно все, за что тот выступает. Я хорошо знаю о политических колебаниях, которые происходят, Анна. Позвольте предложить вам свинины, она превосходна. — Король положил кусок мяса ей на тарелку. — Сестра короля Франции, королева Наварры, хочет иметь наши миниатюрные портреты. — Генрих повернулся к Сюзанне, которая, как обычно, переводила. — Госпожа Гилман, вы попросите мастера Хоренбота посодействовать. Он может написать их. Сюзанна сделал реверанс и вышла. Генрих обратился к Анне: — Я хочу, чтобы вы узнали первой. Я сделаю вашего брата рыцарем ордена Подвязки вместе с принцем Эдуардом, когда устрою собрание ордена ближе к концу месяца. Вот это новость! Вильгельм удостоится такой чести, и Клеве тоже, а это добрый знак, что Клеве получит помощь Англии. — Герцог будет очень рад, как и я, — с искренним чувством ответила Анна. — Сир, я не могу выразить, как ценю ваш поступок. Генрих с довольным видом похлопал ее по руке.
Анна и Генрих сидели у эркерного окна гейтхауса в Уайтхолле и ждали начала поединков, устроенных по случаю Майского дня — праздника, который обычно шумно отмечали при английском дворе и сопровождали многочисленными развлечениями. День выдался прекрасный, солнце сияло, дул легкий ветерок, и все оделись в новые наряды по случаю торжества. Анна была в бледно-сером шелковом платье с жемчужной каймой вдоль ворота; юбка ходила волнами вокруг ее ног, когда она двигалась, а французский капор из серого дамаста очень ей шел — так думала она сама. С трудом верилось, что она покинула Клеве пять месяцев назад. Разумеется, Анна продолжала скучать по родным — их письма всегда немного расстраивали ее, — но она начала чувствовать, что постепенно привыкает к своей новой родине и крепко держится за протянутую Судьбой руку. Сидевший рядом с ней Генрих аплодисментами встречал появление участников турнира на расположенном внизу проезде, который использовался как площадка для поединков. Окружавшие их лорды и леди наклонялись вперед, чтобы лучше видеть. О турнире было объявлено во Франции, Фландрии, Шотландии и Испании: цвет европейского рыцарства пригласили ответить на вызов Англии. Рыцари съехались отовсюду, чтобы принять участие в состязаниях, которые будут продолжаться пять дней. Сорок шесть защитников под предводительством галантного и опытного графа Суррея совершали круг по арене, за ними следовали бросающие вызов, все в белых дублетах и рейтузах по бургундской моде, на конях, накрытых попонами из белого бархата. Впереди всех ехал сэр Джон Дадли, главный конюший Анны, а среди всадников она узнала жизнерадостного сэра Томаса Сеймура и немного неприятного ей Томаса Калпепера. Турнир открылся фанфарами, затем могучие боевые кони с громким топотом понеслись навстречу друг другу; зазвенели копья, поднялся крик. Анна сидела на самом краешке стула, ожидая, что вот-вот кого-нибудь убьют. Но Генрих был в своей стихии, подскакивал на месте, когда всадники сшибались, и проживал каждый эпизод турнира так, будто сам в нем участвовал, чего, без сомнения, желал. Анна едва не вскрикнула, когда Калпепер слетел с коня и рухнул наземь, но, к ее величайшему облегчению, боец поднялся на ноги и сам ушел с площадки. Когда победа была отдана защищавшимся, Генрих громким криком выразил одобрение. Анна от себя поздравляла победителей, которым король вручал крупные денежные призы и дарственные на прекрасные дома. Ближе к вечеру король провел Анну в сопровождении процессии придворных через Уайтхолл к большому гейтхаусу с облицовкой «в шашечку»[112] и сквозь него на Стрэнд. Поглазеть на них собрались толпы людей. Генрих поднимал руку в приветствии, пока они с Анной шли мимо. — Что это? — спросила она, указывая на расположенный справа прекрасный каменный монумент, украшенный статуями королевы. — Это поклонный крест, который Эдуард Первый воздвиг в память о своей любимой королеве Элеоноре, — почти прокричал в ответ Генрих, стараясь перекрыть гомон голосов. «Как прекрасно, когда тебя вспоминают вот так, — подумала Анна. — Какая сильная любовь, должно быть, связывала их». Бросавшие вызов ускакали вперед, к Дарем-Плейс, роскошному особняку на Стрэнде. Там они держали открытый дом, где устроили пир для короля и королевы, ее дам, придворных и заезжих рыцарей. Великолепные залы были увешаны огромными гобеленами и уставлены массивными буфетами с посудой. Генриха и Анну усадили за стол на высоком помосте и подали разнообразные блюда под приятные звуки музыки, которую исполняли менестрели. Это было достойное завершение приятного дня.
Анна присутствовала на всех турнирах, устроенных в эти дни. Все это время Дарем-Плейс служил открытым домом, куда она и Генрих — и, казалось, весь двор — перемещались по вечерам на ужины и банкеты. Погода стояла теплая, и в последний вечер они все собрались в саду у Темзы, угощались сластями, которые разносили слуги на больших серебряных подносах, и пили вино из усыпанных самоцветами кубков. Генрих был весьма общителен; окруженный толпой юных участников турнира, он снова и снова вспоминал каждый примечательный момент в поединках. Анна и ее дамы восхищенно слушали, а рыцари тем временем разглядывали фрейлин. Приходилось внимательно следить за девушками. Как их госпожа, Анна была in loco parentis[113] и отвечала за их благопристойное поведение. Тут она заметила, что король улыбается Кэтрин Говард как старой знакомой. Миниатюрная рыжеволосая Кэтрин была жизнерадостна и хороша собой — легкомысленная девчонка, которую, казалось, интересовали только наряды да диванные собачки. Фрейлина всегда расторопно и охотно выполняла распоряжения Анны и никогда не создавала ей никаких проблем, до сих пор. Анна не могла сдержаться и в шоке уставилась на них: Кэтрин дерзко улыбнулась в ответ королю, и при этом глаза Генриха сладострастно прищурились; на Анну он никогда так не смотрел. Она вспомнила, где находится, и поняла, что не имеет ни малейшего представления о том, что говорит стоящий слева от нее молодой рыцарь. А тот уже с любопытством смотрел на нее, как и Сюзанна. Анна через силу улыбнулась ему и поспешила извиниться: — Простите меня, сэр. У меня на мгновение закружилась голова, но теперь мне лучше. Избегая его заботливых расспросов, она вернулась в дом, попутно увернувшись от нескольких придворных, которые хотели поговорить с ней, нашла пустую комнату и закрыла за собой дверь. Это оказался кабинет, где стояли стол и шкафы с книгами. Решетчатое окно выходило в сад. Анна выглянула в него. Кэтрин Говард подошла ближе к королю. В воздухе звенел ее задорный смех. Разумеется, тут ничего нет! Король, это всем известно, любил пококетничать с дамами. И как ему не найти Кэтрин привлекательной? Генрих улыбался ей, но это еще не значит, что он искал близости. Но как там кто-то сказал про него при Анне? Когда ему нравится кто-то или что-то, он пройдет весь путь до конца. Теперь она уже слишком увлеклась фантазиями. «Хватит! — мысленно приказала себе Анна. — Это просто невинный флирт». Да так ли? Разумеется, она не осмелится спросить его напрямик. Поступить так не позволяло ей чувство собственного достоинства, и в любом случае он король и не обязан ни перед кем отчитываться. Если у него появится любовница, лучше всего игнорировать это. Пока он не унизит ее на людях, она попытается не обращать ни на что внимания. Генриха она не любит, так что его измена ничего для нее не значит. Но значила! Оправив юбки, Анна вернулась на банкет, взмахом руки отказалась от предложенного ей угощения, присоединилась к королю, улыбалась и кивала, пока они разговаривали с гостями. И была рада, что Кэтрин Говард убралась с дороги.
В тот вечер Анна попросила матушку Лёве и Сюзанну помочь ей приготовиться ко сну. Она не хотела, чтобы рядом находились английские дамы. Это вызовет недовольство, Анна знала, но у нее были более серьезные поводы для беспокойства. — Что вам известно о Кэтрин Говард? — спросила она. Лицо Сюзанны напряглось. «Только не говорите мне, что весь двор уже знает!» — взмолилась про себя Анна. — Она племянница герцога Норфолка, то есть кузина королевы Анны. Пост при дворе получила впервые, без сомнения, по протекции своего дяди. И чего ради? Никто не обрадовался бы больше, чем Норфолк, если бы Генрих стал ухаживать за другой его племянницей. Наверное, он позлорадствовал бы, увидев, как Анна падет с трона королевы-консорта; ему бы очень понравилось снова подняться к вершинам почета и власти. Анна не усомнилась бы в желании этого старого лиса подставить Кэтрин на пути Генриха. Покладистая, верная долгу маленькая королева-католичка, не запятнанная связями с реформаторами, — это прекрасно подошло бы Норфолку! Анна надеялась, что забредает в мир фантазий. — Она бедна как крестьянка! — сказала матушка Лёве. — Сказала мне, что ее отец умер в прошлом году и у нее нет состояния. Мать почила в бозе, когда Кэтрин была ребенком, и ее вырастили в доме бабушки, вдовствующей герцогини Норфолк. Ей не очень хотелось об этом говорить, она все твердила, как рада быть при дворе. — Мне она кажется слишком развязной, — сказала Сюзанна, расплетая волосы Анны. — Она — вся насквозь Говард. — А почему вы интересуетесь ею, ваша милость? — спросила матушка Лёве. Анна села, чтобы с нее сняли туфли и чулки. Она решила не разглашать свои страхи, так будет лучше. — Мне показалось, что я никогда не обращала на нее особого внимания и мне следует побольше узнать о ней. Странно, что Говарды до сих пор не нашли ей мужа. «А может, как раз нашли», — поддразнил ее назойливый внутренний голосок. Анне хотелось прямо спросить Сюзанну, доходили ли до нее слухи о связи короля с Кэтрин, но она слишком боялась услышать ответ. Лучше уж оставаться в неведении. Или нет? В последующие дни Анна обнаружила, что ее терзают сомнения: она пристально всматривалась в Генриха, когда тот приходил к ней, следила, не косится ли он в сторону Кэтрин, и за Кэтрин тоже приглядывала. Но больше поводов для волнения ни фрейлина, ни король не давали. Через неделю Анна заключила, что, вероятно, ошиблась. А когда получила в подарок от вдовствующей герцогини Норфолк дорогое украшение, то вздохнула с облегчением: казалось невероятным, чтобы герцогиня искала милости королевы, задабривая ее дарами, зная при этом, что король ищет благосклонности ее внучки.
По окончании турниров Генрих выглядел печальным и задумчивым. Анна опасалась, что контраст между ним, стареющим, и молодыми участниками состязаний привел его в уныние, напомнил об удовольствиях, которые теперь ему недоступны. В любом случае он имел причины жалеть себя, потому что был нездоров. Боль в ноге сковывала его движения, иногда он даже ходил с трудом, не говоря уже о том, чтобы сесть на коня. Мало того, у него появился нарыв, из которого сочился гной, и требовалось каждый день обрабатывать и перевязывать его, а это не слишком приятно, особенно притом что рана издавала зловоние. Анна чувствовала этот мерзкий запах, садясь с королем за стол. Хотя она и жалела Генриха, но это отвращало ее от пищи. Ей было стыдно. Он испытывал жгучую боль, и один или два раза Анна видела, как Генрих закрывал глаза и часто дышал, словно у него иссякали силы терпеть страдания. Однажды вечером за ужином он положил на стол нож и со вздохом сказал: — Я устал от жизни. — Неужели врачи ничем не способны вам помочь? — спросила Анна, чувствуя себя беспомощной. Генрих покачал головой: — Нет, если только я не пойду под нож. Я собираюсь с духом. В ту ночь он не пришел к ней в постель и две следующие тоже не появлялся — прислал вестника сообщить, что его принудили отдаться в руки цирюльникам, отворяющим кровь, и вскрыть нарыв. Когда Анна вновь увидела своего супруга, он выглядел намного лучше, боль уменьшилась, хотя нога по-прежнему была перевязана. — Я заказал новый набор турнирных доспехов, — сказал он ей. Анне хотелось заплакать, потому что было ясно: доспехов этих ему не носить и никогда не стать атлетом-героем, каким он был в дни своей рыцарской славы.
Через два дня новый ансамбль музыкантов — Бассано из Венеции, которым Генрих даровал прибежище в Англии, — играл в покоях Анны. Король сидел рядом с супругой в окружении ее дам. Вдруг музыку прервал громкий всхлип. Все повернулись на звук, и королева увидела Анну Бассет, которая плакала на плече у миссис Кромвель. — Уведите ее, — приказала она матушке Лёве, которая поспешила выполнить распоряжение. Генрих дал сигнал музыкантам продолжать. — Не могу понять, что так расстроило миссис Бассет, — сказала ему Анна, когда концерт закончился и дамы принялись накрывать стол к ужину. — Утром я приказал арестовать за измену ее отчима лорда Лайла, — ответил Генрих, чопорно поджав губы. — Мне предъявили доказательства, что он планировал продать Кале французам. Сейчас он в Тауэре. Наверное, госпоже Бассет только что сообщили об этом. — Какой ужас для нее и для вашей милости! — воскликнула Анна, думая, каким ударом это стало для амбициозной матери Анны. — Мне уволить ее? — Нет, Анна. Она не совершала измены, и мне нравится эта маленькая шалунья. Можете сообщить ей, что мое неудовольствие на нее не распространяется. — Ее отца казнят? — отважилась спросить Анна. — Он мой кузен. Я не стану проливать его кровь. Пусть какое-то время погорюет о своей глупости в Тауэре. Анна не ожидала от него такого милосердия.
Уже не одну неделю при дворе обсуждали коронацию Анны. Все с нетерпением ждали этого события. Однако никаких приготовлений до сих пор не велось, Пятидесятница прошла, а о коронации и помину не было. Когда Анна пожаловалась на это доктору Харсту, его ответ был твердым: — Я поднимал этот вопрос в беседе с королем. Вы имеете право на корону. — Благодарю вас. Я боялась обсуждать с ним эту тему, чтобы не спровоцировать гнев. В последние недели у него так сильно меняется настроение. — Мне это прекрасно известно, мадам. — Харст криво усмехнулся. — И я уверен, что лорду Кромвелю, или милорду Эссексу, как теперь его следует называть, тоже, так как, я слышал, позавчера король надрал ему уши и прогнал из своих покоев. Он вышел, побитый, но с улыбкой, и, смею утверждать, вскоре ссора была забыта. Если вы скажете королю, что герцог Вильгельм интересуется, когда вас коронуют, думаю, он отнесется к этому спокойно. — Тогда я наберусь смелости и спрошу его, — пообещала Анна.
— Сир, — сказала она, прогуливаясь об руку с Генрихом по своему саду после ужина, — мой брат герцог спрашивает, когда состоится моя коронация? — С вами говорил этот болван посол? — рявкнул Генрих, и его благостное настроение улетучилось. — Он беспрестанно задает мне тот же вопрос. Вы будете коронованы, когда я этого захочу. — Но, Генрих, коронация должна была пройти на прошлой неделе, а до этого планировалась на Сретение. Об этом много говорили. Мне стыдно, потому что этого не случилось без всяких объяснений. Боюсь, люди думают, я чем-то не угодила вам. Генрих сердито взглянул на нее. Очевидно, она не угодила ему тем, что завела этот разговор. Потом он вздохнул, и страшный момент прошел. — Дело в том, Анна, что моя казна сейчас расходуется на множество других трат. Если ваш брат хочет, чтобы я присоединился к его войне с императором, мне понадобятся на это средства. Так что не давите на меня с вашей коронацией. Моя прежняя королева не беспокоилась на этот счет, и ее коронацию тоже не раз откладывали то из-за эпидемии, то из-за мятежа. В результате она так и не была коронована. — В его глазах отразилась глубокая печаль. — И она из всех ваших королев больше всех заслуживала этого, потому что подарила вам сына, — мягко сказала Анна. Генрих уставился на нее. От холода во взгляде не осталось и следа. — Вы наделены редкостным даром понимания, Анна. — Имея такой яркий пример, я чувствую, сколь многого мне не хватает, — призналась она, думая, что никогда еще они не беседовали так откровенно. — Я пытаюсь подражать тому, что знаю о ней, во всех своих поступках. Генрих сжал ее руку и сказал: — У вас доброе сердце, Анна.
Глава 14
1540 годКогда граф Ратленд и советники Анны попросили об официальной аудиенции, она поняла, что возникла какая-то проблема. — Ваша милость, — начал Ратленд, — милорд Эссекс просил нас посоветовать вам относиться со всей возможной любезностью к королю. Он мог бы с тем же успехом дать ей пощечину, потому что слова его произвели именно такой эффект. — Милорд, — с дрожью в голосе проговорила Анна, — мы с королем не ссорились, и я не понимаю, о чем вы. — (Ратленд замялся.) — Милорд Эссекс намекает на какую-то мою оплошность?! — вскричала она; гнев пересилил смятение. — Господа, я изо всех сил стараюсь понять и ублажить его величество. Я послушная жена, всегда готовая доставить ему удовольствие. Может быть, милорд Эссекс хочет дать мне какой-нибудь особый совет, потому как сама я не знаю, что еще могу сделать! И было бы неплохо, если бы вы все вернулись к нему и спросили об этом. Ратленд побледнел. Анна сошла с помоста и встала лицом к лицу с ним. Это было все равно что вступить в перепалку с Генрихом, граф был очень на него похож. — Я помню, вы давали мне такой же совет в январе, и я не забываю о нем. Неужели милорд Эссекс намекает, что вы не смогли в тот раз донести до меня должным образом суть его рекомендации? Не уверена, что я одобряю его непрошеное вмешательство в мои личные дела. Не сомневайтесь, я поговорю об этом с королем. Ратленд выглядел ошарашенным. — Можете идти, господа, — сказала Анна, подала знак своим дамам следовать за ней и вышла из приемного зала. В порыве негодования она послала церемониймейстера узнать, где находится король. Ей сообщили, что Генрих в библиотеке. Анна поспешила туда и застала его одного за чтением. Увидев ее, он встал и поклонился. Казалось, короля не рассердило, что его занятие прервали. — Какой приятный сюрприз, Анна. Прошу вас, садитесь. Чем я могу быть вам полезен? Она заняла место за столом напротив него. — Поговорите с милордом Эссексом, ваша милость! — воскликнула королева. Генрих прищурился: — Что он сделал? — Второй раз в этом году он проинструктировал моего камергера, чтобы тот настоятельно порекомендовал мне быть любезной с вами! Сир, я не любезна? Я чем-то вас обидела? Лицо Генриха вспыхнуло от гнева. Он поднял руку: — Тише, Анна! Вас не должно это беспокоить. Кромвель гоняется за призраками. Католики жаждут его крови. Они не хотят, чтобы я крепил союз с германскими принцами, но Кромвель упорствует. Он стремится упрочить свои позиции, обеспечив успешность нашего брака. Его действия — не реакция на какие-то ваши поступки — будьте уверены, вы ничем меня не обидели, — но попытка предотвратить любую возможность разлада между нами. Предоставьте это мне. Я с ним поговорю. Только позже Анна начала задумываться, какую роль играет сам Генрих в этой распре между Кромвелем и католической партией. Поддерживал ли он своего главного министра? Или отстранялся от союза, за который ратовал Кромвель? Анна вернулась в свои покои. Герцогиня Ричмонд принесла ей корзинку с рукоделием. — Ваша милость, я слышала слова лорда Ратленда. Просто возмутительно, что Кромвель дал ему такое поручение. — Она не присовокупила к имени Кромвеля титул, против которого так возражал Норфолк. — Я рассказала об этом своему отцу герцогу. Он очень рассердился и выражал сочувствие вам. Анна ни на мгновение не поверила, что Говардов заботит ее участь; она была убеждена в их неприязни к себе с самого начала. — Благодарю герцога за отзывчивость, — сказала Анна, подозревая, что Норфолк может использовать ее, чтобы доставить неприятности Кромвелю, — но я уже поговорила с королем, и он взялся сам разобраться с этой проблемой. Герцогиня остолбенела. — Я этому рада, мадам, — сказала она и вернулась на свое место рядом с Маргарет Дуглас и леди Ратленд. — Кромвель извинился, — сказал Генрих, придя в спальню Анны тем же вечером. — Он сказал, что его неправильно проинформировали. Я не верю ни единому слову. В следующий раз Анна увидела Кромвеля жарким июльским вечером, когда шла смотреть, как король стреляет по мишеням. Тот приподнял перед ней шапку и поклонился, но смотрел настороженно. Он считал ее удобным инструментом в своих руках, пассивным и податливым. Наверное, теперь у него возникло чувство, будто овечка обернулась и укусила его. Через два дня, когда Анна с дамами сидела в саду и слушала, как играют Бассано, к ним по дорожке подбежала Маргарет Дуглас: — Мадам, вы слышали? Кромвель арестован. — Музыка смолкла, все разинули рот; Маргарет пыталась отдышаться. — Сэр Энтони Браун только что сказал мне, что его взяли под стражу, как только он вошел в зал Совета, готовый приступить к ежедневным делам. Вдруг появился капитан стражи и задержал его за измену и ересь. — Ересь? — недоуменно повторила Анна. — Он всегда был другом реформаторов, — напомнила ей Маргарет. — Милорд Норфолк и лорд-адмирал лишили его знаков отличия ордена Подвязки. Кромвель кричал, что он не изменник, но его буквально утащили в Тауэр. Многие этому рады. — А кое-кто, наверное, сетует, — язвительно произнесла герцогиня Саффолк. — Это печальный день для реформистов. — Меня пугает, что человек, вознесшийся так высоко, может быть так внезапно повержен, — сказала Анна. Все знали, как полагался Генрих на Кромвеля, как далеко простиралась власть его главного министра. Враги Кромвеля, наверное, не дремали! И чтобы найти их, далеко ходить нет нужды. Глумливая усмешка на устах герцогини Ричмонд говорила сама за себя.
В тот вечер Генрих пришел в спальню Анны и с усталым видом грузно опустился в кресло: — Вы, наверное, уже слышали о Кромвеле. — Да, сир, слышала. Мои дамы сегодня весь день почти ни о чем другом не говорят. Генрих вздохнул: — Я хочу, чтобы вы знали факты, Анна. Я намерен, используя все возможные средства, вернуть религию в моем королевстве на путь истины. В этом я полагался на помощь Кромвеля. Но он слишком привязался к немецким лютеранам и подпал под их опасное влияние. Я испытывал подозрения, а потом, благодарение Господу, меня предупредили некоторые из моих главных лордов, что Кромвель действует вопреки моей воле и мнению парламента. Анна опасалась, что те же самые главные лорды презирали Кромвеля за низкое рождение, открыто завидовали его стремительному карьерному взлету и ревновали к близости с королем. У них были совершенно иные мотивы для свержения своего врага, имевшие мало общего с вопросами религии. Но ей не стоило подавать виду, что она подвергает сомнению справедливость решений короля. — Я пригрел змею у себя на груди! — прорычал Генрих, возбуждая в себе гнев. — Я уничтожу память о нем. Он величайший пройдоха из всех, рождавшихся в Англии. «А как насчет меня?» — в страхе подумала Анна. Что будет с королевой, которую Кромвель усадил на трон? Если люди считали ее протестанткой или сторонницей Реформации, не падет ли на нее позор, связанный теперь с именем Кромвеля? — Что с ним будет? — робко спросила она, зная, что, когда Генрих в таком настроении, ответ очевиден. — Завтра будет издан и представлен в парламент билль о конфискации. — Билль о конфискации? Что это такое? — Акт, издаваемый парламентом, осуждающий изменника на смерть и лишающий его имущества. — Значит, Кромвеля будет судить парламент? — Нет, Анна, судебного разбирательства не будет. Парламент рассматривает свидетельства, изложенные в билле о конфискации, и действует соответственно. Казалось несправедливым, что Кромвеля лишат шанса оправдаться. Но не ей, иностранке, критиковать английские законы.
В тот день, когда палата лордов одобрила билль, Анна выглянула в окно и увидела группу леди и джентльменов, которые прогуливались по саду у реки. Когда они приблизились, Анна узнала короля — его массивную фигуру ни с кем было не спутать — и крохотную женщину рядом с ним. Кэтрин Говард опиралась на его руку и хохотала. Это сильно расстроило и напугало Анну. Норфолк и его партия снесли с пьедестала Кромвеля. Кэтрин Говард — племянница Норфолка. Неужели он использует ее, чтобы свергнуть и королеву тоже? Анна отвернулась от окна и, подозвав Сюзанну, вместе с ней прошла в кабинет, который использовала как личную молельню. — Мой добрый друг, скажите мне честно, — начала она, как только дверь за ними закрылась, — известно ли вам, что король выказывает симпатию к Кэтрин Говард? По расстроенному лицу Сюзанны Анна сразу поняла, что это правда. — Слухи появились еще в апреле, — сказала Сюзанна. — Мы не хотели тревожить вас, у вас и без того хватало проблем. — Кто об этом знал? — спросила Анна; боль превратилась в злобу, что дамы посчитали необходимым таиться от нее. Сюзанна замялась. — Почти все ваши леди, мадам. — Она не смела взглянуть Анне в глаза. — Мы надеялись, это мимолетный каприз. — Судя по тому, что я видела, и прошедшему времени, не похоже на простой каприз. Анна не понимала, что печалит ее больше — само увлечение короля или то, что дамы не предупредили ее, особенно Сюзанна, ближайшая подруга, на которую она полагалась как на свои глаза и уши при дворе. Она чувствовала себя глупо. Пришлось собраться и не дать воли слезам. Генриха Анна не любила, но она была его женой и королевой. Как тут не ощутить, что ее унизили, пренебрегли ею и выставили дурой? — Скажите мне, что вам известно. Сюзанне было не по себе. — Кейт Кэри случайно услышала, как Кэтрин говорила герцогине Ричмонд, что король даровал ей земли. Это было несколько недель назад, когда мы впервые приехали в Уайтхолл. Кроме того, он подарил ей драгоценности. Она сказала об этом леди Рочфорд, а та — ну, вы знаете, как эта дама любит все преувеличивать — заявила, мол, она подметила, что его милость очарован Кэтрин больше, чем любой другой женщиной в его жизни. Легко было понять почему. Кэтрин молода, грациозна и миловидна. Иметь такую любовницу — это потешило бы тщеславие Генриха. Его оживили бы ее юность и жизнелюбие. Это заставило Анну почувствовать себя старой, дряхлой и бесполезной. — Они любовники? — шепотом спросила она. Удалось Генриху с Кэтрин то, что не получалось с ней? Сюзанна сглотнула: — Она намекнула леди Рочфорд, что король взял в осаду ее добродетель, как сообщила нам с большим удовольствием эта дама, но добавила, что не запятнает семейную честь, даровав ему свою благосклонность. Мадам, ту же игру вела с королем Анна Болейн, и посмотрите, что из этого вышло. — Она лишилась головы, — резко сказала Анна, в беспокойстве расхаживая взад-вперед по комнате. — За этим явно стоят Говарды. Я знаю. Сюзанна беспомощно развела руками: — Боюсь, вы правы. Леди считают, Кэтрин отнимает у вас привязанность короля. Странно, но Анна не чувствовала особой неприязни по отношению к самой Кэтрин. Если ее поманил король, у глупышки не оставалось выбора и не было силы характера, чтобы отказать ему и противостоять кукловодам, которые, вероятно, хотели сделать ее королевой. Стареющий мужчина, Генрих мало что мог предложить юной девушке, но перспектива получить корону, вероятно, компенсировала это. Анна злилась на Генриха, Норфолка и его фракцию, а также на тех, кто скрыл от нее правду и оставил пребывать в плену иллюзий. Ей, конечно, было и страшно тоже, потому что, если Генрих захочет жениться на Кэтрин, а это будет уже не в первый и даже не во второй раз, когда он решит возвести на трон фрейлину, то чего он только не сделает, лишь бы избавиться от нежеланной супруги. — Кто еще знает об этой интриге? — Анна говорила с Сюзанной резко, глубоко задетая тем, что та скрыла от нее вещи, которые напрямую ее касались. — Думаю, все, мадам, — прошептала Сюзанна. Разумеется. Теперь стало ясно, почему так сократилось число людей, посещавших ее двор. Звезда Анны закатывалась. Естественно, придворные теперь начали обхаживать Кэтрин Говард. — Я не потерплю сплетен об этом при своем дворе. Вы передадите это остальным? — Да, мадам, — ответила Сюзанна и сделал реверанс, как будто у них были совершенно формальные отношения. — Можете идти, — добавила Анна. Оставшись одна, она заплакала. Сюзанна была ей очень дорога, но она не могла простить ей предательство. Какая подруга утаила бы такие важные сведения? Анна думала, что больше никогда не сможет доверять Сюзанне и простить ей молчание тоже не сможет. А что же те, кто сговорился обманывать ее? Был ли рядом хоть один верный ей человек?
Анна не стала сообщать Генриху о том, что знает. Пыталась вести себя так, будто все по-прежнему хорошо, хотя настроилась чутко улавливать малейшие признаки неблагополучия в их отношениях. Но король, как обычно, не подавал виду. С Кэтрин Анна вела себя нормально, старалась не давать ей повода для недовольства собой и жалоб. Вероятно, эта девушка в той же мере была жертвой обстоятельств, что и она сама, и в ней не чувствовалось злонамеренности; ее невозможно было не любить. В ту ночь, пока Генрих храпел рядом с ней, безразличный к бушевавшей в ее сердце буре, Анна лежала без сна и с беспокойством перебирала в голове судьбы своих предшественниц. И Екатерину, и Анну заменили их фрейлины. Способен ли Генрих применить то же средство для избавления от нее? Но не мог же он просто взять и отставить в сторону принцессу Клеве? Конечно мог, ведь он убрал с дороги принцессу великой Испании!
На следующий день Анна вызвала доктора Харста и приняла его в присутствии одной лишь матушки Лёве. Та, к счастью, ничего не знала об увлечении Генриха Кэтрин Говард и пришла в ужас, когда Анна поделилась с ней этим ни для кого не секретом. — Доктор Харст, я заметила, что король влюблен в одну из моих фрейлин. — По его лицу Анна поняла, что послу все известно. — Вы в курсе этого, — продолжила она, снова чувствуя себя преданной и придавая голосу обвинительный тон. Неужели весь двор знает? Люди смеются у нее за спиной, прикрывая рты ладонями? Ее считают такой слабой и никчемной, что даже друзья сговорились молчать о происходящем? — Я только недавно понял это, мадам, — ответил посол. Анна не знала, верить ли ему. — Кажется, его величество доискивается благосклонности госпожи Кэтрин Говард уже какое-то время. Меня очень печалит, что никто не посчитал уместным сообщить мне об этом. Предупрежден — значит вооружен, как говорится. — Мадам, я полагаю, судя по слухам, это просто флирт. Вам не следует обращать внимание на такие вещи, разумеется, и я дискутировал сам с собой, что лучше: избавить вас от боли или причинить ее, рассказав о вещах, которые, вероятно, не имеют значения. Анна не была уверена в его искренности. — Мне нужно защищать свои интересы, — возразила она, — и для меня важно знать, что происходит, каким бы тривиальным ни было дело. Мой долг — сохранить альянс, представительницей которого я являюсь. — Я уверен, это дело тривиальное, мадам, так что не стоит слишком волноваться. Я слышал, этот король часто увлекается женщинами без всяких последствий. — И что же, никаких последствий не было, когда он положил глаз на Анну Болейн и Джейн Сеймур? Доктор Харст, такое уже случалось прежде и может случиться вновь, если король обратит внимание на другую леди. В каком положении окажусь тогда я? Или мне воспротивиться ему по примеру королевы Екатерины и столкнуться с последствиями? — Мадам, со всем к вам уважением, но вы раздуваете проблему до невероятных размеров. Я уверен, король скоро пригласит вас вместе с ним поехать в ежегодный летний тур по стране, и эта юная леди будет забыта. — Он подарил ей земли и украшения. Я видела их вместе. Непохоже, чтобы он скоро забыл ее. Поверьте мне, доктор Харст, эта девушка — угроза мне и Клеве! — Анна была почти вне себя от волнения. — Жаль, что ваша милость до сих пор не носите ребенка, — выпалил доктор Харст и покраснел. — Простите меня, мне не следовало так говорить. — Но вы сказали это очень даже к месту, — ответила Анна. — Я молюсь об этом каждый день. Харст как будто хотел добавить что-то еще, но передумал. Может быть, вспомнил о тех слухах, правдивы ли они? Анна не собиралась просвещать его на этот счет. — Посмотрим, — сказала она. — Летний объезд страны всего через два месяца. Буду с нетерпением ждать приглашения короля.
Анна не могла заставить себя простить Сюзанну. Она тайком оглядывала своих дам одну за другой, пока они шили, и спрашивала себя: а эта знает? И вдруг — о чудо из чудес! — перед ней присела в реверансе Кэтрин Говард и попросила разрешения покинуть двор и отправиться домой, к бабушке в Ламбет, на Суррейском берегу Темзы. Анна первым делом подумала, что Генрих становится слишком напористым и Кэтрин бежит от его непрошеных авансов. — И сколько времени вы намерены провести там? Голубые глаза Кэтрин наполнились слезами; она даже плакала красиво. — Я хочу покинуть двор, мадам, — прошептала девушка. — Почему? Кто-то вас обидел? — не отступалась Анна, думая, что, может быть, Кэтрин хочет скрыться от придирок дяди. Норфолк был весьма неприятным человеком, с этим не поспоришь. Он едва ли принимал в расчет чувства своей племянницы. — Нет, мадам. — Кэтрин всхлипнула. — Но мне казалось, вы здесь счастливы? — Мадам, я была счастлива. — Тут замешан молодой человек? Кэтрин промокнула глаза: — Нет, мадам. Я нужна бабушке. Анна сочла крайне удивительным, что дочь Говардов покидает двор, так как нужна дома. Судя по тому, что она слышала, они всегда стремились обеспечить продвижение по службе каждому члену своего жадного до власти и почестей семейства. Что, если бабушка организует брак для внучки и Кэтрин не слишком этому рада? И кто она, Анна, чтобы разрушать замыслы Говардов? Кроме того, может статься, ей самой на руку, если эта девушка уедет домой.
Во время следующей прогулки с Харстом в саду, а они стали регулярными, Анна рассказала послу об отъезде Кэтрин. — Рад слышать это, мадам. Надеюсь, ваша милость, вы теперь чувствуете себя лучше. — Пожалуй. Король очень добр ко мне. — В последнее время Генрих ужинал с ней каждый вечер и принес ей два подарка — брошь и книгу. Он не выглядел мужчиной, который горько тоскует по своей любимой. — Думаю, отсутствие госпожи Говард может стать постоянным. Вероятно, на горизонте появился муж. — Ах! — Доктор Харст явно обрадовался. Но хорошее настроение Анны скоро улетучилось. Позже в тот же день, когда она сидела в своем личном саду, вышивала с дамами и наслаждалась июньским солнцем, леди Рочфорд подняла глаза от своихпяльцев и улыбнулась. Анне всегда была неприятна ее улыбка: она делала эту женщину похожей на лису. — Трудно поверить, что ваша милость замужем уже почти семь месяцев, — сказала леди Рочфорд. — Время идет быстро, — ответила Анна, заметив, как дамы переглянулись. — Мы все хотим, чтобы у вашей милости был ребенок, — вступила в разговор леди Ратленд. — Конечно хотим, — эхом подхватила леди Рочфорд. — Я знаю, что ребенка у меня нет, — заявила Анна, чтобы не давать им развивать и дальше эту деликатную тему. — Откуда ваша милость может знать это? — спросила леди Эдгкумбе. — Я хорошо знаю, что не ношу ребенка, — отрезала Анна, надеясь таким образом утихомирить дам. — Каким благом для королевства было бы, если бы герцог Йоркский присоединился к своему брату в детской, — не унималась леди Ратленд. — Это, должно быть, главное желание его величества. Анна почувствовала, что краснеет. Она знала, какими язвительными могут быть английские дамы. Уж не намекают ли они, что отсутствие беременности — это ее вина? Леди Эдгкумбе засмеялась: — Думаю, ваша милость все еще девушка! Щеки у Анны запылали. — Клянусь Святой Девой, мадам, я думаю, ваша милость все еще девушка, — ввернула леди Рочфорд. Это было невыносимо. — Как я могу быть девушкой и каждую ночь спать с королем?! — сорвалась на крик Анна. — Спать? Там должно быть кое-что еще, — хихикнула леди Рочфорд, — иначе король с тем же успехом мог бы оставаться в своей спальне. — Ну разумеется, там есть кое-что еще! — снова огрызнулась Анна; ее слова источали сарказм. — Когда король ложится в постель, он целует меня, берет за руку и говорит: «Доброй ночи, милая», — а утром он целует меня и говорит: «Всего хорошего, дорогая». Этого не достаточно? Наступила тишина. Леди Ратленд сглотнула: — Мадам, должно быть не только это, или нам долго не видать герцога Йоркского, чего так желает все королевство. Анна пожала плечами: — С меня довольно того, что я имею, а большего я не знаю. И пусть считают ее недалекой! Леди Ратленд надавила на нее: — Ваша милость не говорили об этом с матушкой Лёве? Анне надоело, что ее допрашивают. — Стыдитесь! — воскликнула она. — Я получаю столько внимания его величества, сколько хочу! После она пожалела о своем признании, что ее брак — сплошное притворство. Дамы начнут сплетничать, а сплетни быстро распространяются при этом дворе. Она молилась, чтобы слухи не дошли до ушей короля.
Вечером в День летнего солнцестояния Анна сидела в спальне и пыталась починить застежку на ожерелье. Сюзанна и Гертруда убирали ее дневную одежду, из открытого окна доносились с Темзы крики лодочников. Генрих должен был прийти ужинать. За дверью в соседней комнате дамы накрывали на стол. Анна слышала их разговор. Вдруг она насторожилась: было произнесено имя Кэтрин Говард. — Кажется, король все еще увлечен ею, — раздался голос леди Эдгкумбе. — Я слышала, он часто переезжает через реку в маленькой лодке и навещает ее на виду у всего Лондона. — А иногда ездит к ней по ночам, — сказала герцогиня Ричмонд. Анна обмерла. Сюзанна, которая очень старалась вновь завоевать ее доверие, сочувственно смотрела на свою госпожу: — Не обращайте внимания, мадам. Это просто злые разговоры. Вам не нужно это слышать. — Нет, нужно! — вспыхнула Анна. — Вы слишком многое скрывали от меня прежде. Сюзанна умолкла. — Милорд епископ Винчестерский, кажется, играет роль сводника! — услышала Анна слова леди Рочфорд. — Он развлекает их в своем дворце. — Мы знаем, куда он метит! — хихикнул кто-то. — Милорд говорит, город полнится слухами. — Это сказала герцогиня Саффолк. — И двор тоже. Люди болтают, мол, это все означает, что король намерен развестись с королевой. — Это означает адюльтер! — с досадой произнесла леди Рочфорд. Анне стало дурно. Тут как раз объявили о прибытии короля. Ей хотелось надавать пощечин своим дамам и ему в полную меру или, по крайней мере, отослать его прочь, чтобы свернуться где-нибудь в клубок и поплакать, но она не посмела. Нет, чего бы это ни стоило, она должна постараться и быть приятной компаньонкой за ужином и сделать все для сохранения своего брака и союза Клеве с Англией. Она вышла к Генриху, сделала глубокий реверанс. Он был в отличном настроении, и за трапезой они говорили о его планах на объезд страны, строительных работах в Хэмптон-Корте и превосходных качествах мяса. Генрих не остался на ночь, но весьма оживленно распрощался с Анной. На следующий день Анну взволновало появление депутации членов Тайного совета, которые попросили об аудиенции. Она приняла их в своем приемном зале в присутствии фрейлин, в легком испуге размышляя о причинах этого визита. Говорил за всех герцог Саффолк. — Ваша милость, — начал он с непонятным выражением на лице, — король желает, чтобы вы покинули двор и перебрались во дворец Ричмонд через два дня ради вашего здоровья и удовольствия. В голове у Анны зазвучал сигнал тревоги. Зачем присылать к ней целую депутацию с таким сообщением? Она вспомнила, что королеву Екатерину тоже удалили от двора перед разводом. Ее ждет та же участь? Анна мигом сообразила, насколько она уязвима: иностранка, изолированная в Англии, вдали от друзей. В отличие от Екатерины, у нее не было ни своей фракции при дворе, ни могучего императора за спиной. Что ей делать? Единственным выходом казались подчинение требованию короля и надежда на лучшее. — Господа лорды, — сказала она, заставляя себя улыбнуться им, — я согласна удалиться по желанию его величества и подготовлюсь к отъезду как можно быстрее. — Благодарю вас, мадам, — сказал герцог, явно приободрившись. — Все будет организовано для вашего удобства. После ухода лордов Анна приказала матушке Лёве собирать вещи. А сама, стараясь не углубляться в раздумья о причинах королевского приказа, отправилась в молельню просить о помощи Всевышнего. Но воспоминания о Генрихе, каким он был за ужином, мешали ей. Он ни словом не обмолвился о том, что собирается отправить ее в Ричмонд, так откуда вдруг взялась эта забота о здоровье супруги? Почти всю ночь Анна пролежала без сна. Во тьме ей казалось совершенно ясным, что действия короля — это преамбула к разводу. Даже утром уверенность в том, что ее отправка в Ричмонд не предвещает ничего хорошего, не покинула ее. Не в силах больше выносить неопределенность, она вызвала доктора Харста. — Мадам, что случилось? Я в смятении, отчего вы так печальны? — Король отсылает меня прочь, — ответила она, борясь с приступом слез, и рассказала о случившемся. Харст поспешил утешить ее: — Мадам, мне сказали, он отсылает вас в Ричмонд, дабы уберечь от морового поветрия в городе. — Я не слышала ни о каком поветрии в Лондоне. По словам моих дам, король до смерти боится болезней и уезжает на безопасное расстояние при первых признаках эпидемии. Он разве тоже уезжает? — Не могу сказать, мадам. — Доктор Харст, боюсь, это лишь предлог, чтобы убрать меня с дороги. — Мадам, я так не думаю! Мне кажется, мотивом была забота о вашем благополучии. И по-моему, вам не из-за чего расстраиваться. К тому же Ричмонд не так уж далеко от двора. Говорят, до него меньше двух часов езды по реке. Анну это совсем не убедило. — Доктор Харст, при дворе ходят слухи, и в городе тоже, что король хочет заменить меня на Кэтрин Говард, так же как он отказался от королевы Екатерины ради королевы Анны и от королевы Анны ради королевы Джейн. — Мадам, это просто слухи. Я не слышал ничего такого, что подтвердило бы их, уверяю вас. Прошу, не тревожьтесь больше. Я приеду навестить вас в Ричмонде, и если за время вашего отсутствия узнаю что-нибудь, что меня встревожит, то сообщу вам. Слова его звучали утешительно, но в глазах посла Анна прочла тревогу и душевного покоя не обрела. С тяжелым сердцем готовилась она покинуть Уайтхолл. Утром в день отъезда к ней пришел Ратленд и сообщил об ожидающей ее барке. — Его величество просил меня передать вам, что он приедет к вам в Ричмонд через два дня. Какое облегчение! Тревога Генриха за нее была искренней. — Я удивлена, что сам он не едет теперь, чтобы избежать поветрия. — Поветрия? — Ратленд выглядел удивленным. — Мадам, сейчас нет никакой эпидемии. — Странно, — упавшим голосом проговорила Анна. — Доктору Харсту сообщили, что меня отсылают во избежание мора. Ратленд, похоже, не знал, что сказать. — Если никакой моровой язвы нет, почему меня отсылают из города во избежание болезни? — не унималась Анна. — Мадам, на этот вопрос я не могу ответить. Вероятно, доктор Харст ошибся. Вас отсылают ради вашего здоровья, потому что там чистый воздух. Так мне сказали. Ратленд знал больше, чем говорил, в этом Анна не сомневалась. И теперь она была совершенно уверена в том, что Харста обманули. — Его величество увидится с вами через два дня, — оживленно проговорил Ратленд. — Я буду ждать этого, — с надеждой отозвалась Анна. Однако, как только барка отчалила от пристани, изгнанницу охватили дурные предчувствия.
Несмотря на беспокойство, Ричмонд показался Анне маленьким раем на земле. Пока барка плавно скользила по Темзе на запад, впереди начал вырастать прекрасный дворец. Его отличало большое количество эркерных окон, сказочных башенок и турретов, над которыми возвышались увенчанные золочеными флюгерами купола, напоминавшие по форме колокол. Здание окружала мощная кирпичная стена, а позади нее раскинулся огромный олений парк. Вскоре Анна была вынуждена признать, что иметь в своем распоряжении этот маленький рай просто чудесно. Здесь она могла спокойно бродить по внутренним дворам, сидеть у фонтанов, никем не потревоженная, и дышать ароматным воздухом в красивых садах с душистыми травами. На следующий день пошел дождь, и она гуляла вокруг сада по крытой аркаде, а потом обследовала главную башню, где располагались королевские апартаменты, созданные отцом Генриха. Ее покои находились на втором этаже, комнаты Генриха — на первом. Анна послушала мессу в богато убранной капелле, после чего полистала великолепно иллюстрированные бесценные манускрипты в библиотеке. — Печально, что король теперь редко здесь останавливается, — сказала леди Эдгкумбе. Она находилась при Анне вместе с леди Ратленд; обе они сопровождали королеву на прогулке по липовой аллее. — Меня это удивляет, ведь здесь так красиво, — отозвалась Анна. — В начале правления он часто бывал здесь, — подключилась к беседе леди Ратленд. — Почему же теперь не приезжает? — Он предпочитает свои более современные дворцы, вроде Хэмптон-Корта и Уайтхолла, где все королевские апартаменты находятся на первом этаже по французской моде. А эта башня теперь выглядит такой устаревшей. — Меня это не волнует. — Анна улыбнулась. — Я выросла в старинных замках и нахожу Ричмонд прелестным.
Глава 15
1540 годАнна пыталась широко смотреть на вещи и убедить себя: нет ничего плохого в том, что ее отправили в это прекрасное место. Она напомнила себе, что завтра приедет Генрих, и тогда станет ясно, как обстоят дела, хотя с Генрихом никогда нельзя быть ни в чем уверенной. На следующий день Анна ждала, считая часы и пытаясь вычислить время прибытия короля. Когда стало темнеть, она приняла как данность, что ее вместе с Ричмондом забыли, бросили… Но кое-кто все-таки появился: два человека, которых она очень хотела увидеть. Вечером, когда Анна уже измучилась отчаянными мыслями о том, почему не приехал Генрих, объявили о прибытии леди Марии и леди Елизаветы. Невысокая худенькая молодая женщина, роскошно одетая и увешанная украшениями, вошла в комнату, держа за руку хрупкую девочку с ярко-рыжими волосами, необыкновенно старым для такого юного создания личиком и степенными манерами, вовсе не соответствующими ее шестилетнему возрасту. Обе сделали изящные реверансы. — Миледи Мария, миледи Елизавета, добро пожаловать! — провозгласила Анна, думая, не явилась ли старшая из них как посланница короля? — Как я рада наконец-то встретиться с вами! — Ваша милость, мы едем в Уайтхолл, и я подумала, нужно воспользоваться возможностью познакомиться с вами. — Мария говорила хрипловатым низким голосом и при этом напряженно всматривалась в собеседника, что немного смущало. Не было сомнений в том, чья она дочь: рыжие волосы, голубые глаза, хотя черты лица несколько грубее, чем у Генриха. Ясно, она пришла не по велению короля, и Анна пала духом, но все равно это было желанное развлечение. Пока герцогиня Ричмонд водила Елизавету на горшок, Мария тепло поздоровалась с дамами Анны, особенно со своей кузиной Маргарет Дуглас, и сказала Анне: — Леди Маргарет была одно время моей фрейлиной. — Пока меня не заставили служить Анне Болейн. — Маргарет скривилась. Мария напряглась. — Эта женщина причинила моей матери и мне много горя, — горячо проговорила она. — Я слышала, что королева Екатерина была очень милостивой и добродетельной леди, — ласково сказала Анна. — О да! — выдохнула Мария. — Она была прекрасной матерью и до конца осталась верна своим принципам. Скорее встретила бы ужасную смерть, чем отреклась от них. Анна Болейн проявила невероятную жестокость по отношению к ней и ко мне. Это из-за нее мой отец порвал с Римом. Я постоянно молюсь, чтобы однажды он примирился со святым отцом. Анна посчитала более безопасным кивнуть, чем отвечать на это, боясь, что Генрих не одобрит стремление своей дочери. Она почувствовала, что Мария сдерживает поток горечи и ожесточения, скопившегося в душе под ударами, которые нанесли ей жизнь и Анна Болейн. — Но мне также говорили, королева Джейн была добра к вам и помогла примириться с королем, — осмелилась заметить Анна. — Она была хорошей женщиной и доброй душой, да упокоит ее Господь. — Мария перекрестилась. — А теперь я должна называть матерью вашу милость. — Ничто не доставит мне большего удовольствия, — сказала Анна, беря руки Марии в свои. — Хотя, сказать по правде, едва ли я могу быть ею, мы ведь почти одного возраста. Тем не менее я намерена проявить к вам материнскую доброту и быть вашим другом. Прошу, садитесь, я пошлю за угощением. Тогда мы сможем поговорить. Анна попросила принести вина, налила немного Марии, Маргарет и сама с удовольствием опорожнила кубок. Страхи ее как будто слегка отдалились. Она налила себе еще. — Пока Елизавета не вернулась, я должна предупредить вашу милость, что мы не упоминаем при ней Анну Болейн, — сказала Мария. — Она девочка слезливая, и я стараюсь не огорчать ее лишний раз, но иногда проявляет своенравие, капризничает, и ей необходимо строгое моральное руководство, чтобы она не стала такой, как ее мать. Очевидно, Мария знала Елизавету лучше, но Анну эта не по годам развитая шестилетняя девчушка просто очаровала. За разговором она поняла, как сообразительна и чутка Елизавета. В ней была живая яркость, которой не хватало Марии. Может, когда-то и Мария так же блистала, но перенесенные тяготы затушили в ней внутренний огонь. Когда Елизавета порывисто взяла и крепко сжала руку Анны, а потом осторожно коснулась ее лица, словно не в силах поверить, что эта новая мачеха реальна, у Анны перехватило дыхание. Девочка явно нуждалась в материнской любви и стабильности в жизни. Мария, стойко ненавидевшая ее мать, вероятно, была не лучшей наставницей, хотя наверняка любила свою сводную сестру. Постепенно Мария немного расслабилась, и присущие ей доброта и искренность проявились ярче. Анна начала получать удовольствие от ее общества, проникаясь все более теплыми чувствами к ней, но сердцем королевы целиком завладела Елизавета. Они провели вечер, обсуждая, чему и как Елизавета учится, ее собак, кукол, развлечения при дворе и как по-разному их воспитывали; обменивались с Марией анекдотами про общих знакомых и сошлись в том, что Ричмонд — прекрасное место. Анна заметила, как обрадовалась Мария, узнав, что Анну вырастили католичкой. — Должна признаться, я думала, вы из числа этих ужасных немецких протестантов! — Так считают многие, — откликнулась Анна. — Мне бы хотелось, чтобы было иначе. Я хожу на мессы достаточно часто. Мария одобрительно заулыбалась: — Очень рада слышать это. И я поражена, как хорошо вы говорите по-английски. — Я много работала над этим, — призналась обрадованная похвалой Анна. После этого Мария, казалось, настроилась на еще более дружелюбный лад. К моменту, когда принцессы ушли, чтобы отправиться на барке в Уайтхолл, Анна чувствовала, что нашла себе новую подругу и обрела приемную дочь.
Был уже конец июня. Ожидая в Ричмонде мужа, который все не приезжал, Анна размышляла, продолжает ли король переплывать на лодке с гребцами Темзу, чтобы провести вечер с Кэтрин Говард в доме герцогини Норфолк. Большинство ее дам получали сведения от друзей и родственников при дворе, поэтому новости и слухи достигали Ричмонда, хотя Анна подозревала, что их подвергают цензуре, прежде чем передать ей. Самым ошеломляющим, хотя и не неожиданным, стало известие о том, что парламент лишил Кромвеля гражданских прав и всего имущества и признал изменником. — Это значит, он умрет и его семья останется в нищете, — сказала Анна матушке Лёве, когда они загорали на берегу реки. Ее не покидали мысли об Элизабет Сеймур и сыне Кромвеля, Грегори: какой же это тяжелый удар для них; но гораздо хуже тот, что выпал на долю Кромвеля. Анна поежилась. — Как ужасно в такой прекрасный день томиться в Тауэре, зная, что скоро вас поведут на казнь. По словам ее дам, в Англии изменникам отрубали голову топором. В Германии, по крайней мере, усекновение головы производилось мечом, а это милосерднее. Королева Анна удостоилась сомнительной привилегии быть казненной с помощью меча, и смерть ее была скорой. Господи, пусть смерть Кромвеля наступит так же быстро, когда придет его время. В глубине души Анна не могла поверить, что Генрих уничтожит человека, который был его главным министром, надеждой и опорой. Неужели устройство ее брака привело Кромвеля к падению? Или это был всего лишь предлог, которым воспользовалась католическая партия для его свержения? Взяв из принесенной матушкой Лёве корзинки яблоко, Анна в тревоге задумалась: а если Генрих сам наказывает Кромвеля за то, что тот состряпал брак, более королю не угодный? Император и король Франции теперь доискиваются дружбы Англии. Вдруг союз с Клеве больше никому не нужен? Анне показалось, что она стоит на краю пропасти. — Ясно, что Норфолк поусердствовал, чтобы свергнуть Кромвеля, — сказала она. — Лорд Ратленд говорит, король пришел в такой ужас, получив доказательства, что даже не подверг их сомнению. Но кому тогда может доверять его милость, если не Кромвелю? Матушка Лёве ничего не ответила, так как уплыла в страну снов, оставив Анну наедине с беспокойными мыслями.
Анна уже бросила надеяться, что когда-нибудь увидит Генриха в Ричмонде, и тут он явился. — Тысяча извинений, Анна! Дела государства и парламента задержали меня — и эта прискорбная история с Кромвелем. — Ничего. Теперь вы здесь. — Она жалела, что не надела украшений и головного убора, но, может быть, выглядит достаточно привлекательно и в простом розовом платье, с распущенными волосами. Генрих отвел ее в аллею для игры в кегли и научил играть. Сегодня нога его не беспокоила. — Вы победили меня! — крикнул он, крайне удивленный, когда по какой-то счастливой случайности Анна выиграла, хотя и не рассчитывала на такое. — Еще раз! — скомандовал Генрих, и на этот раз вышел победителем сам. Они сели ужинать рано, чтобы король успел вернуться с приливом. Анну так и подмывало спросить, почему ее держат здесь, в Ричмонде, но вечер проходил на редкость приятно, и она не хотела рисковать, что все испортит. — Надеюсь, ваша милость приедете еще, — сказала Анна, когда Генрих на прощание поцеловал ей руку. — Я приеду завтра, — ответил он и оставил ее такой счастливой, какой она не чувствовала себя уже много недель. Анна даже налила себе вина, чтобы отпраздновать успех. На следующий день она более внимательно отнеслась к своему наряду, намереваясь соблазнить Генриха и заманить его к себе в постель. Выбор пал на красно-черное платье с низким вырезом, украшенное тяжелыми золотыми накладками, с длинными разрезными рукавами, взбитыми в пуфы посредством бантов и подвязок. К нему она надела ожерелье с подвеской в виде креста с жемчужинами. Волосы оставила распущенными, словно невеста. Когда Генрих появился, Анна заметила, как он скользнул взглядом по ее груди. Однако сегодня настроение у него было другое, сам говорил мало, а ее речи едва слушал. Ужин прошел второпях, так как Генриху не терпелось вернуться в Уайтхолл. «Может быть, — размышляла Анна, ворочаясь в постели, — на него начало давить сознание, что казнь Кромвеля — это ошибка или, не дай Бог, его обидело нескромное платье». Щеки Анны запылали при мысли, что Генрих мог догадаться о ее планах соблазнить его и она унизила себя. В другой раз она наденет что-нибудь более приличное. Но когда он вообще наступит?
— Мадам, проснитесь! — Матушка Лёве тормошила ее. Анна неохотно вытащила себя из сна, в котором она находилась в Клеве, чувствовала себя в полной безопасности и ей никуда больше не нужно было уезжать. Проснувшись окончательно, она обнаружила, что на улице еще темно. — Что случилось? — невнятно спросила Анна, протирая глаза. В мерцающем свете принесенной матушкой Лёве свечи она видела стоявшие на каминной полке часы. Было чуть больше двух ночи. — Мадам, мистер Берд из личных покоев короля здесь и хочет видеть вас. Вам нужно встать и поскорее принять его. Судя по тому, как торопила ее няня, и неурочному часу, Анна решила, что, наверное, кто-то умер. Только не король, Господи, не допусти! Она дрожала, когда матушка Лёве надела на нее бархатный ночной халат и застегнула его у самого горла. Вставив ноги в туфли, причесанная и умытая, Анна вошла в свои личные покои, где спешно собирались ее перепуганные дамы, которые услышали шум и накинули на себя что попало под руку: кто завернулся в накидку, а кто так и остался в ночной сорочке. — Приведите себя в порядок и проводите меня в приемный зал, — приказала Анна. — Ко мне пришел посетитель от короля. Даже в этот час мистер Берд был одет безупречно, чисто выбрит и бодр. Когда Анна заняла свое место на помосте, он быстро поклонился ей и приступил к делу: — Ваша милость, я принес послание от короля. — В такой час? — удивилась она. — Увы, мадам, дело срочное, его нужно представить в парламент утром. — (Анна приготовилась услышать дурные вести.) — Его величество желает сообщить вам, что он испытывает тяжкие сомнения относительно законности вашего брака. В глубине сердца Анна ожидала такой развязки. Слова Берда вызвали страх и растерянность, но не шокировали. Что со мной будет? Как отвечать? Голова пошла кругом. — Его величество, — продолжил Берд официальным тоном, — облегчил совесть, изложив свои сомнения парламенту, который, понимая, что у короля есть всего один наследник для обеспечения передачи власти, и опасаясь гражданской войны в случае пресечения рода, просили его милость поручить изучение вопроса о законности вашего брака епископам и духовенству. Анна слушала сквозь нарастающий стук в висках. Неужели Генрих такой трус, что не осмелился обсудить свои сомнения с ней? И ему пришлось заручиться мнением официальных лиц, прежде чем отправить своего вестника? — Мадам, для того чтобы законность вашего брака изучалась церковным судом, необходимо согласие вашей милости, вот почему я здесь, — продолжал Берд. Теперь все ясно. Визит посланца короля специально был устроен в такое время, чтобы запугать ее и вынудить к согласию. Ночью человек более беззащитен и склонен воспринимать даже незначительные проблемы как огромные. Анна тряслась, понимая, что это не сон, а реальность, и ей нужно принять важнейшее решение. Королева Екатерина столкнулась с такой же дилеммой и выбрала путь, который считала правильным, — и пострадала за это: ее затравили, и она умерла раньше срока. С тех пор король успел казнить еще одну жену. Если Анна заупрямится, станет ли он колебаться, прежде чем отправит ее на эшафот? Анна онемела. Разум ее полнился страхом и гневом. Она не сделала ничего дурного и не должна была оказаться в таком положении. Альянс нужно сохранить, но какой ценой? Стоит ли он ее страданий или даже самой жизни? Если король отвергнет ее сейчас и отправит домой опозоренной, никакой другой мужчина не подумает взять ее в жены. Мало того, ее брат, каким бы слабым он ни был, почувствует себя обязанным отомстить, объявив войну Англии, когда у его ворот стоит армия императора. Вильгельм может даже обвинить ее, Анну, в том, что союз распался, так как она не слишком старалась угодить королю. Он посчитает ее поведение вредным для Клеве, может, даже назовет ее изменницей… Анне показалось, что она вот-вот упадет в обморок. Берд ждал ответа. Если королева откажет ему в том, зачем он явился, через пару часов ее могут отвезти в Тауэр. Инстинкт подсказывал сказать: «Да, да, делайте что хотите!» — но долг перед братом и Клеве не позволил ей поступить так. Огромным усилием воли Анна заставила себя встать: — Мистер Берд, я обдумаю это сложнейшее дело очень тщательно. Скоро вы получите мой ответ. Прошу вас, подождите здесь. По лицу Берда было видно, что он не слишком обрадован, но возражений не последовало. Посланец короля поклонился, и Анна вышла, уводя за собой своих дам. Она хотела было лечь и переспать с этим, однако, вернувшись в опочивальню, поняла, что уснуть будет невозможно. Мудрый совет — вот что ей сейчас нужно. Анна вызвала церемониймейстера, который пришел, спотыкаясь, заспанный и наскоро одетый. — Пошлите за доктором Харстом, — распорядилась она. — Извинитесь, что потревожили его покой, но попросите немедленно приехать. Это дело жизненной важности. Церемониймейстер неуклюже вышел. Анна молилась, чтобы ему удалось поймать удобный момент прилива и добраться до Вестминстера, где жил Харст. Она приказала подать себе вина, чтобы успокоиться. Потом стала ждать и ждала, ждала. Дамы сидели вокруг нее, подавляя зевоту. Они все слышали слова Берда или им передали, с какой целью тот приехал. Никто не разговаривал. Все зависло в неопределенности, и казалось, ситуация разрешится только с появлением Харста, который волшебным образом разрешит проблему. Анна горячо на это надеялась. Пробило три часа. Анна приказала, чтобы мистеру Берду подали в приемный зал вина и маленьких пирожных, а сама выпила второй кубок. Прошел еще час. Она пыталась избавиться от чувства вины за то, что заставляет посланника короля ждать, но он-то не постеснялся прервать ее сон. Наконец, в четыре часа, через дверь, открывавшую доступ на лестницу и в пустые покои короля, вошел доктор Харст. Анна отправила слугу, чтобы тот провел его именно этим путем и посол не встретился с Бердом. — О мой добрый друг, никогда не была рада видеть вас больше! — воскликнула она, протягивая руки к послу. К этому моменту Анна опорожнила уже три кубка вина и расчувствовалась. — Что случилось, мадам? — спросил Харст, озабоченно сдвинув брови. — Король испытывает тяжкие сомнения по поводу законности нашего брака. Он посоветовался с парламентом и хочет, чтобы в деле разобрался церковный суд, для чего необходимо мое согласие. Для его получения король прислал сюда одного из своих джентльменов, мистера Берда, сегодня в два часа ночи. — Надеюсь, вы не дали ему ответа? — в тревоге спросил Харст. — Нам нужно тщательно все взвесить. — Именно поэтому я и послала за вами. Я сказала, что скоро дам ответ. Мистер Берд ждет. Доктор Харст, что мне делать? — По ее щеке сползла слеза. Харст пожал руку Анны. Она приняла этот нехарактерный жест за выражение сочувствия. — Думаю, нам нужно попросить совета у вашего камергера, — сказал посол. — Он кузен короля и хорошо его знает, к тому же он ваш друг. Я подозреваю, Ратленд уже что-то слышал об этом деле. Давайте обсудим все с ним и выберем лучший способ действий. Анна отпустила своих дам и послала за Ратлендом, который привел с собой Уаймонда Кэри в качестве переводчика. Она предпочла бы не говорить об этом деле в присутствии высокомерного Кэри, но выбора не было: ей не хотелось, чтобы Сюзанна Гилман распространяла сплетни. Обида на подругу так и не утихла, ее предательство вызывало жгучую боль. — Милорд, — обратился Харст к графу, — его королевское величество прислал королеве послание и требует на него ответа. По выражению понимания на вытянутом лице Ратленда Анна поняла, что ее камергеру уже известна суть «послания». — Я знаю об этом деле, — признался он и повернулся к Анне. — Мне отдали распоряжение не упоминать о нем, пока король сам не сообщит вашей милости. — Похоже, я всегда последней узнаю о происходящем, — сухо заметила она, обратив внимание, что Кэри смотрит на нее как будто с легким сочувствием, отчего немного потеплела к нему. — Милорд, я позвала вас и доктора Харста, потому что не знаю, какой ответ мне следует дать королю. Мистер Берд ждет. Я не могу держать его в ожидании дольше. Ратленд ненадолго задумался. — Мой совет, мадам: отправьте королю такой ответ, какой считаете наиболее подходящим, напишите его или передайте на словах. — Писать я ничего не буду! — отрезала Анна. — Вы можете передать мой ответ королю, доктор Харст? — Ни в коем случае, мадам! Ему не понравится мое вмешательство, и он не даст мне возможности оказывать вам помощь в будущем. — Хорошо, я отправлю мистера Берда. Но что мне сказать? — Не давайте немедленного согласия, — настаивал Харст. — Пообещайте королю, что серьезно обдумаете его просьбу. Скажите, что его посланец застал вас врасплох. Потяните время. — Но это лишь отсрочит принятие решения, — сказала Анна, разочаровавшись, что ни Харст, ни Ратленд не подсказали ей, какой линии держаться. — Если я дам согласие, боюсь, его милость найдет способ развестись со мной. Это означает возвращение в Клеве с позором, что может поставить под угрозу дружбу между моим братом и королем. Может даже разгореться война, а я понесу наказание. Но если я отвергну просьбу его величества, мне придется нелегко… — Она вдруг не удержалась и заплакала. — Мадам, успокойтесь, — мягко проговорил Ратленд. — Его королевское величество хочет всего лишь жить в согласии с законом Божьим и облегчить свою совесть и вашу. Все будет сделано во благо, так что у вашей милости есть повод радоваться, а не горевать. Анна утерла глаза и кивнула, чувствуя себя опустошенной. Может быть, Генрих и правда всего лишь проверял, что все законно и без изъянов. Она взглянула на доктора Харста, ища у него руководства, однако тот лишь сочувственно улыбнулся ей. Тогда Анна повернулась к Ратленду: — Прошу вас, скажите мистеру Берду, что я обдумываю просьбу короля. Когда камергер ушел, улыбка исчезла с лица посла. — Мадам, не могу выразить, как я возмущен. Нельзя допустить продолжения этого дела, пока мы не проконсультируемся с герцогом Вильгельмом. Вы правы в своих опасениях. Если вы воспротивитесь аннулированию брака, как сделала королева Екатерина, то рискуете столкнуться с последствиями этого решения и ваш брат действительно может почувствовать себя обязанным пойти ради вас войной на короля. Вот почему я не стал бы отправлять никаких посланий его величеству. Я не хочу, чтобы мои действия или ваши были восприняты неправильно. — Что мне делать? — в отчаянии спросила Анна. — Не лучше ли просто согласиться? Если король будет испытывать благодарность и расположение ко мне, он сохранит добрые чувства и к Клеве, тогда ничто не будет угрожать альянсу. — Увы, мадам, боюсь, королю больше не нужен этот альянс. Император и король Франции оба с ног сбиваются, чтобы заручиться его дружбой. — Значит, Вильгельм не обвинит меня в том, что альянс распался? — С чего бы ему это делать? Мадам, если король разведется с вами, он наверняка захочет умиротворить герцога любыми средствами. Войны он вовсе не хочет. — Но если он укрепит дружбу с императором, Карл может потребовать от короля поддержки в истории с Гелдерном. — Думаю, его величество находится в том положении, что может диктовать условия, мадам. Мы должны сделать все возможное, дабы сохранить его доброе расположение к Клеве. Если он откажется от своей дружбы, этот разрыв будет делом его собственных рук, не ваших. — Вы не знаете моего брата! — Анна заламывала руки. — У него очень твердые взгляды на то, как должны вести себя жены. Он станет винить во всем меня! Если я с позором явлюсь обратно в Клеве, он может меня убить! — Мадам, успокойтесь, прошу вас! — убеждал ее Харст. — Предоставьте это мне. Я отправлюсь в Уайтхолл, как только рассветет, и попытаюсь расспросить кое-кого из членов Тайного совета, чтобы узнать, действительно ли король просто хочет удостовериться в законности вашего союза. Учитывая проблемы с его прежними браками, это не выглядит чем-то невероятным. Анна сомневалась, но позволила Харсту уйти и легла в постель, избегая разговоров с дамами. — Я устала, мне нужно поспать, — сказала она им. Разумеется, ни о каком сне не могло быть и речи, но Анна нуждалась в передышке. Королева налила себе еще вина.
Харст уехал вскоре после рассвета. Наутро Анна чувствовала себя истощенной, нервной и больной и не могла ничем заниматься, даже вышивкой. Когда герцогиня Саффолк попросила музыкантов сыграть, ей пришлось остановить их, чтобы у нее не разболелась голова. Анна сидела, не в силах даже поддерживать разговор, ей не давали покоя воспоминания о ночных событиях, сменявшиеся мыслями о том, чем сейчас занят Харст и когда он вернется. За обедом она ничего не ела. Вскоре после часа дня Анна услышала приближающиеся шаги и мигом вскочила на ноги. Но это был не доктор Харст. Вместо него явились лорд-канцлер Одли, епископ Гардинер, герцог Саффолк и другие члены Тайного совета. Анна опрокинула стул, торопясь войти в приемный зал. — Я не должна заставлять лордов ждать, — сказала она дамам. — Они пришли от короля. Она не даст Генриху повода для недовольства. Саффолк, как обычно, вел себя грубовато и по-свойски — человек короля до кончиков ногтей. Лорд-канцлер был бесстрастен и вкрадчив, епископ хмур, сердит и непреклонен. Остальных, помимо мистера Кэри, которого привели в качестве переводчика, Анна не знала, но они все, по крайней мере, вежливо поклонились при ее появлении. — Мадам, — начал Одли, — позвольте представить вам епископа Гардинера, сэра Томаса Чейни, сэра Ричарда Рича — все они члены Тайного совета — и сэра Уильяма Кингстона, ревизора королевского двора и констебля Тауэра. Тауэр! Анна почувствовала, как у нее похолодела кровь, пока она подбирала слова, чтобы приветствовать иссохшего старика, который, казалось, едва дышал, но учтиво поздоровался. Неужели на улице стоят солдаты, готовые арестовать ее? Или сэра Уильяма привели сюда только для того, чтобы нагнать на нее страху? — Мадам, — вступил в разговор Саффолк, — мы здесь для того, чтобы повторить просьбу короля о вашем согласии на церковное расследование законности вашего брака и выслушать ваш ответ. Анна заставила себя милостиво улыбнуться: — Милорд, я очень серьезно обдумываю этот вопрос. Вы вскорости получите мой ответ. Саффолк раздраженно хмыкнул: — Хорошо, мадам, но будет уместно, если вы не станете тянуть слишком долго. Дело не терпит отлагательств. Анна молча кивнула. Тишину нарушил голос Одли: — Мы получили некоторые документы, имеющие отношение к предварительному соглашению о вашей помолвке. Вам известно, проводились ли официальные процедуры по ее аннулированию? Анна силилась сохранять спокойствие. — Господа лорды, как я уже говорила королю, в момент помолвки я была ребенком. Мне сообщили об этом после заключения соглашения. Через несколько лет меня поставили в известность о том, что помолвка расторгнута. Боюсь, больше я ничего не могу добавить. — Значит, когда обсуждался вопрос о вашем браке с королем, вы считали себя свободной для замужества? — Да, милорд. — И вы не знали, что ваша помолвка не была официально расторгнута? — Я думала, что она расторгнута. Одли вздохнул: — Мадам, ваш брат прислал королю в качестве доказательства нотариально заверенный сертификат, составленный и подписанный в присутствии великого магистра двора Гохштадена и вице-канцлера Олислегера. В нем утверждается, что предварительное соглашение было аннулировано пятнадцатого февраля тысяча пятьсот тридцать пятого года. — Значит, у вас есть необходимое доказательство, — сказала Анна, испытав облегчение. — Нет, мадам, мы его не имеем! — рявкнул Гардинер. — От этого сертификата попахивает подделкой. Под ним стоит печать с изображением пивной кружки! Можно ли доверять такому документу? — Более того, — добавил Одли, — в нем не содержится обещанных советниками герцога доказательств. — Возникает впечатление, что никто в Клеве не может их предоставить, потому что они просто отсутствуют, — пролаял Гардинер. — Должны быть соответствующие записи в церковном архиве, и в архивах герцогства Клеве тоже, но, похоже, их не удалось найти. Анна поняла, что дело об аннулировании брака может обернуться серьезными проблемами, но решила ничего не отвечать, не посоветовавшись с доктором Харстом. — Это звучит так, будто вы обвиняете меня в очевидном отсутствии доказательств, господа лорды. Одли откашлялся: — Вовсе нет, мадам. Мы просто хотим дать понять вашей милости, с какими трудностями столкнулись, пытаясь подтвердить законность вашего брака. — Но я официально отказалась от помолвки по просьбе его величества. — Боюсь, это не удовлетворяет короля, — сказал Гардинер. — Он не может рисковать, что права его потомства на престол, если ваша милость родит ему детей, могут быть оспорены. Все должно быть неопровержимо законно. Другой вопрос, который мы должны задать… — Он сделал паузу и хищно, как ястреб, посмотрел на Анну. — Может ли ваша милость выносить королю детей? Краска бросилась в лицо Анне. Ответ им известен! Но она не станет подтверждать их догадки. Если брак не завершился физической близостью супругов — это основание для его аннулирования. Признайся она в этом, и господа лорды не станут утруждать себя разбором деталей помолвки! — Я каждый день молюсь об этом благословении, — сказала она. — И вы не знаете ни о каких препятствиях к его обретению? — не отставал Гардинер, впиваясь в нее черными глазами. — Ни о каких, милорд. — Пусть считают ее наивной! — Мы хотели бы поговорить с вашими дамами, — сказал лорд Одли. Анна мысленно вернулась к тому странному разговору, который имела с леди Ратленд, леди Рочфорд и леди Эдгкумбе недели две назад. Он был похож на допрос, и теперь она подозревала, что им приказали расспросить ее о том, что происходит у них с Генрихом в спальне. — Я пошлю за ними, — ответила Анна, понимая, что они скажут. Следующий час или около того Одли и Гардинер провели, беря показания у придворных дам; каждую расспрашивали отдельно. Одна за другой женщины выходили из зала смущенные, расстроенные или с поджатыми губами. — Мы ничего не можем сказать, мадам, — таков был их постоянный рефрен, когда Анна донимала их вопросами, что происходит, но она легко могла представить, о чем их спрашивали. Матушка Лёве отказалась повиноваться. — Я сказала, что не говорю по-английски. В конце концов они от меня отстали, и Катарину с Гертрудой тоже бросили донимать. Они не заставят меня потворствовать никаким аннулированиям! Анна обняла ее: — Благодарю вас, мой бесценный друг. Что их интересовало? — Девушка ли вы до сих пор. — Матушка Лёве многозначительно глянула на нее. Анна поделилась с няней своими подозрениями, что леди Рочфорд, леди Эдгкумбе и леди Ратленд получили задание выведать у нее правду. — Теперь все они, без сомнения, радостно пересказывают то, что узнали. По прошествии часа последняя фрейлина вернулась из приемного зала. Через пару минут Анну вызвали обратно. — Я пока еще королева! — сказала она церемониймейстеру. — Никто не вызывает меня! Скажите лордам, что я дам им аудиенцию через четверть часа. Она отстояла свое достоинство, но какой ценой! Это были самые долгие пятнадцать минут за всю ее жизнь. И когда Анна вошла в приемный зал в сопровождении своих дам, то застала Одли и Гардинера в не слишком хорошем настроении. Они не стали тратить времени и сразу приступили к сути дела. — Мадам, мы услышали свидетельства того, что ваш брак с королем остался не приведенным к окончательному завершению. Анна не ожидала такой прямоты. — На это пусть ответит король. Он всегда был очень внимательным супругом. — Его величество уже открыл нам, что ни разу не имел сношений с вашей милостью, — сказал Гардинер. — Король заявил, что его ум не соглашался на это, так как в сердце своем он знал, что вы жена другого мужчины и ему нельзя к вам прикасаться. — Мы хотели бы, чтобы ваша милость дали показания, подтверждающие свидетельство его величества, — предложил Одли. — Господа лорды, я хотела бы посоветоваться с послом Клеве, прежде чем напишу или подпишу что-либо, — не сдавалась Анна. — Я ожидаю его прибытия сюда сегодня вечером. Прошу вас, позвольте мне поговорить с ним. Мне нужно сообразоваться с тем, чего ожидает от меня мой брат герцог. Она видела, что лорды недовольны ее ответом. — Хорошо, мадам. — Одли вздохнул. — Мы вернемся в Уайтхолл и будем ждать, как вы просите.
Теперь уже Анна не сомневалась, что Генрих нацелен на развод с ней, и результат любого разбирательства заранее известен. Но как быть с ее желаниями? Что будет с альянсом, сохранение которого она считала своим долгом? В ожидании доктора Харста Анна совершила короткую прогулку на свежем воздухе под хмурыми грозовыми облаками, отражавшими ее настроение, спрашивая себя, чего хочется ей самой. Генриха она не любила, но привязалась к нему,находя, что хорошего в нем больше, чем плохого. Анна могла поклясться, что король тоже к ней не равнодушен. Он достаточно явно продемонстрировал это, хотя, очевидно, все это время таил в душе сомнения относительно их брака. Может быть, слухи были правдивы и она ему сразу не понравилась. И тем не менее Генрих предпринял усилия, чтобы проявить доброту к ней, и она не сомневалась в том, что между ними начала завязываться дружба. Вероятно, мог наступить момент, когда король забыл бы о неувязках с ее помолвкой. Но потом на глаза ему попалась Кэтрин Говард, и он был очарован ею. Неужели его сомнения возродились из-за страсти к ней? «Хочется ли мне остаться с ним теперь?» — спрашивала себя Анна. Она могла бы жить без постоянной тревоги, страха, что недостаточно хороша, и все же перспектива потерять дружбу Генриха и лишиться его общества огорчала ее, хотя она и злилась на него. Ей понравилось быть королевой, пользоваться всеобщим почтением и привилегиями, которые давал этот статус. Приятно было чувствовать, что она оказывает услугу Клеве и Англии. Анна начала свыкаться с мыслью, что заплатить за это, вероятно, придется тем, что никогда больше она не познает радостей плотской любви и материнства. Генрих за многое должен ответить! Анна продолжала шагать по саду, и в ней рос гнев. Эта суета вокруг помолвки — полная чушь! Вильгельм — человек предусмотрительный: он не допустил бы ее замужества, если бы она не была свободна. Она истинная супруга короля и всегда ею будет, пока смерть не разлучит их. Возмутительно, что его министры так ее унизили. Она принцесса Клеве, и ее нельзя просто отправить домой с пожитками как ненужную вещь. Отец перевернулся бы в гробу, если бы узнал, как с ней обходятся. Курфюрст Саксонский и его союзники протестанты будут шокированы. Объявление войны — меньшего король не заслуживал… — Ваша милость! — окликнула ее Кейт Кэри. — Доктор Харст здесь. Анна кинулась в дом. Посол ждал в ее приемном зале. — Слава Богу, слава Богу! — воскликнула она, жестом призывая его подняться из поклона. — Лорд-канцлер и епископ Гардинер были здесь. Никогда еще я не испытывала такого унижения… — Анна описала события сегодняшнего утра. — Они уехали обратно ко двору и ждут моего ответа. Харст разъярился: — Они допрашивали вас в мое отсутствие? Ясно, что они дождались, пока я удалюсь на безопасное расстояние! Ну что ж, мадам, я вернусь ко двору утром, чтобы протестовать против этого несправедливого расследования и этих в высшей степени сомнительных действий. Я спрошу, является ли это английским обычаем — заключать брак с принцессой, как ваша милость, а потом избавляться от нее по первому капризу. Не могу поверить, что король одобрил такое обращение с вами, и я потребую, чтобы Тайный совет проинформировал его о содеянном. — Да благословит вас Господь, — выдохнула Анна. Воистину, этот добрый человек был настоящим ее защитником. И все же она вовсе не была уверена, что цель действий короля могла вызвать хоть какие-то сомнения или что он не знал, какую тактику применяют его советники. — Расскажите мне, что происходит при дворе, — обратилась Анна к послу. Харст вздохнул: — Я попросил о встрече с Тайным советом. Меня заставили прождать до послеобеденного времени, после чего вызвали к себе, и я оказался перед герцогом Норфолком, архиепископом Кранмером, сэром Энтони Брауном и епископом Даремским. У них хватило любезности извиниться, что не пригласили меня отобедать с ними, — сказали, это было упущение. Когда я спросил, что предвещает послание короля вашей милости, епископ ответил мне, что простой люд распускает слухи о незаконности вашего брака. Поэтому для подтверждения его легитимности и во избежание гражданской войны в будущем его величество приказал провести судебное разбирательство. А потом они заверили меня, что с вами будут обращаться так, как подобает при вашем королевском статусе. — Король хочет аннулировать брак, а не подтвердить его законность, — сказала Анна. — Они просто морочили вам голову лживыми речами. — Епископ Даремский заверил меня, что король настроен дружественно по отношению к вашей милости и, вероятно, оставит вас своей супругой, каковы бы ни были результаты разбирательства. Но меня это не убедило. Я остался под впечатлением, что король и его советники работают против ваших интересов, и после вашего рассказа об их сегодняшних действиях соглашусь: они нацелены на расторжение брака. Но я все равно выражу протест от вашего имени и в самых суровых выражениях. У Анны упало сердце. — Я так благодарна вам, доктор Харст. Они сказали что-нибудь еще? — Спросили, не напишу ли я письмо герцогу Вильгельму с объяснением дела, но я отказался. Пусть сами с ним объясняются! После встречи я пытался убедить епископа в необходимости отложить разбирательство до тех пор, пока герцоги Клеве и Саксонии не пришлют послов в Англию, но он ничего не хотел слушать. Так что, мадам, я буду вашим единственным адвокатом. — Лучшего я не могу себе представить, — ответила Анна. Их беседу прервали раздавшиеся внизу, у гейтхауса, крики. Анна поспешила к окну: — Прибыла группа джентльменов. О нет! Это снова лорд-канцлер и епископ Гардинер с Саффолком и остальными. Констебль Тауэра тоже здесь. Зачем они вернулись? Они сказали, что будут ждать, сколько мне потребуется. Анна задрожала, испугавшись, что они пришли ее арестовывать, что король рассержен ее отказом содействовать расследованию и наказывает ее за строптивость. У нее закружилась голова, и она пожалела, что ничего не ела за обедом. Чувствовала ли Анна Болейн себя так же в тот день, когда за ней пришли? — Наверное, король настоял, чтобы они получили ваше согласие на расследование, — высказал соображение доктор Харст. — Надеюсь, это их единственная цель. — Анна говорила смело, хотя на самом деле изрядно трусила. — Может, лучше согласиться? Противно, если кто-то подумает, что я цепляюсь за мужа, который меня не хочет. Нужно быть разумной. Если еще не поздно. — Решать вам, мадам, — сказал Харст. — Как бы вы ни поступили, я буду вас поддерживать. Снова сев на трон, Анна разгладила юбки и проверила, не съехал ли набок капор. Она примет их как королева. Ее не запугать. Харст встал справа от нее, Уаймонд Кэри как переводчик — слева. Сердце Анны колотилось от страха. Это было началом конца, она не сомневалась. Когда советники вошли, мир вдруг завертелся вокруг нее, и свет померк.
Открыв глаза, Анна увидела склонившуюся над ней матушку Лёве. — Вы были в обмороке, мадам. Теперь вы с нами? Анна медленно села прямо, чувствуя себя как будто оглушенной. Вокруг суетились дамы, доктор Харст и лорды смотрели на нее с озабоченными лицами. — Со мной все хорошо, — сказала она фрейлинам. — Оставьте нас. — Ваша милость полностью оправились? — спросил Саффолк. — Мы можем подождать, если вам нужно время отдохнуть. Тревога вновь охватила Анну. — Думаю, ее милость была бы очень… — начал Харст. — Мне уже лучше, благодарю вас, господа лорды, — оборвала его она. — Прошу вас, продолжайте. Саффолк благодарно улыбнулся: — Мадам, вам известно, что парламент хочет, чтобы вопрос о законности вашего брака был рассмотрен собором духовенства. Вашей милости понятно, что это означает? — Да, понятно, — ответила Анна. — Епископы определят, было ли соглашение о моей помолвке должным образом расторгнуто. — Именно так, мадам, — сказал Одли. — И если они обнаружат, что официальной его отмены не произошло, то могут признать брак несостоятельным. Мы здесь для того, чтобы заверить вас: его величество готов сделать все, что в его силах, дабы вы не пострадали от неблагоприятных последствий этого. — Я ценю предупредительность его величества, — сказала Анна, преисполненная облегчения оттого, что эти господа явились не для выполнения более страшного распоряжения. — Разумеется, епископы могут признать ваш брак состоятельным. — Одли улыбнулся. Анна ни на миг в это не поверила. — Его величество уже удовлетворил прошение парламента? — Да, мадам. Сегодня он сказал, что действует во славу Господа ради благополучия королевства и торжества правды. Осталось только, чтобы ваша милость согласились с передачей дела на рассмотрение духовных лиц, сведущих в таких вопросах. Анна приняла решение. Она посмотрела на советников, стараясь не выдать страха: — Я всегда соглашаюсь с решениями его величества. — Тогда, мадам, — включился в беседу Гардинер, заметно потеплев, — по нашему мнению, все пройдет хорошо и благое желание короля установить истину будет исполнено.
— Без сомнения, его величество будет рад услышать, что я проявила такое благоразумие, — сказала Анна Харсту, после того как советники убыли с довольными улыбками и многочисленными добрыми пожеланиями; некоторые из них наверняка в сердце своем были достойными людьми, и им неприятно было запугивать невинную женщину. — Он явно не забыл, как стойко давала ему отпор королева Екатерина. Леди Рочфорд говорила мне, что она продержалась больше восьми лет, даже после того как он развелся с ней и женился на Анне Болейн. Но я слеплена не из такой прочной глины и у меня нет ребенка, которого нужно защищать. Есть, конечно, и ради него я приняла верное решение. — Меня теперь беспокоит только одно: чтобы мой брат не разозлился на меня за согласие на это разбирательство. — Он скорее рассердится на короля, — предсказал Харст. — Хотя я с болью вынужден сказать, что не сомневаюсь в желании его величества добиться развода. Мистер Рич сказал мне на прощание, что, если ваш брак с королем чисто номинален, Церковь вправе расторгнуть такой союз в любом случае. — Они обложили меня со всех сторон, все предусмотрели, — печально проговорила Анна. Голос Харста дрожал от возмущения. — Король, должно быть, абсолютно уверен в расположении к нему императора, раз рискует вызвать гнев герцога. Нам остается надеяться, что он щедро обеспечит вас, дабы умиротворить вашего брата. Анна тоже на это рассчитывала. По справедливости, Генрих обязан был компенсировать ей утрату так и не надетой короны. Вечером она написала ему — заверила, что согласна на рассмотрение вопроса о законности их брака собором духовенства, хотя не сомневается в его легитимности. Тем не менее, если епископы решат иначе, она надеется, что его милость будет и дальше смотреть на нее с приязнью. Письмо было отправлено ко двору с вечерним приливом.
Утром доставили послание от Тайного совета: она должна прекратить переписку с королем. Это было обидно до слез. Когда из Уайтхолла прибыл Харст, Анна оборвала его прежде, чем он успел заговорить. — Прочтите. — Она сглотнула, силясь сохранить спокойствие. — Это еще не все. Харст зачитал вслух: — «Послы Клеве не сдержали своего обещания предоставить доказательства расторжения помолвки леди Анны с сыном герцога Лоррейнского. Вместо этого они прислали документ, который вызывает еще больше сомнений, и таким образом получается, что брак короля никак не может быть признан имеющим законную силу». Мадам, это какой-то ужас! Они затыкают вам рот, когда вы имеете все основания подать голос в свою защиту. — В Клеве есть люди, которых тоже можно обвинить. — Анна не стала называть их по именам, потому что если кто и совершил ошибку, так это ее отец или его советники. — Если бы моя помолвка была должным образом расторгнута, я не оказалась бы в таком опасном положении. — Вам не грозит никакая опасность, мадам, — заверил ее Харст. — Но если я разозлила короля, разве это само по себе не опасно? Что я теперь могу делать, кроме как изображать, будто меня все устраивает? Мне нужно написать Тайному совету, заверить лордов в своих добрых намерениях и сказать, что я никогда не отступлюсь от решения доставлять удовольствие его величеству. — Не делайте пока ничего, мадам. Я думаю, скоро все разрешится. Вчера епископы собирались в Вестминстерском аббатстве во главе с архиепископом Кранмером. Я слышал, они опрашивали свидетелей под присягой. — Ах! Не сомневаюсь, моих дам привлекли к этому делу! — Анна невесело рассмеялась. — Я воспользуюсь вашим советом, мой добрый друг. Она оставила Харста допивать эль перед возвращением в Уайтхолл, а сама вошла в свои личные покои, где ее дамы играли в карты, налила себе большой кубок вина — никогда еще Анна не нуждалась больше в кураже, который давала выпивка, — и с удовольствием осушила его. Потом села и взяла в руки пяльцы, пытаясь не думать о том, чего наговорили вызванные в суд свидетели. Заявили ли они, что король никогда не хотел ее? Запишут ли эти показания, чтобы их читали грядущие поколения? Щеки у нее горели при мысли о том, что Генрих сам мог открыть миру подробности происходившего — или непроисходившего — между ними в постели и заявить, что она оставалась девственницей, какой он взял ее в жены. Но больше всего она боялась, как бы король не заявил, что взял ее вовсе не девственницей. Анна содрогалась от стыда. Если она вернется домой отвергнутой невестой, Вильгельм, при большом везении, может, и смилостивится над ней, но если узнает, что она уехала к жениху обесчещенной, то уж точно убьет ее, в этом сомневаться не приходилось, и никто не станет его винить. Невыносимо было сидеть и ждать решения своей судьбы, оставаясь в полном неведении и теряясь в догадках, что же все-таки происходит. Сегодня епископы соберутся вновь. Они станут изучать и обсуждать показания свидетелей, и то, что должно оставаться тайной супругов, будет явлено всему миру. Анна с первой брачной ночи подозревала, что Генрих раскрыл ее тайну. Оградит ли он ее от позора и его ужасных последствий?
Часть третья. Сестра короля
Глава 16
1540 годПозже тем же вечером в Ричмонд прибыл мистер Берд и сразу попросил о встрече с Анной. — Он назвал вашу милость леди Анна! — воскликнула герцогиня Саффолк. — Какая наглость! Анна ничего не сказала. Она знала, что это означает, и про себя задавалась вопросом: «Кто я теперь?» Мистер Берд, по крайней мере, проявил любезность по отношению к ней и поклонился. — Мадам, — сказал он мрачно, — сегодня в три часа епископы пришли к общему согласию в том, что его величество и вы не связаны полноценно заключенным между вами браком, и объявили его не имеющим силы. Анна ожидала этого, однако весть все равно шокировала. Она подумала, что сейчас лишится чувств, но нет, ноги продолжали держать ее, и дыхание не прервалось. Голова полнилась вопросами, правда, ни один из них она не могла задать — онемела. Берд смотрел на нее, без сомнения готовясь устоять перед шквалом эмоций. — Его величеству уже сообщили, равно как и обеим палатам парламента. Следующее заседание совета духовенства отложено до восьми утра пятницы, когда постановление епископов будет официально объявлено и вступит в силу. Значит, пока еще она королева, но всего на несколько дней. По крайней мере, Берд не намекнул на то, что ее ужасная тайна раскрыта. Отчего, несмотря на шок и возмущение, Анна испытала огромное облегчение. Она обрела голос: — На каких основаниях я должна быть разведена, мистер Берд? — Их три, мадам. Во-первых, по причине помолвки между вашей милостью и маркизом Лоррейнским; во-вторых, в связи с тем, что его королевское величество, догадываясь о существовании этого препятствия, вступил в брак против своей воли; и в-третьих, потому, что английский народ имеет большую заинтересованность в том, чтобы у короля было больше потомков, которых, это очевидно, ваша милость никогда не сможет ему дать, так как брак остается не исполненным до конца по той причине, что его величество в сердце своем убежден в вашей для него недоступности. Оба вы — его величество и ваша милость — свободны заключать новые браки. И теперь Генрих сможет получить свою Кэтрин! Анна не завидовала этому его счастью. Она не жалела об утрате короля в качестве супруга, только как друга, хотя в последнее время он и особых дружеских чувств к ней не проявлял. А потом ей в голову пришла странная мысль. Неужели никто не заметил противоречия в постановлении епископов? Ее брак расторгнут на том основании, что она все еще связана помолвкой с Франциском Лоррейнским, значит не может быть свободной для нового замужества, тем не менее их светлости постановили обратное. Но что это меняет, если никто не отрицал отсутствия окончательного завершения брака, а это само по себе достаточное основание для его расторжения. Что теперь будет? Генрих фактически обрек ее на жизнь в безбрачии и отсутствие детей. Позора, которого она так боялась, не избежать. Что скажет Харст? Ей хотелось, чтобы он был здесь. Что скажут люди, если уж на то пошло? Но важнее всего, как отнесется к этому Вильгельм? Мистер Берд настороженно наблюдал за Анной, пока та собиралась с мыслями. — Мадам, король требует, чтобы вы согласились с решением духовенства. — Простите меня, мистер Берд, но эта новость расстроила меня, как вы понимаете. — Если у вас есть сердце. — Дайте мне немного времени, чтобы собраться с мыслями. Я скоро дам вам ответ. — С этими словами Анна кивнула, давая знак, что аудиенция окончена. Берд с недовольным видом удалился.
Она ничего никому не сказала. Весь вечер сидела среди своих дам и джентльменов, пила вино, слушала музыку и пыталась совладать с кипучими мыслями. Меньше чем через два дня все, из чего складывалась ее жизнь, — большой двор, прекрасные дворцы, почтение, драгоценности и прочие составляющие ее ранга — исчезнет, и она не представляла, что произойдет с ней дальше. Скоро придется дать посланцу короля ответ. Он ждал в комнате для слуг, куда ему по приказу Анны подали ужин. Анна поймала на себе взгляд Отто фон Вилиха. В нем читалось сочувствие. Отто сидел один, немного в стороне от других джентльменов. — Где сегодня ваша супруга? Последовало легкое замешательство. — Она немного нездорова, мадам. — (Еще одна пауза.) — Надеюсь, у вашей милости все хорошо? — Все в полном порядке, благодарю вас, — ответила Анна, удивляясь про себя, что с ним не так. Может быть, они оба лгали? Анне хотелось довериться Отто и получить от него желанное утешение. Но она не имела права на такое сочувствие, и сейчас у нее было много других проблем, чтобы осложнять себе жизнь чем-то еще. Спать ей сегодня не придется. Это Анна понимала, а потому, когда отдаленный колокол пробил одиннадцать, она отпустила дежурных слуг, взяла кувшин с вином и ушла в свою спальню, где сидела в тяжких раздумьях и попивала пьяное зелье. Что с ней станется? Если вернется в Клеве, ее после устроенных там пышных проводов в Англию, навстречу великой судьбе, которая больше ей не принадлежала, ждет одно лишь унижение. Но главная проблема в том, что она утратит ценность на королевском брачном рынке и едва ли найдет себе другого мужа. Вернется под опеку и строгий надзор матери, к отупляющей ежедневной рутине неизменных молитв и вышивания. Вильгельм наверняка заберет себе все преподнесенные ей Генрихом подарки в качестве компенсации за понесенные в связи с ее браком расходы. Он будет зол на нее. Мужчины обычно обвиняют жену, если что-то пошло не так, а в данном случае на кону стояла судьба важного политического альянса. Но здесь, в Англии, Анна находилась далеко от Вильгельма и его власти. Здесь, особенно в Ричмонде, она могла пользоваться определенной свободой. Если Анна не утратит расположения к себе короля, он, вероятно, и дальше будет милостив к ней. Возможно, ей удастся сохранить контроль над своими финансами и оставить при себе по крайней мере некоторых слуг. Генрих, конечно, согласится на это — все-таки он в долгу перед обиженной супругой. Она начала любить Англию, ее сельские пейзажи и постепенно свыкалась с обычаями здешних людей. Анна разрывалась на части. Это было вполне естественно, ведь любовь к матери и Эмили никуда не исчезла, однако правда состояла в том, что она все больше приучалась обходиться без них и наслаждалась некой условной независимостью. Может быть, когда все эти проблемы улягутся, она сможет их навестить. Были в Клеве и другие вещи, по которым Анна скучала, но, определенно, ей лучше остаться в Англии. Здесь она могла быть самостоятельной женщиной. Решимость ее крепла. Но это не снимало насущных проблем.
Пробило полночь, и Анна отправила гонца в Уайтхолл, чтобы вызвать в Ричмонд доктора Харста. Ей страстно хотелось довериться кому-нибудь и получить совет. Он знает, что делать. Инстинкты подсказывали ей уступить требованию Генриха. Харст не заставил себя ждать и прибыл в три часа поутру. К этому моменту Анна чувствовала себя изможденной, у нее кружилась голова от вина и недосыпания. Без предисловий она изложила послу сказанное Бердом. — Мадам… — Рука Харста в нарушение этикета легла на ее руку, но это был жест утешения. Да и какое это теперь имело значение? Завтра она уже не будет королевой. Хотя величия это ее не лишит: Анна останется принцессой Клеве. Харст не сомневался в том, как ей нужно поступить. — Мадам, я настоятельно рекомендую вам согласиться с решением собора и набраться терпения. Весь ужас происходящего внезапно обрушился на нее хлестким ударом. Происходящее реально, и ни она сама, ни доктор Харст, ни Вильгельм ничего не могли поделать. Терпеть дальше эту муку было невмоготу. Какой позор! Теперь все узнают, что ее сочли недостойной, что она была нелюбимой женой и от нее отказались, бросили… Плечи Анны судорожно вздрогнули, и ее охватил приступ рыданий. Чем она заслужила это? Неужели ее наказывают за грех юности? Анна потеряла контроль над собой. Слезы лились потоками. Получается, она строила воздушные замки, представляя себе счастливое будущее здесь? Она была одна в этой стране; только добрый доктор Харст пытался защитить ее, но от этого едва ли становилось легче. Генрих мог сделать с ней все, что ему вздумается. Мог даже найти какой-нибудь предлог, чтобы ей отрубили голову, как Анне Болейн. Бедную Анну охватила паника, перед мысленным взором встал зловещий силуэт лондонского Тауэра, он приближался и рос, пока ее везли туда узницей. Она увидела себя стоящей на коленях на соломе, с завязанными глазами, представила мучения, кровь… И закричала от ужаса. Хлопнули ворота, на улице послышались голоса, раздался нетерпеливый стук в дверь, но Анна их как будто не замечала. Она была целиком погружена в смертельный страх. Вот бы Господь позволил ей умереть здесь сейчас от горя и спас от неминуемого ужаса, который ждал впереди. Ничего хорошего с ней произойти не могло, в этом она не сомневалась. Ее поддержали чьи-то сильные руки, подтащили к скамье. Голова опустилась на грудь старой няни. — Ну, ну, mein Liebling, — ворковала матушка Лёве, поглаживая Анну по спине. — Тише, тише. — Слава Богу, вы пришли, — услышала Анна слова Харста. — У меня просто сердце разрывалось от стенаний ее милости. Для нее все это оказалось слишком сильным потрясением. Бедная леди! — Он припал на колено и взял руку Анны. — Если я так расстроил вас своими речами, то глубоко сожалею об этом, — пробормотал посол. Истерика прошла. Анна с трудом вернула себе самообладание. — Мне очень стыдно, простите меня, — тяжело дыша, проговорила она. — Ни к чему извиняться, мадам, — произнес чей-то голос. Анна подняла взгляд и увидела лорда Ратленда в ночном халате и колпаке, из-за его спины высовывались несколько встревоженных лиц. Анна села прямо и выпустила руку матушки Лёве. — Благодарю вас, благодарю, — сказала она, обнимая взглядом всех их. — Мадам, вам нечего бояться со стороны короля, — сказал Ратленд. — Если бы его величество видел вас сейчас, я уверен, он не остался бы равнодушным. Он был бы глубоко тронут тем, что вы так опечалены перспективой потерять его. Анна не стала поправлять своего камергера. — Что случилось? — спросил Ратленд у Харста, и доктор ему объяснил. — Вы дали ее милости хороший совет, — заметил камергер. — Мадам, как я уже говорил, вы должны ответить его величеству так, как считаете правильным. Немного успокоившись, Анна встала и оправила юбки. Она знала, что должна сказать. Если не сделает этого, сожаления будут всю жизнь мучить ее как незаживающая рана. — Прошу вас, позовите мистера Берда. Матушка Лёве, будьте добры, принесите мне воды и полотенце. Анна обтерла лицо и позволила няне расчесать себе волосы. Взгляд в зеркало дал понять, что вид у нее кошмарный, ну и пусть. Генриху не повредит услышать, что она выглядела потрясенной и убитой горем. Мистер Берд, казалось, ужаснулся, увидев ее. Анна сделала глубокий вдох и собралась с духом. Генрих должен узнать: она никогда не относилась к их супружеству с такой легкостью, как он. — Прошу, передайте мой ответ королю, — начала она. — Скажите ему, что я с радостью приняла его как своего супруга и господина. Я отдала ему себя и в сердце своем останусь его женой до горькой кончины. — Говоря это, Анна уже жалела о сказанном, боясь, как бы горькая кончина и впрямь не стала ей наградой. Что она натворила? Это же безумие! Берд вздрогнул. Харст и Ратленд смотрели на нее как на помешанную. — Королю не понравится такой ответ, — помолчав, изрек мистер Берд. — Я не хочу гневить или обижать его величество, — отозвалась Анна. — Противиться ему в этом деле я не стану, но я должна говорить то, что подсказывает мне совесть, как делает он. Она почувствовала исходившее от стоявших вокруг мужчин досадливое недовольство. — Хорошо, я передам это его величеству, — мрачно проговорил Берд, небрежно поклонился и ушел. Не в силах выносить смятения, отразившегося на лицах оставшихся, Анна пожелала всем доброй ночи и удалилась в свою опочивальню.
Утром пришел доктор Харст, но — хвала Господу! — не для того, чтобы распекать ее. — Я отправлюсь ко двору, мадам. Меня сильно огорчает скорость, с какой было получено аннулирование брака и то, как с вами обращается король. Я намерен предстать перед Тайным советом и заявить об этом! Вы принцесса Клеве, и вас не пристало держать в состоянии неопределенности относительно того, какое будущее вас ожидает или какие установления будут сделаны по случаю вашего развода. Надеюсь выяснить это сегодня. — Думаю, вы также надеетесь исправить те оплошности, которые я могла совершить, — сказала Анна. Ночью она так и не сомкнула глаз; Харст, судя по его виду, тоже. — Скажите мне, я поступила неправильно, высказав свое мнение? — Вы поступили храбро, мадам. Я бы не сказал мудро, особенно притом что мы рассчитываем на щедрость короля. — Сегодня я сожалею об этом, — призналась Анна. — Боюсь, я говорила неосторожно, импульсивно. У меня смешались мысли. Теперь я жду, что в любой момент могут появиться солдаты и арестовать меня. — Король не из тех людей, которым можно перечить, но даже он не посмеет зайти так далеко, — заверил ее Харст. — Надеюсь, что нет! Милый доктор Харст, поспешите ко двору, молю вас, и скажите, что я вовсе не намеревалась критиковать короля или епископов. Скажите, прошу вас, что я обезумела от горя, страшась потерять его любовь. — Это очень мудро. — Харст улыбнулся. — Вашей милости следовало бы стать дипломатом.
Он вернулся после обеда, и Анна пригласила его прогуляться с ней по саду. — Мадам, я думаю, король опасается вас так же, как вы боитесь его. — Доктор Харст улыбнулся. — Почему? — изумленно спросила Анна. — Очевидно, он боится, что вы можете настроить вашего брата на войну, потому как сегодня Тайный совет первым делом заверил меня, что его величество не разорвет альянс с Клеве и что он намерен обращаться с вашей милостью как со своей сестрой. Мадам, я прошу вас теперь принять постановление собора духовенства. Если вы это сделаете, все с вами будет хорошо, так как советники и сейчас хорошо к вам относятся, чего не было бы, если бы вы вызвали недовольство короля. Но если вы откажетесь, тогда, боюсь, вас станут принуждать разными неподобающими способами, и последствия этого могут оказаться катастрофическими. Анне не составило труда представить, о каких неподобающих способах шла речь. — Я приму решение собора. Нужно послать за мистером Бердом? — Нет, мадам. Советники сами явятся к вам очень скоро. Собор должен огласить свое решение утром. Анна почувствовала, как у нее подвело живот. Через несколько часов она перестанет быть королевой.
Депутация членов Тайного совета ожидала Анну в ее личных покоях. Солнце искрилось на оконных стеклах, легкий летний ветерок играл с открытой створкой окна. Анне не терпелось показать себя сговорчивой и готовой к сотрудничеству. За спиной у герцога Саффолка она увидела Саутгемптона, который теперь, вместо Кромвеля, до сих пор томившегося в Тауэре, стал лордом хранителем личной печати. Рядом с ним стояли сэр Ричард Рич и мистер Берд. Анна настояла, чтобы на аудиенции присутствовали доктор Харст и Уаймонд Кэри, а также ее дамы, собравшиеся около нее полукругом. От нее не укрылось, как обменивались взглядами леди Ратленд, леди Рочфорд и леди Эдгкумбе. Она понимала: именно они поспособствовали тому, чтобы этот день настал. Саффолк откашлялся: — Мадам, вам известно о последних событиях в Вестминстере и об аннулировании вашего брака. Собор духовенства определил, что оба вы — король и ваша милость — имеете законное право снова вступить в супружество. Далее, парламент издал акт, по которому вы больше не признаетесь королевой и именовать вас следует леди Анна Клевская. Анна не смогла удержать скатившуюся по щеке слезу. Это звучало таким окончательным, столь бесповоротно определенным. Больше не королева. А она ведь так гордилась собой, но еще пуще — своей страной. — Мадам, не расстраивайтесь, — мягко проговорил Саффолк. — Это из-за моей большой любви и привязанности к королю. — Анна всхлипнула. — И я не представляю, что станет со мной, лишенной его защиты. — Мадам, позвольте заверить вас, что, если вы примете постановление собора, с вами обойдутся очень хорошо. — Саффолк не мог бы выразиться яснее. Слова, которые должны были звучать утешением, на самом деле таили угрозу. Анна сделала над собой усилие и справилась с нахлынувшими чувствами. Она покажет им себя истинной дочерью Клеве, разумной и прагматичной. — Здесь и сейчас я заявляю о своем согласии с решением епископов, — провозгласила Анна. — Я подчиняюсь ему и всегда довольна тем, чего желает и требует его величество. Подтверждаю, что мой брак действительно не был доведен до завершения. — Признавать справедливость нелепых претензий к ее помолвке она не собиралась. — В присутствии всех собравшихся предаю себя в руки короля, желая остаться здесь, в Англии, в качестве его слуги и подданной, даже если моя мать, мой брат или кто-либо другой станут склонять меня к противному. — Анна сделала глубокий вдох. Если она рассудила верно, эта тщательно подготовленная речь спасет ей жизнь, а ее брата и Клеве убережет от войны, которая нанесет урон герцогству. Вперед выступил доктор Харст: — Мадам, я должен предостеречь вас от действий, которые могут ущемить ваши права или положение вашего брата. Анна остановила его сдержанным жестом. — Я буду послушна милорду королю. Я не забыла о великой доброте, которую он проявил ко мне. Мое твердое намерение — принять безропотно все, что он посчитает нужным сделать, и навсегда остаться в его стране. Харст уставился на нее в изумлении, а вот Саффолк радостно заулыбался: — Его величество будет чрезвычайно рад услышать это, мадам. Еще бы! Это весьма на руку Генриху: ему не хотелось бы, чтобы она вернулась в Клеве и раструбила по всему свету, что с ней беззаконно развелись. — Он намерен сделать на ваш счет очень щедрые распоряжения, — продолжил герцог, — и, отдавая долг чести герцогству Клеве, а также из уважения к вашему высочеству, будет относиться к вам как к своей сестре. Вы получите старшинство надо всеми леди в Англии после любой королевы, на которой король может жениться, и дочерей его величества. Большего Анна и не желала. У нее будет личный доход, свобода, король станет почитать ее как свою сестру! Страхи начали отступать. — Его величество, как обычно, очень добр ко мне, — сказала она и улыбнулась Харсту, желая показать, что в самом деле довольна таким оборотом событий. — Мадам, напишете ли вы добровольно письмо королю с официальным подтверждением согласия с расторжением вашего брака? — спросил Саффолк. — Вы понимаете, что письменное согласие необходимо. — Разумеется, милорд, — ответила Анна и подозвала мистера Паджета, своего секретаря. — Вы продиктуете, что я должна сказать, милорд? — обратилась она к Саффолку. Тот снова широко заулыбался ей, без сомнения одновременно обрадованный и удивленный, что ему приходится иметь дело с отвергнутой королевой, которая против этого не возражает. — Миледи, вы можете сказать, что лорды королевского совета проинформировали вас о сомнениях, которые подвигли его величество поставить под вопрос законность вашего брачного союза, и что вам известно о прошении парламента, обращенном к нему, чтобы это дело рассмотрели представители духовенства, что и было со всем тщанием исполнено. Анна кивнула, и Саффолк сделал паузу, давая Паджету время записать сказанное. — Далее, — продолжил герцог, — вам нужно заверить короля, что вы по собственной воле соглашаетесь с постановлением собора духовенства. — Мне хотелось бы кое-что добавить, — сказала Анна, поддавшись внезапному порыву вдохновения. — Мистер Кэри, с одобрения милорда Саффолка, прошу вас, пусть мистер Паджет напишет: «Вашему величеству приятно будет узнать, что, хотя это решение тяжело и весьма огорчительно для меня, так как я испытываю великую любовь к вашей благороднейшей персоне, тем не менее я должна больше считаться с Господом и Его правдой, чем с любыми мирскими привязанностями. Я подтверждаю вашему величеству этим письмом и даю слово, что принимаю и одобряю постановление епископов, целиком и полностью предаю себя вашему величеству ради вашей пользы и удовольствия». Анна надеялась, что в ее словах отразится подобающее случаю чувство утраты, которое польстит Генриху и вызовет у него еще большее расположение к ней. Лорды одобрительно кивали. — Превосходно, мадам, превосходно, — прокомментировал Саффолк. — Благодарю вас, милорд. Мне бы хотелось еще добавить: «Я смиренно молю ваше величество принять к сведению, что, раз супружество наше расторгнуто, я никогда больше не назовусь вашей женой. Я исполнюсь безграничной признательности, если вам будет угодно принять меня в число своих покорных слуг и позволить мне иногда наслаждаться вашим благородным обществом, что я почту за великое счастье. Господа лорды из Совета вашего величества, находящиеся со мной, утешили меня заверениями о добрых намерениях вашего величества относительно меня и сказали, что вы примете меня как свою сестру, за что я наипокорнейше вас благодарю». Мистер Паджет, пожалуйста, завершите письмо так: «Засим, милостивейший из принцев, я молю нашего Господа послать вашему величеству долгую жизнь и доброе здоровье, во славу Господа, ради вашего благополучия и процветания этого славного королевства. Вашего величества покорнейшая сестра и служанка». — Вы справились прекрасно, мадам, — сказал Саффолк. — Его величество будет очень рад. Паджет передал ей письмо. Чернила еще не просохли, поэтому Анна проявила осторожность, подписывая его: «Анна, дочь Клеве». Используя свою прежнюю роспись, она косвенно признавала, что больше не является королевой. К своему удивлению, Анна обнаружила, что в ней расцветает упоительное ощущение благополучия. Впервые с момента встречи с Генрихом она знала, в каком положении находится. Худшего не произошло. Из состояния унизительной зависимости Анна вдруг высвободилась для роскошной и привольной жизни. Впервые была сама себе госпожой, к тому же не потеряла благорасположения короля: он остался ее другом — и братом! Какое значение имело то, что теперь у нее нет титула королевы, когда она могла остаться в Англии, быть главной надо всеми первейшими леди страны и всегда желанной гостьей при дворе?
Когда лорды ушли, доктор Харст восхищенно развел руками: — Мадам, вы были великолепны. Вы выбрали очень верный тон. Теперь я не сомневаюсь, что его величество охотно проявит щедрость. — Посмотрим. А я тем временем продолжу жить как живу, пока мной не распорядятся иначе.
Парламент подтвердил постановление епископов и официально аннулировал брак Анны. Доктор Харст принес ей известие об этом ближе к вечеру на следующий день; он прибыл как раз в тот момент, когда Анне накрывали ужин, и получил приглашение составить ей компанию. — У вас озабоченный вид, друг мой, — сказала она. — Вовсе нет, мадам. Вам будет приятно услышать, что ваше письмо королю зачитали обеим палатам парламента и его хорошо приняли. — Король был там? — Нет, мадам. Он написал послание, которое лорд-канцлер прочитал остальным лордам. Анна почувствовала, как в нее заползает беспокойство. Со вчерашнего дня манера поведения Харста изменилась. Он был необычно для себя напряжен. Она не сомневалась, что посол скрывает от нее какую-то важную информацию. — Что-то неладно, — произнесла Анна. — Прошу вас, расскажите мне. — Вероятно, это мелочи, мадам. Но послание короля вызвало кое-какие домыслы. — Домыслы о чем? — Теперь Анна уже не на шутку встревожилась. Харст деловито расправлялся с едой и не смотрел на нее: — Помимо перечисления трех оснований для аннулирования брака, его величество утверждал, будто епископы усмотрели и другие важные причины, которые не должно оглашать публично. Нет! О святый Боже! Возможно ли, что Генрих намеревался показать ей: если она не проявит послушания, он может раскрыть всем ее позорную тайну? — У вас есть какие-нибудь соображения, что это могут быть за причины? — спросил Харст. — Не представляю, — сказала Анна, молясь, чтобы собеседник ее не разоблачил. Ложь оставалась единственным оружием. — Я слышал, как сэр Ричард Рич говорил, что эти тайные причины могли быть использованы для доказательства несостоятельности брака, но король отказался раскрывать их, так как они затрагивают вашу честь. Какой кошмар! Намек на существование неких обстоятельств, затрагивающих честь женщины, был равносилен заявлению об аморальности ее поведения. Анну охватил гнев. — Это ни на чем не основанные измышления! — крикнула она. — Какая наглость! Мне никогда не нравился сэр Ричард. Харст пристально вглядывался в нее: — Простите меня, мадам, но разве посмел бы он говорить такие вещи, которые так сильно касаются чести короля и вашей, если бы не услышал их от заслуживающего доверия лица? Возможно ли, что источник этих сведений — сам король? — Не могу поверить, что король мог повести себя так не по-рыцарски и распространял клевету на меня, и я бы не стала доверять ни единому слову сэра Ричарда. Мне говорили, этот человек лгал, давая показания, когда разбиралось дело Томаса Мора. Мои дамы утверждают, что он содействовал свержению Кромвеля. Такой господин не задумываясь мог очернить меня. Харст замялся: — Мадам, кое-что еще подпитывало эти сплетни. А именно пункт из акта парламента, где утверждается, будто вы открыто признались, что не познали короля плотски. — Я это признала, — сказала Анна; гнев и страх заставляли ее говорить резко. — Что здесь не так? — Некоторые рассуждали, не познали ли вы плотски кого-нибудь другого. Анна обмерла. — Это возмутительно! — бросила она, вставая и вынуждая посла тоже подняться. — И вам не к лицу, доктор Харст, доверять такой злонамеренной болтовне и допрашивать меня в таком тоне. Мой брат должен узнать об этом. Я считала вас своим другом! — Мадам, я ваш друг, вот почему я без всякой охоты завел этот разговор, — воспротивился обвинениям Харст. — Естественно, в беседе я защищал вас от нападок, решительно и горячо, но вам нужно знать, о чем толкуют люди. — Однажды вы, доктор Харст, сами советовали мне не верить слухам. — Но эти слухи циркулируют в верхах, мадам. Их нужно пресечь. Если вы позволите, я от вашего имени пожалуюсь королю. — Нет! — испуганно выпалила Анна, и глаза их встретились. Наступила пугающая тишина. — Может, была еще какая-то причина? — спросил Харст, искательно заглядывая ей в глаза. Посмеет ли она довериться ему? Он был советником ее брата и, может статься, предпочтет сохранить верность Вильгельму. Чем меньше людей знают ее тайну, тем лучше. — Нет, никакой причины не было, — заявила Анна. — И я не хочу навредить себе, обращаясь с жалобами к королю. Она боялась, что не убедила доктора Харста и в возникшем между ними доверии появилась брешь, которую будет не залатать. — Тогда я ничего не скажу, мадам, — ответил посол и сглотнул. Желая как-то исправить ситуацию, Анна указала ему на стул и, сев сама, предложила: — Давайте закончим ужин. Какие еще новости? — Только та, что парламент постановил каждого, кто продолжит называть вас женой короля или станет отрицать решение Собора, признавать виновным в измене. Миледи, вам будет приятно узнать, что многие люди любят вас. Я слышал, как некоторые лорды хвалили вашу храбрость и здравомыслие. — Это была оливковая ветвь, и Анна обрадовалась, что Харст протянул ее, ненавидя себя за вынужденную ложь. — Один даже выразился так: может быть, королю угодно не любить свою супругу, но сам он всегда считал вас отважной леди. — Ваши слова согревают мне сердце, — сказала Анна, но тревога в душе не утихала: ведь еще чуть-чуть, и ее тайна была бы раскрыта. — А другой джентльмен сказал: прискорбно, что король женился на чужой жене, — продолжил Харст, — но вы были восхитительной королевой. — Лучше бы я знала, что люди держатся такого высокого мнения обо мне, когда была королевой, — с легкой горечью проговорила Анна. — Но я почти ничего не знала о происходящем за пределами моих покоев. Может быть, король хотел изолировать меня. Наверное, он уже давно все это спланировал. — Сомневаюсь, — сказал Харст. — По моему мнению и судя по тому, что вы мне говорили, король начал привязываться к вампосле свадьбы, но потом ему приглянулась госпожа Говард, и, только когда его внезапное чувство к ней усилилось, он решил добиваться аннулирования брака. Анна покачала головой: — Едва ли мы когда-нибудь узнаем правду. Мне тоже казалось, что мы становимся ближе, но потом вдруг меня отправили в Ричмонд. И теперь нам известно почему. В дверь постучали, и вошла леди Ратленд: — Простите меня, мадам, но здесь снова лорды из Совета, они хотят поговорить с вами. — Я к ним выйду, — сказала Анна, вытерла рот салфеткой и допила вино. — Доктор Харст, прошу вас сопровождать меня.
Саффолк, Саутгемптон и сэр Томас Риотесли ожидали в приемном зале. Анна засомневалась: прилично ли ей теперь садиться на трон? А потому приняла лордов, стоя перед помостом. Герцогини Саффолк и Ричмонд заняли места справа и слева от нее. Саффолк, по своему обыкновению, демонстрировал сердечность: — Миледи Анна, король очень рад, что вы на все согласились, и просил нас передать его благодарность, а также оповестить вас о том, какие распоряжения были сделаны относительно вашего имущества и владений в Англии. По сигналу герцога вперед выступил Саутгемптон. — Мадам, мы принесли вам письмо от его величества. — Он с поклоном передал ей послание. — В нем выражены дружественные намерения, и нам было приказано доставить его вместе с этим подарком его дражайшей названой сестре. Саффолк протянул Анне бархатный кошель: — В нем пятьсот марок золотом. Анна упала на колени, думая про себя, не слишком ли быстро она пришла к заключению, что Генрих исподтишка угрожал ей. — Его величество так милостив. Прошу, передайте ему мою смиренную благодарность. Господа, кто-нибудь может прочесть мне письмо? — Мы оставим вас, чтобы вы прочли его со своим переводчиком, — сказал Саффолк, указывая на доктора Харста. — Мы подождем в антикамере[114]. — Что там говорится? — спросила Анна посла, когда они остались одни. Тот прочел вслух: — «Поистине дорогая и безмерно любимая сестра, из отчета нашего Совета и вашего письма мы убедились в вашей осмысленной покорности. Мы с большим удовлетворением и благодарностью принимаем мудрые и делающие вам честь решения, так как вы поступили по правде Божьей. Продолжая сохранять верность слову и жить в непротивлении, вы найдете в нас превосходного друга, склонного называть вас нашей дражайшей сестрой». — Лицо Харста осветилось радостью. — Ну вот, мадам, наши надежды сбылись! Король продолжает: «В течение пяти или шести дней по завершении сессии нашего парламента мы определим, чем вы будете владеть, с великим к вам уважением, отчего у вас появятся прекрасные причины для довольства, так как мы имеем в мыслях наделить вас четырьмя тысячами фунтов ежегодной ренты. Мы определяем вам во владение два дома, Ричмонд и Блетчингли, неподалеку от Лондона, чтобы вы находились рядом с нами и, когда бы вам этого ни захотелось, могли приезжать к нашему двору и видеться с нами, так же как и мы могли бы приезжать к вам. Когда закончится сессия парламента, мы встретимся и поговорим с вами, и вы увидите, какого друга обрели в нас. Мы повелеваем вам жить покойно и счастливо. Ваш любящий брат и друг, H. R.» — Это очень благожелательное письмо, — заметила Анна, уяснив себе его смысл. — Король весьма щедр. Содержание не меньше, чем было у меня как королевы. Похоже, я ни в чем не буду нуждаться. Больше всего меня радует, что я получу Ричмонд, потому что мне здесь очень нравится. — Меньшего вы не заслуживаете, мадам, — сказал Харст. — Эта щедрость вызвана не только благодарностью к вам короля за то, что вы так облегчили ему жизнь, но и его желанием сохранить дружбу вашего брата. — Он упрощает Вильгельму принятие развода, — отозвалась Анна. — Как Вильгельм сможет возражать при таких обстоятельствах? — Я буду удивлен, если герцог не выразит некого протеста, — сказал Харст. — Но уверен, он сделает это осмотрительно. Попросить советников войти? — Да, прошу вас. Когда лорды вернулись, Анна улыбнулась им: — Пожалуйста, сообщите его величеству, что я шлю ему самую сердечную благодарность за его щедрые распоряжения. У меня только один вопрос. Где находится Блетчингли? Я никогда о нем не слышала. — Блетчингли, мадам, расположен к югу от Лондона, в графстве Суррей, отсюда до него меньше двадцати миль, — ответил ей сэр Томас Риотесли. — Это превосходный дом с замечательным оленьим парком. Его величество также дарует вам замок Хивер в Кенте. Он тоже недалеко отсюда. Анна точно слышала где-то о замке Хивер. Не леди ли Рочфорд упоминала о нем? — Кроме того, вам передадут Мор, который находится к северу от Лондона. Четыре резиденции. Может, она теперь и не королева, но явно оставалась знатной дамой. — А сейчас, миледи, — вступил в разговор Саффолк, — нам поручено объявить вам, какие распоряжения будут сделаны в отношении ваших владений и двора. — Я согласна иметь при себе тех, кого назначит мне служить его величество. — Не беспокойтесь, вам определят надлежащий штат придворных во главе с достойными управляющими. Он будет состоять в основном из ваших немецких слуг. Его величество намерен регулярно выделять вам денежные средства на содержание двора. Потребуется некоторое время, чтобы разобраться с финансовыми вопросами, а пока вы сохраните за собой земли из вдовьей части наследства. Я должен заметить, эти установления будут исполнены при условии, что вы остаетесь в Англии. — Таково мое желание и намерение, — сказала Анна. — Вам придется вернуть украшения, которые являются наследственной собственностью королев Англии, но вы можете оставить себе все прочие, включая подаренные королем, а также ваш жемчуг, посуду, одежду и портьеры. Мадам, король надеется, эти распоряжения удовлетворительны для вас. — Более чем удовлетворительны, сэр Томас. Я благодарю его величество за то, что он так щедро обеспечил меня. Прошу вас, заверьте его, я останусь верна сказанному в отношении аннулирования нашего брака, особенно в том, что касается целостности моего тела, которое, я подтверждаю это здесь и сейчас, король оставил в состоянии невинности. Анна почувствовала на себе взгляд Харста. Он поймет, зачем она сделала это заявление, и всевидящий Господь, конечно, простит ей ложь, необходимую, чтобы защитить свою репутацию и сохранить все то, что она ценила. — Леди Саффолк, будьте добры, принесите ларец с драгоценностями королевы, — сказала Анна. — Господа лорды, прошу вас, отнесите это кольцо королю в знак моего обета быть верной слову. — Она сняла с пальца перстень; на нем, поймав солнечный луч, сверкнул чистейший бриллиант. Герцогиня вернулась с ларцом и по приказанию Анны вручила его своему супругу со словами: — Милорд, пожалуйста, передайте это королю. — Благодарю вас, миледи, — ответил Саффолк и улыбнулся жене. Анна давно уже мысленно задавалась вопросом, что происходит между ними — этим стареющим мужчиной в возрасте между пятьюдесятью и шестьюдесятью и его молодой герцогиней, которой, наверное, было чуть-чуть за двадцать. Тем не менее они как будто хорошо ладили. Саффолк явно обожал свою Кэтрин, да и Кэтрин тоже, казалось, была довольна мужем. — Есть еще одна просьба, которую я должен изложить вам, мадам, — сказал герцог Анне. — Естественно, король хочет предотвратить любые недоразумения между Англией и Клеве. Во избежание проблем он просит вас написать герцогу Вильгельму на вашем родном языке и сообщить, что вы довольны разводом. От такой просьбы Анна опешила. Она ставила ее в весьма щекотливое положение. Кто знает, как отреагирует Вильгельм, услышав нежданную новость. Решение сестры остаться в Англии может показаться ему трусостью или даже предательством. Анна не хотела вступать с ним в контакт, пока не узнает его мнение. Разве это не дело Генриха — сообщить ее брату о разводе? Она тут ни при чем. — Не годится мне писать брату, пока он не напишет мне, — ответила Саффолку Анна. — Но когда он пришлет письмо, король прочтет его, и сообразно с тем, что напишет мой брат, я отвечу ему охотно и с удовольствием. И я надеюсь, его милость останется добр ко мне, как бы ни отнеслись к этому делу Вильгельм или герцог Саксонский. Лорды понимающе кивали. — Ничего, мадам, — сказал Саффолк. — Я не откажусь от моего согласия с аннулированием брака, — заявила Анна. — Буду честна с вами, я боюсь, что брат возложит на меня вину за случившееся. Если я вернусь в Клеве, он может убить меня. Вот почему я хочу остаться в Англии. Лорды, эти очерствелые, опытные мужи, смотрели на нее с некоторым сочувствием и тревогой. Анна догадывалась, что прямота и честность — качества, которые нечасто встречаются при дворе. — Я с трудом могу поверить, что герцог способен так обойтись с сестрой, — сказал Саффолк. — Тем более с такой милостивой леди. На вас в этом деле нет никакой вины, мадам. — Надеюсь, мой брат посмотрит на это так же, — ответила Анна. — Его величество позаботится об этом, я не сомневаюсь. Он отправляет в Клеве доктора Уоттона, чтобы тот сообщил герцогу о последних событиях. Анна не завидовала Уоттону, но немного успокоилась, узнав, что ошеломляющую новость Вильгельму передаст этот опытный в дипломатии ученый богослов. — Теперь позвольте нам отбыть, — сказал Саффолк. — Мы желаем вам всего хорошего, мадам. — Он изысканно поклонился. Анна задержала их: — Прежде чем вы уйдете, господа лорды, могу я попросить в качестве большого одолжения, чтобы мне позволили иногда видеться с леди Елизаветой. Она такое очаровательное дитя. Снова выйти замуж и иметь собственных детей — такое счастье Анне было недоступно, и Елизавета могла заполнить это пустое пространство в ее жизни. Матерью девочке ей, конечно, не стать, но другом — вполне возможно. Она надеялась, что и леди Мария тоже будет ее навещать. — Мадам, мы передадим вашу просьбу королю, — обещал Саффолк. — В свете вашего достохвального и примерного поведения я не вижу причин для отказа с его стороны.
Глава 17
1540 годАнну не оставляла мысль: женится ли Генрих на Кэтрин Говард? Он должен обзавестись новой супругой, и как можно скорее, это несомненно. В его годы и при таком состоянии здоровья он не мог позволить себе тратить время зря. Ну, теперь это не ее дело. Она постепенно привыкала к своим новым ежедневным тихим занятиям и удовольствиям, вела себя осмотрительно и в беседах с теми, кто выражал ей сочувствие по поводу развода, неизменно заявляла, что не желала ничего иного, кроме как радовать своего господина короля. Для себя она решила: то, чего нельзя исправить, нужно принять. Через два дня советники Генриха вернулись. На этот раз они выглядели чуть более настороженными, чем раньше. Саффолк откашлялся: — Мадам, король все же хочет, чтобы вы написали своему брату и дали ему ясно понять, что согласились с решением епископов без принуждения и довольны выделенным вам содержанием. Анна догадалась, что Генрих тревожится, как бы она вдруг не изменила своего решения, особенно если Вильгельм станет возражать против развода. — Его милость предпочел бы, чтобы вы не откладывали письмо до того момента, когда ваш брат напишет вам, — добавил Риотесли. — Он считает, что, учитывая, как достойно и добродетельно вы повели себя в этом деле, чем снискали любовь и благоволение, лучше будет, если вы сами сообщите брату обо всех событиях, чтобы герцог не слушал никаких сплетен и досужей болтовни. — Господа лорды, я не желаю ничего иного, кроме как делать то, что порадует короля, тем не менее я ясно объяснила вам причины, по которым не хочу первой писать брату, — возразила Анна. — После того как я получу от него известия и узнаю, каково его отношение к этому делу, я выполню просьбу короля, даю вам слово. Саффолк почти приплясывал на месте от беспокойства. — Мадам, не хочу обижать вас, но его величество уверен, что натура женщин изменчива. Имея в виду договор с Клеве и безопасность своего королевства, он опасается: если вы не напишете брату и не уверите его в том, что всем довольны, все будет зависеть от одного лишь женского обещания. Анна почувствовала, как в ней закипает возмущение. — Я принцесса Клеве, милорд, и когда даю слово — держу его. Я боюсь своего брата, как вы знаете, и не осмеливаюсь писать ему сейчас. — Мадам, для вашего успокоения его величество велел нам сказать, что, как бы ни повел себя ваш брат, пока вы не нарушите послушания ему, никакие беды вам не грозят. — Я благодарю его величество. Но прошу милостиво позволить мне дождаться ответа моего брата. Советники обменялись взглядами. — Хорошо, мадам. — Саффолк вздохнул.
Три дня Анна терзалась беспокойными мыслями, не потеряла ли она милость и благоволение Генриха, отказавшись писать Вильгельму. Ей не хотелось, чтобы король посчитал ее недостаточно благодарной. Может быть, его ошеломила ее сговорчивость. После долгих баталий с королевой Екатериной он, похоже, с трудом верил, что она, Анна, могла сдаться без боя. Наверное, он рассматривал вариант, не задумала ли она нажаловаться Вильгельму, а это действительно поставило бы под угрозу отношения Англии с Клеве. Анна не могла допустить, чтобы Генрих почитал ее способной на такое двуличие и, дабы продемонстрировать свои честные намерения, решилась написать ему. Сев за стол, она послала за мистером Паджетом и мистером Кэри и сказала им: — Я хочу продиктовать письмо. Обратитесь к королю так: «Его высочайшему королевскому величеству». И напишите: «Великолепнейший и благороднейший принц, мой добрый брат, я нижайше благодарю вас за вашу великую доброту, милость и великодушие, которые вам было угодно проявить по отношению ко мне. Не могу сказать ничего иного, кроме как заверить вас в том, что навеки останусь смиреннейшей сестрой и слугой вашего величества, как и передавала вашей милости через ваших советников, каковые намерения имела с самого начала. Я не отказалась от них, не откажусь и впредь. И если кто-нибудь сказал что-либо противное, заверяю вашу милость, что сделано это было без моего согласия. Также молю нашего Господа послать вашему величеству долгую жизнь, доброе здоровье и вечное счастье. Покорная слуга и сестра вашего величества». Анна подписала письмо и с ним отправила Паджета в Уайтхолл, надеясь, что оно успокоит мятущийся разум Генриха.
Сенсационная новость о ее разводе, должно быть, уже разлетелась по всей Англии и вскоре достигнет европейских дворов. Анна думала, что император будет рад. Хотя он и проявил себя галантным рыцарем, когда она направлялась в Англию, ее брак с Генрихом являлся препятствием к дружбе двух властителей. Реформистская партия при дворе, наверное, была недовольна известием об аннулировании брака. Леди Саффолк уже говорила Анне, что влияние реформистов ускорило падение Кромвеля. Католики Говарды теперь набирали силу. Но здесь, в Ричмонде, все это казалось невероятно далеким. На следующий день после того, как Анна написала королю, в Ричмонд приехали лорды Тайного совета, чтобы освободить от должностей кое-кого из тех, кто служил ей, когда она была королевой, и взять клятву верности с остававшихся на службе у нее как сестры короля. Анна расстроилась, обнаружив, что ее двор сильно сократится. Вместо ста тридцати должностных лиц и слуг теперь придется обходиться тридцатью шестью. Однако она выразила благодарность лордам, когда те сообщили ей об урезании штата. По крайней мере, ей позволят оставить при себе немцев. Матушка Лёве отныне будет в своем полном праве, без соперниц, бросающих вызов ее авторитету. По настоянию Саффолка, Анна официально отпустила тех, кто оставлял службу у нее, и, прощаясь с ними, надела на лицо улыбку, когда они по очереди кланялись и делали перед ней реверансы. По большей части она не печалилась, видя спины своих английских дам и девушек. Некоторых она полюбила, в особенности Маргарет Дуглас и герцогиню Саффолк, но остальных — нет. Их присутствие в ее покоях ощущалось как вторжение, хотя они имели полное право находиться там. Кое-кто из них отличался язвительностью, и большинство почти не старались завязать знакомство с ее немецкими дамами и девушками, что разделяло двор и доставляло массу неудобств. Сюзанна Гилман, когда настал ее черед прощаться, вглядывалась в лицо бывшей госпожи и подруги в поисках признаков былой привязанности или сожаления. Анна видела это, но лишь кивнула и позволила Сюзанне уйти. Какое облегчение — остаться без постоянного напоминания о предательстве этой женщины. А вот расставаться с лордом Ратлендом, добрым человеком и распорядительным камергером, ей было грустно. Также Анне предстояло остаться без своего канцлера, главного конюшего, землемера и ревизора. Всех ее советников тоже уволили. Когда приемный зал опустел, Анна приняла новых слуг, отобранных для нее Тайным советом. Они ждали внизу, в главном зале. Одного за другим их вызвали, чтобы представить ей и взять с них клятву верности. Каждого Анна встречала ласково и приветствовала у себя на службе. Новым камергером ее двора стал сэр Уильям Горинг из Сассекса, придворный с головы до пят, верный королю и веселый нравом. Анне он сразу понравился. Джаспер Хорси, лошадиная внешность которого не противоречила его фамилии, был назначен к ней экономом. — Мистер Хорси прекрасно подготовлен к исполнению этой должности, — сказал ей сэр Томас Риотесли. — Он был ревизором у покойной маркизы Эксетер, измену которой помог разоблачить. В награду его сделали церемониймейстером личных покоев короля и даровали ему земли поместья Блетчингли, теперь находящиеся в руках вашей светлости. Мистер Хорси взамен получил в качестве компенсации другие владения. Анна опасалась, как бы мистер Хорси «взамен» не взялся вымещать на ней недовольство, но тот повел себя почтительно, даже дружелюбно. Уаймонд Кэри остался на посту сборщика податей. — Он также будет исполнять роль посредника между вами и королем, — сказал Саффолк. — Его величество желает, чтобы вы показывали ему все письма, которые получите от брата. Анна кивнула. Просьба небезосновательная. Представление слуг продолжилось. Большинство при дворе Анны теперь составляли немцы, которые приехали с ней в Англию и которым снова пришлось давать присягу на верность. Она до смешного обрадовалась, увидев приближающегося Отто фон Вилиха, и понадеялась, что ее реакция была не слишком очевидной. За ним последовали Франц фон Вальдек, Флоренц де Дьячето, доктор Сефер и ее повар мейстер Шуленбург. Катарину и Гертруду повысили до камеристок личных покоев Анны, и они будут служить ей наряду с пятью другими камеристками, назначенными Тайным советом. Кэтрин Бассет наконец-то получила должность, и это, несомненно, порадует ее матушку, тем более что лорд Лайл продолжал сидеть в Тауэре, и никто не представлял, какая участь его ждет. Фрэнсис Лилгрейв, темноволосая женщина сорока с небольшим лет, представляясь, сказала Анне, что она вышивальщица, а ее муж служил вышивальщиком у покойной королевы Анны. Затем появились доброжелательная Дороти Уингфилд, бледная Джейн Рэтси и пожилая миссис Симпсон. Предпоследней, шурша юбкой красивого черного платья и с огромным Stickelchen на голове, пришла доблестная матушка Лёве. Элия Тёрпин, прачка, завершила вереницу слуг. Этот двор казался слишком маленьким после того великолепия, в котором Анна провела последние семь месяцев. Когда все ее придворные собрались, она обратилась к ним: — Еще раз сердечно приветствую вас всех. Мне не нужно напоминать вам и присутствующим здесь господам лордам, как я обязана королю, которому было угодно назначить вас ко мне на службу. — Пусть никто не думает, что она хоть сколько-нибудь недовольна человеком, который ее отверг. — Служа мне хорошо, вы будете служить ему. — Анна повернулась к советникам. — Я почитаю себя в большом долгу перед его королевским величеством и намерена целиком полагаться на его благую волю. Я никогда не отступлюсь от этого решения, и все письма и послания, которые получу от своего брата, родственников и друзей, буду отправлять его королевскому величеству и руководствоваться его повелениями. — Вы сделали все правильно, миледи, — пробормотал Саффолк и повернулся к стоявшим в ожидании слугам. — А теперь все приступайте к своим обязанностям! Новые придворные Анны быстро рассеялись. Матушка Лёве рьяно взялась за дело и, окунувшись в свою стихию, бойко отдавала распоряжения. Уильям Горинг в смятении глядел на нее, вероятно размышляя, не собирается ли эта пожилая дама подорвать его авторитет. Анна затаила улыбку.
Через четыре дня лорды явились снова по велению короля, чтобы проверить, насколько хорошо обустроен новый двор Анны, и застали ее саму на кухне, испачканной по локоть в муке, за приготовлением пирога. Быстро вымыв руки, Анна торопливо прошла в зал и издала радостный возглас, когда визитеры показали ей привезенные украшения, гобелены и посуду — подарки его величества. Они также передали ей письмо от Вильгельма. Оно было адресовано не ей, а королю. Прочитав послание брата, Анна испытала потрясение. Ответ Вильгельма оказался гораздо мягче, чем она ожидала. Он сожалел о случившемся; хотел бы, чтобы все сложилось иначе, тем не менее никогда не откажется от своей дружбы с его величеством из-за такого недоразумения. Оба они с доктором Олислегером беспокоились, как бы с его сестрой не стали плохо обращаться, но полагали, что король никогда этого не допустит. Вероятно, он мог бы желать приезда Анны в Клеве, но, если она предпочла остаться, пребывает в уверенности, что король поступит по отношению к ней справедливо, сам не станет требовать ее возвращения домой. Анна готова была заплясать от радости и облегчения. Казалось, Вильгельм вовсе не сердится на нее. Она вернула письмо: — Прошу вас, передайте мою самую нижайшую благодарность его величеству за то, что позволил мне увидеть это послание. Теперь я могу без опасений написать брату. Я хочу заверить его и доктора Олислегера, что со мной все хорошо. Господа лорды, будьте добры подождать, я сделаю это прямо сейчас.
Когда Паджет закончил письмо, Анна попросила Уаймонда Кэри прочесть ей его по-английски и в переводе на немецкий. На сердце у нее становилось легче от каждого слова, и она одобрительно кивала, уверенная, что сообщила Вильгельму и матери все самое важное и необходимое. — Так сгодится, мадам? — Благодарю вас, мистер Кэри и мистер Паджет, — сказала Анна. — Это очень хорошо. Прошу вас, попросите лордов вернуться. Они пришли и по очереди прочли письмо, тоже одобрительно кивая. — Письмо передаст герцогу племянник доктора Олислегера мистер Дьячето, — сказал Саффолк. — Он согласился отвезти его для вас и отправится из Дувра после обеда. — Тогда я пошлю за ним, пока вы не уехали, господа. Я хочу передать ему на словах личное послание для моего брата. Вызвали Флоренца де Дьячето, и, когда смуглый молодой человек предстал перед Анной, уже одетый и обутый в дорогу, она обратилась к нему. Советники наблюдали эту сцену. — Флоренц, я желаю, чтобы вы, когда доберетесь до Клеве, засвидетельствовали герцогу мое глубокое почтение и сказали ему, что я счастлива и пользуюсь здесь почетом, а все мои мысли и чувства откровенно высказаны в письме. — Анна улыбнулась ему и протянула руку. — Да поможет вам Бог! Пусть ее посланец с чистой совестью скажет Вильгельму, что она не казалась ему печальной или недовольной, когда напутствовала его перед отъездом. После ухода де Дьячето Анна пригласила лордов Тайного совета отобедать с ней. Получив от нее письмо, они успокоились и слегка расслабились. Она приказала подать им несколько отборных вин и отличной жареной английской ягнятины и сама с удовольствием поела. Обед прошел оживленно, беседа за столом не умолкала, в основном обсуждали ее новые владения, о которых советники много чего могли порассказать. Когда Анна наконец встала, лорды сразу повскакивали на ноги. — Господа, — начала она, чувствуя, что раскраснелась от выпитого вина, — я хочу, чтобы вы вернули эту вещь королю. Это кольцо он подарил мне при заключении нашего несостоявшегося брака. Возьмите его, прошу вас, и передайте с выражением моего нижайшего почтения. Я желаю, чтобы оно было разломано на куски как вещь, не имеющая более ни силы, ни ценности. Протянув лордам лежащее на ладони кольцо, Анна заметила выгравированную внутри надпись: «Господь, дай сил держаться». «Всевышний сделал это наилучшим образом», — подумала она. Без сомнения, Он хранил ее в эти последние дни.
Доктор Харст нашел Анну прогуливающейся под аркадой. Она обрадовалась ему, так как ей не терпелось рассказать о письме Вильгельма. — Я тоже получил известие от герцога. Как вы могли догадаться, он не открыл всех своих мыслей королю. Узнав о расторжении вашего брака, герцог был сильно расстроен. Он считает поведение его величества достойным порицания и боится, что вас могут подвергнуть преследованиям в Англии или что вам выпадет какая-нибудь ужасная судьба. Естественно, я срочно отправил к нему гонца, чтобы заверить в абсолютной безосновательности его страхов. — Я тоже его в этом заверила, — сказала Анна, понимая, каким тяжелым ударом для ее семьи, должно быть, стало все это дело и какие страдания принесло им всем. Как умело лицемерил Вильгельм в своем письме к королю: прочтя его, она испытала огромное облегчение и даже не догадалась, как сильно брат тревожился за нее. Она судила о нем совершенно неверно. Они прошли в личный сад Анны, где среди цветов сонно жужжали отяжелевшие пчелы. — Вы, вероятно, слышали, — сказал Харст, — что король отдал распоряжение всем викариям и их помощникам объявить пастве, чтобы за вас больше не молились в церквях. — Это печально. Утешительно было, что столько людей возносили за меня мольбы. — Тогда вас порадует вот что, мадам: в прошлое воскресенье я ходил в церковь рядом с тем местом, где живу, и слышал, как люди выражали сожаление по поводу вашего развода. Они говорили, какая жалость, что эта добрая леди так быстро утратила свою величайшую радость. Анна криво усмехнулась: — Я бы выразила эту мысль несколько иначе. — Да, но они говорили, что любили и ценили вас как самую милую, благосклонную и добрейшую королеву из всех, каких знали, и очень хотели бы иметь вас королевой и дальше. Похоже, слухи о вашем достойном поведении в столь трудной ситуации распространились очень широко. — Я не заслуживаю такой высокой оценки. Вы меня ошеломили. Харст вздохнул: — Вы заслуживаете, поверьте. Но, мадам, ходят и другие толки, особенно при дворе, и лучше вам услышать о них от меня, чем от кого-нибудь другого. — Какие же? — спросила Анна, мигом встревожившись. — Я думала, вы не станете прислушиваться к досужим сплетням. — Боюсь, в них есть доля правды, мадам. Говорят, король собирается жениться на Кэтрин Говард. Некоторые даже утверждают, что они уже заключили тайный брак. Это был удар, но не слишком сильный. — Иного я и не ожидала. Если король снова женится, я приму это с радостью. Ему нужны наследники и кто-то, кого он сможет любить. — Вы добрее к нему, чем он того заслуживает, — строго произнес Харст. — Он рисковал покрыть вас позором. Анна сурово взглянула на посла. Чего он себе напридумывал? — Я не хочу слышать никаких упреков в адрес короля, дорогой друг, — сказала она, садясь на каменную скамью и жестом предлагая Харсту сделать то же самое. — Ваше терпение сверхъестественно! — воскликнул он. — Поговаривают даже, что госпожа Говард уже enceinte, хотя за правдивость этого утверждения я ручаться не могу. Анна попыталась не брать это в голову. Но если Генрих зачал ребенка с Кэтрин, значит оказать ту же любезность бывшей супруге ему помешало отвращение к ней самой, Анне. Она вздохнула. Разве можно как-то рассчитать, куда заведут человека личные пристрастия. — Скажите мне, сколько времени вы намерены провести в заточении здесь, в Ричмонде? — спросил Харст. — Я не узница здесь, — поправила его Анна. — Могу уехать, если захочу, но я посчитала разумным не появляться на людях, пока шум не уляжется. Вероятно, было бы дипломатично удалиться в деревню. Все-таки у меня есть все эти дома, где я могу жить! — И вы — леди со средствами. — Вот именно! Я собираюсь наслаждаться свободой. Теперь, раз дружба моего брата с королем подтверждена, я с удовольствием устранюсь из политики. Буду пользоваться привилегиями королевского статуса, не обремененная связанными с ним заботами. Может, я больше и не королева, но намерена держать личные покои, и, кажется, никто не возражает против того, чтобы я вела жизнь в королевском стиле. — Мадам, король выиграл в главном споре и не станет печься о том, что в сравнении с его важнейшим приобретением просто блажь. — Я в прекрасном расположении духа. Можете так и передать. — Анна улыбнулась.
От Вильгельма пришло новое письмо, написанное им собственноручно. Верная своему слову, Анна отправила послание брата королю, который быстро вернул его. Она ответила Вильгельму: Я всем довольна и хочу, чтобы вы и моя матушка знали это. В тот же день к Анне в кабинет пришел ее эконом Джаспер Хорси и сообщил: по распоряжению короля из Хэмптон-Корта прискакал верхом служитель Королевской гардеробной и передал ему, что в ее новые резиденции перевезли кровати и мебель из хранилища Короны. — Служитель сказал, он сам и его помощник четыре дня разбирались с тем, что необходимо забрать из дома графа Эссекса на территории монастыря августинцев в Лондоне, Королевской гардеробной в лондонском Тауэре и Вестминстерского аббатства. Спасибо Генриху, что не лишал ее своих щедрот, однако Анна ужаснулась тому, что некоторые вещи, которые составят обстановку ее жилищ, были конфискованной собственностью Кромвеля, томившегося в Тауэре в ожидании исполнения смертного приговора. Она легко могла бы разделить его участь, если бы осмелилась перечить королю. Анна удивлялась, почему Кромвеля до сих пор не казнили? Возможно ли, что Генрих решил заменить ему наказание на тюремное заключение? Она горячо на это надеялась. Ей была ненавистна мысль, что этот умнейший человек и блистательный министр претерпит смерть, уготованную изменникам. Не так давно Маргарет Дуглас описала Анне ужасные подробности казни, и они обе содрогнулись от страха и отвращения. Кроме того, Анна чувствовала, что некоторым образом связана с Кромвелем из-за своего брака. Она не хотела пользоваться его мебелью. Выгадать на его несчастье — это казалось ей низостью. Вещи бывшего графа Эссекса останутся вечным напоминанием о его падении, и Анна поклялась, что отправит их в чулан.
Во время следующего своего визита доктор Харст сообщил Анне, что, распустив парламент на летние каникулы, король покинул Уайтхолл и с небольшой свитой перебрался во дворец Отлендс. — Это меньше чем в десяти милях отсюда, — сказал посол, когда они шли по посыпанной гравием дорожке, тянувшейся вдоль берега Темзы. — Вы думаете, он заедет ко мне? — Я не знаю, мадам. — Харст помолчал. — Я принес и печальные вести. Сегодня утром Кромвеля обезглавили на Тауэрском холме. Я был там. Рука Анны подлетела ко рту. — Нет! Я думала, король сохранит ему жизнь. О, он будет жалеть об этом, я уверена, мало у кого из правителей был такой способный и преданный министр. — Или сделавший его таким богатым! — Он сильно мучился? Харст на мгновение замялся. — Король милостиво заменил ему казнь, положенную изменникам, на усекновение головы, но палачом был какой-то молодой оборванец, просто мясник, он не знал, как взяться за дело. Да, думаю, Кромвель немного помучился. Анну передернуло. — Боюсь, он пострадал из-за моего брака. Я чувствую себя в каком-то смысле ответственной за его смерть. Доктор Харст, я не сумела вызвать у супруга любовь к себе! Мне недостает искусства, которым владеют другие женщины. Я пыталась быть преданной и любящей, и, думаю, король начал немного любить меня, но момент был упущен. Если бы Кэтрин Говард не попалась ему на глаза, Кромвель, вероятно, и сейчас был бы с нами. — Кто может судить, откуда берутся привязанности, мадам? Король хочет иметь жену, которую сможет полюбить. Во время переговоров о браке на этом много раз заостряли внимание, помните, как он хотел непременно увидеть ваш портрет. Вы сами наверняка заметили, что это желание пересиливало все прочие соображения. А значит, организовывать этот брак было просто опасно. Кромвель полагал, что после заключения брачного союза вся Германия ради вас возьмется оказывать помощь Англии. А получилось, что этот брак разрушил его самого. — Так и есть. Бедняга. Этот брак едва не разрушил и мою жизнь. Они помолчали, глядя на проплывающие по Темзе лодки. Анна перевела взгляд на простиравшиеся за рекой поля. — Католики при дворе, разумеется, торжествуют, — снова заговорил Харст. — Падение Кромвеля знаменует их победу. Реформаторы вынуждены будут затаиться. Помяните мое слово, скоро вы увидите, как король с доселе невиданным пылом поддерживает религиозную ортодоксию. Мистер Барнс, который помогал вести переговоры о вашем браке, известный протестант, приговорен к сожжению на Смитфилде как еретик, казнь состоится через два дня. Это мрачное указание на то, в какую сторону дует ветер. Анна никогда не разговаривала с мистером Барнсом, но однажды видела его в Дюссельдорфе и была поражена напряженностью его взгляда. Она легко могла поверить, что этот человек был фанатично предан лютеранской вере. Иначе и быть не могло, раз он не отступился от нее перед лицом лютой смерти. Харст продолжал: — Думаю, король никогда больше не станет целиком полагаться на министра, как он полагался на Кромвеля, а до него — на кардинала Уолси. Здесь не осталось государственных мужей равного с ними достоинства. — Но влияние Норфолка очень велико, а если король женится на его племяннице, станет еще больше. — Норфолк не Кромвель. Он солдафон по натуре и честолюбец, радеющий за свое семейство. Король это знает. Нет, мы не увидим больше ни одного человека, который поднимется на такие высоты, как эти двое, которые уже не с нами. За верховенство при дворе будут бороться фракции, помяните мое слово. Анна пошла дальше, размышляя, что, вероятно, Харст прав. Ну что же, к счастью, она теперь не имеет к этому никакого отношения. Посол догнал ее. — Чтобы сменить тему, мадам… Сегодня я узнал, что Ганс Гольбейн лишился королевских милостей. Утром он оказался рядом со мной на Тауэрском холме, так как Кромвель был его покровителем и, я подозреваю, другом тоже. Художник жаловался, что больше не получает заказов от короля. — Все оттого, что он написал портрет, который заставил короля поверить в мою красоту, — печально проговорила Анна. — Доктор Уоттон считал, что сходство было хорошее. — Я его не видел, мадам, но мне и не нужно. Утверждая, что вы милая леди, я говорю как друг; и этого нельзя отрицать. Ваша красота исходит изнутри, она освещает черты лица. И другие люди, я знаю, видели в вас это. Король, наверное, тоже это поймет, запоздало. Думаю, он заметил ваш внутренний свет, но был ослеплен страстью к другой женщине. Никогда еще ученый доктор Харст не говорил с ней так фамильярно. — Вы очень добры, но смущаете меня, — сказала ему Анна, чувствуя, что краснеет. — Моя работа — говорить правду! — дружелюбным тоном возразил посол. Анне захотелось обнять его или пожать ему руку, но она все-таки была принцессой Клеве, а он — посланником ее брата. Они пошли дальше в дружеском молчании.
Глава 18
1540 годСтояла невыносимая жара. Анна шила вместе со своими новыми фрейлинами. Они открыли нараспашку все окна, сняли платья и сидели в киртлах, высоко закатав рукава нижних сорочек, но все равно обливались по́том. — Взгляните на нас! Мы нарушаем все правила приличий! — со смехом сказала Анна, когда в комнату вошла матушка Лёве и уставилась на них. — Что сказала бы ваша почтенная матушка! — проговорила няня, качая головой и посмеиваясь. Она положила на стол два рулона шелка, которые только что доставил от торговца посыльный. Анне нравилось проводить время со своими новыми служанками. Фрэнсис Лилгрейв великолепно умела обращаться с иглой и помогла своей госпоже улучшить качество стежков, а еще придумала несколько изящных узоров для вышивки. Посплетничать эта особа тоже любила, и трудно было не увлечься ее скандальными историями о том, кто с кем имел тайные свидания и кто ведет себя не лучше, чем следовало бы. Кэтрин Бассет оказалась бледной копией своей сестры Анны и — хвала Небесам! — не такой развязной. Она подружилась с Джейн Рэтси, которую Анна находила пустоголовой, но при этом старательной и отзывчивой. Миссис Уингфилд и миссис Симпсон составляли приятную компанию Анне, и, разумеется, веселая Катарина и тихая Гертруда, как и прежде, радовали ее дружелюбием и преданностью. К счастью, Катарина уже в достаточной степени овладела английским, чтобы при случае вполне сносно переводить, хотя и у самой Анны знание языка заметно улучшилось. Сегодня разговор вращался вокруг предполагаемых визитов в ее новые дома. — Думаю, я сперва отправлюсь в замок Хивер, а потом в Блетчингли, — сказала Анна. — Вы все поедете со мной, у нас будет веселая компания. — Удивляюсь, что ваше высочество хочет остановиться в замке Хивер, — сказала Фрэнсис Лилгрейв, и ее блестящие черные глаза заискрились: она явно вспомнила очередную завлекательную историю. — А почему бы нет? — спросила Анна. — Это было ее родовое гнездо. Анны Болейн, я имею в виду. Оно перешло к королю в прошлом году, после смерти ее отца. «Ну конечно!» — осенило Анну. О Хивере упоминала леди Рочфорд, невестка Анны Болейн. Она жила там и ненавидела это место. Чему тут удивляться, эта леди вообще не делала тайны из своей глубокой неприязни к Болейнам и всему, что с ними связано. — Вы думаете, там есть привидения? — боязливо спросила Джейн Рэтси. — Надеюсь, что нет! — строго сказала Анна, желая прекратить разговор на эту тему, однако самой ей уже не так сильно хотелось посетить Хивер, как раньше. — Если уж она и блуждает где-нибудь призраком, то, конечно, в Тауэре, разве нет? — вступила в разговор Кэтрин Бассет. — Мы не должны говорить о ней, — укоризненно произнесла миссис Симпсон. — На это хмуро смотрят при дворе, как я слышала. — Думаю, нам лучше побеседовать о чем-нибудь более приятном, — вмешалась Анна. — Обсудим, к примеру, сколько новых платьев нам нужно заказать для поездки! Раздался хор одобрительных возгласов. Тут в комнату вошла Ханна фон Вилих в сопровождении супруги Джаспера Хорси Джоанны. Они несли дозор в антикамере и гейтхаусе, чтобы какой-нибудь приезжий случайно не застал их госпожу и ее дам déshabillé[115]. Джоанна была достаточно обходительна, когда не командовала своим мужем, а также младшими слугами Анны, с непреклонной суровостью, но она так хорошо справлялась с этим, что у хозяйки не возникало желания ее одергивать, а вот к Ханне фон Вилих Анна так и не заимела дружеских чувств, считая ее резкой, хитроватой и скрытной. С Отто они не ладили; всем было очевидно, что теперь их не назовешь счастливой парой. Отто завернулся в печаль, как в накидку. Его жену, напротив, раздор в семье, казалось, ничуть не тревожил. Она как будто была безразлична ко всему. Однако сегодня Ханна оживилась. — Внизу причаливает барка, миледи. В ней мужчины в королевских ливреях! — Торопитесь, мадам, — подгоняла ее Джоанна. — Они наверняка явятся сюда, чтобы увидеться с вами. При упоминании короля Анна вскочила на ноги, матушка Лёве кинулась надевать на нее платье и, возясь со шнурками, крикнула: — Кто-нибудь, принесите расческу! А вы, девушки, приведите себя в порядок. Каким-то чудом все они имели приличный вид, когда Джон Бекинсейл, педантичный церемониймейстер Анны, ввел в зал двоих мужчин в красных ливреях с эмблемами в виде тюдоровской розы. Оба поклонились. — Миледи, король спрашивает, может ли он посетить вас завтра и отобедать с вами, — сказал мужчина ростом повыше. Анна изумилась. Генрих говорил, что приедет навестить ее, но она думала — это просто слова. — Его величество будет здесь самым желанным гостем. В какое время он прибудет? — В одиннадцать часов, миледи. Он придет на барке из Хэмптон-Корта. — С ним будут еще гости? — Нет, миледи. Его величество привезет с собой только своего конюшего, троих дежурных лордов, двоих придворных и небольшой эскорт. Если ваша кухня сможет обеспечить им приличную трапезу, это будет оценено по достоинству. — Конечно, — сказала она, мысленно уже решая, где накрыть для них стол: может, в сторожевом покое?[116] — Прошу вас, скажите королю, что я понимаю, какую честь он мне оказывает, и буду рада видеть его. Когда гонцы ушли, Анна задумалась, не будут ли ее последние слова истолкованы в том смысле, что она чахнет по Генриху. Ну, очень скоро он убедится в ошибочности этого мнения. Сказав так себе, Анна повернулась к своим дамам со словами: — Нам нужно многое сделать. Все возбужденно залопотали, особенно самые молодые девушки, которые, вероятно, истомились от однообразия жизни и жаждали развлечений. Анна призвала Джаспера Хорси и сообщила ему о визите короля, потом быстро спустилась на кухню и провела целый час с мейстером Шуленбургом и своим виночерпием Генри, обсуждая, что будет подано за обедом. Она проверила многочисленные кухонные помещения, которые будут задействованы, чтобы там все было чисто, затем перебрала сундуки со столовым бельем и вынула лучшие скатерти. Ричмонд превратился в жужжащий улей: слуги собирали провизию, натирали стаканы и золотые блюда, гремели кастрюлями. Желая укрыться от гвалта, который поднялся во дворце, Анна взбежала наверх, чтобы перебрать свой гардероб. При встрече с королем она должна выглядеть как можно лучше. Пусть в ее внешности не будет и намека на то, что без него она опустилась. Он увидит счастливую, уверенную в себе женщину, очень довольную собой. Никогда больше она не наденет для него чего-нибудь вроде того красно-черногоплатья с низким вырезом, в которое по наивности облачилась, предполагая вызвать в нем желание. Его нужно разрезать и перешить на чехлы для подушек. Были у Анны и другие наряды, связанные с неприятными воспоминаниями. Вот досада, ведь мать вложила в них столько заботы и потратила столько денег, чтобы снабдить пышным приданым свою дочь-невесту. Но висело в шкафу одно платье, из зеленого дамаста, которое Генрих не видел, в английском стиле, и сшили его Анне уже здесь. Оно плотно облегало торс до талии, имело заостренный набрюшник, стоячий воротник и длинные висячие рукава. Анна считала, что это платье очень ей к лицу. Среди ее одежды имелся подходящий к нему французский капор, отделанный по краям жемчугом, и она могла надеть подаренную Генрихом подвеску. На следующее утро, нарядившись таким образом, Анна ждала на берегу; свита стояла у нее за спиной. Королевская барка неторопливо причалила к пристани. И там был Генрих, казавшийся еще более огромным в роскошном костюме из серебряной парчи. Тяжело ступая, он шел к ней по сходням. Анна опустилась на колени, склонила голову, потом почувствовала, как ее накрыла тень могучей фигуры короля. Он взял ее за руки и поднял. — Анна, моя дражайшая сестра! — приветствовал ее бывший супруг и поцеловал в губы на английский манер. — Ваше величество, брат, это большая честь, — ответила Анна, вглядываясь в его лицо в поисках малейших признаков стыда, но ничего не увидела. Она ожидала, что их встреча будет неловкой, проникнутой недоверием, даже чувством вины, однако Генрих находился в кипучем настроении и выглядел гораздо более счастливым, чем когда они виделись в последний раз. Ей следовало знать наперед, что он не будет испытывать смущение в ее обществе. Уверенность в собственной непогрешимости слишком глубоко укоренилась в нем, ему и в голову не приходила мысль о том, что он, возможно, разрушил ее жизнь. — Вы выглядите очень хорошо, Анна, — сказал Генрих, взял ее за руку и провел через гейтхаус. — Я собиралась сказать то же самое о вашей милости, — со смехом отозвалась она. — Целую вечность я не чувствовал себя так хорошо. Отличное платье. Оно вам к лицу. Это был совсем другой Генрих, вовсе не похожий на супруга Анны. Впервые она поняла, почему, говоря о нем, люди готовы были назвать его, скорее, отличным парнем, чем королем. Если бы он использовал свои чары во время их супружества, она, вероятно, набралась бы уверенности в себе, чтобы выглядеть немного более соблазнительной и завоевать его. Но это не важно. Странно, что теперь, когда она освободилась от него, в ней как будто появилась и эта уверенность. — Я приказала накрыть обед в своих личных покоях, — сказала Анна, когда они поднимались по лестнице в апартаменты королевы. Она тщательно продумала, как рассадить гостей, чтобы продемонстрировать свое послушание монаршей воле. Кресло короля стояло в центре стола под балдахином с гербами Англии; гонцы предусмотрительно привезли его заранее. Отдельный стол для нее меньшего размера установили под прямым углом к королевскому и не на помосте, чтобы подчеркнуть: теперь она не пользуется привилегией обедать, сидя рядом с королем. Генрих ничего не сказал, но Анна заметила, что он окинул комнату оценивающим взглядом. Заняв свое место, он восхищенно посмотрел на вазы с цветами, которые Анна приказала разместить повсюду в зале, на узорчатый каминный экран, который она сама украсила вышивкой, на искрящиеся кубки венецианского стекла и белоснежные скатерти. — Ей-богу, Анна, вы знаете, как создать уют в доме! — воскликнул Генрих. — Я не стала бы так утруждаться ради любого гостя, — с улыбкой ответила она. По кивку Анны вперед вышел слуга, который накинул салфетку на плечи короля, а потом — ей на плечи, другой положил по мягчайшему белому хлебцу рядом с их тяжелыми золотыми тарелками. Она подала сигнал виночерпию. — М-м-м, — промычал Генрих. — Рейнское? Очень хорошо. — В Германии, сир, вина изготавливают много столетий, — сказала Анна, пробуя вино. — Да, оно превосходно. — Она улыбнулась виночерпию. Подали первую смену блюд: шесть подносов с отборной рыбой, украшенной специями и травами. Генрих с охотой принялся за еду, нахваливая стол Анны. — М-м-м, как это вкусно, — сказал он, смакуя последние кусочки карпа в маринаде. Король не упоминал ни об аннулировании брака, ни о важнейших событиях прошлой недели, и Анна, разумеется, тоже не собиралась этого делать. Генрих ясно дал понять: этот обед должен положить начало новым отношениям между ними, и ей это, скорее, было по душе. Освободившись от уз брака, оба они явно стали понимать, как на самом деле нравились друг другу. Когда принесли основное блюдо, Генрих издал радостный возглас, так как это был паштет из оленины. Анна велела приготовить его, зная, что это любимое блюдо короля. Потом Генрих положил им обоим по лучшему куску всех остальных видов мяса, появившихся на столе, махнул слугам, чтобы те удалились, потянулся и взял руку Анны. — Я рад, что вы довольны постановлением епископов, дорогая сестра. Спасибо за ваше непротивление и рассудительность, дело решилось быстро и к нашей взаимной пользе. Анна тщательно подбирала слова. — Для меня это было нелегко, — призналась она, — но я понимала необходимость разбирательства и уверена, что решение вынесено правильно. Со стороны вашей милости было очень мудро питать сомнения. В своем неразумии я даже не представляла, что тут можно обнаружить какое-то упущение. Генрих пристально вгляделся в нее, потом кивнул: — Я с самого начала знал, что вы не были моей законной супругой. Я понял это, когда Клеве не смогло предоставить обещанные доказательства, и сказал своему Тайному совету, что совесть не позволит мне довести брачный союз до окончательного завершения, так как чувствовал, что мне нельзя этого делать, раз вы были женой другого мужчины. — Я понимаю, сир, — сказала Анна, уверенная, что он просто оправдывает свою импотенцию. — И я сама думала, что не нравлюсь вам. Она не могла устоять перед искушением немного подразнить его и была вознаграждена тем, что бледная кожа Генриха порозовела. Теперь уж он точно смутился! — Тут не было ничего личного, уверяю вас, Анна. Только то, что я знал: у меня нет права любить вас. Конечно, Генриху не было известно, что до нее доходили кое-какие слухи. Сейчас Анна отчетливо поняла: он и правда верил в миф, который сам создал. — Вы мне нравитесь, Анна, — продолжил король, глядя на нее пронзительными голубыми глазами. — Вы мне очень нравитесь, и я в долгу перед вами. По горькому опыту я знаю, что развод способен обернуться запутанным и неприятным делом, которое может тянуться долгие годы, поэтому мне нелегко далось решение добиваться аннулирования брака. Скажу вам, мой Совет ужаснулся этой перспективе. Но вы проявили такую сговорчивость, такое понимание моего беспокойства. Я думал, вы станете разыгрывать оскорбленную женщину, окажетесь капризной и упрямой, но вы удивили меня, и я начал понимать, какое сокровище теряю. Несмотря на это, мы не могли оставаться в браке, не являвшемся таковым. Я сердечно благодарен вам за то, что вы немало облегчили весь процесс. — Ваша милость всегда были добры ко мне и проявили большую щедрость, когда распоряжались моим содержанием. — Она обвела рукой богато убранную комнату и указала на видневшуюся за окном часть дворца. — И мне нравится жить в Англии, а также быть вашей сестрой. — Мартин Лютер не был таким благосклонным! — Генрих поморщился. — Знаете, что он сказал, когда узнал о расторжении нашего брака? «Сквайр Гарри хочет быть Богом и поступать, как ему вздумается!» Кто бы говорил! Он обескуражен, так как считает, что лишился союзника в Англии. — Я никогда не была его союзницей! — отрезала Анна. — Знаю. — Генрих поднял бокал и протянул к ней. — Знаю, потому что вы верная католичка и не поклонница папы. Но боюсь, ваше имя все равно упорно связывают с реформистами в Германии. — Вашей милости известна правда, и мне не хотелось бы, чтобы мое имя пятнали ересью. — Не волнуйтесь, Анна, я никогда в это не поверю. Еще этой прекрасной оленины? Пока Генрих накладывал ей мясо, умело отрезая его, как и положено джентльмену, Анна заметила, что дверь слегка приоткрыта и за ней мелькает дамастовая юбка. Ошибиться было невозможно — Фрэнсис Лилгрейв подслушивала. Разоблачить эту женщину и навлечь на нее гнев Генриха означало разрушить идиллию, а потому Анна извинилась, встала и закрыла дверь. — Сквозняк, — объяснила она. — Я рад, что мы одни, — мягко сказал Генрих, и на какое-то мгновение ею завладела безумная мысль: уж не собрался ли он делать ей авансы? — Есть новости, которые я хотел передать вам сам. У меня новая королева. Пребывая в Отлендсе, двадцать восьмого июля я женился на Кэтрин Говард. Это признание настолько не соответствовало ожиданиям Анны, что она буквально онемела. — Полагаю, вы знали, что я женюсь на ней, — продолжил Генрих, и щеки его снова залились краской. — Меня привлекла ее девическая скромность, и мне подумалось, что следует почтить эту девушку предложением руки, дабы на склоне лет — после стольких проблем, тяготивших мой разум в браках, — обрести в ней совершенное сокровище женственности. Анна, ее любовь не только утешает меня и дарует покой уму, но и позволяет надеяться, что она принесет вожделенные плоды супружества. Анне не хотелось слушать эти признания. Из-за них она ощущала себя еще более нежеланной и испытывала жгучую зависть к бывшей фрейлине, перед которой, она знала, ей теперь придется преклонять колени. Видимо, похожие чувства довелось пережить королеве Екатерине и королеве Анне, когда им, каждой в свою очередь, подыскали замену. Анне хотелось хорошенько встряхнуть Генриха за бестактность. Но нет, она не станет придавать ничему этому значения; она не должна. Сохранив на лице беспечное выражение, Анна обрела голос: — Я очень рада за вашу милость и первой поздравлю королеву Екатерину с такой великой и счастливой судьбой. — Благодарю вас, Анна. — Генрих засиял улыбкой. — Я знал, что вы поймете. Мне нужны сыновья, и в моем возрасте я не могу позволить себе тянуть с этим. К тому же я ведь не овдовел и не должен ждать положенный срок. Кэтрин молода, и я надеюсь на сына. Он сообщал ей, что сделал с Кэтрин то, чего не смог сделать с ней! — Желаю вашей милости обрести много сильных и здоровых сыновей. Мне всегда нравилась Кэтрин. Она добра и заботлива. И слишком юна, чтобы искренне привязаться к стареющему, больному мужчине. — Да, да, она такая! — с энтузиазмом согласился Генрих. — Она обладает замечательными личными качествами и вполне сможет носить корону. Король неумолчно изливался в поэтических похвалах очарованию и прелести Кэтрин, и Анна поняла, что он по-настоящему влюблен. Именно это так красило его, делало добросердечным и откровенным. Она не винила Генриха и не завидовала его счастью, хотя теперь отчетливо сознавала, чего именно не хватает ей самой. Король просто не мог не поддаться чувствам. Если бы ему на жизненном пути встретилось больше истинной любви, то сам он — и его королевство, — вероятно, были бы совсем другими. Наверное, все обернулось к лучшему, и любовные дела Генриха вершила рука Всевышнего. Однако что-то беспокоило Анну. По словам Генриха, он женился двадцать восьмого июля. Эта дата тревожным колокольчиком прозвенела у нее в голове. Теперь она вспомнила: в тот день Кромвель отправился на плаху. Неужели Генрих все специально так подгадал, чтобы отметить начало новой главы в своей жизни завершением прежней? Когда унесли вазы с фруктами и оставшиеся несъеденными пирожные, король поднялся: — Анна, я был бы благодарен вам, если бы вы, прежде чем я уеду, подписали документ о разводе. — Конечно, — не раздумывая согласилась она. И удивилась, так как король тут же деловито вызвал троих лордов, сопровождавших его в Ричмонд; все они были членами Тайного совета. Вот, значит, какова истинная причина появления Генриха! И тем не менее Анна чувствовала: он получил удовольствие от визита; ему понравилось в ее компании. Они поладили, и дружба между ними укрепилась. Когда перед ней положили грамоту о разводе, она охотно ее подписала.
Проводив короля и лордов и помахав им вслед с пристани, Анна отвела дам обратно в свои личные покои, где слуги убирали столы. Как только за ними закрылись двери, дамы завели возбужденный разговор. — Мадам, мы очень обрадовались, видя, что король так дружествен к вам! — воскликнула Гертруда. — Может быть, он изменил свое отношение к разводу, — рассуждала Кэтрин Бассет. — Он наконец начинает понимать, что любит вас, — добавила Фрэнсис. — Фрэнсис, вы подслушивали у дверей! Я видела, — укорила ее Анна. — А если бы король вас заметил? — Простите, мадам, но я не могла удержаться, — зардевшись от стыда, ответила та. — Мы страшно хотели узнать, как у вас все складывается с королем. И было так приятно видеть, что вы с ним мило обедаете вместе. Могу поспорить, мы еще увидим, как вы снова займете свое место. — Чепуха! — резко возразила Анна; ее хорошее настроение рассеивалось. Вдруг король узнает, что ее дамы, находящиеся в наилучшем положении для того, чтобы влиять на нее, мечтают, что он возьмет назад свою бывшую супругу? Не решит ли Генрих, что это она, Анна, потворствует таким разговорам? — Король отказался от супруги, ссылаясь на угрызения совести, и, если он вдруг возьмет ее обратно, это слишком сильно заденет его честь, — холодно сказала она. — Получится, что он сам себе противоречит. Для нашего брака имелись законные препятствия, и аннулирование останется в силе, как бы хорошо мы с королем ни относились друг к другу. Кроме того, Фрэнсис наверняка уже сообщила вам, он взял себе другую жену. Очевидно, Фрэнсис ничего подобного не говорила, поскольку она сама и остальные дамы вытаращили глаза от изумления. — Да, это правда, — продолжила Анна. — Он женился на Кэтрин Говард, и я приказываю вам всем считать ее вашей королевой. Матушка Лёве скривилась. Послышался недоуменный ропот. — Эта девушка… — Она слишком молода для него… — Маленькая потаскушка… — Довольно! — оборвала всех Анна. — Я не потерплю, чтобы ее порочили в моем присутствии и в любом другом месте, если уж на то пошло. Вы будете говорить о ней уважительно — и думать тоже, как я. — Вы святая, мадам, — сказала Гертруда. — Я верная сестра короля! — напомнила ей Анна.
Флоренц вернулся из Клеве. Анна сразу вызвала его к себе. — Вы доставили мое письмо герцогу? — Да, миледи. — И как он отреагировал? — Он сразу ушел, чтобы обдумать его содержание наедине. Потом прислал моего дядю, и тот передал мне: хотя герцог сожалеет о случившемся, он не откажется от своей дружбы с королем. — Какое облегчение слышать это! — с чувством произнесла Анна. Прекрасные черты Флоренца несли на себе печать заботы. — Миледи, не думайте, что герцог равнодушен к ситуации, в которой вы оказались. Он переживает из-за того, что вы остаетесь здесь, и спросил, нельзя ли как-нибудь понудить короля к тому, чтобы он отправил вас домой? Но мы заверили его, что остаться здесь — ваш личный выбор и вы ясно дали это понять с самого начала. — Он сказал что-нибудь по поводу причин расторжения брака? — Сказал, что, насколько ему известно, никакого контракта, связывающего вас обязательствами с маркизом Лоррейнским, никогда не существовало. Он сожалеет, что к этому отнеслись иначе, но доверяет королю, полагая, что тот решил дело, не поступившись своей честью. Тем не менее герцог не даст официального согласия на развод. И на более серьезные шаги, как поняла Анна, Вильгельм идти не готов. Он не станет рисковать разрывом альянса с Англией. — Позже мы поговорили приватно, — продолжил Флоренц, — и герцог выразил радость по поводу того, что с вами не случилось худшего, потому как у него нет средств противостоять королю Генриху. Он будет рад слышать, что вас восстановили на вашем месте. — Что? — Анна смутилась. — На каком месте? — Королевы, — ответил Флоренц, недоуменно глядя на нее. — Откуда вы это взяли? — ужаснулась Анна. — Об этом говорят при дворе и даже в тавернах. Люди рассуждают об этом, выражая удивление. Невероятно! — Флоренц, они не знают, о чем болтают. Король женился на другой женщине, хотя пока это секрет. Молодой человек выглядел сконфуженным. — Простите, — сказала Анна, — я не хотела говорить так резко. Идите в буфетную, пусть вас там накормят. И оставьте то, что слышали здесь, при себе! Флоренц ушел, и Анна стала расхаживать по комнате, сильно встревоженная. Этот слух могла возбудить болтовня ее дам, особенно Фрэнсис. Если источник молвы выявят при ее дворе, саму Анну заподозрят в интригах, и надетый ею яркий панцирь, который убедил Генриха в том, что она по нему не скучает, будет разрушен. Если двор полнится слухами, до короля они наверняка дойдут. Однажды он говорил, что игнорирует сплетни, но это дело слишком близко его касается. Анна решила показать всему миру, что счастлива в полную меру и довольна положением одинокой женщины. В течение следующей недели она старалась появляться на людях с радостным лицом и каждый день надевала новое платье, более роскошное, чем вчерашнее. Она доезжала на своей кобыле до самого края Ричмондского парка, где ее могли видеть многочисленные подданные короля; отправлялась на увеселительные прогулки по Темзе со своими дамами и устроила обед для местной знати, подав на стол лучшие яства и вина. Гостей хозяйка встречала в великолепнейшем наряде из черного бархата, отороченном мехами Памплоны. Пусть никто не думает, что она тоскует! После всего этого Анне оставалось только удивляться: неужели гнусные сплетни заставили Генриха объявить о своем браке? Через два дня после визита короля доктор Харст описывал Анне, как Екатерина Говард появилась в качестве королевы в Хэмптон-Корте и обедала на публике под балдахином с гербами. Она держалась с достоинством и грацией, ее хорошо встретили придворные, отчитывался Харст, хотя многие выразили удивление по поводу внезапного возвышения особы, которую считали не более чем очередной любовницей короля. Доктор Харст был как будто чем-то взволнован. После длинной возмущенной тирады он вдруг выпалил: — Мадам, я слышал, вы показываете себя не в меру веселой и резвой. О вас идут разговоры при дворе. Люди спорят, является ли такое поведение тонким притворством или демонстрирует глупую беспамятность по отношению к тому, что должно сильно затрагивать ваше сердце. — Ни то ни другое! — гневно вскричала Анна. — Просто я не хочу, чтобы люди думали, будто я мечтаю вновь стать супругой короля. Об этом ходили слухи. Я боялась, что их распустили мои дамы и кое-кто мог подумать, что делалось это с моего ведома. — Сомневаюсь, что ваши дамы — информаторы французского посла, — заметил Харст. — Он с величайшим удовольствием подпитывал эти слухи. — Может, и так, но я действительно счастлива и не вижу причин, почему вы, доктор Харст, или кто-нибудь другой должны косо смотреть на мои простые развлечения. Разве от меня ждут, что я буду сидеть взаперти и оплакивать потерю мужа? Мне что, не дозволено строить новую жизнь? Или я должна рвать на себе одежду, бить себя кулаком в грудь, выдирать себе волосы, чтобы показать человеку, который меня бросил, что я по нему тоскую? Доктор Харст, у меня есть гордость! Послу хватило такта изобразить пристыженный вид. — Простите меня, мадам. Я уверен, слухи утихнут, как обычно. — Надеюсь на это, как и на то, что вы и все прочие перестанете судить меня и искать во мне признаки тоски и печали. Что бы я ни делала, победительницей мне не выйти! — горячилась Анна, но позже, когда Харст ушел, она успокоилась и не могла удержаться от мысли, что настроила против себя друга.
На следующий день Анна посетила воскресную мессу. Новый призыв к молитве обязал ее и все собрание верующих молиться за короля, королеву Екатерину и принца Эдуарда. То же самое объявили в церквях по всей стране. Анна возносила мольбы горячо, как было велено, пытаясь не сопротивляться этому в душе. В последнее время она поднаторела в искусстве ничего не принимать близко к сердцу, ничему не противиться и не возражать. Долгие летние дни она проводила за разными спортивными забавами, а это отличное лекарство от тоски. Ричмонд предоставлял массу возможностей для проведения досуга. В нижней части сада находились красивые галереи и павильоны, где можно было под тихий шепот теплого ветерка, обвевавшего ажурные решетчатые стены, сыграть в шахматы, триктрак, кости, карты и даже в бильярд. Тут имелись аллеи для игры в шары, мишени для стрельбы из лука и теннисные корты. Анна часто приходила туда, чтобы посидеть в тени галереи и понаблюдать за игрой своих придворных. Особое удовольствие ей доставляло зрелище скачущего по площадке высокого, мускулистого и подвижного Отто, который посылал мячи Францу фон Вальдеку. Анна невольно вспоминала, как близко познакомилась однажды с его гибким, упругим телом, и предавалась мыслям о том, каким искусным любовником наверняка стал этот повзрослевший мужчина в сравнении с неопытным юношей, каким он был тогда. Один раз Отто точно заметил, что она смотрит на него, и Анна покраснела, испугавшись, как бы он не догадался, какие фантазии носятся в ее голове. В другой раз, когда Отто закончил игру, у края площадки его поджидала жена, и они обменялись резкими словами. Анна не слышала, что именно было сказано, но тон его супруги был едким, а Отто говорил как человек, потерпевший поражение. В сотый раз Анна задалась вопросом: что с ними произошло, отчего любящие супруги ополчились один против другого?
Судя по реакции гостей, слава о застольях Анны распространялась все шире и шире. Король показал пример, отобедав с ней, и приехал еще раз через три недели. Следом за ним потянулись и другие люди. Показывались у нее придворные короля, среди прочих — сэр Энтони Браун и сэр Томас Сеймур. К ней на угощение буквально напрашивались, и Анна открыла в себе талант играть роль радушной хозяйки. Она стала замечать, что в ней растет приязнь к блюдам новой родины. — Нигде так хорошо не кормят, как в Англии! — заявляла она, накладывая добрую порцию перепелов герцогине Саффолк, которая однажды прекрасным летним днем приехала к ней в гости. — Но наверняка и у вас в Германии была хорошая еда? — отозвалась герцогиня, с удовольствием пробуя густой соус, в котором тушилось мясо. — Да, была, — согласилась Анна, наполняя кубки. — Я родилась недалеко от Кёльна, где кухня очень богатая и разнообразная, так как торговля в этих местах процветает. В следующий раз, когда вы приедете, я приготовлю для вас Sauerbraten, вишни в вине и бретцели. Видя замешательство гостьи, Анна засмеялась: — Вам понравится, я обещаю. В это прекрасное, золотое лето мысли Анны то и дело возвращались к Отто. Дважды за последнее время их взгляды встречались, и она чувствовала: за печалью в его глазах таится что-то еще. В другой раз рука Отто намеренно — Анна это знала — задела ее руку и задержалась на секунду дольше, чем следовало. Анна ощутила искру того удовольствия, которое Отто однажды возбудил в ней. Печально в двадцать четыре года лишь однажды испытать радость физической любви, да и то тайком, под запретом, и знать, что тебе, может быть, никогда больше не придется познать ее вновь. И не было никого, с кем Анна могла бы поделиться, кому излить душу. Матушка Лёве, которой она поверяла почти все свои мысли и чувства, пришла бы в ужас. По ее представлениям, благонравные юные леди не думают о таких вещах, тем более не жаждут их. Вот если бы здесь была Эмили. Она поняла бы. Но сестра далеко — в Клеве. Анна понимала, что перспективы нового замужества для нее почти нереальны, хотя теоретически она была вольна вступить в брак. Малейшего намека на то, что король может вдруг пожелать ее возвращения, достаточно, чтобы отвратить от нее любого потенциального поклонника. К тому же, если она решит выйти замуж, эта досадная история с помолвкой может снова всплыть на поверхность. Но хотела ли Анна стать чьей-то женой? Ее единственный опыт замужества закончился унижением. Свободная жить так, как ей нравится, она не испытывала особого желания оказаться под властью очередного деспотичного супруга. Бессчетное число жен приняли свою долю без вопросов и колебаний, но они не успели вкусить сладостной вольности, доступной женщине, которая сама себе госпожа. Нет, Анна хотела любви, а не брачных уз. Как бы шокирующе это ни звучало, она хотела завести любовника! Осознание этого слегка удивило ее саму, но потом Анна обнаружила, что не испытывает стыда при мыли о возможности тайного любовного приключения. Это головокружительное чувство освобождения явно оказало на нее сильное воздействие. Видно, она и правда была истинной внучкой «делателя детей»!
В начале августа Анна решила совершить краткий объезд своих новых владений. Скандал, возникший в связи с ее разводом, утих до такой степени, что она посчитала возможным покинуть Ричмонд. Да и простые люди, скорее всего, будут принимать ее за некую важную леди, которая осматривает свои поместья. Анна не села в карету с гербами Клеве, а воспользовалась подаренными Генрихом конными носилками, в которых уместилась вместе с матушкой Лёве. Дамы, джентльмены и слуги потянулись следом верхом на лошадях или в крытых повозках. Анна получила у Генриха разрешение совершить поездку и дозволение его дочери Елизавете присоединиться к ней. Когда король навещал ее в последний раз, она спросила, нельзя ли девочке какое-то время пожить у нее. Генрих охотно согласился и, к удивлению Анны, ничуть не смутился тем, что Елизавета посетит отчий дом своей матери. Миссис Эстли, гувернантке Елизаветы, поручили привезти свою воспитанницу в замок Хивер. Пока кортеж двигался на юго-восток по затененным листвой живописным дорогам Кента, Анна обнаружила, что приближается к Хиверу с легким трепетом, опасаясь, как бы это место не оказалось несущим на себе отпечаток трагедий, выпавших на долю его прежних владельцев. Пять лет назад они занимали высокое положение при дворе, гордо держали головы и раздувались от важности, упиваясь своей властью. Теперь все мертвы, убиты или умерли с горя, за исключением державшейся в тени мистресс Стаффорд, дочь которой Кейт служила Анне, когда та была королевой. Как, должно быть, сожалели эти две женщины о разорении родового гнезда, если, конечно, для них оно не служило горьким напоминанием об утрате всего, что было им дорого. Такими мыслями полнилась голова Анны, пока ее везли мимо красивых холмов и по охотничьему парку, окружавшему замок. Но вот и он сам, приютился в закрытой со всех сторон долине, — небольшая укрепленная резиденция из светлого камня, обведенная рвом и утопающая в дивном саду. Анне говорили, что Хивер отобрали у Болейнов и заново обставили — без сомнения, богатой поживой, взятой из домов Кромвеля. Тревожные предчувствия усиливались. Может ли Хивер стать счастливым домом, если с ним связано столько кровавых историй? Владея им, она будет выгадывать на чужих несчастьях, и ей самой это не принесет радости, опасалась Анна. Тем не менее она восхитилась богатым убранством переданного ей дома. Лучше было не задумываться, откуда взялись эти вещи. Бродя по комнатам и спускаясь по винтовым лестницам своего нового жилища, Анна видела, что кое-какие следы былого присутствия Болейнов здесь все-таки сохранились. В спальне стояла деревянная кровать под балдахином с инициалами «Т. Б.» на изголовье и резными изображениями быков; без сомнения, это ложе оказалось слишком огромным, его не смогли вынести из дома. А на чердаке она нашла повернутый к стене портрет элегантно одетой брюнетки с латинской подписью: «Anna Bolina uxor Henry Octa»[117]. Определенно, король не пожелал бы увидеть это застывшее на холсте напоминание об отправленной на смерть супруге; вот почему, скорее всего, картину оставили здесь, а не перевезли в королевские хранилища. Анна задумалась: верно ли портретное сходство? Если так, Анна Болейн вовсе не была красавицей. Длинное, худое лицо, настороженные темные глаза и чопорно поджатые губы. Она сильно напоминала свою дочь, хотя у Елизаветы цвет волос и римский нос Генриха. И все же в ней определенно была некая особинка, на которую намекал художник, и Анне портрет понравился. Хорошо бы повесить его в галерее; это казалось справедливым воздаянием, ведь только благодаря трагедии Анны Болейн сама она стала владелицей Хивера. Картину всегда можно убрать, если приедет король. Анна представляла себе, как семья Болейн развлекала Генриха в главном зале с огромным очагом и отделенным перегородкой проходом вдоль стены. Может быть, Генрих сватался за Анну в семейной гостиной или прогуливался со своей возлюбленной по длинной галерее. На пещеристой кухне, сильно утопленной в пол, готовили еду для пиров, здесь каждый день бурлила жизнь. Теперь все в прошлом, превратилось в блеклые воспоминания. Как быстро — и разрушительно — способно вращаться колесо Фортуны. Ну что ж, она постарается возродить Хивер к новой жизни, чтя его прошлое и изгнав призраков. А место действительно было красивейшее.
Одетая в зеленое платье, Анна следила из окна, как маленькая кавалькада переваливает через гребень холма, и разглядела среди всадников Елизавету, которая пришпоривала кобылу. Она поспешила вниз, открыла главную дверь, созывая придворных, и подождала, пока семилетняя гостья и ее гувернантка с двумя вооруженными стражниками и тремя служанками позади проскачет по подъемному мосту и въедет во двор. Когда Елизавета приблизилась к ней, Анна сделала глубокий реверанс, и девочка, как только слезла с лошади, вернула ей поклон. Желтоватая кожа Елизаветы порозовела от пребывания на свежем воздухе, длинные рыжие волосы свободно рассыпались по плечам. — Добро пожаловать, миледи Елизавета! Как славно, что его величество проявил доброту и позволил вам навестить меня, — с улыбкой произнесла Анна, гордясь своими успехами в английском. Елизавета царственно склонила головку, словно удостаивая хозяйку милости своим присутствием, и позволила Анне отвести себя в замок. В зале на столах в виде козел были выставлены холодное мясо, пироги и пирожные с кремом, а также засахаренные фрукты, при виде которых глаза девочки засияли. Анна специально велела их приготовить: Генрих как-то упоминал, что его дочь сладкоежка. — У нас есть и одно блюдо из Клеве! — с гордостью объявила она, когда они уселись за главный стол и Елизавета заняла почетное место. По кивку Анны вперед вышли двое слуг. Один налил вино, разбавленное водой, для юной гостьи; другой вынес блюдо с горой какого-то зеленовато-белого месива, как наверняка подумалось девочке. — Что это такое, миледи? — полюбопытствовала Елизавета. — Это Sauerkraut, — объяснила Анна. — Капуста с солью, вином и можжевельником. Еще один кивок, и слуга положил на тарелку Елизаветы щедрую порцию угощения. Девочка попробовала. — Очень хорошо! — радостно воскликнула она и принялась жадно есть. Обрадованная, что визит начался так удачно, Анна улыбнулась гувернантке, миссис Эстли. Это была хорошо воспитанная женщина с правильной речью; очевидно, она души не чаяла в своей подопечной и охотно уступала любым ее просьбам. После того как все наелись, Елизавета захотела осмотреть замок. О матери она не упоминала, но Анна подозревала, что ей любопытно увидеть дом, где та выросла. В конце концов, это было наполовину ее наследство. В длинной галерее Елизавета увидела портрет. Анна едва не хлопнула себя по лбу. Она собиралась убрать его к приезду принцессы, но в суматохе приготовлений забыла отдать распоряжение. — Это моя мать! — выпалила девочка, а потом зажала рот рукой, поздно сообразив, что сказала. Бедняжка, она уже знала, что упоминать публично о королеве Анне запрещено. Миссис Эстли смотрела на портрет затуманившимися глазами. — Мне не следовало забывать… — пробормотала Анна. — Я собиралась заменить его чем-нибудь. Но была так занята приготовлениями… Гувернантка пришла ей на выручку: — Ничего страшного, ваше высочество. Леди Елизавета видела изображения своей матери. Я позаботилась об этом. Мне кажется важным, чтобы она имела о ней какие-то сведения. — О да! — с чувством ответила Анна. — Бедное дитя. И эта несчастная женщина. — Она вздрогнула. — Потому я и хочу сделать что-нибудь для леди Елизаветы. Я стану ей другом. — Доброта вашего высочества дорогого стоит, — сказала миссис Эстли, и женщины обменялись сочувственными взглядами. Елизавета не отрывала глаз от картины. — Она такая красивая, — наконец проговорила девочка. — И очень похожа на себя, — сказала гувернантка. — Я обрадовалась, когда нашла здесь этот портрет, — сообщила им Анна. — При дворе никто о ней не заикнется. — Там все слишком боятся короля, — тихо заметила миссис Эстли. — И не осмеливаются выражать свое мнение. По тону ее голоса Анна поняла, какого мнения держалась сама гувернантка. Взяв Елизавету за руку, она сказала: — Пойдемте. Я хочу показать вам кое-что еще. — Анна улыбнулась и повела девочку по галерее в спальню. — Эта кровать принадлежала кому-то из родных вашей матери. Глаза Елизаветы расширились. — Почему она здесь? — Это был ее дом, — ответила гувернантка, и Анна поняла, что Елизавета не знала о связи Хивера с матерью. — Она провела здесь детство, и король ваш отец приезжал сюда ухаживать за ней. Но тогда она не принимала его, все время ему отказывала! — Но он же король! — Вид у Елизаветы был изумленный. — Да, и, уговаривая вашу мать стать его дамой сердца, он ставил ее выше себя, поклонялся ей как богине, так сказать. Такова придворная игра в любовь. — Миссис Эстли улыбнулась. — Только не в Клеве! — едко заметила Анна. — Там молодые леди всегда вступают в брак с мужчинами, которых выбрали для них отцы. — Здесь такой же обычай, — сказала миссис Эстли. — Вот почему любовники вздыхают о недостижимом. Анна улыбнулась: — В моем случае договор был подписан и скреплен печатью до того, как я увидела его величество. Такова участь принцесс. Елизавета хмуро взглянула на нее: — Никто не заставит меня выйти замуж за человека, которого я никогда не видела, и я не стану доверять художникам-портретистам! Слова девочки поразили Анну. Неужели она слышала, что Генриху, очарованному портретом Анны, не понравился реальный образец? Поэтому Елизавета то и дело оценивающе поглядывала на нее? — Вам придется выйти за мужчину, которого выберет ваш отец-король, моя маленькая леди, — твердо сказала миссис Эстли. — Когда он встретил вашу мать, то уже был женат. Он не мог предложить ей свою руку, поэтому попросил стать его любовницей. — Любовницей? — переспросила Елизавета, водя пальцами по резным столбикам, поддерживавшим балдахин. — Той, что управляет его сердцем, — пояснила миссис Эстли, открывая девочке только половину правды. — Как ваша воспитательница управляет вами! — И она отказалась? Что за храбрая женщина! — восхитилась Анна. — Мой отец сильно ее любил? — спросила Елизавета. Миссис Эстли замялась. — Да. Он не думал ни о ком другом. Порвал с папой и сделал себя главой Церкви Англии, чтобы жениться на ней, и в конце концов завоевал ее. После этого любовная история приобрела мрачные тона, так что Анна поспешила отвлечь Елизавету от дальнейших расспросов. — Давайте посмотрим вашу спальню, а? — предложила она. — Пойдемте сюда. — А здесь мне нельзя спать? — спросила Елизавета. — Это комната леди Анны, — ответила ей миссис Эстли. — А кровать, вероятно, принадлежала вашему дедушке. Могу побиться об заклад, эти инициалы означают «Томас Болейн». — Я как раз думала об этом, — сказала Анна. — Конечно, вы можете спать здесь, миледи Елизавета. Я распоряжусь. — Она улыбнулась маленькой девочке, которая глядела на нее с благодарностью. — А теперь я хочу показать вам прелестный сад!
Анна понимала: куда бы ни забрела Елизавета в Хивере, ей везде встретятся напоминания о матери. Память об Анне Болейн хранила каждая комната, каждая садовая дорожка, каждая увитая зеленью беседка. Лежа без сна в спальне, которая предназначалась для Елизаветы, Анна беспокоилась: как-то спится девочке на кровати деда? Незнакомая комната, странный дом, сделанные днем открытия — любая из этих причин могла растревожить девочку, тем более все они вместе. Однако Елизавета была очень замкнутым ребенком, скорее пытливым, чем эмоциональным. На нее как будто не подействовала потеря матери, которую она толком не успела запомнить. Но кто знает, что творится в этой маленькой рыжей головке? Анне самой было страшновато ночью в Хивере. Упавшей на пол причудливой тени от какой-нибудь мебели или уханья совы хватало, чтобы волоски у нее на шее вставали дыбом. Она всегда держала рядом с постелью зажженную свечу, и одна из горничных для компании спала на соломенном тюфяке у изножья ее кровати. Ни разу Анна не видела и не слышала ничего необычного, но ребенку с живым воображением ночь могла показаться ужасной. Слава Богу, почтенная миссис Эстли спала рядом с девочкой.
На следующее утро Елизавета заявила, что спала хорошо, но миссис Эстли выглядела усталой. После завтрака она отвела Анну в сторонку и сказала: — Мадам, вы не слышали ночью чей-то плач? — Нет, — удивленно ответила Анна. — Надеюсь, плакала не леди Елизавета? — Нет, не она. Я проверяла. Но кто-то точно был сильно расстроен. Анна опросила своих дам и всех, кто спал в пределах слышимости от миссис Эстли, но никто не признался в том, что ночью лил слезы. Анна им поверила. Загадка, да и только. Неужели в замке и правда живет привидение? Был ли то плач Анны, страдавшей от невозможности подарить дочери материнскую любовь?
Дни летели быстро. Стенаний по ночам больше никто не слышал, и очень скоро Елизавета уже делала прощальный реверанс. — Ваша милость должны приехать еще, — сказала ей Анна. — Ваш визит доставил мне большое удовольствие. Надеюсь, вы будете вспоминать обо мне как о своей подруге. — Буду, миледи, — горячо обещала Елизавета, протягивая руку, как для поцелуя. Но Анна проигнорировала этот жест, наклонилась, тепло обняла девочку и расцеловала ее, добавив на прощание: — Возвращайтесь скорее!
В тот же день после отъезда Елизаветы Анна сидела на своем любимом месте в саду, наслаждалась солнышком и редким моментом уединения, как вдруг сзади, из-за живой изгороди, донеслась чьи-то сердитые голоса. Это были супруги фон Вилих. — Я любил вас! — услышала Анна голос Отто. — Любил всем сердцем, вы же обращались со мной как с ничтожеством, как с грязью у себя под ногами. А теперь удивляетесь, что я не хочу находиться с вами рядом? — Я была для вас просто трофеем, которым можно хвастаться всему миру, — резко возразила Ханна. — Вернер любит меня саму. Вернер? Вернер фон Гимних, виночерпий Анны? Он был по-своему хорош собой, но далеко не так красив, как Отто. — Я любил вас по-настоящему, — повторил Отто, как будто сквозь сжатые зубы, — но вы предпочли изменить мне, а теперь пытаетесь оправдать свой поступок, взвалив вину на меня. Ну вот что, Ханна, я больше ничего не желаю слушать. Вы не стоите моей любви. — И кто это теперь переваливает вину на другого? — проскрежетала Ханна. — Это ее вы хотите, да? Я уже давно знаю, что ваше сердце теперь принадлежит ей, как и прежде. Так идите к ней! Анна знала, что не стоит слушать этот разговор, но любопытство приковало ее к месту. Она не смела шевельнуться, боясь, что они услышат какой-нибудь шорох и поймут, что были не одни. — Если бы я мог получить ее! — вспылил Отто. — Да она стоит сотни таких, как вы. Я никогда не видел женщину такую отважную и с таким достоинством переносящую превратности судьбы. Анна затаила дыхание. — О, нам так жалко ее, правда? Не для вас ли она разыгрывала из себя девицу в беде? — Нет, ее поведение по отношению ко мне всегда было безупречным, вы прекрасно знаете! Ханна, давайте покончим с этим. Мы больше не хотим друг друга, и жить среди постоянных взаимных обвинений — это ад на земле. Возвращайтесь в Клеве. Скажите леди Анне, что вы нужны своей семье или что угодно другое. Но, ради Бога, оставьте меня в покое! — Но Вернер здесь, — возразила Ханна. — С чего это я должна оставлять вас тут, давая вам свободу домогаться милостей леди Анны, и при этом лишаться любимого мужчины? Анна поднесла руку к горлу, сердце у нее бешено заколотилось. Он любил ее. Отто любил ее! Чудо, посланное Господом в уверение: да, она может быть желанной для мужчины. Анне достаточно было просто знать это, потому что, говоря по совести, ей никогда не получить Отто. Он женат, и она должна дать ему возможность поправить отношения с супругой. Однако душа ее пела. Нужно было идти. Анна крадучись пошла по дорожке вдоль изгороди, потом оглянулась проверить, не заметили ли ее. Отто и Ханна стояли в отдалении и смотрели ей вслед. Анна кивнула им и двинулась дальше, молясь, лишь бы они не догадались, что она их слышала.
Глава 19
1540 годВ середине августа Анна со своим двором перебралась в Блетчингли в графстве Суррей. Для этого они проехали двенадцать миль на запад от Хивера. Великолепный усадебный дом из красного кирпича располагался примерно в миле от деревни. Там Анну ждал с приветствиями новый управляющий поместьем Томас Каварден, очень красивый мужчина лет двадцати пяти; от него исходило ощущение с трудом сдерживаемой энергии и мужской силы. Управляющий имел румяное лицо, глаза с тяжелыми веками, сиял обезоруживающей улыбкой и держался как хозяин, встречающий почетную гостью. Его каштановые волосы были коротко подстрижены и аккуратно причесаны, костюм состоял из дублета и эффектной короткой дамастовой накидки. Когда Каварден поднялся из поклона, Анна почувствовала, что смущена его взглядом. Не теряя времени, управляющий поведал ей о том, как хорошо он следит за поместьем и — как смотритель охоты на оленей — за двумя охотничьими парками, расположенными окрест и протянувшимися на семь миль. Он не столько отчитывался перед госпожой, сколько нахваливал себя, инапоследок сообщил: — Я живу на ферме Хекстолл, тут неподалеку. — Вы живете один, мистер Каварден? — Да, только я и слуги. Значит, он не женат. Анна была удивлена. Управляющий провел ее под аркой большого гейтхауса во внутренний двор. Анна с интересом огляделась, испытывая легкое смятение чувств от бившей через край жизненной силы и неуемного очарования Томаса Кавардена. С Отто ему, конечно, не сравниться. Ее любовь к Отто не ослабнет из-за того, что какой-то миловидный молодой человек попался ей на пути и распустил вокруг нее свои чары. Оглянувшись на шедшую позади свиту, Анна заметила Отто, с каменным лицом шагавшего рядом с Ханной, и вновь ощутила лихорадочный жар любви и желания. В последние дни он охватывал ее не раз. — Ваши личные апартаменты находятся здесь, — говорил меж тем Каварден, указывая вперед. Он провел ее сквозь арочную дверь в главный зал с яркой плиткой на полу и дальше в часовню. За ней находилось множество покоев, гостиных, кабинетов и молелен; всё было обито деревянными панелями: потолки, полы и стены. — Здесь шестьдесят три комнаты, — гордо сообщил управляющий. — Это прекрасный дом, — отозвалась Анна. Они поднялись по винтовой лестнице в галерею второго этажа, куда выходили двери главных личных покоев. Перед ними были просторные апартаменты, великолепно отделанные и роскошно обставленные, вероятно, в ожидании визита короля. Гигантская кровать, кресла и столы, стоявшие в огромной королевской опочивальне, были сделаны из ореха, что большая редкость, как сообщил Анне Каварден. — У короля есть кровать из ореха в Уайтхолле, — заметила она, желая впечатлить его тем, что живала во дворцах и привыкла находиться в окружении такого великолепия. Занавески у кровати и чехлы на подушках были сотканы из золотых и серебряных нитей, расшиты цветным шелком, на креслах и скамьях лежало множество атласных думочек — красных, желтых, зеленых и синих. Анна прикинула на глазок: на стенах висело ярдов сорок дорогих гобеленов. Две другие спальни оказались почти такими же большими и роскошными. В приступе чувства вины Анна отдала одну из них фон Вилихам. Она не имела права любить Отто и должна была дать супругам шанс наладить отношения. Предлагая им такие прекрасные апартаменты, Анна хотела намекнуть Ханне, что ее госпожа не представляет для нее угрозы. Но, судя по выражению лица Ханны, стало понятно: перспектива делить эту прекрасную комнату с Отто ее совсем не привлекала. Тут Анна спохватилась: при ее дворе были другие люди, которым по статусу полагалось разместиться в наиболее роскошных опочивальнях, и торопливо предложила занять вторую спальню своему камергеру сэру Уильяму Горингу. Потом Анна осмотрела главный зал и находящиеся за ним комнаты, где должны были разместиться остальные ее слуги, и, оставив их распаковывать вещи, проследовала за Томасом Каварденом вниз, на первый этаж, чтобы повнимательнее обследовать холл и две гостиные. — Ваше высочество может использовать эти помещения как приемный зал и столовую, — сказал управляющий, как будто уже все решил за нее. Анну раздражали его самонадеянность и манера вести себя по-хозяйски. Она заметила, что в столовой уже установлены столы на козлах для трапезы; две девушки в передниках и полотняных шапочках расставляли тарелки и раскладывали салфетки на шесть персон. — Я подумал, что вашему высочеству будет приятно разделить ужин со мной и пригласить вашего камергера, эконома и двух дам, так как есть много разных вещей, касающихся этого поместья, о которых вам нужно узнать, — сказал Каварден. И опять, что за самонадеянный человек! Делом Анны как хозяйки дома было решать, где и с кем она будет трапезничать. Однако предложения Кавардена звучали разумно, и если бы Анна сейчас отменила его распоряжения, то показалась бы взбалмошной, поэтому она лишь милостиво кивнула: — Благодарю вас. Я спущусь вниз в шесть часов. В другой гостиной Анна с удовольствием увидела игральные столы, музыкальные инструменты и шкафы, набитые нотными тетрадями, колодами карт, настольными играми и наборами игральных костей. — Недостатка в развлечениях мы испытывать не будем, — улыбаясь, сказала она своим дамам. — Ваше высочество любит играть в карты? — поинтересовался Каварден, впиваясь искательным взглядом в ее лицо. — Да, — ответила Анна. — Великолепно! Мы можем сыграть после ужина. Неужели ему неизвестно, что такие предложения не положено делать лицам высшего ранга? И вновь Анна внутренне ощетинилась. — Вероятно, я буду чувствовать себя усталой с дороги, мистер Каварден. А теперь я хотела бы взглянуть на кухню, если вы будете так добры и покажете мне ее. Управляющий пожал плечами и повел ее через холл к службам. Анна тщательно проинспектировала закрома с продуктами и вином, погреб, кладовую с пряностями, крахмальню, молочню, пекарню, пивоварню и мельницу и была почти раздосадована тем, что не нашла причин для недовольства. Везде царили безупречная чистота и совершеннейший порядок. На кухне мейстер Шуленбург уже устанавливал свою власть, одновременно доставая кастрюли, сковороды и продукты, которые понадобятся для приготовления вечерней трапезы. Анна улыбнулась ему: — Вы всем довольны, мой друг? — Буду доволен, когда заставлю этих чертовых поварят делать свою работу как положено, — по-немецки прорычал он, как обычно не утруждая себя любезностями. — Я уверена, вы быстро научите их подскакивать по вашей команде, — засмеялась Анна и повернулась к Кавардену, который ждал с плохо скрываемым нетерпением. — Я немного отдохну, мистер Каварден. Увидимся за ужином.
Ровно в шесть часов зазвенел колокол на башне гейтхауса. Анна была готова, одета в черное бархатное платье с алым киртлом и отделанный жемчугом французский капор. По пути к лестнице она встретила сэра Уильяма Горинга, выходившего из своей комнаты. Он поклонился ей и сказал: — Ваше высочество, я рад возможности поговорить с вами. Мне кажется, вы, как и я, были немного ошеломлены мистером Каварденом. Я наблюдал за вашим лицом, когда он совершал одну бестактность за другой. Этот человек ведет себя так, будто хозяин этого дома — он. — У меня создалось такое же впечатление, — согласилась Анна. — Он высокого мнения о себе. — Думаю, Каварден — человек, с которым нужно считаться, мадам, и которому лучше не переступать дорогу. Он один из тех «новых людей», которые возвысились благодаря своим способностям, а не происхождению. Его отец, как мне сообщили, был сукновалом. Кавардену повезло заручиться покровительством лорда Кромвеля, благодаря чему он и стал джентльменом личных покоев короля. Он близок с его величеством, и поэтому к нему нужно относиться с осторожностью. — Благодарю вас за предупреждение, сэр Уильям. Тем не менее я едва ли могу допустить, что король одобрил бы его нахальство. Если он продолжит в том же духе, я поговорю об этом с его милостью. Она спустилась в столовую. Катарина и Гертруда шли за ней следом. При появлении Анны Каварден поклонился довольно почтительно и принялся очаровывать ее. Ужин начался, кубки наполнялись вином и опустошались, и Анна постепенно стала замечать, что Каварден помимо воли привлекает ее своим жизнелюбием, остроумием и красотой. — Этот дом когда-то принадлежал герцогам Бекингемам, — сказал он Анне, обводя широким жестом окружавшее их великолепие. — Одного отправили на плаху за то, что встал во главе восстания против короля Ричарда, после чего все его имущество было конфисковано. Его сын, последний герцог, получил все назад, сровнял с землей старый дом и выстроил этот. У него был хороший вкус, вы не согласны? — Не успела Анна ответить, как Каварден затараторил дальше: — Однако кажется, что он ничему не научился на примере своего отца, потому что его тоже лишили головы за измену. Вот так Блетчингли перешел во владение Короны. Анна расстроилась, узнав, что два дома достались ей благодаря тому, что их владельцы умерли кровавой смертью. Третий — поместье Мор, которого она еще не видела, — принадлежал кардиналу Уолси, который прожил достаточно долго после того, как попал в немилость, но мог разделить ту же участь. — Я предпочла бы не извлекать выгоды из чужих трагедий, — сказала Анна и положила на стол нож. — О, вы не первая владелица этого дома с тех пор, как умер Бекингем, — беспечно заверил ее Каварден. — Король подарил его сэру Николасу Кэри. И только после казни Кэри в прошлом году дом опять перешел к Короне. — По-вашему, это делает его историю менее трагичной? — сухо спросила Анна. Воистину, этот прекрасный дом был несчастливым. — Они оба изменники. Чего же им было ждать? — Объяснения давались Кавардену с неподражаемой легкостью. — Ни к чему предаваться сожалениям о них. Анну разозлила легкомысленная дерзость управляющего, и она сменила тему: — Вы упоминали, что здесь есть два парка? — С большим количеством дичи, один на севере, другой на юге, — гордо ответил Каварден. — Маленький парк и большой парк. А к западу от них находятся руины замка Блетчингли. — Я должна съездить туда и осмотреть их. — Я лично провожу вас туда, — вызвался Каварден. Анна заметила, как сэр Уильям Горинг и Джаспер Хорси обменялись взглядами, и вновь ощутила досаду. Было совершенно разумно, чтобы Каварден показал ей ее земли; он был знаком с ними лучше, чем кто-либо другой. И тем не менее Анна вновь почувствовала, что ею манипулируют. — Вы живете в местечке под названием Хекстолл? — спросила она, не давая ему ответа. — Да, мадам. Это неподалеку отсюда, в Литтл-Пикл. Анна невольно улыбнулась. Ей нравились забавно звучащие английские названия. — Это часть имения Блетчингли, — продолжил Каварден. — Дом старый, но поддерживается в хорошем состоянии, и в нем можно вполне сносно жить. — Я слышал, у него два двора, есть главный зал и большой олений пруд, — вмешался в разговор Горинг. — По-моему, это действительно весьма сносно. «Особенно для сына сукновала», — последняя фраза не была произнесена, но Анна уловила потаенный смысл в рассуждениях Горинга и заметила, как Каварден вспыхнул. Разговор переключился на королевский объезд страны, новую королеву и растущие цены буквально на все. Беседа получилась боевая, Каварден и Горинг будто старались набирать очки, побеждая друг друга. Наконец Анна утомилась от этого словесного поединка и встала: — Господа, я устала и должна лечь в постель. Желаю вам доброй ночи. Благодарить Кавардена за отличный ужин Анна не стала. Все-таки она была его госпожой.
Время шло, и Анна ближе знакомилась с Блетчингли, но никогда не чувствовала себя здесь легко и спокойно, и подавляющий своей неуемной энергией Томас Каварден был не единственной проблемой. Она теперь точно знала, что Уаймонд Кэри перехватывает ее корреспонденцию при тайном посредничестве своей жены Марты. Что привело ее к этому заключению? Отправленные письма шли гораздо дольше обычного, судя по задержкам с ответами на них. Два раза она заметила, что ее печать вскрывали, а потом миссис Кэри сболтнула нечто такое, о чем могла прочитать только в одном из писем Анны, где та сообщала матери о своем неприятии английского обычая приветствовать людей поцелуем в губы. В этом Анна не призналась бы никому из англичан, чтобы ее слова не стали повторять и воспринимать как обидные. Однако миссис Кэри, получив поцелуй Отто фон Вилиха, когда тот присоединился к ним однажды за игрой в кегли, сказала: — Не целуйте миледи Анну в губы, она этого терпеть не может! Анна насторожилась и пришла к выводу, что супруги Кэри шпионят за ней. Но тревожила ее не сама по себе слежка: она знала, что бояться ей нечего. Король мог бы самолично прочесть все ее письма и не нашел бы в них ничего предосудительного. Анна с сознанием долга передавала сэру Уильяму Горингу все получаемые письма для отправки ко двору и через день или два получала их обратно. Теперь же выходило, что и отправляемая ею корреспонденция тоже подвергалась тщательному изучению. Анна послала за Кэри и бросила ему вызов. — Вы и ваша жена не имеете права перехватывать мои личные письма, — строго упрекнула она его. — Если это будет продолжаться, я сообщу о ваших действиях королю. — В ответ Кэри надменно усмехнулся, и Анна потеряла терпение. — Вы находите это смешным, ja? Мистер Кэри, я не потерплю, чтобы служащие моего двора шпионили за мной. Можете идти. Она решила держаться подальше от него и его пронырливой женушки. Где раньше ей помогала миссис Кэри, теперь Анна стала обращаться к Джоанне Хорси. Больше всего ее уязвлял обман, так что, когда пришло письмо от Вильгельма с новостями о матери, Эмили и делах в Клеве, она решила пойти наперекор своим соглядатаям и оставила его у себя, вместо того чтобы немедленно отослать королю. В конце концов, это была личная переписка, касавшаяся домашних дел. Через три дня Анну удивил вечерний визит доктора Харста. Они не виделись с того дня, когда Анна отчитала его за обвинение ее в фривольности, и она боялась, что он больше не является ее защитником и другом. Харст держался обиженно и отчужденно. — Мадам, сегодня я получил письмо от мистера Кэри с жалобой на вас. Он спрашивал своего шурина мистера Денни, кто сейчас возглавляет Тайный совет, чтобы получить дозволение короля покинуть службу у вас. Мистер Кэри утверждает, что вы имеете склонность причинять ему неудовольствие. — Я причиняю ему неудовольствие?! — воскликнула Анна. — Он шпионил за мной! Чье неудовольствие больше? Ему следует спросить себя, верность кому он хранит? — Прежде всех он верен королю, мадам. Очевидно, при дворе до сих пор сохраняется беспокойство по поводу возможности ответных мер в связи с разводом или попыток герцога Вильгельма войти в союз с другими принцами против Англии. Вы обещали показывать все получаемые письма его величеству. А мистер Кэри получил распоряжение от герцога Саффолка предъявлять королевскому Совету все отправляемые вами послания. — Я не знала, что герцог приказал ему делать это! — отрезала Анна. — Нужно было сказать мне. — Мистер Кэри полагает, что вы знали. Он жалуется, что вы изо всех сил стараетесь избегать его и цените его супругу гораздо меньше, чем миссис Хорси. — О, как это трогательно! — кипятилась Анна. — Неужели он ждет от меня, что я стану ценить ее после того, как она за мной шпионила? — Это не главный выпад в его жалобе, мадам. — Харст нахмурился. — Мистер Кэри утверждает, что три дня назад вы получили письмо от вашего брата и не соизволили отправить его королю, что вменено вам в обязанность. Я принес извинения за вас, мадам. Сказал, что это было письмо с поздравлениями от вашего брата по поводу развода. — Тон посла был шутовским. Анна, разинув рот, таращилась на Харста. — Тут нет повода для сарказма. — Мадам, я пытался выставить их самих в смешном свете. Уверен, его милости неинтересно будет читать о том, какая книга понравилась герцогу или что леди Амалия научилась готовить Bratwurst[118]. Такие вещи едва ли могут разжечь войну. Тем не менее мистер Кэри проявил настойчивость. Он сказал, чтобы я посоветовал вам отправить это письмо королю. — Хорошо, — согласилась Анна. Она послала за Кэри и приняла его в присутствии Харста. — Я получила письмо от герцога Вильгельма. Прошу, передайте его сэру Уильяму для предъявления Тайному совету. Лорды обнаружат, что в нем обсуждаются дела величайшей государственной важности. — Анна не смогла удержаться от колкости. — Благодарю вас, мадам, — ответил Кэри, держась холодно, но уходить не собирался. — Что-нибудь не так? — спросила его Анна. Кэри покосился на посла: — Миледи, я должен сказать вам. Мне стало известно от вашего казначея, что мистер Хорси получает значительно большее жалованье, чем я. Ах вот, значит, почему он жаловался на предпочтение, которое она оказывает Джоанне Хорси перед его женой. Анна могла поспорить, что за всем этим стояла миссис Кэри! — Мадам, я прошу, чтобы мне и моей супруге выплачивалось такое же содержание, как мистеру Хорси и его жене, так как считаю себя не ниже его по положению. Проглотив едкую ремарку, Анна выдержала паузу. Она не желала допускать зависти среди своих придворных. Ее следствием могли стать распри и недоброжелательство. И все же, если она сейчас повысит жалованье Кэри, это будет выглядеть наградой за вероломство и может побудить его к дальнейшим изменам. — Простите, но я не могу, — наконец произнесла Анна. — Не в моей власти повышать жалованье служащим моего двора. Это дело короля, и я посоветовала бы ему увеличивать содержание только тем, кто верно служит мне. Она наклонила голову, показывая, что Кэри может идти, и тот ушел, яростно сверкая глазами. — Вы нажили себе врага, — заметил доктор Харст. — Он уже был моим врагом, — ответила ему Анна.
В последовавшие дни при ее дворе явственно ощущалась атмосфера холодной отчужденности. Кэри продолжал исполнять роль посредника между ней и королем, но делал это подчеркнуто нелюбезно. Его жена с Анной не разговаривала. Когда на их сторону встал сэр Уильям Горинг, Анна обозлилась на него. — Я думаю, вы понимаете, чем вызвано мое недовольство ими. Вам следовало известить меня о том, что происходит. Я что же, не имею права на частную жизнь? Моего обещания не делать ничего во вред королю недостаточно? — Распоряжения поступили сверху, мадам. — Сэр Уильям выглядел растерянным. — Если бы мы проявили послушание вашему высочеству, то нарушили бы их. Сказать по чести, мадам, ни один из нас не может исполнять свои обязанности по отношению к вам так, как вы хотите. Я прошу вас войти в наше положение. Анна все понимала, но ей горько было признавать, что, выходит, Кэри не сделал ничего дурного. Даже мистер Хорси вступился за него, спросив, не будет ли позволено Кэри участвовать в подсчете затрат на снабжение двора, когда они вернутся в Ричмонд. — Он прекрасно справляется со своими обязанностями, мадам, и хорошо разбирается в цифрах. Поверьте, мистер Кэри не слишком нравится мне, и я знаю о его недовольстве мной, но он так же опечален этой историей, как и вы. Она влияет на всех нас. — И на меня! — выпалила Анна. Хорси стоял молча и не смел взглянуть ей в глаза. Как чувствовал бы себя он, если бы чужие люди вторглись в его частную жизнь? — Что-нибудь еще? — холодно спросила она. — Мадам, мне нужно знать, где вы проведете зиму, чтобы мы могли заготовить провизию. — Я не знаю, — ответила Анна, чувствуя себя крайне несчастной. В тот момент ей хотелось оказаться где-нибудь подальше отсюда, от них всех. — Я подумаю об этом, но не могу дать вам ответ прямо сейчас. Она услышала, как ее голос дрогнул, и поняла, что Хорси тоже это заметил.
В конце августа доктор Харст снова приехал к Анне, нарушив ее покой, — она сидела отдельно от своих дам у открытого окна и пыталась читать. Однако посол не пощадил ее. — Ваше высочество, вы в курсе, что ваш камергер попросил у Совета разрешение уехать домой вместе с супругой? А еще он, мистер Хорси и мистер Кэри были вынуждены интересоваться у их светлостей, где вы проведете зиму, так как сами вы им этого не говорите. Анна изумленно таращилась на посла. Ничего этого она не знала. — Значит, сэр Уильям решил оставить службу у меня? — Советники не хотят позволять ему этого. Пока все дела по вашему разводу не завершены, король фактически управляет дворами двух королев, и достойных людей вроде Горинга не хватает. Мадам, ситуация ухудшается, и ваше поведение делает ее еще более тяжелой. Согласитесь, что Кэри выполнял свой долг. Покажите, что вы выше подобных дрязг. Анна встрепенулась, взвешивая слова Харста. Ей неприятно было снова выслушивать внушения, но в глубине души она понимала: посол прав. Ее огорчало, что обида на предательство замутила ей разум и она забылась, повела себя неподобающим хозяйке двора образом. Ей стало стыдно. Нужно оставить все это в прошлом и двигаться дальше. — Вы правы, мой добрый друг. Я вызову их всех к себе прямо сейчас. Впервые за много недель Харст улыбнулся ей. Помощники Анны явились и стояли, опасливо поглядывая на свою хозяйку. — Господа, — придав голосу живости, начала она, — мы переезжаем в Ричмонд в следующий понедельник. Простите, что не сообщила вам об этом раньше, но я была сама не своя в последнее время. — Фраза прозвучала завуалированным извинением за все, чем и являлась в действительности, и Анна надеялась, что ее слова будут восприняты как предложение мира. — Я хочу поблагодарить вас всех за проявленное терпение и отличную службу. Если я могу быть вам чем-нибудь полезной, вы знаете, где меня найти. И, мистер Кэри, я буду писать своему брату сегодня вечером. Утром вы сможете передать письмо Тайному совету. Кэри явно был благодарен ей и испытал облегчение, что вполне естественно. На лицах Хорси и Горинга читалось то же чувство. — Когда в следующий раз я увижусь с королем, то спрошу, не согласится ли он на справедливое повышение вам всем жалованья, — добавила Анна. — Благодарю вас. Все трое ушли с гораздо более счастливыми лицами, и, как только закрылась дверь, Анна услышала их возбужденный говор. Харст смотрел на нее с одобрением. — Хорошо сказано, мадам. Я не сомневался, что вы поступите правильно. Уверен, больше они не доставят вам проблем.
Как только Анна вернулась в Ричмонд, к ней приехала с визитом леди Мария. — Вот нежданная радость, — сказала ей Анна, кивком приказывая подать вина. — Мне не нужно, — махнув рукой, отказалась Мария. — Вы не возражаете, если я выпью? — Анна приняла кубок, чувствуя, что Мария пристально смотрит на нее. — Надеюсь, ваша милость чувствует себя хорошо. — Терпимо, — отозвалась Мария, — хотя близится время, когда меня начинают мучить всевозможные хвори. Осень вредит моему здоровью. А вы, как я вижу, в прекрасной форме. — Теперь я каждый день совершаю прогулки верхом, — гордо ответила Анна, — и становлюсь недурной наездницей. Много хожу пешком, дышу свежим воздухом. Скажите, есть какие-нибудь новости от двора? Мария вздохнула: — Да, но не такие, какие вам, наверное, хочется услышать. У королевы Екатерины каждый день новый каприз, и мой отец во всем ей потакает. Она становится жадной, жадной до новых платьев, украшений и бесконечных развлечений. Анна, она замучает его. Он одурманен. — Она вам не нравится? — Дело не в этом. Просто она такая незрелая, такая ветреная и совершенно не берет в расчет, что ее супруг уже не молод. В этом Анна могла усомниться, вспоминая, как сама была потрясена, обнаружив, что король такой старый и тучный, и каждый вечер получая на брачном ложе подтверждения его возрастных проблем. — Екатерина из хорошей католической семьи, — заметила Анна, понимая, что это должно вызвать симпатию у Марии. — И сможет повлиять на короля, чтобы тот не уклонялся от истинного пути. — Сомневаюсь, что у нее хватит на это мозгов, — фыркнула Мария, и в ее голосе звучала горечь. Анна задумалась: может, Мария завидует своей очередной мачехе, которая была моложе падчерицы и вышла замуж за обожавшего ее человека. — Вы знаете, разговоры о том, что король может снова взять вас к себе, не утихают, — продолжила Мария, чем напугала Анну. — Только не это! — воскликнула та. — Многие из нас хотят, чтобы это случилось, — пробормотала Мария. — Я ценю ваши добрые чувства, но мне нравится жить так, как я живу, — заверила ее Анна. — Ничего не будет. Эта особа прочно окопалась. Он взял ее с собой в тур по стране, чтобы показать всем. Стыдно смотреть, как он беспрестанно ласкает ее и нарочито демонстрирует свою любовь к ней. Анна ощутила укол ревности. К ней Генрих никогда не проявлял таких чувств. Но кто способен предугадать, что привлечет одного человека к другому? Она радовалась, что Генрих нашел женщину, которую смог полюбить. Они поболтали еще какое-то время, и Анна настояла, чтобы Мария отобедала с ней, прежде чем вернется в Эссекс, в свое имение Нью-Холл. Марии пришелся по вкусу пирог с дичью, поданный по приказанию Анны, и приправленный мускатным орехом крем из молока и яиц. Уехала она, исполненная благодарности за гостеприимство. Вскоре после этого явился гонец от доктора Харста с письмом для Анны от ее старшей сестры Сибиллы. Уютно устроившись в своем кабинете, чтобы прочитать его, Анна в ужасе вскочила на ноги, поняв, что Сибилла вне себя от злости на короля; она никогда не простит ему, что он бросил Анну, не признает развода и продолжит называть Анну королевой. Ее супруг курфюрст тоже возмущен, и Шмалькальденская лига, которую он возглавлял, не тратя времени даром, разрывает дипломатические отношения с Англией. Анна поморщилась, но впереди ее ждало худшее. «Невзирая на то что эти принцы объединились против императора и нуждались в помощи короля Англии, — писала Сибилла, — они никогда не возобновят союза с Генрихом». Анна и не догадывалась, что ее сестра стала такой смутьянкой. Вошла матушка Лёве, и она показала той письмо. — Вот что происходит от братания с Лютером, — буркнула няня. — Ваша сестра всегда была своевольной юной леди. Но, надо сказать, она принимает близко к сердцу ваши интересы. — Может, и так, но я не смею показать это королю, — с досадой проговорила Анна. — Что мне делать? Няня сжала ее руку: — Сожгите его. — Но кто-нибудь мог видеть, как приезжал гонец, и заинтересоваться, что он доставил. Матушка Лёве покопалась в кармане и дала Анне сложенный лист бумаги: — Можете показать им это. Письмо пришло из Золингена. Глаза их встретились. Анну сильно огорчало, что она редко получает известия о своем сыне. — Это от фрау Шмидт, — пояснила старая няня. — Можете сказать, что гонец привез его для меня. Анна развернула листок и жадно проглотила написанное. С мальчиком все хорошо. Он теперь помогает отцу как подмастерье и проявляет большие способности. — Как приятно знать это, — прошептала Анна, едва не плача; ее вдруг охватило страстное желание, которое она так решительно подавляла. — Тут написано, отец гордится им. Его отец здесь! И даже не знает, что у него есть сын. — И крайне важно, чтобы все так и осталось, — строго наказала матушка Лёве. Анна хотела было возразить, но смолчала.
Ночью, лежа без сна и томясь по сыну, она вдруг разозлилась. В Иоганне течет кровь герцогов Клеве, а его приходится прятать как постыдную тайну и учить ремеслу кузнеца. Он понятия не имеет, кто его настоящие родители, не подозревает даже, что усыновлен. А Отто — он, конечно, имеет право знать о сыне; раз теперь она сама себе госпожа и частное лицо, опасность разоблачения не так велика. Анне до боли захотелось открыть правду Отто. Через два дня она продолжала терзаться сомнениями: что же ей делать? Но тут обедать в Ричмонд приехал король. Он снова был сердечным и открытым, каким стал после развода, и радостно делился переживаниями по поводу своего нового брака. Они допоздна засиделись одни в столовой, болтали и играли в карты, пока не начали гаснуть догоравшие свечи. Все это было чрезвычайно приятно Анне. Изрядно хватив доброго рислинга, она даже немного пофлиртовала. Возвращать себе Генриха Анна не хотела, но была очень рада иметь его другом. Просто невероятно, что двое людей, отношения которых начались с полного провала, теперь испытывали друг к другу искреннюю симпатию. Перед уходом Генрих тепло обнял свою «дражайшую сестру». — Благослови вас Бог, моя дорогая Анна! Скоро я приеду к вам еще. И может быть, вы захотите показаться при дворе на Рождество. — Мне это будет очень приятно, брат, — игриво сверкнув глазами, ответила она. — Да пребудет с вами Господь! Помахав вслед королю при свете факела, Анна повернулась ко дворцу и увидела Отто. С унылым видом он сидел на каменной скамье. — Идите вперед, я сейчас вас догоню, — сказала она Катарине и Гертруде, а сама пошла к Отто. — Что случилось? — подойдя, спросила Анна; Отто вскочил на ноги. — Нет, садитесь, прошу вас, — остановила его она и присела рядом. — Я знаю, у вас с Ханной не все идет хорошо. — Это не секрет, — буркнул Отто. — Она изменяет мне с вашим виночерпием, и ей дела нет до того, как это меня унижает. Я пытался, Господь знает, вернуть ее. Все случилось из-за того, что она потеряла ребенка. Это ее изменило. — Она потеряла ребенка? Я не знала. — Анна положила ладонь на руку Отто. — Мне очень жаль. — Я любил ее, — напряженным голосом произнес Отто, — но больше ей не интересен. Мы оба так хотели этого ребенка. Анна не стала колебаться. Именно она и как раз в этот момент могла предложить ему поддержку и утешение. К тому же ей самой очень хотелось открыть Отто свой секрет — тот, который принадлежал и ему тоже. — Отто, у вас есть сын. Он вскинул голову. — У меня есть сын? — потрясенно переспросил Отто. — У нас есть сын, — поправила его Анна. Последовала долгая пауза. — О Боже мой! — сдавленно проговорил он. — Боже мой! Почему вы не сказали мне раньше? — Как я могла? Мне велели держать это в тайне. Об этом знают только моя мать и няня. Они устроили, чтобы я уехала в Шлоссбург и родила там ребенка. Я назвала его Иоганном в честь отца. Его забрали у меня и отдали в семью кузнеца, который изготавливает мечи в Золингене. — Анна заплакала. — Я видела его всего один раз. Это такой милый ребенок, и счастливый, я надеюсь, но я хочу для него большего. И скучаю по нему, я тоскую по нему… Отто потянулся к ней, и вдруг они крепко обнялись; оба беспомощно всхлипывали и целовались, жадно, отчаянно, чувствуя вкус соли на губах друг друга. — Да простит меня Бог, я не представлял, — сказал ей на ухо Отто. — Я был юн и глуп, бездумно получил удовольствие. Как печалит меня, что я причинил вам столько стыда и горя. — Но вы подарили мне и радость тоже, — тихо ответила Анна, снова уступая ему свои губы. — А теперь это… — Я мечтал об этом, — прошептал он, и она теснее прильнула к нему. — Много лет я хотела сказать вам, — через некоторое время произнесла Анна, — но мне не позволяли. Слишком многое можно было потерять. — И для меня это тоже верно! У меня была Ханна. Но теперь нет. — Отто откинулся назад и взял ее за руки. — Анна, я необычайно рад и горд, что у меня есть сын, тем более что он и ваш сын тоже. Сам я бастард, но отец всегда относился ко мне как к законному сыну, и мачеха тоже была добра ко мне. Я хочу того же для Иоганна. От его слов Анна снова залилась слезами. Она на такое даже не рассчитывала. — Я поеду в Золинген, — заявил Отто. — Меня там никто не знает. Под предлогом покупки меча я попытаюсь подружиться с семьей кузнеца и увидеться с мальчиком, чтобы убедиться, что он счастлив и о нем хорошо заботятся. Потом… Я не знаю, что я буду делать дальше, но если тут можно помочь деньгами, то я не беден. Отец щедр ко мне. — Главное, счастлив ли он, — сказала Анна, отнимая у Отто свои руки, чтобы достать платок. — Я хочу того, что лучше для Иоганна. И все же не могу удержаться от мысли, что для него возможно более многообещающее будущее. Но как обеспечить его и станет ли он от этого счастливее, я не могу сказать. Отто задумался. Анну пробила дрожь. — Пойдемте. Похоже, нам обоим нужно выпить. В столовой, наверное, осталось немного вина. И правда. Убрав со стола, слуги оставили на нем накрытый салфеткой кувшин. Анна наполнила два больших кубка. Отто с Анной с жадностью выпили вино, а потом Отто снова притянул ее в свои объятия, и на этот раз не было ни неловкости, ни заблуждений, только две мятущиеся души, ищущие утешения одна в другой.
Когда Анна пришла в себя, она лежала на турецком ковре перед погасшим очагом, рука Отто была у нее на груди. Он прижимался к ней всем телом, вглядывался ей в глаза. Она вспомнила, что обещала девушкам скоро вернуться. О Боже, сколько сейчас времени? Анна неохотно сняла с себя руку Отто и села. — Анна? — Я должна идти к себе. Мои девушки, наверное, недоумевают, куда я подевалась. — Не хочу, чтобы вы уходили. — Мне нужно. Он сел рядом и нежно поцеловал ее: — Спасибо вам. Я давно мечтал, что однажды, когда наши проблемы разрешатся, мы сможем снова быть вместе. Но такого не ожидал. Анна, вы очень много значите для меня. — Как и вы для меня, Отто. Я и благодарна вам за то… — Голос ее затих, она почувствовала, что краснеет. Он удержался и не получил своего удовольствия сполна, чтобы уберечь ее от последствий, и все же доставил ей удовольствие, которого она так жаждала все эти годы. И ощущения были лучше, намного лучше, чем те, что Анна помнила. — Есть много больше путей, чем просто быть любовниками. — Отто улыбнулся и снова поцеловал ее. Анна встала, оправила юбки и взяла со стола капор. — Ваше кольцо до сих пор у меня, — сказала она ему. — Вы хранили его все эти годы? — Отто был поражен. — Я не могла забыть отца своего ребенка и человека, который научил меня любить, — прошептала Анна. — Вы будете носить его теперь? — Да, Отто, буду. — Она улыбнулась ему. — Я увижу вас снова? — спросил он. — Можем мы… — Да, — сказала Анна, и он обнял ее напоследок. — Мы сделаем то, что пойдет на благо нашему сыну, — заверил ее Отто. — В субботу я отправлюсь в Золинген.
Глава 20
1540–1541 годыАнна в упор смотрела на доктора Харста: — Уверяю вас, я не жду ребенка! Откуда взялись эти слухи? — По правде говоря, мадам, я не знаю, но двор бурлит ими. И люди считают, что отец — король. — Что? Это возмутительно! — Они придают большое значение его визиту сюда в августе. Некоторые утверждают, что вы оставались с ним наедине. — Оставалась по желанию его величества. Кто я, чтобы перечить ему? Мы беседовали и играли в карты. Он говорил, как сильно любит королеву. Что я еще могу сказать? — Мадам, говорят, король тревожится, потому что королева до сих пор не понесла, и — простите меня — утверждают, что вы страдали тошнотой, свойственной женщинам в положении. — Тон Харста был таким напряженным, что Анна подивилась: неужели он и правда верит этим слухам? — Меня тошнило, но это из-за какой-то еды, и теперь мне лучше. Как смеют люди делать такие безосновательные выводы! И откуда они узнали, что я приболела? — Некоторые из ваших слуг часто бывают при большом дворе. Им не завяжешь рты. Анна задумалась, кто бы это мог быть таким болтливым? Ирония состояла в том, что ее обвиняли в грехе, которого она не совершала, а сама Анна все время боялась, как бы не открылся проступок, в котором бывшая королева действительно была повинна. — Надеюсь, его величество тоже расспрашивают насчет этих слухов, — едко проговорила Анна. — Почему все отыгрываются на мне? Это несправедливо! Пусть он опровергнет сплетни! — До такого король не снизойдет. — А мог бы, если это затрагивает его честь — и мою! Надеюсь, что он это сделает. А пока, доктор Харст, мой брат будет рассчитывать на вас, чтобы вы защищали мою репутацию всеми средствами и при любой возможности. — На кону стоит не одна только ваша репутация, мадам. Люди толкуют, что теперь король оставит королеву Екатерину и возьмет вас обратно. — Чушь! — воскликнула Анна. — И если при вас кто-нибудь заведет разговор об этом, вы возражайте. Король так ярко демонстрирует свою привязанность к королеве, что никакой возврат к прошлому невозможен. — Она встала с кресла у очага, подошла к окну и посмотрела на расцвеченный осенними красками сад. — Думаю, я уеду в Блетчингли, или в Хивер, или даже в Рикмансворт. Не хочу, чтобы мои слуги шастали туда-сюда от одного двора к другому так легко, как могут делать это отсюда. Пусть эта дурная молва утихнет. — Если вы уедете сейчас, мадам, это может только подхлестнуть слухи. Стоит вам удалиться от двора и уединиться в глуши, и люди могут прийти к неверным заключениям. — Хорошо, я это обдумаю, — ответила расстроенная Анна. — Скажите мне, доктор Харст, вы верите, что я тут ни в чем не повинна? — Да, мадам, я верю. — (Она с удовлетворением отметила, что посол говорил искренне.) — Простите, если я усомнился в вас. Поверьте, я сделаю все, что в моих силах, дабы развеять эти слухи.
Однажды серым и ветреным декабрьским днем Анна сидела в своих покоях в окружении придворных дам и очень обрадовалась, когда к ней неожиданно явился Отто. Он отсутствовал много недель, никаких вестей от него не было, и Анну охватило лихорадочное нетерпение; ей страшно хотелось узнать, какие вести он привез. — Отто, дорогой кузен, какая радость, — сказала она, когда тот ей поклонился. — Надеюсь, ваша поездка прошла хорошо. Как дела у моего брата герцога? Поймав искательный взгляд голубых глаз Отто, Анна прочла в нем память о том, что произошло между ними, и сердце ее радостно подскочило. — Нам повезло с приливом, мадам, и мы очень быстро добрались от Зёйдерзе. У меня для вас много новостей. Некоторые из них предназначены только для ваших ушей. Анна уловила намек. — Дамы, прошу, оставьте нас. Мы с моим кузеном поговорим наедине. Фрэнсис, будьте добры, налейте нам вина перед уходом. Они дождались, когда смолкнет вдали эхо последних шагов. Анна выставила вперед руку, но Отто пренебрег этим охранительным жестом, обнял ее и стал целовать в губы, долго и страстно. Она очень по нему соскучилась и до боли жаждала продолжения, но желание услышать об Иоганне пересиливало все, даже страсть к его отцу. — Вы видели его? — нетерпеливо спросила Анна. — Видел. — Отто улыбнулся. — Несколько раз говорил с ним и стал ему другом, как он сам сказал. Он милый мальчик и подает большие надежды. Анна, я увидел в нем нас обоих, но не так явно, чтобы другие могли догадаться. Шмидты — славные люди, дом у них чистый, и торговля отца процветает. — Но счастлив ли он? — Да, в том смысле, что не знает другой жизни. Я думаю, ему пошло бы на пользу более основательное образование, так как он умен и сообразителен не по возрасту. Анна нервно крутила на пальцах кольца. — Он любит Шмидтов? — Да, думаю, что так. Они добры к нему и немного его балуют, но отец с ним строг, когда обучает ремеслу. С Иоганном обращаются так же, как с другими учениками. Анна, он счастлив, пока что. Я спрашивал его как бы в шутку, хотел бы он поехать со мной в Англию, жить в большом дворце и служить принцессе Клеве? Он засмеялся и ответил, что ему бы это очень понравилось. Тогда я сказал, что когда-нибудь мы об этом подумаем, но пока он должен учиться своему ремеслу и делать это хорошо. Анна ощутила жгучее разочарование. Она почти хотела, чтобы Отто нашел мальчика стремящимся покинуть дом приемных родителей и был бы вынужден взять его с собой в Англию. Место для него легко можно подыскать в Хивере или в любом другом из ее поместий, где никто не догадается, кто он такой. — Я хотела, чтобы он был со мной, — едва не плача, проговорила она. Отто взял ее за руки: — Анна, вы должны проявить терпение. Она неохотно с ним согласилась. — И сколько нужно ждать? Можно ли прервать его ученичество? — Теоретически Иоганн отдан в ученики на семь лет. Практически можно кое-кого подмазать. — Семь лет?! — Анна, успокойтесь. — Отто снова сжал ее руки. — Я вам обещаю, как только настанет удобное время, я привезу его. Она прижалась к нему и стала жарко целовать, переполненная чувствами. — Спасибо, сердце мое! Их поцелуи становились все более горячими, а потом они сплелись в клубок кружев и тяжелых юбок, оба поглощенные желанием и сознающие необходимость торопиться.
Предыдущее Рождество Анна провела в Кале, где томилась в печали и тревоге, ожидая у моря погоды. На этот раз она решила отметить праздник в истинно германском стиле, чтобы весь ее двор получил удовольствие. Начало декабря застало ее у длинного стола на кухне рядом с мейстером Шуленбургом за приготовлением коврижек и пряников. Занимаясь стряпней, Анна мурлыкала себе под нос песенку. Она была счастлива сознанием того, что любима. Отто окружил ее заботой и дал чувство защищенности. Если бы только они могли встречаться открыто, а не урывками и тайком, какой восхитительной была бы жизнь! Но им приходилось соблюдать осторожность, а это влекло за собой значительные самоограничения. Вчера, например, они ускакали от дам в охотничьем парке, на краткий момент остались одни и, задыхаясь от страсти, предались любви в старой хижине, скрытой от посторонних глаз деревьями. Вся скользкая после любовных утех, Анна была довольна, как растянувшаяся у огня кошка. В Рождественский сочельник, Heilige Abend, придворные с любопытством наблюдали, как Анна ставит в холле маленькую елочку и украшает ее яблоками, орехами и бумажными цветами собственного изготовления. — Мартин Лютер, может, был и еретик, — сказала она им, прикрепляя свечи к ветвям, — но он ввел прекрасный обычай, который нам в Клеве очень нравилось соблюдать. Однажды ночью Лютер шел по лесу, посмотрел вверх и увидел тысячи звезд, мерцавших сквозь ветви деревьев. Это вдохновило его поставить елку в своем доме и украсить ее горящими свечами, чтобы напомнить детям о звездном небе, откуда пришел к нам Спаситель. Некоторые придворные смотрели на нее с сомнением, очевидно размышляя, можно ли считать хоть какие-то поступки архиеретика Лютера благими? Но другие улыбались. — Сэр Уильям, прошу вас, зажгите свечи, — сказала Анна, и камергер подошел к елочке с горящей лучиной. Деревце засветилось огоньками и выглядело очень мило, так что даже сомневающиеся восхитились. — А теперь я раздам вам всем подарки, как Christkind, исполнительница желаний[119]. — Анна улыбнулась. Это тоже не было обычаем в Англии: здесь обменивались подарками на Новый год, но пусть рождественский подарок станет для ее приближенных дополнительным удовольствием и компенсацией за отсутствие их госпожи после Нового года, ведь она приняла приглашение короля и поедет к большому двору. Анна выбирала подарки продуманно, заказала у золотых дел мастера из соседнего Кингстона чаши и кубки из золоченого серебра и теперь трепетала от счастья, видя, как освещались радостью лица придворных, когда они получали их. Гертруда и Катарина вскрикнули от восторга. Даже Уаймонд Кэри рассыпался в благодарностях. Это дорогогостоило. Потом настало время ужина с традиционными сосисками. Анна сидела во главе стола, на блюде перед ней красовался рождественский венок с четырьмя свечами. После ужина, сдобренного вином, они пели рождественские гимны, и Анна была удивлена, обнаружив, что для некоторых мелодий есть и немецкие, и английские слова. Окидывая взглядом зал и видя смеющиеся лица своих слуг и прекрасные глаза любимого, она чувствовала себя по-настоящему счастливой.
Через неделю Анне доставили новогодние подарки от короля: украшения, рулоны дорогих тканей, несколько прекрасных золотых тарелок и деньги. Генрих был расточительно щедр! Дамы, выкатив глаза, смотрели на эти роскошные дары, и сердце у Анны упало. Не дай Бог, об этом услышат сплетники. Они могут поднять очередную волну слухов, будто король собирается взять ее обратно. Она даже пожалела, что отправила ему двух великолепных коней в бархатных попонах. Это тоже наверняка истолкуют неверно! В третий день января Анна, завернувшись в меха, села в карету и отправилась в короткую поездку до Хэмптон-Корта, чувствуя легкий трепет. Сплетничают ли о ней при дворе? Будут ли люди указывать на нее пальцами и смеяться, прикрыв рты ладонями? Господи, только бы этого не случилось! Анна молилась и о том, чтобы встреча с королевой Екатериной не сопровождалась неловкостью, раз теперь они поменялись местами. Разумеется, со стороны Кэтрин не должно быть никаких обид; она сама к этому стремилась. Проезжая со своим небольшим эскортом через Кингстон, Анна увидела приближающегося всадника и узнала лорда Уильяма Говарда, дядю королевы, который весело приветствовал ее: — Миледи Анна, какая встреча! Как удачно, что я отправился этим путем. Позвольте мне проводить вас ко двору. Анна поблагодарила его, он развернул коня и поехал впереди рядом с Отто и сэром Уильямом Горингом. В Хэмптон-Корте Говард провел ее во внутренний двор, где прибытия гостьи ждали герцогиня Саффолк, графиня Хартфорд и другие леди, которые проводили Анну в ее комнаты. Она обрадовалась, увидев, что ей отвели просторные апартаменты с роскошной мебелью. Приятно было снова увидеть герцогиню Саффолк, и хотя Анне очень хотелось пожаловаться на ее мужа герцога, заставившего Уаймонда Кэри шпионить за ней, в тот момент это было явно неуместно. Они немного поболтали, делясь новостями, пока девушки Анны суетились вокруг нее, проверяя, чтобы каждый волосок лежал на своем месте. Леди Хартфорд, которую Анна едва знала, стояла молча и оценивающе разглядывала гостью, отчего та испытывала неловкость. Не дай Бог, чтобы она высматривала признаки беременности! — Нам нужно поторопиться, — наконец сказала леди Хартфорд. — Королева ждет ваше высочество. Дамы проводили Анну в покои королевы. Странно было снова оказаться здесь. Когда она жила в этих апартаментах, то постоянно беспокоилась о судьбе ее брака с королем и о своем будущем. Казалось, это происходило уже очень давно. В приемном зале объявили о прибытии Анны. Она подошла к помосту и увидела великолепно одетую маленькую королеву. Екатерина была такой же пухленькой и миловидной, как прежде, но обрела царственную манеру держаться. Анна опустилась на колени у ее ног с таким почтением, будто сама теперь была одной из фрейлин. — О, прошу вас, миледи Анна, не преклоняйте предо мной колен! — воскликнула Екатерина, наклоняясь, чтобы поднять ее. — Как я рада видеть вас! Я очень надеялась, что мы сможем стать друзьями. Вы всегда были доброй госпожой для меня, и теперь я хочу оказать вам милость в ответ. Королева обняла Анну и поцеловала. Ее нельзя было не полюбить. Она обладала неотразимым очарованием и напоминала игривого щенка. Анна понимала, чем Екатерина пленила Генриха. — Дорогу его величеству королю! — провозгласил церемониймейстер, и появился Генрих; он вошел в залу, тяжело ступая и сияя широкой улыбкой. — Добро пожаловать, Анна, моя дорогая сестрица! — воскликнул король, раскрывая для нее объятия, и припечатал свои губы к ее губам. — Вижу, вы, леди, прекрасно ладите друг с другом. Кони великолепные — не знаю, чем вас отблагодарить. Любовь моя… — Генрих отпустил Анну и обнял Екатерину. Он питал к ней неприкрытую страсть. Анна никогда его таким не видела. Придворные обменивались многозначительными усмешками. Генрих повел всех ужинать; Екатерина шла справа от него, Анна — слева. Приемный зал короля был украшен еловыми ветвями и наполнен новогодним ароматом свечей, установленных среди праздничных композиций из сосновых шишек, засушенных с пряностями апельсинов и можжевеловых ягод. Анна обрадовалась, увидев среди гостей леди Марию, и они обменялись теплыми приветствиями. Потом ее усадили на место у края главного стола. Так она и предполагала и осталась довольна — отсюда можно было разговаривать с королем и королевой. Анна расслабилась и начала получать удовольствие от торжества. Поймав на себе пристальный взгляд мессира Шапюи, имперского посла, и заметив любопытствующий интерес к своей персоне других придворных, она подавила улыбку. Чего они ожидали? Кошачьей драки между ней и Екатериной? Во время и после ужина разговоры за столом не умолкали, звучало много шуток, и Анна обнаружила, что ей очень легко и приятно общаться с королевой. Даже Мария, казалось, оставила предубеждения против своей юной мачехи и смеялась вместе со всеми. Анна обратила внимание, что Генрих немного постарел с момента их последней встречи. Заметила, как раз или два он поморщился, и предположила, что это нога продолжает причинять ему боль. Но Екатерина, казалось, была занята лишь собой. Она без умолку трещала о грядущих торжествах по случаю Двенадцатой ночи, о своих новых платьях, прекрасных стихах, написанных ее кузеном, графом Сурреем, и новогодних подарках, которыми осыпал ее король. — Мы будем танцевать? — спросила она. — О Генрих, прошу вас, скажите, что нам можно устроить танцы. Мне так нравится, когда вы ведете меня в паре перед всем двором! Король снисходительно улыбнулся ей. Анна никогда бы не посмела называть его Генрихом на людях, но он, казалось, не имел ничего против. — Думаю, я слегка подустал и, пожалуй, пойду в постель. А вы, леди, потанцуйте. — Он дал знак сидевшим на галерее музыкантам, и те завели живую мелодию. — О, благодарю вас, Генрих! — воскликнула Екатерина. — Не задерживайтесь слишком долго, — сказал он, погладил ее по щеке и поднялся уходить. Все встали, но король махнул рукой. — Сидите, друзья! Наслаждайтесь вечером. Когда он ушел, Екатерина протянула Анне руку: — Миледи Анна, прошу вас, потанцуйте со мной! Анна разучивала танцевальные шаги со своими дамами в Ричмонде, предчувствуя, что во время праздников при дворе устроят танцы, но не рассчитывала, что ее выделят вот так. Она с мольбой в глазах взглянула на Марию, но та только ободряюще улыбнулась. Пришлось принять вызов. — С удовольствием, — ответила Анна и взяла руку королевы. Они спустились с помоста. Глаза всех придворных были прикованы к ним. — Павана! — крикнула Екатерина, и зазвучала музыка, медленная и торжественная. К счастью, Анна знала движения этого танца. Когда он закончился, она чувствовала себя более уверенно. Королева приказала играть живой бранль, и Анна охотно продолжила танцевать. Екатерина двигалась очень изящно, как делала вообще все. Анне было не сравняться с ней, но какое это имело значение? Разгоряченные вином придворные жарко аплодировали. Вскоре по приглашению королевы танцевать вышло множество пар, и Анна обнаружила, что задевает плечом Отто. Он стоял в паре с одной из фрейлин, и у Анны кольнуло сердце, потому что эта девушка смотрела на своего партнера с обожанием, но, когда они в следующий раз прошли мимо друг друга, Отто бросил на Анну такой полный желания взгляд, что у нее внутри все запело, и она украдкой улыбнулась любимому. А потом покосилась на Шапюи, тот опять наблюдал за ней. Заметил ли он? Не дай Бог! Иначе этот мимолетный обмен бессловесными признаниями скоро будет обсуждать весь христианский мир. Нужно быть более осмотрительной, укорила себя Анна, и предупредить Отто, чтобы тот постарался не выдавать на людях их любовь. Ох, но как же она хотела его! Ужасно хотела и знала, что он тоже хочет ее. Они так мало были вместе. Когда танцы завершились и все вино было выпито, Екатерина неохотно ушла в спальню, и огромный дворец погрузился в сон. Анна выглянула в окно и увидела внизу Отто. Закутавшись в накидку и опустив на глаза капюшон, она на цыпочках прокралась по своим покоям, молясь, только бы не разбудить своих дам, спустилась по лестнице и вышла в ночь. Отто приложил палец к губам и кивнул в сторону стоявшей у входа в королевские покои стражи. Анна отпрянула назад и укрылась под лестницей. Отто последовал за ней, закрыл дверь и овладел ею сразу, без лишних разговоров. Это было великолепно: запретный плод особенно сладок. Анна была уверена, что их никто не видел и не слышал.
На следующий день Анна под смех и разговоры обедала с королем и королевой. Вечером, когда они с Екатериной играли в триктрак в личных покоях королевы, явился посыльный от короля, который держал на поводках двух милых маленьких собачек. Он поклонился Екатерине: — Ваша милость, король прислал вам эти подарки. — Мужчина передал ей поводки и протянул бархатный кошель, из которого она вынула кольцо с рубином и взвизгнула от восторга. Собаки обнюхивали тростниковую подстилку на полу. — Они прелестны! — воскликнула Екатерина и сгребла обеих к себе на колени, где собачки уселись, дрожа и отводя назад шелковистые уши. — Глупышки, вам не нужно бояться маленькой Кэфвин, — просюсюкала она и потерлась носом об их гладкие головки, а потом подняла взгляд. — Они вам нравятся, миледи? Анна протянула руку и погладила собачек: — Да. Такие милые. — Они ваши! — порывисто заявила Екатерина и пересадила собак на колени Анны. — О, но я не могу… — Я хочу, чтобы вы их взяли. — Она вела себя как капризный ребенок. — И кольцо! Анна вся затрепетала от избытка чувств. Кольцо было невероятно красивое, а ничего милее этих двух собачек и представить нельзя! Она потянулась вперед и поцеловала Екатерину. — Я так благодарна вам и очень тронута. Королева повернулась к посыльному: — Прошу вас, скажите спасибо его величеству за доброту ко мне и передайте, что я отблагодарю его как следует, когда мы увидимся с ним позже. — Она лукаво улыбнулась. Посланец поклонился: — Да, мадам. — Он обратился к Анне: — Король посылает это вашему высочеству. — И передал ей свиток с королевской печатью. Грамота даровала Анне ежегодную ренту в пятьсот фунтов. Такой суммы хватило бы на покупку больше ста коней! — Не могу выразить, как я благодарна его милости, — сказала она и позже повторила то же самое Генриху, когда он пришел попрощаться с ней и лично проводил ее до нижнего двора, где ждали седоков оседланные для ее свиты лошади. — Цены растут, — сказал король. — Может оказаться, что вам не хватает выделенного мной содержания. Но не беспокойтесь. Я буду восполнять недостающее по мере необходимости. Вы только попросите. Анна поцеловала своего названого брата, тронутая его заботливостью, и решила сделать какой-нибудь ответный жест. По возвращении в Ричмонд она отыскала изысканно оформленный французский «Часослов», который дала ей мать. Это идеальный подарок. Внутри Анна написала: «Покорнейше прошу вашу милость при взгляде на эту книгу вспоминать обо мне. Ваш верный друг, Анна, дочь Клеве». Она завернула свой дар в кусок шелка и приказала гонцу доставить его в Хэмптон-Корт. — Вы имели большой успех при дворе, — заметила матушка Лёве, когда они вместе следили за отъезжающим посланцем. — Знаете, что говорили люди? Король так любит вас, что готов иметь двух жен! Анна расхохоталась: — Что за идея! Король выглядит другим человеком. Он и правда мне как брат. Я рада, что королева делает его счастливым. Матушка Лёве многозначительно взглянула не нее: — А тут есть один человек, который делает счастливой и вас, если я не ошибаюсь. — (Анна залилась краской.) — Я знаю вас всю вашу жизнь. Вы сияете, дитя. Все могут заметить, как вы смотрите друг на друга. Будьте осторожны, Анна. Он женат и один раз уже создал вам проблемы. — Мы тогда были детьми! А теперь уже нет. И мы соблюдаем осторожность. Матушка Лёве хмыкнула: — Если я вижу, что происходит, другие тоже могут увидеть. Согласна, его жена — мегера и даже не пытается скрывать, что неверна ему. Но они супруги, и с этим ничего нельзя поделать. Остерегайтесь, Анна, прошу вас. Сейчас ведь все хорошо, ja? Пусть же так и останется. Анна кивнула, пристыженная. Няня искренне и от большой любви тревожилась за нее. И она права. Сейчас все они жили счастливо. Не стоит рисковать. Но Анна не могла порвать с Отто. Как ей вернуться к прежнему унылому существованию, видя его каждый день? Она этого не вынесет. Лучше смерть. А значит, в будущем нужно вести себя еще более осмотрительно.
Через несколько дней из Хэмптон-Корта прибыл гонец с посланием для Анны от короля. Генрих издал жалованную грамоту, которой даровал Анне английское подданство при условии, что она не покинет страну без разрешения. Земли, которыми она владела, будучи королевой, переходили к Екатерине, а в руках у Анны оставалось множество поместий, городков, приходских домов, парков, ферм, мельниц, десятин и ежегодных рент, которые теперь выплачивались ей за них, опять же при условии, что она останется в Англии и будет подчиняться законам королевства и установлениям парламента, который объявил ее брак недействительным. Боже, у нее даже было право получать десятину от урожая бобов с какого-то поля в Сассексе! Просматривая список, который нужно было как можно скорее передать Уаймонду Кэри, чтобы тот разобрался со всеми ее рентами, Анна заметила, что многое из ставшего ее собственностью конфисковано у Кромвеля. Значительную часть составляли монастырские земли, которые тот в свое время прибрал к рукам. И снова она извлекала выгоду из несчастий других людей. Ей хотелось бы, чтобы было иначе, но это были не ее решения. Большинство названий ничего не значили для нее, но несколько мест были ей знакомы, потому что находились в Сассексе, недалеко от Ричмонда. Анна пообещала себе, что в ближайшее время снова отправится объезжать свои владения, чтобы увидеть хотя бы некоторые из них. Она вызвала Кэри, и тот просмотрел документ. — Прекрасное обеспечение, — заявил он. — Едва ли меньше того, что вы имели, будучи королевой. Вам гарантирован хороший доход. — Его величество проявил невероятную щедрость, — сказала Анна. — Я в долгу перед ним. И намерена всегда соблюдать условия, на которых получила это обеспечение. Пусть Кэри передаст ее слова Саффолку!
Той весной Анна с трудом могла сосредоточиться на подготовке к поездке в Сассекс. Она слишком переживала из-за проблемы, которая сперва показалась ей пустяком, но вскоре приобрела грандиозные масштабы. Ей страстно хотелось поговорить наедине с Отто. Их тайные свидания продолжались, но улучить момент для любви удавалось гораздо реже, чем ей хотелось бы. Осторожность всегда стояла на первом месте. Но теперь Отто был нужен ей больше, чем когда-либо. В комнату влетела матушка Лёве, нагруженная стопкой полотенец, которую она плюхнула на кровать. — Доставили вино. Его прислал король. Возница сказал, что королева наконец понесла. Об этом толкуют при дворе. Анна сглотнула. — Раз уж его милость проявил такую любезность и прислал нам вино, нужно придумать повод и отметить это, — сказала она, хотя желания что-то праздновать сейчас у нее не было, а от одной мысли о вине начинало тошнить. — Эта новость очень обрадует короля. Анна подошла к шкафу и стала искать в нем книги и игры, чтобы взять с собой в дорогу. Ее тяготили собственные страхи и тревога за мастера Мандевиля, грума из ее конюшен, которого арестовали за ересь, когда он уехал с поручением в Лондон, и теперь держали в тюрьме Маршалси, где подвергали допросам. Она едва знала его и не представляла, в какой ереси его обвиняют, — в письме с сообщением об аресте Генрих не вдавался в детали, — но боялась за этого несчастного, хорошо зная, какое наказание ему грозит. Матушка Лёве прошла вслед за Анной в спальню: — Что-то беспокоит вас, дитя. Вы не хотите поговорить об этом? — Не могу избавиться от мыслей о бедном Мандевиле, — сказала ей Анна. — Надеюсь, его не выдал кто-нибудь из моих придворных и никто из живущих здесь со мной не замешан в ереси, потому что, если это не так, нам всем грозит обвинение в сопричастности. Я написала королю, сказала, что потрясена новостями о Мандевиле и у меня не было на его счет никаких подозрений. Это правда. Едва ли я хоть раз говорила с ним, разве что благодарила за услуги. — Будем надеяться, он сможет оправдаться, — сказала матушка Лёве, но убежденности в голосе не прозвучало. Анна задумалась: случалось ли, чтобы в Англии обвиненные в ереси избегали костра? За обедом она спросила сэра Уильяма Горинга, известны ли ему такие истории. — Вы думаете о Мандевиле, мадам? — Да, сэр Уильям. — Насколько я понимаю, еретик может отречься от своих убеждений, но если впоследствии он к ним вернется, то костра ему не миновать. Я не слышал, чтобы Мандевиль прежде отрекался. Я вообще не догадывался, что он держится еретических взглядов. — На Пасху он не получал Святого причастия, — вспомнил мистер Хорси. — Я тогда подумал, это немного странно. — Он отрицал чудо пресуществления, — заметил Уаймонд Кэри, и все уставились на него. — Я слышал об этом при дворе. «Да, — подумала Анна, — не иначе как ваш добрый приятель, герцог Саффолк, шепнул вам об этом». Она надеялась, что это не Кэри дал показания против Мандевиля. Но даже если он: спроси его напрямик — и доносчик без тени смущения ответит, что действовал в ее интересах, — и будет прав. Анна не знала, что делать. Просить Генриха о снисхождении в таком серьезном деле она не смела, но не могла и оставить мысли о своем несчастном конюшем, томившемся в тюрьме без надежды на помощь.
Повеяло весной. Сады пробуждались к новой жизни, дул легкий ветерок, в воздухе носился запах свежескошенной травы. Однако Анну не трогала красота природы. Какая жестокость: все вокруг расцветает и поет, а она терзается страхами и не может ощутить никакой радости, без конца откладывая принятие самого трудного решения в своей жизни. Приготовления к поездке продолжались. Анна одна гуляла в саду, ища умиротворения, которое облегчило бы смятение ее отчаявшейся души. Там и нашел ее Отто. При виде любимого на глаза Анны навернулись слезы. — Что-нибудь случилось? — Он пытливо вглядывался ей в лицо. — Случилось. Что-то очень плохое, — ответила она. — У меня будет ребенок. Отто выглядел ошарашенным. — Нет, этого не может быть. Я был осторожен… — Да. Мне известны признаки. — Анна проглотила слезы. — Я уже была в такой ситуации и не могу поверить, что она повторяется. — О Анна! Мне так жаль. — Он притянул ее к себе и погладил по волосам. — Как нам быть? Анну обрадовало, что Отто сказал «нам». — Я придумала план, — ответила она, отстраняясь. — Он может сработать. Во время поездки я выберу какой-нибудь из своих домов, расположенных в глуши. Как только мое положение начнет становиться заметным, я поселюсь там под каким-нибудь предлогом, потом скажусь больной и буду притворяться, пока не родится ребенок. Нужно посвятить в это дело матушку Лёве. Она помогала мне раньше, и хотя я знаю, что она рассердится и будет недовольна мной, но уверена, поможет и на этот раз. — Если вы возьмете с собой только одну леди, начнутся разговоры, — заметил Отто, и его прекрасное лицо исказилось тревогой. — Я возьму и других, но им не позволят заходить в комнату больной, чтобы не заразились. Видите, я все продумала. — Она через силу улыбнулась. — А что могу сделать я? — спросил Отто. Началась самая трудная часть беседы. Анна страшилась этого момента. — Ничего. Никто не должен догадаться, что между нами что-то было. Если мой брат узнает, то потребует, чтобы нас отправили в Клеве для наказания, если сперва нас не накажет король Генрих. Отто, любимый, это должно закончиться. Мы не можем рисковать, что нас разоблачат. Хватит того, что придется скрывать, в каком я положении… — Голос ее оборвался, она больше не могла сдерживать поток слез. — Нет! Анна, не делайте этого! — Отто снова попытался обнять ее, но она отступила назад с мольбой: — Не прикасайтесь ко мне, или я откажусь от всех своих благих намерений. Мне так жаль… — Это моя вина. — Он стукнул себя по лбу. — Боже, прости меня! — Мы сделали это вместе, — напомнила ему Анна. — Я не виню вас. Но теперь нам нужно проститься. Это будет трудно, но мы должны проявить волю. — Анна! — взывал к ней Отто. — Анна, прошу вас… Но она уже уходила от него, заставляя себя не оглядываться.
— У королевы не будет ребенка, — сказала Кэтрин Бассет. — Сестра написала мне. — Она выкинула? — спросила Анна. Карета везла ее по иссушенной солнцем дороге к городу Льюису, следующей остановке на пути их следования. — Нет, думаю, это был самообман. Король сильно расстроен. «Бедная Кэтрин», — подумала Анна. Как ужасно, наверное, жить под гнетом необходимости произвести на свет сына для Генриха. — Мне жаль их обоих, — сказала она. К югу от Ричмонда они уже ездили. Анна осмотрела свои владения в Маресфилде и Алфристоне. Все, расположенные в Сассексе, увидеть было невозможно по причине их многочисленности. Она посетит больше мест в другой раз. Анна хотела получить общее впечатление о своей собственности и ближе познакомиться со страной, которая приняла ее. Путешествие отвлекало от тревожных мыслей о недавно принятом решении, но не ослабляло боли. Ей казалось, что погрузиться в более глубокую печаль просто невозможно. Впереди, на возвышенности, показался Льюис. Сегодня Анне предстояло заночевать в Саутховере, у подножия холма, а завтра она посетит соседние поместья Ле-Хайд и Кингстон, после чего отправится в Дитчлинг. Дом в Саутховере оказался очень милым: красивое деревянное здание, вокруг сады с цветами и плодовыми деревьями, по которым протекал ручей. Рядом с дорогой — небольшой заброшенный приорат. Арендаторы этих земель, мастер Фриман и его супруга, изо всех сил старались обеспечить Анне уют и комфорт, и после долгой тряски в карете по плохим дорогам она с удовольствием опустилась на скамью в зале с деревянным потолком, лежащим на сильно выступающих балках, и приняла кубок вина. Через десять минут их догнал гонец в ливрее Анны. Мандевиль и еще двое были признаны виновными в ереси и сожжены на костре в Саутуарке. От этой новости Анну так затошнило, что она испугалась, как бы ей не потерять ребенка. Пока ее придворные и дамы охали и ахали, выражая потрясение, Анна заметила Отто: он сидел за соседним столом и смотрел на нее с глубочайшим сочувствием и тоской. Пришлось собрать все силы, чтобы сохранить контроль над собой. Как же ей хотелось найти утешение в его объятиях! Анна извинилась и быстро ушла в приготовленный для нее главный покой, где ее вырвало, и она отдалась на попечение своих горничных. Отвлечься от мыслей об ужасных мучениях, которые претерпел Мандевиль, не удавалось; в сравнении с ними ее страдания казались такими незначительными. Все это было так ужасно, что у нее даже слезы иссякли. Утешало одно: ей самой сейчас ничто не угрожало. — Принесите мне еще вина, — приказала Анна, чувствуя, что ей необходимо как-то успокоиться, и выпила его жадными глотками. Но на этот раз питье не принесло облегчения. Она пролежала без сна много часов, а когда наконец заснула, ей привиделся дьявольский танец языков пламени.
Поместье Ньетимбер оказалось идеально подходящим для ее целей. Затерянный в глуши, в отдалении от сонной деревушки, великолепный фахверковый дом мог предоставить ей полную отрешенность от мира, когда это потребуется, к тому же он находился гораздо дальше от Лондона, чем все прочие дома, которые Анна посетила. Сидя за столом в зале и слушая, как лютнист, предусмотрительно нанятый хозяевами, играет на галерее менестрелей, Анна ощутила некое успокоение — и, Небесам известно, она в нем нуждалась. Обдумав свое решение, она попросила матушку Лёве вечером прислуживать ей в спальне. — Мне нужна ваша помощь, — сказала Анна, как только они остались одни. — Боюсь, вы посчитаете меня недостойной прощения, и я рискую утратить ваше доброе мнение обо мне, потому что на этот раз не могу ссылаться на беспечность юности, но, добрая матушка Лёве, я жду ребенка! — И снова из глаз Анны потекли слезы. — Я знаю, Анна, — мягко ответила старая няня. — Я не слепая. У вас уже давно нет месячных. Элия Тёрпен сказала мне. А она-то думала, что сумела сохранить все в тайне. Оказывается, даже прачке известен ее секрет. — Она не будет болтать? — со страхом спросила Анна. — Никто не должен знать. Скажите мне, что больше ни один человек не догадывается! — У нее ослабли колени, и она опустилась на кровать, стянув с головы капор. Матушка Лёве наклонилась и взяла Анну за руку: — Никто другой ничего мне не говорил, и я наказала Элии, чтобы она тоже помалкивала. Думаю, если бы у кого-нибудь возникли подозрения, уже пошли бы толки. Вы же знаете, как быстро распространяются слухи, и тут нашлись бы те, кто с большим удовольствием затрещал бы языком при дворе. — Я знаю, — всхлипнула Анна. — Мы так старались быть осторожными. Не думайте обо мне плохо! — Как я могу, Анна! — Няня погладила ее по волосам. — Не похоже, что у вас появится шанс снова выйти замуж, что бы там ни говорили при разводе. Никто не может винить вас за то, что вы ищете утешения, вам очень не повезло. Если бы Отто не был женат… Но даже в этом случае вам непросто было бы пожениться. Как вы примиритесь с Господом — это ваше дело, не мое. Меня заботит только одно: что нам теперь делать. Анна размякла от облегчения. Какое счастье, что няня так любит ее, без всяких условий и оговорок! Она обхватила матушку Лёве руками, чем изрядно удивила няню. — Спасибо! Спасибо вам! — воскликнула Анна. Няня высвободилась из объятий, покраснев от смущения. — Мы должны решить, как нам быть! — Я все придумала, — сообщила ей Анна и вкратце изложила свой план. Матушка Лёве одобрительно кивнула. — Это может сработать, — вынесла вердикт она. — Нет, мы сделаем так, что это сработает.
В июне Анна поняла, что скоро ей уже невозможно будет скрывать свое положение. По ее подсчетам, она уже пять месяцев носила ребенка, учитывая, когда в последний раз предавалась любви с Отто. Она объявила, что намерена еще раз посетить Сассекс, но пробудет там совсем недолго, в сравнении с поездкой, совершенной в прошлом месяце. С ней поедут матушка Лёве, Катарина, Гертруда, Флоренц де Дьячето, Джон Бекинсейл и двое грумов. Она не рискнула брать с собой английских дам, поскольку не была уверена, может ли полностью доверять хотя бы одной из них. Матушка Лёве упаковала английские платья, которые можно расшнуровать, чтобы умещался растущий живот Анны, и большое количество ночных сорочек, а также книги и игры, чтобы коротать время, которое Анне предстояло провести, не выходя из своей комнаты. Они уже были почти готовы к отъезду, когда доставили два письма. На одном Анна увидела печать Вильгельма и, вскрыв это послание первым, с радостью прочла, что ее брат женился. Ему достался прекрасный приз — такая важная персона, как Жанна дʼАльбре, наследница Наварры, которая однажды станет королевой в собственном праве. Она была племянницей французского короля, и брак с ней укрепит связи Вильгельма с Францией и усилит его позиции в борьбе с территориальными претензиями императора. Это была превосходная партия, и Анна от души радовалась за брата. Однако глаза ее расширились от удивления, когда она стала читать дальше. Невеста Вильгельма хотя и была всего двенадцати лет от роду, сперва отказалась соглашаться на брак. «Ее за это выпороли, и только тогда она уступила, — писал Вильгельм. — Тем не менее даже после этого она подписала заявление, что согласилась против своей воли. Отец заставил ее повиноваться, но она все равно упиралась, и констеблю Франции пришлось тащить ее к алтарю за шиворот. Зрелище было не из приятных и причинило мне немало стыда. Сейчас она уехала к своей матери, так как было условлено, что брак окончательно состоится, когда девушка подрастет. Надеюсь, к тому времени она научится послушанию и исполнению долга». Анна удивилась, с чего это юная Жанна так ополчилась на Вильгельма. Многих девушек выдают за мужчин, которые на двенадцать, а то и более лет старше их, и это был хороший брак для обеих сторон. В свое время Вильгельм станет королем Наварры, одним из самых могущественных правителей Европы, к тому же он красив. Наверняка принцессу наставляли, что она должна будет выйти замуж за человека, которого выберут для нее, как произошло с самой Анной. Однако в памяти у нее были свежи воспоминания о собственных страхах и тревогах, связанных с замужеством, а потому она испытала прилив сочувствия к девушке, которая все-таки была еще совсем юной. Покачав головой, Анна распечатала второе письмо. Оно было от доктора Харста с сообщением, что ее бывший нареченный жених, Франциск Лоррейнский женится на герцогине Миланской. «Король выразил протест, — писал посол, — и заявил, что считает ваше высочество настоящей и законной супругой маркиза». «Ну, — подумала Анна, — чего же еще ожидать от Генриха?» Ему нельзя допустить, чтобы женитьба Франциска бросила тень сомнения на законность его развода и брака с королевой Екатериной. Лучше оставить эту историю без комментариев. Какие это все мелочи по сравнению с тем, что ждало ее впереди. За обедом в день накануне отъезда Анны Кэтрин Бассет сказала, что между королем и Екатериной возникли трения. Анна Бассет регулярно присылала ей письма с известиями о том, как обстоят дела при дворе, и Кэтрин потчевала Анну и остальных дам тем, что узнала, хотя в основном это были малозначительные сплетни. Однако на этот раз Анна Бассет сообщала, что королева несколько дней пребывала в задумчивости, вынудив короля спросить, что ее беспокоит. — Она слышала, как королева ответила, мол, ее расстраивают слухи, что его милость собирается снова взять в жены ваше высочество, — сказала Кэтрин. Анна недовольно покачала головой: — Опять! Господи, прошу, только не это! Что сказал король? — Сказал, что она ошибочно принимает слухи за правду и если он соберется жениться еще раз, то никогда не возьмет в жены ваше высочество, потому что вы были обещаны другому мужчине. И все же, Анна пишет, многие считают, он может примириться с вами из страха, что король Франции объявит ему войну, поддавшись уговорам герцога Клеве. — Этого тоже не произойдет, — бесстрастно проговорила Анна. — Мой брат имеет самые дружественные намерения по отношению к королю. Она вздохнула. Когда только прекратятся эти глупые слухи?
Они тронулись в путь ясным июльским утром. Махая рукой из окна носилок тем, кто оставался, Анна заметила в толпе провожающих Отто: он стоял, подняв руку, со скорбным лицом. Разлука будет трудна для них обоих. Маленькая свита направилась на юг той же дорогой, что и прежде, и она привела их в поместье Чейли, принадлежавшее Анне, где они остановились на ночь. Следующую провели в Оффэме, потом перебрались в Фалмер, где Анне приглянулась старинная приходская церковь, стоящая рядом с полным уток тихим прудом. Следующую остановку сделали в Овингдине, у моря, после чего свернули на запад, чтобы посетить владения Анны в рыбацкой деревушке Брайтлемстоун и вокруг нее. Оттуда поехали дальше на запад и побывали в доме приходского священника в Какфилде, в гостинице к северу от Арундела, после чего наконец прибыли в Ньетимбер, где их радушно приняли арендаторы земель Анны, Томас Бовьер и его супруга. Бовьер оказался джентльменом во всех смыслах слова, это был уважаемый всеми в округе человек и член парламента. Через два дня Анна пожаловалась на плохое самочувствие и жар. Миссис Бовьер, женщина нервная, встревожилась, но матушка Лёве ее успокоила: — Их высочеству нужно просто отдыхать в своих покоях, пока ей не станет лучше. — Прошу простить меня за доставленные неудобства, — пробормотала Анна, прижимая руку к виску как бы для того, чтобы унять пульсирующую боль. — Вам не нужно ни о чем беспокоиться. Матушка Лёве помогла ей подняться наверх по лестнице под взглядами встревоженных арендаторов. — Не торопитесь, миледи, — приговаривала няня. — Скоро вы поправитесь. Но, разумеется, Анна не поправлялась. Матушка Лёве сказала Бовьерам, что у ее госпожи разболелись суставы и она чувствует сильную слабость. Наверное, это ревматическая лихорадка, заявила она, подхваченная во время остановки в гостинице рядом с Арунделом. Постельное белье там — она может поклясться — было влажное…
К счастью, роды прошли быстро, Анна не смогла бы сдерживать крики дольше. Подавлять стоны и так было достаточно трудно. Это случилось в конце сентября. Однажды вечером, часов после пяти, когда Анна, как все считали, отдыхала, оправляясь от долгой болезни, она родила безмолвного младенца, он выпал в подставленные руки матушки Лёве, которая сразу завернула его в пеленку. В изнеможении лежа на постели, Анна увидела, как няня покачала головой, торопливо накрыла личико краем пеленки и положила тельце на стул. — Мне очень жаль, — прошептала матушка Лёве, и ее лицо горестно сморщилось. Все напрасно, подумала Анна. Может, так и лучше. Может быть, Бог, видя ее трудное положение, вмешался и забрал ребенка к Себе, зная, что на земле ему нет места. — Кто там? — слабым голосом спросила Анна, удивляясь своей бесчувственности. — Девочка, — ответила ей матушка Лёве, возясь с последом. — Очень хорошая, только маленькая. Бедная овечка. Тут Анна заплакала: — Кажется, мне никогда не познать радости материнства! — И ничто не могло ее утешить. Она заснула в слезах и, проспав очень долго, пробудилась, чувствуя, что у нее прибавилось сил, попросила еды. Не успела матушка Лёве торопливо уйти на кухню, как Анна схватила ее за руку и сказала: — Я хочу посмотреть на нее. Где она? — Вы уверены? — спросила няня. — Воспоминание об этом не оставит вас всю жизнь. — Других воспоминаний о ней у меня не будет, — ответила Анна. — Только его я и буду хранить в душе. Матушка Лёве открыла обитый железом дорожный сундук Анны и вынула из него запертый ларчик, в котором хранились деньги и ценные вещи. — Я переложила все в сумку, — сказала няня и поставила ящичек на кровать рядом с Анной. Та села, радуясь, что не пострадала во время родов, несколько мгновений смотрела на ларчик, потом повернула ключ в замке, приподняла крышку, откинула тонкую пеленку из голландского полотна, которой был накрыт ребенок, и посмотрела на маленькое белое личико и крошечные пальчики. Дочь была ее вылитой копией, вплоть до заостренного подбородка, совсем ничего от Отто. В горле у Анны встал огромный комок, и она испугалась, что сейчас завоет от горя. Мягко погладила холодную щечку младенца, потом наклонилась поцеловать ее. Но обмерла от лицезрения смерти и не смогла взять ребенка на руки и прижать к груди. Может, она не достойна стать матерью. Но кое-что она могла сделать для своей дочери. — Я хочу, чтобы ее похоронили как полагается, — сказала Анна матушке Лёве, в последний раз взглянув на спокойное маленькое личико и решительно закрыв ларец. — Эта милая церквушка в Фалмере… — Но это очень далеко отсюда, — возразила няня. — Погода меняется, — заметила Анна. — Теперь уже не так жарко. Если мы будем держать ее в ларчике внутри сундука, с ней все будет в порядке. — Но, Анна, вы еще не оправились после родов! Вам нужно какое-то время полежать. Все думают, что вы оправляетесь от болезни. — Разве? Кому, как не вам, знать, что я рожала. Я не пострадала и чувствую в себе силы. Завтра я спущусь вниз и скажу хозяевам, что слишком долго пользовалась их гостеприимством и достаточно окрепла, чтобы уехать. Я скажу им, что мы поедем потихоньку. Матушка Лёве качала головой: — А вы подумали, что случится, когда мы доберемся до Фалмера? Как мы объясним, почему привезли с собой младенца для погребения? Анна ненадолго задумалась. — Мы можем сказать, что нашли ее умирающей, брошенной у дороги, и она отдала Богу душу, едва мы успели произнести над ней слова крещения. Я уверена, это дозволительно, если поблизости нет священника. Мы не станем говорить, что она не крещена, иначе священник похоронит ее на неосвященной земле. Я хозяйка этих поместий, едва ли он станет мне перечить. Матушка Лёве все еще выглядела неуверенной, но Анна видела, что она постепенно свыкается с мыслью. — У нас получится, — настаивала Анна. — До сих пор нам везло. Нужно только еще немного удачи. Небесам известно, в последнее время я, наверное, совершила бо́льшую часть известных человеку грехов и, делая это, без сомнения, согрешу еще, но мое дитя заслуживает достойного погребения и получит его, Бог мне свидетель. — Ее похоронят безымянной, — скорбно произнесла матушка Лёве. — Господь узнает, кто она, — отозвалась Анна.
Место было тихое и укромное, в тени старого вяза, недалеко от ворот, накрытых крышей домиком. Они стояли там с опущенными головами, две скорбные женщины, пока старый священник совершал погребальный обряд над маленьким сундучком; потом он кивнул могильщику, чтобы тот предал гроб земле. Анна чувствовала себя так, будто ее сердце хоронят вместе с этим ребенком, следом за ним отправляются все земные радости. Но она не смела выражать слишком сильные эмоции, и ей потребовалось собрать все душевные силы, чтобы сдержать рвавшиеся наружу потоки слез. Когда погребение завершилось и было произнесено последнее «аминь», Анна поблагодарила священника за помощь, оказанную ей в исполнении христианского долга, потом, призвав на помощь Небеса, отвернулась и пошла обратно к карете.
Глава 21
1541 год— Королева арестована! Королева Екатерина арестована! — Кэтрин Бассет бежала вверх по ступенькам и выкрикивала новость, размахивая письмом. У Анны, которая сидела и шила со своими дамами, слушая игру Отто на лютне, заколотилось сердце. — Нет! — воскликнула она, а в голове пронеслось отчаянное: только не Екатерина, безобидная, резвая как дитя, Екатерина, которую король обожал! — За что? Какое преступление она могла совершить? — Моя сестра в большой тревоге, — сообщила им Кэтрин. — Королеве запретили покидать ее комнаты в Хэмптон-Корте, и никто не знает, что происходит. Она призналась одной из своих дам, что до брака предавалась разным шалостям… Но разве это преступление? — Разумеется, нет, — отозвалась Анна, внутренне содрогаясь при мысли о собственных «шалостях». Она встретилась глазами с Отто; у него был такой же встревоженный вид, как у нее. Бедняжка Екатерина! В юности она была беспечна, вполне могла увлечься и сбиться с пути, и кто станет винить глупышку, что она ничего не сказала об этом королю? Анна легко могла представить, насколько подавлен Генрих открытием, что его любимая королева не так чиста, как он думал. Но арестовать ее за это? — Тут наверняка кроется что-то еще, — сказала Анна. — Будем молиться, чтобы ее признали невиновной. С вашей сестрой все в порядке? — Она в заключении вместе с королевой. Там всего несколько девушек, но ей позволено выходить и дышать воздухом. Так она сумела отправить мне это письмо. Вскоре двор Анны бурлил от всевозможных домыслов и спекуляций, все с нетерпением ждали новостей. Письмо от доктора Харста мигом выхватили у Анны, едва она успела его прочитать. Король приехал в Уайтхолл, а королеву оставил под стражей в Хэмптон-Корте. И просидел со своим Советом много часов, из чего доктор Харст заключил, что обсуждалось дело чрезвычайной важности. Он видел, что некоторые советники выходили из зала с озабоченными лицами, особенно Норфолк. Двор кишит слухами, поговаривают, что король опять поменяет королеву. «Это не пустые фантазии, — писал доктор. — Король Франции вступил в союз с германскими принцами и хочет, чтобы его величество присоединился к ним для борьбы с императором. Пришло время крепить альянс Англии с Клеве. Месье Марильяк, французский посол, надеется на примирение между вашим высочеством и королем, так как полагает, что вскоре его величество снова станет свободным мужчиной». Анна читала эти строки с великой тревогой. Харст явно принимал мнение французского посла всерьез. «Месье де Марильяк сказал, он-де слышал, будто королеву обвиняют в том, что ее развлекал некий джентльмен, пока она гостила в доме герцогини Норфолк. Он сообщил мне, что против нее затеян такой же процесс, как против королевы Анны, которой отрубили голову. Ей не позволено никаких увеселений, она не должна покидать свои покои, в то время как до сих пор только и делала, что танцевала да веселилась; теперь же, когда приходят музыканты, им говорят: время танцев прошло». Анна передала письмо дамам. Это было действительно ужасно. Едва ли она могла ясно представить себе, через какие страдания проходит сейчас бедная девочка, сидящая под стражей в Хэмптон-Корте. Но в голове возник неизбежный вопрос: если Екатерину уберут, — Анна не смела думать, что это может означать на деле, — захочет ли она сама вернуться к Генриху? И будет ли у нее выбор? Если король с Вильгельмом сойдутся в этом, места для возражений не останется. Не влюбись она так сильно в Отто, перспектива воссоединения с бывшим супругом, вероятно, не казалась бы ей столь непривлекательной, особенно если Генрих и дальше будет проявлять доброту и привязанность. Анна была вынуждена признать, что вероятность снова стать королевой немного манила ее, хотя отрешаться от столь милой сердцу свободы очень не хотелось. Не хотелось ей и становиться объектом смертоносных придворных интриг, особенно при том, какие страшные тайны ей приходилось хранить.
В Ричмонде все как будто хором затаили дыхание. Некоторые из придворных Анны уже вынесли свой вердикт: если король откажется от Кэтрин Говард, их госпожа вновь станеткоролевой. Анне приходилось повторять им снова и снова: — Мы не должны спешить с выводами. Было доставлено еще одно письмо от доктора Харста, который выуживал информацию из всех, кто с ним общался. «Месье Шапюи подозревает, что лорды из парламента отзовут аннулирование брака вашего высочества. Месье де Марильяк считает это весьма вероятным в свете того, что епископ Гардинер недавно вернулся из Германии, где, как полагают многие, мог получить новые сведения о причинах, по которым вы были разведены». Харст надеялся, что примирение Анны с Генрихом послужит поводом к заключению множества выгодных соглашений. Однако Анна не верила, что король захочет взять ее обратно, так как это не принесет ему пользы для продолжения династии, если, конечно, укрепившись в дружеских чувствах к ней, он не сподвигнется на то, к чему был не способен в период их недолгого брака.
Более шокирующие новости от большого двора попали в Ричмонд с другим письмом от Анны Бассет. Сэр Томас Риотесли собрал двор королевы Екатерины и сообщил им всем, что ее обвиняют в измене за распутное поведение и прелюбодеяние. — Прелюбодеяние? — переспросила Анна и обменялась с дамами недоумевающим взглядом. — С кем? Неужели Екатерина могла пойти на такую глупость, особенно имея в прошлом пример своей кузины? Кэтрин читала дальше: — Нам сказали, что она совершила адюльтер с Томасом Калпепером, джентльменом из личных покоев короля, находившимся в большом фаворе у его милости. Калпепер! Этот человек всегда был неприятен Анне. Явный авантюрист и беспринципный мерзавец! — Ее больше нельзя называть королевой, — вещала Кэтрин, — и она отправлена в аббатство Сион под домашний арест. Ее двор распущен. Не знаю, что скажет наша мать, когда узнает. — Чтица подняла глаза от письма, явно очень расстроенная. — Она лишится рассудка, тем более что мой отец до сих пор в Тауэре. Мать так старалась получить это место для Анны. Мадам, прошу вас, если вы увидитесь с королем, поговорите с ним об Анне и попросите его быть ей добрым господином. — Я попрошу, если увижусь с ним, Кэтрин. — Анна посмотрела на ошарашенные лица своих дам и подумала, как же глупа Екатерина, какую беду навлекла она на саму себя, на людей, которые пострадают от ее необдуманных поступков, и на Генриха. «Это сломает его», — опасалась Анна. — Она молода, — сказала Джейн Рэтси. — Не настолько, чтобы не отличать хорошего от дурного, — припечатала матушка Лёве. — И не понимать, чем рискует, — добавила Анна. — Что, если бы она забеременела от другого мужчины? В случае с Анной рождение побочного ребенка никому, кроме нее самой, не причиняло вреда, но Екатерина предала любящего мужа и рисковала поставить под сомнение чистоту крови наследников престола. Анна, по крайней мере, знала, когда сказать «больше нет», чем обрекла себя на жизнь в непосредственной близости от отвергнутого любовника, отчего оба они страдали, что было видно по печальному лицу Отто, хотя люди относили эту грусть на счет печально известной неверности его жены. Екатерина, очевидно, не обладала такой волей к самоограничению. — Не могу даже думать о том, что они с ней сделают, — мрачно сказала Фрэнсис Лилгрейв. — Неужели король подпишет ей смертный приговор? — Она совершила ужасную вещь! — фыркнула матушка Лёве. — Как он может простить ее? — Я буду молить Господа, чтобы Он подвиг короля к милосердию, — пообещала Анна. Реформисты при дворе наверняка с радостью ухватятся за этот шанс свалить Норфолка и католическую партию, и они будут травить Екатерину, как жадная до крови стая гончих собак.
Языки трещали без умолку. Слухи и домыслы о том, что Генрих возьмет назад Анну, распространялись неудержимо и при большом дворе, и в окружении самой Анны по мере того, как реформисты открыто давили на короля, чтобы тот избавился от королевы Екатерины и всей клики Говардов. И кого они вознамерились поставить вместо нее? Ту, которая, несмотря на свою католическую веру, неизбежно ассоциировалась с Реформацией, так как воплощала собой союз с германскими принцами. Анна не удивилась, получив письмо от доктора Харста, в котором тот настаивал, что ей нужно быть готовой к вызову в суд, по его мнению неизбежному. Он советовал ей на всякий случай по возможности оставаться в Ричмонде или в другом месте поближе к королю. И, кроме того, она должна выражать радость по поводу перспективы вернуться на трон. Ее брат и все в Клеве хотели бы этого. Выпучив глаза, Анна таращилась на письмо. Ее восстановление на прежнем месте означало, что Екатерина будет уничтожена. Она не могла отделаться от мыслей об ужасной судьбе, выпавшей на долю жизнерадостной молодой женщины, которая была так дружелюбна и щедра к ней прошлой зимой. Анна сожалела о беспечности Екатерины и далеко зашедших последствиях ее безрассудства, но по-прежнему испытывала симпатию к этой несчастной женщине, оказавшейся в одиночестве в Сионе, где она, наверное, мучилась неизвестностью и беспрестанно задавалась вопросом: что же с ней сделают? «Вы должны демонстрировать радость, что такая злостная измена была раскрыта», — взывал к Анне Харст. Совет мудрый, ничего не скажешь, но как могла она радоваться тому, что причиняло такую боль и страдания другим людям? Попытавшись смириться с тем, что, вероятно, уготовила ей Судьба, Анна пребывала в напряженном ожидании. Генрих вскоре мог стать свободным мужчиной, и у нее не останется иного выбора, кроме как уступить желанию Вильгельма. Совет доктора Харста не остался втуне. — Я могу только радоваться разоблачению такой гнусной измены, — сказала Анна своим придворным и дамам, когда они за обедом обсуждали скандал. — И содрогаюсь от мысли, как сильно это задевает короля. — Королева, бедняжка, дорого заплатит за это, — заметила Фрэнсис. — Его милость тоже пострадал, — напомнила ей Анна. — Он уже не молод, и здоровье у него не то. Я боюсь, ему трудно будет пережить шок от того, что любимая супруга оказалась вовсе не розой без шипов, как он полагал, и справиться с печалью от утраты надежд. — Но подумайте о том, что испытывает она, — подала голос Джейн Рэтси. — Разве это не тяжелейшее из страданий — проживать каждый день в страхе смерти? — Мы все должны проживать каждый день в страхе смерти, — мягко заметила Анна. — Никто не знает, когда его душу призовет к себе Господь. Мне жаль ее, но, каковы бы ни были мои личные чувства, я не могу смотреть сквозь пальцы на измену, и вы тоже не должны. Кто мы такие, чтобы подвергать сомнению справедливость короля? Если я снова стану королевой, чего желает мой брат, вы все от этого выиграете. — Значит, ваше высочество действительно считает, что это произойдет? — спросила Гертруда. — Мне посоветовали быть готовой к этому и ждать вызова в суд. Все уставились на нее в благоговейном страхе.
Анна ждала новостей. Короткие ноябрьские дни быстро сменяли друг друга, хмурые серые облака висели низко, словно отяжелели, напитавшись мраком, который окутал все королевство. Единственным появившимся в Ричмонде гонцом стал член Тайного совета, которого прислали с поручением забрать у Анны подаренное Екатериной кольцо. Она отдала милую вещицу, вспоминая, как импульсивно бывшая королева рассталась с ним и со щенками, которые теперь уже стали взрослыми собаками. Какое это было прекрасное время! Харст написал ей снова. Он получил сведения от доктора Олислегера, который в письме упрашивал графа Саутгемптона и архиепископа Кранмера, чтобы те настояли на восстановлении Анны на престоле. «Архиепископ — великий реформатор, — прочла она, — и активно участвовал в действиях против той, которая недавно была королевой. На него и на графа можно рассчитывать, они поддержат заключение альянса с германскими принцами. При дворе сложилось общее мнение, что его величество снова женится на вас. Почти все так думают. Я настоятельно рекомендую вашему высочеству проявлять осмотрительность и терпение». «Вы можете рассчитывать на меня в этом, — написала в ответ Анна, уверенная, что ее письмо будет перехвачено и прочитано. — Я не произнесу и слова, по которому кто-либо мог бы предположить, будто я чем-то недовольна; разве я не говорила всегда, что не желаю ничего иного, кроме того, что порадует моего владыку короля?» Всю жизнь Анну учили терпению. Подавление собственных страстей и желаний стало ее второй натурой. Мать постоянно твердила: терпение дается тем, кто отмечен особой милостью Господней, и сердцу, которое готово принять неизбежное. О, как она гордилась бы, если бы прочла восторги доктора Харста по поводу осмотрительности Анны: «Ваше высочество и весь ваш двор повели себя очень мудро. Посещавшие вас передавали мне с восхищением, как вы добродетельны, и во всеуслышание расхваливали вас. Мне радостно слышать, что вы здоровы. Люди говорят, выглядите вы даже краше, чем когда были королевой. Сказать по правде, о вас сожалеют больше, чем о покойной королеве Екатерине». Письмо Харста заставило Анну потянуться за зеркалом. Похорошела ли она в последнее время? Не было сомнений, что французские капоры шли ей больше, чем немецкие Stickelchen. Как бы там ни было, а замечание Харста придало ей уверенности. Какая ирония, если Генрих в конце концов возжелает ее, когда она уже его не хочет.
В начале декабря Харст прибыл в Ричмонд с мрачным лицом. Принимая его в гостиной, где был разожжен огонь в очаге, Анна сразу подумала, что, наверное, королеву Екатерину приговорили к смерти. — Мадам, — с тревогой в голосе обратился к ней посол, не имевший сил скрыть свое смятение, — я должен поговорить с вами о деликатном деле, которое, если к нему не отнестись со всей серьезностью, может покончить со всеми нашими планами. Анна сразу подумала об Отто и маленькой могиле в тени вяза. Если бы она не сидела в кресле, то, вероятно, свалилась бы с ног. Харст сел по другую сторону очага с таким видом, словно предпочел бы сейчас оказаться в каком-нибудь другом месте. — Повидаться со мной пришел месье Шапюи. Король уехал на охоту, и многие решили, что он прибудет сюда для встречи с вами, миледи. Однако месье Шапюи с удовольствием сообщил мне, что его величество отправился другой дорогой, и напомнил, что пока еще не обнаруживается никаких признаков желания короля взять вас обратно. Я ответил, что этого едва ли можно было ожидать, так как он все еще женат на королеве Екатерине. — Харст помолчал. — Тогда Шапюи сказал, мол, у него имеются кое-какие сведения, о которых мне следует знать, и он считает, что по дружбе и из доброго отношения ему следует оповестить меня. — По дружбе? — прервала посла Анна, едва не обезумев от дурных предчувствий. — Какая может быть дружба между Империей и Клеве, когда император угрожает нашим границам? — Ничего дружеского в его словах не было. Речь шла о замысле подорвать ваши шансы на возврат к власти, и я уверен, мадам, вы скажете мне, что его заявления были безосновательными. Анна тоже про себя молилась об этом. Ее будущее, сама жизнь, казалось, зависли над краем бездны. — Что он сказал? — Он сказал, что говорил с клерком Совета мистером Паджетом, который был когда-то вашим личным секретарем, и тот сообщил ему нечто странное: если его величество отдалился от последней королевы, так как та имела связь с другим мужчиной до брака с ним, то по справедливости мог бы сделать то же самое с леди Клевской, если слухи, блуждающие сейчас по Нижним Землям[120], верны. Анну бросило в жар. — Какие слухи? О чем он говорил? — Я понятия не имею, мадам. И так как вы явно тоже, мы должны отнестись к этому как к пустому навету. Но — простите, что я повторяюсь, мадам, — месье Шапюи сказал, мол, учитывая ваш возраст, а также любовь к вину и прочим излишествам, в это нетрудно поверить. Комната завертелась вокруг Анны, в ушах у нее застучало. Она почувствовала, что стоит на краю пропасти. Шапюи подобрался слишком близко к правде. Анна бросилась жарко защищать себя: — Я теряю достоинство? Время от времени я позволяю себе насладиться кубком вина, но предаюсь лишь невинным забавам со своим двором. Что в этом плохого? И что он имеет в виду, говоря о моем возрасте? — Мадам, — со страдальческим лицом отозвался Харст, — его намек был ясен. Он имел в виду, что вы находитесь в том возрасте, когда вполне естественно наслаждаться определенными удовольствиями, и, наверное, вы снизошли до того, чтобы оказывать милости. — Это возмутительно! — закипела Анна. — Еще более возмутительно, что мистер Паджет не отрицал этого. Как человек, работавший у вас, он находился в положении, позволявшем ему узнать правду. — Хотелось бы мне присутствовать при этом и заставить их объясниться, — сердито проговорила Анна. — Вы не защитили мою честь перед месье Шапюи? Харст ощетинился: — Конечно защитил! Я сказал, что знаю вас как добродетельную леди и что мистеру Паджету следует найти себе более достойные занятия, чем распространение злостных сплетен. — Благодарю вас, друг мой. — Анна немного успокоилась. — Невыносимо, когда люди думают или говорят обо мне такие вещи. Вы считаете, это католики при дворе пытаются таким образом убедить короля, чтобы он не брал меня обратно? — Очень похоже, — согласился Харст, тоже явно испытав облегчение. Анна мысленно похвалила себя: ловко же она отвлекла его внимание на другое, и весьма правдоподобное, объяснение. Нужно и дальше держаться той же линии. — Полагаю, месье Шапюи считает, что примирение не состоится. — Он говорит, мистер Паджет не верит, что король возьмет вас обратно или женится еще раз, если только парламент не принудит его к этому. Епископ Гардинер сам сказал мне, что король никогда не возьмет вас в жены снова. Тем не менее он, вероятно, принимает желаемое за действительное. Он помог Говардам подсунуть новую королеву королю, и ему надо думать о собственном будущем. Уверен, Гардинер всеми силами воспротивится вашему повторному замужеству. — Но у него вырваны зубы. — Анна через силу улыбнулась.
Сердце у нее продолжало стучать и после ухода доктора Харста. «Кто?» — без конца спрашивала она себя. Кто начал распускать о ней слухи — слухи, укорененные в правде? Откуда стало известно о ее тайнах? Только мать, матушка Лёве и Отто знали о существовании Иоганна, и всем им Анна безоговорочно доверяла. Как мог кто-нибудь здесь пронюхать о случившемся за глухими стенами замка в укромном уголке Германии? Но, само собой, разобраться следовало не только в этом. Болтали ли люди только о ее «снисходительности» к мужчинам вообще? Анну беспокоили слова Паджета о том, что слухи распространяются в Нижних Землях. Кто выведал ее секреты? Опять же, только матушка Лёве, Элия Тёрпен и Отто знали о ее второй беременности. Неужели Бовьеры догадались? Едва ли они рискнули бы потерять арендуемые земли, начав трепать языками. В голове у нее вертелось слишком много вопросов. В результате, пока Анна ночью ворочалась без сна в постели, ей стало очевидно, что в обоих случаях о произошедшем знали только двое — матушка Лёве и Отто. Она была уверена в присутствии Господа на небесах, а дьявола — в аду ровно так же, как в том, что дикие кони разорвали бы матушку Лёве надвое раньше, чем она сказала бы хоть слово. И невозможно было поверить в намеренное предательство Отто, разве что он сделал это случайно? Анна вспомнила: мистер Хорси жаловался, как однажды ночью, вскоре после прекращения тайных встреч Анны с ее возлюбленным, он нашел того лежащим на ступеньках лестницы в пьяном виде. Мог ли Отто сболтнуть что-нибудь, когда был нетрезв? На следующее утро Анна заспалась, так как провалиться в сон ей удалось только часам к четырем, и, когда ее одели, решила, что должна собраться с духом и послать за Отто. Она устроила так, что ее дамы присутствовали при разговоре, и удивилась: почему Джейн и Кэтрин не было с ними? — Миледи, — произнес Отто и низко поклонился, а когда он выпрямился, Анна увидела в его глазах боль утраты и томительное желание. — Вы слышали новости? — Какие новости? — Миссис Рэтси и миссис Бассет сегодня утром были вызваны предстать перед Тайным советом. — Нет! — Сердце Анны тревожно застучало. — Почему? — Не могу сказать. Никто из нас не знает. — Дамы, прошу, оставьте нас, — с трудом произнесла Анна. Женщины ушли, изумленно оглядываясь на свою госпожу. — Скоро придут за мной! — воскликнула она. Отто быстро подошел к ней и взял за руку, но Анна быстро ее отдернула. Он слушал, хмурясь все сильнее, как она изливала ему свои страхи. — Вы говорили что-нибудь? — Честно, я не помню, — признался Отто, залившись краской стыда. — Я не раз напивался до беспамятства. Если я проболтался, то мне очень, очень жаль. — Теперь уже поздно. Думаю, нас разоблачили. — Анна была в этом уверена и ничем не могла утешиться. Когда Отто попытался обнять ее и в десятый раз извиниться, она отослала его прочь.
Тянулись ли когда-нибудь часы так томительно долго? Похоже ли это чувство на то, что испытывают приговоренные к смерти в ожидании казни? Анна старалась отогнать от себя эти мысли — пыталась переключить внимание на книги, которые не могла читать, и вышивку, которую то и дело откладывала. Наконец, наконец-то! Она услышала плеск весел под окном, выглянула наружу и увидела, как на причал сходят Джейн и Кэтрин. Подхватив юбки, Анна бросилась вниз по лестнице, промчалась через арку гейтхауса и подбежала к ним. — Я так беспокоилась! — воскликнула она. — Что случилось? Почему вас вызвали отвечать перед Советом? — Из-за сплетен, — с отвращением бросила Кэтрин. — Правда, можно подумать, им больше нечем заняться. — Сплетни могут иметь огромное значение в деле королевы, — сказала Анна, исполнившись такого невероятного облегчения, что у нее даже закружилась голова. — Чего вы наболтали? — Мадам, я всего лишь рассуждала, что случится, если Господу будет угодно, чтобы вы снова стали королевой, — ответила Джейн. — А мистер Кэри подслушал нас и посчитал нужным донести, — сердито пробурчала Кэтрин. — Я просто сказала: невозможно, чтобы такой милой королевой, как вы, пренебрегли. — О Боже! — забеспокоилась Анна. — Разве вы забыли, глупые девчонки, что критиковать мой развод — это измена? — Думаю, советников сильнее раздосадовали мои слова: «Что за человек король!» — и то, что я вслух задалась вопросом: «Сколько еще у него будет жен?» Я сказала им, что это был просто досужий разговор и больше я ни разу не говорила о вашем высочестве, и вообще считаю развод короля с вами хорошим делом. Потом призналась, что сначала сожалела о расторжении вашего брака, но тогда не знала того, что знаю сейчас. — И это всё? — спросила Анна, пока они поднимались по лестнице. — Да. Они наказали нам, чтобы мы больше не сплетничали о короле, и отпустили. Какое счастье! Ее страхи оказались напрасными. Анна готова была обнять девушек и расцеловать их. Вместо этого она сказала: — Не выпить ли нам немного вина для успокоения?
На следующее утро Анна встала с намерением печь пряники к Рождеству. Она радовалась, что вчерашние допросы оказались чепухой, но не переставала тревожиться, как бы кто-нибудь еще не раскрыл ее секретов. В те дни она почти непрерывно пребывала в беспокойстве, и когда на кухню в полном отчаянии вбежала матушка Лёве со словами, что сэр Энтони Браун и сэр Ричард Рич из Тайного совета приехали с четырьмя стражниками и просят встречи с ней, Анна в ужасе подумала: этого ей не перенести. Вот и настал ее черед, как она и боялась. Дрожа от страха всем телом, Анна едва сумела произнести слова приветствия. — Простите, что беспокоим вас, миледи Анна, — спокойно сказал Браун; ни по его виду, ни по голосу не было заметно, что лорды явились арестовать ее, — но нас направили сюда взять под стражу вашу служанку Фрэнсис Лилгрейв. Ее следует препроводить в Тауэр для допроса. Анне стало дурно. Свет померк, в глазах засверкали искры. Неприятное ощущение быстро прошло, но испугало ее. Нужно собраться. Лорды пришли не за ней, а за Фрэнсис, которой ничего нет на свете милее сплетен. Не в первый раз Анна задумалась, не она ли их распустила? Но что на самом деле знала Фрэнсис? И можно ли рассчитывать, что эта женщина ее не предаст? — Что она сделала? — спросила Анна. — Она оклеветала вас, мадам, и короля тоже, — ответил сэр Ричард. Анна снова почувствовала, что близка к обмороку. — Вы знаете мистера Тавернера, клерка при печати?[121] — спросил сэр Энтони. — Это не тот ли Ричард Тавернер, который посвятил королю «Краткое изложение псалмов»? — уточнила Анна, вспоминая отправленное ей цветистое письмо с приглашением приехать в Англию. — А что? — Точно. Он тоже причастен к этому. — К чему именно? — Сердце у Анны билось так сильно, что она боялась, как бы лорды не услышали его стук. — Если моя честь задета наветами, я имею право знать, что обо мне говорят. Сэр Ричард взглянул на сэра Энтони и подал знак, чтобы тот говорил. — Несколько дней назад, мадам, до нас дошли слухи, отвратительные своей гнусной лживостью: будто бы ваше высочество произвели на свет прелестного мальчика, и этот ребенок — сын его величества, зачатый в январе, когда вы гостили в Хэмптон-Корте. Слова Брауна ошеломили Анну. Сколь близко к правде подобрались эти слухи, но подробности были совершенно неверны, их можно опровергать со спокойной совестью. Человек, распускавший эти сплетни, кто бы он ни был, тайны ее не знал. — Это грязная ложь! — заявила Анна. — И я хочу понять, кто и почему оклеветал меня. — Его величеству тоже хотелось бы это выяснить, — сказал Рич, голос его был подчеркнуто резким, и Анна затрепетала от мысли, что Генрих мог и сам задаваться вопросом: «Нет ли в этих слухах доли правды?» — Тавернер узнал эту потрясающую новость от своей тещи, миссис Ламберт, которая утверждает, что слышала сплетню от миссис Лилгрейв и старой леди Кэри. Они обсуждали это между собой и с другими, но Тавернер решил, что должен поделиться слухами с доктором Коксом, который дает советы королю по религиозным вопросам. Доктор Кокс немедленно пересказал все лорду хранителю печати[122], так это дело привлекло внимание Совета. — Лицо сэра Ричарда смягчилось. — Мадам, прошу вас, не волнуйтесь. Мы знаем, что тут нет ни слова правды, но порочить короля — это измена. Мы должны выявить источник этой гнусной клеветы и разобраться с виновным, как он того заслуживает. Не бойтесь, мы докопаемся до истины. Король не потерпит, чтобы его честь или вашу чернили. Меньше всего Анне хотелось, чтобы лорды занимались тщательными поисками виновных. Кто знает, до чего они могут докопаться? Когда вызвали Фрэнсис Лилгрейв, та впала в истерику, молила, чтобы Анна не позволяла забирать ее, но стражники увели несчастную. Эта сцена потрясла и напугала Анну. Станет ли она следующей?
Уснуть не удавалось, Анна металась в постели и перебирала в голове сумбурные мысли, пытаясь уяснить себе сказанное лордами. Отчего король, который всегда советовал ей не обращать внимания на слухи, сам воспринял их так серьезно? Генрих прекрасно знал, что никаких оснований для домыслов, будто он стал отцом ее ребенка, нет. Значит, он решил либо выяснить, откуда взялись эти слухи, либо проверить, не родила ли Анна на самом деле. Обнаружение такого проступка «любимой сестры» по меньшей мере даст королю повод освободиться от финансовых обязательств по отношению к ней. Даже если Генрих не накажет ее строже, она теперь была его подданной, а не королевой, и останется в нищете. В Клеве ей тоже путь заказан: Анна не осмелится вернуться туда опозоренная и без средств к существованию. Вильгельм-то уж точно подвергнет сестру-распутницу суровой каре. Оставалось надеяться, что Генрих просто щепетилен в отношении своей чести и хочет по справедливости воздать обидчикам. Но кто эти люди, оклеветавшие их обоих? Анна знала, что Фрэнсис и ее супруг, как искусные вышивальщики, тесно связаны с королевским двором, но что общего у Фрэнсис с Тавернером? И кто такая старая леди Кэри? Анна не знала, куда поместить ее в этой истории. Она встречала стольких людей при дворе, трудно было запомнить всех. Уаймонд Кэри не имел статуса рыцаря, значит это не может быть его жена, которая звалась бы просто миссис Кэри, к тому же Анна слышала, как сам Кэри говорил, что его мать умерла. Возможно ли, что католическая партия изо всех сил старается опорочить ее, чтобы король не сделал мнимую лютеранку Анну своей женой повторно?
Пока Анна ждала известий о Фрэнсис, в Ричмонд просочились новые слухи о преступлениях Екатерины Говард. Говорили, что до брака она имела связь с неким Фрэнсисом Деремом, а после него — с Томасом Калпепером. Обоих мужчин приговорили к смерти. Король проявил милосердие и велел казнить Калпепера путем усекновения головы, Дерему же предстояло понести полное наказание, полагающееся изменникам. Анна пришла в ужас. Что он сделал? Чем заслужил такую жестокость, кроме того, что соблазнил девицу? Но может быть, она не все знала? Ходили слухи, будто Дерем хитростью сумел добыть себе место при дворе королевы, а это само по себе уже выглядело подозрительным, учитывая их прежние отношения. Никто теперь не сомневался: Екатерину ждет смерть. Предвестием этого стали приговоры ее любовникам. Анна не могла вынести мысли, что несчастной в столь нежном возрасте суждено претерпеть такие страдания. В Лондоне объявили, что мужчин казнят девятого декабря на Тайберне. Кое-кто из придворных Анны собирался нанять барку и присутствовать на экзекуции, но утром того злосчастного дня мясник, доставивший на кухню разделанную тушу быка, сказал, что, по слухам, преступники будут казнены завтра. С чем связана отсрочка, он понятия не имел. На следующий день Анна вновь дала своим слугам разрешение отправиться на Тайберн. Они вернулись подавленные, их тошнило от увиденного зрелища, и она не стала настаивать на подробном рассказе. Легко было представить, какие ужасные страдания вынес Дерем. Ричмонд накрыло пеленой мрака. О Фрэнсис Лилгрейв не было ни слуху ни духу. Разумеется, если бы она или Тавернер сказали на допросах что-нибудь обличительное, советники со стражей уже были бы здесь, Анна и «Хвала Марии» не успела бы произнести. В тот вечер она вновь содрогнулась от недобрых предчувствий: неожиданно прибыли Браун и Рич, однако вооруженных гвардейцев с ними не было. Анна предложила гостям сесть и приказала подать вина; ей и самой нужно было выпить. — Благодарю вас, миледи, — сказал сэр Энтони. Из них двоих он был куда более приятным человеком. Сэр Ричард напоминал Анне змею. Ей не нравились его резкие манеры и то, как въедливо он смотрел на нее, будто взвешивал в уме правдивость каждого сказанного ею слова, хотя, может быть, это неспокойная совесть заставляла ее так думать. А вот сэр Энтони проявлял сердечность; Анне он всегда был по душе. — Мы приехали сказать вам, мадам, что его величество считает необходимым тщательно разобраться с этой омерзительной клеветой. Сожалею, но я должен задать вам деликатный вопрос, так как король повелел мне спросить, не случилось ли так, что ваше высочество действительно произвели на свет ребенка? Анна такого не ожидала. Она почувствовала, как щеки у нее заливаются краской. — Я удивлена, что его величество задает такой вопрос. Достаточно плохо уже то, что одна из моих служанок распространяла эту гнусную сплетню, так теперь еще ложь принимают за правду. Разумеется, у меня не было никакого ребенка. Пришлось солгать, но выбора у нее не было. После ужасного приговора, вынесенного Фрэнсису Дерему за недостойное поведение вне брака, ради личной безопасности она пойдет даже на клятвопреступление. Последовала пауза. Внутри у Анны нарастала паника. Что им известно? Тишину нарушил сэр Ричард. — У Тавернера проблемы, потому что в разговоре со своей женой и Фрэнсис Лилгрейв он назвал измену королевы судом Божьим, так как вы, миледи, оставались супругой короля и прошлым летом уехали подальше от Лондона, будучи в положении, и находились там безвыездно. Должен сказать вам, мадам, слухи об этом циркулировали весьма широко. Анна была на грани катастрофы. Кто-то знал ее секрет. Кто-то сказал Фрэнсис Лилгрейв. Но неужели у Совета есть доказательства, что это правда? — И это еще один злостный поклеп, — заявила она, глядя прямо в глаза дознавателям. — Вы, господа, как и все остальные, видели, сколь сильно любил король Екатерину Говард. Предположение, что в то время он мог иметь интимные отношения со мной, в высшей степени неправдоподобно. Вам самим должно быть ясно, как безосновательны эти наветы. — Нас больше заботит, откуда они взялись, мадам, — сказал сэр Ричард, — но, прежде чем мы обвиним Лилгрейв и Тавернера в изменнической клевете на его величество, нам нужно установить, что в их словах не было правды. — Разумеется, — согласилась Анна, и страх немного ослабил хватку. — Я это понимаю. Но для меня шок — слышать, что обо мне говорят такие гнусные вещи и о его милости тоже. — Тавернера отправили в Тауэр вместе с Лилгрейв и его тещей, которая сущий дьявол. Она с особым удовольствием распускала сплетни, но, кажется, первой начала болтать языком Лилгрейв. Это было слишком близко к правде. Как тут сохранять спокойствие! Если источник слухов — кто-то из приближенных Анны, людей, находившихся рядом с ней и имевших шанс узнать ее тайну, в сплетню с большей готовностью поверят. — А кто такая леди Кэри? — спросила Анна. — Ее имя ничего для меня не значит. Ответил сэр Энтони: — Она вдова изменника сэра Николаса Кэри, и, уверяю вас, мадам, для нее ваше имя значит очень много. Не по своей воле, но вы теперь владеете ее бывшим домом в Блетчингли. Так что у нее есть мотив оклеветать вас. Когда ее супруг был лишен имущества и его собственность перешла к Короне, леди Кэри с детьми и свекровью нашла прибежище в Уоллингтоне — одном из менее значительных мужниных поместий, которое король по милости своей позволил ей сохранить. Родные миссис Ламберт живут неподалеку, и семьи поддерживают знакомство. Но сплетню леди Кэри разболтала именно Лилгрейв. А та отказывается раскрыть, кто источник этих сведений. Тавернера обвиняют только в их сокрытии. Ему повезло, что его не обвинили в измене за высказывания в поддержку брака Анны. Но все-таки молчал он недолго, слухи распускал. Раз с ним поступили так сурово за столь незначительный проступок, то что сделают с ней, Анной, если правда выйдет наружу? И почему Фрэнсис отказывается говорить, кто сообщил ей сплетню? Она кого-то покрывает? Если так, то кого? — Мы будем вызывать для допроса ваших слуг, мадам, и хотели бы, чтобы сейчас с нами ко двору поехала миссис Рэтси, — сказал сэр Ричард. Анна с тревогой задумалась, известно ли что-нибудь Джейн и другим ее придворным? Не Джейн ли поделилась открытием с Фрэнсис Лилгрейв? Потом, отбрасывая страхи, она резко заявила: — Какая нелепость! Все это просто досужие разговоры. — Его величество думает иначе, — строго сказал сэр Ричард, — и если вы, мадам, не против того, чтобы вашу честь пятнали грязью, то он против! Уязвленная этим выпадом, Анна гневно взглянула на него и вызвала Джейн Рэтси, которая явилась испуганная и бросилась в слезы, когда ей сказали, что она должна поехать с советниками. Всхлипывающую женщину увели из приемного зала, и Анна осталась наедине со своими тревожными мыслями.
Естественно, визиты лордов Тайного совета и отсутствие Джейн Рэтси возбудили массу разговоров при дворе Анны. Два скандала в королевском кругу за несколько недель! Все находились в возбужденном ожидании, некоторые опасались, как бы не настал их черед отправиться на допрос. На следующий день к Анне явился сэр Уильям Горинг и сообщил, что получил официальное письмо с приказанием ему самому, мистеру Хорси и милой, безобидной Дороти Уингфилд, камеристке из ее покоев, предстать перед Тайным советом. Анна знала эту девушку как приспешницу болтливой Фрэнсис и задумалась: неужели Джейн упомянула ее на допросе? При виде испуга Дороти, услышавшей, что ей придется отвечать на вопросы лордов, у Анны болезненно сжалось сердце. Все валилось из рук. Как тут готовиться к Рождеству, когда над тобой нависала такая гроза? Но все же, если она хотела изобразить из себя невинность, надо не показывать виду, что расследование клеветы хоть сколько-то взволновало ее. Призвав на помощь все душевные силы, Анна начала составлять список подарков, которые нужно купить, и блюд для праздничного стола. В этом году ко двору она не поедет, и король, разумеется, не станет устраивать развлечений. Каждый день Анна ждала новостей, с трудом сдерживая внутренний трепет, чтобы он не прорвался наружу. Придворные продолжали восторженно надеяться, что король возьмет ее обратно, но саму Анну больше тревожило длительное отсутствие Фрэнсис и Джейн. Остальные вернулись, сообщив ей, что ничем не смогли помочь лордам. Советники почти ничего им не сказали, только сэру Уильяму дали понять, что Джейн призналась: слухи доходили и до нее, но добавить что-либо отказалась. — Я сказал им, что и того не знал, — делился впечатлениями камергер. — Тем не менее лорд-канцлер оставил Джейн под стражей, так как лорды явно думают, что ей известно больше, чем она открыла. «Но откуда ей знать?» — про себя удивлялась Анна.
Через день в Ричмонд приехал доктор Харст. Анна решила, что он явился обсуждать с ней наветы, но вскоре выяснилось: посол ничего об этом не знает. Он вообще был необычайно словоохотлив и полон планов. — Мадам, сегодня утром я получил верительные грамоты от вашего брата герцога и письмо от доктора Олислегера к милорду Кентерберийскому. Теперь я наделен полномочиями искать примирения между вашим высочеством и королем. Я уже встретился с милордом Саутгемптоном и спросил, могу ли заявить о своем поручении Совету и ждать ответа короля? Но мне хотелось поделиться с вашей милостью добрыми вестями, прежде чем действовать дальше. Теперь, когда момент настал, Анна содрогнулась от мысли о примирении с королем. Мало того что это выглядело предательством ее любви к Отто, она предвидела для себя участь Екатерины Говард. Но все-таки маловероятно, чтобы Генрих думал о восстановлении их отношений, когда расследуется эта история с клеветой. Анна слегка утешилась этим соображением и спросила: — Что ответил граф Саутгемптон? — Он взялся показать мою верительную грамоту королю. Сегодня вечером я еду в Ламбет для встречи с архиепископом. Граф держится реформистских убеждений и, по-моему, будет сторонником примирения. — Вы дадите мне знать, каков его ответ? — бесстрастно спросила Анна. Харст как будто слегка обиделся. — Мадам, позвольте заметить, вы могли бы иметь немного более радостный вид в свете знаменательных перемен, которые приготовила вам судьба. — Я бы могла радоваться, доктор Харст, но меня кое-что глубоко тревожит. Король приказал Совету расследовать клеветнические слухи, будто я родила от него ребенка. Две мои придворные дамы в тюрьме. Одна из них первой распространила сплетню, но не называет источника. Это меня сильно расстраивает, да еще ужасное дело королевы… Хуже всего, что в какой-то момент Совет и, вероятно, даже сам король уверились, что в этих слухах есть доля правды. Глаза Харста недоуменно расширились. — Вы, конечно, опровергли навет. — Разумеется. Думаю, их больше заботит обнаружение источника сплетни. — Я уверен в этом. Но прошу вас, не позволяйте злонамеренным действиям завистников нарушать ваш покой, мадам. Думайте о том прекрасном шансе, который вам выпал. — Да, доктор Харст, — пообещала Анна, выдавив из себя улыбку. — Я буду о нем думать.
На следующий день Харст, как и обещал, написал ей, однако все обернулось наперекор его надеждам. Архиепископ Кранмер поговорил с королем, и тот попросил его твердо заявить доктору Харсту, что ни о каком примирении не может быть и речи. «Он считает весьма странным, что доктор Олислегер ратует за примирение в отношении брака, который был по справедливости расторгнут», — писал Харст. Анна легко могла представить, как удручен посол. Она обиделась, что Генрих столь категорично отверг ее, и с тревогой размышляла: неужели причина в том, что он питает сомнения по поводу моральных качеств своей бывшей супруги? Харст попытался встретиться с королем лично, но ему сказали, что его величество слишком угнетен предательством королевы и никого не принимает. Тогда Харст обратился к месье де Марильяку в надежде, что француз поддержит восстановление Анны в качестве королевы. Марильяк охотно согласился помочь, но посоветовал отложить это дело до того момента, когда станет ясно, что ждет королеву Екатерину. После этого неуемный посол предстал перед Советом, передал лордам благодарность герцога Вильгельма за великодушие короля по отношению к его сестре и попросил их изыскать какие-нибудь средства, чтобы оказать воздействие на примирение бывших супругов и возвращение Анны на место королевы. «С сожалением сообщаю вам, — писал Харст, — что они от имени короля ответили: его величество считает вас щедро обеспеченной всем необходимым, просит напомнить мне, что аннулирование брака было произведено на неопровержимых основаниях, и заклинает герцога никогда больше не обращаться к нему с такими требованиями». Анне стало до боли ясно, что посол герцогства Клеве имеет очень мало влияния при дворе и Генрих никогда не возьмет ее обратно. Было отчасти грустно понимать, что в короле так и не пробудилась любовь к ней, но другая часть ее существа испытывала огромное облегчение. А вот доктор Харст тяжело переживал свое поражение: «Я больше ничего не могу сделать, мадам. Я здесь не угоден, и никто не придает моим словам никакого значения. Если я понадоблюсь вам или герцогу, вы найдете меня в гостинице „Бель саваж“ на Ладгейт-Хилл, где я теперь обретаюсь. В моем пребывании при дворе больше нет смысла». Анне было жаль Харста. Он так старался ради нее, так защищал ее интересы. Не его вина, что Генрих с самого начала отнесся к нему с предубеждением, и советники мало считались с ним. Отныне ей, видимо, придется биться за себя самостоятельно.
Глава 22
1542 годОни очень постарались провести Рождество весело, но для Анны праздничная пора прошла под сенью тревоги: что принесет ей новый, 1542 год? Она отправила в подарок Генриху отрез алой ткани и вздохнула с облегчением, получив ответные дары. Увидев изящные стеклянные чаши и бутыли, которые выбрал для нее король, Анна ахнула от восторга; сама-то она едва ли рассчитывала получить что-нибудь. Через несколько дней после Двенадцатой ночи ее удивил сэр Уильям Горинг. Стоя на полу на коленях, Анна возилась с собаками; тот вошел к ней и сказал необычно для себя взволнованно: — Мадам, мне только что сообщили из Тайного совета. Вам будет приятно узнать, миссис Лилгрейв наконец-то призналась, что оклеветала вас и затронула клеветой персону короля. Она утверждает, будто слышала разговоры других женщин, которых отказалась назвать, но я думаю, она лжет. Так как Фрэнсис призналась в преступлении, Совет публично опроверг слухи, заявив, что король не вел себя по отношению к вам как супруг и ваш отъезд в деревню не связан с рождением ему сына. Облегчение было невероятное, но все же Анна злилась, что Фрэнсис так долго тянула с признанием и заставила ее много недель волноваться. Сама Анна сомневалась в лживости слов своей служанки и опасалась, что языком болтал кто-нибудь еще. Неприятно было сознавать, что ей, вероятно, никогда не узнать, кто именно. Спрашивать саму Фрэнсис нельзя, вдруг та угадает правду? Анна будет вынуждена без конца присматриваться ко всем окружающим и задаваться вопросом: это вы — сплетник? — Что с ней будет? — спросила Анна сэра Уильяма. — Она останется в Тауэре, и Тавернер тоже, за укрывательство клеветников. Полагаю, их продержат под стражей какое-то время, дабы преподать обоим хороший урок.
Позже в том же месяце явились подтверждения неизменного благоволения короля к Анне: ей были дарованы поместья в Беркшире и Йоркшире. Она задумалась, не являлось ли это компенсацией за то, что Генрих поверил навету? Как же ей повезло! — ликовала она про себя, все еще не в силах поверить, что страшная угроза разоблачения миновала и ей удалось избежать наказания. Анна молилась, чтобы Судьба оказалась такой же благосклонной к Екатерине Говард, о которой ничего не было слышно уже несколько недель. Придворные обрадовались, когда им сообщили о подарке короля, и, вполне предсказуемо, увидели в этом знак, что он может взять их госпожу назад. Та только улыбнулась про себя. Скоро они поймут, что этому не бывать.
На второй неделе февраля Уаймонд Кэри, как обычно, отправился по делам ко двору, а когда вернулся, не снимая накидки, слегка запыхавшийся вошел к Анне, которая как раз собиралась садиться за ужин, и мрачно сказал: — Сегодня утром казнили королеву. И леди Рочфорд за содействие измене. Анна перекрестилась. Хотя она ожидала подобных новостей, все равно ужаснулась. Бедная Екатерина. Да, та вела себя глупо и была неверна, но наказание понесла жестокое, как и леди Рочфорд. Анна не подозревала, что эта женщина, всегда вызывавшая у нее неприязнь, тоже вовлечена в любовные похождения королевы, но такой участи в любом случае не пожелала бы ей. — Да упокоит Господь их души! — прошептала Анна. — Вы не знаете, как король воспринял это? — По слухам, он сильно постарел, поседел и пока слышать не хочет о поиске другой королевы, хотя министры умоляют его и всеми силами подталкивают к новой женитьбе. Говорят, он стал очень тучным и толстеет день ото дня, тем не менее многие считают, что король недолго останется холостым, так как испытывает сильное желание иметь больше детей. — Без сомнения, найдутся люди, которые начнут спекулировать на тему, что меня могут вернуть на прежнее место, — со вздохом проговорила Анна. — Конечно, но пока нет никаких признаков этого. Явился паж. — Мадам, пришло письмо от доктора Харста. — Он с поклоном передал ей пакет. — Спасибо, что сообщили мне новости, мистер Кэри, хотя и неприятные для меня, — сказала Анна, надеясь, что он поймет намек и удалится, давей возможность вскрыть письмо. Кэри устремил на него пристальный взгляд. — Надеюсь, позже я увижу его, мадам. Не будь Анна так шокирована известием о смерти Екатерины Говард, она дала бы ему язвительный ответ, но сейчас не стала. Сев за стол, Анна сломала печать. Никаких вестей от Харста она не ждала, а значит, в его послании содержалось нечто крайне важное. Читая о надеждах посла на ее примирение с королем, Анна удивленно приподняла брови. Харст получил множество писем от германских принцев с заверениями, что они уговаривают Генриха восстановить ее на прежнем месте, и он, Харст, ждет только сообщения от месье де Марильяка, что король Франциск тоже поддерживает эту идею, прежде чем передаст их королю. С неким ликованием Харст добавлял, что месье Шапюи сильно тревожит перспектива вступления Англии в союз с Францией и Клеве одновременно. Добрый доктор строил воздушные замки. Честно говоря, Анне хотелось, чтобы ее оставили в покое. Она не желала возвращаться на королевский трон, особенно после того, что случилось с Екатериной Говард, или становиться вновь женой раньше времени постаревшего мужчины, не отличавшегося крепким здоровьем, хотя и была привязана к Генриху. Кому нужна корона такой ценой!
В середине марта Анна заболела. Началось все с простого озноба, но вскоре ей пришлось лечь в постель: появились рвота, головная боль, горечь во рту, приступы болезненного сердцебиения и мучительная жажда. Странно, но на следующий день она чувствовала себя уже достаточно хорошо, чтобы встать с постели, однако через два дня те же симптомы вернулись. — Это трехдневная малярия, миледи, — заявил доктор Сефер, поднимая вверх мензурку и разглядывая мочу пациентки. — Ее называют так, потому что она протекает трехдневными циклами. Мне говорили, эта болезнь обычна для южных областей Англии. — Какая жалость! — простонала Анна, измученная до того, что у нее едва хватало сил дойти до уборной. — Отдыхайте и держите себя в тепле, мадам. Все пройдет через несколько дней. — Еще не скоро. — Больная слабо улыбнулась. Доктор Сефер повернулся к матушке Лёве: — Накройте поплотнее ее высочество, пусть она пропотеет, и обильно поите поссетом через гусиное перо, если у вас оно есть. — Есть. — Матушка Лёве кивнула. — А что такое поссет? — Горячее молоко, в равных частях смешанное с элем. Первейшее средство от лихорадок. — Хорошо, доктор, — ответила няня и торопливо подошла к окну, чтобы достать из сундука несколько одеял. Анна встревожилась, когда на следующее утро к ней в комнату вошла матушка Лёве и сказала, что приехали сэр Энтони Браун и сэр Энтони Денни, глава Тайного совета, но успокоилась и была тронута, узнав о цели их визита: оказалось, их прислал король справиться о ее здоровье. — Они говорят, его милость предлагает вам воспользоваться услугами его личных врачей. Какую доброту проявил Генрих, не забыв о ней, когда сам, судя по всему, находился в весьма печальном расположении духа! — Это очень приятно, но доктор Сефер вполне компетентен, и ему может не понравиться, если я позову других врачей. Но прошу вас, скажите, что я глубоко признательна его величеству за заботу и обязательно приглашу его докторов, если потребуется. Поправлялась Анна медленно. Прошла Пасха, деревья усыпало апрельским цветом, будто снегом, но Анна продолжала недужить, хотя и не настолько сильно, чтобы оставаться в постели. Навестить ее приехала герцогиня Саффолк, она привезла весенние цветы и сласти. По предложению гостьи, Анна отправила письмо доктору Баттсу, королевскому врачу, с вопросом о здоровье его величества и просьбой прислать несколько колец, которые его милость самолично освятил на Страстную пятницу, — считалось, что они помогают от спазмов, конвульсий и приступов боли. Кольца немедленно доставили, но от Генриха не было ни слова, ни строчки письма, что разочаровало и огорчило Анну. Она вызвала Уаймонда Кэри и приказала ему написать от ее имени кому-нибудь из членов Тайного совета. — Я не знаю, к кому лучше обратиться, но полагаюсь в этом на вас. Прошу, скажите, что я сильно опечалена, потому что не получила ответа от его милости на свой скромный вопрос о его здоровье. Меня беспокоит, что он был оставлен без внимания, так как я боюсь, не означает ли это, что его величество нездоров. — Король в последнее время сильно не в духе, — сказал ей Кэри. — Не принимайте его молчание за признак неблагополучия. Хотя я, конечно, напишу. Сэр Джон Гейтс — подходящий человек; он сделает, что нужно. И я попрошу своего шурина сэра Энтони Денни, чтобы тот сообщил ему о ваших тревогах за короля. — Вы очень отзывчивы, — сказала Анна, подметив, что с недавних пор Кэри подобрел к ней. Может, из-за ее болезни? — Милосердие обязывает меня утешать безутешных, — мягко ответил он, — и особенно вас, миледи. И Кэри ушел, оставив Анну в удивлении: оказывается, и в нем есть проблески человечности, а она об этом даже не догадывалась.
Через несколько дней Анне стало лучше, и она решила, что пора сменить обстановку. Вскоре вместе с двором она уже ехала в замок Хивер, где надеялась окончательно поправить здоровье в безмятежной атмосфере сельского Кента. Постепенно к ней возвращались силы; Анна совершала обязательные ежедневные прогулки по саду и предавалась послеобеденному отдыху. Однажды утром в конце апреля в гостиную быстрым шагом вошел Джон Бекинсейл и сообщил о прибытии визитеров. — Вниз по холму скачет группа всадников, мадам. «Только бы это были не члены Тайного совета!» — взмолилась Анна. Тут без всяких церемоний в комнату влетел Франц фон Вальдек. — Мадам, это король! Король здесь! — О, сохрани нас Небо! — воскликнула матушка Лёве. Анна же возликовала. Генрих приехал, не отверг ее доброту. Она заторопилась во двор, и там был король, одетый в костюм для охоты; он тяжело спускался с коня. — Моя дорогая сестра Анна! — воскликнул Генрих, когда она присела в реверансе. Он поднял ее и поцеловал в губы. Анна с грустью отметила, как изменился ее бывший супруг. Недавняя трагедия превратила его в старика. — Какая радость видеть вас, ваше величество! — сказала она ему. — Надеюсь, вы в добром здравии. — Держусь, — ответил он, снимая перчатки. — Я рад видеть, что вы поправились. — Да, сир, мне намного лучше, — подтвердила Анна, отступая в сторонку, чтобы пропустить короля вперед, и он первым вошел в замок. Генрих оглядывал двор — место, которое когда-то было ему очень хорошо знакомо. Этот дом, должно быть, хранил для него много воспоминаний. — Я приехал к вам от милорда Саффолка, из Бекингема, — сказал король, когда они вошли в холл. — Он великолепно принимал меня. — Увы, сир, боюсь, я не готова и не могу предоставить вам никаких королевских развлечений. Но если вы позволите мне отлучиться и переговорить с управляющим, то я позабочусь о том, чтобы вас угостили на славу. — Анна, я не хочу доставлять вам хлопот. Немного вина или доброго английского эля будет вполне достаточно. Она приказала подать напитки, и они с Генрихом уселись в гостиной. — Доктор Баттс прописал вам пластырь, — сказал Генрих и вынул из дублета небольшой пакет. — Он говорит, это средство, сделанное из льняного семени, иссопа и ромашки, успокоит и облегчит приступы, если они у вас продолжаются. А еще оно помогает от болей и катаров, возникающих из-за пребывания на холоде или на сквозняке. — Генрих увлекался изготовлением лекарств и даже изобрел несколько своих собственных. Анна удивлялась его глубоким познаниям в медицинских вопросах. — Льняное семя хорошо помогает при воспалениях, — добавил король. Когда она брала у него пакет, он сжал ее руку. Глаза их на мгновение встретились. — Я беспокоился за вас, Анна, — сказал Генрих. — Я получил ваше послание, но в последнее время был не расположен встречаться с людьми. Это недавнее несчастье с королевой очень опечалило меня. Вы знаете, как сильно я ее любил. — В глазах короля стояли слезы. — Мне было достаточно знать, что вам не грозит никакая опасность. Я не мог принять вашего сочувствия. На этот раз к его руке потянулась Анна. — Не понимаю, как она могла предать вас, зная, сколь сильна ваша любовь к ней. — Я и сам задавался этим вопросом. — Генрих вздохнул. — Правда в том, что я стар и тучен и у меня больная нога. Я не мог дать ей того, на что способен молодой мужчина. Тем не менее она поклялась мне в верности и была обязана любить и почитать меня не только как своего мужа, но и как короля. Измену ничем не оправдать, и попустительствовать ей нельзя. Эта женщина получила по заслугам. Но, Анна, я скучаю по ней… — Конечно скучаете. Это вполне естественно. Со временем вам станет легче. — Самое трудное — дожить до этого момента, — заметил Генрих. — Я знаю, — сочувственно проговорила Анна. Король откашлялся и огляделся. — Анна, я вижу, каким уютным вы сделали этот дом. Эти яркие вышивки, вазы с сухими цветами, расписной экран у очага — вы оставили везде свой след. — Подушки я вышивала сама, — гордо сказала ему она. — Хотите, ваша милость, я покажу вам дом? — Ничто не доставит мне большего удовольствия, — ответил Генрих и поднялся на ноги. Слишком поздно хозяйка вспомнила, что портрет Анны Болейн так и висит в длинной галерее. Пока они поднимались по лестнице, она отчаянно пыталась придумать, чем оправдать его присутствие там. До сих пор Генрих и словом не обмолвился о том, что раньше бывал в Хивере, или о Болейнах, безмолвное присутствие которых в доме оставалось под покровом общего молчания. В конце галереи король остановился немного отдышаться, залитый солнечным светом, падавшим из окна с гербовыми стеклами. Анна ждала, пока король рассматривал портрет Вильгельма работы французского художника Клуэ, который повесили тут по ее распоряжению; брат выглядел на нем гораздо более красивым и веселым, чем был на самом деле. — Я рад, что дружеские чувства между мной и герцогом не ослабли, — сказал Генрих. — У него больше здравомыслия, чем у курфюрста и его друзей! Они пошли дальше, посмотрели на портрет матери, с торжественным видом преклонившей колени перед Святой Девой, и Эразма, лукаво улыбавшегося с миниатюры, когда-то принадлежавшей отцу Анны. — Мой батюшка полностью принимал учение Эразма, — сказала Анна. — У нас с вашим отцом много общего. Я тоже восхищался Эразмом. Увы, все эти высокие идеалы, которые мы разделяли, разметало религиозными распрями. Теперь люди считают, быть гуманистом равносильно тому, чтобы быть еретиком. Они приближались к другому концу галереи, где висел злополучный портрет. Анна ощутила, как Генрих замер рядом с ней. — Я думал, это убрали, — коротко заметил он, чем дал Анне прекрасный предлог для отговорок. — Я тоже, сир. Я не знала, что с ним делать, ведь это собственность Короны, а потому оставила его здесь. Хотела спросить, как вам угодно с ним поступить. — Снимите его и уберите куда-нибудь. Ни к чему, чтобы эта ведьма таращилась на вас. — Я прикажу. Пойдемте вниз? Я чувствую какой-то вкусный запах. Думаю, вашей милости понравится. Его милости понравилось. Он в конце концов остался обедать, хорошее настроение вернулось к нему, и уехал король только ближе к вечеру в расположенный неподалеку Пенсхерст-Плейс, где должен был провести ночь. — Пенсхерст — прекрасный дом, Анна, — сказал он, целуя ее перед расставанием. — Вы должны навестить меня там, и я покажу вам его. А теперь прощайте! — Пожав ей напоследок руку, король не без труда взобрался на коня, развернул его и отсалютовал.
Глава 23
1543 годАнна сидела у себя в кабинете в Ричмонде и писала письма, когда раздался стук в дверь и в комнату просунул голову Уаймонд Кэри: — Простите меня, мадам, но внизу ждет гонец от короля, он приехал сказать, что его величество ненадолго остановится в Хэмптон-Корте и хочет, чтобы вы составили ему там компанию. Анна встала. Она не видела Генриха уже несколько месяцев, а потому была рада приглашению. Домыслы своих дам, мол, тут может быть какой-нибудь скрытый подтекст, Анна отвергла. — После смерти королевы прошло больше года, — напомнила ей Гертруда. — Его милость, вероятно, ищет себе новую жену. — Ерунда! — откликнулась Анна, подумав про себя, что мужская немощь Генриха может послужить препятствием к очередному браку. Дамы проигнорировали ее реакцию, увлекшись выбором для госпожи самого подходящего платья.
Анна забыла, как огромен, шумен и многолюден большой двор. Ей отвели просторные и комфортабельные апартаменты в Часовом дворе, но располагались они на первом этаже, и мимо окон все время ходили люди. Она поймала себя на том, что скучает по мирной атмосфере Ричмонда и Хивера, но, несмотря на это, хотела увидеть Генриха и, конечно, не могла уехать, раз уж он сам послал за ней. При дворе не было женщин, поскольку не имелось королевы, которой они могли бы служить. Анна привезла с собой матушку Лёве и Кэтрин Бассет, которая умолила госпожу взять ее с собой. Анна и Кэтрин вызывали некий интерес у мужчин, когда гуляли по саду, наблюдали за игрой в теннис или шары, по крайней мере до тех пор, пока джентльмены не узнавали Анну, а тогда они быстро отводили глаза. Она удивилась: неужели ее до сих пор считают неприкосновенной или люди думают, что Анна может скоро снова стать их королевой? Просветил ее французский посол месье де Марильяк. Стоя рядом с ней, увлеченно следившей за состязанием стрелков из лука, он в весьма любезных выражениях заверил Анну, что его повелитель является ей другом, особенно в свете затруднений, возникших у ее брата с императором. Она не знала, можно ли доверять галльским чарам Марильяка, и не могла решить, нравится ей его смуглое лицо или отталкивает, однако потеплела к нему. — Леди Мария была при дворе два месяца назад, — сказал Анне Марильяк. — Почти все придворные джентльмены собрались приветствовать ее, и король тоже вышел ей навстречу, когда она вступила в парк, и принял ее с большой любовью. Анна ощутила болезненный укол сожаления, что Генрих не оказал такой же чести ей. Марильяк внимательно наблюдал за своей собеседницей. Среди группы зрителей, стоявших напротив, Анна увидела его соперника Шапюи. Тот тоже следил за ней, но в менее дружелюбной манере. — Многие держатся мнения, что король подумывает о новой женитьбе, — сказал Марильяк. — Ваше высочество, вероятно, не знает, что в течение последних месяцев посол вашего брата три или четыре раза появлялся при дворе, где его не видели много месяцев, и в последний раз он прибыл по вызову короля. — Француз выдержал паузу, давая Анне время осмыслить его слова. Сама она уже больше года не видела доктора Харста и не получала от него никаких вестей. Это укрепило Анну в мыслях, что идея о ее новом замужестве с королем давно забыта. И вдруг выясняется, что Марильяк, человек прекрасно информированный, считает эту возможность вполне реальной. — Может быть, мой брат просил помощи у Англии против императора. — Это вероятно, мадам. Тем не менее многие считают, что встреча короля с послом Клеве имеет отношение к вам. — Что ж, месье, я впервые об этом слышу. — Странно вот что, мадам: когда я спросил кое-кого из советников, что делает при дворе посол вашего брата, мне сказали, что он не посол, а ваш представитель, который прибыл, дабы помочь вам уладить какие-то личные дела. Анна удивилась: что за игра велась за закрытыми дверями зала Совета? — Для меня это новость. Я бы, скорее, решила, что они говорили о содействии Клеве. С прошлого октября, как вы знаете, мой брат сильно нуждается в помощи короля Генриха. Анна провела в тревоге не один месяц, после того как узнала, что император разбил войска Вильгельма и наконец захватил вожделенный Гелдерн. Союзник Вильгельма, король Франциск, не смог прийти на подмогу, потому что сражался с армией императора в Италии. Анна боялась за родных и за своего сына. Что, если император не удовольствуется Гелдерном? — Будем надеяться, король Генрих сможет послать помощь, миледи. Это весьма благородно с вашей стороны — ставить интересы брата выше своих собственных. — Интересы моего брата — мои интересы, — ответила Анна. — Они для меня важнее всех прочих соображений.
На третий день визита Анны ко двору Генрих послал за ней и принял ее в своей личной галерее. День был дождливый, они некоторое время походили взад-вперед, Анна опиралась на руку короля. — Простите, что не смог встретиться с вами раньше. Меня осаждали дела и просители. От них никогда не отделаться. — Генрих печально улыбнулся. — И у меня болела голова. — Надеюсь, вам теперь лучше. — Намного. Всему виной внимательное чтение официальных бумаг. Приходится засиживаться допоздна, а я теперь уже не так хорошо вижу при свете свечей, как раньше. — Может быть, вашей милости нужны новые очки, — предположила Анна. — Это ослабит головные боли. — Я подумаю об этом. — Кажется, ваша милость чувствует себя бодрее, чем при последней нашей встрече. Генрих усмехнулся: — Намного бодрее. И я выдам вам секрет, зная, что могу на вас положиться и вы его сохраните. Есть одна дама… — Он выжидательно смотрел на Анну. — Я так рада за вашу милость! — с абсолютной искренностью ответила та. — Могу я спросить, кто она? — Леди Латимер. Думаю, вы с ней не знакомы. Она редко бывает при дворе. Анна постаралась не выдать своего смятения. Ей была известна леди Латимер, которая приходилась сестрой миссис Герберт, одной из ее прежних фрейлин. Внутри вспыхнуло возмущение. До сих пор Анна не осознавала, насколько сильно манила ее идея снова стать королевой, вопреки всему, что являла реальность. Ей было лестно знать, что люди все еще надеются на ее восстановление на троне. Теперь, поняв, что король обратил взор на женщину невысокого ранга, сестра которой когда-то находилась у нее в услужении, Анна почувствовала себя униженной. Кэтрин Говард, по крайней мере, происходила из старинного дворянского рода! — Ее брат — начальник моего почетного эскорта, — говорил меж тем Генрих. — Она навещает его время от времени и иногда исполняет обязанности придворной дамы при леди Марии. В январе она приезжала вместе с Марией ко двору, и тогда я увидел в ней то, что смогу полюбить. Но ее муж умер совсем недавно, так что пока мне нужно проявлять осторожность. — И она отвечает на чувства вашей милости? — Анна аккуратно подбирала слова. Судя по всему, эта вдовушка могла быть любовницей Генриха, хотя, учитывая необъятные размеры Генриха и его растущую немощь, которая сегодня поразила ее после долгой разлуки, Анна сомневалась, что он чем-то способен заинтересовать женщину в постели. — Мне хочется так думать, — ответил он. — Она любила своего мужа, хотя тот долго болел, так что ей приходилось быть скорее сиделкой, чем женой. Я даю ей время на траур. — Надеюсь, ваша милость обретет истинное счастье, — выдавила из себя Анна. — Анна, вы не проболтаетесь? Я не знаю, найдут ли отклик мои ухаживания. — Генрих говорил как нетерпеливый юный влюбленный. — Конечно, сир. Я никому не скажу об этом. Неужели он сомневался, не останутся ли его ухаживания без ответа? Он же король! — Как дела у леди Марии? — спросила Анна, не желая продолжать беседу о леди Латимер. Она чувствовала себя униженной, оскорбленной… — Мария в добром здравии, и на нее большой спрос как на крестную мать. Так она сказала. Анна подумала: как грустно, что Мария, которой уже двадцать семь, до сих пор сама не стала матерью. Иногда она не могла понять, из каких соображений исходит Генрих. Хоть и незаконнорожденная, но Мария была его дочерью. И тем не менее ее до сих пор не выдали замуж, и она растрачивает свой материнский инстинкт на чужих детей. — Мне бы хотелось повидаться с ней, — сказала Анна. — Вы можете встретиться с Марией, когда захотите, Анна, с моего благословения. — Тогда я приглашу ее в Ричмонд. Благодарю вас, сир. Мне будет очень приятно ее общество.
Анна вернулась в Ричмонд и провела там две недели, когда в ее личных покоях вдруг появился Отто, радостно размахивая каким-то письмом. — Миледи, я получил прекрасные новости из Клеве, от своего отца! Ваш брат разбил войско императора у Ситтарда! — О, какая радость! — Анна в восторге вскочила на ноги. — Лучшей новости вы не могли мне сообщить! Глаза их встретились. Во взгляде Отто светились любовь и желание. У Анны в приливе ликования возникло искушение дать ему какой-то знак, что его чувства не безответны. Хотя ему, наверное, это и без того было ясно. Анне потребовалось собрать всю свою решимость, чтобы никак не поощрить своего воздыхателя. Однако известия он принес восхитительные, и это дало повод для торжества. Немецкие слуги Анны обнимались и поздравляли друг друга, тем временем сама она приказала подать вина, и они вместе выпили за победу Вильгельма. Дай Бог, чтобы император теперь отступил и оставил Клеве в покое.
С наступлением лета Анна со свитой отправилась в Блетчингли, где ей снова пришлось терпеть невыносимую заносчивость Томаса Кавардена. На этот раз он с удовольствием сообщил своей госпоже, что той предстоит стать почетной гостьей на празднике, который он устраивает в Хекстолле. И разумеется, она не могла отказаться, ведь хозяин с таким бахвальством рассказал, как хлопотали ради нее он и его жена. О своей женитьбе упомянуть особо Каварден не посчитал нужным. Конечно, он не был обязан это делать, но так требовала простая вежливость. Его молодая жена Элизабет оказалась полной противоположностью своего супруга: милая, скромная женщина из хорошей семьи, которая, казалось, слушалась каждого слова мужа, все время оставалась в его тени и была довольна этим. Она очень понравилась Анне, но редко вступала в разговор за столом, и приказания слугам тоже резко отдавал сам Каварден. Заметив на главном столе, за которым управляющий восседал на почетном месте по правую руку от своей хозяйки, несколько предметов немецкой посуды, привезенной из Клеве, Анна расстроилась. В последний раз она видела эти вещи в буфете своего дома по соседству. От сэра Томаса не укрылся ее взгляд. — Это моя посуда, не так ли? — спросила Анна. Он и бровью не повел. — Да, миледи. Я подумал, она лучше подойдет для такого случая, чем та, что есть у меня. — Хорошо, я, конечно, не возражаю, — напирая на последнее слово, произнесла Анна, но мягкий упрек не был услышан. — Я так и знал, что вы не станете. — Каварден улыбнулся. О, как же он был несносен! Тем не менее еду подавали отменную, и сэр Томас вновь проявил себя заботливым хозяином. Анна любовалась разнообразными фруктами, в изобилии поданными на десерт, когда некий джентльмен в коричневом платье — один из местных знатных господ, которых пригласил сэр Томас, без сомнения, для того, чтобы произвести на них впечатление, — спросил, нет ли новостей о джентльменах из Виндзора? — Каких джентльменах? — не поняла Анна, и ее вопрос был встречен озадаченным молчанием. — Джентльменах, арестованных за ересь в марте, — после паузы пояснил Каварден. — Вы не слышали? И о том, что меня самого брали под арест вскоре после этого, тоже? Все этот ублюдок Гардинер — прошу прощения, миледи, — его рук дело. Разворошив, как ему было угодно выразиться, гнездо еретиков в Королевской капелле Виндзора, он решил, что может найти и других ненадежных людей при дворе, в результате меня, мою дорогую жену и еще десять человек арестовали. Анна вся сжалась. Она не хотела иметь ничего общего с еретиками. Из-за связей с немецкими лютеранами ее тоже легко могли принять за еретичку, и то, что она почтила присутствием дом одного из своих арендаторов, уже привлекавших внимание епископа Гардинера, лишь подтвердит подозрения. — Но я был во всеоружии благодаря леди Латимер. Она предупредила меня, — говорил Каварден. Не та ли это леди Латимер, о которой говорил король? Почти все гости, за исключением приближенных Анны, похоже, знали, о ком идет речь. О Небо, да тут гнездо еретиков, и она сидит среди них! Хозяин сильно рисковал, полагая, что никто из гостей не донесет на него. — Эта леди Латимер — ваша подруга? — спросила Анна. — И она лютеранка? — Конечно, мадам, притом ревностная. Чистая бравада! Разумеется, сэр Томас знал, что его могут сжечь за это — и всех его друзей, если уж на то пошло. Он наверняка видел изображения и узоры в капелле Анны в Блетчингли, которые ясно говорили, что она никак не может быть лютеранкой, и такое представление о ней неверно. Но, очевидно, предпочел считать так, как ему больше нравилось. Анна начала думать, что Каварден просто глуп. — Несмотря на предупреждение, нескольких человек арестовали, включая Элизабет и меня. Никто из нас ничего не сказал. Гардинер злился и говорил, что сам дьявол не заставит нас предать друг друга, но мы знали: тут не обошлось без вмешательства Господа, потому что, когда эта история дошла до короля, он быстро простил нас всех. Однако некоторые бедолаги так и остались под стражей в Виндзоре. Боюсь, Гардинер добьется своего и сделает из них мучеников. — Да, да, — с удрученным видом кивнули двое-трое гостей. — Гардинер — пешка дьявола! — насмешливо воскликнул Каварден. Анна ничего не сказала. Ей хотелось поскорее найти какой-нибудь предлог и покинуть этот дом. Сэр Томас поставил ее в неудобное положение: в первую очередь она хранила верность Богу, а потом — королю. Но Генрих простил Кавардена и остальных. Очевидно, он не верил, что они еретики, но все ли ему известно? — Леди Латимер тоже арестовали? — спросил Отто, которому явно было так же не по себе, как и Анне. — Нет. Расследование не привело к ней. И ее в любом случае не посмели бы тронуть. Вы все знаете почему. Мы надеемся на перемены, когда она выйдет замуж за короля. У Анны едва не отпала челюсть. Неужели король и правда вознамерился жениться на этой еретичке? Наверняка это она повлияла на него, чтобы он отпустил Кавардена и его приятелей. Как же он не почуял предательства? — Я не слышала, что король снова собирается жениться, — сказала Анна. Все посмотрели на нее так, будто считали достойной жалости, что вызвало у Анны раздражение. Каварден даже похлопал ее по руке, которую она быстро отдернула. — Я рада за его величество, — солгала Анна. — Он сообщил мне, что у него есть какая-то особенная леди. А теперь прошу прощения, но у меня разболелась голова, и я вынуждена попрощаться.
Шагая домой в темноте со своими приближенными, шедшими следом, Анна поймала себя на беспокойных мыслях об опасной леди Латимер. Казалось, король ничего не знал о ее симпатиях к еретикам. Он ненавидел ересь, считал ее язвой, которую нужно безжалостно иссекать. Посмеет ли она предупредить его, что он пригрел на груди змею? Окончательное решение так и не было принято к моменту, когда они вошли в холл и застали там гонца в заляпанной грязью ливрее герцога Клеве. — Фрау Анна! — воскликнул он по-немецки с горестным выражением лица. — Я привез дурные вести. Герцог потерпел ужасное поражение от императора при Хайнсберге и был вынужден отступить. Я только что побывал при дворе, где сообщил об этом королю и Совету. Поражение. Отступление. Какие позорные слова! Но храбрость Вильгельма никогда не ставилась под сомнение. Опустившись на колени в капелле, моля Бога и торгуясь с Ним, чтобы Он повернул колесо судьбы, Анна сердцем рвалась к своим родным — Вильгельму, матери и Эмили. Как это несправедливо, что она живет в безопасности и комфорте, когда они претерпевают такие несчастья!
В конце июня Анна пригласила в Ричмонд леди Марию. Та оказалась отличной компаньонкой и проявила немалую щедрость, награждая придворных за услуги. Мария дала деньги даже привратникам и настояла, чтобы Анна взяла у нее некоторую сумму для покрытия расходов на дополнительную провизию — кухню, кладовую и винный погреб. — И слышать не хочу об этом! — запротестовала Анна. — Отец велел мне предложить вам деньги, — упорствовала Мария, и Анна сдалась. Это был еще один щедрый жест со стороны Генриха, а таких за последние месяцы он сделал несколько. Цены росли, и доходы Анны уже не были так велики, как всего три года назад. Генрих по-прежнему восполнял недостаток средств, следя за тем, чтобы она продолжала жить комфортно. Анна надеялась, что он не перестанет делать это и после женитьбы, если, конечно, она состоится, о чем пока не объявляли. — У меня сохранился испанский шелк, который ваша милость прислали мне в прошлом году, — сказала Анна, — и я с удовольствием воспользовалась бы вашим советом, какой выбрать стиль, так как планировала сшить из него платье, пока вы здесь. — Буду рада помочь, — отозвалась Мария. — Сейчас очень популярны стоячие воротники, так что вам понадобится немного клеёного холста. У вас есть жемчуг для каймы? Выкроив детали, женщины взяли корзинки для шитья и отправились с ними в сад, где сели на каменную скамью. — Ваша милость слышали о леди Латимер? — спросила Анна, ей было не удержаться. — Да. — Мария помолчала. — Полагаю, вам известно, что мой отец сблизился с ней. — Я слышала разговоры об этом и о том, что она служит вам. — Служит, и она мне нравится. Это очень умная женщина, милая и сердечная. Вероятно, она подойдет моему отцу. Очевидно, Мария ничего не знала о религиозных взглядах леди Латимер. — Значит, они поженятся? — Так говорят, хотя сам он ничего мне не сказал. А что, вы разочарованы, Анна? Я слышала спекуляции о том, что вы снова станете королевой. Анна заставила себя улыбнуться: — Вовсе нет. Я люблю короля всем сердцем, но уже давно знаю, что он никогда не возьмет меня назад. Наш брак был расторгнут на законных основаниях, и ничего не изменилось. Я хочу лишь остаться ему другом. Он сделал мне много хорошего, вы знаете. — Знаю, и еще мне известно, что он тоже ценит вашу дружбу. Он называет вас своей любимой сестрой. — У Марии закончилась нитка, и она начала вдевать в иглу новую. — Думаю, нам не стоит беспокоиться, что леди Латимер превратится в новую Кэтрин Говард. — Но все же я чувствую, у вашей милости есть какие-то возражения против женитьбы на ней короля? — осмелилась спросить Анна. — Я слышала сплетни от своих дам, что она любит сэра Томаса Сеймура, брата королевы Джейн. Он красавец. — В голосе Марии звучала зависть. — И к тому же, говорят, донельзя самоуверен, — сказала Анна. Сеймур, по общему мнению, был тот еще плут. — Если слухи верны, тогда леди Латимер попала в трудную ситуацию. Ведь если король предложит ей супружество, она не посмеет ему отказать. — Думаю, она очень несчастна, но слишком предана королю и осмотрительна, чтобы признаваться в этом. Никак не выдает своих чувств и никогда не упоминает моего отца. — Значит, вы тревожитесь, как бы сэр Томас Сеймур не доставил ей неприятностей? — Да. — Мария выглядела расстроенной. — Он может скомпрометировать ее. Болтливости ему не занимать, такой уж у него характер. Анна могла бы упомянуть кое о чем более серьезном, что могло бы стать проблемой для леди Латимер. — Ну, будем надеяться, она даст ему отставку мягко, но твердо, если события будут развиваться, — сказала она. — Если, — добавила Мария.
Глаза Генриха наполнились слезами, когда он целовал свою невесту. Все, кто собрался в праздничной молельне королевы в этот жаркий июльский день, зааплодировали, включая архиепископа Кранмера, который проводил церемонию. Анна шла рядом с Маргарет Дуглас, главной подружкой невесты, пока Генрих вел новую королеву Екатерину сквозь ряды гостей на галерею, где столпились жадные до зрелищ придворные. Генрих сам попросил Анну присутствовать на свадьбе. Это была большая честь, учитывая, сколь немногие могли уместиться в молельне, и тем не менее Анна подозревала: король хотел, чтобы, появившись на церемонии, она продемонстрировала отсутствие у нее каких-либо сомнений в законности их развода во избежание любых недоразумений. Утренние дурные вести из Клеве тяжестью лежали на сердце у Анны, но она делала над собой усилие и старательно выражала радость за молодых. Пусть никто не подумает, будто она опечалена тем, что ее обошли. Новую женитьбу Генриха Анна одобряла, притворяться было ни к чему. Ему нужны дети ради благополучия королевства. Вот только его улыбающуюся рыжеволосую невесту с неприметными чертами лица и решительным подбородком она никак не могла одобрить. Что нашел в ней Генрих? Кэтрин Говард была очень хороша собой, и Анна ожидала увидеть рядом с королем женщину видную, но в этой не было ничего особенного, к тому же она тайная лютеранка. Лютеране, должно быть, подсунули ее королю. Анна терзалась сомнениями. Предупредить ли ей Генриха? Ну, теперь уже поздно. Ее тревожило, что он так и сияет. Господи, не допусти, чтобы новая королева дала ему повод пожалеть об этом дне! Ответив на улыбку короля, Анна осознала, что теперь и сама может подумать о замужестве, хотя Отто все еще был связан с Ханной, а значит, вероятность нового брака невелика. К счастью, с сегодняшнего дня за ней перестанут так пристально следить, и она сможет хотя бы иногда предаться флирту со своим возлюбленным, к тому же Анна нуждалась в утешении: от Эмили пришло письмо с известием о тяжелой болезни матери. Будь это в ее власти, Анна тотчас же ринулась бы в Клеве, но сэр Уильям Горинг сказал ей, что потребуется время на получение охранной грамоты, даже если необходимость в этом срочная, ведь войска императора до сих пор оккупируют Гелдерн. Сомнительно также, что король позволит ей совершить столь опасное путешествие, поскольку война могла разгореться вновь в любой момент. Пришлось Анне собраться с духом, сделать веселое лицо и прийти на сегодняшний праздник, стараясь не думать о бедной больной матери, рядом с которой находилась в утешение одна лишь Эмили. Когда гости собрались в приемном зале, чтобы поднять тост за королевскую чету, Анна повернулась к Маргарет Дуглас. — Я рада видеть вас, миледи, — сказала она. Они не встречались уже очень давно. — Я тоже рада. Вы выглядите прекрасно и весьма элегантны в этом английском платье. А у нас снова та же история! — Маргарет скривилась. — Мой дядюшка так растолстел, что в его дублет поместятся трое! — Прекрасную ношу взвалила на себя эта леди, — заметила Анна более едко, чем намеревалась, и тут заметила стоявшего позади нее Шапюи. Не дай Бог, чтобы он услышал ее непочтительный отзыв о короле! Иначе не пройдет и недели, как об этом узнает вся Европа. Маргарет захихикала: — Им нужно найти какой-то другой способ, чтобы делать это! Анна ткнула ее локтем. Маргарет увидела, кто рядом, и притихла. — Упс, — тихо произнесла она. — Дядюшка снова упрячет меня в Тауэр! Анна украдкой огляделась. Шапюи был увлечен разговором с сэром Энтони Денни. Он их не слышал, решила она и повернулась к Маргарет. — Простите, если я сегодня неважная компаньонка, — негромко проговорила Анна. — Я в большой печали. Утром мне сообщили, что моя мать очень больна. — На ее глаза накатились слезы. — Мне грустно слышать это, — с искренне озабоченным видом сказала Маргарет. — Давайте улизнем отсюда ненадолго в сад. Я скажу дяде, что у вас закружилась голова и вам нужно подышать воздухом. — Она пробралась к Генриху, который кивнул, после чего, нахмурившись, взглянул на Анну. Когда они спустились по лестнице, Анна прислонилась к кирпичной стене и дала волю слезам. — Сядьте. — Маргарет подвела ее к скамейке под грабом. — Вы, наверное, сильно тревожитесь. Анна кивнула: — Сейчас я отдала бы все, лишь бы оказаться рядом с матерью в Германии. Мне хотелось бы поехать туда. — О моя дорогая Анна! — И я ничего не могу поделать, но чувствую себя униженной тем, что король отверг меня ради женитьбы на женщине, которая так мало может ему дать. Она не так красива, как я, не принесет ему никакого выгодного союза и детей едва ли родит, учитывая, что у нее не было своих от двух других мужей. Маргарет испугалась. — Вы правда думали, что он возьмет вас обратно? — Сперва нет, а потом да. Колесо Фортуны как будто поворачивалось, и я не знала, в какой момент оно остановится. Я не хотела этого, правда. Только сама идея, что меня хотят вернуть в качестве королевы, слегка манила. А теперь… Я была бы довольна, если бы он женился на французской принцессе, скажем, но… Простите, мне не следовало этого говорить. Я, наверное, совершила все виды измен. Маргарет погладила Анну по плечу: — Не беспокойтесь. Иногда нужно выговориться, это дает облегчение, по себе знаю, и я как раз тот человек, который способен вас понять. Мне известно, каково это — быть обвиненной в измене и осужденной за нее. — Она вздрогнула. Анна подумала, стоит ли рассказать Маргарет о том, что ей известно про королеву Екатерину. Это тайное знание было для нее ношей, которую ей не хотелось нести одной, и, если когда-нибудь откроется, что она утаила эту информацию, ее могут признать виновной в сокрытии ереси. А это могло всплыть на поверхность, ведь Томас Каварден и его друзья не особенно старались скрывать свои опасные занятия и уже оказывались под подозрением. Они могут заявить, что она все знала и даже одобряла. Ох, что же ей делать? — Постарайтесь не думать об этом, — сказала Маргарет, неправильно поняв причину молчания Анны. — Королева Екатерина кротка и добра. Я буду при ней главной придворной дамой, и она очень милостива ко мне. Анна посчитала за лучшее сохранить тайну и молиться, чтобы Каварден и его приятели никогда не преступали закон. Она не хотела отвечать за последствия, если сейчас даст ход цепи событий, которые могут привести его и остальных на костер. — Нам нужно возвращаться. — Анна встала. — Спасибо, что выслушали меня. Когда они поднялись по лестнице, их встретил король — высокий, тучный и экспансивный, — подошел обнять своих дорогих племянницу и сестру, а заодно поинтересоваться самочувствием Анны. Он, широко улыбаясь, выслушал их добрые пожелания и представил им свою новую королеву. — Кейт, — сказал Генрих, — это леди Анна. Екатерина очаровательно улыбнулась в ответ на реверанс Анны и протянула руку для поцелуя. «Уже строит из себя королеву!» — возмущенно подумала Анна. — Очень приятно познакомиться с вами, миледи Анна, — сказала Екатерина. — Для меня это тоже большое удовольствие, — ответила Анна, надеясь, что говорит дружелюбным тоном. — Примите мои самые теплые поздравления. Я очень рада за вас обоих.
Через неделю Генрих один приехал в Ричмонд пообедать с Анной. — Я рад, что вам понравилась Екатерина, — сказал он, уплетая пирог с мясом, приправленный медом и горчицей. — Ммм, это еще одно из ваших немецких блюд, Анна? Очень вкусно. Клянусь, никто не держит такого отличного стола, как вы. — Я знала, что вашей милости понравится, — сказала довольная Анна. Она радовалась его приезду, так как опасалась, что после новой женитьбы короля такие визиты прекратятся. Пообедав, Генрих играл Анне на лютне, а потом они прогулялись до реки и постояли там некоторое время, наблюдая за проплывающими мимо лодками. Какие-то весельчаки, которые громко музицировали на своей барке, помахали им и только потом сообразили, кого приветствовали. Генрих покатился со смеху, увидев вытянутые лица незадачливых гуляк. — Доброго вечера вам всем! — крикнул он. Время отъезда короля настало очень быстро. Целуя Анну на причале, Генрих взял ее руку: — Вы по-прежнему моя дражайшая сестра. Это никогда не изменится. Скоро мы увидимся. И если у вас есть в чем-нибудь недостаток, сообщите об этом моему Совету.
В начале августа Анна сильно встревожилась, узнав, что виндзорских еретиков сожгли на костре. Она представила, как повлияет эта новость на Кавардена и его друзей, и на королеву Екатерину, разумеется, которая в присутствии короля не должна подавать вида, что расстроена. Анна занималась приготовлением фруктовых пирожных с мейстером Шуленбургом, когда явился паж и, к ее удивлению, сообщил, что увидеться с ней прибыл доктор Харст. Она быстро сняла огромный фартук и торопливо прошла в свой приемный зал. — Какое неожиданное удовольствие! — сказала Анна, протягивая руку и глядя в глаза послу. — Мадам, вы должны приготовиться к самым неприятным известиям. Клеве захвачено армией императора. У Анны закружилась голова. Это было едва ли не хуже той новости, которую она уже давно страшилась услышать, — что ее мать умерла. Она знала о намерении Карла заполучить Гелдерн, но не представляла, что он захватит и само Клеве. — Это ужасно! — выдохнула она. — Что с моим братом и матерью? Она больна, и это может убить ее. И что с моим маленьким мальчиком? Этот вопрос Анна не смела задать. — Она в замке Дюрен и, кажется, пока в безопасности. Правда, новости оттуда доходят отрывочные, по понятным причинам. — Как такое могло случиться?! — Анна была вне себя от ужаса и тревоги. — Император застал герцога Вильгельма врасплох, внезапно появившись во Фландрии с большой армией. Герцог ничего не смог предпринять. Теперь император требует, чтобы король Генрих разорвал дипломатические узы с Клеве и отправил меня домой, но король отказался. Он вызвал меня сегодня утром и сказал, что не сделает этого и я должен остаться. «Благослови его Бог!» — подумала Анна. Генрих окажет помощь Вильгельму, в этом нет сомнений. — Больше всего я беспокоюсь за матушку, — сказала она, заламывая руки. — Я хочу поехать домой и быть с ней. И мне непременно нужно знать, все ли в порядке с Иоганном. — Я тоже хочу уехать, мадам, какими бы добрыми ни были намерения короля. Тем не менее он предупредил меня: ситуация в Клеве слишком опасная и не дозволяет моего возвращения. Мы не смеем отваживаться на такой риск. Представьте, что случится, если вас захватят и возьмут в заложники. Анна понимала, что Харст прав, и буквально разрывалась на части от досады. — Мы должны полагаться на дипломатические усилия герцога, которые спасут положение, — продолжил посол. — Я думаю, он обратится за помощью к королю Франциску. — Молюсь, чтобы он ее получил, — сказала Анна. — Пусть Господь сподвигнет французского короля к сочувствию при виде невзгод нашей страны. Особого оптимизмаона не испытывала. Франциск был слишком поглощен собственными проблемами, чтобы помогать Клеве.
Ожидание новостей было мучительным, но ничего не знать — еще хуже. А самыми ужасными стали вести, пришедшие в конце августа. Император захватил и разграбил Дюрен, главный город Юлиха. — Сожжены шестьсот домов, — скорбно вещал Харст. — Возникла великая паника, и произошло большое кровопролитие. Мадам, они сожгли и замок Дюрен тоже. — Там же была моя мать! — крикнула Анна. — Что о ней известно? — Увы, пока ничего. — Харст сам едва не плакал. — Жаль, что я не могу ничем утешить вашу милость. Голову Анны заполонили страшные картины: ее мать в западне, задыхается в клубах дыма и пламени… Разразившись душераздирающим плачем, в котором изливалась наружу вся ее печаль, Анна ощутила, как ее обхватили чьи-то крепкие руки. Это был доктор Харст. Позабыв все правила этикета, он нежно поддерживал ее и сам плакал. Матушка Лёве, обнявшая их обоих, тоже заливалась горючими слезами. — Что случилось? Кто-нибудь умер? — В двери ворвался Отто. Харст оставил Анну с матушкой Лёве утешать друг друга и приглушенным голосом рассказал ему о событиях на родине. Отто явно был потрясен. — Вы хотите, чтобы я отправился в Клеве и узнал, что сталось с вашей почтенной матушкой? — предложил он хриплым от волнения голосом. — Я могу поехать через Францию и пробраться туда с юга. Король Франциск — наш союзник. Он не станет задерживать меня. — Как вы храбры и великодушны! — всхлипнула Анна. — У меня нет слов, чтобы отблагодарить вас. — Думаю, нам лучше дождаться новостей, — предложил доктор Харст. — Они могут прийти раньше, чем вести от вас. — Да, подождем, — сказала Анна, поняв, что совет посла мудр. — Но только день или два, потому что дольше мне не вынести неизвестности. Вы не знаете, подверглись ли нападению другие наши замки? Она думала о Шлоссбурге, находившемся рядом с Золингеном, и дрожала от страха за судьбу Иоганна, как бы он не попал под удар войск императора, ведь сожженный Дюрен не так уж далеко от Золингена. — Об этом я не слышал, — ответил Харст, — но меня заверили, что герцог и ваша сестра в безопасности. «Отсутствие новостей — это хорошая новость», — сказала себе Анна, молясь горячо, как никогда прежде, чтобы мать и Иоганн остались в живых.
Ждать новостей, пребывая в неведении, — невыразимая мука. Тревога усилилась, когда они узнали, что войска императора шли через Юлих, не встречая сопротивления, и так застращали тамошних жителей, что каждый город сам сдавал ключи от своих ворот императору. Однако известий о местонахождении герцогини не поступало, и Анна почти утратила надежду, что та выжила при пожаре. Даже если выжила, оккупация Юлиха станет для нее смертельным ударом. В начале сентября доктор Харст пришел к Анне с таким мрачным лицом, что она вся сжалась, готовясь услышать доставленные им новости, и схватилась за руку матушки Лёве, ища поддержки. — Мадам, я получил известие о вашей почтенной матери. Слава Богу, она не погибла в пожаре! — О, какое облегчение! — воскликнула Анна. — Но она пострадала? — Не от огня. С прискорбием вынужден сообщить вам, что она умерла через четыре дня после пожара. Прошу вас, примите мои глубокие соболезнования. Анна закрыла глаза, пытаясь защититься от охватившей ее боли и скорби. Она вспоминала мягкость и доброту матери, ее набожность, заботу о детях и неизбывную любовь к отцу. Теперь она соединилась с ним на Небесах, ведь наверняка такая чистая душа не будет долго томиться в Чистилище. — Как это случилось? — спросила Анна, оцепенев и потеряв способность плакать. — Доктор Олислегер пишет, что она в ужасе бежала из замка. Слуги сообщили, что герцогиня почти лишилась рассудка от переживаний из-за потери страны. В ее состоянии здоровья это испытание оказалось ей не по силам. К счастью, она не увидела, как был захвачен весь Юлих. — А что с Клеве? — в тревоге спросила матушка Лёве и, будто беря под защиту, обхватила рукой Анну, отчаянно пытавшуюся свыкнуться с утратой. — Боюсь, не многие города в Клеве способны устоять перед такой армией, какую имеет под своим началом император. Взятие Дюрена устрашило всех. Доктор Олислегер предсказывает, что сопротивления никто не окажет и императорские войска проложат себе путь через Неймеген, к этому моменту город Клеве и вся страна на той стороне Рейна окажутся под властью императора. Знакомый Анне мир рушился. Ее печаль из-за участи Клеве была почти такой же сильной, как скорбь по матери. Вдруг она зарыдала от ужасной несправедливости всего происходящего.
Белая льняная шапочка и длинная вуаль казались правильным выбором: Анна находила странное утешение в том, чтобы оплакивать мать в немецком головном уборе. Своей простотой он контрастировал с тяжелым черным бархатным платьем, имевшим широкий партлет, стоячий воротник и узкие рукава. Никаких украшений, кроме четок, привешенных к опоясывавшей талию цепочке. Из зеркала на Анну смотрело ее лицо — бледное, иссеченное печалью. Прошло уже две недели, а боль утраты не отступала. А сейчас ей нужно было собраться и принять доктора Харста, о прибытии которого только что доложили. Анна думала, что достигла самого дна отчаяния и хуже чувствовать себя уже не может, но она ошибалась. Мрачное лицо Харста вселило страх в ее сердце. Посол привез шокирующие новости. Вильгельм признал поражение и официально подчинился императору. — У него не осталось выбора, миледи, — сказал Харст зашатавшейся от потрясения Анне. — Король Франции бросил герцога в бедственном положении, когда тот к тому же сокрушен скорбью по вашей почтенной матери. Герцог встретился с императором в Венло и прибыл туда, облаченный в глубочайший траур. Его заставили встать на колени перед его императорским величеством в знак покорности и подписать договор об отказе от Гелдерна и Зютфена. Взамен ему позволили сохранить за собой герцогства Клеве и Юлих, хотя его власть будет несколько ограниченна. Более того, он согласился развестись с Жанной дʼАльбре, чтобы жениться на племяннице императора. Анна слушала Харста, и в ней росло чувство стыда. Она не могла вынести мысли, через какие унижения прошел Вильгельм, этот гордый муж, которому пришлось пережить такое бесчестье и умаление в правах. Если ей стыдно смотреть в глаза людям из-за краха родной страны, то какие же чувства испытывает Вильгельм? И это в то время, когда они оплакивают свою мать. Утешало лишь одно: война закончилась и Иоганну больше ничто не угрожает. К неизмеримому облегчению Анны, матушка Лёве получила весточку от Шмидтов: Золингена нашествие не коснулось. — Я сама пойду к королю Генриху и попрошу его о помощи, — сказала Анна. — Он поможет, я уверена. — Послушайтесь моего совета и не делайте этого, мадам, — мрачно отозвался Харст. — При дворе нет ни малейших признаков сочувствия к Клеве. Советники ясно дали мне понять, что король не рискнет затевать войну с императором. Еще один удар. Анна полагала, Генрих с удовольствием воспользуется шансом доказать свое дружеское отношение к Клеве. Она рассчитывала, что он вступится и за нее тоже. Но ее постигло глубокое разочарование. — Тут ничего нельзя сделать, миледи, — печально проговорил доктор Харст. — По крайней мере, ваш брат сохранил свое герцогство и продолжает там править. Сомневаюсь, что император станет вмешиваться в повседневные дела страны. — Да, но мы пользовались такой независимостью в Клеве! Мой отец пришел бы в ужас, узнай он о случившемся. — Ваш отец поступил бы так же. Кто осмелится противостоять мощи Священной Римской империи?
Поздней осенью, когда закончился траур, Генрих пригласил Анну ко двору. Все еще страдая из-за унижения Вильгельма, Анна приехала, полная решимости спросить короля, нельзя ли что-нибудь сделать, но из его сочувственных слов о Клеве поняла, что он тоже связан по рукам и ногам. Поднимать эту тему не имело смысла. Анна поболтала с королевой Екатериной, присоединилась к ней и Генриху за пиршественным столом и любовалась танцующими придворными, стараясь не думать о том, как постарел король с момента их последней встречи в июле. Грустно было видеть, что он сдает так быстро. Если бы Генрих мог сбросить хоть немного веса, ему стало бы лучше, и нога бы, вероятно, перестала болеть, отчего он обрел бы бо́льшую подвижность. Но вот он сидит за столом, перед ним тарелка с грудой еды, в руке кубок, который то и дело наполняют вином. И никто не осмеливается дать ему добрый совет. По возвращении в Ричмонд Анну ждало приятное известие: Уаймонд Кэри получил престижную должность казначея королевы и покидает службу у нее. — Это большая честь, и я очень рада за вас, мистер Кэри, — сказала ему Анна. — И еще мне приятно, что ваша слежка за мной прекратится. Полагаю, больше меня не подозревают в интригах против моего брата короля, которому я никогда не причиню вреда. У Кэри хватило такта изобразить смущение: — Я всего лишь выполнял распоряжения, мадам. И никогда не сомневался в вашей лояльности. Она не стала продолжать эту сцену. Кэри уезжал, ее ждала свобода. — Кто сменит вас при моем дворе на посту сборщика податей? — спросила Анна. — По моей рекомендации это место займет Томас Кэри, мой родственник. Томас был добрым, воспитанным человеком и служил Анне в качестве джентльмена ее покоев. Она не могла представить, чтобы он согласился шпионить за ней. — Этот выбор мне очень нравится, хотя я надеюсь, его обязанности ограничатся тем, что ему полагается делать по долгу службы! — Ни о чем другом мне не известно, мадам, — сухо ответил Кэри. Она улыбнулась ему и сказала: — Желаю вам успехов на новом посту.
Ночью, когда Анна задула свечу и уютно устроилась в постели, собираясь заснуть, ей в голову пришла шальная мысль: раз за ней больше не следят, для нее открываются некоторые возможности. Перед глазами всплыло милое лицо Отто, а за ним явился и образ маленького Иоганна в далеком Золингене, хотя ее сын теперь уже не так мал — ему двенадцать, и она, без сомнения, не узнает его. Мальчик три года провел в подмастерьях и успешно овладевал ремеслом, как говорила ей матушка Лёве. Посмеет ли она теперь, если это удастся организовать, с помощью услужливого Отто привезти его из Клеве и устроить при своем дворе? Риск наверняка невелик. Никто не узнает, каково происхождение Иоганна, и меньше всего сам Иоганн. Тогда они смогут быть вместе, в некотором роде семьей — она, Отто и их сын. Чем дольше Анна думала, тем более вероятным это ей представлялось. Но хорошо ли отрывать мальчика от привычной жизни? Не проявляет ли она эгоизм? Анна обсудила свою идею с Отто, пригласив его и еще нескольких джентльменов из своей свиты покататься на лошадях, чтобы опробовать в деле белую скопу, которую прислал ей герцог Альберт Прусский. Птицу доставили в Англию полностью обученной, вместе с дюжиной соколов для короля Генриха, и тот переслал подарок Анне. Это был прекрасный охотник, и Анна радовалась, что герцог Альберт, один из протестантских правителей Германии, вспомнил о ней. Они с Отто скакали вровень по ричмондскому парку, и Анна поделилась с ним своей идеей. — Теперь нет шансов, что я снова выйду за короля, а потому в политическом смысле я здесь больше ничего не значу. За мной теперь не следят. Я могу наконец вести жизнь частного лица. Почему бы мне не нанять на службу кого-нибудь из Клеве — скажем, в качестве особой милости некоему старому другу? Отто явно разрывался между своим желанием и возможностями. — Я хочу быть с нашим сыном так же сильно, как вы, Анна, но все же, думаю, привозить его сюда сейчас неправильно. Давайте подождем, пока он подрастет и закончит ученичество, тогда я найду предлог для визита в Золинген и снова предложу ему уехать в Англию. К тому моменту люди почти забудут о вашем браке с королем и риск скандала значительно уменьшится. Иоганну оставалось учиться еще четыре года. Это казалось целой вечностью. Анна понимала, что Отто говорит разумные вещи и сдержит слово. Но как, раз уж идея созрела в ее голове, сможет она набраться терпения и ждать так долго?
Глава 24
1546 годВместе с принцессами Марией и Елизаветой, а также герцогинями Ричмонд и Саффолк Анна наблюдала за тем, как король с королевой принимают адмирала Франции, нового французского посла. Приемный зал в Гринвиче заполнили лорды и леди, которых созвали, чтобы оказать ему почести. Анна тоже чувствовала себя не обойденной вниманием, получив место рядом с дочерьми короля, которых Генрих два года назад восстановил в правах на наследование престола в порядке старшинства после принца Эдуарда. Мария стояла неподвижно и не улыбалась, она была истинной дочерью своей матери-испанки и не могла любить Францию. Несомненно, она сожалела об отставке мессира Шапюи, который покинул Англию в прошлом году. Но Анне этот человек никогда не был другом, в отличие от верного доктора Харста, тоже отправившегося домой много месяцев назад, так как ему не было нужды оставаться здесь. Анна скучала по нему, ей не хватало новостей о жизни двора и мира вообще, которые доставлял посол. Теперь ей приходилось полагаться в этом на своих придворных или случайных гостей. В последнее время она принимала немногих, потому что не могла себе этого позволить, хотя король и пополнял ее доходы. Принцесса Елизавета милостиво улыбалась всем, наслаждаясь редкой возможностью быть центром внимания. У нее были темные глаза, как у матери, и даже сейчас, в нежном возрасте двенадцати лет, она знала, как использовать их с толком. Девочка была прекрасно воспитана и обучена — и весьма тщеславна. Но больше всего Анну интересовал король. Когда при встрече его величество поднял свою дорогую сестру из реверанса и обнял, она заметила, что он сильно страдает от боли и даже не может долго стоять. По завершении приветствия король сразу в изнеможении опустился на трон и сделал знак пажу, чтобы тот принес подставку для ног. Анна увидела у него на рейтузах пятна сочившегося сквозь повязку гноя. Вечером, когда наступило временное затишье в торжествах по поводу приезда посла, Анну отыскала принцесса Мария. — Я беспокоюсь об отце, — тихо сказала она, голос ее был едва слышен сквозь гомон голосов болтавших рядом людей. — Он болен. Все это видят. Королева говорит, бо́льшую часть времени он проводит в потайных комнатах и редко выходит из своих покоев, разве что прогуляться по личному саду, когда в состоянии это сделать. Думаю, ему сейчас очень трудно, настроение у него плохое как никогда. Нога доставляет ему такие страдания, что он становится чрезвычайно капризным и склонен срываться по малейшим поводам. Анна взяла руку Марии и пожала ее: — Я вижу, что ему стало хуже. Ясно, что нога сильно беспокоит его. — Он пытается скрывать это, но по лицу видно, что он сильно страдает, хоть и старается не подавать виду. — Мария выглядела очень расстроенной. — Он уже не может ходить по лестницам; его затаскивают наверх и спускают вниз с помощью специальной каталки, и еще сделали два специальных кресла с длинными подлокотниками, чтобы носить его по галереям и перемещать из комнаты в комнату. — Она окинула взглядом гостей и склонилась к самому уху Анны. — Давайте выйдем в галерею и поговорим приватно. Здесь нас могут услышать. В галерее, по счастливой случайности, было пусто. Они присели на скамью у окна. — Честно говоря, Анна, я не представляю, что мой отец долго протянет в таком состоянии, — сказала Мария. — И мы получим в правители моего брата. Мне страшно за нас всех и за Англию, ведь его воспитывают кембриджские проповедники. А они все еретики, это несомненно! И она, королева, поощряет это! Анна сознавала, какие мрачные перспективы сулит Англии правление реформистов. Неудивительно, что Мария так беспокоится. — Вы слышали, что случилось в прошлом месяце? Епископ Гардинер пытался арестовать ее за ересь, но ей удалось убедить короля в своей невиновности. Анна подумала, не рассказать ли Марии, что ей известно о деяниях Кэтрин Парр до брака с королем, но содрогнулась от мысли, какие последствия это может иметь, если та посчитает необходимым передать ее слова отцу, и смолчала. Последние годы Анна жила вдали от двора, от царивших там интриг и зависти, и была вполне довольна этим. Ей хотелось поскорее вернуться домой, к Отто, который стал ей дороже, чем когда-либо прежде, и людям, которых она теперь считала своей семьей. Иоганну было уже пятнадцать лет. Осталось подождать всего несколько месяцев… — Надеюсь, этот опыт кое-чему научил королеву и заставил переосмыслить свои ошибки. — Не думаю, что королева описала бы это так, — едко заметила Мария. — Нет, Анна, будущее весьма неопределенно для тех из нас, кто держится истинной веры. Мы должны молиться, чтобы мой отец прожил как можно дольше, но волки уже облизываются, предвкушая новые порядки. И с этим ничего нельзя сделать! — В ее голосе слышалась горечь. — Неужели они не боятся за свои бессмертные души? — Мария глубоко вздохнула, перебирая пальцами четки. — Мы должны вернуться к гостям, пока нас не хватились.
Вновь и вновь в течение следующих дней Анна поражалась избыточной роскоши двора, которая, казалось, превосходила все, что было раньше. Каждый день она обедала с принцессами за столом короля; потом забавлялась охотами, а по вечерам сидела рядом с королевой Екатериной, и они смотрели экстравагантные представления масок, которые устраивали в честь адмирала Франции. Остаток дня в числе привилегированных гостей Анна проводила с королем и королевой в новом банкетном доме, выстроенном в саду, — небольшом изысканном павильоне, увешанном гобеленами и обставленном буфетами с инкрустированной драгоценными камнями и жемчугом золотой посудой, — где собравшихся в тесном кругу потчевали всевозможными сластями. Генрих, — Анна это видела, — вел себя так, будто впереди у него еще много долгих лет, старался игнорировать боль в ноге и решительно принуждал себя вести нормальную жизнь, насколько это было возможно. Из Гринвича двор переехал в Хэмптон-Корт, где были организованы еще более пышные торжества. Королевский совет велел Анне присоединиться к ним. Казалось, что Генрих, вспоминая славные дни юности, хотел устроить последний яркий праздник, прежде чем тьма сомкнется над ним. Анна чувствовала атмосферу ожидания, подспудных домыслов — подавляемых, разумеется, потому что предсказывать или даже воображать себе смерть короля считалось изменой. Однажды вечером Анна шла ужинать с Генрихом и встретила в галерее Сюзанну Гилман. Та с опаской посмотрела на нее, однако Анна больше не держала зла на свою бывшую подругу. История шестилетней давности теперь не имела значения. Поэтому Анна улыбнулась, справилась о здоровье Сюзанны и пошла дальше, радуясь, что между ними не осталось вражды. Хэмптон-Корт она покинула в жаркий августовский день. Сидя в носилках, Анна тихо плакала. Внутреннее чутье подсказывало, что Генриха она больше не увидит. Он послал за ней, чтобы попрощаться. Анна застала его в задумчивом настроении и решила, что король тоже чувствует краткость отпущенного ему срока: он крепко обнял ее, будто в последний раз, и заглянул ей в лицо — в глазах у него стояли слезы. — Вы всегда были мне верным другом, Анна, больше, чем я того заслуживаю. У вас столько прекрасных качеств и добродетелей, даров, которых я, признаюсь, лишен. Но, обладая теми незначительными достоинствами, какими наделил меня Господь, я приношу свою самую смиренную благодарность за Его милость ко мне и возможность наслаждаться дружбой такой прекрасной женщины, как вы. — Он отпустил Анну и поцеловал ей руку в самой изысканной манере. — Любите Господа, бойтесь Его и служите Ему, — наставительно добавил напоследок король. — Будьте милостивы ко всем. — Казалось, земные заботы больше не имеют для него значения, только бессмертная душа. — Я любила вашу милость по-сестрински, — сказала ему Анна, — и навечно благодарна вам за доброту ко мне. — Она вспоминала все те деньги, которые он посылал ей, имения, перешедшие к ней после смерти герцога Саффолка для увеличения ее доходов, и сумму, которую Генрих прошлой осенью заплатил доктору Сеферу, когда она снова заболела трехдневной лихорадкой. — Да хранит вас Господь в здравии и да благословит вас! — Прощайте, дорогая Анна. — Генрих наклонился и поцеловал ее в губы. Она сделала реверанс и долго еще, удаляясь, чувствовала на себе его взгляд.
Анна вернулась в Ричмонд в расстроенных чувствах и сообщила придворным, что они отправляются в Блетчингли. Пусть перемена обстановки поможет развеять пелену окружившей ее печали. Когда они тронулись в путь, рядом с Анной, как всегда в эти дни, появился Отто. Весь последний год они снова были любовниками, не в полном смысле этого слова: Анна решила больше не рисковать внебрачными беременностями, — но во всех остальных. Придворные наверняка это заметили, но делали вид, что ничего не происходит. Судя по отношению к ней слуг, Анна понимала, что они ее очень любят, и была благодарна им за защиту и покровительство. Они явно считали ее достойной частички счастья после всех перенесенных тягот. Ситуацию облегчил и отъезд Ханны, которая оставила Отто и вернулась к своим родным в Клеве. Ее разрыв с супругом был встречен неодобрительно, придворные сочувствовали покинутому мужу, и никто не порицал его за обретенную любовь. Тем не менее Анна и Отто скрывали свои отношения и старались не проявлять привязанности друг к другу на людях. Анне было достаточно просто находиться с ним рядом, особенно в такой прекрасный солнечный день, когда они вместе скакали по тенистым дорогам Суррея. Весть об их приезде была отправлена в Блетчингли накануне, и Томас Каварден, посвященный королем в рыцари, ожидал их появления. Анна по-прежнему относилась к нему настороженно, беспокоилась, не занимается ли он и теперь какими-нибудь неблаговидными делами. Казалось, он успел сунуть свой нос повсюду, сумел обработать всех, кто жил в округе, и заимел влияние при дворе. Ему легко удавалось давить на людей. По приезде в Блетчингли Анна была вынуждена признать, что сэр Томас исправно управлял поместьем. Он следил за ним, как за своим, и, несомненно, надеялся, что однажды так и будет. Его собственническое отношение к ее имению раздражало и иногда даже злило Анну. Дела у Кавардена шли превосходно, о чем он непрестанно напоминал ей, и сейчас, за ужином, устроенным в ее честь, повторял это снова. Два года назад, когда король получил небольшую передышку от своих недугов, повел армию во Францию и захватил Булонь, сэр Томас был назначен смотрителем пиров и походных шатров, обязанным обеспечивать крышу над головой войскам. Кроме того, он возглавлял группу всадников и пеших солдат, за каковые услуги был произведен в рыцари. — Теперь, — сообщил гостям Каварден, — его величество поручил мне содержать сорок ливрейных слуг. Мне понадобится большой дом, чтобы разместить их всех! Анна видела, как сэр Томас бросает жадные взгляды на великолепную обстановку ее столовой. Она встретилась взглядом с Отто и поняла, что тот уловил ее мысли. Каварден наклонился к ней: — Мадам, вам будет приятно услышать, что король даровал мне переход права на Хекстолл и все прочие земли в Суррее, Кенте и Сассексе после смерти владельца. До чего же заносчив этот человек! Хекстолл принадлежал ей, отчего же она должна радоваться, что он перейдет к нему по ее кончине? Она еще могла выйти замуж и родить детей; ей всего-то тридцать лет. Но этот невыносимый господин успел лишить ее потомков части наследства. — Дальше вы надеетесь получить посмертные права и на Блетчингли, сэр Томас! — Анна сказала это в шутку, но вложила в нее предостережение. Последовала пауза, после чего сэр Томас рассмеялся: — Тут, безусловно, хватило бы места всем моим слугам! На помощь Анне пришел сэр Уильям Горинг: — Сэр Томас, вы, наверное, не слышали, что герцог Клеве женился на племяннице императора, принцессе Марии Австрийской. — Мы все очень рады за него, — сказала Анна. Она не стала добавлять, что Эмили написала ей: новая герцогиня Мария женщина милая, но определенно дурна собой, так как у нее печально известная длинная габсбургская челюсть и лошадиное лицо. Прочитав это, Анна улыбнулась: да, ее сестра осталась такой же острой на язык, как прежде. Эмили так и не вышла замуж, но теперь ситуацию можно будет исправить, раз уж Вильгельм вступил в союз с императором, у которого, похоже, имеется неисчерпаемый запас родственниц. — Мой брат доволен своей невестой, — подтвердила Анна. — Очевидно, она не так ретива, как первая! — Надолго вы задержитесь в Блетчингли, миледи? — поинтересовался сэр Томас. — О, думаю, я проведу здесь какое-то время, — ответила она и заметила, что в его глазах промелькнуло уныние. Разумеется, пока она находилась где-нибудь в другом месте, сэр Томас мог хозяйничать здесь, как ему вздумается. Анна вполне допускала, что с него станется переехать в главный дом в ее отсутствие. — Мне так нравится здесь, — продолжила она, впадая в шаловливое настроение. — Я решила, что этот дом мне милее всех остальных, и намерена сделать его своей главной резиденцией. — Анна упивалась моментом торжества, видя замешательство Кавардена. — Я намерена произвести тут кое-какие улучшения. — Могу я поинтересоваться, какие именно, мадам? — Я сообщу вам, когда приму решение, сэр Томас.
На следующий день вместе с Отто, сэром Уильямом и мистером Хомли, своим казначеем, Анна осмотрела дом и составила список изменений, которые желает произвести. Она намеревалась утвердить свое присутствие здесь и переделать дом в соответствии с собственными вкусами. Вызвав резчика по дереву, Анна попросила его изготовить великолепный купол в старинном стиле для камина в главном покое, велев включить в число изображений фигуру короля, а также заказала деревянные резные панели со своими инициалами и эмблемами. Потом велела выстроить на территории поместья новые жилые дома для самых бедных арендаторов, а также общую пивоварню и таверну, где они могли бы проводить свободное время. Анна хотела, чтобы люди смотрели на нее как на благодетельницу. Вскоре Блетчингли наполнился запахами опилок и свежей краски. Анна проводила долгие часы вместе со своими дамами за изготовлением занавесов, штор, покрывал для постелей и даже ковров. Приятно было иметь дело, поглощавшее целиком, и обживать дом. К зиме Блетчингли заиграл новыми красками, и везде запахло свежестью. Оглядываясь вокруг и восхищаясь новым видом своего жилища, Анна сильнее ощущала себя здесь хозяйкой. Они готовились к Рождеству, но атмосфера в доме была печальная, так как холода брали с людей свою дань. В начале адвента бедный доктор Сефер подхватил простуду и умер, а следом за ним, буквально через несколько дней, ушел в могилу и придворный священник. Анна распорядилась, чтобы обоих похоронили в приходской церкви, и сама присутствовала на погребении, думая про себя: как же грустно, когда тебя забирают из этого мира в канун великого праздника. На следующий день после похорон сэр Томас пришел посмотреть на произведенные Анной улучшения и заметил, что крыша нуждается в ремонте и некоторые оконные рамы подтекают. — Вашему высочеству необходимо заняться этим, или проблемы усугубятся, — предупредил он. — Но я потратила все деньги, — ответила она, не предлагая гостю сесть. — Мне придется подождать до следующего года. Каварден потерял терпение: — Мадам, это вопрос приоритетов. Глупо тратить состояние на купол для камина, когда крыша в дырах и сквозь нее может литься дождь. — Приоритеты здесь расставляю я, — резко ответила Анна, возмущенная тем, что управляющий считает себя вправе так с ней разговаривать. — Удивляюсь, что вы не сказали мне о необходимости ремонта прежде, чем я потратила деньги на переделки. Ваша обязанность как управляющего знать о таких вещах. — В тот момент я еще не осматривал крышу, — прорычал Каварден. — Туда не так легко забраться. — Что ж, нам придется подождать до марта. — Есть еще одно дело, о котором я хотел поговорить, — прошипел сэр Томас, явно рассерженный. — Когда вы впервые приехали сюда, я выделил вам дрова, необходимые для очагов. Тем не менее ваши слуги рубят хорошие деревья в парке на уголь и переводят понапрасну древесину. Они заявили мне в довольно грубой форме, что деревья их и они могут поступать с ними как захотят, и я не мог им воспрепятствовать. Они приготовили к вывозу сорок подвод! Я забрал их все. Эта древесина нужна им не как топливо, я подозреваю, что они планируют тайно продать ее литейным мастерским в Сассексе и заработать на этом! — Анна собралась было ответить, но Каварден поднял руку. — Это не все, мадам. После того как я доставил вам древесину, которую вы запросили для переделок в доме, ваши слуги без моего согласия срубили еще много деревьев и построили из них четыре новых дома. Это нельзя оправдать никаким законом. Они даже взяли у меня топор, чтобы строить пивоварню и таверну, и… — Вы позволите мне ответить? — перебила его Анна, остановив на полном скаку. — Во-первых, сэр Томас, давайте проясним одну вещь. Все эти деревья растут на моих землях, а значит, они мои. Слуги рубили деревья по моему приказанию и должны были продать уголь тоже по моему распоряжению. Вы должны понимать, что в наши дни деньги дешевеют, и я уже не богатая женщина. Я не обязана объясняться с вами, но в качестве любезности скажу, что мне необходимы доходы от продажи древесины литейщикам, так что вы отдадите заготовленные бревна моим слугам. Нет, сэр Томас, я выскажу до конца то, что имею сказать вам! Что касается законов, не дающих мне права строить дома, я ничего об этом не знаю, но уверена: если бы я попросила разрешения на это у его величества короля, он дал бы его мне. Никогда не слышала, чтобы какому-нибудь лорду или леди не позволяли возводить дома для своих арендаторов! Сэр Томас побагровел от злости: — Мадам, вы и ваши слуги разрушаете поместье! — Это моя забота, сэр, если, конечно, вы не заглядываете в будущее с мыслью, что оно может стать вашим. Каварден сердито глянул на нее: — Мадам, леса требуют разумного обращения. И моя обязанность следить за этим. — И они — моя собственность. Я не позволю вам критиковать меня за действия, которые я совершаю для собственной выгоды и на пользу другим людям. Сэр Томас еще немного постоял, кипя от ярости, потом развернулся и вышел, не говоря ни слова. — Этого человека стоит опасаться, — заметила матушка Лёве. — Он амбициозен. — А то я не знаю! — буркнула Анна.
Однажды после обеда, когда Анна плела рождественский венок для украшения стола, сэр Уильям Горинг попросил перемолвиться с ней словечком. — Мадам, сэр Томас Каварден пожаловался, что ваши слуги портят хорошую древесину и рубят деревья без его разрешения. — Им дано мое разрешение! — твердо ответила Анна. — Я уже обсудила с ним этот вопрос. Честно говоря, сэр Уильям, мне надоела самонадеянность этого человека. — Да, мадам, он переходит границы дозволенного. Не переживайте, я убедил его отдать сорок подвод древесины, которые он задержал. Тем не менее он хочет, чтобы вы признали их подарком вам от него. — Что? — Анна взъярилась. — Как он может подарить мне то, что и так мне принадлежит? Какая наглость! — Я ему сказал об этом, миледи. Еще он просит, чтобы вы подарили фартук жене смотрителя парка в качестве компенсации за неудобства, доставленные рубкой леса. — Мой ответ «нет», — заявила Анна. — В обоих случаях. Каварден не собирался принимать «нет» за окончательный ответ. Он неохотно вернул лес, но с удвоенным пылом вступил в споры, когда Анна разрешила своим слугам срубить еще больше деревьев. Распря тянулась и тянулась, вызывая массу неприятных эмоций, особенно у слуг Анны, которые не хотели, чтобы их ругали за то, что они выполняют распоряжения своей госпожи. Анна подумывала уже обратиться к королю, чтобы тот убрал Кавардена с поста управляющего Блетчингли, но узнала, что Генрих нездоров, и не захотела тревожить его. Однако сэр Томас не испытывал таких угрызений совести. Однажды незадолго до Рождества он исчез, а когда вернулся — триумфально размахивал документом с королевской печатью. — Видите, мадам, — мерзким тоном проговорил он, — его величество понимает необходимость бережно обращаться с поместьем, особенно подаренным Короной. — Управляющий сунул бумагу под нос Анне. Читая ее, она воспылала гневом. Генрих даровал своему верному сэру Томасу Кавардену переход права на владение Блетчингли вместе с прилегающими к нему землями и парками после смерти нынешней хозяйки. Анну обуяла злость. — Хоть вы и станете когда-нибудь хозяином здесь, сэр Томас, — прошипела она, — но, пока я жива, Блетчингли принадлежит мне, и вы будете управлять им так, как прикажу я. А теперь идите. Вы свободны. Когда он ушел, глумливо ухмыляясь, Анна решила все-таки попросить короля, чтобы тот отстранил Кавардена от должности. Она была уверена: стоит Генриху узнать о дерзости этого человека, и он тут же отзовет назад свою дарственную. Решимость ее укрепилась, когда к ней явился сэр Уильям Горинг с прошением об отставке. — Миледи, мне предложили место в личных покоях короля. Я тщательно все обдумал, потому что служить вам — это высокая привилегия, но в последнее время тут было слишком много раздоров. Вы понимаете, что я имею в виду… Анна понимала, хотя сердце у нее упало. Камергер ей очень нравился. — Конечно, вы должны принять предложение, сэр Уильям. Это большая честь. Известно ли, кто вас заменит? — Я рекомендовал сэра Джона Гилдфорда, мадам. Вы, наверное, помните, что в этом году король назначил ему пенсию в знак признания его заслуг на службе у вас. Сэр Джон, законник, заседавший в парламенте, занимал разные посты на королевской службе до того, как стал членом двора Анны. Это был умелый управляющий, надежный, обходительный и остроумный человек. — Я уверена, он проявит себя наилучшим образом, — сказала Анна, — и все же мне жаль терять вас. Когда сэр Уильям откланялся, Анна взмолилась, чтобы сэр Джон Гилдфорд оказался таким же стойким в отстаивании ее интересов в противостоянии с сэром Томасом Каварденом, присутствие которого портило ей все удовольствие от пребывания в Блетчингли. Жгучую досаду вызывала мысль, что после ее смерти он получит этот прекрасный дом. Анна решилась поехать ко двору сама и попросить короля уволить ненавистного управляющего. О, она расскажет Генриху правду!
Часть четвертая. Отвергнутая жена
Глава 25
1547–1549 годыЯнварь начался густым снегопадом. Стоял холод, сквозняки гуляли по просторным покоям, вынуждая Анну запечатывать подтекающие рамы, к злорадному удовольствию Кавардена. Снег валил и валил, дороги стали непроезжими, потом с оттепелью покрылись водой. Анна не могла отправиться ко двору, а значит, с сэром Томасом приходилось как-то уживаться. В начале февраля погода наладилась, и Анна решила завтра утром ехать в Уайтхолл. Огонь весело потрескивал в очаге, комната наполнилась приятным запахом горящих яблоневых поленьев. Анна начала перебирать платья, раздумывая, в чем появиться при дворе. Пока она оттирала пятно с желтовато-коричневого бархата, матушка Лёве постучала в дверь и сказала, что прибыл королевский гонец и хочет видеть ее. Анна уже слышала топот его шагов на лестнице. Он даже не стал ждать, пока она спустится и примет его, а вошел в комнаты и опустился перед ней на колени: — Миледи, я привез скорбную весть. Король умер.
Анна отбросила в сторону яркие наряды и облачилась в траур, который носила по своей матери. Она приказала всем служащим при дворе, включая судомоек и поварят, одеться в черное. Перечитывала полученные от короля письма и рыдала над ними. Достала подаренные Генрихом украшения и прижималась губами к холодным граням камней. Анна не могла поверить, что он ушел от нее — и от Англии. Что будет со страной, которая стала для нее второй родиной, под управлением короля-мальчика? Будет ли Англия протестантской страной, чего так боялась леди Мария? Будет ли юный Эдуард таким же добрым другом ей, каким был Генрих? Ожидать такого от девятилетнего мальчика, едва ее знавшего, — это слишком, — в смятении думала Анна. Нуждаясь в перемене обстановки и не имея сил постоянно сталкиваться с сэром Томасом Каварденом, она нашла убежище для себя и своего двора в замке Хивер, где могла спокойно предаться скорби. Ей хотелось чем-то отметить уход короля, и она заказала местному художнику свой портрет: он изобразил Анну во вдовьем трауре, сидящей в глубоком кресле. Картину она повесила в спальне рядом с портретом Генриха. Каждый день Анна прогуливалась по замку, и в памяти оживали картины последнего приезда сюда короля. Она представляла, что слышит топот копыт коня, на котором Генрих въезжал во двор. Потом король как будто шел рядом с ней по длинной галерее. Своим присутствием он давал ей, как и всему королевству, такую прочную опору в жизни, что трудно было поверить в его смерть. Оказалось, она любила короля гораздо сильнее, чем думала.
Все обернулось так, как предсказывала леди Мария. Было объявлено, что от имени юного короля Эдуарда Шестого Англией будет управлять Совет во главе с братом покойной королевы Джейн Эдвардом Сеймуром, который мигом сделал себя герцогом Сомерсета и стал именоваться лордом-протектором. Одним из первых декретов новая власть объявила протестантскую веру государственной религией Англии; католицизм и мессы были поставлены вне закона. Через сэра Джона Гилдфорда Анна узнавала, что происходило при дворе. Удивительно, сколько людей держали в секрете свою склонность к лютеранству при короле Генрихе, а теперь поспешили выразить горячую поддержку новой религии. Среди них была и королева Екатерина. Сэр Томас Каварден быстро раскрыл всему миру свои твердые протестантские убеждения и попал в большую милость у Совета и юного короля, который даровал ему земли рядом с королевским дворцом Нонсач в Суррее. — Он теперь пользуется не только прекрасным домом в Блэкфрайарсе как устроитель пиров, но и хвастается, что имеет владения в семи графствах, — сказал Анне однажды вечером за ужином сэр Джон, вернувшийся из Уайтхолла, куда наведывался регулярно. — Будем надеяться, он не удовлетворится постом моего управляющего в Блетчингли, — сказала Анна. — Увы, мадам, это место ему очень подходит. Он прочно укоренился в тех местах и пользуется там большим влиянием. — Тогда я останусь в Хивере. Я собиралась поехать ко двору, чтобы поздравить короля Эдуарда и напомнить ему и Совету о своем существовании, но в связи со всеми этими религиозными изменениями, вероятно, разумнее оставаться в тени. В любом случае без королевы мне при дворе места не найдется. «И скорее всего, никто мне не обрадуется», — пронеслось у нее в голове. Анна узнала, что король уже четыре дня был мертв, когда кто-то наконец позаботился, чтобы ее оповестили о случившемся. Видимо, для тех, кто сейчас находился у власти, она утратила всякое значение. Для себя Анна решила: если ее попросят принять новую религию, ради безопасности она на словах согласится, а что у нее на сердце — Господь узрит. Сама же тем временем приказала отцу Отто Румпелло, своему новому священнику-немцу, и дальше служить мессы. Разве кто-нибудь станет возражать против совершения обрядов только для своих в ее собственном доме? Никто не возражал. Вероятно, просто было не до того. Больше Анну беспокоили деньги. После того как отошел от дел мистер Хомли, ее верный слуга, приехавший вместе с ней из Клеве, его сменил на посту казначея Яспер Брокгаузен, и вчера он приходил к Анне со счетными книгами. — Мадам, — сказал казначей, положив их перед ней, — у нас есть проблема. Пока был жив покойный король, ваше ежегодное содержание в размере четырех тысяч фунтов выплачивалось регулярно, и он часто выделял дополнительные суммы. Но после его кончины выплаты задерживаются. В годичных счетах возник дефицит в сто двадцать шесть фунтов. — О Боже! — простонала Анна. — Наши траты и без того сильно урезаны. — Так и есть. — Светло-карие глаза Яспера были полны озабоченности. — Сэр Джон говорит, за десять лет цены возросли вдвое. В понижении стоимости денег он винит покойного короля. — Ну, с этим я ничего не могу поделать и полагаю, если я нахожусь в стесненных обстоятельствах, то и Совет тоже. Но у меня нет выбора. Придется обратиться за помощью к лордам. Она отправила сэра Джона Гилдфорда и других служащих своего двора подать прошение от ее лица. Они вернулись в тот же день, и Анна воспряла духом, увидев, что ее посланцы выглядят куда более бодрыми, чем в момент отъезда. — Их светлости проявили понимание и сочувствие, — сказал ей сэр Джон. — Они подтвердили все пожалования, сделанные вашему высочеству, и выделили вам дополнительно сто восемьдесят фунтов в год. Эти распоряжения останутся в силе до тех пор, пока король к восемнадцати годам не достигнет совершеннолетия. — О, какое облегчение! — воскликнула Анна. Обычно сдержанный, Яспер улыбнулся ей. Однако сэр Джон еще не закончил. — Совет полагает, что выделение вам другого поместья поможет возместить недостачу. — Казалось, он старательно подбирает слова. — Мадам, они решили, что вы должны сдать в аренду Блетчингли, чтобы повысить свои доходы, и взять вместо него Пенсхерст-Плейс и парк в Кенте. Это красивый дом… Анна не слушала. Сдать в аренду Блетчингли, когда она столько всего там сделала! Разумеется, с практической точки зрения это имело смысл. Но она предпочла бы отдать внаем Хивер. Разве можно полагаться на то, что арендатор устоит под напором сэра Томаса Кавардена с его претензиями на владение поместьем. Этот человек умел нагнать страху. Кроме того, она любила Блетчингли. — Мадам? — Да, сэр Джон? — Анна попыталась сосредоточиться на том, что он говорил о достоинствах Пенсхерста. — Мадам, у меня не было выбора, кроме как согласиться на обмен от вашего имени. Я привез вам письмо от лорда-протектора Сомерсета. Анна быстро прочла его. Лорд-протектор со товарищи считал, что Пенсхерст прекрасноподойдет ей, так как расположен недалеко от Хивера. Потом глаза ее расширились от возмущения. Видите ли, Сомерсет подумал: будет хорошо «посадить» в Блетчингли сэра Томаса Кавардена. Мало того, он потребовал, чтобы Анна уступила ему все доходы с дома и земель взамен на ежегодную арендную плату в размере тридцати четырех фунтов. В лице сэра Томаса, — заверял ее лорд-протектор, — она найдет честного арендатора, который позаботится о том, чтобы она получала свою ренту, и, если дело устроится так, это будет соответствовать желаниям покойного короля Генриха, которые, в этом лорд-протектор не сомневается, она охотно уважит. К концу письма Анну уже трясло. Каварден выиграл — отобрал у нее Блетчингли. Теперь поместье все равно что принадлежало ему: он мог великолепно расположиться там и жить в свое удовольствие за весьма умеренную плату. Но без боя она не сдастся. — Я пойду на это при двух условиях, — заявила Анна. — Первое: сэр Томас согласится с тем, что я могу приезжать в Блетчингли и оставаться там, когда мне захочется, и на это время он сам будет находить себе какое-нибудь другое жилье. И второе: каждый год он будет доставлять мне двенадцать окороков из оленьего парка. Оленина в Блетчингли отличная, как вы знаете. — Не вижу никаких препятствий к тому, чтобы эти условия были приняты, — сказал сэр Джон. — Когда планируется «посадить» сэра Томаса в Блетчингли? — с горечью спросила Анна. — Через два дня, мадам. — Правда? Как он спешит!
Анна все еще переживала из-за козней Кавардена, лишившего ее любимого жилища, когда неделю спустя в Хивер прибыл посланец от ее брата. Это был мудрый Конрад Хересбах, бывший наставник самого Вильгельма, а теперь его советник, человек, которого Анна когда-то очень хорошо знала. Она провела его в гостиную, где в очаге пылал огонь. — Как приятно видеть вас, герр доктор. Как поживают герцог и моя сестра? — В добром здравии, мадам. У меня для вас письма от них, а также от герцогини Марии. — Хересбах открыл суму и передал Анне послания родственников. — Герцог прислал меня вам в утешение после вашей тяжелой утраты, а также велел мне позаботиться о вашем благополучии и проверить, как у вас обстоят дела с финансами. В Германии мы слышали, что в Англии высокая инфляция. Анна рассказала ему о своих последних договоренностях с Советом, не упоминая о том, как расстроена ими, ведь, если разобраться, условия соглашения были вполне разумные. — Король Эдуард говорил мне, что вы теперь хорошо обеспечены. До приезда сюда я имел аудиенцию у него в Лондоне. — Какого вы мнения о нем? — Он — незаурядный ребенок, очень образованный и уверенный в себе; к тому же обладает острым умом и рвением к протестантской вере. Но в нем ощущается холодность, недостаток чувства. — Как и в его отце, — заметила Анна. — Ну, по общим отзывам, то был ужасный человек! — воскликнул Хересбах. — Я слышал, его называли Английским Нероном. — Мне он всегда был другом, — ответила Анна. — Думаю, король испытал в жизни много разочарований, которые сделали его таким, каким он был в последние годы. Я по нему очень скучаю. — И вновь к ее глазам подступили всегда готовые пролиться слезы. — Но я рада видеть вас. Прошу, останьтесь на несколько дней и считайте мой дом своим.
Через три дня после отъезда доктора Хересбаха, довольного, что Анна хорошо обеспечена, она решила перебраться вместе с двором в Пенсхерст, огромный дом из светлого песчаника, с четырьмя угловыми башнями и великолепным главным залом с балочным потолком. Его окружал прекрасный сад, устроенный в виде анфилады комнат под открытым небом, стены которых составляли живые изгороди; кусты еще только набирали цвет. Анна и Отто переходили из одной зеленой комнаты в другую, все рассматривали и украдкой обменивались поцелуями. — Не такое уж это плохое место, в конце концов, — сказал Отто, остановившись около богато украшенного фонтана. Анна ощутила, что ее спутник как будто сдерживает нетерпение, собираясь сообщить ей приятную новость. — Верно. Но у меня вызывает досаду не Пенсхерст, а человек, который прибрал к рукам Блетчингли. — Забудьте о нем, — сказал Отто, заключая ее в объятия. — Какая здесь идиллия! — Он нежно поцеловал Анну. Близость Отто всегда пробуждала в ней желание, но она упорно подавляла его. Если ее поймают на каком-нибудь недостойном поступке, Совет получит предлог отказать ей в содержании. — Вы чем-то обеспокоены, — подметил Отто, когда они двинулись дальше. — Да. Управляющий сказал мне, что этот дом, как и Блетчингли, когда-то принадлежал герцогу Бекингему, которому отрубили голову за измену. Кажется, моя судьба — получать во владение дома с печальной историей. — Анна огляделась, прислушиваясь. Никаких звуков, кроме пения птиц и воркования одинокого голубя, тем не менее она понизила голос. — Но есть кое-что еще. Мой брат пишет, что император разбил Шмалькальденскую лигу и намерен уничтожить протестантскую религию. Мой шурин, курфюрст Саксонский, — теперь узник. Он и моя сестра Сибилла очень близки, и я переживаю за них. — Это вполне понятно, — сказал Отто и обнял ее одной рукой, будто пытаясь защитить. — Я ничего не могу сделать и понимаю, что Вильгельм тоже бессилен перед лицом императора. Слава Богу, Клеве никогда не вступало в Шмалькальденскую лигу! — У меня тоже есть новости! — Отто больше не мог таиться. — Ханна умерла от лихорадки, упокой Господь ее душу! Увы, ее смерть не слишком сильно задела меня. — Он повернулся к Анне, взял ее за руки и посмотрел ей в глаза истомившимся взглядом. — Анна, вы понимаете, что это означает? Мы оба свободны. Вы выйдете за меня замуж? Неудивительно, что она почувствовала его сдерживаемый восторг. Впервые за много месяцев Анну охватил прилив счастья. Ей хотелось рассмеяться во весь голос, заплясать, заплакать и запеть — все разом. — Скажите «да»! — настаивал Отто; глаза его сияли. — Я так хочу этого, — выдохнула Анна. — Я бы согласилась прямо сейчас, но есть столько разных соображений… — Каких, например? — Он продолжал улыбаться. — Я могу остаться без денег, домов и средств на содержание двора. — Вам обещали, что вы можете снова выйти замуж. Это было одно из условий развода. — Да, только новое правительство может ухватиться за любой предлог, чтобы все отменить. — Вы могли бы послать сэра Джона, чтобы он попросил разрешение на повторный брак. — Могла бы. — Анна задумалась: что удерживает ее? Ей нужно было время, чтобы собраться с мыслями. — Только представьте, Анна! Мы могли бы стать семьей. Иоганну уже шестнадцать. Он закончит свое обучение и сможет приехать сюда. Я сам привезу его. — Это было бы прекрасно! — воскликнула она, вне себя от радости. — Скажите «да»! — не отступался Отто. — Я знаю, что могу сделать вас счастливой. Подумайте об этом. Она подумала. В продолжение нескольких следующих дней, пока Отто готовился к отъезду в Клеве, ее только это и заботило. У Отто имелся прекрасный повод — похороны жены. Большинство придворных посчитали это благородным жестом, учитывая, какие отношения были у супругов.
— Двор просто бурлит! — заявил сэр Джон Гилдфорд; он только что вернулся из Лондона и сел вместе со всеми за стол, поставленный во дворе, на солнышке. — Выяснилось, что лорд главный адмирал, сэр Томас Сеймур, тайно женился на королеве Екатерине вскорости после кончины короля Генриха. — Он сильно рисковал! — передавая кому-то соль, заметил Томас Кэри, который проявил себя надежным человеком и верным слугой: в прошлом году, после смерти мистера Хорси, он взял на себя некоторые обязанности управляющего. — Да. Протектор в ярости, что его родной брат осмелился на такое. Если королева окажется беременной, кто знает, вдруг это ребенок покойного короля? Тогда возникнут затруднения с престолонаследием. — Что с ними будет? — спросила Анна, с новой силой ощутив, как опасно бывшим королевам пытаться вступить в брак. — Отправятся в Тауэр, помяните мое слово, — сказала матушка Лёве, наливая себе похлебки в глиняную плошку. — Это могут счесть изменой, — сказал сэр Джон. — Пятнать сомнениями чистоту крови наследников — тяжкое преступление. Анна приняла решение. Когда Отто вернется из Клеве, она скажет ему, что о браке не может быть и речи, по крайней мере сейчас. В теперешнем настроении Совет мог не одобрить этого, она не смела рисковать, что ей запретят выйти замуж за Отто, незаконнорожденного сына, которого могли посчитать неподходящей парой для принцессы, или вступить с ним в брак без разрешения. Она могла потерять все свое достояние и подвести многих людей, от нее зависевших. Раньше Анна считала дни до возвращения Отто, ей не терпелось увидеть сына, но теперь почти боялась этого. Она должна убедить его, что им лучше оставить все как есть. Он хотел взять ее в жены, и ей было этого достаточно.
Когда перед Анной раскланялся высокий юноша, сердце у нее едва не разорвалось. Встретившись взглядом с Отто, она прочла в его глазах ответное схожее чувство и безудержную радость. — Добро пожаловать, Иоганн, — сказала Анна, с трудом удерживаясь от порыва обнять сына. Она понимала, что этого делать не стоит. Юноша поднял на нее благоговейный взгляд. Как же похож Иоганн и на нее, и на отца, но все-таки не настолько, чтобы сходство заметили другие люди. Анну переполняла любовь к сыну. Это чувство ничуть не уменьшилось с тех пор, как она видела его ребенком; на самом деле оно стало еще горячее. Она не могла поверить своему счастью: неужели ее сын здесь! — Я слышала, вы обучены изготавливать мечи. — Я только что закончил ученичество, миледи, — ответил Иоганн по-немецки низким, почти уже мужским голосом. — Мой отец хотел, чтобы я попрактиковался в ремесле и нашел покупателей, но мне хотелось посмотреть мир, как я и сказал герру фон Вилиху. Я очень благодарен ему за то, что он привез меня в Англию на службу к вашему высочеству. Анна приятно удивлялась тому, что он изъясняется так правильно и вежливо. — А ваши родители, они довольны этим? — Да, миледи. Отец говорит, мне нужно удовлетворить свою тягу к странствиям, прежде чем я остепенюсь и займусь делом, но теперь я уже не так уверен в своем желании заниматься изготовлением мечей. Мир полон возможностей! — Он улыбнулся, и Анна растаяла. — У нас здесь все равно нет необходимых приспособлений для изготовления мечей, — сказала она, — но вы можете служить грумом в моих покоях. Будете хорошо справляться с обязанностями — рассчитывайте на повышение. — Она не могла предложить ему более значительного поста, чтобы не вызвать подозрений. Яспер и без того уже выразил удивление ее намерением взять ко двору нового слугу. — Я делаю одолжение Отто. Он очень хочет найти место для юного родственника, — ответила она камергеру, что было правдой. Анна неохотно отправила Иоганна с мистером Кэри устраиваться, и они с Отто уединились в саду, где принялись восхвалять своего сына и делиться новостями. Но Анна все время помнила, что должна сообщить Отто о своем решении. Дольше откладывать объяснение она не могла. — Милый мой, мы не можем пожениться сейчас. — Пока Анна приводила свои доводы, почему это невозможно, Отто смотрел на нее так, будто она нанесла ему смертельный удар. — Это не оттого, что я не люблю вас, — сказала она, когда он раскрыл было рот, чтобы возразить. — Я люблю! Но пока хочу, чтобы между нами осталось все как есть. Я не вынесу расставания с вами. Если бы обстоятельства складывались иначе, я сразу вышла бы за вас. Вы сомневаетесь? Лицо Отто исполнилось такой боли, что Анна физически ощутила ее. — Моя Анна! — упавшим голосом проговорил он. — Все время, пока был в отъезде, я лелеял в душе мысль, что по возвращении назову вас своей женой и вы станете моей целиком, безраздельно. Вы не передумаете? Королева Екатерина поступила безрассудно, выйдя замуж так скоро после смерти короля Генриха. Мы не подвергнем себя такому риску. Кому есть дело до людей вроде нас? Вам тридцать один. Мы уже не молоды, у нас нет времени, чтобы тратить его понапрасну. Пойдите в Совет! Спросите лордов. Это не принесет вреда. Мы же не беремся сами распоряжаться своей судьбой. Он был прав. — Я сделаю это, — обещала Анна. — Ради вас я спрошу. — Ради нас, — поправил ее Отто и привлек к себе.
Анна сказала своим придворным, что отправляется на охоту, а сама с Отто и всего двумя грумами поскакала на север, в сторону Гринвича, где пребывал двор. Дорога заняла три дня, ночевать приходилось в придорожных гостиницах. Когда она добралась до дворца, то, к своему неудовольствию, увидела у дверей зала, где заседал Совет, длинную очередь из просителей. Анне повезло: один церемониймейстер узнал бывшую королеву и организовал, чтобы ее приняли следующей. За длинным столом восседал сам лорд-протектор с сэром Уильямом Паджетом по одну сторону и сэром Томасом Риотесли, ныне графом Саутгемптоном, по другую. Прежний граф Саутгемптон — адмирал, который привез Анну в Англию, — умер пять лет назад. — Миледи Клевская, — сказал протектор, одарив ее полуулыбкой. — Чем мы можем вам помочь? — Милорд, я приехала спросить, не соблаговолит ли его величество король милостиво согласиться на мой брак с немецким джентльменом, одним из моих придворных? — Вот как! — Лорды переглянулись. — И кто же этот джентльмен? — Отто фон Вилих. Он сын владыки Геннепа, что в герцогстве Лимбург. Герцог Сомерсет помолчал, потом тихо проговорил что-то на ухо Паджету. Тот кивнул. Затем лорд-протектор посоветовался с Риотесли, который, похоже, тоже выразил согласие. Герцог повернулся к Анне. Глаза его были холодны. — Мы уверены, что его величество не будет иметь возражений против повторного брака вашего высочества. Тем не менее установления, сделанные после вашего развода, подразумевают, что вы останетесь в Англии, а значит, если желаете сохранить свое содержание, то должны выйти замуж за английского подданного. Мистер Вилих получил грамоту о принятии в гражданство? — Нет, милорд, — неохотно признала Анна. — Тогда я сожалею, но не думаю, что его величество одобрит ваш брак с иностранцем и при этом позволит сохранить выделенное вам содержание. Вы, разумеется, можете рассмотреть вариант возвращения в Германию. Анна знала, что лорды начнут чинить препятствия. Они просто хотели избавиться от финансовых обязательств по отношению к ней. Устраивать сцену не было смысла. — Господа лорды, вы очень ясно выразили свою позицию. Так как вы принуждаете меня сделать выбор, я останусь в Англии. У меня нет средств на жизнь в Клеве, и герр фон Вилих не имеет надежд на получение наследства. — Она не смогла удержаться от легкого упрека. — Я надеялась, милорды, после всех перенесенных тягот обрести немного счастья. Они ничего не ответили, а просто сидели и ждали, пока она не уйдет. — Всего вам доброго, — сказала Анна. Она едва сдерживала слезы, когда отыскала Отто в дальнем конце галереи, где людей было не так много. — Они сказали «нет», — пробормотал он, вглядываясь в ее лицо. — Они сказали «да», но я потеряю право на содержание, если выйду замуж за иностранца. Сомневаюсь, что это законно. Отто взял ее за руку и повел к дверям: — Не важно. Мы есть друг у друга, и с нами Иоганн, это главное. Он был прав и в том и в другом. Да, теперь с ними Иоганн. Каждый день видеть любимого сына, впитывать в себя каждую черточку его облика — это стало для Анны источником постоянной радости. Трудно было удержаться и не оказывать ему предпочтения перед другими слугами, чтобы не выдать ни словом, ни жестом, как много он значил для нее. Иоганн же вскоре доказал, что достоин милостей за свои труды, и у Анны появилась возможность давать ему особые поручения и держать поблизости от себя. Он прислуживал ей за столом, возил ее в карете, помогал, когда она принимала гостей. Если кто-то считал, что Иоганн слишком быстро стал получать большие привилегии, — ничего страшного.
Закутавшись в меховую накидку, Анна стояла под декабрьским солнцем среди своих придворных и, слегка расчувствовавшись, наблюдала, как юная пара приносит обеты верности друг другу на паперти приходской церкви Хивера. Кэтрин Бассет выходила замуж за Генри Эшли, окружного члена парламента, и вся лучилась счастьем. Анна взглянула на Отто. Как и она, он тоже хотел познать это мирное счастье; хотел, чтобы в их жизни все было просто и они могли пойти в церковь и стать мужем и женой перед лицом Господа. С влажными от слез глазами Анна заняла свое место на церковной скамье. Помогать приготовлениям к свадьбе было трудно: искушение нарушить данное самой себе слово, невзирая на последствия, было слишком велико. Она устояла. И теперь заставляла себя улыбаться, искренне радуясь за Кэтрин, которая вместе со своим женихом стояла на коленях перед алтарем. То, чего нельзя исправить, нужно перетерпеть! Грустные мысли не должны портить этот радостный день.
В мае в Хивер доставили письмо с королевской печатью. Анна в этот момент находилась в винокурне, где помогала матушке Лёве перегонять лекарственные настои. Анна читала послание с растущей тревогой. — Корона вернула в свое владение дворец Ричмонд! У матушки Лёве отвисла челюсть. — Как? — Королю он нравится, и он хочет иметь его в своем распоряжении, — ответила Анна. — Разве мало того, что они заставили меня сдать в аренду Блетчингли? Неужели королю не хватает дворцов? Обе они рассердились до невозможности. — Я люблю Ричмонд! — заявила Анна. — И без борьбы его не отдам. Пора было совершить очередной визит ко двору. И вновь Анна оказалась перед лордом-протектором, на этот раз с ним были сэр Энтони Браун и ее бывший главный конюший, человек с бычьим лицом, Джон Дадли, который вознесся высоко с тех пор, как покинул службу у нее, и недавно был удостоен титула графа Уорика. Из них троих только сэр Энтони, казалось, немного сочувствовал Анне. — Господа лорды, я немало опечалена утратой Ричмонда, особенно после того, как он был дарован мне пожизненно покойным королем. Сомерсет пожал плечами и беспомощно развел руки: — Увы, мадам, такова воля его величества, мы не можем ослушаться. — Но мне ничего не дали взамен! Заговорил или, скорее, зарычал Дадли: — Я удивлен, что вы этого ждете, мадам. Вы ничего не сделали для содержания дворца за восемь лет владения им, и теперь он находится в плачевном состоянии. — (Это была правда. У нее просто не хватало денег.) — Нам пришлось выделить смотрителю королевских работ две тысячи фунтов, чтобы покрыть издержки на самый неотложный ремонт. — Я не могла позволить себе траты на починку дворца, господа лорды. Дополнительных средств, которые мне выделили в прошлом году, едва хватает на оплату моих расходов. — Миледи в чем-то права, — сказал сэр Энтони. Благослови его Господь! — Поэтому его величество взамен дарует вашей светлости свой дом и имение Дартфорд, — сказал протектор, при этом Дадли нахмурился. Анна помнила, как останавливалась в Дартфорде вскоре после прибытия в Англию. — Король Генрих велел разобрать монастырские здания, — пояснил сэр Энтони, — и построил вместо них королевскую усадьбу. Дом большой и роскошный, он очень подойдет вашему высочеству. Там есть еще жилые дома, сад, фруктовые сады, обширный парк и даже гостиница при въезде. — Он новее Ричмонда и более удобен во многих смыслах, — сказал Сомерсет. Анна сдалась, понимая, что лорды одержали над ней верх. — Прошу вас, поблагодарите его величество за доброту ко мне. — Слова едва не застряли у нее в горле. Если бы только Генрих был здесь. Как же ей его не хватало.
Осень 1549 года выдалась по-зимнему холодной, деревья стояли голые, лишь редкие отважные золотые листья трепетали на ветвях. «Пришло время, — решила Анна, — нанести визит в Блетчингли». Она уже давно строила планы сделать это, но всякий раз откладывала: перспектива встретиться с сэром Томасом Каварденом, который распоряжается в ее доме, или скрестить с ним мечи совсем не радовала Анну. Она побывала в арендованном Блетчингли уже пять раз. Дважды Каварден, к счастью, отсутствовал; в остальных случаях он, попирая условия соглашения с Анной, находился в Блетчингли, когда она приезжала, и весьма неохотно удалялся в Хекстолл, который — сэр Томас без стеснения заявлял об этом — теперь стал для него маловат. Анна надеялась, что на сей раз Кавардена не будет. Она выехала из Хивера с Отто и четырьмя грумами, которые поскакали впереди. Среди них находился заметно возмужавший Иоганн. Анна не уставала любоваться им, радуясь, что сын, похоже, искренне любит ее и счастлив в Англии. Язык Иоганн осваивал гораздо быстрее, чем она, и друзей заводил тоже. Анна воображала, что между ними существует некая особая эмоциональная связь. Когда она сказала об этом Отто, тот засмеялся: — Все ваши люди любят вас, Анна. Почему Иоганн должен быть исключением? — Я думаю, между матерью и ребенком существуют узы, не осознаваемые рассудком. И он их тоже чувствует, я уверена. Проезжая через гейтхаус Хивера, Анна вспомнила о Елизавете, как та скакала под этой аркой верхом. Сердце ее болезненно сжалось: девушке было уже шестнадцать, и она переживала последствия громкого скандала, который сильно подпортил ее репутацию. — Трудно поверить, что прошло уже шесть месяцев после казни адмирала, — сказала Анна. Она была шокирована, узнав, что Томас Сеймур пытался соблазнить Елизавету, не заботясь о чести своей жены королевы, а едва овдовев, строил планы женитьбы на принцессе. Этот человек, должно быть, сошел с ума. Что ж, он заплатил за свои безумства головой. — Слава Богу, королева умерла, не увидев этого, — сказал Отто. Анна едва не перекрестилась при упоминании о Екатерине Парр, умершей в родах в прошлом году, но такие папистские жесты были теперь запрещены. Она немного помолчала, крепко задумавшись. — Сэр Томас Каварден имел дела с адмиралом. Думаю, они были друзьями. — Если так, то сэр Томас быстро забыл своего приятеля. Сэр Джон говорил мне, что он помогал описывать конфискованные имения адмирала. — Сэр Томас из тех, кто всегда будет гнуться под ветром, — едко заметила Анна. У нее до сих пор вызывал досаду вид огромного гейтхауса, выстроенного сэром Томасом перед домом в Блетчингли. Были произведены и другие изменения. Она не забыла прошлогодние жалобы местных жителей, которые ужаснулись решительности, с какой Каварден лишил их приходскую церковь всех признаков ее католического прошлого. Анна видела собственными глазами валявшуюся в нефе балюстраду хоров, которую сэр Томас снес. Под ней лежало разбитое Распятие. Из здания вытащили все статуи и ризы, стены побелили, замазав старинные росписи со сценами из Писания, а алтарь жутко обезобразили. — Всю золотую и серебряную посуду, мебель и резные вещи погрузили на повозки и отправили в его дом в Лондон, — ворчливо говорил хозяин местной гостиницы. — Он сказал, это символы идолопоклонства. А по мне, так просто хотел заграбастать все себе, — добавил старик. Анна была не в силах что-либо предпринять, только послала четверых из своих слуг помогать с уборкой последствий погрома. Если бы она попыталась привести церковь в прежнее состояние, Каварден вновь осквернил бы ее и мог пожаловаться на Анну в Совет. К счастью, когда она приехала, его на месте не оказалось. Как и прежде, все находилось в образцовом порядке. Мебель блестела, стекла в окнах искрились, посуда сверкала, кладовая была полна. Сэр Томас жил как король. Пока Анна и Отто обходили поместье, на территории которого тоже не к чему было придраться, она заметила недавно отремонтированный большой амбар, а открыв дверь в него, ахнула: внутри он был весь забит доспехами, пушками и прочим оружием всевозможных видов. — Отто, почему сэр Томас устроил здесь арсенал? — с тревогой спросила она. Отто осмотрел амбар: — Он представляет графство Суррей в парламенте и к тому же исполняет должность главного шерифа. Может быть, склад оружия нужен ему для поддержания порядка. Анну это не убедило, она не могла поверить, что сэр Томас был честным слугой общества, какого из себя строил. По ее мнению, влияние Кавардена в этих краях было скорее пагубным, чем благотворным. И при этом он собрал огромное количество оружия! Она постаралась забыть о нем и наслаждалась своим пребыванием в Блетчингли; не задумываясь дала слугам разрешение рубить деревья в парке. Все-таки он принадлежал ей. — Почему бы мне не извлечь выгоду из своего имущества? — сказала она мистеру Кэри. — Деньги нам нужны, как никогда прежде. Выплату моего содержания снова задерживают, и у меня так мало средств, что я была вынуждена обратиться за помощью к брату. В тот вечер сэр Томас Каварден вернулся в Блетчингли. Самодовольства у него как будто поубавилось, его перекрывало ликование. — Миледи Анна, лорды и леди! — провозгласил он, смахивая с головы шапку и кланяясь, как будто имел полное право находиться в Блетчингли одновременно с Анной. — У меня есть новости. Герцога Сомерсета заставили покинуть пост лорда-протектора. — Почему? — спросила Анна, пока окружающие моргали глазами, разинув рты от изумления. — Что он сделал? — Лучше спросите, чего он не сделал! Я могу назвать его непомерные амбиции, его тщеславие, поспешное вступление в войны, обогащение за счет королевских сокровищ и самоуправство. Лордам это надоело, и они решили, что он должен уйти. И скатертью дорога, я бы сказал. — Кто же его заменит? — поинтересовался сэр Джон. — Кто будет править Англией? — Думаю, вы можете увидеть милорда Уорика удостоенным этой чести, — ответил сэр Томас, выдвинул стул и без приглашения уселся с краю главного стола. — Есть тут вино? Яспер без улыбки передал ему кувшин. Уорик был неприятен Анне, когда служил у нее главным конюшим, и знал это. Но сэр Джон Гилдфорд выглядел довольным: — Милорд Уорик женат на моей кузине. Надеюсь, он меня не забудет. Сэр Томас улыбнулся Анне: — Я тоже рассчитываю на выдвижение Уорика. Мы с ним в родстве по браку, и я могу много чего получить из его рук. «О нет! — подумала Анна. — Блетчингли вы не получите. Только через мой труп!»
Утром сэр Томас уехал, и Анна понадеялась, что больше они его не увидят. Но ближе к вечеру он вернулся весьма рассерженный. — Ваши люди снова рубили мои деревья? — зарычал он на Анну, даже не поприветствовав ее. — Мои деревья, полагаю, — поправила она его. — Я плачу вам ренту за них! — возразил он. — А я ими владею. И да, я приказала срубить несколько штук. — Я пожалуюсь в Совет! — взъярился сэр Томас. — На что? Люди постоянно рубят деревья на дрова, для строительства и прочих нужд. Лорды посмеются над вами! Но прошу вас, давайте, выставляйте себя дураком. Она услышала сдавленные смешки своих людей. — Вам будет нечему смеяться, когда я с вами разделаюсь! — крикнул сэр Томас, протопал к выходу и хлопнул за собой дверью. Анна вздохнула. Каварден никогда не признает поражения. Оставил бы он ее в покое!
В середине декабря Анну обрадовало известие сэра Джона Гилдфорда, что ее брат отправил послов к английскому двору. — Мадам, они отыскали меня там и просили передать, что приехали добиваться выплаты вам задержанной пенсии, которую обязана предоставлять Корона. Они сказали, что имперский посол поддерживает их по личной просьбе императора. — («Может быть, — с опаской подумала Анна, — это подготовка к тому, чтобы подмять Клеве под пяту его императорского величества?») — Завтра они получат аудиенцию у короля. — Это хорошие новости, — сказала Анна. — Кто у них главный? — Доктор Герман Крузер, мадам. — Я его знаю. Он доктор права и советник моего брата. Очень ученый человек и весьма достойный, заверяю вас. Тем не менее усилия этого достойного человека, очевидно, оказались напрасными, потому что больше Анна ничего не слышала, и ей пришлось опять сокращать расходы. Продажа леса помогла — по крайней мере, она смогла позволить себе кое-какие развлечения на Рождество, — но с приближением Нового года начала паниковать, глядя в будущее.
Наступал год 1550-й от Рождества Христова. Начиналось новое десятилетие. Десять лет назад Анна находилась в Кале в ожидании попутного ветра, который доставит ее в Англию. Сколько тогда у нее было надежд, как предвкушала она славное будущее в качестве королевы! Теперь ей тридцать четыре, почти уже дама средних лет — любимая, это верно, всеми добрыми людьми, зависевшими от нее, но не имевшая достаточно средств, чтобы поддержать их всех.
Глава 26
1550–1552 годыПредсказание сэра Томаса сбылось. Граф Уорик теперь был лордом-президентом Совета и управлял Англией вместо Сомерсета. Когда Анна узнала об этом, настроение у нее еще ухудшилось. Она понимала, что от этого человека ничего хорошего ей ждать не приходится. В противоположность Анне сэр Томас вознесся еще выше. Когда весной она посетила Блетчингли, все поместье возбужденно обсуждало важные знаки доверия, выказанные Уориком Кавардену. Ему был дарован дом в Блэкфрайарсе, которым он уже давно пользовался как смотритель пиров. Сейчас сэр Томас находился в отъезде, занимался усилением гарнизона Тауэра, чтобы государственных преступников содержали под более строгим надзором. Вероятно, правительство ожидало неких протестов в связи с отстранением от должности Сомерсета или, может быть, нервничало после прошлогоднего народного бунта, вызванного огораживанием общинных земель. Когда Анна тайком заглянула в амбар, то заметила, что запас оружия в нем уменьшился, однако его хватило бы на небольшую армию. Кавардена также сделали хранителем дворца Нонсач, построенного королем Генрихом в каком-то фантастическом стиле, как слышала Анна, откуда и его название — Несравненный или Жемчужина Королевства. Анна никогда там не бывала, поэтому, когда сэр Томас в свойственной ему повелительной манере прислал гонца с приглашением ей и ее приближенным посетить банкет, который он там устраивал, так как соскучился по удовольствию общения с миледи Анной в Блетчингли — ну и нахал! — любопытство победило. К удивлению Анны, банкет был устроен не во дворце, который оказался вовсе не таким огромным, как она ожидала, и напоминал обычный большой дом с турретами и зубчатыми стенами, по крайней мере сзади. Дворец она осмотрит позже, когда отправится туда ночевать. А пока ее и Отто вели через парк в банкетный дом, поставленный на высокой платформе на высоком месте. Это было восьмиугольное здание с деревянным каркасом, похожее на крепость и окруженное низкой кирпичной стеной. Подобрав серебристые юбки, Анна поднялась по одной из трех лестниц ко входу и удивилась, обнаружив, что внутри дом ярко освещен и богато убран гобеленами, которые, как она подозревала, взяли из дворца. Стол был уставлен всевозможными изысканными яствами, из маленького каменного фонтанчика, встроенного в стену, лилось вино. Эта роскошь стала для Анны неприятным напоминанием, что сама она уже не может позволить себе принимать гостей на широкую ногу, ибо глубоко увязла в долгах. Она отбросила эту гнетущую мысль, улыбнулась Отто и смешалась с толпой гостей, решив, что на один вечер забудет о своих проблемах. Вскоре все приглашенные уже оживленно болтали и с каждой минутой становились веселее и веселее. Анна стояла у камина и разговаривала с Кэтрин Эшли, которая ради такого случая приехала сюда из своего дома недалеко от Хивера. Они вспоминали свадьбу Кэтрин, как вдруг Анна заметила, что рядом с ней появился хозяин торжества. Сэр Томас ждал, пока она заметит его. Анна неохотно извинилась перед своей собеседницей и протянула ему руку для поцелуя со словами: — Сэр Томас, я должна поблагодарить вас за превосходное гостеприимство. — Я рад, что ваше высочество почтили меня своим присутствием, — громко, чтобы все услышали, сказал он. Каварден никогда не упускал возможности показать всему миру, как высоко он вознесся. Потом сэр Томас склонился к уху Анны, чем немало удивил ее. — Ваш приезд доставляет мне удовольствие и в более личном смысле, — пробормотал он. — Миледи, давайте забудем о наших разногласиях. Мы с вами давно дружим, и мне хотелось бы, чтобы наши отношения переросли в нечто большее. Анна уставилась на него. Какая дружба? Скорее, самонадеянность с его стороны и раздражение, смешанное с возмущением, — с ее. Теперь он действительно зашел слишком далеко. — Сэр Томас, мне кажется, вы немного перебрали с вином, — мягко сказала Анна. — Я забуду об этом разговоре, и вам следует поступить так же. Не говоря больше ни слова, она отошла от него и со стучащим сердцем стала разыскивать Отто. Какая гадость! Анна чувствовала себя замаранной. Как мог этот человек рассчитывать, что она когда-нибудь снизойдет до того, чтобы стать его любовницей? Ведь именно это он предлагал, раз его жена была жива-здорова. Ради Бога! Остальную часть вечера Анна старательно избегала сэра Томаса. Ближе к полуночи у нее начала побаливать голова от вина и громких разговоров, и Отто вывел ее на улицу подышать ночным воздухом. — Давайте извинимся и уедем, — предложила Анна. — Я не хочу ночевать во дворце. Потом объясню вам почему. — Мы можем найти гостиницу где-нибудь по дороге, — с улыбкой сказал Отто. Внутри у Анны расцвело давно подавляемое чувство. — Вы попрощаетесь с сэром Томасом и поблагодарите его от моего имени? — попросила она. — Я не хочу встречаться с ним. Отто прищурился: — Он навязывал вам свое внимание? Если это так, я проткну его шпагой. — В его словах была только доля шутки. — Сэр Томас проявил свою обычную заносчивость, — ответила Анна. — Дуэль тут не нужна. Она откроет Отто правду позже, когда они окажутся на безопасном расстоянии. — Я пойду теперь же, — сказал Отто, оставив ее наслаждаться покоем залитого лунным светом парка. — Я нигде не смог его найти, — отчитался он по возвращении. — Попросил его жену передать ему наши прощальные слова. Пойдемте искать вашу карету. Карета ждала их в нескольких ярдах впереди, там, где были привязаны лошади всех гостей. На козлах позевывал Иоганн. — Надеюсь, вы хорошо провели вечер, миледи, — сказал он, сбрасывая с себя сонливость. Анна удержалась от порыва обнять сына. — Да, благодарю вас, Иоганн. Они забрались в карету, и Отто накрыл ее колени бархатным покрывалом. — Я приметил одну гостиницу в Банстеде, — крикнул он Иоганну. — Ja, я видел ее. Отвезу вас туда. Когда они проезжали мимо банкетного дома, Анна увидела сэра Томаса: тот стоял снаружи и с печальным видом вглядывался в даль. Может быть, он по-своему любил ее? Анна повернулась к Отто, и тот заключил ее в объятия. Она шепотом рассказала ему, что случилось, и почувствовала, как ее любимый напрягся от гнева, который она успокоила поцелуями и ласками. В ту ночь под крышей старой гостиницы Анна снова позволила ему любить себя, насколько осмелилась.
К началу весны Анна поняла, что так больше не протянет. Ее финансовое положение стало совсем отчаянным, и она серьезно подумывала о возвращении в Клеве. Это сулило ей жизнь под бдительным оком Вильгельма и утрату независимости, но дало бы отдых от постоянного гнета забот. Вильгельм мог даже позволить им с Отто пожениться. Иоганна и остальных своих немецких слуг она заберет с собой. Анна написала брату, как плохо обстоят у нее дела, и обрадовалась, когда тот сразу прислал обратно в Англию доктора Крузера с приказанием настоять на том, чтобы Совет спас ее от финансовых затруднений. Необходимость в строгой экономии заставила Анну отдать распоряжение управляющему о закрытии Хивера и Дартфорда, сама же она отправилась на север от Лондона в поместье Мор, которого еще не видела. Оно не отличалось большими размерами, и средств на его содержание потребуется меньше. Дому было уже около ста лет, он хранил горькие следы былого величия — тех времен, когда им владел кардинал Уолси, — но находился не в лучшем состоянии. Больше десяти лет никто в нем не жил. Сад, за которым много лет не ухаживали, весь зарос. Это расстроило Анну. Она собрала слуг и распределила между ними задания, которые необходимо было выполнить, чтобы привести дом в пригодное для жизни состояние. Сама взялась за дело вместе со всеми — мела полы, намывала окна и вешала яркие шторы, которые привезла из Хивера. Иоганн со знанием дела красил оконные рамы, а Яспер Брокгаузен и его жена обнаружили склонность к садоводству, собрали команду добровольцев и принялись восстанавливать, что было возможно. Мор выглядел гораздо привлекательнее к тому моменту, когда Анна получила весточку от доктора Крузера. Он находился в Англии, уже два раза встречался с Советом и просил лордов помочь ей. Если Господу будет угодно, усилия отправленного Вильгельмом посла принесут желанные плоды. Анна ждала и ждала. Только на первой неделе июня получила она письмо от доктора Крузера, в котором тот сообщал, что король написал ее брату и обещал разобраться со счетами Анны. Крузер полагал, что за нее ходатайствовал архиепископ Кранмер. Чувство облегчения было невероятное. Анна пошла в часовню, очищенную от слоев пыли, и встала на колени, дабы возблагодарить Господа. Потом она написала королю Эдуарду, выражая благодарность за его доброту к ней. Другое письмо было отправлено брату, которому она тоже говорила огромное спасибо за то, что тот прислал такого прекрасного заступника, как доктор Крузер, и сообщала о своем решении все-таки остаться в Англии. Анна посчитала, что добрый доктор Крузер может поспособствовать ей в еще одном деле: затянувшийся спор по поводу рубки деревьев в Блетчингли отнимал много сил, и она попросила Крузера помочь разрешить его. Все сложилось удачно. Тайный совет дал ей разрешение распоряжаться по своему усмотрению домом и использовать окрестные леса, если она не будет разорять их и губить понапрасну. Производство и продажа угля дозволялись ей без всяких оговорок. Какая радость! Анна торжествовала победу и представляла себе ярость сэра Томаса, когда тот узнает, как она обхитрила его, и тут в дверь постучал сэр Джон Гилдфорд. — Пришло сообщение, что в Лондоне мор. Но вы не беспокойтесь, миледи. Летом часто возникают разные моровые поветрия. Здесь вы в безопасности. Мы почти в тридцати милях к северу от Сити. Через день сэр Джон отважился заехать в Лондон, насколько посчитал благоразумным, и быстро вернулся встревоженный. — Это потливая лихорадка, — сказал он собравшим вокруг придворным. Послышалось испуганное аханье. — Потливая лихорадка? — озадаченно переспросила Анна. — Это ужасная болезнь, мадам, которая, кажется, поражает только Англию каждые несколько лет. Последняя вспышка была в тысяча пятьсот двадцатом году. Я слышал, что она возникает от затхлого воздуха. Больные начинают буквально обливаться потом, и происходит это совершенно внезапно. Никакие лекарства не помогают. Анна содрогнулась. Она представила себе пораженного злой напастью Иоганна, умирающего Отто… — Да, — подтвердил доктор Саймондс, который стал личным врачом Анны после доктор Сефера. — Человек может чувствовать себя прекрасно за завтраком и умереть к обеду. — Присущая Саймондсу спокойная вежливость сменилась мрачной тревогой. — Мадам, мы должны сделать так, чтобы в дом не допускали ни единого человека из Лондона. В прежние времена, когда вспыхивала лихорадка, она прокатывалась по всему королевству, и смертей было очень много. Заговорил сэр Джон: — В Эджваре, где меня предупредили о потнице, я слышал, что при дворе умерло несколько человек, и короля Эдуарда сразу перевезли в Хэмптон-Корт. — Скажите мне правду. Мы здесь в безопасности? — спросила Анна доктора Саймондса. — У меня есть владения дальше от Лондона, мы можем искать убежища там. — Пока мы не входим с контакт с посторонними, опасности нет. — Еды у нас много, — вставил мейстер Шуленбург. Это было все равно что сидеть в осаде. Лишь значительно позднее они узнали, что в Лондоне, где поднялась настоящая паника, умерло около тысячи человек. Вся жизнь там замерла, лавки были закрыты, горожане заперли двери домов и молились о спасении. В Море Анна и ее придворные двадцать дней провели в напряжении, будто хором задержали дыхание, постоянно следили друг за другом — нет ли признаков заражения? — и питались весьма скромно, так как погода стояла теплая и запасы мяса и рыбы в кладовой были небольшие. Наконец в июле, когда Яспер работал в саду, какой-то человек прокричал через ограду, что лихорадка стихла и в округе не было случаев заболевания. Постепенно жизнь вернулась в обычное русло. В сентябре Анну обрадовало приглашение леди Елизаветы посетить ее в Эшридже. К восемнадцати годам Елизавета превратилась в стройную, полную достоинства женщину с острым умом и обширными познаниями в разных областях. У нее были волосы песочного цвета, желтоватая кожа и крючковатый нос — красавицей ее не назовешь, — но она обладала несомненным шармом, и Анна не сомневалась, что мужчины находят ее привлекательной. Женщины поздравили друг друга с тем, что избежали лихорадки, и пошли в сад, наслаждаясь солнцем и делясь новостями. Анна поняла, что Елизавета в последнее время предпочитает держаться подальше от двора. — Раньше у нас с братом были теплые отношения. Он называл меня своей милой сестрицей Трезвенницей, а теперь отдалился, к тому же меня угнетает официоз двора. Король — он как бог, которому нужно поклоняться. Ему еще нет четырнадцати, но он знает все. Я больше не могу находиться рядом с ним. А когда вижу его, он только и делает, что жалуется на Марию, которая требует, чтобы для нее устраивали мессы. — Вера для нее больше, чем сама жизнь, — заметила Анна. — Да, но мессы теперь под запретом. Лучше бы она перестала провоцировать короля и вела себя более прагматично, по вашему примеру. Вы были католичкой, но сменили веру, как все. Разговор приобретал опасный оборот. — Я частное лицо, — сказала Анна. — Мое подчинение новым порядкам не имеет значения для короля. Леди Мария — его наследница. Меня не удивляет его желание, чтобы она отказалась от месс, хотя я уверена, этогоникогда не случится. — Тогда будем молиться, пусть Господь сохранит моего брата в здравии и благополучии на много лет! — И Елизавета пошла дальше по посыпанной гравием дорожке, напевая что-то себе под нос; длинные волосы развевались у нее за плечами.
Январь 1552 года застал Анну снова в Блетчингли. Здесь она переваривала новость, что бывшему лорду-протектору отрубили голову. — Он планировал свергнуть герцога Нортумберленда, — сказал сэр Джон. Таким титулом недавно наделил себя Уорик, дабы подчеркнуть свое величие. Всего двенадцать лет назад этот человек был главным конюшим при дворе Анны, а теперь он верховный правитель Англии! — Это вызвало протесты в народе, — продолжил Гилдфорд. — Люди считали Сомерсета добрым герцогом. Думаю, сам он тоже верил, что приговор в последнюю минуту отменят. Смерть он принял храбро. — Этот человек никогда не был мне другом, — сказала Анна, — и все-таки мне жаль его. Она вернулась к счетам, которые принес ей на подпись Яспер. С прошлой недели дефицит увеличился. Видимо, ей все-таки придется покинуть Англию. Анна отложила счетоводную книгу и начала писать Вильгельму, сообщая ему о казни Сомерсета. «Бог знает, что произойдет дальше, и все так вздорожало в этой стране, что я не знаю, как содержать дом. Если я решу вернуться в Клеве, то не доставлю вам проблем. Я больше не чувствую себя в Англии как дома». Анна все еще не могла ни на что решиться, когда пришло письмо от Тайного совета с сообщением, что король даровал Пенсхерст сэру Уильяму Сиднею. Никаких извинений в письме не было, равно как и упоминания о том, что взамен ей предоставляется какой-нибудь другой дом. Анна написала ответ, в самых суровых выражениях возражая против этого решения, но не получила даже вежливой отписки. — Может быть, так даже лучше, — сказал Отто, когда Анна ночью лежала в его объятиях. — У вас и без того есть три дома, которые нужно содержать. — Лично я лучше имела бы один, — сказала ему Анна, — но, как принцесса Клеве, должна жить в соответствии с этим статусом. Если бы я могла устроить жизнь на свой вкус, у нас с вами был бы милый домик в деревне и я играла бы роль Hausfrau![123] — А кем был бы я? — Отто засмеялся, щекоча ее и заставляя взвизгивать. — Перестаньте! Люди нас услышат, — упрекнула его Анна. После той ночи в гостинице они делили ложе при каждой возможности, и это было блаженством, хотя им все равно приходилось таиться. Анна знала, что большинство придворных с сочувствием относятся к ее положению, но они могли не одобрить поведение Отто, если бы тот обращался с ней как со своей женой. Только, разумеется, он этого не делал, потому что в самой главной радости им было отказано. Это вызывало досаду у них обоих, и часто, лежа рядом с Отто и лаская его тело, Анна испытывала всепоглощающее желание, но оно не пересиливало страха перед последствиями. Ей как будто на роду было написано все время жить в ожидании худшего. Вот что сотворила с ней Англия. — Проблема больше у вас в голове, чем в реальности, — говорил ей Отто. — Но Совет ясно выразил свое отношение, — возражала она. — Это был Сомерсет. Теперь его нет. — И вы думаете, Нортумберленд проявит больше сочувствия? — Давайте просто поженимся, Анна, и к черту последствия! И она всегда отвечала «нет», отказывая себе и человеку, которого любила.
В марте пришли радостные известия из Клеве. Два года назад герцогиня родила первого ребенка, Марию Элеонору. Теперь на свет появилась вторая дочь, которую Вильгельм назвал Анной в честь своей дорогой сестры. Анне хотелось присутствовать на крещении, но она не могла позволить себе такую поездку и вместо визита в Клеве послала племяннице серебряную погремушку со звенящими бубенчиками и свое благословение. Это было небольшим проблеском счастья среди в остальном унылой весны. Совет неустанно стремился урезать содержание Анны. В апреле король приказал ей обменять поместье Бишам на другое, равное по стоимости, но его слуги забрали Бишам раньше, чем подходящая замена была подобрана. И ее так и не подберут, Анна это знала, сколько бы она ни протестовала. Потом Совет стал давить на нее, чтобы она обменяла свои земли в Кенте, но Анна уже была научена горьким опытом этой игры в обмены и резко отказалась, к большому огорчению лордов. Как будто этого было мало, Яспер пришел к ней с унылым лицом и предупредил, что ее финансы опять находятся в угрожающем состоянии. — Мадам, мы должны урезать расходы и на чем-то сэкономить. — Хорошо, — согласилась Анна и даже не поинтересовалась, что он намерен предпринять, — настолько она устала от всего этого. Но что еще урезать? Яспер все продумал. К столу стали подавать меньше блюд. Огонь тушили в девять, какая бы ни была погода. Следуя старому, принятому в Клеве обычаю, после этого часа не следовало употреблять никакой еды и питья. Свечи полагалось сжигать до конца и только тогда использовать новые. Последнее распоряжение вызвало наибольшее возмущение, потому что слуги привыкли забирать себе огарки после одного вечера использования. И, кроме того, было сокращено выделяемое на день количество эля. Анна сознавала, что при дворе растет недовольство. Ее кузен, Франц фон Вальдек, теперь уже двадцатисемилетний джентльмен, служивший в ее покоях, возражал громче других и однажды вечером за ужином призвал к ответу Яспера. — Как, по-вашему, это называется? — гневно спросил он, с отвращением указывая на свою маленькую порцию рыбы. — Ни соуса, ни какого-нибудь другого блюда. Мы с тем же успехом могли бы жить в монастыре. — Там кормят лучше, могу поспорить, — ввернул Томас Кэри. — Миледи Анна, — продолжил Франц, — ваш стол когда-то славился изобилием. Теперь гости не приходят. И пища день ото дня становится хуже. — Мейстер Шуленбург в этом не виноват. Нам приходится жить по средствам. — Нет, это его вина, — заявил Франц, тыча пальцем в Яспера. — Простите меня, но с каких пор вам известно, как обстоят дела со счетами ее высочества? — возразил тот. — У нее нет денег, одни долги. Нам приходится экономить. — Вы плохо управляли ее деньгами, вот что привело нас в такое положение! — рявкнул Франц. — Не вам судить! — вспыхнул Яспер. — Не вам, с вашими восемью слугами, которых она обязана обеспечивать! — Джентльмены, прекратите! — воскликнула Анна. — Франц, вы не в том положении, чтобы высказывать критику. — Я просмотрел счетные книги. Они в безнадежном беспорядке. — Это ложь! — взвился Яспер. — Как вы смеете! — прошипела его жена Герти. — Клянусь честью своей семьи, герр Брокгаузен, я не лжец, и вы возьмете свои слова обратно! — Франц побагровел. Анна стукнула кулаком по столу: — Я не потерплю таких безобразных сцен! Франц, я проверяю счета каждую неделю. Они не в беспорядке, вы преувеличиваете. Фон Вальдек сердито глянул на нее: — Мадам, меня огорчает, что вам так плохо служат. Это несовместимо с вашей честью и статусом, когда у вас при дворе процветает скаредность. — С моей честью также несовместимо, чтобы мои люди голодали! Никто не был уволен и никто не ушел, не получив заработанного, так что если вы хотите сохранить своих восьмерых слуг, то лучше перестаньте жаловаться. — Она повернулась к кипевшему от гнева Ясперу. — Может быть, мы можем экономить как-нибудь иначе. — Вы думаете, он не пытался? — вмешалась Герти. — Я знаю, что пытался. — Анна умиротворяюще улыбнулась. Она не могла допустить, чтобы Брокгаузены, ее добрые слуги и верные друзья, чувствовали себя уязвленными. — Но давайте на досуге подумаем вместе, не найдется ли лучшего способа экономить деньги. А теперь сменим тему. Я слышала, скоро появится новый «Молитвослов» на английском языке. Несмотря на все усилия Анны, ссора не закончилась. Затаенная вражда готова была вырваться наружу яростной перепалкой в любой момент, и Анна подозревала, что причин для нее больше, чем всплыло на поверхность.
Анна раздобыла немного денег, продав кое-что из своих драгоценностей. Однажды утром, дело было в июне, она сидела в саду в Хивере, перебирала вещицы, оставшиеся в изрядно опустевшем ларце, и размышляла, сможет ли расстаться с брошью, которую подарил ей король Генрих, как вдруг заметила, что рядом стоит Франц фон Вальдек и ждет, когда она обратит на него внимание. — Франц, что я могу для вас сделать? — Я бы хотел поговорить с вами, мадам. — Садитесь, — предложила Анна, закрывая ларец. Франц на мгновение заколебался. — Как ваш близкий родственник, миледи, я подумал, составили ли вы завещание? — Завещание? — Проявить предусмотрительность — это мудро. Вы наверняка хотите, чтобы ваше имущество перешло к наследнику, которого вы выберете. Но если вы умрете без завещания, этого может не случиться. — Франц, мне тридцать шесть, и я вполне здорова! — Никогда не бывает слишком рано. Никто из нас не знает, когда его призовет Господь. Это был печальный разговор для такого приятного летнего дня. — Мы кузены, миледи, — не отступался Франц. — Если вы назовете меня своим наследником, я сделаю все возможное для защиты ваших интересов, так как они станут моими собственными. «Ах вот оно что, — подумала Анна, — теперь ясно, отчего вам так небезразлично состояние моих финансов». Вслух она сказала: — Франц, я очень хорошо отношусь к вам, но вы ничего не выгадаете, став моим наследником, потому что я бедна. Все эти великолепные дома вместе с доходами, которые они приносят, после моей смерти вернутся в собственность Короны. Все, чем я владею, — это мои драгоценности и личные вещи. — Я ищу не выгоды, — сказал Франц, — а скорее признания нашего родства и двенадцати лет моей службы. Как ваш законный наследник, я буду пользоваться большим авторитетом при вашем дворе и смогу лучше управлять делами. Так вот в чем дело! — Вы имеете в виду, что хотели бы следить за счетами? — Да, а также иметь другие возможности. Я тоже испытываю финансовые затруднения. И надеялся, что по своей доброте вы могли бы передать мне что-нибудь из вашего личного имущества, чтобы я мог получить немного денег. Приходилось лишь восхищаться его бесстыдством. — Франц, — мягко сказала Анна, — если я умру, не оставив завещания, наследником моего жалкого состояния станет мой брат, а после него — сестра. Они мои ближайшие родственники, и будет только правильно, если наследство достанется им. И когда придет время, я хотела бы отблагодарить тех, кто хорошо служил мне. Давайте на этом остановимся. Прекрасное лицо Франца затянуло облаком уныния. — Что-нибудь еще? — более строгим тоном спросила Анна. — Нет, миледи, — пробормотал он и ушел. Через несколько мгновений появился Яспер. — Не могу поверить тому, что только что услышал, — сказал он Анне. — Вы подслушивали? — Не намеренно. Я шел сообщить вашему высочеству, что доставили просроченную арендную плату за Норфолк, когда услышал, что Франц разговаривает с вами. Естественно, я подождал, пока он не закончит. Честно, мадам, его самонадеянность ужасает! Анна тоже так думала, но не хотела разжигать вражду между своими придворными. — Так что с рентой, Яспер? — сказала она. — Мы теперь богачи?
Вечером, когда Анна осталась наедине с Отто, она спросила, что он думает по поводу неожиданной просьбы Франца. — Он молод и горяч, — ответил тот, — я рад, что вы поставили его на место. — Но я сделала это по-доброму, — сказала Анна, проводя пальцами по золотистым волоскам на груди Отто с нежным восхищением: ее любимый мужчина и в тридцать восемь лет оставался стройным, сильным и мускулистым. — Как младший сын, он не имеет наследства. Полагаю, не стоит винить его за то, что он пытается улучшить свое положение. Но путь он избрал неверный. Не знаю, что на него нашло в последнее время. — Наверное, он считал свое будущее обеспеченным и не желает расставаться с привычным комфортом, терпя экономию. Отто погладил ее по руке: — Мне не нравится, как он придирается к Ясперу, тот ведь изо всех сил старается свести концы с концами. — Яспер сегодня был очень сердит. — Он показал мне счета. Его расстроили обвинения Франца, что они в беспорядке. Мне показалось, там все нормально. Анна нашла губами губы Отто. — Как я не люблю все эти распри. Они бросают тень на всех. — Я поговорю с ними обоими, — пообещал Отто и заключил Анну в объятия.
Тактичный совет Отто конфликтующие пропустили мимо ушей. Яспер не разговаривал с Францем, а Франц не упускал возможности бросить ему очередной упрек. Придворные разделились на два лагеря. Анна уже не знала, что делать, как вдруг пришло письмо от доктора Олислегера, из которого стало ясно, что Яспер написал ему и настоятельно рекомендовал поставить в известность Вильгельма о попытке Франца убедить Анну, чтобы та признала его своим наследником и передала ему часть своей собственности. По приказу герцога доктор Олислегер вызывал Франца в Клеве для объяснений и просил Анну проследить, чтобы тот выехал безотлагательно. Анна испытала немалое облегчение при виде уезжающего разъяренного Франца и попросила Отто и сэра Джона лично проследить за его убытием и не допустить, чтобы тот затеял драку с Яспером. Атмосфера при дворе просветлела, и Анна начала надеяться, что Вильгельм не отпустит Франца назад. В июле настроение ее еще улучшилось. Совет сообщил ей, что император наконец отпустил из плена курфюрста Саксонского. Анна не единожды обращалась к королю Эдуарду с просьбой посодействовать освобождению, и Сибилла писала ей, что сама неустанно добивается этого. К радостному удивлению Анны, Тайный совет поручил английскому послу просить императора о милосердии. С каким же удовольствием она представляла себе радость Сибиллы при воссоединении с любимым супругом! В августе, вдохновленная поддержкой Совета в этом деле, Анна написала королю Эдуарду, принеся глубокие извинения за то, что ее расходы теперь превосходят доходы почти на тысячу фунтов в год. Она умоляла его величество проявить милость и оказать ей финансовую помощь. Ответ пришел краткий и удручающий: король объезжал страну и решил не заниматься никакими выплатами до своего возвращения. Ее просьба не может быть удовлетворена, пока его величество не приедет в Лондон.
Часть пятая. Миледи Клевская
Глава 27
1553–1554 годыКороль умер. Ходили слухи о болезни Эдуарда, но сэр Джон утверждал, что его величество совсем недавно появлялся у окна во дворце Гринвич и заверял собравшуюся внизу толпу, что с ним все в порядке, поэтому внезапная новость потрясла всех. Умереть в пятнадцать лет — это невероятная трагедия. Анна не могла выбросить из головы мысли о несчастном мальчике, которого превратили едва ли не в божество и изолировали от мира. Что теперь будет? — Следующая в ряду наследников — Мария, — сказал сэр Джон, когда они в тот вечер угрюмо сидели за ужином в Блетчингли. — Это значит, мы все снова обратимся в католичество, — заметил мистер Кэри. — Первым, кого она свергнет, станет Нортумберленд, — предсказал сэр Джон. — У нее нет причин любить его. Он энергично противился ее желанию слушать мессы и многое сделал для укрепления протестантской веры в Англии. — Не могу представить, чтобы он отдал власть без борьбы, — сказал Отто. Слова его оказались пророческими. Три дня спустя они узнали, к своему изумлению, что в Лондоне была объявлена королевой леди Джейн Грей. Анна пыталась осознать произошедшее. — Кто она такая? — Внучатая племянница короля Генриха, внучка французской королевы, — пояснил мистер Кэри. — Она еще девочка. — И вышла замуж за сына Нортумберленда всего несколько недель назад, — продолжил сэр Джон. — Думаю, герцог давно уже спланировал все это. Говорят, король Эдуард на смертном одре изменил порядок престолонаследия и лишил прав на него своих сестер. — Интересно, что предпримет принцесса Мария, — задумчиво проговорила Анна, сильно тревожась и за Марию, и за Елизавету. — А что она может сделать? — пожал плечами мистер Кэри. — Она всего лишь женщина, у нее нет в распоряжении никаких ресурсов. — Но правда на ее стороне, — возразил сэр Джон. — Как законник, я могу заявить вам со всей определенностью, что воля, выраженная на смертном одре даже в письменной форме, не может отменить акт парламента. Так что леди Мария — наша законная королева. Не успел он произнести эти слова, как входная дверь с грохотом распахнулась и в холле послышался какой-то шум. Явился сэр Томас Каварден, одетый и обутый для верховой езды. — Миледи… — Он поклонился Анне, кивнул остальным, потом посмотрел на остатки мяса на столе. Анна подумала: где он был и почему упорно приезжает в Блетчингли, когда она здесь? Все же с годами она пообвыклась с его манерами. По крайней мере, больше он не делал ей никаких сомнительных предложений. — Присоединяйтесь к нам, сэр Томас, — сказала Анна, повинуясь правилам вежливости, которые обязывали пригласить гостя к столу. — В холле лежит письмо для вас, — сказал Кавардену мистер Кэри. Сэр Томас забрал его и вернулся, пробегая глазами написанное. — Это от Совета, — сказал он, — всем помощникам шерифов, шерифам и судьям Суррея. О сути послания Каварден ничего не сказал. Значит, он был не при дворе, иначе Совету не пришлось бы писать ему сюда. Может, объезжал округу, собирая силы в поддержку королевы Джейн? Разговор вновь перешел на важные новости дня, но сэр Томас не проявлял желания участвовать в нем. Анна ожидала, что он с ликованием примет перспективу воцарения на английском троне очередного монарха-протестанта, но Кавардена, казалось, это не интересовало.
Прошла неделя, новых известий не поступало. Потом сэр Томас получил еще одно письмо, на этот раз с королевской печатью. Анна увидела Кавардена торопливо идущим на конюшню, пока собирала букет цветов для гостиной. — Мне нужно ехать в Лондон! — крикнул он ей, оглянувшись через плечо. — Нужны палатки для гарнизона Тауэра, где находится королева. Сэр Томас отсутствовал два дня, на третий к воротам Блетчингли подошел какой-то возчик и сказал привратнику, что леди Марию объявили королевой, а леди Джейн свергнута. Привратник схватил его за рукав и потащил к дому. — Я слышал объявление на рыночной площади в Рейгейте, леди, — сминая в руках шапку, сказал мужчина Анне, вокруг которой в холле собрались все придворные. — Герольд сказал нам, что королева Мария подняла свой штандарт в Норфолке, и все местные объединились вокруг нее, остальные части королевства сделали то же самое. Изменник Нортумберленд взят под стражу. — А что с леди Джейн? — спросила Анна, придя в трепет от известия о триумфе Марии. — Она в Тауэре. Анна отправила возчика на кухню, чтобы его там накормили, и повернулась к своим придворным: — Мы все должны молиться за королеву Марию. Пусть Господь дарует ей долгое правление! Казалось странным, что ими управляет королева, но Анна была уверена: Мария достойно справится с задачей. Она пришла к власти на волне широкой народной поддержки, это было очевидно. Устроившись в кабинете, Анна написала письмо с поздравлениями новой королеве. За дверью матушка Лёве громко изъявляла радость по поводу того, что они теперь снова смогут открыто следовать обрядам своей веры. Анна немного посидела одна, наслаждаясь моментом, потом вдруг вспомнила о сэре Томасе. Он, вероятно, поскакал навстречу опасности. Неужели его схватили, когда он доставлял палатки в Тауэр? Или Каварден услышал новость о смене правительницы до того, как оказался в Блэкфрайарсе, и избежал ареста? Спасет ли это его от гнева королевы Марии, которая наверняка узнает о его близких отношениях с Нортумберлендом? К своему ужасу, Анна поняла: ее собственные связи с сэром Томасом могли вызвать подозрения, что и она тоже поддерживала узурпаторшу Джейн. Но нет, Мария ни за что в это не поверит. Мария была ей другом.
Несколько недель Анна провела в тревожном ожидании. Наконец в Хивер пришло сообщение: ее вызывали в Лондон на коронацию королевы. — Какое облегчение и какая радость! — сказала она Отто, показывая ему письмо. — Я глубоко тронута, что ее величество считает меня достойной такой чести. Она, конечно, понимает, что я с ней одной веры и меня обрадует возвращение Англии к истинной религии. — Так вы полагаете, она в самом деле вернет королевство к покорности папе? — Я в этом не сомневаюсь, Отто. Теперь дела у нас пойдут гораздо лучше! Анна распорядилась, чтобы при ее дворе открыто служили мессы, и попросила всех присутствовать на них. Неделя шла за неделей, новости о начавшихся крупных изменениях достигали Хивера. Говорили, что Господь сжалился над Своими людьми и Своей Святой Церковью в Англии и проявил благую волю через деву по имени Мария. Анна подумала, будут ли выражать недовольство английские протестанты? Но пока никаких выступлений против восстановления старой веры не было. Несомненно, это произошло оттого, что королева опубликовала эдикт с обещанием не принуждать своих подданных к следованию католическим обрядам. Анна представляла, как радуется Мария обретенной свободе почитать Господа так, как ей хотелось. По словам сэра Джона Гилдфорда, мессы при дворе теперь служили по шесть, а то и по семь раз на дню. — А что с миледи Елизаветой? — спросила Анна. — Она ведь горячая сторонница протестантства. — Леди Елизавета пока не появлялась при дворе, но я уверен, будет поступать так, как угодно королеве. Она не станет снова рисковать лишением права на престол.
Барка была наполнена дамами, которые выглядели экзотическими птицами в своих красивых нарядах и возбужденно обсуждали коронацию и предстоящие торжества. Снова чувствуя себя королевой, Анна, облаченная в пурпурный бархат, сидела в каюте и махала рукой собравшимся на берегу толпам людей. Они поймут, кто она, когда увидят развевающийся на ветру вымпел с ее гербом. Возглавляла вереницу торжественно шедших к Тауэру судов барка королевы. Когда она повернула к Корт-гейт, пушки дали с пристани мощный залп салюта. Анна вспомнила о тех несчастных, которые томились здесь когда-то или встретили смерть: Кромвель, Екатерина Говард, братья Сеймуры, теперь вот леди Джейн Грей была замурована где-то за толстыми стенами крепости. Анна сошла на берег, и ее повели через внешний пояс оборонительных стен в отведенные ей апартаменты в королевском дворце. По пути она размышляла: как чувствует себя Джейн, слыша суету приготовлений и радостные крики, которыми люди встречали прибытие королевы. Но сейчас не время думать об этом. Сегодня нужно праздновать, и вот уже навстречу ей, раскинув руки для объятий, идет леди Елизавета.
Через два дня, ранним погожим сентябрьским утром, Анна забралась в карету, которую должна была делить с Елизаветой. Ей оказали большую привилегию, к тому же они ехали сразу за открытыми конными носилками королевы. Елизавета, одетая в такое же, как у Анны, алое бархатное платье, уже заняла свое место с видом по ходу. Подобрав юбки, Анна уселась напротив. Внутри карета тоже была отделана алым бархатом и имела балдахин из серебристо-белой парчи для защиты от неблагоприятной погоды. — Вы ждете коронации, миледи Анна? — спросила Елизавета, острым взглядом окидывая все, что происходило вокруг них во внутреннем оборонительном поясе Тауэра. — Жду с воодушевлением, и это большая честь — участвовать в церемонии вместе с вашей милостью. — Анна улыбнулась. Ни единым словом, ни даже выражением лица Елизавета не показала, что не одобряет религиозную политику сестры. Тем не менее на мессе в капелле Святого Иоанна она не присутствовала. Анна наблюдала за королевой, которая с глубокой набожностью и исполненным благоговения лицом встала на колени, потом заметила, как та искоса глянула на пустующее место Елизаветы и явно огорчилась. Мария, конечно, пообещала, что не станет принуждать своих подданных следовать ее вере, но Елизавета была ее наследницей. Неужели она не могла пойти на компромисс со своей совестью, дабы ублажить королеву? Главные дамы двора усаживались в карету, которая поедет следом за ними; множество камеристок из свиты забирались на коней в красных бархатных попонах, сочетавшихся с платьями женщин. Наконец огромная процессия медленно двинулась вперед — из Тауэра в лондонский Сити, куда королева официально вступала, чтобы ее приветствовали лорд-мэр и знатные горожане. Анна видела на голове Марии маленькую корону, которая покачивалась, когда королева кивала в ответ на приветственные крики толпы и при виде живых картин, устроенных в честь нее по пути. Улицы по случаю коронации украсили декоративными тканями, по ходу движения королевской процессии установили триумфальные арки и платформы для живых картин. Анна любовалась праздничным убранством города и пестрой толпой счастливых, машущих руками людей. В ушах ее гремели приветственные крики, звуки фанфар и небесные хоры детских голосов. Так они приехали в Вестминстер. На следующий день Анна стояла в холодном здании Вестминстерского аббатства и смотрела, как епископ Гардинер возлагает корону на голову Марии. Она удивлялась, что случилось с ярым протестантом епископом Кранмером, который должен был проводить службу, но спрашивать ей не хотелось. Позже они с Елизаветой в сияющем свете тысяч свечей сидели рядом у края стола королевы на коронационном банкете в Вестминстер-Холле. Как приятно было видеть улыбавшуюся ей с другого конца стола Марию и наслаждаться такой великой милостью! Это предвещало Анне счастливое, обеспеченное будущее.
Торжества завершились, и Анна вернулась в Блетчингли, страстно желая рассказать сэру Томасу Кавардену о коронации, на которую того не пригласили, и показать ему, кто из них теперь на коне. Однако Кавардена дома не оказалось, что слегка расстроило Анну. У сэра Томаса, похоже, всегда имелись какие-то таинственные неотложные дела, и она снова подумала, что ему повезло избежать суда после вступления на престол королевы Марии. Анна надеялась, что милость Марии распространится на ее финансовое положение. В прошлом году она поменяла свой усадебный дом в Бишаме на Уэстхорп в Саффолке, прекрасный дворец, на который возлагала большие надежды. Но оказалось, что содержать его очень дорого, и долги Анны опять возросли. Она удивилась и обрадовалась, увидев доктора Крузера, который приехал от ее брата. — Его высочество прислал меня, мадам, дабы удостовериться, что ваше содержание подтверждено новой королевой, которой я уже выразил свое почтение. Я привез письма от герцога и герцогини с поздравлениями ее величеству со вступлением на престол и выражением надежды, что теплая дружба между Англией и Клеве продолжится. — Я надеюсь на это, — сказала Анна, проводя его в большую гостиную, которой пользовалась по утрам, и предлагая сесть в кресло напротив нее по другую сторону очага. Потом она налила доктору Крузеру вина и заняла свое место. — Я уверена, королева позаботится о том, чтобы я не прозябала в нужде, — сказала Анна. — Несколько знаков ее благоволения я уже получила. Она рассказала гостю о коронации и заметной роли, которую в ней сыграла. Доктор Крузер одобрительно кивал, но выражение его лица оставалось серьезным. — Миледи, несмотря на милости королевы, вы не можете рассчитывать, что она будет регулярно пополнять ваши доходы. Герцог Вильгельм хорошо понимает, что ваших средств теперь явно не хватает на покрытие расходов и это королевство полностью обанкротилось. — Я уверена, королева поможет мне, — возразила Анна. — Она сама вам об этом сказала? Анна вынуждена была признать, что нет. — В таком случае, мадам, у меня есть план, которому вы можете последовать. На этой неделе состоялось заседание парламента, и первый изданный им акт объявил брак родителей королевы законным. «Мария, должно быть, очень этому рада», — подумала Анна. — Учитывая это и выказанную вам благосклонность, ваше высочество может предпринять шаги для признания законным и вашего брака с королем Генрихом, чтобы пользоваться землями и привилегиями вдовствующей королевы. Сейчас тут нет вдовствующей королевы, которая могла бы потребовать их для себя, и не появится еще много лет. Анна изумленно смотрела на него: — Но парламент и собор духовенства объявили мой брак недействительным. — Теперь это едва ли имеет значение. Сейчас ситуация такова, что доход от выделенного вам содержания будет удержан, если вы покинете Англию, но ваш брачный договор устанавливал для вас возможность сохранить за собой земли, если вы вернетесь в Клеве вдовой. Таким образом, если вам удастся доказать законность своего брака, вы станете богатой женщиной с почетным статусом вдовствующей королевы. Это был дерзкий и сомнительный план, но, учитывая милость королевы, он мог сработать. — Вы поможете мне составить письмо к Совету, доктор Крузер? — спросила Анна.
Она ждала и ждала ответа. Когда он пришел, в нетерпении сломала печать. «Совет ознакомился с ее просьбой, — читала Анна, — но это дело придется отложить на неопределенное время, до тех пор пока не будут разрешены более неотложные и важные вопросы». По крайней мере, они не сказали «нет». Сэр Джон говорил, что «более неотложные вопросы» включали в себя брак королевы. Рассматривали нескольких вероятных женихов, в том числе и принца Филиппа Испанского, сына и наследника императора, которого вроде бы предпочитала другим претендентам сама Мария. Вильгельм написал Анне, предлагая другого искателя руки королевы, своего шурина Фердинанда Габсбурга, эрцгерцога Австрийского, сына племянника императора Фердинанда, короля Римского, Богемии и Венгрии, наследника Священной Римской империи. Король Фердинанд жаждал этого союза, — заявлял Вильгельм, и Анна сразу поняла, что этот брак укрепит ее положение в Англии. Доктор Крузер вернулся в Клеве, и Анна по велению Вильгельма облачилась в свое самое пышное платье из алой с золотом парчи и отправилась в Гринвич, где ей сразу дала аудиенцию королева. — Моя дражайшая Анна, — сказала Мария, протянув руку для поцелуя, а потом тепло обняв гостью. Она была великолепно одета и увешана драгоценностями; хрупкая фигурка тонула в роскошном платье. — Надеюсь, я застаю вашу милость в добром здравии и процветании. — Да, так и есть. Мой кузен император прислал нового посла, месье Ренара, и этот человек оказывает мне неоценимую помощь. Анна подивилась про себя: «Неужели королеве Англии не зазорно полагаться на советы иностранного посланника?» — а вслух сказала: — Я рада за ваше величество. — Мне нужен человек, который искренне принимал бы мои интересы близко к сердцу, — призналась Мария. — Я не могу рассчитывать на свой Совет. Все лорды поддерживали узурпаторшу Джейн. Что мне было делать? Не могла же я казнить их всех за измену. Поэтому членов Совета привели к присяге, и я слежу за ними, надеясь, что они не нарушат клятвы верности мне. Но что я могу сделать для вас, Анна? — Тут дело, скорее, в том, чем я могу посодействовать вам. — Анна улыбнулась, вдохновленная откровенностью Марии. — Мой брат предлагает эрцгерцога Фердинанда в качестве превосходного мужа для вас, и, насколько мне известно, сам эрцгерцог тоже страстно желает завоевать руку вашего величества. О ужас! Мария как будто пришла в уныние от ее слов. — Надеюсь, вы не считаете, что я вмешиваюсь не в свое дело, — поспешно пролепетала Анна. — Нет, совсем нет, друг мой, — сказала королева. — Эрцгерцог — подходящий кандидат, но мое сердце склоняется к принцу Испании. Значит, слухи ходили правдивые. Мария хотела выйти замуж за Филиппа. — Я видела его портрет, — выдохнула королева, и глаза ее засияли. — Он такой… милый. — Мария покраснела. — Кажется, никто другой мне не понравится. Скоро все решится. Анна едва не взмолилась: ваше величество, не влюбляйтесь в портрет! Она на собственном опыте знала, какой катастрофой это может обернуться. Вместо этого она сказала: — Надеюсь, принц окажется похожим на свое изображение, — понимая, что ее слова звучат скептически. — Меня заверили, что сходство удивительное, — отозвалась Мария. — Прошу вас, скажите своему брату, что я ценю его заботу о моем счастье и почтила бы вниманием эрцгерцога, если бы мое сердце не было отдано другому. — Я передам ему это, мадам, — пообещала Анна, стараясь не выдать тревоги. — А теперь, — сказала Мария, — прогуляйтесь со мной по галерее. И я послушаю ваши новости.
Наступил новый, 1554 год, но Анна до сих пор не получила никаких известий от Совета, что неудивительно: лордов занимали гораздо более насущные вопросы. Решение королевы выйти замуж за испанского принца вызвало бурные протесты в Англии и стоило ей значительной доли народного одобрения, которым было встречено ее вступление на престол. Подданные королевы не хотели иметь над собой короля-иностранца, и еще меньше — гонителя протестантов: Филиппа обвиняли в поддержке испанской инквизиции. Страна бурлила недовольством. Анна ощущала отзвуки этого гнева и в сэре Томасе Кавардене, который приехал на Рождество в Блетчингли и остановился в Хекстолле. Его возмущение прорвалось наружу, когда, как только были сняты праздничные украшения, явились посланные Марией офицеры и потребовали именем королевы, чтобы Каварден передал им хранящиеся у него оружие и доспехи для защитников Лондона. На улице послышались крики. Анна открыла окно и увидела, что происходит. Там был сэр Томас, его горячее дыхание вырывалось в морозный воздух облаками пара; он громко протестовал, заявляя, что ему необходимо оружие для защиты дома от нападений. Анна подумала о хранящемся в амбаре арсенале; оружия там лежало гораздо больше, чем требовалось для охраны поместья! Она беспокоилась за королеву: от кого Мария собиралась защищать Лондон? Неужели народное возмущение браком с испанцем настолько велико, что та опасалась бунта? Нет, скорее всего, сэра Томаса Кавардена, ярого протестанта, подозревали в замыслах организовать беспорядки. Анна наблюдала, как он в ярости протопал в сторону амбара, созывая на ходу своих людей, чтобы те помогли вынести затребованное королевой оружие, и скрылся за домом. Увидев нагруженную повозку, она поняла, что Каварден отдал лишь малую часть своего арсенала. Что за игру вел сэр Томас? Планировал поднять восстание? Или решил сохранить остальное оружие для себя на случай, если в будущем ему потребуется защита? Анна не могла успокоиться, но не смела доверить свои опасения никому, даже Отто или матушке Лёве. Матушка Лёве постарела, и беспокоить ее не хотелось. А Отто наверняка начнет уговаривать, чтобы она сообщила о своих подозрениях королеве. Но что, если поведению сэра Томаса имелось совершенно невинное объяснение? Ее отношения с этим человеком были непростыми и в лучшие времена. Если она донесет на него за накопление запасов оружия, это может испортить их навсегда. Анна не желала чувствовать себя парией в собственном доме, а потому постаралась успокоиться и не думать о том, что лежит в амбаре. На последней неделе января в холле дома Анны, к ужасу хозяйки, появился сэр Уильям Говард с отрядом стражи и потребовал, чтобы ему сказали, где сэр Томас. Анна разволновалась и послала Иоганна найти его. Добрую четверть часа спустя, на протяжении которой лорд Уильям нетерпеливо расхаживал взад-вперед по комнате и отказался от робко сделанного Анной предложения перекусить, сэр Томас показался в дверях. — Лорд Уильям, что вам нужно? — резко спросил он. — Я спокойно живу у себя в доме в полной безмятежности, безупречном порядке и послушании королеве, а вы являетесь и нарушаете мой покой! — Тем не менее, сэр Томас, вы должны последовать со мной, — не дрогнув, заявил лорд Уильям. — Вам придется предстать перед судом Звездной палаты[124] в Вестминстере. Лорд-канцлер хочет задать вам несколько вопросов. Так как лорд-канцлером теперь был Гардинер, Анна подумала, что сэру Томасу придется нелегко. Кавардена увели. Анна смотрела ему вслед и думала, как воспримет это печальное событие его бедная жена и стоит ли ей самой заявить об оставшихся в амбаре запасах оружия. Но было глупо ввязываться в эти великие дела, к тому же не имелось никаких доказательств, что сэр Томас собирался использовать это оружие для неких крамольных целей. Вскоре он вернулся, оставшись на свободе. — Ну, мне удалось убедить Совет в своей лояльности, — прорычал Каварден и тяжело опустился в кресло у камина, не прося разрешения, притом что Анна осталась стоять. — Мне приказали вооружить своих людей здесь и быть наготове, чтобы выступить немедля. В Кенте восстание против испанского брака под руководством сэра Томаса Уайетта. Совет собирает силы для его подавления. — Восстание? — эхом отозвалась Анна, почти забыв, что Каварден назвал своими людей в Блетчингли, когда большинство из них на самом деле были ее людьми. — Кент недалеко отсюда! — Не беспокойтесь так, миледи. Их быстро утихомирят. Тем не менее королеве нужно хорошенько подумать, стоит ли настаивать на этом браке. Восстание доказывает, насколько сильно в народе недовольство им. По крайней мере, Анне больше ни к чему было беспокоиться из-за оружия, тайно припасенного сэром Томасом. Совет явно знал, что у него осталось кое-что в арсенале, иначе лорды не стали бы просить его вооружить своих людей. Она поступила правильно, не сделав доноса на него. На следующий день Анна была в этом уже не так уверена. Снова появился лорд Уильям Говард с сэром Томасом Сондерсом, шерифом Суррея, и потребовал сдачи всего неиспользуемого оружия и доспехов, какие хранятся в Блетчингли. Анна стояла в холле, пока сэр Томас спорил с ними. — Милорд, мой патент на должность смотрителя пиров и палаток позволяет мне иметь здесь сорок вооруженных слуг. — Да, сэр Томас, но, кроме того, вы организовали склад оружия, как сами заявили нам, а мы получили сведения, что вы сделали это для помощи мятежникам. — О, прошу вас! — протянул Каварден. — Сондерс, вы меня давно знаете. Разве я способен на такое? Сэр Томас Сондерс холодно взглянул на него: — Последнее, что я слышал, Каварден, — это что вы были самым горячим евангелистом в Суррее. Вы арестованы и останетесь здесь, в Блетчингли, под моим надзором. Анна разозлилась: — Сэр Томас, это мой дом, и я не хочу держать под своей крышей человека, которого подозревают в сговоре с мятежниками. Каварден злобно глянул на нее, однако Сондерс поклонился: — Мадам, простите меня. Я заберу сэра Томаса в свой дом в Рейгейте, пока его не вызовут в Лондон для допроса. Каварден, собирайтесь! Мы не должны больше доставлять неудобств леди Анне. Протестующего сэра Томаса увели.
И снова Анна и ее придворные с недобрыми предчувствиями ожидали новостей, которые доходили до них урывками благодаря возчикам, разносчикам и торговцам, ездившим за границу со своим товаром. Флоренц де Дьячето вернулся из Дании, где выполнял поручения покойного короля Эдуарда, и рассказал о том, что слышал, проезжая через Кент: — Правительство явно напугано. Несколько писем, которые я вез, и золотая цепь, подаренная мне королем Дании, были конфискованы портовыми чиновниками в Дувре. Ряды армии бунтовщиков пополняются день ото дня. Они идут на Лондон. Некоторые говорят, что сэр Томас Уайетт верен королеве и хочет только заставить ее отказаться от брака с испанцем. Другие убеждены в его намерении свергнуть Марию и поставить на ее место леди Елизавету, что, по общему убеждению, является изменой. Анна с некоторой досадой поняла, что недостаточно хорошо знает Елизавету и не способна предсказать, согласится ли та на такое злодейство. Слыша о народных выступлениях в других частях страны, она задавалась вопросом, не опасно ли им оставаться в Блетчингли. Но принадлежавший ей Дартфорд находился в Кенте, откуда как раз расползалось восстание, а до Мора было слишком далеко. Любое путешествие наверняка окажется крайне опасным. Слуга Кавардена сообщил в письме, что его хозяина отвезли в Лондон для допроса, который произведет лорд-канцлер, а мятежники теперь стекаются к столице. О развязке истории они узнали позже, из письма одного знакомого сэра Джона в Уайтхолле. Королева, да благословит ее Господь, пошла в ратушу и объединила людей вокруг себя вдохновенной речью. Лондон закрыл ворота перед мятежниками. Через несколько дней бунт сошел на нет. Уайетт был схвачен, а сэру Томасу Кавардену Совет приказал оставаться в своем доме в Блэкфрайарсе. Анна каждый день молилась об избавлении королевы от опасности и теперь благодарила Господа за Его милость к Марии. Когда дороги снова стали безопасными, сэр Джон посчитал своевременным лично съездить ко двору. По возвращении он присоединился к Анне, Отто, Ясперу и матушке Лёве за ужином. Все стали расспрашивать его о новостях. — Многие полагают, что леди Елизавета была вовлечена в мятеж, — сказал им сэр Джон. — Я слышал, ее будут допрашивать. Но леди Джейн находится в большей опасности. Ее отец присоединился к восставшим в центральных графствах и объявил свою дочь истинной королевой. В такую глупость невозможно поверить. Джейн и без того уже приговорена к смерти, но королева отложила исполнение приговора. Теперь Совет требует от нее казни леди Джейн, так как, пока та жива, ее будут воспринимать как предводительницу мятежных протестантов. Говорят, королева не хочет казни, потому что леди Джейн всего семнадцать лет и она не причастна к последним предательствам. Анну передернуло. Джейн поступила глупо, приняв корону, хотя, вероятно, выбор у нее был невелик. Но умереть насильственной смертью в таком юном возрасте — это было ужасно. Анна встретилась взглядом с Отто и прочла в его глазах схожие мысли. — Чего добились мятежники? — спросила матушка Лёве. — Ничего, кроме смерти и несчастий. — Да, — согласился сэр Джон. — Виселицы, кажется, стоят в Сити на каждом перекрестке. Невозможно укрыться от запаха гниющей плоти. Анна скривилась, ее затошнило. — Думаю, за этим стояли французы, — высказал предположение Яспер. — Возможно, — согласился сэр Джон. — Король Генрих[125] резко против брака королевы с испанским принцем. Он не хочет, чтобы Филипп перескочил через Канал на Английский берег. — Именно поэтому Уайетт поднял восстание, — заметил Яспер. — Он предвидел, что Англия будет вовлечена в войны Испании. — Я не одобряю мятежников, — вступил в разговор Отто, — но, может быть, в его действиях был смысл. — Он за это лишится головы, — пробормотал сэр Джон, — вместе с леди Джейн и ее отцом.
Гилдфорд не ошибся, что подтвердилось во время его следующего визита ко двору. — Леди Джейн казнили сегодня утром, — мрачно сказал сэр Джон, когда Анна приветствовала его по возвращении. Она перекрестилась, с ужасом представляя, что пережила эта юная девушка. Не важно, что знакомы они не были. Новость мрачной тенью легла на весь день, Анна чувствовала подавленное настроение своих придворных. В тот вечер она услышала стук копыт и подошла к окну посмотреть, кто едет. Узнав лорд-канцлера Гардинера и своего бывшего секретаря лорда Паджета, возглавлявших небольшую группу всадников, Анна ахнула. Зачем они приехали? Разве не знают, что сэр Томас в Лондоне? Или Кавардена отпустили и они думают, что застанут его в Блетчингли? Анна заставила себя неторопливо выйти в холл и принять советников. Ситуация напоминала те мрачные дни, когда велось дело об аннулировании ее брака и она всякий раз пугалась, не зная, что принесет ей очередной визит членов Тайного совета. — Господа лорды, добро пожаловать, — сказала Анна, протягивая руку, над которой советники по очереди склонились. — Чему я обязана таким удовольствием? Гардинер посмотрел на нее орлиным взором: — Мы хотели бы задать вашему высочеству несколько вопросов по поводу недавнего восстания. Им нужна информация про Кавардена. Анна сглотнула. Лучше ей умолчать, что она знала о хранящемся в амбаре оружии. — Буду рада помочь всем, чем смогу. Пройдите в мою гостиную, и я прикажу слугам подать вам какое-нибудь угощение. Советники последовали за ней, Анна знаком показала, чтобы они все сели за стол, на котором мгновенно появились вино и маленькие пирожные. Когда дверь за слугами закрылась, хозяйка молча ждала вопросов. Тишину нарушил Гардинер: — Мадам, королева получила сведения, что вам было известно о заговоре бунтовщиков и вы плели интриги вместе со своим братом герцогом Клевским и королем Франции с целью помочь леди Елизавете захватить трон. Анна онемела. Она уже видела себя арестованной, томящейся в Тауэре, стоящей на коленях перед плахой… Неужели она пережила развод ради того, чтобы дойти до такого? Позор, боль… когда она ничего не сделала! — Вы ничего не скажете в свою защиту? — спросил Паджет. Анна обрела голос: — Нет, милорд. Я слишком обескуражена. Мне ни к чему защищаться. Невозможно поверить, что ее величество считает меня способной на такое предательство. Кто говорит обо мне такие вещи? Все это ложь! Гардинер строго поглядел на нее: — Мы разберемся. На самом деле ее величество держится мнения, что Господь каким-то чудом сделал так, что измена вышла наружу, и снабдил ее средствами положить ей конец наказанием виновных. В противном случае ересь снова заполонила бы королевство, а ее величество лишилась бы всего достояния и Англия подпала бы под власть французов. Поэтому она решительно намерена вершить строгое правосудие и укрепить свое положение на будущее. — Какая измена? — спросила Анна. — Я ни в чем не виновата. — Вы близки с леди Елизаветой, не так ли? — Я бы не сказала, что близка, совсем даже нет. Я редко вижусь с ней. — Но вы близки с сэром Томасом Каварденом. Анна с самого начала знала, что этот человек доставит ей неприятности. — Он арендует один из моих домов. Но не должен находиться здесь в одно время со мной, однако регулярно изобретает предлоги, чтобы обойти этот запрет. — И вы никогда не пытались препятствовать этому? — Милорд, вы должны знать, что это за человек. Он способен запугать кого угодно, и мне не нравится скрещивать с ним мечи слишком часто. Это мой дом, и я предпочитаю жить здесь спокойно. — Вам известно, что Каварден близок с леди Елизаветой и она держится хорошего мнения о нем? — Глаза Гардинера были как сталь. — Я этого не знала. Он хранит свои дела в большом секрете. Паджет наклонился вперед. По ходу разговора он делал какие-то заметки: — Ваш слуга, Флоренц де Дьячето, вернулся из-за моря как раз в момент, когда вспыхнуло восстание. При нем были письма и памятный подарок от короля Дании — лютеранина, которого подозревают в попытке содействовать мятежникам. Мадам, вы отрицаете, что послали своего слугу к нему за помощью? — Разумеется! Это чепуха! Флоренца послал в Данию покойный король Эдуард. Я даже не знаю, в чем состояла его миссия. — Значит, он действовал не от вашего имени? — Нет. — Анна выдержала взгляд Паджета, думая о необходимости предупредить Флоренца: пусть знает, что о нем говорят. Гардинер возобновил атаку: — У нас есть причины полагать, что король Франции может пойти войной на Англию, стремясь помешать браку королевы с испанским принцем. Мадам, вы можете назвать мне какую-нибудь другую причину, по которой король Генрих захотел бы войны с Англией? Анна была ошеломлена. — Понятия не имею, почему вы задаете мне такие вопросы, милорд. — Не может ли быть причиной просьба леди Елизаветы, чтобы он отомстил от лица герцога Клеве за развод с вами короля Генриха? Анна разинула рот: — Это смехотворно! И к чему? Мой развод состоялся четырнадцать лет назад, и я никогда не выражала недовольства им. Я всегда старалась сохранить дружбу между Англией и Клеве. — Мы полагаем, леди Елизавета надеялась побудить протестантских принцев Германии к тому, чтобы они направили свои армии против Англии и таким образом посодействовали мятежникам, что помогло бы ей захватить трон. — И вы думаете, я попросила ее сделать это? Господа лорды, это нелепо! — Совет так не считает, равно как и посол Испании. Просьба леди Елизаветы, обращенная в ваших интересах к герцогу Клеве, подразумевает, что вам было известно о заговоре и вы, вероятно, активно в нем участвовали. Анна боролась с отчаянием. — Я ничего обо всем этом не знаю! — вскричала она. — С леди Елизаветой я в последний раз общалась на коронации. Гардинер и Паджет сохранили невозмутимость. Паджет вынул из сумки письмо и протянул его Анне: — Прочтите это, мадам. Послание от самого императора, там говорится, что вы были инициатором этого заговора и подбили леди Елизавету выступить посредницей. Именно по вашему требованию король Франции обещал герцогу Клеве отомстить за явные обиды, нанесенные вам и ему. Анна читала письмо, и в ней закипала ярость. — Какие обиды? — недоумевала она. — Покойный король Генрих был добр ко мне. Наш брак расторгли по основательным причинам, и я никогда не оспаривала их. — И тем не менее недавно вы просили Совет признать его законным ради вашей личной выгоды. Мадам, ваше двуличие очевидно. — Я поступила так по совету посла моего брата. Он сказал, это закрепит мои права на приданое и решит финансовые проблемы, а законен или незаконен брак, теперь не имеет значения. — Гардинер хотел было что-то сказать, но Анна подняла руку, не давая ему прервать ее. — Господа лорды, я говорю правду. Кроме тревог по поводу денег, в Англии меня все устраивает. Я ни на кого не в обиде за расторгнутый брак. И вообще не желаю участвовать в публичных делах. Зачем мне подвергать себя опасности, что королева Мария лишит меня своих милостей? — Может быть, леди Елизавета пообещала осыпать вас еще большими? — мягко заметил Паджет. — Я бы самым решительным образом отказалась. Гардинер вздохнул: — Значит, вы все отрицаете? — Разумеется. Я верная подданная королевы и таковой останусь. Лорды встали. — Хорошо, мадам. Мы передадим ваши ответы королеве. — Прошу, скажите ее величеству о моей любви и преданности ей, — сказала Анна, вставая, чтобы проводить советников, и надеясь, что ноги не подведут ее. Когда незваные гости уехали, она прислонилась к двери, вся дрожа, и ждала, пока успокоится растревоженное сердце. Поверит ли ей королева? «Господи, пусть будет так!» — молилась Анна.
Глава 28
1554–1556 годыНесколько дней прошли в сильном беспокойстве. Анна почти ни на чем не могла сосредоточиться — так сильно терзал ее страх. Казалось, вся нормальная жизнь замерла до тех пор, пока Анна не уверится, что у нее есть будущее. — Они ничего не докажут, потому что доказывать нечего, — пробормотала она однажды вечером, уткнувшись в грудь прижимавшего ее к себе Отто. — Вы так напряжены, — сказал он, разминая ей плечи. — Чему тут удивляться? Я хочу только одного — получить известие от королевы, что она мне верит. Разве рискнула бы я потерять ее благорасположение ради неизвестно чего. — Думаю, если бы королева верила в ваше участие в заговоре против нее, вы бы уже об этом знали. — Отто поцеловал ее в макушку. — Она должна понять, что все это невозможная чушь. — Вероятно, вы правы. По крайней мере, она прекратила бы выплачивать мне содержание. Но она только что прислала деньги на повышение жалованья моим слугам, как делал король Генрих. Сомневаюсь, что королева поступила бы так, если бы я все еще находилась под подозрением. Вот бы она пригласила меня ко двору, тогда я сама смогла бы убедиться, что недоразумение между нами улажено. Однако, как бы Анне ни хотелось этого, приглашения ко двору не поступало. Не было и ответа на просьбу признать ее брак законным. Она так и жила в апатии, не находя ни в чем ни радости, ни интереса. Понимала, что слуги пользуются ее отрешенностью от повседневных забот и всячески противятся попыткам Яспера заставить их жить скромно, но Анне было никак не собраться с силами и побранить их за это или выслушать их возражения. Она не могла избавиться от страха, он преследовал ее неотступно днем и ночью.
На второй неделе марта сэр Джон вошел в винокурню и сообщил Анне, что сэра Томаса Кавардена не только выпустили из арестантского дома, но и призвали ко двору и вернули ему высочайшую милость. — Он вновь приступил к своим официальным обязанностям, — сказал сэр Джон. — Каварден всегда умел воспользоваться случаем. Теперь он отвлекает королеву от забот постановками для ее удовольствия пьес. — Из этого мы должны заключить, что он снова стал католиком? — сухо спросила Анна, продолжая толочь в ступке сухие травы. — Он всегда останется стойким протестантом, мадам, но, подозреваю, намерен дожить до нового заговора. Мой совет — держаться от него подальше. — Именно это я и намерена сделать. Вообще-то, я собиралась отдать распоряжения о переезде в Дартфорд. Я хотела отправиться в Уэстхорп, но сэр Томас Корнуоллис предложил за него изрядную сумму, которая позволит мне сводить концы с концами по крайней мере в некоем обозримом будущем. Яспер говорит, лучше оставить дом себе и сдавать в аренду, но у меня есть еще три других. — Вы получите деньги в любом случае, мадам. — Что ж, я подумаю об этом. Есть какие-нибудь новости о леди Елизавете? — Да, мадам. Она в Тауэре, ее допрашивают — выясняют, какую роль она играла в мятеже. Анна обмерла. — Как? — Голос у нее задрожал. — В чем ее подозревают? — По слухам, в подстрекательстве Уайетта к бунту. Но доказательств явно нет. Один из советников, ее тайный друг, сказал мне, что с ней не смеют обращаться слишком сурово, так как в один прекрасный день она может стать королевой. Анна задрожала: — Королева ведь не казнит свою сестру? — Сомневаюсь, что до этого дойдет. Поговаривают, что ее будут держать под домашним арестом.
Анна в трепете написала Вильгельму, призналась, что была под подозрением, рассказала о своих опасениях, как бы ее не впутали в преступления, совершение которых приписывают леди Елизавете. Через неделю она испытала невыразимое облегчение, увидев у своих дверей доктора Крузера, хотя по выражению его лица трудно было догадаться, какие вести он привез — хорошие или дурные. Они пошли в сад: погода позволяла насладиться весенним теплом, к тому же Анна не хотела, чтобы их разговор подслушали. — Есть какие-нибудь новости от герцога? — Миледи, — ответил доктор Крузер, — вам нечего бояться. Герцог понимает, в какой ситуации вы оказались, и будет защищать вас. Я только что доставил весьма учтивое письмо от него самой королеве, в котором он благодарит ее величество за великую доброту, проявленную к вам, и от вас обоих поздравляет с подавлением недавнего мятежа. Из чего, мадам, она не может не заключить, что герцог почитает вас ее верной подданной и, если бы в этом имелись хоть какие-то сомнения, он не остался бы безучастным. Анна выдохнула, на душе у нее стало легче. Это было и вправду утешительно. — Не могу выразить вам, как много значит для меня поддержка брата. Мою преданность королеве без всяких оснований поставили под сомнение, и это было тяжелым испытанием. Несколько недель я прожила в страхе. — Больше вам нечего бояться, мадам, — сказал доктор Крузер, глядя на Анну добрыми глазами. — Королева отзывалась о вас с большой симпатией. У меня вовсе не создалось впечатления, что она сомневается в вашей дружбе или затаила на вас обиду. — Как приятно это слышать! — воскликнула Анна. Она готова была расплакаться от облегчения. — Скажите, как мой брат? — Он здоров, мадам, но опечален. Увы, на меня легла грустная обязанность сообщить вам, что ваша сестра, курфюрстина, и ее супруг, курфюрст Саксонский, — оба умерли. Они пали жертвой одной и той же болезни, которая унесла их с разницей в десять дней. — О, моя бедная сестра, — запинаясь, пролепетала Анна. Она не видела Сибиллу семнадцать лет, но узы крови были крепки, и Анна всегда радовалась, что сестра обрела счастье в браке. Эта любовь стала легендарной, и неудивительно, что они не смогли жить друг без друга. Печально, что, воссоединившись после долгого заключения курфюрста, они прожили вместе так недолго. Анна встала и направилась к дому, утирая глаза. — Вы должны поужинать с нами и остаться на ночь, — сказала она доктору Крузеру. Пока они шли по нижнему этажу к лестнице, Анна заметила, что гость внимательно осматривает обстановку, и поняла: ее дом выглядит неопрятным и запущенным. Нужно было наконец призвать слуг к порядку. Не желая произвести на гостя впечатление опустившейся женщины, Анна надела к ужину черное бархатное платье с горностаевой опушкой, как королева. Но доктор Крузер был с ней откровенен. — Мадам, мне ясно, что вам нужен авторитетный человек для руководства вашими слугами. Мистер Кэри как управляющий домом неэффективен, у него слишком много других обязанностей. Герр Брокгаузен говорит, что вы не слушаете его советов и донельзя снисходительны к своим придворным. — В последнее время я была чересчур погружена в личные проблемы, — признала Анна, — но теперь все изменится. — Наймите хорошего человека управлять вашим домом, — посоветовал доктор Крузер, — и не продавайте Уэстхорп. Герр Брокгаузен дал вам мудрый совет, и вы поступите правильно, если прислушаетесь к нему. — Я так и сделаю, друг мой, — пообещала Анна. На следующий день она спросила сэра Джона, нет ли у него на примете какого-нибудь подходящего человека на должность управляющего ее домашним хозяйством, и тот порекомендовал ей обратиться в Совет. В мае к ней был назначен Джордж Трокмортон, родственник покойной королевы Екатерины, который служил в составе личной стражи королевы Марии. Анне этот человек понравился: он был тактичен, но тверд со слугами. Стряхнув с себя меланхолию, она стала внимательно следить за тем, как содержится ее дом, и с удовольствием отметила, что чистоты и порядка в нем стало больше. После отъезда доктора Крузера в Клеве Анна перебралась в Хивер. Она решила провести какое-то время в деревне и заниматься исключительно домашними делами, чтобы никто больше не заподозрил ее в измене. Однако даже в это тихое место вторгался окружающий мир со своими тревогами и нарушал идиллию. В июле королева вышла замуж за принца Испании; торжественная церемония состоялась в соборе Винчестера. Анну не пригласили, что заставило ее задуматься: неужели Мария до сих пор питает сомнения относительно ее верности? Мысль невыносимая. Анна написала королеве Марии, поздравила с бракосочетанием и скромно засвидетельствовала свое почтение. Она молила о том, чтобы королева не оставила ее своей милостью, так как отчаянно нуждалась в финансовой поддержке для выплаты жалованья слугам, и заверяла ее величество, что хочет быть ее помощницей. Пожелав королевской чете много радости и богатого потомства, Анна с нетерпением ждала какого-нибудь знака, что Мария все еще благосклонна к ней.
Анна прижала к груди пакет с королевской печатью. Мария прислала своей бывшей мачехе пять тысяч фунтов — вожделенное доказательство возвращения к ней монаршей милости. Сердце Анны едва не разорвалось на части от испытанного облегчения.
Наступил декабрь. Уже четыре месяца Анна не получала вестей от королевы. Она неохотно свыкалась с мыслью, что Мария, выполнив финансовые обязательства по отношению к ней, была не готова протянуть руку настоящей дружбы. Жизнь, рассуждала Анна, бывает ужасно несправедливой, ведь она ничего не сделала, чтобы заслужить такое охлаждение со стороны королевы. Вздохнув, Анна вернулась мыслями к настоящему. Мистер Кэри только что пожаловался на сэра Томаса Кавардена: тот не заплатил квартальную ренту за Блетчингли. Анна в раздражении взялась за перо и быстро набросала строгое письмо с напоминанием сэру Томасу, что рента просрочена уже три месяца и она рассчитывает получить деньги до отъезда на Рождество в Пенсхерст. Долг доставили с задержкой в день, запланированный для отъезда. Этот человек невозможен! И Анна никак не могла от него избавиться. Он был как пороховая бочка с подожженным фитилем и, казалось, вовсе не тревожился о том, какие опасности на себя навлекает. Королева Мария начала свое правление с религиозной терпимости, но после мятежа Уайетта заняла более суровую позицию. Протестантская вера была поставлена вне закона. Только в прошлом месяце Англия официально примирилась с Римом, и парламент снова ввел в действие законы против ереси. Мария, это было ясно, намеревалась истребить остатки религиозного инакомыслия в своем королевстве. Отныне тех, кто вновь склонится к ереси, будут сжигать на костре. Вздрагивая от этой мысли, Анна горячо надеялась, что сэр Томас в будущем станет держать свои религиозные взгляды при себе ради собственного блага и спокойствия тех, кого связала с ним жизнь.
Дартфорд был прекрасен. В апреле Анна наконец переехала туда и пожалела, что не сделала этого раньше. Местность сильно изменилась с тех пор, как она гостила здесь в последний раз пятнадцать лет назад. Усадебный дом, построенный королем Генрихом на месте приората, был окружен садом и белокаменной стеной, когда-то ограждавшей монастырь. Он имел два двора и великолепную анфиладу королевских апартаментов вдоль старых крытых аркад. Монастырская церковь превратилась в служебный флигель. Анна поднималась из внутреннего двора по парадной лестнице, шла мимо колонн с восседавшими на них английским львом и уэльским драконом и чувствовала себя королевой, которой должна была быть. Наверху по обе стороны от лестницы располагались королевские покои. Обходя дом вместе с тянувшимися за ней длинным хвостом восторженными придворными, Анна потеряла счет комнатам. Их тут было не меньше сотни, это точно! Церковь тоже оказалась очень красивой. Глядя на украшенное драгоценными камнями Распятие, Анна задумалась: одобряет ли Господь Иисус совершаемые во имя него сожжения людей на кострах? Казни начались в феврале. Она боялась, вдруг сэру Томасу Кавардену не удастся счастливо избежать подобной участи. На него кто-то донес, и он сейчас сидел в тюрьме. Сэр Джон не смог выяснить, в чем его обвиняют. Задавать пристрастные вопросы о таких вещах было слишком опасно, но Анна подозревала, что в ереси. Новостей о Кавардене не было и в мае, когда в Англию вернулся доктор Крузер с известием, что герцогиня Мария родила Вильгельму сына и наследника, которого назвали Карлом в честь императора, милостиво согласившегося стать крестным малыша. — Тост, чтобы отметить эту новость! — воскликнула Анна, чрезвычайно обрадованная, и придворные собрались вокруг нее выпить за здоровье новорожденного. Она с любовью посмотрела на них всех, особенно на Иоганна и Отто. Эти люди заменили ей семью, и было весьма кстати, что они разделят с ней радость по поводу прибавления нового члена семейства. Позже, когда кубки унесли и все вернулись к своим обязанностям, Анна предложила доктору Крузеру сесть, чтобы тот поделился с ней другими новостями. — Недавно я был при дворе, где слышал, что ваш арендатор сэр Томас Каварден находится в тюрьме. — Да, но я не знаю за что, — с тревогой отозвалась Анна. — Мне сказали, он обезобразил приходскую церковь рядом со своим домом в Лондоне. Местные жители были так возмущены, что пожаловались Тайному совету. Каварден отказался восстанавливать церковь, за это его и арестовали. Но в конце концов он организовал обиженным жителям место для молебствий, поэтому его не привлекли к суду, и теперь он свободен. — Умеет же сэр Томас наживать себе проблемы. — Это весьма печально, но вашему высочеству, похоже, свойственно невольно привлекать людей, создающих проблемы. Вы знали, что ваш казначей, герр Брокгаузен, написал герцогу жалобу, что вы нуждаетесь в средствах? — Да, знала. На содержание моих домов и слуг уходит столько денег… Они текут сквозь пальцы как вода. И я не могла найти в себе сил снова просить о помощи королеву. — Анна удержалась от признания доктору Крузеру в том, что сомневается, расположена ли к ней теперь королева. — Но Яспер Брокгаузен не из тех, кто создает проблемы. Он изводит меня придирками, это верно, но только потому, что я плохо обращаюсь с деньгами, а он это делать умеет. Иногда герр Брокгаузен ведет себя со мной довольно строго. — Вашей милости следует знать, что письмо Брокгаузена подтолкнуло Франца фон Вальдека к тому, чтобы пожаловаться на него герцогу. — Франц с ним не дружен. Он-то и есть главный нарушитель спокойствия, почему его и отозвали с позором домой. — Да, но он изобразил себя пострадавшей стороной и завоевал симпатию герцога. Фон Вальдек обвинил герра Брокгаузена во всевозможных прегрешениях, и теперь ваш брат хочет, чтобы его удалили от двора. Анна закипела от возмущения: — Как смеет Франц вмешиваться в мои дела?! Я не хочу терять Яспера. Он много лет был мне твердой опорой. — Франц выдвинул против него несколько серьезных обвинений. — Тогда Яспер должен узнать о них и получить возможность ответить. Анна вызвала Брокгаузена и заставила доктора Крузера объяснить, в чем его обвинил Франц. — Что?! — ужаснулся Яспер. — Я никогда не обкрадывал ее высочество, не подделывал ее счета и никогда не фамильярничал с ней. Как он может такое говорить? А если я возражал ей, то для ее же пользы. — Это правда. Все это правда. — Анна улыбнулась Ясперу, желая показать, что верит ему и держит его сторону. — Мадам, это злостнейшая клевета! — протестовал тот. — Думаю, я должен поехать в Клеве, чтобы защититься от обвинений, если вы позволите. — Разумеется, — сказала Анна, с тревогой думая, как она управится со счетами в его отсутствие. — Это самое мудрое решение, — заявил доктор Крузер. — Но сперва, герр Брокгаузен, я лично попрошу у герцога гарантий, что вам позволят вернуться в Англию к своим обязанностям. — Вы не должны уезжать, пока не будете в этом уверены, — сказала Анна Ясперу, и тот неохотно согласился.
После досадной отсрочки, в продолжение которой Вильгельма убеждали дать требуемые гарантии, Яспер отправился в Клеве, оставив в Англии разъяренную Герти, которая была готова на любое насилие по отношению к Францу фон Вальдеку, если бы могла до него дотянуться. Все эти происшествия лишили Анну покоя, а тут еще пришло письмо из Совета с требованием, чтобы она отстранила от дел подозреваемого в интригах с французами Флоренца де Дьячето и приказала ему покинуть королевство в течение тридцати дней под страхом заключения в тюрьму. — Флоренц, вы должны прочесть это! — крикнула Анна, пробежав через весь дом и отыскав его во дворе играющим в шары с Отто. Он прочел, высоко вскинув брови: — Я служил вам верой и правдой пятнадцать лет, мадам. Могу предположить только, что у Совета возникли подозрения, после того как в прошлом году у меня изъяли письма в Дувре. — Я сама поеду ко двору и заступлюсь за вас, — заявила Анна. — Нет! — возразил он так резко, что Анна забеспокоилась: вдруг ему действительно есть что скрывать? — Они могут заодно и вас посчитать виновной. Не стоит вам встревать в это дело, мадам. Я сам с ним разберусь. — Подозрения Анны усилились. — Попрошу помощи у своего дяди, — продолжил Флоренц. — У него есть друзья в Париже, и я отправлюсь туда. «Зачем ехать в Париж, а не в Клеве?» — удивилась про себя Анна. Отто, стоявший за спиной Флоренца, кивнул ей, чтобы она соглашалась. — Хорошо, но мне будет очень жаль терять вас, вы всегда прекрасно служили мне. Как вы будете жить? Вам перестанут выплачивать пенсион. — Я скопил немного денег, — ответил Флоренц. — Как-нибудь перебьюсь. — Вы уверены, что я ничего не могу для вас сделать? — с мольбой в голосе спросила Анна. — Ничего, мадам, — решительно отказался де Дьячето.
— Он что-то скрывает, — пробормотал Отто, когда виновник переполоха ушел. — Что было в привезенных из Дании письмах? Флоренц об этом так ничего нам и не сказал. И почему он оставался там столько месяцев и вернулся через Дувр, когда легче было переправиться дальше к северу? Я и раньше думал, не заезжал ли он по пути во Францию? И эти друзья в Париже… Друзья ли они и вправду доктору Олислегеру? — Но его семья всегда отличалась преданностью, — возразила Анна, — и он получает пенсион от королевы. Из всех моих слуг только ему и сэру Джону оказана такая честь. Думаю, Флоренц получил свой пенсион за услуги, оказанные королю Эдуарду. Не могу поверить… — Нет ничего невероятного в том, что он работал на французов. Анна вернулась мыслями к предыдущему году, когда ее саму подозревали ровно в том же. Неужели Флоренц из неверно понятого чувства долга пытался убедить короля Франции, чтобы тот ради нее, Анны, объявил войну Англии? Это казалось слишком далекоидущим допущением. Но какие иные мотивы могли у него быть? Пока они возвращались в Королевскую усадьбу, Анна готовилась к серьезному разговору с Флоренцом, но когда послала слугу вызвать де Дьячето к ней в гостиную, тот вернулся один и беспомощно развел руками: — Его нет, мадам. Анна взглянула на Отто, которого попросила присутствовать при беседе. — Черт бы его побрал! — выругался он.
Анна вызвала доктора Крузера и сообщила ему о случившемся. — Он сказал, что собирается в Париж, — завершила рассказ она. — Я вынуждена просить вас об одолжении, друг мой. Не могли бы вы отправиться домой через Францию и проверить, есть ли там какие-нибудь известия о Флоренце? — Я постараюсь, — пообещал Крузер. Прошла неделя после его отъезда, когда из Клеве в весьма дурном настроении вернулся Яспер. Он вошел к Анне вместе с цеплявшейся за его руку Герти. — Герцог не стал меня слушать, мадам, — прорычал Брокгаузен. — Франц своими ядовитыми речами настроил его против меня, и он сказал, что хотя выполнит обещание и позволит мне вернуться в Англию, но будет настоятельно просить ваше высочество уволить меня. — Не беспокойтесь, я никогда этого не сделаю, — заявила Анна, — и, если мой брат пожалуется мне на вас, я скажу ему всю правду. Брокгаузен явно испытал облегчение. — Благодарю вас, мадам. С вашего позволения, я немного отдохну после поездки, а потом займусь вашими счетами. Анна вернулась в кабинет и нашла там письмо. Она узнала почерк доктора Крузера. Он добрался до Парижа без происшествий и, по счастливой случайности, встретился с доктором Уоттоном, который в настоящее время служит там в должности английского посла. Крузер доверительно сообщил Уоттону о цели своего приезда в Париж, и тот открыл ему, что имеет поручение Тайного совета следить за Флоренцом. Более того, доктор Крузер узнал, что де Дьячето много раз встречался с фигурой не менее значительной, чем главный констебль Франции, а также со всем французским Советом. Доктор Уоттон не усматривал в этих его действиях благих намерений. Анна опустила письмо. Может, это Флоренц виноват, что на нее пало подозрение и она перенесла массу неприятных последствий этого. Если так, ему придется за многое ответить. Хуже всего, что она доверяла Флоренцу, как и его дяде, и теперь чувствовала себя более не в силах полагаться на собственные суждения о людях.
Дом в Дартфорде был большой, и у Анны не хватало средств обставить его как полагается. Во время недавнего визита в Блетчингли она упомянула при сэре Томасе Кавардене о своих попытках найти средства на покупку необходимых для королевской усадьбы вещей. Через два дня по ее возвращении в Дартфорд туда прибыли повозки, груженные мебелью. — Это прислал сэр Томас Каварден, — сообщил ей мистер Кэри. Анна не хотела быть обязанной Кавардену, но и выглядеть неблагодарной тоже не желала. — Мистер Кэри, прошу вас, напишите сэру Томасу, что я очень благодарна ему за доброту и заплачу за вещи, когда узнаю их цену. Ответ пришел быстро. Мебель — подарок. Взамен он просил, чтобы Анна оказала ему честь и посетила его в Блэкфрайарсе. После такого проявления щедрости она едва ли могла отказаться и надеялась только на то, что это не окажется прелюдией к новым домогательствам со стороны Кавардена.
Анна взглянула на себя в зеркало. Ей было сорок; она переживала, что возраст ее стал заметен, однако смотревшее на нее отражение вроде бы почти не изменилось: кожа по-прежнему гладкая, волосы такие же золотистые. Матушка Лёве похлопала ее по плечу: — Мистер Кэри здесь, мадам. Анна отложила зеркало и с улыбкой сказала: — Добрый день, мистер Кэри. — Я по поводу грядущего визита вашего высочества в Лондон, — сообщил он, садясь на указанный Анной стул. — В этой стране, когда королевская особа едет к кому-нибудь с визитом, принято посылать вперед вестника со списком того, что потребуется. Прозвучала в его тоне озорная нотка или ей показалось? Анна знала, что Кэри недолюбливает сэра Томаса, как и остальные ее слуги. История с рубкой деревьев до сих пор не была забыта. — Будет небесполезно вызвать мейстера Шуленбурга, — посоветовал он. — Сэр Томас захочет узнать, какие блюда предпочитает ваше высочество. Мейстер Шуленбург, похоже, был готов к вызову. Он рекомендовал Анне попросить большое количество пива и вина, а также выставил длинный список продуктов, которые сэру Томасу хорошо было бы иметь; там значились баранина, каплуны, крольчатина, пшеничная мука лучшего качества, изюм, чернослив и дорогие специи. К этому мистер Кэри добавил дрова для очагов, на которые нельзя скупиться в это холодное время года, и факелы для освещения дома, под конец напомнив: — Мы не должны забывать о рыбе. Мейстер Шуленбург посоветовал заказать карпов, щук, линей и прочую свежую рыбу. — И может быть, вашей милости стоит попросить об отдельной кухне, чтобы вы могли сами готовить еду, как делаете здесь. Также лучше заранее побеспокоиться о том, чтобы кухни у сэра Томаса были снабжены всем необходимым для обслуживания большого числа гостей. Проинструктируйте его, чтобы он заранее приобрел… дайте мне подумать: шестнадцать дюжин глиняных горшков, оловянные миски для масла, сковороды, котелки, кастрюли с длинными ручками, поварешки, ножи для чистки овощей и разделки мяса, вертелы, решетки, крюки для мяса, корыта, корзины, подносы и бутыли. — Список казался бесконечным и, очевидно, был составлен заранее. Анна понимала, чем они занимаются. Ее придворные мстили сэру Томасу. — Это все? — уточнила она, чувствуя неловкость оттого, что ей предстояло попросить так много. Каварден мог подумать, что Анна намерена регулярно посещать Блэкфрайарс в будущем, а ей совсем не хотелось наводить его на такие мысли. — Вы уверены, что все это необходимо? — По моему опыту, — сказал мистер Кэри, — когда двор куда-то приезжает, случается, что хозяева недостаточно хорошо готовы к приему гостей. Герр Шуленбург горячо закивал. Анна сдалась и подписала запрос.
Сэр Томас, казалось, ничуть не возражал против того, что она столько всего затребовала. Гостям был оказан очень теплый, если не сказать превосходящий все ожидания, прием, и хозяин лично с гордостью показывал Анне свои владения. Дом у него был небольшой, всего в двенадцать комнат, но располагался он в самой лучшей части Лондона — в месте, где, судя по видневшимся вокруг развалинам, когда-то находился монастырь. — Это был монастырь Черных Братьев, где слушалось дело об аннулировании брака короля Генриха с королевой Екатериной в тысяча пятьсот двадцать девятом году, — сказал сэр Томас. Теперь здесь появились жилые здания и лавки ремесленников. Анна увидела переплетную мастерскую и книгопечатню. — Я сдаю дома внаем, — продолжил хозяин. — Один арендует лорд Кобэм. Они вернулись в гостиную, где шли приготовления к ужину. — Все, о чем просили ваше высочество, собрано, — лучась улыбкой, сообщил сэр Томас. — Я потратил на эти вещи сорок один фунт собственных денег, даже больше. Эта сумма значительно превышала ежегодную ренту, которую он платил за Блетчингли. Говорить гостям, сколько денег вы потратили на их развлечение, считалось дурным тоном, и Анна почувствовала себя неловко. Ужин подали отменный: баранина была нежная и вкусная, рыба изысканно приправлена и потушена в сырном соусе. Сэр Томас старался блистать остроумием, и Анна начала расслабляться. Она поймала через стол взгляд Отто и прочла в нем обещание радостей плоти. Но им нужно быть предельно осторожными.
Как обычно, любовная близость оставила обоих неудовлетворенными. Теперь больше, чем когда-либо, Анна страшилась беременности. Королева Мария была бы в высшей степени шокирована. Пока они лежали, прижавшись друг к другу, и говорили о прошедшем вечере, рука Отто добралась до груди Анны — и замерла. — Что это? — спросил он и подвел пальцы любимой к привлекшему его внимание месту. Там, под кожей, прощупывался твердый бугорок размером с горошину. — Может быть, бородавка или прыщ, — сказала Анна. — Он не болит. — Раньше я его не замечал, — пробормотал Отто. Она тоже. Наутро, не вспомнив о неприятном ночном открытии, Анна надела передник и отправилась в отведенную ей в качестве личной кухни прачечную, чтобы разделывать рыбу, которую подадут к столу за обедом. Войдя, она обнаружила там полный разгром. По всему полу и на столе валялись осколки битой посуды. — Что случилось?! — вскрикнула Анна. Слуги выглядели такими же потрясенными, как она сама. — Я не знаю, — сказал герр Шуленбург. — Кажется, кто-то проявил неловкость. — Да, — хором согласились несколько голосов. Анна нахмурилась. Неужели месть Кавардену за его жалобы на рубку деревьев продолжалась? — Уберите это, пожалуйста. Я сообщу о случившемся сэру Томасу. Каварден, очень хмурый, сам спустился вниз и осмотрел разгромленную кухню. — Какая непростительная беспечность! — прокричал он. — Никакого уважения к чужой собственности. Эти вещи были приобретены ради визита вашей госпожи, а теперь они безнадежно испорчены. Как я смогу оказать леди Анне достойный прием? — Все в порядке, сэр Томас, — торопливо проговорила она, радуясь предлогу уехать. — Мы больше не доставим вам хлопот. Я приеду в другой раз. Каварден набросился на нее: — А как же деньги, которые я потратил, мадам, и убытки, понесенные из-за беспечности ваших слуг? — Он сделал упор на слове «беспечность». Анна не могла заплатить ему; денег, как обычно, не было. — Я очень сожалею о случившемся, — сказала она, испытывая унижение. — Ну ладно, — помолчав, буркнул Каварден. — Я попрошу компенсацию у Тайного совета. — Надеюсь, они вам помогут, — ответила Анна и улизнула в свою комнату собираться.
Глава 29
1556 годКавардена снова арестовали. Взволнованные придворные Анны столпились в холле послушать облаченного в костюм для верховой езды сэра Джона, который рассказывал госпоже о том, что узнал при дворе: — Лорд Паджет сказал мне, что Совету стали известны подробности плана протестантов ограбить казну и посадить на трон леди Елизавету. Сэр Томас явно в этом замешан. Он и другие джентльмены собирались перехватывать сокровища, посланные королевой в Испанию королю Филиппу. Один признался, что в числе заговорщиков были члены парламента, которые презирали королеву и ее веру и объявили себя протестантами. Анна легко могла представить в качестве одного из них сэра Томаса. Как же он безрассуден! Разве ему не известно, что даже архиепископ Кранмер не избежал применения к нему законов против ереси? Его казнили в этом месяце. Анна слышала, что Кранмер держал в огне правую руку, говоря, что сперва наказание должно пасть на нее, так как это она подписала покаяние, от которого он позже отрекся. Анна радовалась, что живет в Дартфорде. Здесь она чувствовала себя в относительной безопасности. Если Совет заподозрит ее в слишком близких связях с Каварденом и его друзьями-еретиками, отсюда было легче морем бежать из Англии. Следом пришла новость об освобождении сэра Томаса. Его отпустили под залог в четыре тысячи фунтов с обещанием снова предстать перед Советом в ноябре. Значит, он оставался под подозрением. Анна надеялась, что Каварден сумеет оправдаться. Она опасалась, как бы ее судьбу не связали с ним, а покидать Англию ей не хотелось. Эта страна и ее жители полюбились Анне, несмотря на все перенесенные тяготы, так же как жизнь, которую она вела в своих прекрасных домах в окружении самых дорогих ей людей. Иоганну исполнилось двадцать пять лет, это был высокий светловолосый мужчина с мягким характером и добрым сердцем. Анна обожала его и часто задумывалась, не догадывается ли он, что значит для нее гораздо больше, чем мог бы значить любой самый преданный слуга. Больше всего на свете ей хотелось рассказать Иоганну, что она его мать, и открыто излить на него всю ту любовь, которую она так старательно таила. Что могло теперь дать ей Клеве? Почти ничего. Вильгельм странным образом процветал там, руководимый и направляемый императором: строил крепости и украшал дворцы, чем заработал себе прозвище Вильгельм Богатый. Он был весь погружен в заботы о своей жене и растущем семействе. Эмили вела жизнь старой девы и, казалось, утратила всю свою юношескую живость, если ее письма хоть насколько-то верно отражали действительность. Из них Анна узнавала, что ее сестра проводит непомерное количество времени в спорах с Вильгельмом. Анне не хотелось попасть в ловушку семейных дрязг. Единственным ее желанием было и дальше вести спокойную и размеренную жизнь, которую она сама для себя создала.
Конец весны принес с собой на корабле из Германии Франца фон Вальдека. Анна приняла его холодно. — Я не ожидала увидеть вас здесь снова. Он прищурил голубые глаза: — Меня прислал герцог, мадам, в качестве своего эмиссара. Он желает, чтобы вы отстранили от службы Брокгаузенов и… — его глаза переметнулись на Отто, стоявшего за креслом Анны, — и герра фон Вилиха. Анна пришла в такой ужас, что едва не упала в обморок. Необходимость расстаться с Яспером и Герти сама по себе достаточно ужасна, но потерять Отто! Это было выше ее сил… Она никогда, ни за что не допустит этого. Анна чувствовала волну негодования, исходившую от самого Отто. — Позвольте напомнить вам, Франц, — сквозь зубы проговорила она напряженным от злости и страха голосом, — что эти добрые люди верно служили мне много лет. Яспер заслуживает только похвал за усилия, предпринятые им ради сбережения моих средств. И вот, нарушив лад и покой в моем доме в прошлом и возложив непомерно большие надежды на наше кровное родство, за что, напомню, вас отозвали в Клеве, вы являетесь сюда и требуете, чтобы я избавилась от них. Что ж, заявляю вам здесь и сейчас: я этого не сделаю! А теперь идите. Франц сверкнул на нее глазами, коротко поклонился и решительным шагом вышел за дверь. — Я напишу брату, — сказала Анна Отто. — Сообщу ему о предательстве этого негодяя. Не беспокойтесь, любовь моя. Я никогда не отпущу вас. — Она взяла его руку и пожала, не заботясь о том, видит кто-нибудь этот ее жест или нет.
После ухода Франца и отправленного со срочным курьером письма Вильгельму Анна стала надеяться, что на этом история закончится. Она была удивлена, когда через две недели в Дартфорд прибыл доктор Харст, располневший и поседевший и вовсе не довольный тем, что ему пришлось снова явиться в Англию. Его прислал Вильгельм, Анна в этом не сомневалась. Оказывая Харсту любезности, положенные при приеме гостя, даже нежеланного, она про себя решила твердо, что будет сопротивляться любому давлению, которое тот попытается оказать на нее. Она ни за что не допустит расставания с Отто или Брокгаузенами. — Ну, доктор Харст, — сказала Анна, когда они наконец остались одни в ее личных покоях, — что привело вас в Англию? — Деликатное дело, мадам. Ваш брат полагает, что, так как я знаком с вами уже очень давно, лучше всего подхожу для его обсуждения. Анна терялась в догадках, о чем же пойдет речь. Харст протянул ей письмо. Оно было от Вильгельма. Брат предупреждал ее, чтобы она не упорствовала в желании оставить при себе трех слуг, которые стали причиной такого серьезного разлада. От Франца фон Вальдека он узнал, что они оказывают до такой степени нездоровое влияние на нее, что выводят из равновесия ее ум. Глаза Анны сощурились от гнева. Что вообще имеет в виду Вильгельм? Какую ложь скормил ему Франц? — Это злостная клевета! — в ярости воскликнула она. — Я ничего не понимаю, кроме того, что тут явно поработал злонамеренный человек, умеющий создавать проблемы. — Мадам, — начал доктор Харст, — герцог полагает, что герр Брокгаузен и его супруга изводят вас, постоянно пытаясь настроить против герра фон Вальдека. — Они ничего такого не делают, — поправила его Анна. — После его отъезда я жила с ними в мире и покое. Если кто и доводит меня до отчаяния, так это герр фон Вальдек. — Мадам, боюсь, вы находитесь под властью иллюзий и не видите того, что творится под самым вашим носом. — Ах, бросьте, доктор Харст! Вы меня прекрасно знаете. — Мадам, герр фон Вальдек опасается, что фрау Брокгаузен околдовала вас. Анна уставилась на него, разинув рот: — Ясно, что это на его рассудок что-то повлияло! Я действительно удивляюсь, что вы и мой брат прислушались к его ядовитым речам. Это чистый вымысел. Думаю, доктор Харст, вам лучше уйти. — Мадам, прошу вас! — Он выглядел расстроенным. — Я должен поговорить с вами, так как есть и другая проблема — пагубная власть, которой, кажется, обладает над вами герр фон Вилих. При вашем дворе ходили разговоры о существовании между вами более близких отношений, чем полагается. Анну обуяли злость и страх. Мир покачнулся, но она заставила себя собраться с мыслями и решила бороться за самого дорогого ей человека. — Это тоже ложь! — заявила она. — Я отвергаю такие голословные утверждения. Он мой родственник и очень дорог мне. Между нами нет ничего недозволенного. Да, это была ложь, но если Франц вел грязную игру, ей тоже можно. Доктор Харст встал. — Слышать это — большое облегчение, — сказал он, впрочем, в его голосе не звучало окончательной убежденности. — Я вернусь в Клеве и сообщу герцогу о вашем ответе на его письмо. А пока, во избежание дальнейших неприятностей, советую вашему высочеству уволить этих трех слуг. — Об этом не может быть и речи, — ответила ему Анна.
«Вильгельм не заставит ее избавиться от них», — твердо сказала себе она. Он в Клеве, за много миль отсюда. Власть его на Дартфорд не распространяется. Она всегда была послушна желаниям брата и в великом, и в малом, но это — ее личное дело, домашнее, просто гнусная склока. Она не поддастся, если он будет настаивать. Брокгаузены не заслуживают, чтобы их уволили без веских оснований. А что до Отто, то он был для нее самим дыханием жизни, и она нуждалась в нем больше, чем когда-либо, с тех пор, как заметила, что бугорок на ее груди увеличился. Анна сказала об этом матушке Лёве, и та посоветовала ей проконсультироваться с доктором Саймондсом. Однако Анна не стала: ей было стыдно и она слишком боялась того, что скажет врач. Но с Отто она могла поделиться своими страхами, хотя и откладывала этот момент, ведь стоит раскрыть ему свои тревоги, и уже нельзя будет жить так, будто все нормально. В ту ночь Анна открылась Отто, не в силах больше переживать страх в одиночестве. — Посмотрите, — попросила она. — Мне невыносимо ни прикасаться к нему, ни видеть его. Отто мягко ощупал больное место: — Он стал больше. Вам нужно показаться доктору Саймондсу. — Отто выглядел таким встревоженным, что Анна испугалась. — Мне этого не вынести, — всхлипнула она. — Анна, может быть, это пустяк. Но если нет, то у вас будет больше шансов на излечение, чем в том случае, если вы обратитесь за помощью слишком поздно. Я не пытаюсь напугать вас, дорогая. Просто хочу, чтобы вы обрели уверенность. Обещайте, что вы покажетесь доктору. Анна набрала в грудь воздуха и выдохнула: — Хорошо.
— Теперь можете зашнуровать лиф, миледи, — сказал доктор Саймондс голосом по-деловому холодным и ничего не выдающим. Задержав дыхание, Анна привела себя в порядок. Доктор сел: — Это рак, миледи, не обычное заболевание. У вас на груди твердая опухоль. Она быстро прицепляется к определенным частям тела, как рак, от которого недуг получил свое название. Он возникает от сухого меланхолического гумора в окружающих его венах и иногда от нездорового питания. — Вы можете это вылечить? — с тревогой спросила Анна. — Будем надеяться, мадам. Сперва я должен очистить нездоровый гумор, пустив вам кровь. Обнажите, пожалуйста, руку. Надеясь и молясь, что это поможет, но сомневаясь, что врач открыл ей всю правду, Анна закатала рукав, и доктор Саймондс поставил пиявок. — Старайтесь избегать давления на это место, получайте умеренную физическую нагрузку, особенно перед едой, спите по семь-восемь часов по ночам и полноценно питайтесь. Воздерживайтесь от постов и от вещей, горячащих кровь, вроде солонины, зайчатины, оленины, каплунов и других видов курицы. Сыворотка, немного эля и белого вина вам не повредят. Все это звучало весьма утешительно и ободряюще. Доктор Саймондс наверняка не стал бы рекомендовать такое простое лечение в ущерб более радикальным мерам, если бы болезнь была серьезной. Анна встала: — Благодарю вас, доктор Саймондс. Мне нужно показаться вам снова? — Только если вас что-то обеспокоит.
Гонец был одет в ливрею королевы; доставленное им письмо запечатано королевской печатью. Анна сломала ее. Неужели это долгожданное приглашение ко двору? Первой в глаза ей бросилась витиеватая подпись Марии. Потом она прочитала само послание. По требованию герцога Клеве Совет получил инструкции распорядиться о депортации троих иностранных нарушителей порядка, а именно: герра Брокгаузена и его жены, а также герра фон Вилиха. Миледи Клевской приказано уволить их со службы у себя немедленно, чтобы они могли вернуться в Германию. — Нет! — вскричала Анна и упала на колени, беспомощно голося. Прибежали слуги, узнали, в чем дело, и Отто, невыразимо дорогой Отто, обнял ее на глазах у всех и утешал. Трясущимися руками Анна показала ему письмо от королевы. Когда он закончил чтение, то задрожал и передал письмо Ясперу и Герти. — Я буду бороться! — сказал Отто. — Поеду ко двору и выведу на чистую воду этого ублюдка Вальдека. Я потребую встречи с королевой! Анна положила ладонь на его руку: — Отто, поеду я. Она понимала, что сумеет более тактично поговорить с Марией, чем он. Праведный гнев мог возобладать над ним. Разумнее, если перед королевой предстанет удрученная горем просительница, чем разъяренный истец. Анна поехала во дворец Гринвич, взяв с собой для моральной поддержки Иоганна. Однако, сидя в конных носилках, она едва могла глядеть на него, потому что стоило ей сделать это, и она вспоминала, что молодому человеку грозит потеря отца, которого тот не знал как своего родного. А ей — святый Боже! — о такой утрате невозможно было даже думать! Она и не думала. Ей нужно быть сильной, чтобы справиться с предстоящей задачей. После столь долгой жизни в уединении двор ошеломил Анну: толчея людей, шум, бесконечные схватки за продвижение по службе. Церемониймейстер скрылся, унося с собой ее просьбу об аудиенции у королевы, и вернулся через два часа. — Ее величество просит у вас прощения, миледи, но она давала аудиенцию испанскому послу. Следуйте за мной, пожалуйста. В приемном зале королевы было по-августовски душно. Сама Мария выглядела больной и как будто усохшей, несмотря на роскошное платье из золотой парчи и сверкающие драгоценности. Протянув Анне руку для поцелуя, она сдержанно улыбнулась: — Приятно видеть ваше высочество. Чем я могу вам помочь? — Мадам, я приехала просить за моих слуг. Только к вашему величеству я могу обратиться за помощью. — Вы имеете в виду трех граждан Клеве, которых должны депортировать? — Да, мадам. Лживые обвинения против них были выдвинуты перед моим братом одним злонамеренным человеком, которого я удалила от своего двора. Все трое — верные и преданные слуги, на которых я полагаюсь во всем. На усталом лице Марии отобразилась досада. — Это позволяет по-другому взглянуть на дело, — сказала она, — но я попала в трудное положение. Мне сообщили, что все возможные усилия были предприняты для того, чтобы убрать этих людей со службы вам, но все оказалось напрасным, почему герцог и прислал своего поверенного, чтобы тот просил меня применить свою власть для изгнания их из Англии. Он сообщил мне, что мистресс Брокгаузен доставляет особенно много проблем и что она заклятьями и колдовскими чарами доводит ваше высочество до безумия. — Это нелепо, мадам, — вставила свое слово Анна. — Как видите, я в здравом уме. Герти Брокгаузен не колдунья, скорее, она простая честная женщина, которая принимает мои интересы близко к сердцу. Ваше величество, все это клевета, поверьте мне. — Она рассказала о том, что происходило между Францем фон Вальдеком и остальными на протяжении последних нескольких лет, и о попытке Франца склонить ее к тому, чтобы она назвала его своим наследником. — Герр Брокгаузен сообщил герцогу о его самонадеянности, и мой брат отозвал герра фон Вальдека, но тот сумел настроить Вильгельма против моих верных слуг. Ваше величество, умоляю вас, не лишайте меня этих троих людей, которых я люблю и которым полностью доверяю! Анна испытала облегчение, заметив, что Мария смотрит на нее с сочувствием. — В свете того, что вы мне сказали, я посоветуюсь с королем Филиппом и спрошу его мнение на этот счет, — заявила королева; в тоне ее зазвучала тоска, когда она продолжила: — Я ожидаю его скорого возвращения в Англию, но сейчас он в Генте, так что я пошлю к нему гонца, чтобы это дело разрешилось побыстрее. Я спрошу его величество, совместимо ли с моей и его честью поступить по требованию герцога, учитывая открывшиеся сведения. Надеюсь, через несколько дней мы получим от него ответ и положим конец этой истории. Анна не могла понять, почему Мария не берется принять решение самостоятельно. — Вашему величеству необходимо одобрение короля в этом деле? — спросила она и сразу пожалела о сказанном, потому что улыбка мигом исчезла с лица Марии. — Вы, вероятно, забыли, миледи Анна, что Клеве находится под протекцией отца его величества, императора, который принимает живое участие в делах герцогства. — Конечно, — сказала Анна. — Я не собиралась критиковать вас, мадам. — Отправляйтесь домой, — велела Мария. — Я прикажу Совету написать вам, когда получу известия от его величества. Анна неохотно сделала реверанс и медленно вышла, боясь, что обидела Марию и ее приезд сюда оказался напрасным. Домой она ехала удрученная и не могла отделаться от чувства, что худшее еще впереди и виной тому ее собственная бестактность.
Через неделю Совет для проведения разбирательства вызвал на заседание Отто, Брокгаузенов и еще двоих слуг в качестве свидетелей. Полная трепета, Анна отправила двоих грумов давать показания и сама поехала вместе со всеми в Гринвич, неспособная вынести унылого ожидания новостей дома. Она осталась в запруженной людьми галерее с Иоганном, а остальных отвели в зал Совета. Анна не позавтракала — просто не могла, а потому пошатывалась от слабости и волнения. Встревоженный ее видом церемониймейстер принес стул. Когда открылась дверь зала заседаний, Анна подскочила; каждый нерв в ней был натянут от дурных предчувствий. Мрачное выражение лица Отто подсказало, что хороших новостей не будет. Герти плакала. Люди таращились на них, поэтому Анна решительно кивнула всем троим, чтобы следовали за ней, спустилась по лестнице и отвела их в сад, где Отто обнял ее и крепко прижал к себе. Он плакал. — Новости плохие, Анна, — силясь совладать с чувствами, проговорил Отто. — Король настаивает, чтобы требования герцога Клеве были исполнены как можно быстрее. Мы все должны покинуть Англию до Дня Всех Святых. — Голос его оборвался. Анна не могла произнести ни слова. Произведя в голове молниеносный подсчет, она поняла, что ей осталось провести с любимым всего семь коротких недель. Сердце у нее оборвалось, ей хотелось закричать, но тут она увидела расстроенное лицо Иоганна и обняла сына, не заботясь о взглядах посторонних. — Нам приказано удалиться из дома вашего высочества и от вашей семьи и никогда больше не входить ни в одно из ваших владений, — пробормотал Яспер. — Мне велено больше не вмешиваться в дела управления вашим двором и ни в какие другие. — И ни один из нас не сможет вернуться к вам на службу, кроме как в случае крайней опасности для нас. — Герти всхлипнула. Анна порывалась вернуться во дворец и потребовать, чтобы Совет отменил все эти запреты, но чувствовала себя слишком слабой и больной; она едва держалась на ногах. И разве ее протесты помогут? Анна уже обращалась к королеве и объяснила ей все дело. Теперь голос подал король, и невозможно было представить, что Мария станет ему перечить. В Дартфорд они возвращались подавленные и унылые. Иоганн всю дорогу плакал. Анна глядела в окно, сжимая руку Отто. Какой смысл теперь таиться? Ей было все равно, пусть хоть весь мир узнает об их любви. Думала она только о том, что скоро Отто покинет ее. Она не могла этого допустить и не допустит. Нужно придумать какой-нибудь план. В ту ночь Анна прильнула к любимому так страстно, как никогда прежде, и сказала: — Возьмите меня по-настоящему. Ради вас, мой милый, я рискну всем. Я хочу только одного — быть с вами. Остальное теперь не имеет значения. Какой восторг, когда, после долгих лет досадного воздержания, тобой обладают полностью. Они упивались сладостной горечью слияния, проникнутого невыразимой печалью. Но они должны остаться вместе! Неужели нет никакого способа избежать разлуки? — Я поеду с вами, — сказала Анна, когда они лежали, обнявшись, после любовного соития. — Анна, я не смел заговорить об этом, хотя такая мысль появлялась и у меня. Что я могу вам предложить? Я бастард, у меня нет своего состояния. Мне придется отправиться к своему кузену и рассчитывать на его милость. Я не осмелюсь просить его принять у себя и вас тоже. Ваш брат разгневается, и это плохо скажется на моем кузене. — Тогда женитесь на мне сейчас, и мы поставим Вильгельма перед свершившимся фактом. — Дорогая, вы обдумали последствия? Я бы женился на вас хоть завтра, но герцог потребовал моей депортации. Король Филипп приказал исполнить его волю, и ваш брат не рискнет обидеть императора. Едва ли я желанный жених. Если мы вступим в брак и приедем в Клеве мужем и женой, он может убить нас обоих. — Тогда давайте поженимся и уедем куда-нибудь в другое место! — Куда? Анна, будьте реалистичны. Вы же не думаете, что я еще не просчитал все варианты? Если вы покинете Англию, то лишитесь всего вашего содержания. Как я могу подвергнуть вас такому испытанию? Вы провели всю жизнь в комфорте. Вам неизвестно, что такое настоящая нужда. К тому же надо подумать и об Иоганне. Он счастлив здесь, у вас на службе. Вы готовы вырвать его из этого мира? — Он обучен ремеслу, к которому может вернуться. — Да, но ремесленнику нужно место, где он может заниматься своим делом, и деньги, чтобы его начать. Анна села: — У меня есть великолепная идея. Я уверена, его отчим и мачеха примут нас, если мы обрисуем им ситуацию. — Анна, подумайте, о чем вы их попросите. Они будут чувствовать себя обязанными содержать вас так, как приличествует вашему положению. Даже если они смогут это себе позволить, то будут жить в страхе мести со стороны герцога, если ему станет известно, где вы находитесь. Будьте уверены, вся Европа кинется искать вас. Принцессы не могут просто взять и исчезнуть по своему усмотрению. Нет, то, что придумал я, лучше. — Он привлек к себе Анну и положил ее голову на свое плечо. — Я вернусь в Клеве, постараюсь убедить герцога, что Франц был не прав, и добьюсь, чтобы он потребовал моего возвращения к вашему двору вместе с Яспером и Герти. — Но это повлечет долгую разлуку, — заплакала Анна. — Это самый лучший путь. Я вернусь к вам, обещаю. — Голос его дрогнул, и слезы их смешались.
Глава 30
1556–1557 годыГорестный день настал. Страстные слова прощания были сказаны ею и Отто наедине, а теперь она стояла снаружи дома, — за спиной у нее выстроились придворные, — и готовилась прилюдно расстаться с возлюбленным, а также с Яспером и Герти. Все трое были спокойны и сдержанны, собрались с духом для встречи с неизбежным. Отто никогда еще не выглядел таким красивым и желанным, как в тот момент, когда поклонился Анне и взял ее руку; его губы задержались на ней, но лишь настолько, чтобы не нарушить приличий. Анна заглянула в нежные голубые глаза любимого, мысленно молясь: только бы не в последний раз. — До новых встреч, — сказал она, надевая на лицо храбрую улыбку. — Адью, дорогая леди, — ответил Отто и вскочил на коня. Анна расцеловала Яспера и Герти на прощание, едва отрывая взгляд от Отто, потом они пришпорили лошадей и ускакали через гейтхаус прочь из ее жизни. Никогда еще Анна не чувствовала себя такой одинокой. В то утро она впервые за много недель ощупала шишку у себя на груди и обнаружила, что она стала больше. Отто она ничего не сказала — не хотела, чтобы, уезжая, он волновался за нее. Но сердце тяготил страх. Если, или когда, Отто выпросит у Вильгельма дозволение вернуться в Англию, не будет ли уже слишком поздно?
Прошло больше пяти месяцев с того момента, как Отто покинул Анну, — пять долгих, тягучих, пропащих месяцев, а Вильгельм так и не принял его. Анна впала в отчаяние, исстрадалась от тоски и одиночества. Время ее истекало, она это знала. На груди у нее теперь была отвратительная на вид язва, мерзкая и дурно пахнущая. Ее вид заставил Анну снова пойти к доктору Саймондсу. Тот посмотрел на опухоль, сморщил нос и нахмурился: — Есть разные средства, которые я могу попробовать. Однажды я лечил монахиню, у которой был рак на груди с примерно такой же язвой. Я смачивал ткань в моче маленького мальчика и прикладывал ее к ране, таким образом я продлил больной жизнь на десять лет. Кроме того, я знал одного врача, утверждавшего, что компрессы из смеси козьего навоза с медом уничтожают рак. Попробуем мочу, мадам? Анна неохотно кивнула. Она подождала, пока доктор позовет своего младшего сына, чтобы тот помочился, и задержала дыхание, когда на грудь ей шлепнулась влажная, еще теплая ткань. — Мы будем делать это каждый день, пока язва не затянется, — сказал доктор Саймондс.
Анна воздерживалась от того, чтобы каждый день проверять, уменьшается ли язва. Желая отвлечь себя от гнетущих мыслей о болезни, она взялась за свои финансовые дела. На место Яспера по совету мистера Кэри она приняла сэра Ричарда Фрестона, но тот оказался далеко не таким дельным управляющим, как Брокгаузен, и ему недоставало авторитета, чтобы вводить меры экономии. Анна снова оказалась почти без средств. В конце прошлого года, когда она попросила Совет о помощи, у нее просто забрали Мор, сказав, что это сбережет ей деньги, так как придется содержать на один дом меньше. Советники также предложили поменять Уэстхорп на какую-нибудь другую собственность, но Анна отказалась. Теперь сэр Ричард Фрестон и мистер Трокмортон побуждали ее расстаться с этим имением, и она всерьез обдумывала эту возможность. Зачем ей такой большой дворец, как Уэстхорп, когда у нее есть Дартфорд и Пенсхерст, а также право пользования Блетчингли? В зеркало она в те дни старалась не смотреть. В последний раз отражение напугало ее, такой она выглядела худой и бледной. Одежда на ней болталась, даже зашнурованная туже некуда. Силы ее убывали, Анна это понимала. Она заметила, что придворные суетятся вокруг нее больше обычного, внимательные к малейшей просьбе. Вести о том, что Анна нездорова, дошли до королевы. Лорд Паджет лично сообщил Анне, что Мария опечалена этой новостью. — Ее величество пожаловала вам право пользоваться дворцом в Челси, — сказал он, и в его глазах промелькнула искра теплоты, что случалось нечасто. — Он расположен в здоровой сельской местности рядом с Темзой, там есть прекрасный сад, который в это время года наиболее красив. — Я глубоко тронута добротой ее величества, — отозвалась Анна. — Может быть, пребывание в Челси укрепит меня. — Королева считает, это прекрасное место, чтобы отдохнуть и набраться сил, — сказал Паджет. — Со своей стороны я желаю вашему высочеству скорейшего выздоровления. Да хранит вас Господь!
«Перемены, — рассудила Анна, — могут стать благотворными». В мае, как только ключи от Челси оказались у нее в руках, она приказала двору готовиться к переезду. «Вот бы только Отто был здесь!» — думала Анна, осматривая изысканный маленький дворец, сверкавший на солнце стеклами парных, разделенных тонкими колоннами окон. Тоска по любимому причиняла постоянную муку, более сильную, чем боль в груди. Как бы ему понравилась эта тихая гавань! Анна начала надеяться, что, живя здесь, на здоровом воздухе, наконец поправится. — Я немного прогуляюсь, прежде чем осматривать дом. Сад весь в цвету. Спустившись из носилок на землю, она взяла за руку Иоганна и медленно побрела по дорожке сада, упиваясь головокружительным запахом, исходившим от клумб с розмарином, лавандой, дамасскими розами и живых изгородей из бирючины. Тут росли вишни, орешник, тёрн и даже персиковые деревья. — Не здесь ли жила королева Екатерина с адмиралом Сеймуром? — спросила Анна сэра Джона Гилдфорда, который шел за ней с другими джентльменами и дамами. Матушка Лёве ковыляла позади всех, опираясь на палку, и любовалась цветами. — Да, мадам, а потом его сдали в аренду вдове герцога Нортумберленда. Полагаю, с момента ее смерти в прошлом году дворец вернулся под управление Короны. Дворец был выстроен из кирпича. В нем имелись три зала, три гостиные, три кухни и прекрасные покои на первом этаже. На втором Анна обнаружила три гостиные и семнадцать спален. Для себя она выбрала солнечную комнату с видом на Большой сад. Когда обход дома завершился, она ощутила сильную усталость и легла поспать. Легкий ветерок из окна игриво обвевал ей лицо. — Отто, любимый, — пробормотала Анна, — прошу, приезжайте скорее!
Проснулась она оттого, что язва на груди пульсировала болью, как никогда прежде. Анна задержала дыхание, поморщилась. Матушка Лёве, сидевшая рядом с кроватью, тревожно взглянула на нее. Няня была уже стара и слаба, так что Анна не сказала ей, насколько тяжела ее болезнь. Но поблекшие глаза старухи ничего не упускали из виду. — Я не слепая, вы знаете, — сказал матушка Лёве. — Вижу, что вы страдаете. Вы плохо себя чувствуете уже какое-то время, да? — Да, — призналась Анна. — Я не хотела, чтобы вы беспокоились из-за меня, а вы ведь стали бы. На самом деле мне день ото дня становится хуже, и я боюсь! — Она схватила матушку Лёве за руку. — Тише, тише, — сказала старая няня, гладя Анну по волосам. — Скажите мне, в чем дело. — Вот в чем. — Анна расшнуровала лиф и спустила с груди сорочку. Матушка Лёве отшатнулась, на лице ее изобразился ужас, мигом замаскированный ободряющей улыбкой. — Ну что ж, нужно, чтобы доктор Саймондс еще раз взглянул на это, — хриплым голосом проговорила она. Врач мигом явился и, поджав губы, осмотрел язву. Анна набралась храбрости и тоже скосила на нее глаза, но тут же пожалела об этом: она увидела, что опухоль на груди стала сине-черной и как будто шершавой. — Лечение мочой не помогает, — прошептала Анна. Последовала пауза. — Да, миледи, но есть другие средства, которые мы можем испробовать. Я рекомендую припарки с розовым маслом, горячим свинцом и камфарой. Я смешаю все это в ступке. Приложенная к язве, эта смесь вытравит едкость пагубного гумора. Лишь бы доктор не ошибся. Матушка Лёве стояла рядом, пока он ставил едко пахнущую припарку, а Анна горячо молилась, чтобы средство подействовало.
В том месяце Анна узнала, что сэра Томаса Кавардена заключили в тюрьму Флит. Сэр Джон не знал почему. Он высказывал опасения, что речь шла о ереси. Анна молилась об освобождении Кавардена. Этот безрассудный и несдержанный человек был худшим врагом самому себе. Анна могла поспорить, что он участвовал во всех заговорах против королевы. Дни становились длиннее, и постепенно сэр Томас, а вслед за ним и вообще вся мирская суета стали отдаляться от Анны. К июню ее вселенная сжалась до размеров спальни, так как сил вставать с постели больше не было. Припарки оказались бесполезными, тем не менее доктор Саймондс неутомимо трудился, пытаясь вылечить Анну или по крайней мере облегчить терзавшую ее боль. Придворный хирург мистер Бланди пускал ей кровь так часто, как только осмеливался, чтобы сбалансировать гуморы в ее теле и избавиться от отравлявшего его яда. Матушка Лёве не отходила от постели Анны и брала на себя простейшие заботы о больной, а дамы и девушки с готовностью бросались выполнять малейший ее каприз. Мейстер Шуленбург подавал к столу отборные блюда маленькими порциями, так как Анна ела мало, и все ее главные и младшие слуги всеми силами старались обеспечить ей комфорт. Анна чувствовала себя окруженной любовью. Но в самой главной любви ей было отказано. К середине июля она поняла, что умирает. Терпеть боль, которую не могло унять ни одно лекарство, едва хватало сил. Анна могла только молиться, чтобы ее муки закончились поскорее. Из Клеве хороших новостей не приходило, и стало ясно: любимого Отто она увидит в этом мире лишь благодаря какому-нибудь чуду. У нее оставался только их сын, которого Анна теперь видела нечасто, так как служебные обязанности редко приводили его в комнату больной. Как же она по нему скучала! Во сне Анна снова видела себя здоровой, и они с Отто любили друг друга, не связанные ни условностями, ни жестокими запретами окружающих. Сны были такие живые, что, просыпаясь, Анна принимала их за реальность. Какое несчастье, что приходилось возвращаться к своему горестному существованию!
Осталось недолго, Анна это понимала. Она послала за поверенным и продиктовала ему свою волю. На это потребовалось четыре дня, так как любое усилие быстро ее утомляло. — Свою душу я вверяю Святой Троице. Тело пусть будет погребено там, где угодно Господу, — распоряжалась она. — Молю, чтобы ее непревзойденное величество королева позаботилась об уплате моих долгов, и прошу, чтобы душеприказчики проявили доброту к моим бедным слугам, которым, так же как и моим верным управляющим, я завещаю выплатить годичное жалованье, а также выдать столько черной ткани, сколько потребно каждому на траурное платье с головным убором и верхнее платье. Ох… Боль была такая сильная, что Анна не могла продолжать. На следующий день она чувствовала себя немного лучше и приказала поверенному составить список того, что будет завещано матушке Лёве и камеристкам из ее личных покоев за труды и старания на службе ей и — в последнее время — в уходе за ней. После этого Анна отдохнула и съела немного супа. Вечером она перечислила завещанное ее джентльменам, йоменам и грумам, особо упомянув о том, что по одному фунту должно достаться каждому из детей ее слуг. На третий день, чувствуя, что силы покидают ее, Анна указала, чтобы Вильгельму передали ее золотое кольцо с бриллиантом в форме сердца. Супруге Вильгельма она оставляла кольцо с рубином, а Эмили — другое бриллиантовое. Она вспомнила также о герцогине Саффолк, которая в прошлом была ей другом, и завещала той золотой перстень с граненым бриллиантом. Лорду Паджету Анна тоже завещала кольцо, потому что он проявил доброту к ней при их последней встрече. «Пока этого достаточно», — сказала Анна поверенному. Боль мучила ее так жестоко, что она едва могла говорить. Посмотрела на свое исхудалое тело: оно едва виднелось под легким одеялом. Она буквально таяла на глазах.
В тот вечер Анна почувствовала в себе силы продолжить. Распорядилась, чтобы ее посуду, украшения, одежду и прочие вещи продали, дабы рассчитаться с долгами, сделать выплаты по завещанию и покрыть похоронные расходы. Она вспомнила доктора Саймондса и мистера Бланди. Их следовало хорошо отблагодарить за труды. Не забыла Анна и своего духовника, которого просила молиться за нее, и свою старую прачку. Оставила деньги на обучение сирот, которым помогала из милосердия, и беднякам Ричмонда, Блетчингли, Хивера и Дартфорда. Анну огорчало то, что она не может открыто признать Иоганна сыном или дать ему больше, чем другим слугам. Пришлось удовлетвориться тем, что она оставила ему ту же сумму, какую получат все остальные. Отто она завещала двадцать фунтов — все, что могла себе позволить. Малая цена за его многолетнюю преданность и за то, чем он был для нее долгие годы, но Отто поймет, и эти деньги помогут ему начать новую жизнь в Клеве. На четвертый день Анна перечислила всех прочих людей, которых хотела упомянуть в своем завещании. Понимая, что ее немецкие слуги, вероятно, захотят вернуться домой, в Клеве, она оставила им деньги на дорогу. — И наконец, — едва слышно проговорила Анна, — я твердо желаю, чтобы наша дражайшая и безмерно любимая правительница, королева Мария, проследила за исполнением моей последней воли и позаботилась о том, чтобы все было сделано наилучшим образом для успокоения моей души. В знак особого доверия и привязанности, которые я питаю к ее милости, я желаю передать ей свое лучшее украшение. И так как покойный отец ее величества, достопамятный король Генрих Английский говорил мне, что в случае моей смерти будет считать моих слуг своими, я прошу ее принять их в этот момент суровой нужды. И я хотела бы, чтобы второе мое лучшее украшение получила леди Елизавета. Еще несколько заветов душеприказчикам, и дело было сделано. Поверенный подал ей документ, и она дрожащей рукой вывела: «Анна, дочь Клеве». Он посмотрел на нее полными сочувствия глазами: — Миледи, за свою жизнь я составил много завещаний, но не видел ни одного, в котором бы отражалась такая доброта и сострадание к окружающим. Да благословит вас Бог и да облегчит Он ваши страдания!
Священники оставались у постели больной всю ночь, стояли на коленях и молились. Анна чувствовала приближение смерти, но имелась еще одна вещь, которую нужно было сделать, прежде чем она покинет этот мир. Силы ее иссякали, она долго лежала и думала об этом, и вот решение созрело. — Пошлите за Иоганном, — попросила она отца Отто Румпелло, прервав его молитву. — Это очень срочно. Преподобный Отто внимательно посмотрел на нее, но поднялся с колен и торопливо вышел. Когда явился Иоганн, явно пораженный изможденным видом Анны, она отослала священника прочь и потянулась к руке сына. — Я умираю, — тихо проговорила Анна, — и хотела увидеть вас еще раз. — Нет! — возразил Иоганн, и глаза его увлажнились. — Нет, вы не умрете. Она сжала его руку, чтобы утешить, и сказала: — Это Господня воля, и мы должны склониться перед ней. Я оставила вам кое-что по завещанию. Этого недостаточно, и я хочу, чтобы вы знали почему. Видите ли, мой дорогой Иоганн, даже сейчас я должна хранить это в тайне… — Анна так ослабела от охвативших ее чувств, что едва могла продолжать. Несколько мгновений она лежала молча, глядя в любимое лицо сына. Потом сделала над собой невероятное усилие и заговорила: — Мой дорогой мальчик, вы — мой сын, и Отто фон Вилих — ваш отец. Иоганн таращился на нее, в его глазах дрожали слезы. — Я сплю? — спросил он. — Честно говоря, я не знаю, что сказать. — Не сердитесь на меня, что я не признавалась вам в этом, — с мольбой проговорила Анна. — Когда меня здесь не будет, поезжайте к своему отцу в Клеве, и он все вам объяснит. Я хочу, чтобы вы знали: я любила вас всем сердцем и для меня было трагедией, что я не могла признать вас своим сыном. Но я любила вас, и следила за вами, и тосковала, и эта моя любовь будет с вами, куда бы вы ни отправились. Вот мой истинный завет вам. Иоганн наклонился к ней и нежно ее обнял; по его щекам текли слезы. — Моя мать, — удивленно вымолвил он. — Наверное, я и сам об этом догадывался, потому что тоже любил вас. — Скажите, что прощаете меня! — взмолилась Анна, тратя последние силы на то, чтобы обнять его как можно крепче. — Я простил бы вам все, почтенная матушка, вы это знаете. — Иоганн плакал. — Я уверен, у вас были на то причины. И я горд, горд быть вашим сыном! Тут боль как ножом пронзила грудь Анны. Она вскрикнула, обхватила себя руками, и Иоганн стал звать на помощь. Сбежались священник, доктор и дамы, даже матушка Лёве быстро приковыляла на своих хрустящих суставами ногах. Вскоре уже все придворные столпились в спальне. Преподобный Отто совершил над Анной предсмертные обряды, а все стояли на коленях вокруг ее постели. Анна едва сознавала, что примиряется с Господом, боль была нестерпимая. Когда страдалица получила отпущение грехов и была помазана миром для последнего пути, она лежала и пыталась возвыситься над агонией. Матушка Лёве и Иоганн держали ее за руки, стоя по обе стороны кровати. Анна слышала, как плачут люди. Но им следовало радоваться: ее испытания скоро закончатся. Потом вдруг боль ушла. И… вот он, входит в дверь, ее прекрасный, блистающий Отто, останавливается рядом с Иоганном, и они наконец становятся семьей, какой никогда не были прежде… Сердце Анны воспарило от счастья. Он вернулся за ней, как и обещал.
От автора
Анна Клевская была единственной из жен Генриха VIII, которая сподобилась чести быть упокоенной в Вестминстерском аббатстве. 3 августа 1557 года по приказанию королевы Марии ее тело с большой пышностью предали земле в южном трансепте, сбоку от главного алтаря. Королева пригласила соотечественника Анны, каменотеса Теодора Хавеуса приехать из Клеве и соорудить надгробие (кенотаф), на котором впервые в Англии появились изображения черепа и перекрещенных костей. Оно оставалось неоконченным и через сто лет после смерти Анны. Сегодня надгробие состоит из трехчастного основания, высеченного из мягкого известняка, по углам которого — пилястры с инициалами Анны, коронами и гербами Клеве, а между ними три резные панели с ренессансным орнаментом (две с прорезным, одна с рельефным), разделенные между собой и отделенные от пилястров узкими стилизованными вазами. С задней стороны неоконченный кенотаф Анны Клевской скрыт двумя другими, появившимися в XVII веке. Между ними видна надпись: «Anne of Cleves Queen of England. Born 1515. Died 1557» — «Анна Клевская, королева Англии. Родилась 1515. Умерла 1557», сделанная, правда, в 1970-е годы[126]. Мария I ненадолго пережила Анну. Она умерла 17 ноября 1558 года. Ей наследовала сестра, Елизавета I. Марию похоронили недалеко от Анны в одной из боковых молелен Капеллы Генриха VII в Вестминстерском аббатстве, где найдет последний покой и тело Елизаветы, когда династия Тюдоров прервется в 1603 году. Анна Клевская, известная в англоязычной литературе как Anne of Cleves, обычно подписывалась Анна (Anna), почему я и использовала в книге именно этот вариант передачи ее имени. Хотя в английских источниках ее обычно называют Анне (Anne), Генрих VIII обращался к ней Анна (Anna). Правильно было бы называть ее Анна фон Клеве (Anna von Kleve)[127]. Клеве (Kleve) — название немецкого города и герцогства, Cleves — англизированная его форма. Трудно определить, что в Анне спровоцировало такую неприязнь Генриха VIII. Он был достаточно реалистичен, чтобы сознавать: монарх должен вступать в брак ради блага королевства, а не личного счастья, и тем не менее к Анне питал такое отвращение, что был готов поставить свои чувства выше пользы государства и подверг себя риску вызвать отчуждение и даже вражду со стороны ее брата и других немецких принцев, в дружбе которых нуждался. Часто говорят, что Генрих находил Анну непривлекательной и она оказалась непохожей на свой портрет. Изображая ее в фас, Гольбейн, безусловно, выбрал наиболее выгодный ракурс. Уоттон считал портрет хорошо отражающим реальный облик Анны, и нет никаких письменно зафиксированных жалоб Генриха VIII на то, что Гольбейн его сознательно обманул. Однако портреты, на которых Анна изображена анфас, менее лестны для нее. Один, из колледжа Сент-Джонс в Оксфорде, показывает ее лицо более угловатым, с выступающим вперед заостренным подбородком, тяжелыми веками и длинным носом. Недавнее исследование этого полотна с помощью рентгеновских лучей выявило еще более длинный нос. На другом портрете, из Тринити-колледжа в Кембридже, Анна имеет более грубые черты лица. Вероятно, она действительно не была красавицей: отчеты французского посла Марильяка подтверждают это. Тем не менее сам Генрих VIII признавал, что она внешностью была «хороша и благовидна». Другие описывают Анну как красивую и статную женщину. Генрих был человеком брезгливым и после первой брачной ночи жаловался, что его невеста «распространяет вокруг себя дурной запах», чем, вероятно, объясняется его отвращение к ней. Может быть, его разочаровал и недостаток у Анны образования, остроумия и музыкальных способностей, а эти качества он очень ценил в женщинах. Однако никакие современные источники не поддерживают сделанное в конце XVII века и подхваченное Тобиасом Смоллеттом в XVIII веке утверждение епископа Бёрнета, что король сравнивал Анну с «фламандской кобылой».Некоторые слова Генриха VIII, которые он произнес после брачной ночи и неоднократно повторял, заставили меня задуматься: а была ли девственницей Анна, когда легла с ним на супружеское ложе? Они дали мне сюжетную линию, протянувшуюся сквозь всю книгу, — линию, которая, как я подозреваю, вызовет некие возражения. Наутро после первой брачной ночи король сказал Томасу Кромвелю: «Мне она и прежде была не слишком по сердцу, но теперь нравится еще меньше, потому как я потрогал ее живот и груди и, насколько могу судить, она не девственница, что поразило меня в самое сердце, и я не имел уже ни желания, ни смелости двигаться дальше». После этого он много недель высказывал подобные жалобы другим людям, говоря, что «явно сомневается в ее девственности, судя по дряблости ее живота и грудей и другим признакам», и утверждая: «Я оставил ее той же девственницей, какой встретил». Не один месяц я билась над загадкой: что имел в виду Генрих, говоря это? Обнаружение факта, что невеста не девственница, не дает оснований для развода, а вот неспособность довести брак до настоящего завершения дает, и перенос вины за свою мужскую несостоятельность на Анну избавлял короля от утраты лица, ведь и без того ходили слухи, что он импотент. Но обвинять кого-то в чем-то не было нужды, хватило бы заявления, что он ощутил препятствия к окончательному завершению брака, они-то и помешали ему довести дело до финального акта. Имелись и другие основания для расторжения брачного союза, так как герцог Клеве не мог предоставить доказательств, что предыдущая помолвка Анны была должным образом расторгнута. Однако Генрих все-таки довел дело до заключения брака и инициировал сексуальную активность, которая дошла до стадии исследования тела Анны, что наталкивает на мысль о его изначальном намерении вступить в супружескую близость с ней. Вероятно, обнаруженные свидетельства того, что она не девственница, отвратили его от осуществления своих планов. Возможно ли, что Генрих сообщал Кромвелю и другим своим собеседникам то, что считал правдой? Он имел большой опыт общения с женщинами. Три раза был женат, прежде чем обвенчался с Анной, и его предыдущие жены все вместе вынашивали его детей по меньшей мере одиннадцать раз. Не мог король не понимать разницы между телом женщины, рожавшей детей, и не рожавшей. Были ли дряблые груди и живот Анны, а также «другие признаки», о которых упоминал Генрих, свидетельствами того, что она когда-то была беременна? Трудно поверить, что у Анны, которую, как мы прочли, воспитывали в строгости под неусыпным материнским надзором, была возможность согрешить. И все же невинность в вопросах пола могла сделать ее уязвимой для внимания некоего влюбчивого молодого человека, вероятно, одного из многочисленных кузенов (считавшегося безобидным компаньоном), который не упустил шанса и воспользовался доверчивостью Анны. Она могла и с охотой ответить на чувства любвеобильного кузена, будучи внучкой сладострастного и плодовитого «делателя детей», к тому же в более позднее время ходили разговоры о ее любви к вину и прочим излишествам, а также слухи о тайных беременностях. Я опасалась, что спекулирование на этих темах выставит Анну в неверном свете, однако, заново изучив ее историю, нашла свидетельства, которые можно счесть подтверждающими высказанную точку зрения. Примечательно, что, когда речь зашла об основаниях для аннулирования брака, Генрих в большей степени рассчитывал на проблемы с недорасторгнутой помолвкой, чем на незавершение брака. Ходили разговоры, что тело Анны осматривали для доказательства ее девственности, но это ни к чему не привело. Тревожился ли Генрих, как бы это исследование не выявило, что его жена не девственница? Как стал бы он доказывать, что не причастен к ее дефлорации? Обвинение Анны в добрачных сношениях с мужчинами привело бы к дипломатическому скандалу с Клеве. В ходе судебных слушаний по поводу аннулирования брака Генрих делал противоречивые заявления относительно того, была ли Анна девственницей в их брачную ночь. В одном он утверждал: «Я никогда ради любви к женщине не соглашался жениться, даже, если она приносила с собой девственность [выделено автором], забирал ее истинным плотским соитием». Но он также говорил, что Анна пришла к нему девой. Это спасло ее от любых обследований, и она избежала обнаружения у себя отсутствия — если таковое имело место — девственности, что, в свою очередь, могло бы скомпрометировать короля. Сама Анна утверждала, что отдала себя одному мужчине и останется его супругой до горькой кончины. Она согласилась на аннулирование брака, «признав целостность своего тела, состояние [которого] осталось неприкосновенным от любого акта плотского познания». Трудно представить Анну, особенно учитывая сложившиеся обстоятельства, признающейся в том, что она пришла к Генриху, будучи лишенной девичества. В акте парламента, объявлявшем о расторжении брака короля, говорилось: «Леди Анна открыто признала, что остается не познанной плотски телом короля». Было ли это утверждение безоговорочным? Вскоре после этого Анна говорила советникам, что «будет отстаивать истину в том, что касается целостности и чистоты ее тела». Своемубрату она сообщала, что ее тело «сохранило чистоту, которую я принесла в это королевство». В обоих случаях она, вероятно, говорила чистую правду. Однако существует и саркастическое мнение реформистов: «А что до ответа архиепископа Кентерберийского и других епископов на письмо короля с приказанием разобраться в деле, в котором они заключили, что Анна Клевская остается девой, то это действительно очень похоже на правду!» Реформисты с трудом могли поверить, что Генрих не лишил ее девственности, и, вероятно, в то, что она была девственницей в любом случае. Биограф Генриха VIII, писавший о нем в XVII веке, лорд Херберт, загадочно намекает на некие «тайные причины», которые могли быть использованы для доказательства несостоятельности брака, но никогда не предъявлялись открыто, и добавляет, что «король без большой необходимости не стал бы раскрывать [их], так как они касались чести леди». Могли ли эти тайные причины быть связаны с часто упоминаемыми сомнениями Генриха в непорочности Анны? Не вызывает больших сомнений, что, если бы она воспротивилась разводу, он использовал бы против нее эти «тайные причины».
В течение шестнадцати месяцев, пока велось дело об аннулировании брака, Анна снискала себе некую репутацию. В декабре 1541 года Шапюи сообщал о своем разговоре с сэром Уильямом Паджетом насчет поведения Анны и витающих вокруг нее слухов. Казалось, в Лондоне и Нижних Землях широко известно о ее пристрастии к вину и прочим излишествам. Может быть, вновь обретенная свобода, как вино, ударила ей в голову? Необычный эпизод, случившийся в декабре 1541 года, стал основой для другой сюжетной линии романа. Речь идет о моменте, когда советники сообщили королю, что они «расследовали новое дело, а именно: что леди Анна Клевская будто бы родила хорошенького мальчика, и чей он может быть, кроме как его величества короля, и зачат-де [в январе], когда она была в Хэмптон-Корте, что есть презреннейшая из клевет». Ребенок якобы появился на свет в сентябре. Шапюи говорит, что слухи об этом циркулировали весьма широко. Происходившее достаточно точно и подробно описано в романе. Король был сильно заинтересован в том, чтобы раскрыть, есть ли у этих сплетен какие-нибудь реальные основания. Трудно поверить, что на пике своего увлечения Кэтрин Говард он спал с Анной. Скорее, ему хотелось узнать, не совершила ли Анна проступка, который позволит ему освободиться от финансовых обязательств по отношению к ней. Длительность расследования, предпринятого Тайным советом, показывает, как серьезно к нему относились. Клевета на короля считалась изменой, так же как утверждения, что его брак с Анной законен, чем можно объяснить очевидный заговор молчания, с которым столкнулись проводившие расследование лорды. Слухи, очевидно, исходили из двух источников, и отказ Фрэнсис Лилгрейв назвать свой говорит либо о том, что она сама все выдумала, либо о том, что она кого-то покрывала. Учитывая нежелание Джейн Рэтси разглашать известные ей факты, вероятно, верно последнее, или же источники, которые женщины могли назвать, привели бы дознавателей прямиком к Анне. Хотя почти все современные исследователи настаивают, что Анна не рожала ребенка, вероятность этого тем не менее не исключена полностью, хотя, разумеется, это не был ребенок короля. Перемещения Анны, начиная с ранней весны, не задокументированы, и она, похоже, тихо и мирно прожила целый год в деревне. С помощью своих дам Анна могла скрыть беременность и роды от остальных придворных. Можно, конечно, интерпретировать эти источники иначе и заключить, что Анна стала жертвой злостной клеветы. Но слухи исходили из источника, близкого к ней, о чем не стоит забывать. Была ли Анна такой невинной, какой предстает перед нами в беседе с леди Ратленд, леди Рочфорд и леди Эдгкумбе (а она передана в романе почти дословно)? Разговор был странный, особенно если учесть, что в следующем месяце камергер Анны, лорд Ратленд, не мог понять свою госпожу, потому что та еще недостаточно хорошо владела английским. И тем не менее в упомянутой беседе с дамами Анна объясняется по-английски с безупречной ясностью. Вероятно, она прибегла к помощи переводчика или слова в ее уста вложили сами дамы. Очевидно, они были убеждены, что ее брак остался не доведенным до конца; и, вероятно, получили формальные инструкции вынудить Анну к признанию этого, что дало бы основания для развода, ведь этот разговор приводится в показаниях, данных в поддержку расторжения брака. Но была ли Анна такой невинной, какой себя изобразила? Ее слова, если она вообще их произносила, могли содержать в себе иронию. Кажется невероятным, что она могла дожить до двадцати четырех лет и ничего не знать о сексе. Она выросла при дворе, полном незаконных детей своего деда. Даже если сама Анна никогда о таких вещах не задумывалась и не задавала неудобных вопросов, а ее мать пренебрегла обязанностью сообщить дочери о том, что происходит в супружеской постели, картинки, вырезанные на спинке брачного ложа, которые Анна не могла не видеть, были достаточно откровенными и ясными. То, как Генрих ощупал ее тело в первую брачную ночь, его попытки осуществить на деле их супружество и, самое главное, без конца повторяемые слова о ее долге родить детей королю не могли не подсказать Анне, что в постели между мужем и женой происходит нечто большее, чем поцелуи. Отто фон Вилиха я обнаружила в прекрасной генеалогии, представленной на веб-сайте http://vanosnabrugge.org. Она показывает родственные связи Анны с теми, кто сопровождал ее в Англию. Я натолкнулась на нее, когда искала кузена примерно одного с Анной возраста, чтобы изобразить его соблазнителем девушки. История их любви, разумеется, вымысел, так же как рассказы о ее беременностях и сыне Иоганне. Эти сюжетные линии развивались естественно по мере того, как мое воображение обретало крылья. Но Отто фон Вилих действительно последовал в Англию в свите Анны и семнадцать лет прослужил при ее дворе. Его отставка происходила так, как описано в романе. Некий «Джон из Юлиха» тоже упомянут (в завещании Анны) как человек, находившийся при ее дворе до самого конца. Не вполне понятно, кто он такой, и непохоже, чтобы это был дядюшка Анны бастард Иоганн, так как тот был известен как Бастард Юлихский. Хотя Бастард находился в составе эскорта, доставившего Анну в Англию, он не упомянут в числе ее придворных в июле 1540 года, тогда как Джон из Юлиха, которому она оставила кое-что по завещанию в 1557-м, кажется, был слугой более низкого ранга.
Кроме перечисленных выше вымышленных сюжетных линий, роман основан на исторических свидетельствах, хотя местами я осовременила их язык. В отрывках, посвященных переговорам и подготовке к бракосочетанию Анны, я слегка сжала ход событий во избежание повторов. То, что на самом деле заняло больше месяца, изображено в грубом приближении к реальному времени в нескольких сценах. Переговоры о замужестве Анны, ее поездка в Англию, месяцы в качестве королевы, ее дома и двор, а также позднейшие трения в нем описаны без художественных домыслов, как и жизненный путь сэра Томаса Кавардена, который, вероятно, участвовал во всех заговорах против Марии I. Анна тоже попала под подозрение во время мятежа Уайетта, хотя свидетельств о том, что ее допрашивали, как на страницах романа, не сохранилось, и королева Мария никогда не проявляла теплых дружеских чувств к Анне, пока та не умерла. Первое письмо Генриха VIII к Анне я составила, основываясь на его любовных посланиях к Анне Болейн и Джейн Сеймур. Мы не знаем точно, интриговал ли Флоренц де Дьячето с французами. Судя по хранящимся в архивах документам, де Дьячето подозревали в том, что он действовал от имени и в интересах Анны и что она сама была вовлечена в политические интриги своего брата и Генриха II Французского против Англии. В 1555 году доктор Уоттон, новый английский посол во Франции, писал государственному секретарю королевы Марии, что Флоренц, оказавшись в сложном положении, покинул Англию и его видели в Париже. Уоттон следил за ним и получил сведения о том, что де Дьячето многократно встречался с констеблем Франции и всем французским Советом. Это заставило Уоттона увериться, что тот находится во Франции «не с благими намерениями». Но больше об этом деле ничего не известно.
Одна из заказанных Анной резных деревянных панелей сейчас находится в замке Хивер. Камин (ныне в приорате Рейгейт) раньше был в Блетчингли и, вероятно, изготовлен для дворца Генриха VIII Нонсач. Так как нам известно, что Анна поручала выполнить отделку деревянными резными панелями в других своих домах в позднейшее время, возможно, именно она заказала оформление дымохода. Сцену, где Анна мельком видит Кавардена, покидая Нонсач, навеяна историями о том, что звуки банкета разносились далеко по округе и люди заметили высокого мужчину с худым лицом, который стоял у восточных ворот и наблюдал за парком или дворцом; он был одет в темную накидку и шляпу, а вид имел одинокий и покинутый или застывшее выражение на лице.
Характер последней болезни Анны неизвестен. К весне 1557 года, когда ее здоровье серьезно ухудшилось, она, вероятно, недужила уже какое-то время. Некоторые говорили, что у нее рак, и это возможно. Из завещания Анны ясно, что ее врач, матушка Лёве, к которой она, вероятно, относилась как к матери, ее дамы, повара, служащие при дворе и слуги — все заботились о ней во время смертельной болезни, «беря на себя тяжкие труды», дабы соблазнить ее вкусной едой и заботиться о ее комфорте, что подтверждает: Анна была прикована к постели и нуждалась в тщательном уходе. Помогал ей также хирург Алард Бланди. Цирюльники вроде Бланди, который был вознагражден за труды в ее завещании, проводили не только операции, но и занимались лечением зубов и кровопусканием, которое, как тогда считали, приводит к балансу «гуморы» тела для восстановления здоровья. Бланди мог, вероятно, проводить какие-то операции для Анны, хотя я не стала описывать это в книге: финальные страницы и без того достаточно печальны. Хирургические вмешательства без анестезии — это чистая мука, однако изучение сундучка хирурга, найденного на борту «Мэри Роуз», показывает, что практикующие врачи эпохи Тюдоров были гораздо более умелыми и опытными в своем искусстве, чем считалось до сих пор. Если Анна и подвергалась каким-то операциям, это не принесло пользы.
Я обязана выразить благодарность историку Элизабет Нортон, которая дала мне в нескольких отношениях новое понимание характера Анны и привлекла мое внимание к появлениям в Англии Карла Харста, посла Клеве, что позволяет немного иначе взглянуть на развод Анны в сравнении с версией, предлагаемой официальными английскими источниками. Великолепная биография Анны, написанная миссис Нортон, очень помогла мне в работе. Из источников, с которыми я работала, отсылаю читателей к обширным биографиям из моей серии научных трудов о Тюдорах, особенно к книгам «Шесть жен Генриха VIII» («The Six Wives of Henry VIII») и «Генрих VIII. Король и двор» («Henry VIII: King and Court»). Среди множества книг, прочитанных, пока я обновляла свое исследование, особенно полезными оказались следующие: «Anne of Cleves» by Mary Saaler (London, 1995); «In the Footsteps of the Six Wives of Henry VIII» by Sarah Morris and Natalie Grueninger (Stroud, 2016) и «The Marrying of Anne of Cleves» by Retha Warnicke (Cambridge, 2000). Основой для исследования немецких легенд стал интернет-архив сакральных текстов (The Internet Sacred Text Archive). Пассажи, посвященные лечению рака, написаны на основании сведений из книги «A Discourse of the Whole Art of Chyrurgerie» (1612) by Peter Lowe. Я глубоко признательна моим редакторам Мэри Эванс из британского издательства «Headline» и Сюзанне Портер из американского «Ballantine» за выход в свет этой книги и за то, что они дали мне шанс оживить Анну и неизменно оказывали поддержку. Безмерно благодарю Флору Рис за ее сочувственный и творческий подход к редактуре, который помог мне создать гораздо более хорошую книгу. Отдельное спасибо я говорю Кейтлин Рейнор, Джо Лиддьярду, Саре Адамс, Фрэнсис Эдвардс, Дженнифер Харлоу, Филу Норману и всей сказочной команде лондонского «Headline», а также Эмили Хартли, Мелани Денардо, Ким Хови и восхитительной команде нью-йоркского «Ballantine». Как обычно, я в долгу перед своим агентом Джулианом Александером, который превзошел себя, помогая мне, и теперь уже мирится со мной больше тридцати лет! Наконец, с любовью благодарю Ранкина, моего супруга, без которого я не могла бы функционировать. Ты никогда не поймешь, как я ценю все то, что ты для меня делаешь.
Действующие лица
В порядке появления или первого упоминания. Курсивом написаны вымышленные имена, которые используются, когда настоящее имя неизвестно.Анна, дочь Иоганна III Миролюбивого, герцога Клевского, и Марии Юлих-Бергской; Иоганн III, герцог Клевский, отец Анны; Отто фон Вилих, владыка Геннепа, дядя Анны по матери; Элизабет Клевская, его жена, тетя Анны; Иоганн I, герцог Клевский, прадед Анны; Отто фон Вилих, внебрачный сын Отто фон Вилиха, кузен Анны; Иоганн II, «делатель детей», герцог Клевский, дед Анны; Вильгельм, позже Вильгельм V, герцог Клевский, брат Анны; Амалия (прозванная Эмили) Клевская, младшая сестра Анны; Мария Юлих-Бергская, герцогиня Клевская, мать Анны; Карл V, император Священной Римской империи, родственник герцогов Клевских; Франциск, маркиз Понт-а-Муссон, жених Анны; Антуан, герцог Лоррейнский, отец Франциска; Доктор Хайнрих Олислегер, вице-канцлер Клеве, кузен Анны; Эразм Роттердамский, знаменитый голландский ученый-гуманист; Мартин Лютер, основатель протестантской религии; Иоганн Фридрих, курфюрст Саксонии, лидер немецкой протестантской Шмалькальденской лиги, зять Анны; Сибилла Клевская, курфюрстина Саксонии, сестра Анны; Адольф I, герцог Клевский, прапрадед Анны; Матушка Лёве, няня Анны; Карл I, герцог Гелдерна, двоюродный дед Франциска, маркиза Понт-а-Муссон, жениха Анны; Генрих VIII, король Англии; Екатерина Арагонская, первая жена Генриха VIII, королева Англии, тетя императора Карла V; Конрад Хересбах, советник герцога Клевского и наставник Вильгельма Клевского, брата Анны; Иоганн Герехт из Ландсберга, приор картезианского монастыря в Кантаве, Юлих, духовник матери Анны; Доктор Шульц, врач герцога Клевского; Герда, горничная Анны в Шлоссбурге; Мейстер Шмидт, кузнец-оружейник из Золингена, и его жена; Иоганн, внебрачный сын Анны; Доктор Сефер, врач герцогов Клевских, а позднее Анны; Франц Бурхард, вице-канцлер Саксонии; Томас, лорд Кромвель, позднее граф Эссекс; главный секретарь Генриха VIII, канцлер казначейства, хранитель королевской печати; Анна Болейн, вторая жена Генриха VIII, королева Англии; Джейн Сеймур, третья жена Генриха VIII, королева Англии; Папа Павел III; Кристина Датская, герцогиня Миланская, племянница императора Карла V; Франциск I, король Франции; Лукас Кранах, придворный художник Иоганна Фридриха, курфюрста Саксонии; Доктор Николас Уоттон, английский посол в Клеве; Эдвард Карне, английский посол в Клеве; Ричард Берд, джентльмен из личных покоев Генриха VIII, посол в Клеве; Роберт Барнс, главный эмиссар Генриха VIII у протестантских принцев; Герр Хограве, канцлер Клеве; Ганс Вертингер, немецкий художник; Ганс Гольбейн, придворный художник Генриха VIII; Вернер фон Гохштаден, великий магистр двора Клеве; Мария Габсбург, королева Венгрии, регент Нидерландов, сестра императора Карла V; Уильям Фицуильям, граф Саутгемптон, лорд главный адмирал Англии; Сюзанна Гилман, урожденная Хоренбот, художница при дворе Генриха VIII, камеристка личных покоев Анны; Герард Хоренбот, фламандский художник при дворе Генриха VIII, отец Сюзанны; Джон Гилман, виноторговец, муж Сюзанны; Джордж Болейн, виконт Рочфорд, брат Анны Болейн и муж Джейн Паркер, леди Рочфорд; Принц Эдуард, позднее Эдуард VI, сын Генриха VIII и Джейн Сеймур; Леди Брайан, главная воспитательница принца Эдуарда; Леди Мария, позже Мария I, дочь Генриха VIII и Екатерины Арагонской; Леди Елизавета, дочь Генриха VIII и Анны Болейн; Уильям Уилкинсон, портной; Онор Гренвилль, виконтесса Лайл, жена Артура Плантагенета, виконта Лайла; Артур Плантагенет, виконт Лайл, заместитель губернатора Кале, внебрачный сын Эдуарда IV и кузен Генриха VIII; Ричард Тавернер, клерк при печати, ученый реформист; Вольфганг Капито, немецкий реформатор; Мэр Золингена; Герман, граф фон Нойенар, ученый-гуманист и политик; Иоганн, Бастард из Юлиха, дядя Анны по матери; Анастасия Гунтера Шварцбург, кузина и фрейлина Анны; Франц фон Вальдек, кузен и паж Анны; Анна Клевская, графиня фон Вальдек, мать Франца и тетя Анны; Филип, граф фон Вальдек, ее муж и отец Франца; Ханна фон Вилих, жена Отто фон Вилиха; Флоренц де Дьячето, племянник доктора Олислегера, джентльмен при дворе Анны; Маршал Дульцик, посол курфюрста Саксонии; Иоганн, лорд Бюрен-Дроссар, член эскорта, сопровождавшего Анну в Англию; Вернер фон Паллант, лорд Бредебент, член эскорта Анны; Леди Магдалена фон Нассау-Дилленборг, дама из эскорта Анны; Леди Кетелер, дама из эскорта Анны; Леди Александрина фон Тенгнагель, дама из эскорта Анны; Яспер Брокгаузен, казначей Анны; Герти Брокгаузен, его жена; Мейстер Шуленбург, повар Анны; Стивен Воан, глава Компании купцов-авантюристов; Флорис Эгмонт, граф Бюрен, и Ферри де Мелен, начальник имперской артиллерии, по поручению императора перевозили Анну из Антверпена в Гравлин; Герберга фон Оссенбрух, одна из камеристок Анны; Дидерих II фон Вилих, эрбгофмейстер (наследственный камергер) двора Клеве, родственник Отто фон Вилиха; Сэр Томас Сеймур, брат королевы Джейн Сеймур, позднее лорд главный адмирал; Сэр Фрэнсис Брайан, английский придворный; Томас Калпепер, джентльмен из личных покоев Генриха VIII; Грегори Кромвель, сын Томаса Кромвеля; Анна Бассет, фрейлина Анны; Кэтрин Бассет, сестра Анны Бассет, позднее фрейлина Анны; Лорд Уильям Говард, английский придворный, сводный брат герцога Норфолка; Мэри Болейн, мистресс Стаффорд, бывшая любовница Генриха VIII, сестра королевы Анны Болейн; Уильям Стаффорд, ее муж, солдат гарнизона Кале, позже член личной стражи Генриха VIII; Сэр Томас Чейни, лорд-хранитель Пяти портов; Чарльз Брэндон, герцог Саффолк, зять Генриха VIII, бывший муж покойной Марии Тюдор, «королевы Франции»; Ричард Сэмпсон, епископ Чичестерский; Кэтрин Уиллоуби, герцогиня Саффолк, вторая жена Чарльза Брэндона, герцога Саффолка, придворная дама Анны; Томас Кранмер, архиепископ Кентерберийский; Томас Говард, герцог Норфолк, главный католический пэр Англии; Элис Гейдж, леди Браун, жена сэра Энтони Брауна; Джон Фишер, епископ Рочестерский; Сэр Томас Мор, бывший лорд-канцлер Англии; Сэр Энтони Браун, главный конюший Генриха VIII; Томас Маннерс, граф Ратленд, кузен Генриха VIII, камергер Анны; Сэр Эдвард Бейнтон, вице-камергер Анны; Сэр Томас Денни, советник Анны; Сэр Джон Дадли, главный конюший Анны, позднее герцог Нортумберленд и лорд-президент Совета при Эдуарде VI; Леди Маргарет Дуглас, племянница Генриха VIII, главная придворная дама Анны; Мэри Говард, герцогиня Ричмонд, вдова внебрачного сына Генриха VIII Генри Фицроя, герцога Ричмонда, придворная дама Анны; Элеанор Пастон, графиня Ратленд, леди из личных покоев Анны; Кэтрин Сент-Джон, леди Эдгкумбе, леди из личных покоев Анны; Маргарет Уайетт, леди Ли, сестра поэта сэра Томаса Уайетта, камеристка личных покоев Анны; Анна Парр, миссис Герберт, камеристка личных покоев Анны; Элизабет Сеймур, миссис Кромвель, сестра королевы Джейн Сеймур, камеристка личных покоев Анны; Кэтрин Говард, племянница герцога Норфолка, фрейлина Анны; Кэтрин (Кейт) Кэри, дочь Мэри Болейн и (вероятно) Генриха VIII, фрейлина Анны; Бриджит Йоркская, дочь Эдуарда IV, тетя Генриха VIII, монахиня из Дартфорда; Фрэнсис Брэндон, маркиза Дорсет, дочь Чарльза Брэндона, герцога Саффолка, и Марии Тюдор, сестры Генриха VIII; Доктор Кайе, податель милостыни при дворе Анны; Барон Оберштайн, клевский дворянин; Генри Буршье, граф Эссекс; Матушка Джек, няня принца Эдуарда; Лорд Томас Говард, младший брат герцога Норфолка; Мастер Корнелиус Хайес, ювелир Генриха VIII; Уильям Паджет, позднее сэр Уильям, затем лорд Паджет, тайный советник, секретарь Анны; Катарина, фрейлина Анны; Гертруда, фрейлина Анны; Уаймонд Кэри, сборщик податей при дворе Анны; Уилл Сомерс, шут Генриха VIII; Чепмен, садовник Анны, бывший садовник королевы Джейн Сеймур; Лукас Хоренбот, сын Герарда Хоренбота, брат Сюзанны Гилман, художник при дворе Генриха VIII; Доктор Карл Харст, посол Клеве при дворе Генриха VIII; Юстас Шапюи, имперский посол при дворе Генриха VIII; Шарль де Марильяк, французский посол при дворе Генриха VIII; Стивен Гардинер, епископ Винчестерский, позднее лорд-канцлер; Маргарита де Валуа, королева Наварры, сестра Франциска I, короля Франции; Генри Говард, граф Суррей, сын и наследник Томаса Говарда, герцога Норфолка; Бассано, семья венецианских музыкантов, приглашенная ко двору Анны; Агнес Тилни, вдовствующая герцогиня Норфолк, приемная бабушка Кэтрин Говард; Томас, лорд Одли, лорд-канцлер; Сэр Ричард Рич, генеральный стряпчий; Сэр Уильям Кингстон, главный королевский поверенный, ревизор королевского двора, констебль Тауэра; Катберт Танстолл, епископ Даремский; Сэр Томас Риотесли, позднее граф Саутгемптон, главный секретарь Генриха VIII; Сэр Уильям Горинг, камергер двора Анны после ее развода; Джаспер Хорси, эконом при дворе Анны; Генри Куртене, маркиз Эксетер, кузен Генриха VIII; Фрэнсис Лилгрейв, вышивальщица, камеристка личных покоев Анны; Дороти Уингфилд, камеристка личных покоев Анны; Джейн Рэтси, камеристка личных покоев Анны; Миссис Симпсон, камеристка личных покоев Анны; Элия Тёрпен, прачка Анны; Томас, кардинал Уолси, бывший главный министр Генриха VIII; Джоанна, жена Джаспера Хорси; Джон Бекинсейл, церемониймейстер двора Анны; Генри, дворецкий Анны; Кэтрин Эстли, гувернантка леди Елизаветы; Томас Болейн, граф Уилтшир, отец Анны Болейн; Вернер фон Гимних, виночерпий Анны; Томас Каварден, позднее сэр Томас, управляющий имением Анны Блетчингли, потом смотритель пиров и палаток при Генрихе VIII и Эдуарде VI; Эдвард Стаффорд, герцог Бекингем; Сэр Николас Кэри, главный конюший; Марта Кэри, жена Уаймонда Кэри; Сэр Энтони Денни, глава личных покоев Генриха VIII; Анна Стэнхоуп, графиня Хартфорд, жена Эдварда Сеймура, графа Хартфорда, брата королевы Джейн Сеймур; Мастер Мандевиль, конюх в конюшнях Анны; Мастер Фриман и его жена, арендаторы Анны в Саутховере; Жанна дʼАльбре, герцогиня Клевская, позднее королева Наварры, первая жена брата Анны, Вильгельма V; Томас Бовьер, член парламента, и его жена, арендаторы земель Анны в Ньетимбере; Миссис Ламберт, теща Ричарда Тавернера, клерка при печати; Элизабет Брайан, леди Кэри; Доктор Ричард Кокс, позднее наставник принца Эдуарда; Фрэнсис Дерем, секретарь королевы Екатерины Говард; Доктор Уильям Баттс, врач Генриха VIII; Сэр Джон Гейтс, джентльмен из личных покоев Генриха VIII; Жан Клуэ, французский художник-портретист; Кэтрин Парр, леди Латимер, вдова; Элизабет, жена сэра Томаса Кавардена; Томас Кэри, сборщик податей при дворе Анны, занявший пост вслед за своим родственником Уаймондом Кэри; Клод д’Аннебо, адмирал Франции, французский посол при дворе Генриха VIII; Мария Австрийская, герцогиня Клевская, вторая жена брата Анны, Вильгельма V; Мистер Хомли, казначей двора Анны; Сэр Джон Гилдфорд, камергер двора Анны, занявший пост вслед за сэром Уильямом Горингом; Эдвард Сеймур, герцог Сомерсет, лорд-протектор Англии при Эдуарде VI, брат королевы Джейн Сеймур; Сэр Отто Румпелло, священник при дворе Анны; Генри Эшли, член парламента от Хивера, муж Кэтрин Бассет; Доктор Герман Крузер, посол из Клеве; Доктор Джон Саймондс, врач Анны; Сэр Уильям Сидней, придворный; Мария Элеонора Клевская, племянница Анны, старшая из детей Вильгельма V и Марии Австрийской; Анна Клевская, племянница Анны, дочь Вильгельма V и Марии Австрийской; Леди Джейн Грей, внучатая племянница Генриха VIII, девять дней пробывшая королевой Англии; Филипп Испанский, сын и наследник императора Карла V, муж Марии I и в силу этого король Англии; Фердинанд Габсбург, эрцгерцог Австрии, шурин Вильгельма V, претендент на руку Марии I; Фердинанд, король Римский, Богемии и Венгрии, наследник Священной Римской империи, отец Фердинанда Габсбурга, эрцгерцога Австрии; Симон Ренар, имперский посол в Англии; Сэр Томас Уайетт, сын поэта сэра Томаса Уайетта, предводитель мятежа против Марии I; Сэр Томас Сондерс, шериф Суррея; Генри Грей, герцог Саффолк, отец леди Джейн Грей; Генрих II, король Франции; Кристиан III, король Дании; Сэр Томас Корнуоллис, эконом двора Эдуарда VI; Джордж Трокмортон, член личной стражи Марии I; Карл, герцогский принц Клеве, сын и наследник Вильгельма V, племянник Анны; Анн де Монморанси, главный констебль Франции; Лорд Кобэм, арендатор земель сэра Томаса Кавардена; Сэр Ричард Фрестон, эконом двора Анны после Яспера Брокгаузена; Джейн Гилдфорд, вдовствующая герцогиня Нортумберленд; Алард Бланди, хирург Анны.
Хронология событий
1491 год Рождение Генриха VIII. 1509 год Восшествие на престол Генриха VIII. Брак и коронация Генриха VIII и Екатерины Арагонской. 1510 год Брак Иоганна (р. 1490), наследника Иоганна II, герцога Клевского, с Марией (р. 1491), наследницей герцогств Юлих и Берг. 1512 год Рождение Сибиллы Клевской (17 января). 1515 год Рождение Анны Клевской (22 сентября). 1516 год Рождение принцессы Марии, дочери Генриха VIII и Екатерины Арагонской. Рождение Вильгельма, герцога Равенштайна, сына и наследника Иоганна Клевского (28 июля). 1517 год Рождение Амалии (Эмили) Клевской (октябрь). 1521 год Иоганн III наследует своему отцу Иоганну II в качестве герцога Клевского. 1526 год Брак Сибиллы Клевской и Иоганна Фридриха, курфюрста Саксонии. 1527 год Помолвка Анны Клевской с Франциском, маркизом Понт-а-Муссоном (5 июня). Анна Клевская впервые предложена в качестве невесты Генриху VIII (ноябрь). 1533 год Брак Генриха VIII и Анны Болейн (январь). Парламент издает Акт о запрете апелляций (к папе) — закон, который становится краеугольным камнем Реформации в Англии. Архиепископ Кранмер объявляет брак Генриха VIII и Екатерины Арагонской кровосмесительным и не имеющим силы и подтверждает законность брака Генриха с Анной Болейн. Рождение принцессы Елизаветы, дочери Генриха VIII и Анны Болейн. 1534 год Парламент издает Акт о верховенстве, делая Генриха VIII верховным главой Церкви Англии, и Акт о престолонаследии, называя детей королевы Анны законными наследниками короля. 1535 год Разрыв помолвки Анны Клевской с Франциском, маркизом Понт-а-Муссоном. 1536 год Смерть Екатерины Арагонской. Казнь Анны Болейн. Брак Генриха VIII и Джейн Сеймур. Парламент издает новый Акт о престолонаследии, передавая право на него детям Джейн Сеймур от короля. 1537 год Рождение принца Эдуарда. Смерть Джейн Сеймур (24 октября). Генрих VIII начинает искать себе четвертую жену (ноябрь). 1538 год Ниццкий договор между императором и королем Франции оставляет Генриха VIII в политической изоляции (июнь). Генрих VIII отлучен от Церкви папой (декабрь). 1539 год Толедский договор между императором и королем Франции ставит Генриха VIII в еще более сложное положение и кладет конец переговорам о браке Генриха с Кристианой Датской (январь). Генрих VIII начинает переговоры о браке с Анной Клевской (январь). Смерть Иоганна III, герцога Клевского; восшествие на престол Вильгельма V, герцога Клевского (февраль). Ганс Гольбейн прислан в Клеве для написания портрета принцесс Анны и Амалии (август). Вильгельм V, герцог Клевский, подписывает брачный договор Анны (4 сентября). Генрих VIII подписывает брачный договор (26 ноября). Анна прибывает в Антверпен (2 декабря). Анну принимают в Кале (11 декабря). Анна плывет на корабле в Англию (27 декабря). 1540 год Встреча Генриха VIII и Анны Клевской в Рочестере (1 января). Официальный прием Анны Клевской в Блэкхите (3 января). Брак Генриха VIII и Анны Клевской (6 января). Официальный прием Анны Клевской в Вестминстере (5 февраля). Генрих VIII начинает ухаживать за Кэтрин Говард (апрель). Тайный совет начинает искать основания для развода (май). Томас Кромвель арестован (10 июня). Анну отправляют в Ричмонд (27 июня). Парламент лишает Кромвеля гражданских и имущественных прав (29 июня). В парламенте дебатируется законность брака Анны (6 июля). Генрих VIII поручает английскому духовенству исследовать его брак на предмет законности (6 июля). Собор духовенства объявляет брак незаконным (8 июля). Анна соглашается с постановлением Собора (11 июля). Брак Анны официально аннулирован актом парламента (12 июля). Двор Анны распущен (17 июля). Казнь Кромвеля (28 июля). Брак Генриха VIII и Екатерины Говард (28 июля). Впервые появляются слухи о том, что король снова сделает своей женой Анну (сентябрь). 1541 год Анна совершает визит ко двору после Нового года. Генрих VIII дает Анне патент на гражданство и выделяет положенное после развода содержание (январь). Анна отправляется объезжать свои новые владения. Падение Екатерины Говард, новые слухи о возвращении Анны (ноябрь). Слухи о том, что в сентябре Анна родила ребенка (декабрь). 1542 год Казнь Екатерины Говард (февраль). 1543 год Брак Генриха VIII с Екатериной Парр (июль). Клеве захвачено армией императора Карла V (август). Смерть Марии, вдовствующей герцогини Клевской, матери Анны (29 августа). Вильгельм V, герцог Клевский, покоряется императору (7 сентября). 1546 год Смерть Генриха VIII (28 января) и вступление на престол Эдуарда VI. 1549 год Анна просит герцога Вильгельма о финансовой помощи. 1551 год Анна задумывается о возможности возвращения в Клеве. 1553 год Смерть Эдуарда VI (6 июля); леди Джейн Грей объявляют королевой, свергают через девять дней; на престол вступает Мария I. Анна занимает почетное место в коронационной процессии Марии I. 1554 год Анну подозревают в причастности к мятежу сэра Томаса Уайетта (февраль). 1557 год Смерть Анны Клевской (16 июля). Похороны Анны Клевской в Вестминстерском аббатстве (3 августа).Элисон Уэйр Порочная королева. Роман о Екатерине Говард
С благодарностью за не раз приятно проведенное время посвящаю эту книгу нашим дорогим соседям: Шелли, Бёрнеллу, Кэролайн и Дэвиду
Катились слезы у меня рекой, Пока ее вину итожил суд, Встал призрак королевы предо мной, Бледна, вся в черном, краше в гроб кладут, Но не дал ей надежды я и тут. Меня она молила не забыть И повесть скорбную ее в свой труд включить.Alison Weir KATHERYN HOWARD. THE TAINTED QUEENДжордж Кавендиш. Метрические видения[128]
Copyright © 2020 Alison Weir All rights reserved
© Е. Л. Бутенко, перевод, 2021 © Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021 Издательство АЗБУКА®
* * *



Часть первая «В расцвете юной свежести и чистоты»
Глава 1
1528 ГОД Кэтрин было восемь, когда умерла мать. Никогда ей не забыть, как няня привела ее в сумрачную, с затхлым воздухом спальню. Священник монотонно читал молитвы, а у кровати, уткнув лицо в ладони, стоял отец; плечи его судорожно вздрагивали от сдавленных рыданий. Это было потрясение — целовать холодный лоб неподвижно лежавшей на постели фигуры, совсем не похожей на мать, которую знала Кэтрин. Почему она умерла? Ведь только вчера была на ногах? Правда, ночью мать кричала, и Кэтрин смутно сознавала, что появившаяся в соседней комнате крохотная незнакомка имеет ко всему этому какое-то отношение. — Крепись, — тихонько сказала сводная сестра Изабель. — Наша почтенная матушка теперь на Небесах, наблюдает за тобой. Как же это понять, ведь мать совершенно точно лежала здесь! Девочка заплакала, тогда Изабель взяла ее за руку и увела. — Тише, малышка, — сказала она прерывающимся голосом. — Пойдем посмотрим на нашу новую сестричку. Кэтрин опустила взгляд на сопевшего в колыбели младенца. У маленькой Мэри были пухлые розовые щечки и надутые губки. Ее туго спеленали и надели на головку чепчик. Пройдут годы, прежде чем она подрастет и сможет играть со старшей сестрой. — Ты теперь должна стать ей матерью, — сказала Изабель. Кэтрин засомневалась. Младенцы ее мало занимали: они ведь ничего не умеют. Лучше уж носиться по дому с братьями Чарли, Генри и Джорджем, хотя мальчики намного старше и не всегда хотят, чтобы у них под ногами вертелась надоедливая маленькая девчонка. Были у Кэтрин и еще более взрослые братья и сестры — дети матери от первого мужа. В дни, последовавшие за смертью родительницы, они приехали из Стоквелла выразить соболезнования и засвидетельствовать почтение во главе с Джоном Ли, самым старшим сводным братом Кэтрин, которого та обожала. Все Ли души в ней не чаяли, особенно Изабель. Она была очень милая: высокая, бледнолицая, но все равно красивая, пусть ей уже тридцать два. Кэтрин сестра казалась древней старухой. Изабель проявила участие и предложила остаться на какое-то время у них дома, чтобы помочь отцу. Как хорошо, что Господь привел Изабель в Леди-Холл, когда мать умерла, а то отец заперся у себя в комнате и погрузился в переживание горькой утраты; ему было не до детей. Именно Изабель прижимала Кэтрин к своей плоской, затянутой в бархат груди, осушала ей слезы и прибегала в спальню, когда девочка с криком просыпалась от ночных кошмаров. Изабель взялась помогать и с новорожденной. Кэтрин думала, что сестре нужно бы завести своих детей, раз уж она так любит младенцев, но Изабель была еще не замужем. Обычная жизнь утратила для Кэтрин всякий интерес. Она знала одно: мать умерла и привычный мир рухнул. Что такое смерть, девочка по-своему понимала. Домашний священник говорил: это все равно что уснуть, хотя умерший человек никогда уже не проснется, потому что он отправился на Небеса, к Господу, и этому нужно радоваться. Но, кажется, никто вокруг не веселился, и Кэтрин решила, что Бог очень корыстолюбив, раз забрал у нее мать, которую она так любила. Однажды Кэтрин под присмотром няни, стоя на коленях на полу в зале, играла с Изабель в шаффлборд[129], и тут отец вызвал ее к себе в кабинет, отделанный темными деревянными панелями. В свете свечей лорд Эдмунд показался девочке осунувшимся и полубезумным. — Поди сюда, Китти. — Так он ласково называл дочку дома. — У меня кое-что есть для тебя. — Отец протянул руку, раскрыл ладонь, и на ней сверкнуло кольцо с рубином. — Его оставила тебе твоя мать. Она хотела, чтобы это кольцо было у тебя. Ты должна беречь его. Кэтрин взяла подарок и в изумленном восторге стала его рассматривать. У нее никогда еще не было такой красивой вещи; да и вообще почти ничего не было, за исключением одежды и нескольких игрушек. Семья жила бедно. Кэтрин росла, зная это, и еще ей старательно внушали, что, несмотря на бедность, она Говард, а значит, принадлежит к одной из знатнейших и благороднейших английских фамилий. Ее дядей был сам герцог Норфолк. Кольцо посверкивало на ладошке, потом яркий образ затуманился: при мысли, что это украшение носила мать, на глаза Кэтрин навернулись слезы. Она будет беречь его как зеницу ока, ведь больше у нее от матери ничего не осталось. — Отдай кольцо Изабель, пусть хранит его, пока ты не подрастешь, — сказал отец. — Скоро ты отсюда уедешь; этот дом — неподходящее место для детей. — Уеду? Куда же, отец? — встревожившись, спросила Кэтрин, которой не хотелось покидать Леди-Холл. — Твоя тетушка Маргарет Коттон с радостью согласилась принять тебя. Твои братья отправятся к герцогу и будут готовиться к посвящению в рыцари. А Мария останется со своей кормилицей в деревне. Ты отправишься в Оксон-Хоат в понедельник. До понедельника оставалось всего три дня. По щекам Кэтрин ручейками потекли слезы. — А вы со мной поедете? — прошептала она. Лорд Эдмунд положил ладонь ей на голову и вздохнул: — Нет, Китти. С тобой поедет Изабель. Я должен остаться здесь и заняться делами. Бог весть, что ждет нас в будущем, денег совсем не осталось. Будь благодарна, что твоя тетя — женщина истинно христианского милосердия и пожелала взять тебя на воспитание. Кэтрин, кажется, никогда не встречалась с тетей Маргарет Коттон, и знакомиться с ней сейчас ей вовсе не хотелось. — Я лучше останусь здесь с вами. — Увы, Китти, я не приспособлен к тому, чтобы растить детей, — со вздохом проговорил отец. — Лучше тебе жить в комфорте, чем голодать со мной. — Вы собираетесь голодать?! — удивленно спросила Кэтрин. — Ну это не обязательно. Но я не смогу обеспечить тебе достойную жизнь, а тетя Маргарет сможет. Тут Кэтрин снова залилась слезами. Она не представляла, что утрата матери повлечет за собой и потерю отца. Он никогда не играл заметной роли в ее жизни и все же был частью знакомого мира, который теперь рушился. Лорд Эдмунд снова погладил дочь по голове и позвал Изабель. Она-то и принялась успокаивать Кэтрин, печально качая головой и поглядывая на няню.Кэтрин, закутанная в одеяла для защиты от ноябрьского холода, сидела в конных носилках рядом с Изабель. Глубокая печаль охватила ее при виде машущего на прощание отца и тающего вдали Леди-Холла. Девочка высунулась из окна и неотрывно глядела назад, пока родимый дом окончательно не скрылся из виду. Тогда Изабель велела ей сесть нормально и опустила плотную шторку на окне. — Очень холодно, дорогая, — сказала она. Кэтрин пыталась вспомнить лицо матери. Как ужасно, что она никогда больше не увидит его! И вероятно, ей больше не придется играть со своими шумными братьями на поле между Леди-Холлом и церковью в Мортоне. Голова девочки полнилась воспоминаниями: рождественские праздники в Ламбете, на Новый год ей подарили сшитую матерью тряпичную куклу, потом она упросила братьев, чтобы те таскали ее на закорках, а отец отругал их, сказав, что они слишком грубо обращаются с сестрой, и няня ворчала: мол, нет денег на новую одежду. Но самыми дорогими были воспоминания о матери. Вот она шьет, сидя у камина, или готовит сердечные капли в винокурне, учит дочку плести венки из ромашек, целует на ночь, нежно гладя по голове. Слезы подступили к глазам. — Ты еще не знакома со своими родственниками Калпеперами, да, милая? — спросила Изабель. — Они и мне тоже родня. Наша мать была Калпепер, прежде чем вышла замуж. Тетушка Маргарет — ее сестра. Тебе она понравится, я уверена. Носилки тряско прокатили через Эппинг-Форест, миновали деревушки Чиппинг-Онгар и Келведон-Хэтч. Наконец Кэтрин задремала, а проснулась, только когда Изабель стала трепать ее за плечо в Тилбери. Здесь они должны были сесть на паром, чтобы пересечь Темзу и оказаться в Грейвзенде. На пристани какой-то мужчина продавал горячие пироги. Изабель купила три: по одному для себя и Кэтрин, а третий для грума — и еще горячего пряного эля. Переправа на лодке на берег Кента оказалась короткой. Изабель укрыла Кэтрин своей накидкой, пока они стояли на палубе и смотрели на приближающийся Грейвзенд. — Далеко отсюда до Оксон-Хоата? — спросила Кэтрин, когда судно подхватила приливная волна. — Около шестнадцати миль. Мы прервем поездку и заночуем в Меофаме. Это примерно в пяти милях от Грейвзенда. Однако в Меофаме подходящего места для ночлега не нашлось, и им пришлось проехать еще шесть миль до гостиницы «Бык» в Ротэме, которая показалась им довольно привлекательной с виду. Изабель заплатила за отдельную комнату и попросила, чтобы им принесли самой обычной еды, какую готовят для всех постояльцев: миску мясной похлебки и несколько кусков яблочного пирога. Потом Изабель уложила Кэтрин в постель и села к очагу с корзинкой для шитья. Все это казалось девочке таким странным после жизни дома, в привычном окружении, что бедняжка стала всхлипывать, уткнувшись носом в подушку. Изабель мигом подошла к ней и нежно обняла за плечи: — Я знаю, знаю, дорогая. Она и мне была матерью, и я ужасно по ней скучаю. Тесно прижавшись друг к дружке, они плакали, пока Кэтрин не заснула.
Тетушка Маргарет Коттон ждала их у дверей большого старого дома с неровными стенами из крепких бревен. Это была пышнотелая матрона лет сорока с небольшим, краснощекая и бойкая, но в ее глазах Кэтрин прочла теплоту и сочувствие. — Ох, бедная малютка! — воскликнула тетушка Маргарет. — Как я рада, Изабель, что ты привезла ее ко мне. — Я тоже рада, дорогая тетя, — ответила та, и женщины обнялись. — Уильям! — позвала тетя Маргарет, и на ее зов из дому вышел очень добрый на вид мужчина. Он приветствовал Изабель поцелуем и погладил Кэтрин по голове: — Ты очень милая, малышка. Надеюсь, мы с тобой станем друзьями. Кэтрин осмелилась робко улыбнуться. — Заходи в тепло, дитя, — наставительным тоном проговорила тетя Маргарет. — Сейчас мы тебя хорошенько накормим. — В холле она повнимательнее пригляделась к Кэтрин. — Вижу, ты точно ребенок моей сестры Джойс. Так на нее похожа, кроме волос. Эта рыжина у тебя от Говардов. Джойс была белокурой, как я. — Она утерла глаза платком. — Не могу поверить, что ее нет. Надеюсь, он похоронил ее достойно! Кэтрин заметила, что Изабель бросила на тетю Маргарет недовольный взгляд. — Конечно, — сказала она. — Джойс теперь в Ламбете, в часовне Говардов. Похоже, тетю Маргарет такой ответ удовлетворил. — Ну, Кэтрин, познакомься со своими кузенами и кузинами. — С этими словами миссис Коттон отвела девочку в гостиную, где за столом сидели четверо детей, очень на нее похожих. Все они встали и, когда матьпредставляла их, по очереди кланялись или делали реверансы. — Это Томас, ему восемь, и Джон — ему семь. Джоан у нас старшая, ей четырнадцать, а Анне двенадцать. Джоан и Анна обе скоро выйдут замуж. Мы будем скучать по ним, когда они уедут из дому. Все дети казались дружелюбными. Томас поначалу немного робел, но Кэтрин подумала, что при более близком знакомстве он, вероятно, окажется добряком, с которым приятно водить компанию, а вот Джон, напротив, имел вид довольно озорной и, к неудовольствию родителей, никак не мог спокойно усидеть на месте. Девочки тоже повели себя очень мило и внимательно отнеслись к Кэтрин, которая не утерпела и сразу сообщила им, что у нее тоже есть братья и она любит играть с ними в разные игры. — А ты играешь в кегли? — спросил Джон. — Я умею играть во все! — похвасталась Кэтрин. — И я тоже! — не желал уступать он. Взрослые оставили детей, а сами пошли распаковывать вещи Кэтрин. Анна предложила сыграть в прятки и потянула за собой новую кузину показывать ей самые лучшие укромные уголки старого дома. — Он очень древний, — сказала Анна. — Ему двести лет! Тут действительно имелась масса закутков и прочих потайных местечек под бессчетными лестницами и в комнатах, а также огромное количество шкафов, каморок и чуланов. Вскоре Кэтрин уже с визгом носилась по дому вместе с остальными детьми. Когда их позвали обедать в гостиную, она чувствовала себя гораздо более счастливой. Не прошло и недели, как Кэтрин уже начала чувствовать себя в Оксон-Хоате, где все были добры к ней, как дома. В тетушке Маргарет она находила утешительное сходство с матерью, а дядюшка Уильям оказался очень веселым человеком с неисчерпаемым запасом шуток. В амбаре жил выводок котят, по двору носилась свора собак. Но больше всего Кэтрин поразило, как роскошно живут Коттоны, какую хорошую пищу едят и как богато одеваются. Она не знала такого изобилия ни в Леди-Холле, ни в городском доме своего отца в Ламбете и чувствовала себя согретой теплом в семействе Коттон, которое обращалось с ней как с родной. Только по ночам девочка иногда плакала, тоскуя по матери. Юные Коттоны наслаждались большой свободой, могли бегать по дому и вокруг него. Усадьба стояла посреди обширного оленьего парка и принадлежала не одному поколению семьи Калпепер. По соседству, в местечках под названиями Беджбери, Уэйкхерст и Престон-Холл, жило немало их родных, и многие приезжали погостить в Оксон-Хоат. Позже Кэтрин узнала, что ее дед был последним в этой линии большой семьи и его владения разделили между двумя дочерьми: Джойс, матерью Кэтрин, и ее сестрой, тетей Маргарет. Жизнь, вероятно, сложилась бы совсем иначе, если бы мать унаследовала Оксон-Хоат! Однажды Маргарет и Изабель наблюдали за приготовлением сливовых пудингов к Рождеству, а Кэтрин сидела под кухонным столом — играла с котенком и слушала разговоры взрослых. Бо́льшая часть болтовни пролетала мимо ее ушей, но в одном месте девочка насторожилась. — Вам повезло больше, чем матери, — сказала Изабель. — Она вышла за сына герцога, но у вас жизнь сложилась удачнее. — Да, — согласилась тетя Маргарет. — Я сохранила дом и значительную часть собственности, доставшейся мне от вашего деда. А наследство Джойс Эдмунд растратил на свои экстравагантные причуды. Что не растратил — проиграл в карты. Теперь у него ничего не осталось от того, что дали ему Говарды. Смею сказать, он поставил бы на кон крышу над головой, если бы думал, что это принесет ему состояние. И ведь он образованный человек, латынь учил, французский, логику и Бог знает что еще. А вел себя так глупо! — Нелегко, наверное, быть младшим сыном и не иметь наследства, о котором нужно заботиться, — заметила Изабель, известная миротворица. — Эдмунд один из восьмерых, вы же знаете. — Тем больше у него было причин не транжирить деньги Джойс! — возразила тетя Маргарет. — В прошлое Рождество он сказал мне, что увяз в долгах. Меня это не разжалобило, кого ему и винить в этом, кроме себя самого. Его бедные дети не получат ничего; у девочек не будет никакого приданого. Что с ними станет, я не знаю! Подумай, как хорошо обеспечил отец тебя и твоих братьев и сестер. Я знаю, тебе до сих пор не нашли подходящего мужа, но приданое-то готово. Меня страшно злит, что эти Говарды такие чванливые и высокомерные, а как дойдет до дела — полные ничтожества. Мы, Калпеперы, тоже потомки короля Эдуарда Первого, знаете ли! Кэтрин удивилась такому неодобрительному отзыву о славных Говардах и ее отце. Тетя Маргарет явно все поняла неправильно. Отец всегда был таким милым, разве что немного отстраненным, хотя имел склонность загадочным образом исчезать куда-то и пропадать неделями, и люди как будто часто на него сердились. Вероятно, в то время он играл в карты. Кэтрин не знала, что плохого в карточных играх, и об отсутствии у себя приданого, что бы это ни было, тоже не догадывалась. Ее больше волновал палец, поцарапанный котенком, которому надоело, что его без конца тискают и украшают бантиками. Кэтрин вылезла из-под стола с протестующим зверьком на руках. — Господи помилуй! — воскликнула тетя Маргарет, а Изабель сказала что-то про маленькие кувшины[130]. — Больно-о, — протянула Кэтрин, поднимая вверх палец. Изабель принесла влажную тряпицу и обтерла его. — Ничего страшного, — с улыбкой сказала она. — Потерпи. — Калпепер — смешная фамилия, — заметила Кэтрин. — Мне говорили, наши предки торговали пряностями, — отозвалась тетя Маргарет. — Вот их и прозвали перечниками. Кэтрин захихикала и забыла обо всем, что услышала. Однако ночью, лежа на удобной пуховой перине в спальне с потолком на толстых деревянных балках, которую она делила с Изабель, девочка все вспомнила и обрадовалась, что больше не бедствует. Отец поступил правильно. Ничего лучше приезда к тете Маргарет и быть не могло.
Из всех родственников Калпеперов, которые приезжали погостить, Кэтрин больше всех понравился ее отдаленный кузен Том. Он происходил из беджберийских Калпеперов, главной ветви семьи. Вместе с родителями и шестью братьями и сестрами восемнадцатилетний, живой и веселый темноволосый красавец Том приезжал зимой в Оксон-Хоат. Он был на одиннадцать лет старше Кэтрин, но проявил внимание и доброту к бедной маленькой сиротке, не пожалел времени посидеть с Кэтрин, повосхищаться котятами и тем совершенно покорил ее сердце. — У нас в Беджбери много животных, — сказал ей Том. — О, я хотела бы посмотреть на них, — ответила Кэтрин. — Надеюсь, ты скоро приедешь к нам в гости. — Он улыбнулся. — Увы, сам я редко там бываю. Я служу королю и бо́льшую часть времени провожу при дворе. Глаза Кэтрин расширились. В Ламбете и Леди-Холле король как будто постоянно незримо присутствовал, господствуя надо всем, так как отец часто упоминал о нем, высказывая желание чем-нибудь снискать его милость, но чаще просто жалуясь, что этого не произошло. Король был могуществен. Он правил всей страной и имел власть над каждым ее жителем. Кэтрин он представлялся далекой и смутной фигурой, мощной и грозной. — А какой он, король? — Ко мне он очень добр, дорогая, и обращается со мной хорошо. — Вы его боитесь? Том хохотнул: — Нет. Он отличный парень и заботливый господин. Кэтрин нахмурилась. Это как-то не похоже на того короля, о котором иногда говорил ее отец. Тот король был злым и подлым. — Я хорошо знаю его милость, — продолжил Том. — Не зря ведь с детских лет живу при дворе. Сперва был его пажом; а теперь я грум его личных покоев и надеюсь со временем подняться еще выше. — А можно мне навестить вас при дворе? — спросила Кэтрин. — О нет, дорогая. Личные покои короля — неподходящее место для таких милых юных девушек, как ты, — сказал Том и приобнял ее. — Когда в следующий раз я приеду домой, то попрошу кузину Маргарет, чтобы она привезла тебя в Беджбери. Кэтрин затрепетала от радости. Ей так нравился Том. Как же здорово иметь среди родни столько добрых Калпеперов!
Глава 2
1529 ГОД В феврале отмечали восьмой день рождения Кэтрин, собралась целая компания детей Калпеперов. Именинница, к своему удовольствию, получила в подарок от тети Маргарет и дяди Уильяма набор кеглей, а от Изабель — красивое розовое платье, в котором чувствовала себя королевой из сказки. Отец ничего не прислал, но, став обладательницей таких сокровищ, дочка на него не обиделась. Через неделю за обедом тетя Маргарет, поставив перед Кэтрин тарелку, сказала: — У меня есть новости. Твой отец женился, и у тебя теперь новая мать. За столом все молчали, и Кэтрин почувствовала, что в этой тишине кроется неодобрение. У нее появилась тревожная мысль. — Мне придется уехать домой? — Надеюсь, что нет, — отозвалась тетя Маргарет. — Теперь твой дом здесь. Хорошая новость, хотя Кэтрин задумалась, не означает ли это, что отец больше не желает видеть ее в своем доме, несмотря на появление там мачехи, которая могла бы за ней присматривать? Ее не слишком взволновала эта проблема, так как она предпочитала оставаться в Оксон-Хоате. Весной приехал отец — привез свою жену. Он поцеловал Кэтрин, удивился, как она выросла, и поблагодарил тетю Маргарет за заботу о дочери, а та невольно поймала себя на мысли, что теперь, зная о неразумных поступках отца, смотрит на него другими глазами: он как будто уменьшился в размерах и перестал быть тем человеком, которого она знала и почитала прежде. Это встревожило девочку, однако она отдала родителю положенную дань вежливости. Новая леди Эдмунд оказалась высокой брюнеткой по имени Дороти, без умолку моловшей языком, причем все в каком-то вычурном тоне. — Дитя мое, ты красива, как Елена Троянская, — сообщила она своей падчерице. До сих пор никто не называл Кэтрин красавицей, и она понятия не имела, кто такая Елена Троянская. Озадаченная, но довольная девочка улыбалась новой мачехе. — Я уверена, мы с тобой поладим. Дороти овдовела, как сообщил им отец за обедом, и осталась хорошо обеспеченной, так что он надеялся в скором времени поправить свое финансовое положение. Леди-Холл сдан в аренду, а сами они едут в Гэмпшир, где у Дороти имеется во владении поместье под названием Плейс-Хаус. — Моя дорогая супруга говорит, что это прекрасное место, — сказал лорд Эдмунд, пожимая руку Дороти. На какой-то ужасный момент Кэтрин испугалась: вдруг он сейчас скажет, что она должна поехать с ними. Однако, к счастью, этого не произошло. А отец тем временем решил попотчевать жену и прочих слушателей рассказами о своих подвигах. — Дороти не знает, что я занимался организацией турниров в честь коронации короля, — похвалился лорд Эдмунд. — И, моя дорогая, я принимал участие в тех, что проводились в Вестминстере по случаю рождения принца Генри, да упокоит Господь его душу. — Отец перекрестился. — Я был предводителем кавалерии в битве при Флоддене, где мой отец одержал славную победу над шотландцами. Я тоже отличился, и он произвел меня в рыцари прямо на поле боя. Именно после этого король вернул моему отцу герцогство Норфолк. Дороти, глядя на мужа, восхищенно улыбалась, но Кэтрин и, вероятно, все остальные уже не раз слышали эти истории. Кэтрин скучала, а ее кузены нетерпеливо ерзали. Но лорд Эдмунд распустил крылья. — Я ездил во Францию в свите принцессы Марии, когда она вышла за короля Людовика. Король Генрих лично дал мне шёлка и парчи на платье, чтобы я сопровождал его на Поле золотой парчи, а на турнире я был одним их бросавших вызов. — Какую интересную жизнь вы вели, супруг мой, — заметила Дороти. — Да, бывали у меня золотые денечки, — сияя улыбкой, ответил он. — Как дети? — спросила тетя Маргарет. Отец улыбнулся: — Мальчики успешно готовятся к посвящению в рыцари под руководством герцогского сержанта при оружии[131]. Мэри так и живет с кормилицей недалеко от Леди-Холла. — Есть у вас какие-нибудь новости о короле, милорд? — спросил дядя Уильям. Эдмунд сдвинул брови: — По требованию королевы заседание суда легатов перенесли в Рим. Его величество недоволен, как вы понимаете. Кэтрин понятия не имела, о чем они говорят. — Что такое суд легатов? — шепнула она сидевшему рядом с ней Томасу. Отец услышал вопрос и заговорил прежде, чем мальчик успел ответить. — Это особый суд, который собрался, чтобы решить, по закону ли король женат на королеве Екатерине. — Он хочет жениться на ком-то другом, — добавил Томас. Кэтрин была потрясена. Имя ей дали в честь королевы Екатерины, которая была добра, кротка, милосердна и любима всеми. — Томас! — с укором в голосе воскликнула его мать. — Довольно! — Но это правда, — сказал отец. — Не секрет, что король намерен жениться на моей племяннице Анне Болейн. — (В прошлом году это имя несколько раз упоминали при Кэтрин, но тогда она практически не обратила на это внимания.) — Если женитьба состоится, мы, Говарды, вознесемся высоко. Племянница очень хорошего мнения обо мне. — Некоторые из нас предпочли бы, чтобы король остался верен своей законной жене! — едко заметила тетушка Маргарет. — Но она уже слишком стара и не может подарить королю наследника, — дерзнула встрять в разговор Дороти. Тетя Маргарет взъерепенилась: — У них есть дочь! Если я способна управлять своими имениями, не вижу причин, почему принцесса Мария не сможет управлять Англией! Получив такой решительный отпор, Дороти явно смутилась и притихла. Вскоре после обеда они с отцом уехали, сказав, что им нужно до темноты успеть в Тонбридж. Отец благословил вставшую перед ним на колени Кэтрин и велел ей быть хорошей девочкой. — Надеюсь вскоре снова с тобой увидеться, — сказал он и взобрался на коня, после чего, помахав хозяевам рукой на прощание, уехал вместе с Дороти, которая, сидя боком в седле, скакала на кобыле рядом с ним. Когда они вернулись в дом, Кэтрин увидела, как тетя Маргарет, качая головой, глядит на дядю Уильяма. — Другого такого отъявленного плута я в жизни не встречала, — заявила тетушка. Кэтрин прошла вместе со всеми в гостиную и устроилась там на полу играть в кегли с Томасом и Джоном, а взрослые расположились вокруг очага. Девочка прислушивалась к их разговору, потому что речь шла о ее отце. А они как будто считали, что она не слышит или не понимает, о чем идет речь. — Столько хвастовства! — изрекла тетя Маргарет, понизив голос, однако не так сильно, чтобы он не донесся до Кэтрин. — Я думала, он никогда не остановится, — сказала Анна. — Удивительно, каким он видит себя, — продолжила ее мать. — При Флоддене только его отряд и был разбит. Но об этом он не упомянул! И о том, что умудрился потерять весь обоз, — тоже. — Нетрудно догадаться, почему он не продвигается по службе, — добавил дядя Уильям. — А помните, как он ослушался кардинала Уолси? И короля! — Да, — сказала тетя Маргарет. — Я не забыла, как он подточил правосудие в Суррее, когда был мировым судьей, и его вызвали отвечать перед судом Звездной палаты[132]. — А потом, чтобы показать, как серьезно относится к своим обязанностям, он проявил невероятную жестокость к юнцам, казненным после Злого Майского дня[133], — вспоминал дядя Уильям. При этих его словах Кэтрин насторожилась. Ее отец жесток? Она не могла в это поверить. Разумеется, они все перепутали. — Вероятно, он старался произвести впечатление на короля! — заметила тетя Маргарет. — Если так, любовь моя, последствия вышли неожиданные. Через год или около того он вновь оказался в Звездной палате, и сам король судил его за подстрекательство к мятежу. Ему пришлось, стоя на коленях, молить о пощаде. Только благодаря своему отцу он получил королевское прощение; остальным, обвиненным с ним заодно, не так повезло. — Он взбалмошный, безрассудный человек и ставит себя выше закона. — Мой дедушка Ли знал ему цену, — произнесла Изабель, не поднимая головы от шитья, — и позаботился о том, чтобы лорд Эдмунд не смог оспорить его завещание. — Твоя бабушка Ли была недовольна, что Джойс вышла за него замуж, — сообщила тетя Маргарет. — Она пыталась защитить наследство Джойс, но Эдмунд промотал его целиком и кончил тем, что прячется от кредиторов, дабы не попасть в долговую тюрьму. У него в доме детям не хватало мяса и доброго питья! Помните, как он отправил бедняжку Джойс за помощью к кардиналу? Она была святая, моя сестра, раз могла жить с ним в ладу. Кэтрин слушала и не верила своим ушам. Склонившись над кеглями, она молилась, чтобы братья не увидели, как запылали у нее щеки от стыда. Теперь девочка поняла, почему отец однажды так загадочно и надолго исчез из дому. Взрослые умолкли; в комнате слышались только грохот катящегося по полу деревянного шара да стук падающих кеглей. — Позову-ка я слуг, пусть уберут со стола, — сказала тетя Маргарет, поднимаясь на ноги. Кэтрин смотрела ей вслед в легком смятении от услышанного. Она не все поняла, но и того, что уловила, хватило, чтобы уяснить: ее добрые родственники считали отца человеком никудышным и вдобавок глупым. Но хуже всего то, что они, вероятно, были правы.Глава 3
1530 ГОД Кэтрин было девять лет, когда ее кузины Джоан и Анна вышли замуж. В обеих свадьбах она, одетая в свое красивое розовое платье, участвовала в роли подружки невест. Потом тетушка Маргарет говорила, что дом без них опустел, и ходила грустная; на ее лице была написана тоска. — Мне как будто отрубили руку. Всю жизнь думаешь, что дети останутся с тобой навсегда, а потом они вдруг уходят. — Тетушка прижала к себе Кэтрин. — Слава Богу, ты здесь, моя дорогая, и Томас с Джоном! — Она смахнула с глаз слезу. Ей явно было не по себе. Кэтрин скучала по дочерям тетушки и по ее живой уверенности в себе. На долю упорной Изабель выпало поднимать настроение Маргарет, но все усилия пропали втуне: тетушка вела себя как человек, лишившийся самого дорогого. Печальная атмосфера в доме сгустилась, когда пришла новость от отца: мачеха Кэтрин умерла в родах и оставила супругу свое поместье в Гэмпшире. Кэтрин не оплакивала Дороти, поскольку почти не знала ее и ни разу не видела после того весеннего визита молодоженов в Оксон-Хоат. И все же девочке было жаль ее и отца тоже. Тем не менее она, скорее, испытала облегчение, когда он не приехал навестить ее, потому что опасалась: вдруг отец заметит, что отношение к нему у дочери изменилось. Услышав от родни о его недостатках, Кэтрин уже не могла питать к родителю прежние чувства, как ни старалась. Тетушка Маргарет и Изабель принялись рассуждать, как он справляется и скоро ли отдаст в залог Плейс-Хаус. К июлю тетя Маргарет превратилась в бледную тень себя прежней; вся ее кипучая жизненная сила угасла. Поначалу это объясняли разлукой с дочерьми, но со временем начали понимать, что она больна. В сентябре миссис Коттон слегла в постель, оставив Изабель следить за хозяйством. Кэтрин ужасно боялась, как бы Господь не забрал к себе и тетю тоже. Эту утрату ей не перенести. Маргарет стала центром ее мира, всемогущим источником любви и уверенности. Каждый день девочка ходила в домашнюю церковь и молилась от всего сердца, чтобы Бог помог ее любимой тетушке выздороветь. Он не слушал. Однажды поздним вечером Изабель мягко разбудила Кэтрин и попросила ее встать. Держа в руке свечу, она отвела девочку в спальню тетушки Маргарет. Все, кто там был, стояли на коленях вокруг постели. Священник монотонно читал молитвы, исполняя последние обряды. Дядя Уильям и мальчики плакали; с высоких подушек доносился хриплый звук затрудненного дыхания. Лицо тети Маргарет посерело и осунулось; казалось, она не узнает никого вокруг. Кэтрин опустилась на колени рядом с Изабель и молилась так истово, как никогда за всю свою недолгую жизнь. — Спаси ее! Спаси! — горячо шептала она. Дыхание становилось слабее и глуше. Кэтрин не сразу заметила, что оно прекратилось. Наступила мертвая тишина, священник осенил себя крестом. — Из милосердия, помолимся об упокоении души нашей сестры Маргарет, — призвал он всех. — Нет! — завопила Кэтрин. Изабель быстро сгребла ее в охапку и вынесла из спальни, сдавленным голосом прошептав: — Такова Господня воля.Кэтрин лежала на кровати, обессилев от слез. Если бы только тетя Маргарет могла войти в дверь и утешить ее! Как бы ей этого хотелось, но, разумеется, желание осталось неосуществленным. Тетя Маргарет ушла на те же Небеса, где ждали ее мать и все прочие любимые люди. Тетушка пребывала в мире, как сказал священник, а вот ее родные, оставшиеся здесь, на земле, были безутешны. Розовое платье Кэтрин убрали в сундук, а ей самой дали траурное, которое носила в детстве Джоан, когда умер в младенчестве то ли ее брат, то ли сестра. Черное платье из гарусной материи немного покусывало кожу, но Кэтрин слишком сильно погрузилась в печаль, чтобы замечать это. Она лежала и размышляла, что теперь будет. Если Изабель останется здесь и возьмет на себя заботы о дяде Уильяме, мальчиках и самой Кэтрин, все будет хорошо — по крайней мере, насколько это возможно, потому что дядюшка очень тяжело переживал утрату. Всего шесть месяцев назад это был счастливый, бурлящий жизнью дом; теперь повсюду царили тишина и печаль. Кэтрин не покидало чувство, что тут нужно ходить на цыпочках, чтобы не нарушить чей-нибудь траур. Если бы не Изабель, которая старалась по мере сил приободрить всех домочадцев, Оксон-Хоат и правда превратился бы в весьма унылое место. На следующий день дядя Уильям вошел на кухню, где Кэтрин сидела на табурете за большим столом и наблюдала, как Изабель и кухарка готовят ватрушки с айвой. — Китти, я получил известие от твоего отца, — сказал он, сжимая в руке письмо. — Похоже, у тебя новая мачеха. — Уже? — Изабель вскинула брови. — Да, Эдмунд не терял времени. Вероятно, это еще одна богатая вдова. — Он показал Изабель негусто исписанный лист. — Как бы там ни было, а он сообщает, что сейчас живет в Ламбете и Кэтрин должна вернуться к нему туда. Он просит, чтобы ты проводила ее. На следующей неделе он пришлет грума с носилками. Кэтрин не знала, радоваться ей или печалиться. Несколько недель назад перспектива покинуть Оксон-Хоат сильно расстроила бы ее, но теперь она не была в этом так уверена. Отцовский дом в Ламбете ей очень даже нравился. Вдруг там будет веселее, если, конечно, способность радоваться жизни когда-нибудь вернется к ней. Но все будет зависеть от того, какова из себя эта новая мачеха. По крайней мере, если она окажется змеей, то рядом будет Изабель. Кэтрин слышала сказки, где упоминались мачехи; обычно их изображали злобными. Но что будет с добрым дядюшкой Уильямом? Как он справится без Изабель? Сможет ли уследить за домом и сыновьями? — Эти перемены не пойдут на пользу девочке, — сказала Изабель, сворачивая из теста ватрушку, — но когда Говарды чего-то требуют, ничего не поделаешь. — В ее голосе звучали обида и возмущение. — Вы справитесь без меня несколько дней? Я поживу там какое-то время, удостоверюсь, что все в порядке, и тогда вернусь. — Ты не останешься со мной?! — воскликнула Кэтрин. — Думаю, я нужна здесь дяде Уильяму, — ответила Изабель, взглянув на старика в ожидании подтверждения. — Я вообще не уверена, что меня оставят хоть на какое-то время в Ламбете. Кэтрин, дорогая, не плачь! — Она вытерла руки о передник и обняла сестру. — Я буду приезжать к тебе. И обещаю, что уеду только тогда, когда буду уверена, что ты поладила с новой мачехой. — (Кэтрин тупо кивала, утратив всякую чувствительность.) — Нам, женщинам, всегда приходится делать то, что велено, — продолжила Изабель. — Брат до сих пор не нашел мне мужа, вот я и живу приживалкой. Я могла бы поехать в Стоквелл с сестрами Маргарет и Джойс и жить с Джоном, но предпочла остаться здесь, и мне повезло, что меня приняли с радостью. — Она улыбнулась дяде Уильяму. — Тебе, Кэтрин, тоже повезло. Отец заботится о тебе. Будь благодарна ему за это. Дядя Уильям взял Кэтрин за руку: — Сбегай за Томасом и Джоном. Я уверен, ты найдешь чем заняться с ними. Кэтрин нашла мальчиков в гостиной: они играли в шахматы, но с готовностью прервали партию и достали бирюльки; так можно было играть втроем. Задача вынимать из кучки крохотные предметы, не задевая соседние, требовала концентрации внимания, и это помогло Кэтрин успокоиться, но внутри у нее вызрела решимость: если новая леди Эдмунд окажется великаншей-людоедкой, она сбежит из Ламбета, чего бы это ни стоило, и вернется сюда вместе с Изабель.
Дорога до Ламбета заняла три дня. Они ехали через Отфорд и Бромли, где останавливались в хороших гостиницах. И вскоре уже двигались по Черч-стрит к Темзе и отцовскому дому — тому, где Кэтрин родилась. Он находился напротив Ламбетского дворца, городской резиденции архиепископа Кентерберийского, и выглядел весьма скромным по сравнению с располагавшимся между Черч-стрит и Парадайз-стрит Норфолк-Хаусом — великолепным, побеленным особняком из кирпича и дерева, окруженным прекрасными садами с цветами и плодовыми деревьями, которые тянулись до самого берега реки. Дядя Кэтрин, могущественный герцог Норфолк, старший брат ее отца, жил здесь, когда ему нужно было находиться в городе. Он мог воспользоваться конным паромом[134] архиепископа, чтобы перебраться через широкую Темзу, если хотел попасть в Йорк-Плейс, расположенный чуть выше по реке, или в парламент в Вестминстере, или дальше к северу, в самый Лондон. Перед Ламбетским дворцом стояла церковь Святой Марии. Когда они проезжали мимо, у Кэтрин защемило сердце. Здесь погребена ее мать, в хладном склепе среди останков Говардов, предков своего мужа. Изабель сказала, что недавно над местом ее упокоения положили могильную плиту и они пойдут в церковь помолиться за душу усопшей, прежде чем она вернется в Оксон-Хоат. Кэтрин было неприятно думать о том, как мать лежит под землей; ей хотелось помнить ее живой — нежной, доброй и любящей. Однако времени предаваться грусти не осталось, потому что они прибыли в дом лорда Эдмунда. У дверей ждал управляющий, готовый помочь им выйти из носилок; он велел грумам присмотреть за лошадьми и поставить носилки у конюшни. Кэтрин вступила в знакомый коридор, отделенный перегородкой от главного зала, и как раз в этот момент в самом зале, справа от нее появился отец. Под руку его держала очаровательная улыбчивая женщина с добрыми глазами и лицом, напоминавшим Мадонну из домашней церкви Оксон-Хоата. — Кэтрин, Изабель, добро пожаловать! — приветствовал их отец. — Это Маргарет, моя жена. Кэтрин, сделай реверанс своей мачехе. Она сделала, в ответ на это Маргарет подняла ее и расцеловала в обе щеки. — Какое милое дитя, Эдмунд! Вы не говорили, что у вас есть такое сокровище. Кэтрин глянула на Изабель, и та ободряюще кивнула ей, как будто говоря: все будет хорошо. После этого девочка осторожно вставила ладошку в протянутую мачехой руку. — Позволь я отведу тебя наверх, дитя, — сказала Маргарет. — И помогу Изабель распаковать вещи. Маргарет пошла, держа Кэтрин за руку, вверх по расположенной в углу винтовой лестнице и дальше по галерее в детскую. — Ты должна вести себя тихо, — попутно наставляла мачеха. — Твоя сестричка Мэри спит после обеда. Мэри! Кэтрин и не догадывалась, что ее сестра тоже будет здесь. Она думала, малышка живет где-то далеко, в Эппинг-Форест, если вообще о ней вспоминала, и сейчас не слишком обрадовалась. Однако когда Маргарет открыла дверь и Кэтрин увидела, что лежит на ее кровати, недовольство сменилось восторгом. Потому что ее ждало прекраснейшее зеленое бархатное платье, отделанное расшитой золотом каймой. Розовое отжило свой век: его дважды перешивали, растачивая, и надставляли контрастной по цвету лентой, чтобы увеличить длину, но скоро оно все равно станет мало. Но это — это было великолепно! В таком платье она будет чувствовать себя истинной дочерью Говардов, а не бедной родственницей. Кэтрин сразу потеплела к своей новой мачехе. Рука Маргарет чувствовалась везде: от натертой до блеска мебели и белоснежного белья на постелях до летних цветов в вазах на каминных полках и отличной еды, поданной к столу. Был ли ламбетский дом таким во времена ее матери? Кэтрин не помнила. — Ты счастливица. Господь послал тебе прекрасную мачеху! — сказала Изабель, придя наверх, чтобы поцеловать сестру на ночь. — Я довольна, что оставлю тебя в хороших руках. Кэтрин посчитала себя еще более везучей, обнаружив, что кухонная кошка, гроза мышей, ждет котят, и, обнадеженная этим, стала приходить к убеждению, что, наверное, обретет счастье в отцовском доме. Она продолжала скучать по тете Маргарет, однако память о ней затуманилась новыми впечатлениями. Младшая сестренка Мэри, теперь уже двухлетняя, очаровала Кэтрин. Ей нравилось играть с малышкой и помогать няне ухаживать за ней. Маргарет и Изабель одобрительно смотрели на это.
Изабель не вернулась в Оксон-Хоат, как планировалось, поскольку дядя Уильям отправился погостить к кому-то из родственников Калпеперов и дом закрыли. Кэтрин была благодарна судьбе за каждый день, который могла уделить ей сестра. Однажды осенью отец побывал при дворе в Уайтхолле и вернулся в весьма приподнятом настроении. За ужином, к изумлению и огорчению Кэтрин, он сообщил, что сэр Эдвард Бейнтон, придворный, к которому очень милостив король, захотел жениться на Изабель. Сэр Эдвард обмолвился, что ищет себе супругу, и отец предложил ему руку своей приемной дочери, надеясь таким образом снискать расположение короля. — Вы будете знатной леди, — сказал лорд Эдмунд, вставая и обнимая Изабель. — Сэр Эдвард владеет обширными землями и большим домом в Уилтшире и, по общему мнению, поднимется до высокого положения на королевской службе. Изабель разволновалась и воскликнула: — О, какая прекрасная новость! — Я не хочу, чтобы ты от нас уезжала, — сказала Кэтрин, и губы у нее задрожали. Изабель взяла сестру за руки: — Дорогая, я все равно собиралась. Не грусти, ради меня, прошу! Мне тридцать четыре, и, вероятно, другого шанса выйти замуж у меня не будет. К тому же это прекрасная партия, на лучшее я и не рассчитывала. Я много времени буду проводить при дворе, а это сразу за рекой, и смогу часто навещать тебя. Кэтрин не желала успокаиваться: — А как же бедный дядя Уильям? — Наша сестра Джойс обещала побыть с ним какое-то время, если я выйду за сэра Эдварда, так что за дядей присмотрят. А ты можешь быть подружкой невесты на моей свадьбе! Это Кэтрин обрадовало. — Можно мне надеть зеленое платье?
Не одна Изабель вышла замуж той зимой. В ноябре Маргарет Ли, сводная сестра Кэтрин, обвенчалась с Томасом Арунделом, которого ждала карьера при дворе. Кэтрин и Изабель вместе со всем семейством Ли справляли свадьбу в доме Джона Ли в Стоквелле, неподалеку от Ламбета. По словам Изабель, Джон подружился с Томасом Арунделом, когда они вместе служили у кардинала Уолси, но, понизив голос, объяснила, что лучше не упоминать о кардинале, так как тот рассердил короля — не сумел помочь ему избавиться от королевы Екатерины. Кэтрин стало жаль кардинала, которому наверняка был ненавистен этот развод, а вот Джон Ли, здоровенный весельчак с черной бородой и громовым голосом, ей понравился; он очень радушно принимал всех. Уже в третий раз Кэтрин оказалась на свадьбе. Ей было почти десять, она уже достаточно подросла, чтобы ощутить трепет романтического восторга: невеста в алом платье, разодетый в пух и прах жених, торжественные обеты у дверей церкви, красота хоровых песнопений, под которые новобрачные в сопровождении гостей вступили в храм, и великолепный свадебный пир, завершивший торжества. Лорд и леди Эдмунд находились среди приглашенных, равно как и братья Кэтрин — повзрослевшие, державшиеся с горделивой уверенностью; все от души веселились. В один прекрасный день и у нее будет такая же сказочная свадьба, мечтала Кэтрин.
Глава 4
1531 ГОД В январе Изабель вышла замуж за сэра Эдварда Бейнтона. В Стоквелле вновь собралось множество гостей, и Кэтрин еще раз повидалась с братьями. Одетая в дивное зеленое платье, она привлекла немало восторженных взглядов и поняла, что выглядит очаровательно со струящимися по плечам темно-рыжими волосами и с изумрудной подвеской на шее, которую дала ей мачеха. Изабель вся светилась от счастья; супруг явно пришелся ей по душе. Он оказался крепко сложенным, почтенным и серьезным мужчиной с седеющими волосами, весьма обходительным, с манерами опытного придворного. Изабель, с которой сэр Эдвард был почти одних лет, явно его пленила. Кэтрин подивилась, узнав, что тот привез с собой семерых детей. Отец, одетый в свой единственный приличный бархатный костюм, объяснил, что это потомство покойной жены сэра Эдварда. — Изабель будет к чему приложить руки! — весело добавил он. Кэтрин невольно ощутила укол ревности при мысли, что этим детям отныне будет доставаться больше любви и внимания Изабель, чем ей. Но у нее теперь тоже есть мачеха, причем очень заботливая, так что не стоит грустить.— У меня есть отличные новости, — сказал однажды за ужином отец. Дело было в апреле. Братья Кэтрин приехали домой из Норфолк-Хауса и были заняты разговором о своих делах, но, услышав слова отца, заинтересовались и повернули к нему головы. Лорд Эдмунд, сияя улыбкой, смотрел на них всех: — Моя милая племянница, леди Анна Болейн, позаботилась обо мне, вместе с господином Кромвелем, который заменит кардинала на посту главного министра короля. Я считаю его своим другом, знаете ли. — Эдмунд, давайте ближе к делу, — сказала Маргарет. — Ах да, хорошие новости! — Он снова заулыбался. — Меня назначили ревизором в Кале с очень хорошим жалованьем. Ну, с приличным жалованьем, из которого я должен обеспечивать содержание своих помощников и лошадей, но это очень кстати, потому что меня осаждают кредиторы. — Я рад за вас, отец, — сказал Чарльз, которому исполнилось пятнадцать, и Кэтрин казалось, он становится выше и шире в плечах при каждой их новой встрече. — Мы поедем с вами, сэр? — спросил Джордж. Чарльз и Генри смотрели на отца с надеждой, но Кэтрин опасалась, что ей это известие сулит новые неприятные перемены. — Нет, — ответил лорд Эдмунд. — Ни один из вас с нами не поедет. Вам лучше остаться здесь. Дядя Норфолк подготовит вас к службе при дворе и добьется для вас продвижения. Вы, мальчики, вернетесь в Норфолк-Хаус в воскресенье. Изабель заберет Мэри к себе в Уилтшир. А ты, Кэтрин, отправишься к моей мачехе, вдовствующей герцогине. Это была действительно ужасная новость. О вдовствующей герцогине, супруге ее покойного деда, герцога Норфолка, у Кэтрин сохранилось лишь одно воспоминание: с каким величавым безразличием та отнеслась к робким попыткам маленькой девочки заручиться ее расположением во время многолюдного рождественского праздника в Норфолк-Хаусе много лет назад. Эта леди была очень стара и величественна, жила в огромном доме, который называли гостевым и который прилегал к Норфолк-Хаусу со стороны реки. — Она не только твоя бабушка, но и кузина, — сказал Кэтрин отец. — Моя мать была ее теткой; они обе урожденные Тилни. Тилни — старинный дворянский род из Восточной Англии, они издавна близки с Говардами. Кэтрин не интересовала история рода Тилни. Ее ужасала перспектива оказаться запертой в гостевом доме вдовствующей герцогини и разлучиться с Маргарет, которая поедет с отцом в Кале. Они окажутся за морем и так далеко… От этой мысли на глаза девочки навернулись слезы. Получалось, у нее забирают по очереди всех, кто ей дорог: мать, тетю Маргарет, Изабель, а теперь вот и мачеху. Неужели рядом с ней не останется никого, кто любил бы ее и заботился о ней? Она испытала жгучую зависть к Мэри при мысли, что та будет жить с Изабель. — Китти, ни к чему принимать такой угрюмый вид, — укоризненно произнес отец. — Но я не хочу жить с моей бабкой Норфолк! — выпалила она. — Чепуха! — рявкнул лорд Эдмунд. — Я хочу жить с Изабель! — крикнула Кэтрин. — Об этом не может быть и речи, — отрезал отец. — Изабель — жена рыцаря; твоя бабушка — герцогиня и обладает гораздо бо́льшим влиянием. — Это пойдет тебе на пользу, — утешила падчерицу Маргарет, похлопав ее по руке. — Детей из благородных семейств обычно отдают на воспитание в дома знатных родственников, и ты как раз в подходящем для этого возрасте. Под руководством герцогини ты освоишь навыки и приобретешь манеры, которые позволят тебе удачно выйти замуж или даже получить место при дворе. Отец и братья согласно кивали, но Кэтрин не заботило, выйдет ли она замуж и получит ли место при дворе. Она чувствовала себя брошенной. — Я не потерплю никаких возражений! — Отец погрозил ей пальцем. — Герцог сам решил, что ты отправишься к вдовствующей герцогине, а с ним не поспоришь. За пару дней Маргарет поможет тебе собрать вещи, потому что мы должны переправиться в Кале как можно скорее. — Лорда Эдмунда ничто не смущало; сам он мысленно уже плыл в Кале и не намеревался утешать дочь или врачевать ее душевные раны.
Кэтрин уселась на подоконник, с которого был виден Норфолк-Хаус. Вещи ее собраны, осталось только дождаться, когда придет отец и проводит ее в резиденцию вдовствующей герцогини. Братья стояли рядом и переминались с ноги на ногу: им не терпелось вернуться к мужским радостям, которые давала служба у герцога. Своего дядюшку Норфолка Кэтрин видела только во время тех давнишних рождественских торжеств и едва помнила, но он играл в ее жизни весьма заметную роль, так как слово герцога было законом для всех его родственников Говардов — и для очень многих других людей. Как самый знатный дворянин в королевстве, он пользовался почетом и уважением не меньшим, чем королевская особа, и слушались его так же; родство по браку сближало Норфолка с королем: первой женой герцога была Анна Йоркская, тетка его величества, а второй — представительница рода Стаффордов, в жилах которых текла кровь старинного королевского рода Плантагенетов. Кэтрин давно это знала как часть семейной легенды; к тому же жанру относилась и история о происхождении Говардов от короля Эдуарда I. — Тебе понравится жить в Норфолк-Хаусе, — сказал Чарльз. — Но я поселюсь не в Норфолк-Хаусе, — возразила Кэтрин. — Я буду жить там. — Она указала на дальний конец здания. — Это тот же дом, — отозвался Чарльз. — У них просто отдельные хозяйства. На другом его конце находится еще один флигель, где живет наш дядя лорд Уильям Говард, сын вдовствующей герцогини. Когда наш дед строил Норфолк-Хаус, то позаботился о своей вдове и детях. Кэтрин знала, что ее дед, старый герцог, зачал двадцать детей со своими двумя женами. Говарды теперь, казалось, были повсюду: в Ламбете, при дворе и по всему королевству, породнившись со всеми лучшими семьями страны. — Расскажи, как он вернул себе титул! — потребовала Кэтрин. Она любила слушать эту историю, и сейчас ей нужно было как-то отвлечься. — Опя-а-ть? — в шутливом отчаянии протянул Джордж. — Ну нет! Чарльз с покорным видом сел. Он всегда потакал сестре. — Первый герцог пал в битве при Босворте, сражаясь за короля Ричарда. — Не на той стороне, — вставил Генри. — Вот именно, потому что Ричард тоже был убит, а победил Генрих Тюдор и был увенчан короной прямо на поле брани. Дедушка тогда был графом Сурреем. Когда новый король спросил его, почему он сражался за Ричарда, тот ответил, что Ричард был миропомазанным монархом и, если бы корону возложили на пень, он стал бы биться за него. Преданность деда соверену произвела впечатление на короля, и тот вернул ему графство Суррей, но не позволил получить герцогство Норфолк. Его деду даровал наш король Генрих после Флоддена, за славную победу в битве и спасение королевства от нашествия шотландцев. Когда дед получил назад титул, то и построил Норфолк-Хаус. Он также возвел часовню при церкви Святой Марии за дорогой. Там нас всех похоронят когда-нибудь, как нашу матушку. Кэтрин было так грустно, что она не смела думать о матери, иначе залилась бы слезами. Только раз девочка ходила с Изабель в церковь, где, стоя на коленях у могилы, испытала странное чувство успокоения, оказавшись вновь рядом с матерью, однако вид холодной каменной плиты навеял ей мысли об окончательной бесповоротности смерти. Кэтрин не хотелось возвращаться в это место. — У герцога в Норфолк-Хаусе бывает много разных людей, — говорил меж тем Чарльз. — К нему приходят гости, придворные и иностранные послы. Я встречал там Джона Скелтона, которого наша семья сделала поэтом-лауреатом[135], и мы все отлично ладим с нашим кузеном Сурреем и леди Мэри. Суррей был сыном и наследником герцога, но Кэтрин его совсем не помнила, хотя братья рассказывали ей, что он пишет стихи и отличается буйным нравом. Мэри была его сестрой. Существовала какая-то тайна, связанная с их матерью. Герцогиня Норфолк не жила с герцогом. Однажды Кэтрин краем уха услышала, как ее братья, хихикая, говорили, что некая Бесс Холланд играет в зверя о двух спинах с их дядюшкой — что бы это значило? — и это из-за нее тетушка стала затворницей. Но когда Кэтрин попросила у них объяснений, они сказали, чтобы она не совалась в чужие разговоры. Отец звал их всех снизу. Пришло время уходить. Кэтрин неохотно спустилась по лестнице, братья шли следом. В холле стоял готовый к отправке в Кале огромный дорожный сундук. Слуги суетились, приводя дом в порядок для новых постояльцев. Через пару дней отец с Маргарет уедут, и Кэтрин не представляла, когда увидит их снова. Она стояла неподвижно, будто окаменела, пока мачеха надевала на нее накидку и приглаживала ей волосы, потом взяла за руку и вывела из дома через парадную дверь вслед за отцом. Сперва они оставили мальчиков в Норфолк-Хаусе и подождали, пока те пройдут через арку входа и скроются во дворе. Потом проследовали вдоль кирпичной стены с ромбовидным орнаментом к воротам у реки. Дворецкий пустил их и проводил через деревянную арку на мощенный булыжником внутренний двор. Они проследовали за ним к двери в дальнем конце здания и оказались в просторном холле, по которому деловито сновали туда-сюда ливрейные слуги, придворные и дамы. К нимподошел церемониймейстер и пригласил подняться по лестнице в главный покой. Вдовствующую герцогиню, вероятно, предупредили об их приходе: она величественно восседала в кресле с дорогой отделкой под балдахином с гербами Говардов. Эдмунд и Маргарет вежливо поклонились, и Кэтрин тоже сделала изящный реверанс. — Добро пожаловать, лорд и леди Эдмунд, — высоким голосом, но без всякого чувства произнесла вдовствующая герцогиня. — Приветствуем вас, мадам, — отозвался отец. — Надеюсь, вы в добром здравии. Мы привели к вам мистресс[136] Кэтрин. — Дайте-ка мне взглянуть на нее. Маргарет легонько подтолкнула падчерицу, и та сделала шаг вперед. Осмелившись поднять глаза, Кэтрин увидела, что вдовствующая герцогиня гораздо старше, чем она помнила, но одета и причесана весьма изысканно. Лицо у нее было худое, ястребиное, глаза пронзительные, манеры спокойные и уверенные; платье черное, но поверх него надето много сверкающих украшений. — Ну, дитя, что ты скажешь? Кэтрин умела вести себя в обществе, и Маргарет научила ее, что нужно ответить. — Приветствую вас, миледи. Вы оказываете мне большую честь, пригласив к своему двору. Я очень благодарна вам за это. — Хорошо сказано, дитя, — улыбнулась вдовствующая герцогиня. — Надеюсь, тебе здесь будет хорошо. А сейчас матушка Эммет отведет тебя в твою комнату. Матушка Эммет тут главная над всеми девушками. Полная темноволосая женщина, похожая на смирную корову, подошла к Кэтрин и взяла ее за руку. — Попрощайся со своими родителями, — велела вдовствующая герцогиня. — Прощай, дочь моя, — сказал отец и горячо поцеловал ее. — Веди себя хорошо и делай все, что тебе скажут. Если Господу будет угодно, мы скоро увидимся. — Береги себя, дитя. О тебе здесь хорошо позаботятся. — Маргарет улыбнулась и тоже поцеловала падчерицу. Кэтрин переполняли чувства, и она не могла сказать много. — Всего доброго, — тоненьким голоском пролепетала девочка, и матушка Эммет увела ее прочь от всего привычного и знакомого. Они вышли из зала через дверь в углу, поднялись по длинной лестнице в увешанную картинами галерею. В дальнем ее конце наставница открыла дверь, и Кэтрин вступила в такую красивую комнату, каких никогда еще не видела. Она была лучше уютной спальни в Оксон-Хоате, лучше великолепной опочивальни в отцовском доме. Тут у завешенной гобеленом с цветочным рисунком стены стояла резная дубовая кровать под балдахином. Остальные стены были белые, на окне с ажурной решеткой, за которым виднелся сад, висели алые бархатные шторы; обстановку дополняли изящный столик и стул, а также искусно вызолоченный голубой сундук для одежды. Рядом с ним стоял дорожный сундук Кэтрин. — Кажется, тебе здесь нравится, — с улыбкой сказала матушка Эммет и принялась споро разбирать скромный гардероб своей новой подопечной, задержав ненадолго восторженный взгляд лишь на зеленом платье. — Ты должна надеть его, когда придет герцог, — сказала она и усадила на подушку тряпичную куклу. — Больше у тебя никаких вещей нет, дитя? — Только эти. — Кэтрин показала ей небольшую сумку, которую принесла с собой, и вынула оттуда свои кегли и мешочек с иголками и нитками, который сшила сама из обрезков бархата. — Господи помилуй! — воскликнула матушка Эммет. — Я слышала, что твой отец беден, но теперь сама в этом убедилась. Ну, смею надеяться, мы найдем для тебя какие-нибудь игрушки на чердаке. Остальные юные леди, которые живут здесь, намного старше тебя. — Другие юные леди? — как эхо повторила Кэтрин. Она-то представляла, что будет обитать здесь совсем одна и водить компанию с вдовствующей герцогиней. — Да, тут их довольно много. Миледи содержит великолепный двор и поддерживает многочисленных родственников и прочих иждивенцев. У замужних леди высокого ранга есть свои комнаты. Горничные спят с незамужними камеристками в соседней спальне. Юные леди прислуживают герцогине и надеются, что она найдет им хороших мужей, как случится и с тобой в один прекрасный день. Тебе очень повезло оказаться в таком хорошем месте. Несмотря на теплый прием и прекрасную спальню, Кэтрин еще не ощутила по-настоящему своего везения. Однако, проходя по галерее, она услышала смех и понадеялась, что старшие компаньонки окажутся веселыми и добрыми; они помогут ей освоиться в этом потрясающем новом мире.
В тот вечер в шесть часов матушка Эммет умыла Кэтрин лицо, расчесала волосы, прошлась щеткой по платью и отвела ее в главный зал ужинать. Там, ошеломленная огромным количеством сидящих за длинными столами на козлах и без умолку болтающих людей, девочка напрасно искала глазами вдовствующую герцогиню. — Ее милость ужинает в своей гостиной, — объяснила ей матушка Эммет. — А здесь за главным столом сидят камергер и самые важные служители двора. Я договорилась с двумя замужними леди, чтобы они присматривали за тобой. — Нянюшка подвела Кэтрин к месту за одним из боковых столов, который занимала оживленная группа женщин и девушек (все намного старше Кэтрин) и сказала: — Леди Тилни и мистресс Балмер, это мистресс Кэтрин Говард, внучка миледи по браку. Я сказала ей, что вы возьмете ее под свою опеку. Обе женщины встали и сделали быстрые реверансы. — Конечно, — сказала одна; она казалась милой: нежный голос, приятное лицо и каштановые волосы. — Добро пожаловать, мистресс Кэтрин. — Леди Тилни — супруга племянника герцогини, сэра Филипа Тилни, — пояснила матушка Эммет торопливо присевшей в реверансе Кэтрин. — У нас здесь много Тилни! — Можешь называть меня Малин, дитя, — сказала леди Тилни. — Мой муж — церемониймейстер личных покоев короля, и я приехала сюда в начале года, чтобы родить сына. Он сейчас у кормилицы в Стэнгейте. — Кэтрин, сколько тебе лет? — спросила ее пухленькая компаньонка, мистресс Балмер, когда матушка Эммет ушла и заняла свое место во главе стола, а женщины, потеснившись, чтобы освободить пространство для Кэтрин, сели. Что-то не понравилось Кэтрин в мистресс Балмер: от этой женщины неприятно пахло, и голос у нее был приглушенный, она будто все время говорила шепотом, и приходилось напрягать слух, чтобы разобрать ее речь. — Мне десять, — ответила девочка. — Мой отец — лорд Эдмунд Говард. — Женщины переглянулись, как делали многие люди, когда Кэтрин упоминала своего отца. — Король отправил его в Кале. Он очень важный человек. Другая сидевшая рядом девушка захихикала. Малин ткнула ее локтем: — Это внучка миледи, проявляйте уважение. Кэтрин, хочешь пирога с крольчатиной? Еда была не такая вкусная, как у Маргарет в Ламбете, и определенно недотягивала до стандартов тетушки Маргарет, но кушать было можно, притом не стесняясь. Хотя Кэтрин не могла впихнуть в себя много. Ей хотелось только одного — уехать домой. Но послезавтра там уже поселятся другие люди, а отец и Маргарет будут плыть на корабле в Кале. Это больше не ее дом. Вдруг Кэтрин залилась горючими слезами. Юные леди поспешили утешить бедняжку. Малин обняла ее и погладила по волосам, подбежала и матушка Эммет со словами: — У девочки был тяжелый день. Пойдем, ягненочек мой, уложим тебя в постель. Стоит тебе выспаться — и будешь как огурчик. Она подняла Кэтрин и вынесла ее из зала на глазах у изумленных придворных. Вскоре девочка уже лежала в постели, на столе была оставлена горящая свеча. Кэтрин слегка подрагивала, время от времени шмыгала носом, всхлипывала, но в конце концов уплыла в сон.
Матушка Эммет не ошиблась. Утром Кэтрин чувствовала себя немного лучше. Ее подняли рано; сперва отвели в церковь на мессу, потом — завтракать. Все были добры к ней, компания молодых девушек взяла ее с собой в сад поиграть в салочки. Большинство были старше по возрасту; Кэтрин прикинула в уме и решила, что им всем от пятнадцати до двадцати пяти лет, однако они были готовы снизойти до десятилетней девочки. — Смотри не запачкайся! — крикнула ей вслед матушка Эммет. — Герцогиня хочет видеть тебя после обеда. — Интересно, что нужно от тебя старухе Агнес, — сказала девушка по имени Дороти Бервик, когда они шли по дорожке к берегу Темзы. Кэтрин испугалась, услышав, как о ее почтенной бабушке говорят в таком пренебрежительном тоне. — Вероятно, хочет узнать, чувствует ли мистресс Кэтрин себя теперь лучше, — предположила Дотти Баскервиль, одна из камеристок, черноволосая красавица, развеселая и болтливая. — Герцогиня добра? — спросила Кэтрин. — Старуха Агнес? — вступила в разговор Кэт, одна из прелестных кузин Тилни, стройная девушка с безупречной кожей. — Некоторые считают ее упрямой и злой; по крайней мере, ее дети. Она вечно ругается с ними из-за чего-нибудь. Но до нас ей дела мало, она слишком занята своими проблемами. А мы предоставлены сами себе, что нам очень даже кстати. Матушка Эммет присматривает за нами, но она мягкая; она даже убийство помогла бы нам сбыть с рук. — Нет, не то чтобы нами пренебрегали, — поспешила добавить Дороти. — Нас кормят и содержат, каждый год на Пасху дарят новую одежду, и обязанности наши необременительны. Слава Богу, старуха Агнес не из тех, кто станет сидеть кружком со своими девушками и шить с утра до ночи. Когда-нибудь она, может быть, возьмется за дело и найдет нам мужей. А пока мы развлекаемся как можем. Девушки засмеялись. Кэтрин не поняла, что их так развеселило. Вскоре она уже носилась вместе с ними по саду, перебежками металась вдоль живых изгородей, пряталась в зеленых беседках или визжала во все горло вместе с «охотниками». Никто не пришел сказать им, чтобы не шумели, не позвал выполнять какое-нибудь задание. Кэтрин начала думать, что если жизнь в доме герцогини всегда будет такой, то ей, вероятно, здесь понравится.
Позже она стояла перед герцогиней и пыталась не думать о ней как о старухе Агнес, боясь, что это прозвище навсегда застряло в ее голове. — Ну, Кэтрин, — начала герцогиня, — надеюсь, сегодня тебе лучше. Меня опечалило, что вчера за ужином ты была так расстроена. — Да, миледи, мне теперь лучше, — ответила Кэтрин, не вполне уверенная в правдивости своих слов. Она и сейчас чувствовала себя отвергнутой и нелюбимой, к тому же побаивалась своей грозной бабки. — Рада слышать это, — сказала герцогиня, которая сидела с совершенно прямой спиной в своем великолепном кресле. — Мы найдем тебе занятие и не дадим грустить. С завтрашнего утра ты будешь каждый день проводить два часа за уроками. Я наняла гувернера, который научит тебя читать и писать, а также немного французскому, и еще учителя танцев, так что ты сможешь освоить навыки, приличествующие дочери Говардов. — (Танцы! Кэтрин воспарила духом, хотя перспектива изучать французский не слишком ее обрадовала.) — Все это повысит твои шансы составить хорошую брачную партию, что необходимо, раз у тебя нет приданого, — говорила вдовствующая герцогиня. — Но с твоим милым личиком, благородной кровью и связями это препятствие вполне преодолимо. — (Последние слова прозвучали вдохновляюще и лестно, особенно из уст такой почтенной старой леди.) — В любом случае нам не придется беспокоиться об этом в ближайшие несколько лет. Ну вот, дитя, завтра в десять утра будь в церковной молельне, да не опаздывай.
На следующее утро Кэтрин пришла туда в легком трепете, боясь, как бы уроки не оказались слишком сложными для нее. Она расстроилась, узнав, что ее наставником был назначен мастер Чембер, молодой писарь с отстраненными манерами, который совсем не умел находить общий язык с ребенком, особенно с девочкой, и не хотел этим себя утруждать. Под его бдительным оком Кэтрин монотонно трудилась, однако особенных успехов не показывала. Она кое-как выучила алфавит, но вместе буквы у нее никак не складывались. — К-О-Т, — в который уже раз повторил мастер Чембер. — Напишите «кот»! — Т-О-К, — старательно вывела Кэтрин. Получилось неаккуратно, даже на ее взгляд. Наставник раздраженно вздохнул: — На сегодня достаточно, продолжим завтра. С учителем танцев дело шло куда как лучше. Он сказал, что она обладает природной грацией, и запомнить движения паваны, бас и пассамеццо ей не составило труда. Кэтрин любила эти занятия, ей нравились мелодии, которые исполняли для нее на лютне и шалмеях[137] музыканты герцогини, и было приятно очевидное восхищение тех, кто приходил посмотреть на нее. Когда Кэтрин не занималась уроками и не присоединялась к шумным играм в саду, она грустила. Малин Тилни оставалась дружелюбной, да и Джоан Балмер тоже, хотя в ней таилась какая-то загадка: Кэтрин слышала, как одна из девушек говорила, что Джоан бросила своего мужа, чтобы служить герцогине, и никто не знает почему. Однако, хотя юные леди иногда играли с Кэтрин и спрашивали, как у нее дела, у них были свои заботы и интересы, далеко не детские. Большинство камеристок почти не обращали на нее внимания. Она часто слышала звуки веселья из-за двери, ведущей в их покой, но ее туда никогда не приглашали. Кэтрин оставалась здесь чужой, одинокой. Матушка Эммет была добра, но слишком занята своими многочисленными обязанностями: казалось, все юные леди считали ее своей служанкой и обращались с ней так, будто полагали, что она обязана бросаться к ним по первому зову. Няня не пренебрегала Кэтрин — следила, чтобы у девочки было чистое белье, поправляла ее манеры и каждый вечер в положенное время укладывала спать, но ни на что другое у нее просто не хватало времени. За трапезами камеристки обычно вели разговор поверх головы Кэтрин, однако девочка много чего услышала про Анну Болейн, которая продолжала верховодить при дворе, и король по-прежнему был без ума от нее. Обсуждалось и произошедшее летом удаление от двора королевы Екатерины; молодые дамы собирались даже делать ставки на то, что король скоро женится на Анне. Лишь некоторые смотрели на все это неодобрительно. Кэтрин понимала: ей нужно радоваться, что ее кузина станет королевой, ведь это будет триумфом Говардов, но она жалела бедную королеву Екатерину и однажды услышала о леди Анне нечто такое, что насторожило ее. Они обедали в зале, ели жареное мясо и жадно обсуждали Великое дело короля, связанное с его браком, когда Джоан Балмер упомянула, что Анна держится новой веры. Новой веры? Кэтрин понятия не имела, что это значит. Она вызубрила катехизис, ее научили произносить молитвы, ходить на мессы, исповедоваться в грехах, почитать папу римского и превыше всего любить Бога. — Что такое новая вера? — спросила Кэтрин. — Это значит, Анна — последовательница Мартина Лютера, — осуждающе проговорила Джоан Балмер, чем ничуть не прояснила ситуацию, ведь о Мартине Лютере Кэтрин никогда не слышала. — Они отрицают бо́льшую часть таинств Церкви и больше всего полагаются на проповеди. Малин пришла на выручку Кэтрин: — Таинства — это крещение, конфирмация, месса, епитимья, миропомазание болящих, рукоположение в сан и брак. Мартин Лютер отвергает их все, кроме крещения и мессы. Он также высказывался против злоупотреблений в Церкви и, несмотря на то что сам монах, взял в жены монашку. Вот почему Церковь очень недовольна им. — Так он же грешник! — вскрикнула потрясенная Кэтрин и повернулась к Джоан. — Леди Анна тоже отвергает таинства? — Мы точно не знаем, — быстро проговорила Малин, накалывая на нож еще кусок мяса. — Говорят, она горячая сторонница реформы Церкви. Кэтрин была озадачена. Церкви, в которые она ходила, и священники, которых встречала, были в полном порядке и не нуждались ни в каких переделках. — Почему? — спросила она. — Много же у тебя вопросов, — заметила Джоан. Малин проявила больше терпения: — Есть плохие священники, которые продают искупление грехов за деньги, и многие духовные лица очень богаты, хотя наш Господь был простым плотником. Некоторые люди думают, что им нужно следовать Его примеру. Это звучало разумно, и Кэтрин кивнула, немного успокоившись насчет своей кузины Анны. — Надеюсь, леди Анна станет королевой, — сказала она. Несколько пар глаз повернулись в ее сторону, причем не все смотрели дружелюбно. Кэтрин потеряла почву под ногами, она никого не хотела обидеть, и тем не менее за высказанное мнение ее безмолвно порицали! Но ведь, в конце концов, Анна — ее кузина. Кэтрин могла поспорить, никто из сидевших здесь не был с ней в таком близком родстве, как она. Оставшуюся часть трапезы никто не обращал на девочку внимания, и она, как случалось нередко, почувствовала себя такой несчастной и одинокой, что начала всхлипывать. У нее уже сложилась репутация плаксы. — Ради всего святого, мистресс Кэтрин, взбодрись! — укорила ее Дороти. — Мы все оставили семьи, чтобы приехать сюда, но разве ты видела кого-нибудь из нас в слезах или с угрюмым лицом? Мы знаем, что находимся здесь для собственного блага. — Некоторые из нас не были так юны, как Кэтрин, когда прибыли сюда, — напомнила ей Маргарет Беннет, одна из замужних камеристок герцогини. Супруг ее служил грумом в покоях миледи, и Беннеты казались счастливой парой. У Маргарет были такие светлые волосы, что на лице не было видно бровей, а потому ее точно никто не видел хмурой. По натуре она была тиха, непритязательна и добра. — Вам, леди, не стоит забывать, что девочка скучает по отцу и матери. Кэтрин, тоска по дому пройдет, поверь мне. В тот момент бедняжка чувствовала себя настолько плохо, что не могла такого представить. Она обрадовалась, когда Малин и еще одна леди, Мег Мортон, предложили научить ее игре в шахматы.
Глава 5
1533 ГОД В феврале Кэтрин исполнилось двенадцать. Она провела в Норфолк-Хаусе уже почти два года, и Маргарет Беннет оказалась права: тоска по дому исчезла. Постепенно девочка привыкла к суете и обычаям двора герцогини, и воспоминания о раннем детстве потускнели. Отец и Маргарет до сих пор находились в Кале, а вот Чарльз, Генри и Джордж иногда навещали сестрицу. По Изабель Кэтрин теперь тоже не так сильно скучала. Ее сводная сестра жила в Уилтшире, погруженная в заботы о своих приемных детях. Она продолжала писать Кэтрин и интересоваться ее судьбой, но все же казалось, Изабель принадлежит какому-то другому миру. Со временем Кэтрин начала нравиться ее новая жизнь здесь. Молодые дамы потеплели к ней, а у служивших бабушке мужчин, которые управляли двором и обычно проявляли суровую холодность в отношении к обретавшимся при нем юным леди, Кэтрин вообще стала любимицей; даже старый сварливый привратник относился к ней с симпатией. Джентльмены и грумы из покоев вдовствующей герцогини обожали ее внучку, так же как родственники и прочие домочадцы, которые, как и сама Кэтрин, зависели от старой леди, дававшей им стол и кров, и уповали на ее помощь и содействие. Время от времени герцогиня вызывала Кэтрин к себе и спрашивала, как у нее идут дела, не забывает ли она молиться и усердно ли занимается на уроках. Ответ на последний вопрос, естественно, был «нет», но Кэтрин всегда честно говорила, что у нее все хорошо получается на танцах и она старается изо всех сил на чтении и французском. Получив такой отчет, бабушка как будто забывала о ней до следующего раза. Хотя в день рождения внучки герцогиня послала за ней. — У меня для тебя есть подарок, — сказала она, сидя с прямой спиной в своем высоком кресле и протягивая Кэтрин небольшой бархатный кошелек, внутри которого лежало маленькое золотое распятие на цепочке. — Когда будешь носить его, думай о страданиях нашего Господа, — наставительно проговорила бабушка. — Мне сказали, ты своенравна, легкомысленна, любишь удовольствия и недостаточно благочестива. Кэтрин побледнела. Разве это плохо, если у нее обычно хорошее настроение, она любит посмеяться с другими девушками и неравнодушна к красивым платьям? Что с того, что она неохотно выполняет задания, которые ей не по вкусу? Ну не любит она подшивать подолы, ставить заплатки и помогать на винокурне, то есть заниматься тем, что матушка Эммет считает подходящими делами для юной леди! И неужели Господь в самом деле сильно огорчается, если ее нет в церкви в положенное время? — За этим нужно последить, — продолжила герцогиня. — Мы не можем в этой жизни заниматься только тем, что нам нравится. Ты должна исправиться. — Да, миледи, — пробормотала Кэтрин; щеки у нее покраснели от стыда. — Но у тебя доброе сердце, — добавила старая леди и улыбнулась. — Это важнее, чем многие другие вещи. Позже тем же утром Кэтрин невероятно ободрилась, когда в ее комнату влетела Дороти Бервик. — Мистресс Кэтрин, мы говорили о тебе и решили, что ты теперь вошла в брачный возраст и достаточно повзрослела, а значит, можешь присоединиться к нам в покое камеристок, если желаешь. Вообще-то, мы считаем, что ты становишься очень миловидной и будешь привлекать много поклонников. От такой неожиданной похвалы Кэтрин залилась краской. Она знала, не заносясь в самомнении, что хороша собой: зеркало говорило ей об этом каждый день. У нее был говардовский нос, но лицо округлое и приятное, голубые глаза с тяжелыми веками, пухлые розовые губы, а волосы струились по спине переливчатой темно-рыжей накидкой. И она взрослела, это правда. Под зашнурованным бархатным лифом проступали выпуклости грудей, и два месяца назад у нее появилось то, что матушка Эммет называла «красным цветом»: кровянистые выделения, которые будут появляться каждый месяц, пока она не выйдет из детородного возраста. Кэтрин старательно отрабатывала танцевальные движения и училась держать осанку; она теперь выглядела представительной, как взрослая женщина. Вот только бы ей еще немного подрасти! Девушка затрепетала от восторга при мысли, что будет допущена в общую спальню камеристок, поскольку давно уже мечтала присоединиться к их шаловливой компании и участвовать в общем веселье, звуки которого часто слышала из-за закрытой двери. Обрадовали ее и слова матушки Эммет, что она может пользоваться отдельной комнатой и уединяться в ней, когда ей этого захочется; такая привилегия была доступна только дочери Говардов. Но сегодня она останется на ночь в общей спальне и разделит веселье с другими камеристками! Прихватив с собой ночную рубашку и халат, Кэтрин, взбудораженная радостными ожиданиями, торопливо засеменила вслед за Дороти по галерее. Она вошла в продолговатую комнату с высоким потолком на деревянных балках, побеленными стенами и ажурными решетками на окнах. Тут стоял десяток больших кроватей под балдахинами с подвязанными к стойкам занавесками, а посередине помещался длинный стол на ко́злах. Некоторые кровати были неопрятно завалены одеждой, а другие оставались не застланными. В комнате находилась всего одна молодая женщина: одетая в тонкую сорочку, она копалась в сундуке. — Поторопись, Марджери, ты опоздаешь на обед, — поддразнила ее Дороти. Кэтрин сморщила нос. Воздух в спальне был затхлый, тут разило по́том, немытыми ногами и неопорожненными ночными горшками. — Я знаю, тут дурно пахнет. — Дороти вздохнула. — Горничные, как обычно, припозднились. Они должны поддерживать в комнате порядок и проветривать ее. Не беспокойся, они все сделают чуть позже и приготовят для тебя постель. Я открою окно. Тебе, может быть, придется спать с кем-нибудь, — продолжила она, указывая на кровать в углу. — Это зависит от того, кто где ляжет. Мы часто спим вместе. Нас тут больше, чем кроватей. Марджери взглянула на нее и засмеялась.В тот вечер матушка Эммет, как обычно, заперла на ночь девичью спальню, и камеристки оказали Кэтрин весьма теплый прием. Их было человек четырнадцать, все родственницы или иждивенки герцогини; одни надеялись найти себе супругов, другие просто радовались возможности жить под крышей благородного дома. Замужние дамы вдовствующей герцогини, вроде Малин Тилни, делили спальные комнаты со своими благоверными, но Маргарет Беннет предпочитала ночевать в общей спальне девушек, так как здесь было удобнее, чем в каморке, где, как она выражалась, дрых ее мужик. Кэтрин уже приятельствовала с некоторыми камеристками и замечала, что они слегка благоговеют перед ней из-за ее близкого родства с герцогиней; для них она всегда оставалась мистресс Кэтрин, хотя друг к другу они обращались просто по именам. Болтовня и смех не умолкали допоздна; в такое время Кэтрин обычно уже давно лежала в постели. Никто не говорил ей, что пора укладываться, и она сидела за столом вместе со всеми. Удивительно, но ближе к полуночи некоторые девушки встали и принялись заменять огарки свечей в подсвечниках, а маленькая круглолицая Элис Уилкс открыла буфет и извлекла оттуда тарелку, накрытую салфеткой, под которой обнаружился кусок ветчины. — Стянула с кухни! — объявила она, и все захихикали. Кто-то расстелил скатерть, пока остальные доставали из буфета тарелки, ножи, стаканы, высокий пирог с начинкой и миску с фруктами. Потом Дороти поставила на стол кувшин вина, и пир начался. — Налетайте, леди! — воскликнула Элис. — Вы тоже, мистресс Кэтрин. Все стали наполнять свои тарелки. Угощение было очень вкусное; запретный плод, как известно, особенно сладок. Но это был не единственный сюрприз для Кэтрин. — У кого ключ? — спросила Мег Мортон. — Вот! — триумфально провозгласила Элис, поднимая его вверх, надетый головкой на палец. — Старуха Агнес велит приносить ключ от нашей спальни на ночь в свои покои, но у нее в уборной на крючке висит запасной, и тем из нас, кто помогает ей укладываться спать, легко позаимствовать его. Мы всегда возвращаем ключ на место, пока не наступит утро, и старуха ни разу не заметила, что он исчезал на время. Она храпит как бык! Кэтрин не смогла удержаться от смеха: — Но зачем вы хотите покинуть спальню? — Мы не собираемся никуда уходить, — хмыкнув, сказала Кэт Тилни. — У нас будут гости! — Они уже здесь! — выпалила Дороти, заслышав тихий стук в дверь. Кэтрин в изумлении взирала на то, как в комнату вошла группа молодых мужчин. Она знала их всех: шутник мистер Уолдгрейв, коротышка весельчак мистер Дэмпорт, мистер Эшби, мистер Фейвер, а также муж Маргарет, мистер Беннет; все они служили на разных должностях в покоях герцогини. Последним появился мистер Монсей, красивый дюжий церемониймейстер. — Они пришли к нам пировать, — объяснила Мэри Ласселлс. Из всех женщин в спальне она нравилась Кэтрин меньше всех. Раньше Мэри нянчилась с внучкой герцогини, одной из дочерей лорда Уильяма, но та подросла, и бывшей воспитательнице нашли место при дворе старухи Агнес. — Мистресс Кэтрин! — улыбнулся Дэмпорт. — Как приятно видеть вас здесь. Вы теперь настоящая юная леди. Не хотите ли яблоко? — И он изящным жестом протянул ей плод. — Спасибо, сэр! — отозвалась Кэтрин и сделала быстрый реверанс, подхватывая общее игривое настроение. Скоро все уже сидели на кроватях, ели, пили и смеялись; разговоры то и дело прерывались чьим-нибудь шиканьем: — Ш-ш-ш! Нас услышат! Подмигнув Кэтрин, мистер Уолдгрейв вынул еще одну бутыль вина. Выпивка быстро ударила в голову Кэтрин. Встав, чтобы отрезать себе еще кусок ветчины, она почувствовала, как мир у нее под ногами закачался. Дороти со смехом помогла Кэтрин добраться до постели, на которую она повалилась, не раздеваясь, и закрыла глаза. — Пусть сегодня поспит одна, — услышала Кэтрин слова Дороти. — Это ненадолго, — хохотнув, произнес кто-то другой. Кэтрин слышала звуки какой-то возни и приглушенное хихиканье, а позже, когда пришла в себя и открыла глаза, смутно различила в лившемся из окна лунном свете фигуры людей, лежавших в обнимку на некоторых кроватях: они даже не позаботились задернуть занавески. Некоторые вздыхали или стонали, как от боли; другие сдавленно смеялись. В теории Кэтрин уже знала, что такое «зверь о двух спинах», но не сразу соединила это свое знание с тем, что происходило в спальне. Кто-то из мужчин встал и совершенно спокойно прошел мимо нее в уборную в чем мать родила, и тут у Кэтрин в голове все сошлось. Она отвернулась к стене и лежала не шевелясь, щеки у нее пылали, сердце бешено колотилось. Как они могут заниматься такими постыдными вещами? Матушка Эммет и герцогиня наверняка понятия не имели, что тут творится, иначе быстро положили бы этому конец. Невозможно было представить, что Малин Тилни тоже известно о ночных проделках камеристок. Но — Кэтрин обшаривала взглядом залитую лунным светом комнату — Дороти, Кэт, Элис, Мег, Джоан и Дотти… Они все занимались этим, не обращая внимания ни друг на друга, ни на Кэтрин. И Маргарет тоже, судя по звукам, доносившимся из-за занавесок ее постели. Только Мэри лежала одна, не задвинув штор. Но что делали остальные, легшие в постели и задернувшие шторы? У них что, нет ушей? Неужели не слышат, что происходит? Это просто невероятно! Кэтрин сказала себе, что девушки просто веселятся, и то, чем они занимаются, никому не вредит. Она будет лежать тихо и помалкивать. Этот вечер стал самым важным в ее жизни: Кэтрин чувствовала себя принятой в общество старших. Зачем портить его? Матушка Эммет не раз говорила ей, что благородные юные леди не компрометируют свою добродетель, если надеются удачно выйти замуж. Пусть другие пренебрегают заветами этой почтенной дамы, она, Кэтрин, не станет участвовать в постельных шалостях, но с удовольствием разделит общее веселье. Кто она такая, чтобы выдавать своих подруг? И к чему ей терять только что обретенный рай?
— Ты видела нас, — играя ямочками на щеках, сказала ей утром Дороти. — Надеюсь, мы можем рассчитывать на твое умение хранить тайны. — Конечно, — заверила ее Кэтрин. — Я прекрасно провела время. У вас часто бывают такие пирушки? — Так часто, как только удается их устроить, — с улыбкой ответила Элис. — По крайней мере раз или два в неделю, если исхитримся натаскать с кухни еды и напитков. Там не очень-то за этим следят. И ничего не замечают. Мы даем друг другу знать, когда готовы. Юные джентльмены охотно приходят к нам при первой же возможности. Но это должно оставаться в секрете. — Я никому не скажу, — пообещала Кэтрин. — Хорошая девочка. — Элис засияла улыбкой. — Однажды и у тебя появятся обожатели. После этого Кэтрин бо́льшую часть ночей проводила в общей спальне, охотно участвовала в пирушках и всяческих забавах, но всегда ложилась в постель до того, как ее товарки приступали к менее невинным развлечениям. Иногда она не могла удержаться и подсматривала за ними, потому что производимые парочками звуки не давали ей уснуть, да и вообще было любопытно. Вскоре для нее не осталось никаких секретов в том, что касается любовных утех. Она видела все в подробностях.
Однажды солнечным апрельским днем, когда все деревья уже стояли в цвету, камергер герцогини собрал всех придворных в холле и объявил, что леди Анну Болейн провозгласили королевой. Раздались аплодисменты, омрачились лишь немногие лица, ведь о близком родстве герцогини с леди Анной всем было хорошо известно. Как только их распустили, камеристки принялись возбужденно обсуждать новость. Нахальная Мег Мортон бросила завистливый взгляд на Кэтрин: — Могу поспорить, ты скоро станешь фрейлиной! — Правда? Такая мысль не приходила Кэтрин в голову, хотя она знала, что Говардов ждут милости, если Анна станет королевой. Но едва ли это коснется отца. В редких приходивших от него письмах, которые кто-нибудь читал Кэтрин по ее просьбе, лорд Эдмунд жаловался, что так и не выбился из долгов. Он обращался к мастеру Кромвелю, чтобы тот попросил короля о помощи, но король отказал. «Я не в состоянии отплатить мастеру Кромвелю за его доброту, — писал отец. — Хотя у меня много родни, мало кто относится ко мне по-дружески, и я столько невзгод претерпел от этого мира, что хорошо понимаю, какое великое сокровище — настоящая дружба». К стыду Кэтрин, о финансовой несостоятельности ее отца в Ламбете прекрасно знали. Ей не хотелось вызывать в людях жалость из-за того, что у нее такой никудышный родитель.
Когда Кэтрин узнала о выпавшей герцогине чести нести шлейф королевы Анны во время коронации, то размечталась, что и ее тоже пригласят участвовать в церемонии, однако мистер Уолдгрейв объяснил: прислуживать королеве дозволяется только дамам из ближайшего окружения и женам пэров. Во время последней встречи герцогиня тоже высказывала надежду, что Кэтрин позовут ко двору королевы Анны. Сама Кэтрин молилась, чтобы бабушка выхлопотала ей место там, но время шло, и вскоре молва донесла, что слуг для королевы уже отобрали. Смягчило горечь неоправдавшихся надежд лишь известие о великолепном параде лодок, который устроят на Темзе, когда Анна будет переправляться вверх по реке из Гринвича в Тауэр, перед тем как состоится ее торжественный въезд в Лондон накануне коронации. Кэтрин поедет смотреть на это с компанией молодых леди и камеристок. В тот день ослепительно сияло солнце; был конец мая. Сидя на самой смирной кобыле, какую только смогли отыскать на конюшне, Кэтрин ехала между Малин и Дороти через Саутуарк, мимо Лондонского моста в Бермондси. В сопровождении своих друзей — придворных джентльменов — девушки влились в толпу людей, собравшихся на берегу Темзы напротив Тауэра. Им удалось пробраться к самой кромке воды, и Кэтрин как самую маленькую ростом выдвинули вперед, чтобы она видела все. Берег был сырой, и очень быстро добротные кожаные туфли Кэтрин промокли, но девушка была слишком взволнована, чтобы переживать из-за такой мелочи. Ждать пришлось целую вечность. Никто точно не знал, к какому времени королева должна прибыть в Тауэр. Между плотно стоявшими людьми с трудом проталкивались уличные торговцы. Мистер Уолдгрейв и мистер Дэмпорт купили для всей компании горячих булок и эля, так как было ясно, что ужин они пропустят. Наконец, часам к пяти вечера, на реке появилась вереница разных судов. Что это было за зрелище! Множество пестро украшенных барок, почти на всех сидели менестрели и играли прекрасную музыку; и лодки с живыми картинами — ужасными чудовищами и каким-то безумным человеком, изрыгавшим изо рта огонь. Увидев его, Кэтрин и еще несколько юных леди завизжали. Но вот показалась барка королевы: она торжественно шла по Темзе, украшенная парчой и геральдическими знаменами. Промелькнула мимо и сама Анна — темноволосая красавица в сверкавшем на солнце платье. Когда судно приблизилось к Тауэру, затрубили фанфары и раздался оглушительный пушечный залп. Кэтрин сумела углядеть, как королева сошла на пристань; там ее встретил какой-то важный джентльмен, после чего она сразу скрылась в крепости. Толпа рассеялась. Кэтрин и ее приятели охрипли от приветственных криков, однако от нее не укрылось, что многие люди стояли молча и как будто не одобряли происходящее. Это стало единственным темным пятном на вечере, в остальном безупречном, а в довершение всего, когда они вернулись в Ламбет, то обнаружили, что их ждет устроенный по такому случаю банкет. Кэтрин проглотила кучу разных сластей и конфет, а мистер Дэмпорт принес ей кубок вина. Спать она легла в своей комнате с кружащейся от выпивки и пережитых впечатлений головой. Через три дня Кэтрин находилась среди толпы, собравшейся в холле провожать герцогиню на коронацию. Бабушка явилась во всем великолепии — с золотым венцом на голове и в отороченной горностаем алой бархатной мантии; прошла мимо придворных в сопровождении полчища слуг и множества лордов и леди, прибывших в Ламбет и разместившихся в доме. Кэтрин, вставая на цыпочки и вытягивая шею за спинами людей, успела разглядеть, как герцогиня залезла в золоченую карету и уехала. Вернулась она поздно вечером, после коронационного банкета, уселась на трон в главном зале и рассказала жадно внимавшим каждому ее слову придворным, как королева проследовала в Вестминстерское аббатство в роскошном наряде, с распущенными волосами, которые ниспадали ей на плечи и спину из-под дорогого венца и сеточки, унизанной жемчугом и драгоценными камнями. Шлейф ее платья был такой длинный, что герцогиня не могла нести его одна, поэтому сэр Эдвард Бейнтон, муж Изабель, новый камергер двора Анны, поддерживал его посредине. Кэтрин пришла в восторг, узнав о продвижении по службе сэра Эдварда; она обрадовалась за Изабель. Ее сводная сестра теперь, видно, стала очень знатной дамой! Герцогиня поведала им, как следом за королевой Анной шествовала огромная процессия из лордов и леди, одетых в алые накидки. Как королева села на роскошный трон, установленный на высоком помосте перед главным алтарем, и архиепископ Кранмер возложил ей на голову корону Святого Эдуарда, дал в правую руку золотой скипетр, а в левую — жезл из слоновой кости с навершием в виде голубя. — Кое-кто из вас наверняка понимает смысл всего этого, — сказала миледи. — А для тех, кто не понимает, объясню: использование короны Святого Эдуарда означает, что леди Анна коронована как правящая королева, а не просто как консорт — супруга короля. Это высочайшая честь для представительницы рода Говардов и подтверждение того, как сильно любит и почитает король свою королеву. — Пусть с Божьей помощью она родит ему сына, — тихо проговорил за спиной у Кэтрин какой-то мужчина. — Вполне очевидно, почему ему пришлось жениться на ней, — буркнула в ответ некая дама. — Подумать только, явилась на коронацию с пузом и распущенными, как у девы, волосами! Кэтрин повернулась и хмуро глянула на Долли Доуби, камеристку, вечно ходившую с кислым лицом, и мистера Данна, хранителя винного погреба. — Молите Господа, чтобы родился принц! — с укоризной в голосе сказала она. Какой восторг, если на троне окажется король — Говард по крови! При дворе герцогини уже делали ставки на пол еще не рожденного ребенка, и молодые леди припрятывали вино, чтобы отпраздновать рождение наследника. Это будет принц, должен быть!
Родилась девочка. Все, казалось, повесили носы от разочарования, когда в сентябре пришла эта новость. Кэтрин легко могла представить, как раздосадован король. Каждый мужчина хочет иметь сына, а у повелителя Англии такового нет. — Его величеству обязательно нужен наследник, — сказал мистер Уолдгрейв во время следующего полуночного бдения в спальне камеристок. — Есть так много претендентов на трон, что в случае смерти его величества может вспыхнуть гражданская война. — Ш-ш-ш! — прошипела Дороти. — Нельзя говорить о смерти короля! — Никто не донесет на меня, — возразил Уолдгрейв и, усмехаясь, оглядел комнату. — А принцесса не может наследовать трон? — спросила Кэтрин. — Нет, она девушка. Это неестественно, если женщина станет управлять мужчинами, — сказал Роберт Дэмпорт и пригнул голову, потому что Элис Уилкс вознамерилась надрать ему уши. — Женщины ничуть не менее способны править, чем мужчины! — прошипела она. — Хотел бы я посмотреть, как вы поведете в бой армию, — насмешливо бросил Роберт. — А про Жанну д'Арк вы не слышали? — скривив губы, парировала Элис. — Если бы королева родила сына, мы бы сейчас пировали, — вздохнув, произнесла Кэт Тилни. — А кому нужен повод? — спросил мистер Эшби. — Роберт, несите вино. Утопим в нем свою печаль.
Единственным утешением стало то, что герцогиню пригласили быть крестной матерью принцессы. Запланированные турниры отменили. Тем не менее по приказу короля в церквах пропели «Te Deum», в том числе в капелле Ламбета, в благодарность за успешное разрешение королевы от бремени, и крещение младенца было проведено с большой пышностью. Вернувшись домой после совершения обряда, герцогиня сказала собравшимся слугам, что лично несла принцессу Елизавету на руках в церковь монастыря францисканцев в Гринвиче. — Ее завернули в пурпурную мантию с длинным шлейфом, подбитую мехом горностая, и над нами несли балдахин, впереди шли герольды, а по бокам от меня — милорды Норфолк и Саффолк. Девочка прекрасная, очень спокойная, хотя такая кроха, с рыжими волосиками, как у его величества, и отличными легкими, когда ей вздумается продемонстрировать, на что она способна. Разумеется, малышка орала во весь голос, когда архиепископ опустил ее в купель. После этого я видела короля. Он умело скрывает разочарование. Говорит, в следующий раз точно будет сын. Можно только восхищаться его выдержкой. Он ждет сына с момента женитьбы на леди Екатерине, а случилось это в тысяча пятьсот девятом году. Мы все должны надеться, что королева Анна скоро снова затяжелеет.
Глава 6
1536 ГОД Все попытки герцогини получить для Кэтрин место фрейлины при королеве или принцессе закончились неудачей. Кэтрин не сомневалась: это оттого, что король недоволен ее отцом. Письма лорда Эдмунда были полны жалоб. В этом году он не получил от короля новогоднего подарка; его милость прислал в Кале инспекторов для проверки, не ведется ли там контрабандный вывоз товаров, а за это как раз отвечал отец. Очевидно, лорд Эдмунд проявлял нерадивость на службе. Он беспрерывно был вовлечен то в один мелкий судебный процесс, то в другой и никак не мог расплатиться с долгами. Когда навестить Кэтрин пришли братья, они сказали ей, что отец снова искал помощи мастера Кромвеля, надеясь как-нибудь вернуть себе доверие короля. — Кажется, он считает, что господин секретарь решит все его проблемы одним махом, — сказал Чарльз. Остальные невесело усмехнулись. Кэтрин задумалась: как справляется со всем этим ее мачеха и как поступила бы в такой ситуации Изабель? Она вздохнула. Похоже, отец никогда не погасит долги, он способен только наживать все новые и новые проблемы. Но потом случилось нечто такое, отчего все эти огорчения показались совершенно ничего не значащими.Однажды ранним вечером в мае молодые леди и джентльмены угощались холодными закусками за столом, установленным в саду под тенистым деревом. Они находились в достаточном уединении, далеко от окон герцогини, а также от пытливых взоров и настороженных ушей посторонних. Кэтрин заметила, что в саду почти никого. На столе стояли курица и салат. Роберт Дэмпорт, который теперь стал для нее просто Робертом, наполнял для Кэтрин кубок вином, как вдруг они услышали отдаленный грохот на реке. — Что это? — удивилась Кэт Тилни. — Похоже на выстрел пушки, — сказал Эдвард Уолдгрейв. — На нас напали враги? — в напускной тревоге спросила Мег Мортон. — Нет, — откликнулся Уильям Эшби, молодой человек, которому нравилось скрывать свою серьезность за маскойпаяца. — Это был какой-то взрыв. — Думаю, это в Тауэре, — предположил Эдвард; он был сведущ в военных делах. — Там всегда стреляют из пушек, когда случается что-то важное, например приезжает король. Они продолжили трапезу, безмятежно болтая о том о сем, и некоторые молодые люди украдкой срывали поцелуи у своих не сильно упиравшихся зазнобушек. Кэтрин задумчиво наблюдала за ними, странно взволнованная. Она была счастлива, да, но неспокойна. Своему решению не ублажать по ночам джентльменов в общей спальне она не изменила, но сознание того, что творится вокруг нее в темноте, и случайно увиденные сексуальные сцены всегда будоражили ее, и она начинала чувствовать себя лишней, оставшейся не у дел. Кэтрин было пятнадцать, а герцогиня до сих пор не устроила ей брак — и никому вообще, если уж на то пошло. Учитель бросил попытки преподавать ей французский и заявил, что не рассчитывает добиться от нее больших успехов в грамоте, что было довольно несправедливо, ведь она могла читать, хотя и с большим трудом, и кое-как писала. Уроки танцев Кэтрин продолжала охотно посещать, а также упорно отрабатывала умение держать осанку. Она обрела грацию, на нее было приятно смотреть, Кэтрин знала это. Была весна, мир расцветал, и внутри у нее все пело. Какой вред может принести легкий флирт? Несколько поцелуев и невинных ласк? Уже два года приятельницы-камеристки совокуплялись у нее на глазах со своими ухажерами; и ни одной не пришлось пострадать из-за этого; любовные утехи скрашивали их монотонное существование. Ей что же, всегда оставаться в стороне? С завистью наблюдать за романами и любовными играми, происходящими вокруг нее? Разумеется, она не хотела рисковать, что покроет себя позором, если вдруг забеременеет вне брака, но прекрасно видела: никто из юных леди не забеременел, что некоторое время озадачивало ее. Кэтрин хотела кого-нибудь спросить, но у нее не хватало смелости. Однако сейчас, сидя рядом с отзывчивой Дороти, она набралась храбрости и, понизив голос, поинтересовалась: — Дороти, а как так получается, что никто из камеристок не беременеет? Та вспыхнула и опасливо огляделась, будто проверяла, нет ли в пределах слышимости чужаков. — Некоторые из нас не идут до конца. Некоторые идут, но есть способы предотвратить зачатие. Я не знаю точно какие, потому что делать так запрещает Церковь. Ты лучше спроси кого-нибудь другого. Джоан должна знать, хотя ты, вероятно, не получишь прямого ответа. — Что такое? — спросила через стол Джоан Балмер. — Я, кажется, слышала свое имя? — Мистресс Кэтрин хочет знать, как так получается, что никто из вас не беременеет. — Думаю, ее бабушке не хотелось бы, чтобы внучка получила ответ на этот вопрос. — Джоан сильно покраснела. — И я ей ничего не скажу. В разговор вмешалась Элис: — Думаю, женщина имеет право знать. Мистресс Кэтрин, для этого есть несколько способов. Самый простой — когда мужчина отстраняется прежде, чем изольет свое семя, однако не все они хотят так делать или просто не могут. Прием масел мяты, руты, можжевельника и сока жимолости может помочь, а то попробуйте вставить в ваше медовое место перец, или смоченную в уксусе шерсть, или кое-какие травки. Или же мужчина зачехляет свое орудие в венерину перчатку из кожи ягненка или овечьих кишок. Таким образом вы можете получать свое удовольствие, не беспокоясь, что зачнете бастарда. — И никто ничего не узнает, — заметила Кэтрин. — Мистресс Кэтрин, даже не думайте об этом, — наставительно сказала Маргарет Беннет. — Герцогиня ужаснется. Вы более благородных кровей, чем любая из нас, и вам нельзя рисковать, что вас застанут за прелюбодейством. — Но герцогиня никогда не суется в наши дела, — сказала Кэтрин. — И я не собираюсь ни с кем ложиться в постель. Мне просто любопытно.
Когда они отнесли тарелки и кубки на кухню, то никого там не застали, что было странно. — Все в главном зале, — сказал вошедший через заднюю дверь привратник. — Есть новости о королеве. — Проклятье! — выругался Эдвард. — Мы не слышали, чтобы нас звали. — В сад никогда не приходят созывать людей, не забывайте, — сказала Джоан. Кэтрин и ее компаньоны заторопились в зал, где сидела на троне герцогиня, очень бледная и одетая в черное. Она как раз закончила разговор с придворными, сказав: — Мы должны подождать дальнейших известий. А теперь можете идти. Кэтрин схватила за рукав Малин: — Что случилось? — Королеву арестовали и поместили в Тауэр. — О нет! За что? — Кэтрин пришла в ужас; ей стало понятно, почему стреляли пушки. — Никто точно не знает, но вместе с ней арестованы и несколько джентльменов. Герцог лично взял королеву под стражу. — Господи Иисусе, что с ней будет?! — Не представляю, — буркнула Малин. Кэтрин протиснулась сквозь толпу придворных к своей бабушке, которая вставала, чтобы уйти: — Миледи! Что сделала королева? Герцогиня села, наклонилась и прошептала на ухо Кэтрин: — Герцог сообщил мне, что ее обвиняют в супружеской измене и заговоре с целью убить короля. Никому не говори. Новость была шокирующая. — Что с ней сделают? Герцогиня сглотнула. В тот момент старуха выглядела на все свои шестьдесят лет. — Она совершила худшее из предательств, потому что прелюбодеяние ставит под сомнение законность наследников престола. Представлять себе в мыслях смерть короля — это уже считается изменой, а тут речь идет о заговоре с целью убийства. Ее казнят. — Кошмар! — Кэтрин никак не могла свыкнуться с этой мыслью. Любовь короля и королевы была всем известна; неужели она могла изменить своему супругу? Невероятно! — Она не виновна! — Герцог считает, что виновна, но ему иначе нельзя. Он человек короля и всегда будет ставить долг перед его милостью выше интересов семьи, к тому же они с королевой все время ссорились, так что об утрате им любви к ней говорить не приходится. Сказать по правде, я сама не знаю, есть ли на ней вина. Если да, значит она невероятно глупа. — Вы можете чем-то помочь ей? — Помилуй, дитя, я просто бедная вдова. Мое слово ничего не значит при дворе. А теперь иди. У меня ужасно разболелась голова. Мне нужно лечь.
Прошло три недели. Новости в Ламбет приходили от случая к случаю. Пятерых мужчин, обвиненных в прелюбодеянии с королевой, судили в Вестминстер-Холле и приговорили к смерти. Об участи королевы Кэтрин рассказал Чарльз, пришедший повидаться с сестрой: Анну тоже подвергли суду и решили казнить. — Ее брак с королем расторгнут, — сообщил брат. Вид он при этом имел весьма удрученный, что вполне соответствовало настроению Кэтрин. Она легко могла представить, какая мрачная атмосфера царит при дворе герцога. В тот же день несколько молодых людей из числа придворных отправились на Тауэрский холм и стали свидетелями того, как обезглавили любовников королевы. — Одним был ее брат, — с отвращением проговорил Джон Беннет. — Они получили по заслугам, — пробормотал Эдвард Уолдгрейв и перекрестился. — Смотреть на это было тяжко. — Его явно тошнило. Кэтрин не могла представить, каково это, когда тебе отрубают голову. Она гнала от себя всякую мысль об этом, настолько велик был ее ужас. И вот через день или два ее собственной кузине, королеве Англии предстояло принять такую страшную смерть. Отделаться от этих дум не удавалось, и Кэтрин целый час провела в молельне, упрашивая Господа, чтобы Тот подвиг короля смягчиться или, если это невозможно, придал Анне силы духа и стойкости, чтобы достойно встретить свой конец.
Через два дня, в девять утра Кэтрин сидела в общей спальне и чинила сорочку. Компанию ей составляла одна только горничная Иззи. Вдруг снова ударила пушка. Девушки замерли и испуганно переглянулись. — Королева… — прошептала Кэтрин. Сорочка выпала у нее из рук и скользнула на пол; из глаз потекли слезы. Кэтрин горевала не только о королеве Анне, принявшей смерть, но и о Говардах, утративших высокое положение при дворе и в миру, запятнанных преступлениями одной из своих дочерей. Столько времени Кэтрин радовалась вместе с родными, что на троне королева из рода Говардов, а теперь на смену этой радости пришли стыд и ужас. Герцогиня распорядилась, чтобы никто не надевал траура. Имя Анны Болейн впредь запрещалось произносить. Ее портрет сняли со стены и сожгли на заднем дворе. Об этой женщине следовало забыть, будто ее и на свете не существовало.
В начале июня герцогиня опять созвала своих придворных. — Король взял себе новую жену, — объявила она. Послышалось изумленное аханье. — А его предыдущая и трех недель не пролежала в могиле, — буркнула Дороти. — На Пятидесятницу мистресс Джейн Сеймур была объявлена королевой в Гринвиче, — продолжила герцогиня. «Джейн какая?» — недоумевала Кэтрин. Она никогда не слышала такой фамилии — Сеймур. — Это одна из фрейлин покойной королевы, полагаю, — сказал стоявший рядом с ней мужчина с каштановыми волосами. Кэтрин его до сих пор не замечала. — Выводы делайте сами, — пробормотал он. Кэтрин посмотрела на него внимательнее. Ему было лет тридцать, глаза зеленые, по-настоящему зеленые, что удивило ее — как необычно! — и манящие. И еще она приметила пухлые губы. — Я поняла ваш намек, — сказала Кэтрин и отвернулась, чувствуя на себе его взгляд. Когда герцогиня отпустила придворных, Кэтрин пошла погулять в сад. Ей никак было не свыкнуться с мыслью, что король женился так скоро, и, конечно, было интересно, какая она — новая королева. Заступится ли она за Говардов? Или будет считать их врагами? Возможно ли, что мистресс Сеймур приложила руку к падению прежней королевы? Пронзительные зеленые глаза продолжали вторгаться в ее мысли. Кэтрин понятия не имела, кто этот мужчина, но он взбудоражил ее фантазию и лишил покоя. Весь день она то и дело возвращалась мыслями к нему, пока не настало время отпереть дверь общей спальни и туда не вошли юные джентльмены. Эдвард Уолдгрейв кое-что знал о Джейн Сеймур. Когда девушки начали ядовито обсуждать ее, он сказал, что несколько недель назад слышал балладу о ней, которую распевали в таверне. — Слова были не слишком лестные для нее, — заключил он. — У меня есть один хороший знакомый при дворе, так вот он утверждает, что она крепка в старой вере и дружит с леди Марией, — сказал Уильям Эшби. — И еще добавил, что она худая как жердь и кожа у нее белее полотна. — Как это рыцарственно с его стороны! — едко заметила Маргарет Беннет. — Нет сомнений, за места при ее дворе шла серьезная борьба, — сказала Дороти. — Ну, я Говард и не стану испытывать судьбу. — Кэтрин скривилась. — Мне, вероятно, суждено остаться здесь навечно и никогда не получить ни места при дворе, ни мужа. — Я женюсь на вас! — воскликнул Роберт и картинно припал на одно колено. — Прекратите дурачиться, — упрекнула его Элис. — У вас нет ни пенни за душой. Говарды на вас даже не взглянут. — А я взгляну, — возразила ей Кэтрин и подмигнула Роберту, — если бабушка позволит. Ну да ладно, не дадите ли вы мне еще одну конфету?
На следующий день герцогиня вызвала Кэтрин в свою гостиную. Вместе с ней там находились зеленоглазый мужчина и еще один, постарше возрастом и с седыми волосами. — Кэтрин, это мистер Мэнокс. — (Зеленоглазый поклонился.) — А это мистер Барнс, — сказала герцогиня, и Барнс сдержанно улыбнулся. — Я назначила их учить тебя музыке и пению, эти навыки повысят твои шансы в будущем занять место при дворе. Кэтрин затрепетала при мысли, что мужчина, о котором она так много фантазировала, станет ее учителем. У нее никогда не было своего музыкального инструмента, хотя она иногда пыталась играть на принадлежавших другим камеристкам, и петь она тоже любила. Ей будет приятно учиться музыке у мистера Мэнокса. А вот насчет сдержанного мистера Барнса Кэтрин сомневалась. Первый урок состоялся на следующий день после обеда. Мистер Мэнокс поставил вёрджинел на стол у открытого окна в маленькой гостиной, и Кэтрин целый час знакомилась с клавишами, тайком поглядывая на учителя и думая, какой же он красавец. По окончании урока мистер Мэнокс ушел, а вместо него явился мистер Барнс, который принялся учить ее, как правильно дышать, чтобы во время пения голос шел из глубины горла. — Вы все сделали хорошо, — сказал он в своей обычной бесстрастной манере, после чего кивнул и попрощался. Кэтрин поймала себя на том, что ей нравятся новые занятия. Под руководством мистера Барнса она вскоре запела как соловей, по крайней мере, так он говорил, делая ей комплименты. Учитель пения оказался очень милым и добрым человеком, хотя Кэтрин подозревала, что он льстит ей из-за ее высокого ранга. Но все равно считала, что поет неплохо. Она быстро запомнила ноты и научилась играть простые мелодии на вёрджинеле под присмотром одобрительно улыбавшегося мистера Мэнокса. Заразившись его страстью к музыке, Кэтрин ощутила в нем что-то дикое, необузданное, отвечавшее ее внутреннему беспокойству, хотя он никогда не переступал границ приличия, всегда оставался корректным и деловитым. Кэтрин замечала, что ее взгляд невольно снова и снова притягивает лицо учителя, которое с каждым днем становилось все более милым ей. Она испытывала ненасытное любопытство по отношению к своему наставнику, но Мэнокс никогда не упоминал о своей личной жизни. Однажды, когда он уже собрался уходить, закончив урок, Кэтрин спросила, где его дом. — Моя семья живет в Стритхэме, в двух милях отсюда. У Тилни есть связи здесь, благодаря чему я и попался на глаза герцогине. Я считаю, мне очень повезло в этом. — Мэнокс улыбнулся, и вся комната как будто озарилась светом. Кэтрин была зачарована. Она и раньше считала его привлекательным, теперь же поняла, что он неотразимо прекрасен. «Нет! — уговаривала Кэтрин саму себя. — Мистер Мэнокс мне не пара. Он музыкант и гораздо ниже меня по положению». Приход мистера Барнса обрадовал Кэтрин, так как спас от необходимости отвечать на завуалированный комплимент учителя музыки. Только бы Мэнокс не заметил, с каким восхищением она таращилась на него. После этого Кэтрин избегала любых посторонних разговоров с ним и старалась полностью сосредоточиться на музыке. Только по ночам, слыша приглушенные стоны уединившихся за занавесками парочек, она вспоминала своего наставника и всякий раз говорила себе, что так низко не опустится.
В июле, когда люди все еще шушукались по поводу королевы Анны и королевы Джейн, двор в Ламбете сотрясли известия об очередном скандале с участием Говардов. Лорд Томас, один из младших сыновей герцогини, был арестован вместе с племянницей самого короля леди Маргарет Дуглас; обоих отправили в Тауэр. Старуха Агнес погрузилась в печаль. Она села в барку и отправилась к королевскому двору с целью надавить на герцога Норфолка, чтобы тот использовал свое влияние для спасения ее сына, а оставшиеся дома принялись чесать языки. — Они заключили помолвку без согласия короля, — сказал Чарльз. Компания юных леди и джентльменов загорала на берегу реки; кроме Чарльза, там были Генри, Джордж, Кэтрин и еще несколько девушек. — Разве это не измена? — спросила Кэт Тилни. — Может, и измена, — отозвалась Мег и захрустела яблоком. — Говорят, лорд Томас имел виды на трон, раз уж теперь обе дочери короля объявлены бастардами. Леди Маргарет — дочь родной сестры его милости и может наследовать корону. Кэтрин имела весьма смутные представления о лорде Томасе. Если он и бывал у ее матери в Ламбете, то не запомнился ей. — Его тоже казнят? Чарльз кивнул: — Говорят, оба они — и он, и леди Маргарет — решением парламента лишены гражданских прав и состояния и приговорены к смерти. — Как же это? — спросила Кэтрин, думая, какой ужасный выдался год. — А так. Суда не было. Исход этого дела решил парламент. — Но это как-то неправильно, — заметила Кэтрин. — Они же должны иметь шанс как-то оправдаться? — Не спрашивай меня, — сказал Чарльз, мотая головой. — Не я придумываю законы. — Король не казнит свою племянницу, — вступила в разговор Мег. — Он казнил свою жену! — напомнила ей Кэтрин. — Но не свою же родную плоть и кровь? — Значит, у лорда Томаса надежды мало, — сказала Кэтрин. Однако король не отправил на эшафот ни леди Маргарет, ни лорда Томаса. Обоих оставили томиться в Тауэре, предположительно, чтобы они поразмыслили о своих проступках. В сложившихся обстоятельствах его величество проявил невероятную мягкость. Кэтрин никогда этого не забудет.
Глава 7
1536–1537 ГОДЫ Близилось Рождество, а злополучные любовники все еще сидели в Тауэре, однако герцогиня распорядилась, чтобы праздники отмечали с обычной пышностью, и были устроены роскошные торжества. В Двенадцатую ночь всех ждал традиционный пир. Дом был полон веселящихся, нарядно одетых гостей. Вместе со всеми придворными, чадами и домочадцами герцогини Кэтрин каждый год получала в подарок на Пасху новую одежду, но, как правило, это были вещи повседневные, ноские, из добротной черной ткани, чтобы служили долго. Однажды, роясь на чердаке — настоящей сокровищнице для тех, кто не поленился забраться сюда и покопаться в грудах скопившегося здесь за долгие годы барахла, — Кэтрин случайно наткнулась на сундук со старой одеждой. На самом дне его лежало старомодное платье из потертого красного бархата с высокой талией, узкими рукавами и мягкой струящейся юбкой. Кэтрин достала его, отчистила влажной тряпкой и украсила тем, что ей подарили на Новый год: полученным от Изабель симпатичным розовым кушаком из ленты и серебряной подвеской, присланной отцом и Маргарет. Костюм выглядел очень мило, и Кэтрин получила комплименты от своих компаньонок, юных леди. Вступая в пиршественный зал с распущенными по спине длинными волнистыми волосами, она чувствовала себя королевой. По заведенному обычаю женщины появлялись с левой стороны отгороженного простенком прохода, а мужчины — с правой. К празднику Двенадцатой ночи испекли огромный торт, каждому гостю при входе в зал подавали кусок. Кэтрин сразу съела свой, надеясь найти внутри вожделенную горошину или фасолину. Обнаружившие в своем куске сюрприз счастливчики становились королем и королевой праздничного вечера. К радости Кэтрин, зубы ее наткнулись на что-то твердое. Это была горошина! — Она у меня! — крикнула она. К ней подошли юные кавалеры и, подняв ее себе на плечи, отнесли к главному столу и усадили в кресло герцогини, которое старуха в приличествующем настроению вечера игривом духе с поклоном освободила. Другая группа молодых людей плюхнула кого-то в соседнее кресло. Это был мистер Мэнокс, который нашел в своем куске торта фасолину и был объявлен королем. Он улыбнулся Кэтрин, и щеки у нее запылали. Она знала, чего от них ждут. Слово названных королем и королевой было законом на этот вечер, и все должны были исполнять любые их приказания. Они будут заводить пение, танцы и игры. Кэтрин не могла поверить своему счастью и с улыбкой повернулась к мистеру Мэноксу. — Помните, мистресс Кэтрин, никаких правил нет, — сказал он. Их окружили ожидающие приказаний гости. Король и королева встали. — Чего бы нам попросить? — шепнула Кэтрин. — Я распоряжусь, чтобы каждый джентльмен в зале потребовал у сидящей ближе всего к нему леди фант, — провозгласил Мэнокс, — а если она откажется, то должна поцеловать его трижды в уплату штрафа! Послышался смех, и все бросились выполнять приказание. Потом мистер Мэнокс заметил вопросительный взгляд сидящей по правую руку от него герцогини. — Миледи, — сказал он, — я требую, чтобы в качестве фанта вы изобразили дьявола! Герцогиня усмехнулась. — Кое-кто сказал бы, что я изо дня в день только этим и занимаюсь! — воскликнула та, а потом начала скрежетать зубами и изрыгать проклятия на всех, кто оказался рядом. Кэтрин затрясло от едва сдерживаемого смеха. — А что прикажете вы, мистресс Кэтрин? — спросил Мэнокс. Она встала и подняла руку: — Тише! Тише! Я повелеваю, чтобы каждый джентльмен в зале преподнес выбранной леди подарок. Но вы не можете сходить и принести его. Подарком должно быть что-нибудь, находящееся при вас. Мужчины принялись снимать с себя перстни, кинжалы, даже головные уборы, а потом Кэтрин заметила, что мистер Мэнокс протягивает к ней руку. На его ладони лежало маленькое золотое распятие на цепочке. — Оно принадлежало моей матери. Я ношу его с тех пор, как она умерла, но теперь хочу, чтобы оно было у вас. — Я не могу принять это, — ответила Кэтрин, залившись краской; она поняла, что это уже не совсем игра, а скорее демонстрация особой симпатии, и ее очень тронуло, что мистер Мэнокс захотел подарить ей вещь, которой сам явно очень дорожил. — Сегодня вы должны слушаться меня! — заявил он, и его зеленые глаза засветились теплотой. — Хорошо, сэр, но я оставляю за собой право завтра вернуть его вам, — сказала Кэтрин. — Несмотря на это, я ценю оказанную мне вами честь. Мэнокс улыбнулся и вложил крестик ей в руку. От прикосновения его пальцев у Кэтрин по спине побежали мурашки. И вдруг разница в их положении перестала так уж сильно ее волновать. После пира Мэнокс встал, протянул трепещущей Кэтрин руку и повел ее заводить танцы. И как же они двигались! Начали с величавых паван, потом быстро перешли на буйный бранль. Плясали все, леди подбирали юбки и брыкали ногами. Потом мистер Мэнокс ловко проскользнул сквозь толчею гостей, увлекая за собой Кэтрин прочь из зала, через проход за загородкой, где уже валялась на полу пара-тройка упившихся слуг. Он побежал с ней наверх, в маленькую гостиную, где они занимались. При свете луны, лившемся сквозь узкие сдвоенные оконца, мистер Мэнокс обнял свою ученицу, и она не противилась. Его губы сомкнулись на ее устах, сперва нежно, потом более страстно, его язык искал путь внутрь. Кэтрин испуганно отшатнулась, но Мэнокс привлек ее к себе, и она ощутила шевеление у него под гульфиком. Вдруг она его захотела. И не имело значения, кто он. Она никогда еще не видела такого красивого мужчины и не чувствовала столь сильного желания. Но все же Кэтрин еще не окончательно отбросила прочь рассудительность. — Погодите! — пробормотала она, освобождаясь. — Вы слишком спешите, сэр! — Это лишь оттого, что вы очаровали меня, — ответил тот, искательно заглядывая ей в глаза. — Увы, Кэтрин, у меня нет никаких надежд. Я люблю вас. И знаю это уже давно. Я ничего не могу с собой поделать. И кажется, вы тоже испытываете ко мне какие-то чувства. Разумный голос в голове Кэтрин заглушал голос разгорячившейся крови и убеждал, что это невозможно. Даже если забыть о разнице в ранге, ей ведь известны правила романтической любви, и она знает, что леди не должна с излишней поспешностью уступать требованиям своего возлюбленного. — Я не уверена в своих чувствах, знаю только, что вы мне очень нравитесь, — сказала Кэтрин. — Но я Говард, а не девка, которую можно тайком завалить в постель. — Это мне предельно ясно, — с горечью ответил мистер Мэнокс. — Я знаю, что не достоин вас и до сегодняшнего вечера довольствовался тем, что обожал вас издали. Вы не представляете, что делаете со мной, но, поверьте, я удовлетворен поцелуем. Я считаю себя счастливчиком оттого, что вы снизошли до этого. Кэтрин была готова услышать нечто подобное. Так обычно реагируют отвергнутые поклонники в любовных историях, где героиня всегда равнодушна и недостижима или может удостоить своего поклонника благосклонным взглядом или нежным прикосновением. Мистер Мэнокс явно понимал это, даже если и позволил себе занестись слишком далеко в порыве чувства. Кэтрин была вынуждена признать, что она тоже, пока не очнулась от наваждения. Слава Богу, он оказался джентльменом и не воспользовался ее минутной слабостью! Если невозможно даровать ему больше своих милостей, она могла по крайней мере быть с ним обходительной. — Давайте вернемся, — с улыбкой сказала Кэтрин. — Скоро начнут пить заздравную чашу. — И она побежала впереди Мэнокса вниз по лестнице.На следующий день Кэтрин задержалась в зале, глядя на осыпающиеся еловые лапы, которые вчера по окончании праздника слуга снял со стен; они сиротливо лежали на полу. Грустно было думать, что Рождество почти закончилось. Сегодня Богоявление, последняя возможность для веселья. Вечером устроят пир и карнавал; будут есть жареную ягнятину и богоявленский пирог, выпеченный в форме звезды, и она снова наденет свой праздничный наряд. К ней с улыбкой подошла Маргарет Беннет: — Вчера вечером ты хорошо провела время с мистером Мэноксом! Кэтрин почувствовала, что заливается краской. Неужели Маргарет видела, как они улизнули из зала? — Вечер был чудесный, — отозвалась она. — Могу поспорить, он в тебя влюблен. — Маргарет захихикала. — Правда? — спросила Кэтрин и двинулась в сторону кладовой, где стоял сундук с костюмами для маскарада. Она хотела сегодня надеть на голову корону. — Это же всем видно по тому, как он смотрит на тебя, — ответила Маргарет. — Он мой учитель музыки! — возразила Кэтрин. — Он очень красив! — Прекрати! — Кэтрин захлопнула дверь перед носом Маргарет. Перебирая вещи в сундуке, она сказала себе, что не сделала ничего дурного и, разумеется, ничего такого, что могло бы пойти в сравнение с забавами других юных леди, обретавшихся при дворе. Конечно, в холодном свете дня Кэтрин ясно видела полную невозможность для дочери Говардов любить своего учителя музыки. И все же не могла забыть тех волшебных мгновений, проведенных в маленькой гостиной. За обедом другие девушки тоже стали поддразнивать ее за симпатии к мистеру Мэноксу. — Ты сегодня снова будешь с ним танцевать? — спросила Джоан Балмер. — Да, думаю, что буду. — Кэтрин улыбнулась. — Он хорошо танцует. — А еще в чем-нибудь он хорош? — Элис подмигнула ей. — Не понимаю, о чем ты, — ответила Кэтрин. — Не думай, что мы не видели, как вы с ним уединились! — с торжеством проговорила Мег. — Мы ничего не делали, — упиралась Кэтрин. — Он целовал тебя? — По твоему лицу видно, что целовал! — с глумливой улыбкой заметила Джоан. — Это был невинный флирт, — твердо заявила Кэтрин. — Ничего больше. После обеда Малин Тилни отвела ее в сторонку: — Я случайно услышала разговор за столом. Кэтрин, Мэнокс — твой учитель музыки и нанят на должность, которая требует особого такта от исполняющего ее человека. Делать авансы своей воспитаннице — это серьезное нарушение оказанного доверия. Герцогиня это не одобрит. Он может потерять место. Прошу тебя, подумай о своей репутации. Кэтрин топнула ногой: — Малин, мы просто немного подурачились. Я не понимаю, почему ты и все остальные подняли столько шума из-за этой ерунды. — Хорошо, — сказала Малин, не утратив, однако, озабоченности. — Просто будь благоразумна. В тот вечер Кэтрин отыскала Мэнокса и вернула распятие. Он возражал, но она просто вложила крестик ему в руку и ушла.
После Богоявления уроки музыки возобновились, а вот мистер Барнс больше с Кэтрин не занимался: ему поручили обучать Кэт Тилни. Кэтрин пришлось проводить много времени наедине с Мэноксом. Понимал ли это кто-нибудь, она не знала. Ей уже давно стало ясно, что матушка Эммет настолько небрежно следит за своими воспитанницами, что они могли совершить убийство, а она ничего не заметила бы. Наставница девушек хотела только легкой жизни без всяких ссор и проблем. Кэтрин сидела за вёрджинелом, чувствуя на себе напряженный взгляд мистера Мэнокса. «А почему бы нет?» — подумала она. Время было как раз подходящее, чтобы немного развлечься, и, конечно, легкий флирт никому не повредит. Кэтрин опустила голову и с лукавой улыбкой искоса взглянула на своего учителя. Он положил ладони на ее руки и сказал: — Двенадцатая ночь была прекрасна. — Да, — согласилась Кэтрин. — Я говорил тогда всерьез. Я люблю вас. Скажите, что я могу надеяться. — Надеяться на что? — Что вы ответите на мою любовь. — Его глаза были как глубокие зеленые омуты — молящие, восхищенные… Кэтрин засмеялась: — Мистер Мэнокс, все это совсем ново для меня. Вы должны дать мне время, чтобы разобраться в своих чувствах. Думаю, будет небесполезно провести вместе чуть больше времени. Она сознательно поощряла его и уже не понимала, хорошо это или плохо. Одно было ясно: ее сильно влечет к этому прекрасному мужчине. Ей хотелось удержать его интерес, и к черту все моральные доводы, все эти правильно — неправильно, к черту! Кэтрин будет делать то, что ей нравится. Никому по большому счету не было дела до ее судьбы, а Изабель, которой она с радостью доверилась бы, была далеко, в Уилтшире; к тому же той теперь не до сестры: нужно заботиться о своем первом ребенке. — Для меня ничто не может быть лучше проведенного с вами времени, мистресс Кэтрин, — сказал Мэнокс, пожимая ее руку. — Но дайте мне знать, как устроить это. — После ужина вы можете сыграть со мной в кегли в длинной галерее. — Она улыбнулась. — Это будет замечательно. А теперь, думаю, нам нужно вернуться к музыке. И прошу вас, зовите меня Гарри. — Я подумаю об этом, — ответила Кэтрин и глянула на него, изогнув бровь.
Когда Кэтрин появилась в галерее вместе с мистером Мэноксом, там находилось еще несколько человек. Их проводили многозначительными взглядами, и Кэтрин не сомневалась, что, отвернувшись от них, люди эти вполголоса обменялись впечатлениями. Ей было все равно. Не у каждой юной леди есть такой красивый и преданный поклонник. В последовавшие за этим дни Кэтрин и Гарри, как она теперь его называла, проводили вместе все больше и больше времени. Они гуляли по саду, часами сидели на скамейке у реки, разговаривали, а уроки музыки становились все продолжительнее. Уединившись в маленькой гостиной, учитель и ученица весело болтали, когда последней следовало бы отрабатывать технику игры, но Кэтрин слишком сильно ощущала физическое присутствие рядом Гарри, чтобы сконцентрироваться на музыке. По прошествии совсем недолгого времени они оказывались в объятиях друг друга, не в силах устоять перед желанием близости, и обменивались долгими, томительными поцелуями, после которых не могли отдышаться и жаждали большего. Решимость устоять перед соблазном быстро ослабевала в Кэтрин. — Я люблю вас, — сказала она, чем подхлестнула горячность Гарри. За поцелуями последовали ласки, его пальцы блуждали по ее груди и вдоль выреза платья. Ощущение было божественное, и она не запротестовала, когда он пробрался глубже. Прикосновение к соскам вызвало невыносимо приятное ощущение и сопровождалось каким-то слабым трепетом в области пупка. Кэтрин не хотелось останавливать его. Но когда рука Гарри опустилась вниз и стала поднимать юбки, она заартачилась: — Нет! — Почему нет? Я хочу видеть вас, любовь моя, и прикасаться к вам. — Нет, прошу вас! — Она не готова была позволить ему это. — Пока нет. Его рука вернулась к ее груди.
Они очень старались вести себя осмотрительно. Казалось, никто не знает их секрета. Кэтрин делала все, чтобы скрыть от юных камеристок отношения с Мэноксом. Герцогиня была слишком погружена в свои великие дела, чтобы заметить, чем занимается ее внученька, а миссис Эммет, как обычно, на все смотрела сквозь пальцы. О последствиях Кэтрин не задумывалась, ее они просто не волновали. Будь что будет. Главное, что Гарри любил ее. К пасхальным праздникам контролировать свое вожделение стало уж совсем нелегко, и еще труднее — сдерживать порывы Гарри. Тот всегда просил большего. — Позвольте мне прикоснуться к потайным частям вашего тела! — молил он, страстно целуя ее. — Нет, — отказывала ему Кэтрин. — Это может завести нас слишком далеко. Девушки в общей спальне говорили о точке невозврата, за которой мужчина теряет контроль над собой, и Кэтрин боялась доводить Гарри до этой крайности. — Тогда дайте мне какой-нибудь знак вашей любви! — тяжело дыша, говорил он. — Покажите, как сильно вы меня любите. — Какой же знак я могу вам дать? Обещаю, я никогда вас не обижу, но вы не можете жениться на мне. Этого никто не позволит. Гарри был непреклонен. — Я хочу всего лишь прикоснуться к вам. Кому это может повредить? У Кэтрин не осталось аргументов. К тому же ей самой очень хотелось ощутить его прикосновения. — Хорошо. Он в восторге пожирал ее глазами: — Вы позволите? Обещаете, что позволите мне? — Да, — пробормотала Кэтрин, — но не сегодня, скоро ужин. Потом вы уедете навестить родных на воскресенье. А когда вернетесь, сделаете, что хотите, при условии, что большего от меня не потребуете. И нам нужно найти какое-нибудь более укромное место. Эта комната не запирается на ключ. — Кэтрин, вы для меня источник бесконечной радости! — воскликнул Гарри. — Не могу в полной мере выразить свои чувства и благодарность. Я так люблю вас, моя дорогая! — Я тоже люблю вас, — выдохнула Кэтрин. В тот момент она готова была обещать ему всю себя целиком. В конце концов, как предотвратить беременность, ей было известно. Однако Кэтрин боялась, что, дав слишком много, многое потеряет. Говорят же, что мужчины быстро утрачивают интерес к легкой добыче.
Через два дня среди полночной тьмы Кэтрин встретилась с Гарри в пустынной галерее. Неся в руке свечу, он тихо провел ее в антикамеру перед часовней герцогини, запер за собою дверь и усадил свою спутницу на деревянную скамью. — Вы еще хотите сдержать данное мне обещание? — прошептал он. — Да, — подтвердила Кэтрин. — Трогайте меня! Ощущение было исключительно приятное. В ту ночь она узнала, что такое настоящее удовольствие. Тут не было ничего постыдного или греховного: это была самая естественная вещь на свете. И когда Гари наклонил голову и поцеловал коричневую родинку на внутренней стороне ее бедра, а потом приступил к делу языком, Кэтрин подумала, что умрет от наслаждения. Волны экстаза накатывали на нее снова и снова. Она будто попала на Небеса. Потом Гарри захотел, чтобы она тоже его потрогала и доставила ему такое же удовольствие. И она держала его в руке, удивляясь, как он разбухает от вожделения, потом излилось семя, и Гарри в экстазе выдохнул. Верный своему слову, он не просил о большем. Обуянные страстью, они использовали любую возможность остаться вдвоем. Вскоре подружки Кэтрин догадались, что происходит, и стали подшучивать над ней, поминая ее прекрасного поклонника. — Могу поспорить, вы с мистером Мэноксом играете хорошую музыку! — дразнила ее Элис Уилкс. — По лицу видно, что ты влюблена, — подключилась Мег. Кэтрин это даже нравилось. Разговоры о Гарри заставляли трепетать ее сердце; его имя постоянно вертелось у нее на языке. Хорошо, что ее секрет раскрыли. Теперь она чувствовала себя на равных с остальными девушками, которые развлекались с мужчинами в общей спальне. У нее не было причин завидовать им. Они никому ничего не скажут, потому что она знает их тайну. Молодые камеристки радовались, что Кэтрин наконец нашла себе поклонника, и приставали к ней, чтобы она привела Гарри в общую спальню и он присоединился к их забавам, но Кэтрин не стала этого делать. Происходившее между ними было слишком важным, она не хотела обесценивать их близость, выставив ее на обозрение любопытных глаз. Кэтрин была влюблена, и мир представал перед ней в розовом свете. Живя в каком-то дурмане, она считала часы до следующей встречи с Гарри. Знала, что его чувства к ней сильны и искренни, и упивалась этим неподдельным обожанием. Никогда еще Кэтрин не чувствовала себя такой особенной! Слегка портили ей настроение Малин и Мэри Ласселлс, которые, услышав разговоры о ее близости с Гарри, стали выказывать неодобрение. Мэри, вероятно, завидовала, а вот Малин действительно принимала интересы Кэтрин близко к сердцу. Она явно не хотела, чтобы эта история была раскрыта. — Мистер Мэнокс — очень привлекательный мужчина, но он из числа слуг, Кэтрин, а Говарды не вступают в брак со слугами и не кокетничают с ними. Лучше тебе не связываться с ним. Мне бы очень не хотелось, чтобы ты пострадала или была задета твоя честь. Для этого хватит и пустяка, ты сама знаешь. — Не беспокойся обо мне, для этого нет причин, — заверила ее Кэтрин, чувствуя жар на щеках. Малин посмотрела на нее с сомнением, но больше ничего не сказала. Ее слова встревожили Кэтрин. Нужно проявлять бо́льшую осторожность. Не хватало еще, чтобы об увлечении учителем музыки узнала герцогиня. Если это случится, настанет конец всему и для нее самой, и для Гарри: она потеряет все, что делало ее жизнь восхитительной. Такой утраты ей не перенести. Свидания в маленькой гостиной и кабинете у часовни продолжались. Поцелуи украдкой и смелые ласки доставляли такое удовольствие, что Кэтрин хотелось остановить время и наслаждаться этими моментами близости вечно. Все лето она парила на крыльях любви и светилась от счастья.
Однажды теплым августовским днем Кэтрин отыскала в саду пустую каменную скамью в тихом месте и села на нее, чтобы прочесть письмо отца. Оно оказалось на редкость бодрым: лорд Эдмунд сообщал, что его выбрали мэром Кале. Кэтрин очень за него обрадовалась. Целых шесть лет отец и Маргарет пытались прочно обжиться по ту сторону Канала, и, похоже, судьба наконец повернулась к ним лицом. Вспомнив, какой несчастной она чувствовала себя, когда отец и мачеха оставили ее в Ламбете, Кэтрин улыбнулась. Казалось, это было так давно. Здесь у нее началась настоящая жизнь, и теперь она имела особые причины быть благодарной родным за то, что они пристроили ее ко двору герцогини. И все же ей хотелось большего. Мир манил ее, и Кэтрин стремилась быть его частью. Если говорить начистоту, ей хотелось выйти замуж за Гарри. Они никогда не обсуждали это, как будто оба знали, что на дозволение их брака нет никакой надежды, однако Кэтрин нравилось предаваться фантазиям, в которых она, одетая в роскошное платье, стоит на крыльце церкви и приносит брачные обеты или гордо показывает супругу новорожденного сына. Ей казалось, что жизнь проходит мимо. Она знала многих шестнадцатилетних девушек, которые уже были замужем и обзавелись детьми. А еще Кэтрин хотелось попасть к большому двору, так как она слышала, что королева ждет ребенка, и каждый, кто усердно служит ей в это время, мог рассчитывать на определенные выгоды для себя, однако продвижение отца по службе произошло слишком поздно. Теперь при дворе королевы уже не осталось мест, даже если дочери Говардов там были бы рады, и нет смысла размышлять, посмотрит ли теперь король на нее благосклонно. К тому же отъезд ко двору означал бы разлуку с Гарри. Кэтрин встала и медленно побрела к дому. Скоро подадут обед. А вечером ей нужно добраться до Норфолк-Хауса и показать братьям отцовское письмо.
Холодным октябрьским утром церковные колокола подняли радостный трезвон. Высунувшись из окна общей спальни, Кэтрин услышала, что на других, отдаленных церквах тоже бьют в колокола. Все небо звенело. Она побежала вниз. — Ты слышала? — возбужденно спросила Малин, схватив Кэтрин за руку, как только та вошла в зал. — Королева родила принца! У нас есть наследник престола! О, какой счастливый день! Сияющая улыбкой герцогиня стояла на помосте в окружении своих придворных дам и дочерей — графинь Дерби, Оксфорд и Бриджуотер, которые как раз гостили в доме матери. — Лорд Уильям этим утром сообщил мне радостную новость, — сказала она. — Вечером мы должны устроить пир. Кэтрин чувствовала, что рядом с ней стоит Гарри. — Великолепные известия! — воскликнул он. — Это значит, нам больше не грозят распри по поводу наследования престола и гражданская война. — Вы полагаете, миледи попросят нести принца к купели, как она несла леди Елизавету? Гарри робко улыбнулся: — Сомневаюсь. Думаю, на этот раз преимущество будет отдано родственникам королевы. Если герцогиня и чувствовала себя уязвленной, то виду не подала. А когда пришла весть, что герцог Норфолк будет крестным отцом, расплылась в улыбке. Это ли не доказательство, что Говарды снова в фаворе после охлаждения, последовавшего за падением королевы Анны.
Через две недели Кэтрин снова услышала звон: колокола били и в Ламбете, и в Лондоне. На этот раз бой был торжественно-печальный. Королева умерла. Это стало отрезвляющим напоминанием об опасностях, связанных с деторождением, и оживило болезненные воспоминания о матери. Она-то, Кэтрин, по крайней мере, успела узнать свою мать, помнила ее, а драгоценному крошке-принцу такого счастья не выпало. Сердце Кэтрин сжималось от жалости к малышу. А сама идея замужества вдруг показалась совсем непривлекательной. Если ей сейчас позволят выйти за Гарри, меньше чем через год она может расстаться с жизнью. Какой кошмар! Герцогиня распорядилась, чтобы все облачились в траур и носили его, пока не закончатся похоронные обряды. Вскоре старуху постигло и личное горе: сперва ей сказали, что ее сына лорда Томаса — о радость! — выпускают из Тауэра, и сразу вслед за этим пришло известие о его кончине от какой-то лихорадки. Герцогиня была убита, но не пролила ни одной слезинки. Сидя в кресле, прямая как палка, одетая во все черное, она сообщила Кэтрин, что леди Маргарет Дуглас выпустили из заключения и отправили в аббатство Сион. — Мне сказали, она тоже сокрушена горем. Но на все Господня воля! Целый месяц Кэтрин пришлось носить старое черное платье, которое давило ей в подмышках. — Но вы так очень соблазнительны, — сказал Гарри, когда она пожаловалась на однообразие в одежде. Вечером Кэтрин взглянула на себя в зеркало. Гарри был прав. Простота в нарядах шла ей. Черное платье имело низкий вырез. Никаких украшений, волосы распущены — все это производило поразительный эффект. На самом деле настолько поразительный, что ей пришлось буквально отбиваться от Гарри. — Мы должны скорбеть по королеве, — с укоризной сказала ему Кэтрин. — Я пытаюсь позабыть печаль, — с усмешкой отозвался он. — Идите сюда, маленькая колдунья! В дверь гостиной постучали. Кэтрин едва успела отскочить от Гарри, как вошел Уилл Эшби. — Для вас пришло письмо, мистресс Кэтрин, — сказал он, бросив на нее понимающий взгляд, после чего передал ей послание и удалился. Кэтрин увидела отцовскую печать. И сломала ее под пристальным взглядом Гарри. Чтение не принесло радости: похоже, никогда ей не попасть ко двору. Король лично отменил принятое на выборах решение о назначении отца мэром. «Он ни за что не согласится, чтобы меня допустили к должности мэра, — писал лорд Эдмунд, — и я не могу дольше оставаться в Кале без увеличения своих доходов». Она протянула письмо Гарри — пусть прочтет. — Мне так стыдно. Чем заслужил мой отец такое пренебрежение? Наверное, его полюбили в Кале, иначе не выбрали бы мэром. — Может быть, у короля есть другой кандидат на этот пост, которого он предпочитает, вот и все. Не расстраивайтесь, дорогая. — Он посадил Кэтрин к себе на колени и потерся носом о ее ухо. — По крайней мере, он сохранил свой пост. Быть ревизором в Кале — это немало.
Глава 8
1538 ГОД Отец возвращался домой. Кэтрин сидела у теплого очага в своей комнате и медленно разбирала его послание. Новость о скором приезде лорда Эдмунда ее порадовала, но дальше она узнала, что его вызывает Совет короля, и задрожала. «Они говорят, я не выполняю распоряжений короля, — писал отец, — и теперь меня будут допрашивать относительно состояния дел в Кале». Там было еще много чего, но Кэтрин так разволновалась, что не могла читать дальше. Даже теперь она и в спокойном состоянии не слишком хорошо складывала буквы в слова. В тревоге Кэтрин побежала искать Гарри и встретила его в длинной галерее. — Взгляните, — требовательно сказала она и вложила письмо ему в руку, а сама стояла рядом, сгорая от нетерпения, пока он просматривал написанное. — Вдруг ответы отца не удовлетворят Совет? Его уволят? Или с ним случится что-нибудь похуже? Гарри замялся, будто подыскивал правильные слова: — Если читать между строк, кажется, он не слишком хорошо справлялся со своими обязанностями, не более того. Я сильно сомневаюсь, что этим можно заслужить заточение в Тауэр. — Да, но он пишет, что его делают жертвой. — Дорогая, это отговорка, — вздохнул Гарри. — Нет, он честный человек, — запротестовала Кэтрин. — Представьте, как тяжело ему сносить такие наветы. Гарри ничего не ответил. Кэтрин почувствовала себя слегка уязвленной. В следующем письме лорд Эдмунд сообщал, что его отстранили от должности. Он обжаловал это решение, напомнив мастеру Кромвелю о своей бедности и затратах, понесенных на содержание дома в Кале, и надеялся, что тот позаботится о возмещении ему убытков. Кэтрин стало жаль отца. За что бы он ни брался, все заканчивалось провалом. Себя она тоже пожалела. Почему ей не выпало на долю иметь родителя богатого, преуспевающего и любимого королем? Она молилась, чтобы никто в Ламбете не узнал о позорной отставке ревизора Кале. Это было бы слишком унизительно.Лорд Эдмунд вернулся домой в апреле. Его сестра графиня Уилтшир, мать покойной королевы Анны, умерла, и он как раз успел на похороны, где собрались все Говарды и Тилни. Кэтрин ужаснулась при встрече с отцом в Ламбете: он выглядел таким старым и изможденным. Ему, наверное, уже исполнилось шестьдесят, и жизнь не была милостива к нему. Когда лорд Эдмунд поприветствовал братьев Кэтрин и она в свою очередь встала на колени, чтобы получить отцовское благословение, он поднял ее и крепко обнял: — Как приятно видеть тебя, дочь моя. Ты выросла и превратилась в юную леди. Я с трудом узнаю тебя! Маргарет, мачеха Кэтрин, была мягка и дружелюбна, как и прежде, но, когда они присоединились к родне в покоях герцогини, то и дело бросала на отца тревожные взгляды. — Он неважно себя чувствует, — тихонько сказала она Кэтрин. — Проблемы с камнями в почках, да еще эта последняя неудача… Такой тяжелый удар для него. Но он надеется, что сумеет убедить Совет и его восстановят в должности. — Маргарет вздохнула. — Я пыталась внушить ему, что пора уйти в отставку, но он меня больше не слушает. Он сделался любимчиком женщин Кале, и некоторым из них следовало бы последить за своим поведением. Кэтрин положила ладонь на руку мачехи. Нелегко, наверное, быть женой отца. — Не переживай, мы справимся, — сказала Маргарет. Они сделали реверансы перед герцогом Норфолком, который по неотъемлемому праву занял трон своей мачехи и сидел на нем как василиск — впивался в каждого орлиным взором, надменно поджав губы. Суровый вояка, в свои шестьдесят с лишком лет он не выглядел человеком, с которым можно не считаться. На мгновение его стальные глаза оценивающе задержались на Кэтрин, потом герцог кивнул и одарил ее и Маргарет подобием улыбки. — Приветствую, леди Эдмунд. Приветствую, Кэтрин. — Норфолк знаком показал, чтобы они сели, и женщины заняли места рядом с отцом. Сидя на скамье бок о бок с братьями, Кэтрин чувствовала себя маленькой и незначительной среди этого грандиозного собрания родственников, облаченных в черный бархат, шелк и меха. Говорили только о бедной Элизабет, покойной графине. — Бедняжка так и не смогла пережить смерть королевы Анны, — сказала герцогиня. — Заболела она раньше, — напомнил ей герцог. — Потеря детей, да к тому же столь ужасная, ускорила ее кончину, — добавила леди Уильям Говард, женщина милая, изысканно одетая, но, по общему мнению, глуповатая. — Не представляю, как справляется с этой утратой граф, — произнесла герцогиня. — Томас Болейн пережил многих, — заметил герцог. — Помните, как он свидетельствовал против собственных детей, чтобы спасти свою шею? Сомневаюсь, что у моей сестры нашлось для него много слов после такого. — Хотелось бы мне тогда быть рядом с ней и утешить ее, — сказал отец. Собравшиеся на похороны выстроились в процессию и прошли в церковь Святой Марии. В часовне Говардов Кэтрин оказалась рядом с могилой матери. Она испытала чувство вины, что не приходит сюда чаще молиться за упокой души родительницы, но ей до сих пор невыносимо было думать, что здесь, под толщей земли, в хладном склепе лежит ее мать. Насколько иначе сложилась бы ее, Кэтрин, жизнь, если бы Джойс не умерла так рано.
Отец не остался на поминки. — Я еду в Сент-Джеймсский дворец, — сообщил он жене и детям, когда они все вышли из церкви. — Надеюсь увидеться с мастером Кромвелем. Глядя ему вслед, Маргарет покачала головой: — Он никогда не сдается. Участники похорон потянулись обратно к Норфолк-Хаусу. На поминальном обеде Кэтрин сидела рядом с мачехой. Как же ей хотелось, чтобы Гарри был здесь. Но он поехал в Стритхэм навестить родных. Они были любовниками уже больше года, а она продолжала считать часы до следующего свидания. После обеда Кэтрин с мачехой задержались в зале, где слуги быстро убирали со столов. — Твой отец собирается поговорить с герцогиней о том, чтобы подыскать тебе мужа, — сказала Маргарет. — Он считает, что она слишком затянула с этим. Кэтрин пришла в ужас. Ей не хотелось замуж ни за кого, кроме Гарри. Осмелится ли она открыться мачехе? Если Маргарет не одобрит порыва своей падчерицы, то может предпринять шаги к тому, чтобы воспрепятствовать ее дальнейшим встречам с Гарри. А самого его постарается лишить места! Нет, уж лучше ей помалкивать. — А если мне не понравится мужчина, которого для меня выберут, я все равно должна буду выйти за него замуж? — спросила Кэтрин. — Нам, женщинам, редко выпадает случай выбирать, — ответила Маргарет и взяла с еще стоявшего на столе блюда марципан. — Но я сомневаюсь, что твой отец согласится на брак, который ты посчитаешь отвратительным. — Он, вероятно, будет благодарен любому мужчине, который женится на мне, — пробормотала Кэтрин и закусила губу. — У меня нет приданого, так что найти мне супруга может оказаться нелегко. — Приданое — не единственное, что будут принимать в соображение. Многие не отказались бы породниться с Говардами. К тому же ты очень мила. Кэтрин улыбнулась ей: — Спасибо вам. Просто мне хотелось бы выйти за того, кто нравится. Маргарет внимательно посмотрела на нее: — У тебя уже есть кто-то на примете? — О нет! Я просто подумала, согласится ли на такое отец. — Думаю, если мужчина окажется подходящим, он будет готов подумать. В груди у Кэтрин начала расцветать надежда. — А кого посчитают подходящим? — Кто-то все-таки есть, верно? — надавила на нее встревоженная Маргарет. — Нет! Клянусь вам! — запротестовала Кэтрин. Мачеха ей не поверила. — Думаю, какой-нибудь молодой лорд или джентльмен со средствами и хорошей репутацией получил бы одобрение. Со средствами. Гарри унаследует только дом своего отца и скромный участок земли вокруг. У него нет ни титула, ни родовитых предков. — Ну, надеюсь, герцогиня подыщет кого-нибудь, кто придется мне по душе, — сказала Кэтрин.
В последовавшие за этим дни Кэтрин редко видела отца. Лорд Эдмунд плутал по коридорам Сент-Джеймсского дворца, выгадывая момент для разговора с мастером Кромвелем. Момент так и не подвернулся. Однако отец получил письмо от своего начальника лорда Лайла, представителя короля в Кале, с вызовом обратно и возликовал. — Они, должно быть, передумали и решили не увольнять меня! — заявил он и принялся спешно готовиться к возвращению. Кэтрин сомневалась, что он успел обсудить с герцогиней вопрос о ее браке или хотя бы серьезно поразмыслить об этом, и решила, что пока ей повезло. — Прощай, дочь моя, — сказал ей отец в день отъезда. — Да пребудет с тобой Господь! Надеюсь, мы скоро увидимся. Маргарет обняла Кэтрин со словами: — Будь очень осторожны, — и пожала ей руку.
В мае пришло письмо от Изабель. Сестры поддерживали переписку, хотя для Кэтрин выводить слова на бумаге было чистой мукой, а вот читать послания Изабель с новостями и отчетами об успехах юного Генри Бейнтона она очень любила. Однако в этом последнем содержались печальные вести. Сидя у окна в своей комнате, Кэтрин прочла, что Джон Ли, ее сводный брат, храбро перенес все тяготы паломничества в Иерусалим, а по возвращении был арестован за измену. «Его посадили в Тауэр, — писала Изабель, — и подозревают в том, что по пути домой он вошел в сношения с кардиналом Поулом. Молись за несчастного Джона». Едва не плача, Кэтрин отнесла письмо в комнату Малин Тилни и показала ей. — Кто такой кардинал Поул? — спросила она. — Сын графини Солсбери, кузен короля со стороны Плантагенетов, — ответила ей Малин. — Он уехал в Италию, потому что не одобрял развод его величества с леди Екатериной, и написал трактат с суровым осуждением его брака с Анной Болейн. Это так разозлило короля, что мистеру Поулу пришлось остаться в Италии, где папа сделал его кардиналом. Было бы действительно крайне безрассудно связываться с таким злостным изменником, но, насколько я знаю, мастер Ли вовсе не лишен рассудительности. Не унывай, Кэтрин. Все будет хорошо. Ты слышала, что мы отправляемся на лето в Чесворт? — Чесворт? — Это был летний дом герцогини в Сассексе, Кэтрин провела там два лета в детстве. Она обхватила руками Малин. — Так это же прекрасно! Я люблю Чесворт! Это волшебное место! Ей стало значительно лучше. Все будет хорошо. Малин так сказала, уж она-то в таких делах разбирается. И Гарри Чесворт тоже понравится.
Как здорово было снова оказаться в чудесном Сассексе, да еще в такой прекрасный июньский день! Свита герцогини проехала Хоршем, и Кэтрин уже вся извелась: когда же, ну когда они доберутся до места? Осталась всего какая-то миля. С дороги дом не видно, он хорошо укрыт за деревьями, но вот наконец они въехали в ворота, и Кэтрин оказалась в знакомом райском уголке: цветущий луг и старые живые изгороди, населенные ордами бабочек. Река Арун, которая брала начало в Лесу Святого Леонарда неподалеку отсюда, текла через поместье и образовывала часть окружавшего дом рва. Вскоре впереди, в конце длинной, обсаженной деревьями подъездной аллеи показался Чесворт-Хаус. Более старое крыло дома было выстроено из дуба, а то, что поновее, — из красного кирпича. Его возвел дед Кэтрин, второй герцог Норфолк. Эту часть здания называли Цитаделью графа Суррея, потому что герцог носил такой титул, когда началось ее строительство. Покои камеристкам отвели на верхнем этаже нового крыла, в просторной комнате с высоким потолком на толстых деревянных балках. Кэтрин заняла кровать у окна и, мурлыча себе под нос песенку, разобрала вещи. Потом сбежала вниз, чтобы посидеть на солнышке на террасе. Гарри уже был там, ждал ее; они вместе обследовали прелестный регулярный садик, а потом пошли прогуляться по роскошному парку. — Как же здесь хорошо! — воскликнула Кэтрин, воздевая руки к небу и кружась на месте. Гарри засмеялся, поймал ее руки и завертел вокруг себя еще быстрее; он не останавливался, пока они не повалились на траву, запыхавшиеся и хохочущие. Никого рядом не было, и вскоре влюбленные уже целовались и одаривали друг друга ласками, наслаждаясь восхитительным чувством свободы. Это было так упоительно, что оба они забылись, но вот Гарри усадил ее на себя, и она вдруг почувствовала, как что-то вонзилось в нее, вызвав невыносимо резкую, жгучую боль. — Нет! — взвизгнула Кэтрин и подскочила. — Ой, это очень больно! — Она потерла себя рукой. — Вы обещали, что не пойдете дальше касаний. Гарри застонал: — Простите меня, дорогая. Момент был такой подходящий. Простите. Он так сокрушался, что Кэтрин стало жаль его, и вскоре они с тем же пылом обнимались и целовались. — Вы не вошли в меня до конца, да? — спросила Кэтрин позже, когда они, утомившись от ласк, распластались на траве. — Нет, дорогая, — заверил ее Гарри. — Вы отстранились прежде, чем я оказался внутри вас. Никакой крови ведь не было? — Нет. Слава Богу, я все еще девственница! — Такого больше не случится, — пообещал Гарри.
Долгие летние дни в Хоршеме тянулись неспешно. Уроки музыки продолжались, но особых успехов Кэтрин не достигла, так как у учителя и его ученицы на уме было совсем другое. По ночам они прокрадывались в старое крыло дома через пустынные залы и забирались в кабинет герцогини при часовне, который был более укромным, чем в Ламбете. Там они проводили бо́льшую часть ночи, спрятавшись от всего мира. Остальные камеристки донимали Кэтрин вопросами: — Почему ты не приводишь его к нам в спальню, чтобы он мог пировать вместе с нами? Но она лишь молча улыбалась в ответ. Ей не хотелось опускать их нежные отношения с Гарри до уровня грубого разврата, которому предавались по ночам в спальне камеристок. Однако Кэтрин с удовольствием участвовала в других развлечениях своих компаньонок. Однажды она попросила на кухне разных закусок, сложила их в корзинку и принесла в парк, где юные леди сидели на траве. — Пикник! — воскликнула Дороти. — Спасибо, Кэтрин! Позже тем же вечером Кэтрин, лениво полеживая на лужайке, вполглаза поглядывала, как другие играют в жмурки среди деревьев, и заметила Мэри Ласселлс, которая сидела на ограде террасы и с хитрой улыбкой поглядывала на нее. Эта девушка отличалась кичливым самодовольством и ставила себя выше всех остальных. Она никогда не участвовала в общих забавах, но часто наблюдала за ними со стороны. Обычно девушки не обращали на нее внимания. Кэтрин предпочитала не общаться с мистресс Ласселлс, но в последнее время стала как-то слишком часто ловить на себе ее взгляды. Она в раздражении крикнула ей: — У меня лицо позеленело, что ли? Почему вы все время смотрите на меня? — Прошу прощения, — откликнулась Мэри, — но вы заинтриговали меня, мистресс Кэтрин. Лучше бы вам вести себя более осмотрительно. Я знаю, чем вы занимаетесь с вашим учителем музыки. Это ясно как день. — И это не ваше дело! — отрезала Кэтрин. — Может, и так, но я говорю с вами по-дружески. Его поведение достойно порицания вдвойне, ведь он знает, что не сможет жениться на вас, а вы девушка благородных кровей. Он подвергает опасности вашу репутацию и ваши шансы удачно выйти замуж. — Как вы смеете! — воскликнула Кэтрин. — Вам ничего не известно о моих делах. И перестаньте совать свой нос куда не следует. — Когда-нибудь вы поблагодарите меня за это, — невозмутимо ответила Мэри. — Если об этом узнает герцогиня… — Вы на такое не решитесь. — Кэтрин встревожилась. — Я-то нет. Но в таком большом доме подобные вещи не утаишь, и люди начнут болтать. О вас уже шушукаются в общей спальне, а молодые люди, с которыми спят девицы, любят выпить со своими приятелями. И могут сболтнуть лишнего, если опрокинут на кружку больше эля, чем следует. Просто будьте осторожны, мистресс Кэтрин Говард. — Я не дура, — сердито ответила ей Кэтрин. — И шушукаться тут вовсе не о чем. — Не думаю, что вы так чисты и честны, как изображаете, мистресс Кэтрин, — пробормотала Мэри, опускаясь на колени и принимаясь собирать вещи в корзинку. — Вы ставите себя выше всех нас, но вы ничем не лучше. Также предаетесь блуду, только втайне от других. Разве нет? Кэтрин вышла из себя. — Это грязная ложь! — прошипела она. — Только взгляните, как она покраснела! — бросила Мэри. — Значит, вы отрицаете, что кувыркаетесь с мистером Мэноксом? Я видела вас вместе в этом самом парке, когда вы думали, что скрылись от чужих глаз. Позаботьтесь о своей репутации, мистресс Кэтрин, хорошенько позаботьтесь. — Сказав это, она встала и направилась в сторону кухонь, оставив Кэтрин в безмолвном изумлении. Сколько еще людей знают, чем она занимается с Гарри? Она-то думала, они проявляют осмотрительность. О, это ужасно! Нужно как-то исправить ситуацию, пока ее репутация не разрушена окончательно. Так больше продолжать нельзя. Удовольствия от приятного летнего дня как не бывало. По пути к дому Кэтрин беспокойно перебирала в голове варианты. Обращаться за помощью к герцогине им с Гарри нельзя — это приведет к катастрофе. Сбежать? Улизнуть за границу? Но деньги у них закончатся очень быстро. А может, поехать в Лондон и найти священника, который их обвенчает? Это казалось наилучшим выходом. Когда они поженятся, никто уже не сможет их разлучить. Им только придется храбро выстоять перед бурей гнева, которая наверняка разразится.
— Гарри, — сказала той ночью Кэтрин, когда он закрыл за ними дверь кабинета при часовне, — мне нужно поговорить с вами. Она передала ему слова Мэри, но он только пожал плечами, а потом ответил: — Ей просто завидно, потому что ни один мужчина ее не хочет. От этого кислого лица и молоко свернется. — Но, Гарри, разве вы не понимаете, если она знает про нас, то может сказать другим, а они передадут герцогине. Кто-нибудь, кроме нее, мог догадаться о наших отношениях. Мы не можем так продолжать и дальше. Он молча уставился на нее, но наконец будто через силу произнес: — Вы говорите, что хотите прекратить наши встречи? — Нет! Глупый вы человек! — воскликнула Кэтрин. — Я хочу, чтобы мы поженились. И знаю, как это сделать… — Она замолчала, увидев выражение лица Гарри. Оно вовсе не говорило, что этот мужчина только что получил шанс исполнить самое заветное желание своего сердца. — Кэтрин, мы не можем пожениться, — с горечью проговорил Гарри. — Не думайте, что я не мечтал об этом. Много раз я пытался найти решение. Но это невозможно. Мой отец не богат и не родовит. Говарды не вступают в браки с такими, как мы. Вас лишат наследства, я потеряю место, и нам не на что будет жить. Я не могу допустить, чтобы с вами случилось такое. «Или со мной самим», — промелькнула в голове у Кэтрин непрошеная мысль. — А мы не сможем жить с вашими родителями? — Чтобы навлечь гнев Говардов и на их головы тоже? Дорогая, вы предаетесь несбыточным мечтам. Этому никогда не бывать. Кэтрин схватила его за руки: — Но я люблю вас, и вы любите меня. Я вас не брошу. Вы тот, кому я отдам свою девственность, даже если это причинит мне боль. — Она не забыла испытанного в тот день. — Я буду принадлежать вам и только вам. Мы найдем способ, как быть вместе. — Не глупите, Кэтрин, — покачал головой Гарри. — Вы грезите наяву. Сейчас мы с вами вместе настолько, насколько это возможно, и по-другому не будет. Не обманывайте себя. Мы никогда не сможем пожениться. Кэтрин обиделась. У них было несколько ссор, но никогда еще Гарри не говорил с ней так резко, и ей захотелось успокоить его. — Тогда я стану вашей любовницей! Я отдамся вам, не сомневаясь, что вы будете добры ко мне, потому что знаю вас как истинного джентльмена. — Если бы я и правда был джентльменом! Перед нами не стояла бы эта дилемма. Может, нам и правда стать любовниками, потому что ничего другого нам не дано. Вы не думаете, что мне стыдно быть недостойным вас? Ради Бога, давайте сделаем это сегодня вечером! Кэтрин вся сжалась. Она и подумать не могла, что расстанется с девственностью при наплыве такой злости и горечи. Надо же, как, оказывается, глубоко переживает Гарри свою несостоятельность в качестве достойного ее жениха. — В ваших прекрасных качествах никто не сомневается! — воскликнула Кэтрин. — Я докажу вам! Приходите сегодня вечером в кабинет при часовне. Гарри схватил ее за плечи: — Вы это всерьез? Вы меня не обманываете? — Нет. — Она посмотрела ему прямо в глаза.
Кэтрин не пошла в спальню. Там сегодня намечалась пирушка, и ей не удалось бы улизнуть незамеченной; кто-нибудь обязательно спросит, куда она собралась. Вместо этого она потихоньку выскользнула из дому и сидела с Гарри в маленьком банкетном домике на пустынной лужайке, где их скрывали ажурные деревянные решетки от глаз любого, кто отважился бы прийти сюда в такой поздний час. Внутри у Кэтрин было неспокойно: она сомневалась, верное ли приняла решение. Сказать по правде, она жалела, что предложила себя Гарри; он пребывал в каком-то странном состоянии и не походил на себя прежнего, любящего и заботливого. Обрывок шерстяной материи, вымоченный в уксусе и засунутый как можно глубже в себя, вызывал жгучее ощущение внутри; расстраивало ее и то, что Гарри даже не подумал спросить, как они будут предохраняться от беременности. Неужели его не волнует, вдруг он сделает ей ребенка? Близилась ночь. В доме погасили свечи. Подняв взгляд, Кэтрин увидела в окне Малин — та задергивала шторы — и понадеялась, что они с Гарри остались незамеченными. Отдаленный колокол пробил полночь. Вскоре все погрузилось во тьму. Гарри встал, протянул ей руку и сказал: — Пойдемте в дом. Кабинет при часовне был тускло освещен свечами. Они сели на скамью. Кэтрин задумалась, как они сумеют заново разжечь в себе страсть до такой точки, где она будет готова пойти до конца. — Вы колеблетесь, — сказал Гарри, накрывая ладонями ее руки. — Не беспокойтесь. Я не стану принуждать вас к исполнению обещанного. Простите, я был в тот момент не лучшим компаньоном. Убийственно думать, что ты не можешь жениться на любимой женщине, потому что тебя считают недостойным ее. Вы заговорили о браке, и на меня снова нахлынули эти горькие мысли. Глаза Кэтрин наполнились слезами. — Когда мы вместе, мне хочется радоваться, а не грустить, как сейчас. — Вы правы. — Гарри привлек ее к себе и, немного помолчав, сказал: — Сегодня я получил письмо от отца. Он побуждает меня жениться на дочери одного своего соседа. Говорит, мол, хочет увидеть внуков, прежде чем отправится к праотцам. Кэтрин в ужасе отстранилась от него: — Вы хотите жениться на ней? — Клянусь Богом, нет! — ответил Гарри. — Я хочу вас. Просто не знаю, что ему сказать. Он выдвинул все возможные разумные доводы в пользу этого брака. Кэтрин облегченно вздохнула: — Скажите ему, что любите другую. — В его картине мира любовь не имеет значения. Он только посмеется надо мной. — Тогда… В галерее часовни послышались гулкие шаги. Дверь в кабинет распахнулась, на пороге стояла герцогиня, во всем своем великолепии, ее глаза сверкали от гнева. — Мне сказали, что я смогу найти вас обоих здесь, — ледяным голосом произнесла она. — Чем вы тут занимаетесь? Кэтрин вскочила на ноги. Щеки у нее горели, колени подкашивались. — Молю вашу светлость о прощении, мы просто разговаривали. — В такое время? А вы, Мэнокс, что скажете в свое оправдание? — Миледи, я прошу простить меня. — Гарри тоже быстро встал и покаянно склонил голову. — Меня обеспокоило письмо отца… Мистресс Кэтрин застала меня в галерее очень расстроенным и по доброте своей предложила выслушать меня. — Верится с трудом. По вашим лицам я могу сказать, что ничего пристойного у вас на уме не было. Ты, девочка, была отдана мне на попечение, и я в ответе за то, чтобы ты выросла честной и благонравной. Я дала тебе крышу над головой, когда твой дурак-отец улепетнул в Кале, и заменила тебе мать, и вот чем ты мне отплатила. Иди сюда, ты, маленькая шлюха! Кэтрин не могла шевельнуться, будто приросла к месту, а Гарри крикнул: — Мадам, молю вас… — Помолчите! — Герцогиня подошла, воздела вверх свою трость и — раз, два — сильно ударила ею Кэтрин по заду. Больно было ужасно, даже сквозь юбку платья и киртл. Потом ее светлость повернулась к Гарри и его тоже отходила палкой под отчаянные крики Кэтрин. — Чтоб больше никогда не оставались наедине, поняли меня? — прорычала герцогиня. — А вы, мистер Мэнокс, уволены. И покинете этот дом завтра утром. — Нет! — взвыла Кэтрин, а бабка схватила ее за руку и вытащила из кабинета. — Простите! — крикнул им вслед Гарри. — Кэтрин, простите меня!
Побитая и сломленная духом, Кэтрин легла на постель и утонула в печали. По пути в спальню она без конца твердила герцогине: — Мы не делали ничего дурного, — и отчаянно молила, чтобы Гарри оставили. Тщетно. — Будешь сидеть здесь под замком, пока он не уедет, — строго наказала ей герцогиня. Напрасно утром Кэтрин стояла у окна в надежде напоследок хотя бы мельком увидеть своего возлюбленного. Чесворт утратил для нее все свое волшебное очарование. В оставшиеся до отъезда недели Кэтрин хандрила, избегала общества других девушек и хотела только одного: чтобы любимый был рядом, целовал ее и уверял, что между ними все хорошо. В глубине души она тревожилась, как бы отец не стал принуждать Гарри к женитьбе на соседской дочери и тот, думая, что Кэтрин для него потеряна, не согласился. Ему придется как-то утихомиривать отца, ведь старик наверняка рассердится, что сын потерял хорошее место. Но еще страшнее была мысль, что Гарри давно знал о готовящемся браке и хотел жениться на той девушке. Конечно, он не был безрассудно страстен в тот последний день, когда возражал против женитьбы на Кэтрин, и не воспользовался возможностью предаться с ней любви по-настоящему. Она предложила ему самое дорогое, и он отверг этот дар. Вот в каком свете виделась ей теперь вся эта ситуация. Заняться ей было почти что нечем; имея массу свободного времени, она то впадала в тоску, то злилась, то терзалась страхами. Через два дня после отъезда Гарри Дороти и горничная Иззи наткнулись на нее, плачущую, в отдаленном уголке сада. Девушки бросились утешать подругу, и Кэтрин излила перед ними душу, раскрыв всю историю. — Он ни слова не сказал против увольнения, — всхлипывала она. — Просто оставил меня. — Он слуга. — Дороти сжала ее руку. — Чего бы он этим добился? — Он не стоит ваших слез! — воскликнула Иззи. — Мужчина, который что-то из себя представляет, подал бы голос. Он мог бы сказать, что имел честные намерения и хотел жениться на вас. И ничего не потерял бы от этого. — Попытайся забыть его, — посоветовала Дороти. Но Кэтрин не могла. Она отчаянно цеплялась за надежду, что по возвращении в Ламбет ей удастся как-нибудь увидеться с Гарри, ведь он жил совсем недалеко. Но еще сильнее она надеялась, что он сам попытается устроить встречу с ней.
Глава 9
1538 ГОД В Ламбет они вернулись в конце июля. К радости Кэтрин, там, в привратницкой, ее ждало запечатанное письмо. Оно было от Гарри. Он получил новую должность учителя музыки у детей лорда Беймента — того самого, дом которого находился совсем рядом! Сможет ли он ее увидеть? Он так по ней соскучился. В письмо был вложен маленький пакетик с крошечной золотой подвеской в форме сердца. Кэтрин ахнула от восторга и тут же надела ее себе на шею, спрятав под партлетом[138], который прикрывал квадратный вырез платья. Иззи согласилась передать ответ. — Не ждите слишком многого, — посоветовала она. Кэтрин вняла ее совету и вскоре получила новое послание от Гарри. Он будет у ворот Норфолк-Хауса в четверг вечером и умоляет ее встретиться с ним там. В лихорадочном нетерпении Кэтрин предвкушала свидание. Четверга ей было не дождаться, и не важно, узнает герцогиня или нет. Она готова испытать на себе силу ее гнева — мало того, рискнуть всем, лишь бы увидеться с любимым. Платье Кэтрин надела черное, потому что оно нравилось Гарри, не забыла и подвеску, которой восторгались многие юные леди. После ужина она смочила лицо розовой водой и расчесала волосы. Вымытые утром, они золотистым облаком вились вокруг ее плеч. Кэтрин чувствовала себя красавицей и знала, что вызовет восхищение Гарри. И он будет ее любовником во всех смыслах. Она решилась. Когда Кэтрин торопливо шла по отгороженному решетчатым простенком коридору, перед ней вдруг возник какой-то мужчина. — Какая приятная встреча! И куда это вы направляетесь, мистресс Кэтрин Говард? — Это был мистер Дерем, новый церемониймейстер герцогини и ее кузен, который занял место при дворе, когда они вернулись из Чесворта. Кэтрин сталкивалась с ним каждый день: он следил за сервировкой стола, а также за работой и поведением старших слуг в покоях герцогини. Она немного побаивалась этого человека, потому что именно он приводил к присяге новых людей и бдительно следил за всем происходящим при дворе. Мистер Дерем был энергичен и очень хорош собой, но от него исходило ощущение опасности; он напоминал пирата: коротко обстриженные черные волосы и неизменная сардоническая усмешка на губах. Кэтрин легко могла представить его с зажатым в зубах кинжалом. Она взъерепенилась. Этот господин, видно, перепутал ее со служанкой. Куда она идет, его не касается. — Это мое дело, не ваше, сэр, — произнесла Кэтрин самым высокомерным тоном, на какой была способна, и прошла мимо. — Надеюсь, он того стоит! — бросил ей вслед Дерем.Гарри ждал ее у ворот. Удивительно, но при виде него сердце у Кэтрин не екнуло, как раньше. Тем не менее она обрадовалась и поспешила заверить себя, что скоро между ними все будет по-прежнему. — Дорогая! — воскликнул Гарри и заключил ее в объятия. — Посидим с вами во дворе церкви? Она бросила взгляд вдоль дорожки на дом герцогини. Вокруг него всегда сновали люди, и Кэтрин про себя взмолилась: лишь бы никто их не увидел. Мистера Дерема — хвала святым угодникам! — нигде не было видно. — Давайте прогуляемся вдоль реки к Ламбет-Марш, — предложила она. — Так будет безопаснее. Они пошли к Темзе по засыпанной гравием дорожке. — Я сильно переживаю из-за случившегося той ночью, — сказал Гарри. — Когда появилась герцогиня, я буквально онемел. Надеюсь, вам не слишком сильно досталось. — Ничего, все уже прошло, — ответила Кэтрин. — Конечно, я очень расстроилась, но к чему теперь об этом вспоминать. Ей хотелось спросить Гарри, женится ли он, но она боялась снова вызвать у него мрачные мысли. — Надеюсь, мы и дальше сможем видеться, — продолжил он. — Я от вас совсем недалеко. — Конечно, — согласилась Кэтрин, удивляясь, отчего так изменилось ее отношение к нему. Что с ней случилось? На берегу реки они остановились и залюбовались небом над Вестминстером: голубая лазурь, прорезанная золотыми лучами заката. Гарри обхватил ее рукой за плечо и повернул к себе лицом, потом наклонился и поцеловал, просунув язык ей в рот. Кэтрин вложила в поцелуй все чувства, какие сумела собрать; ей хотелось ответить на ласку так, как она делала это несколько недель назад, однако ничего не вышло. Перед глазами у нее стояло смуглое лицо усмехающегося мистера Дерема. Этот мужчина заинтриговал ее; что-то в нем было. — Не лучше ли нам удовлетвориться тем, что мы имеем? — пробормотал Гарри, кладя руку ей на грудь. — Да, — согласилась Кэтрин, отталкивая ее; она теперь не была уверена, что жаждет его прикосновений. — Я хочу тебя, — хрипло проговорил Гарри. — И знаю, ты меня тоже хочешь. Знаю, какая ты неугомонная девчонка. Кэтрин отпрянула от него, ей не хотелось слышать такие слова из его уст. Гарри вновь прильнул к ней с поцелуем, на этот раз более настойчивым, и сжал руками ее ягодицы. О, как же обрадовалась Кэтрин, услышав приближающийся звук чьих-то голосов! Она вывернулась из рук Гарри и быстро пошла обратно к дому, лепеча на ходу: — Вам лучше вернуться. Мне бы не хотелось, чтобы возникли неприятности, если кто-нибудь увидит вас здесь. — Мне все равно, потому что я увидел вас, дорогая, и это было замечательно! — воскликнул Гарри. — Можно я завтра приду снова? — Я дам вам знать, — ответила Кэтрин. Они приблизились к воротам. Гарри поднес к губам ее руку, проговорив: — Я буду считать часы.
Через два дня Дороти взялась отнести записку, в которой Кэтрин сообщала Гарри, что увидится с ним на том же месте. О своих внутренних сомнениях она подругам не рассказала. Как хорошо было купаться в ощущении любви; ей хотелось вернуть это чувство, а если бы она призналась кому-нибудь, что его больше нет, то эта пустота в сердце стала бы еще более реальной. И Кэтрин раз за разом соглашалась на свидания с Гарри, благодарила Дороти и Иззи за то, что те доставляли их записки и передавали знаки любви, притворяясь, будто все идет так хорошо, как ей и хотелось. Однажды вечером, ожидая Гарри у ворот Норфолк-Хауса, она увидела сквозь арку мистера Дерема: он шел прямо к ней под руку с Джоан Балмер. От этого зрелища у Кэтрин слегка защемило сердце. Как странно! Джоан, похоже, забыла, что она замужем. Завести себе любовника-старика — это одно, но мистер Дерем? Как-то неловко было видеть их такими же счастливыми вместе, как они с Гарри. — Приветствую, мистресс Кэтрин, — надменно проговорила Джоан. — Ждете мистера Мэнокса? — Что? — Кэтрин ужаснулась. — Кто вам сказал? — Девушки в спальне говорили о вас. Это ни для кого не секрет. Фрэнсис и тот знает. Дерем ухмыльнулся. Кэтрин поклялась убить Дороти и Иззи при первой же встрече. Да как они посмели предать ее доверие! — Мы слышали, вас скоро выдадут замуж, — сказал мистер Дерем. Кэтрин разинула рот. — Дороти говорит, вы помолвлены и сильно влюблены, — добавила Джоан. Ну уж это слишком! — Ничего подобного, — запротестовала Кэтрин, — и лучше бы вы не слушали глупых сплетен! — Но вы встречаетесь с ним, — возразила Джоан. — Это мое дело! — огрызнулась Кэтрин и ушла.
— Вы говорили Дороти или Иззи, что мы помолвлены? — спросила она Гарри, даже не поздоровавшись, как только он появился. — Нет, не говорил, — ответил он и нахмурился, а Кэтрин пошла вдоль Ламбетского дворца. — Ну они, похоже, сообщают всем и каждому, что мы помолвлены! Вот я и подумала, с чего бы это? — Может, они так решили, увидев подвеску, которую я прислал вам. Подвеска. Должно быть, она стоила немалых денег. Кэтрин пожалела, что приняла ее, ведь эта вещица и правда выглядела как предсвадебный подарок. — А вы этого добивались? — Нет! Я увидел ее в какой-то лавке в Челси и подумал о вас. — Ладно, я вам верю. Но мне неприятно, что люди строят вокруг нас невесть какие домыслы. — Я был бы рад, если бы они оказались правдой, — сказал Гарри, беря ее за руку. — Почему мы идем туда? В саду у дома миледи есть укромные места, где можно уединиться. Помните ту беседку, оплетенную розами? Давайте вернемся. Кэтрин неохотно согласилась. Хотя признаться в этом самой себе было нелегко, но ее любовь умерла, однако смелости сказать об этом вслух у нее не хватало. Она покорно пошла с ним обратно к дому герцогини, мысленно взывая к Господу, чтобы они натолкнулись на кого-нибудь из знакомых и это открыло бы ей путь к бегству. Однако уже стемнело, и в саду не было ни души. Держась за руку Гарри, Кэтрин вошла в беседку и позволила ему поцеловать себя. Когда он разгорячился, она попыталась охладить пыл нежеланного более любовника, убрав со своей груди его руку. — Не здесь, — прошептала Кэтрин. — Вдруг кто-нибудь придет! — Тут никого нет, — ответил он, задирая ей юбку. — Успокойтесь, дорогая. Вы же сами этого хотите. — Да, но не здесь! — резко ответила она и встала. — Простите, — сказал он и печально улыбнулся. — Мне кружит голову ваша красота. — Я должна идти, — заявила Кэтрин. — Что-нибудь случилось? — Нет, — солгала она, стремясь поскорее расстаться с ним. — Просто… просто я не могу расслабиться, когда нас могут увидеть. — Предоставьте это мне. — Гарри встал. — Я что-нибудь придумаю. Мы должны быть вместе, Кэтрин. Вы обещали, и мне не вынести ожидания дольше. Да, она обещала. И теперь горько сожалела об этом. — Становится поздно. Меня хватятся. Дайте мне знать. — Кэтрин подхватила юбки и поспешила прочь. — Не забудьте, вы обещали, Кэтрин! — крикнул ей вслед Гарри, и в его голосе звучал надрыв. Она обернулась: — Иногда, в горячке, люди говорят такое, чего на самом деле не думают. — И она прибавила шагу, услышав за спиной: — Маленькая сучка! Кэтрин пропустила ругательство мимо ушей и вбежала в дом, намереваясь тут же отыскать Дороти и Иззи. — Почему вы говорили, что я обещана мистеру Мэноксу? — набросилась на них она. — Мы думали, так и есть, — смущенно пробормотала Дороти. — И с чего вы так решили? — горячилась Кэтрин. — Просто придумали. Решили сделать меня мишенью небольшого милого скандальчика. — Простите нас, — едва не плача, проговорила Иззи. — Мы в самом деле думали, что это правда и вы скоро выйдете замуж, — сказала Дороти. — И не мы одни, — добавила Иззи. — Кое-кто из девушек видел вас вместе в саду. — Мы больше ни словечка об этом никому не скажем, — пообещала Дороти. Кэтрин смягчилась и простила подруг. На их месте она тоже не отказала бы себе в удовольствии немного посплетничать.
Через два дня сердце ее упало, когда следом за ней в спальню вошла Мэри Ласселлс. Время было послеобеденное, в комнате никого. Кэтрин заскочила сюда взять лютню, которую унесла из гостиной, где Гарри учил ее играть. И она делала это почти мастерски. — Угадайте, кого я видела сегодня у будки привратника? Он спрашивал о вас! — выпалила Мэри. — Понятия не имею, — ответила Кэтрин. — Это был мистер Мэнокс, — с явным удовольствием сообщила ей Мэри. Что-то в ее поведении подсказало Кэтрин: она еще не все высказала. Гарри снова пришел разыскивать ее. Это само по себе нехорошо, а тут еще из всех, кто мог бы это увидеть, свидетельницей оказалась именно Мэри. — И что? — небрежно бросила Кэтрин, взяла лютню и направилась к двери. — Вы же хотите за него замуж, не так ли? — с вызовом вопросила Мэри. Кэтрин остановилась. — Если бы и хотела, то не стала бы обсуждать это с вами. — Так все считают, — продолжила Мэри, — но мне известно кое-что другое. — Она подкидывала Кэтрин наживку. — Ничего вам не известно! — Нет? Мистер Мэнокс был довольно откровенен. Я сказала ему, что зря он добивается дочери Говардов. Спросила, зачем он выставляет себя глупцом, занимаясь пустым делом. Сказала, если миледи Норфолк узнает о любви между ним и мистресс Кэтрин, то разделается с ним. Я напомнила ему, что вы принадлежите к благородному дому и, если он осмелится жениться на вас, кто-нибудь из ваших родных убьет его! Кэтрин в ужасе слушала ее. — Кто дал вам право! — Может, и никто, но я сделала вам одолжение, — Мэри улыбнулась, — потому что вывела его на чистую воду, узнала, какой он негодяй. Он попросил меня не беспокоиться и признался, прямо скажем, довольно беззастенчиво в своих бесчестных намерениях. — Что?! — воскликнула потрясенная Кэтрин. Мэри продолжала улыбаться: — Он заявил, что знает вас очень хорошо, и похвастался, мол, судя по тому, какие вольности вы ему позволяли, наверняка сумеет получить от вас свое. — Он сказал вам это? — Да, и выразил абсолютную уверенность в вашей к нему любви, так как вы якобы обещали отдать ему свою девственность, хотя это может причинить вам боль, и уверены, что после этого он будет добр к вам. Моя дорогая, остерегайтесь этого человека! Кэтрин заколотило от стыда и возмущения. Злорадство Мэри вызвало досаду, но то, что Гарри говорил о ней в таком тоне, было непростительно. Да, она сказала ему все эти вещи. И он отомстил, это не вызывало сомнений. — Фу! — воскликнула она. — Он мне ничуть не интересен, ничуть! — Она в ярости расшагивала взад-вперед по комнате. — Зря он наговорил такого об мне. Я заставлю его объясниться. Мэри, вы пойдете со мной в дом лорда Беймента и поприсутствуете при моем разговоре с ним? Вы будете свидетельницей его слов. — Конечно, — кивнула Мэри; она явно была очень довольна и ни за что не отказалась бы от такого удовольствия. Девушки прошли по Черч-стрит к великолепной резиденции лорда Беймента и попросили переговорить с мистером Мэноксом. Когда тот спустился в холл, его лицо вспыхнуло. Он понял, зачем они пришли! — Мистресс Ласселлс передала мне ваши слова, — заявила Кэтрин, сверкая глазами. — Вы открыли ей очень личные подробности наших отношений и признались в бесчестности ваших намерений. Это правда? Вы говорили такое? Гарри кивнул, не смея взглянуть ей в глаза: — Я могу объясниться. — Сделайте одолжение! — Кэтрин редко испытывала такую ярость. — Давайте присядем у окна, где нас не никто услышит, — хрипло проговорил Гарри. Кэтрин пошла с ним, оставив Мэри стоять в другом конце холла, и намеренно села подальше. Она чувствовала, что от него разит элем. — Простите меня, дорогая, — сказал Гарри, повесив голову. — Я так сильно люблю вас и так хотел увидеться с вами, что совсем потерял голову. — Значит, вы это сболтнули спьяну? — резко оборвала его Кэтрин. — Нет, нет, нет! Она совалась в наши дела, так беспардонно любопытствовала, что я решил осадить ее. Я не думал, что она все вам расскажет. У меня и в мыслях не было бесчестно поступать с вами или огорчать вас. — Вы понимаете, что ваши слова, если их станут повторять, могут разрушить мою репутацию. И мою жизнь. Если об этом услышит герцогиня, она может выбросить меня из своего дома, и мне будет некуда идти. — Если она сделает это, я женюсь на вас, — сказал Гарри, беря ее за руку. Кэтрин ее отдернула и едко напомнила: — Вы уже объяснили мне, почему это невозможно. — Послушайте, дорогая, я понимаю, вы рассержены, но я не хотел никоим образом огорчать вас. Я вел себя как идиот. Прошу, простите меня! Хотите, я встану на колени? — Не говорите глупостей, — сказала Кэтрин, оттаивая. Гарри выглядел таким несчастным. Казалось, он говорил искренне, и объяснения его звучали убедительно, хотя сам поступок был безрассудным. — Так и быть. Я прощаю вас. Он снова взял ее руку и покрыл поцелуями: — Мы увидимся еще? — Я подумаю, — ответила она. — И пришлю сказать вам. — А мы не можем договориться сейчас? Кэтрин сдалась. — Хорошо. Приходите в воскресенье после обеда. Она ушла, не дав ему возможности поцеловать себя на прощание.
В воскресенье ближе к вечеру Гарри ждал ее. На этот раз она повела его во фруктовый сад, где они гуляли среди усыпанных зреющими плодами яблонь. Кэтрин решила, что пора положить конец этой затянувшейся истории. Ее больше не тянуло к нему. На самом деле он теперь вызывал в ней отвращение, и она вообще изумлялась, что находила в нем? Когда Гарри попытался ее поцеловать, она увернулась и через какое-то время сказала, что ей нужно навестить братьев, после чего быстро попрощалась и ушла. Взбегая вверх по лестнице, Кэтрин говорила себе: ну теперь-то он должен понять, что между ними все кончено.
Глава 10
1538 ГОД В ту ночь юные леди вновь собрались в общей спальне для очередной пирушки. Дороти и Мег стащили с кухни оставшийся после ужина кусок мяса и пару-тройку пряников, Кэт с Элис прошмыгнули в погреб, пока виночерпий не видел, и теперь вынули из-под кроватей две бутыли очень хорошего рейнского вина; Джоан с Иззи, побывав на рынке, купили там пирогов с крольчатиной, а Маргарет Беннет и еще несколько камеристок с разными интервалами заглянули в кладовую и умыкнули оттуда несколько круглых белых хлебов, ватрушку с джемом и немного лососины. Вкладом Кэтрин стала маленькая корзинка опавших яблок из сада. Пир намечался недурной! Ключ был благополучно «позаимствован», и в полночь, услышав стук в дверь, Дороти открыла ее и впустила юных джентльменов, которые пришли к ним в гости этой ночью. Роберт Дэмпорт присоединился к Элис Уилкс, а Джон Беннет тепло обнял супругу, пока остальные кавалеры приветствовали своих возлюбленных. Кэтрин удивилась, увидев, как Эдвард Уолдгрейв направился прямиком к Джоан и звонко чмокнул ее в губы. Она-то думала, за ней ухаживает мистер Дерем, а Эдвард увлечен Дотти Баскервиль. Но тут появился и сам Дерем, ему как будто было все равно; перецеловав всех девушек в качестве приветствия, он, по-волчьи улыбаясь, направился к Кэтрин. При виде него Кэтрин ощутила дрожь возбуждения. Что-то в нем было невероятно привлекательное. Она когда-то считала Гарри красавцем? Да он Аполлон рядом с этим Марсом. — Я надеялся увидеть вас здесь, мистресс Кэтрин, — сказал мистер Дерем, открывая сумку и доставая из нее вино и яблоки. — К вашим услугам, сэр, — отозвалась она, с улыбкой глядя ему прямо в глаза. Дерем помог ей разложить принесенную им еду и стоял рядом с ней у стола, пока они наполняли свои тарелки. Потом они вместе сели на ее кровать. Кэтрин как будто даже нравилась его дерзость. Вокруг них другие парочки болтали и ели при свете свечей. — Раньше я никогда вас здесь не видела, — сказала Кэтрин. — О, я провел здесь несколько ночей, хотя вы отсутствовали — искали удовольствия где-то в другом месте, как мне говорили. Кэтрин вспыхнула. — Здесь неплохие игры затевают по ночам. — Дерем посмотрел на Джоан, которая целовалась с Эдвардом Уолдгрейвом. — Может быть, но я в них не участвую, — ответила ему Кэтрин, — и никогда не участвовала. — Даже с галантным мистером Мэноксом? — лукаво спросил Дерем. — Никогда! — возмутилась Кэтрин. — Я слышал кое-что другое. — Значит, вы слышали ложь! — Она сердито глянула на него. — Вы явились сюда изводить меня, мистер Дерем? — Нет, мистресс Кэтрин, — ответил он, не отрывая от нее своих темных глаз. — Я пришел, потому что хотел ближе познакомиться с вами. Давайте скажем так: я очарован вашей красотой, если вам угодно соблюдать правила этой игры в любовь, которую нам предначертано вести. — Вы говорите о любви, сэр? Я вас едва знаю. — Тем не менее сердце у Кэтрин заколотилось. — Любовь, вожделение… называйте, как вам нравится, я хочу вас. Как только увидел, сразу понял: да, я хочу вас. — Хватит! — Она подняла вверх руку. — Как сказала бы миледи Норфолк, я вам не пара. — Я ее кузен. Неужели это делает меня таким недостойным? Я из старинного рода. Мы ведем счет предкам на несколько столетий вглубь времен. Моя бабка была Тилни, как и ее. А моя мать — та самая Изабель Пейнелл, которой поэт Скелтон посвятил несколько прекрасных стихотворений. Он называл ее «свежайший цветок мая». Она служила у покойной герцогини Норфолк и действительно была очень красивой. Но все это до того, как она вышла за моего отца, вы понимаете. Он умер семь лет назад. — Я слышала, вы джентльмен из бедной семьи, — сказала Кэтрин. — Неправда! — Дерем улыбнулся. — Просто я младший сын, не имею состояния и не жду наследства в будущем, то есть должен сам зарабатывать себе на жизнь. До приезда сюда я служил в личной охране герцога Норфолка. Наше родовое гнездо — это Кримплшем-Холл в Норфолке. Мой брат, сэр Томас Дерем, заправляет там сейчас всеми делами. Вот наш герб. — Он протянул Кэтрин руку, на одном из пальцев красовался перстень с оленьей головой. — Это намек на нашу фамилию[139]. Ну как, мои верительные грамоты будут одобрены вашей светлостью? Кэтрин рассмеялась. Ей нравилось находиться в обществе этого остроумного мужчины. — Да вы, похоже, знатнее герцогини! И мы с вами тоже кузены, насколько я понимаю. — Но, надеюсь, не слишком близкие, — пробормотал Дерем, и в его глазах сверкнули озорные искры. — Ну и состояния у меня нет. — Кэтрин вздохнула. — Я тоже живу милостями миледи. Так, может, мы не такая уж плохая пара! И герцогиня одобрит наш союз. — Нам не нужно ее одобрение, чтобы наслаждаться друг другом, — сказал он, опорожнил свой стакан и шаловливо глянул на Кэтрин. — Не понимаю, о чем вы! — со смехом произнесла она, разгоряченная вином. — По-моему, вы для меня староваты. Мне всего семнадцать. Дерем скривился и сказал: — А мне всего двадцать девять. Борода еще не поседела! Он отнес их пустые тарелки на стол, а вернувшись, достал из своей сумки лютню и тетрадь с балладами. Начал тихо играть — и играл хорошо. Это была песня, сочиненная самим королем: «Если б правила любовь!», за ней последовала другая, под названием «Adieu mes amour»[140]. Как приятно было сидеть рядом с этим жизнерадостным человеком, который к тому же тебя развлекает! Музыка произвела свое действие и на остальных. Некоторые целовались, другие скрылись за занавесками или просто завалились на постели. Дерем закончил играть и повернулся к Кэтрин: — Вы будете моей amour, мистресс Кэтрин? — Его обаяние было столь велико, что она не колеблясь отдалась в его объятия, и он покрыл ее жаркими поцелуями. Не успела Кэтрин опомниться, как они уже катались по кровати, не раздеваясь, в безумном порыве страсти. — Будьте моей! — молил он. — Нет! Слишком быстро, — возражала Кэтрин, противясь властному зову плоти. — Это будет неправильно. — К чему ждать? Мы хотим друг друга? — Он жарко дышал ей в ухо. — Я хочу узнать вас получше, — шепнула она. Вместо ответа он взял ее руку, засунул себе под гульфик и с усмешкой проговорил: — Теперь вы знаете меня лучше. — Вы негодник, — проворчала Кэтрин, но руку не убрала, и вскоре ему уже не о чем больше было просить. — Что вы со мной делаете? — стонал Дерем. — То, чего вы хотели, — со смехом отвечала Кэтрин. — Не засыпайте. Другие джентльмены скоро будут уходить. Утром никого из вас здесь быть не должно. Вокруг них уже начали шуршать одеждой собиравшиеся на выход мужчины. Дерем сел, потом нагнулся и поцеловал Кэтрин: — Можно мне прийти завтра? Она кивнула: — Мне бы этого хотелось. Он потянулся за сумкой. — Я буду здесь. О Кэтрин! Надеюсь, я могу вас так называть, раз мы теперь ближе познакомились? — Да, конечно. — Она захихикала. — Прошу вас, зовите меня Фрэнсис.«Девушке следует быть стыдливой», — говорила себе Кэтрин, лежа в постели на следующее утро и вспоминая минувший вечер. Целомудрие похвально. Но что плохого в том, чтобы не упускать своего там, где его можно взять? Зачем отказывать себе в удовольствии, которое она может получить с Фрэнсисом Деремом? Нет, ей незачем сдерживать себя. Была только одна проблема: Гарри. Нужно разорвать отношения с ним, и будь что будет. Нечестно и дальше держать беднягу в ложном убеждении, что она его любит. — Я вижу, у вас новый поклонник, — сказала Мэри, когда они стояли рядом и умывались над тазами. Кэтрин украдкой глянула на нее. Неужели она снова начнет мешаться не в свое дело? — Мистер Дерем из хорошей семьи. Это не так уж плохо, учитывая, что у вас нет приданого. — Он мне нравится, — призналась Кэтрин, радуясь, что Мэри не собирается препятствовать ее увлечению. — И вы ему тоже нравитесь. Это всем видно. — Он хочет сегодня ночью прийти снова. — Она помолчала. Гнев герцогини поутих, и Кэтрин не хотелось навлекать его на себя снова. — Мэри, вы возьмете ключ из спальни герцогини и принесете его мне? Вас она ни за что не заподозрит. Я притащу кое-какой еды с кухни, и мы скажем остальным, что у нас маленький банкет. Мэри заговорщицки улыбнулась: — Хорошо. Для меня это не внове. — О, благодарю вас! — воскликнула Кэтрин и поцеловала ее. Мэри слегка оторопела, но потом расплылась в улыбке. — Не позволяйте ему слишком многого, — наставительно произнесла она. — И не подумаю! Кэтрин отвернулась, щеки у нее пылали: она вспомнила, что Гарри сказал о ней Мэри.
Около часа Кэтрин потратила на составление записки, которую Мэри должна была отнести Гарри. Она пыталась быть как можно более мягкой, но нужные слова подбирались с трудом. «Вы были мне добрым другом, — написала Кэтрин, — но я думаю, лучше нам более не встречаться. У нас нет будущего, и то, что было между нами, прошло с моей стороны, и я думаю, с вашей тоже. Прощайте. Всего хорошего». Она сложила листок, отдала его Мэри и стала ждать, когда разразится буря.
Вечером Малин шепнула Кэтрин, что мистер Мэнокс у привратницкой и требует встречи с ней. — Привратник говорит, он в ужасном состоянии. О, Кэтрин, что ты наделала? Сердце у Кэтрин упало. — Ничего! — сердито бросила она и, собравшись с духом, быстро спустилась вниз. Гарри Кэтрин нашла рядом с домиком привратника, он взволнованно расхаживал взад-вперед. — Что это значит? — Он сунул ей под нос скомканную записку. — То, что там написано. Мне жаль, Гарри, но я больше не могу с вами видеться. — Герцогиня узнала о наших встречах? — Нет. — Кэтрин повесила голову. — Это мое решение. — О Боже! — простонал Гарри. — Я люблю вас, Кэтрин! Пожалуйста, не делайте этого. — Потом вы будете благодарить меня! — выпалила она и убежала обратно в дом, плача и ненавидя себя за то, что причинила ему боль. Но сказать правду было необходимо. Она больше не любит его, и он измучился бы еще больше, начни Кэтрин притворяться и длить эти обреченные на крах отношения.
В полночь пришли Фрэнсис и Эдвард Уолдгрейв. Они принесли фрукты и вино, которыми угостили всех камеристок. Джоан уехала к матери, и Эдвард вернул свое внимание Дотти Баскервиль, а Фрэнсис, сперва поцеловавшись со всеми девушками, которые были в комнате, присоединился к Кэтрин и заиграл на лютне. Хотя ее и рассердила такая вольность ухажера, он смягчил свою подругу несколькими шутками, а соприкосновение их плеч привело ее в возбуждение. — Я хочу вас, — повторил вчерашнее признание Фрэнсис, когда они, устроившись на постели, попивали вино. — Это не шутка. Скажите, что будете моей! Кэтрин вновь задалась вопросом: почему бы ей не завести любовника? Некоторые из здешних девушек переходили от одного кавалера к другому. Ей надоело хранить целомудрие. Возможности замужества для нее не предвиделось; все так и останется, если герцогиня не вспомнит, что надо бы наконец этим озаботиться. Почему бы ей не насладиться радостями любви здесь и сейчас? Она никого другого не захочет так, как хотела Фрэнсиса. — Буду, — выдохнула Кэтрин и скользнула в его объятия. — Не волнуйтесь, — тихо проговорил он ей на ухо. — Если я сотню раз делил ложе с женщиной и до сих пор не стал отцом, значит умею заводить детей, только когда мне этого хочется. — Я тоже знаю, как женщине обращаться с мужчиной и не заиметь ребенка, пока она сама не захочет. Мне рассказала одна камеристка, — сообщила она Фрэнсису. — Тогда не заняться ли нам любовью? — Его объятие стало крепче. Кэтрин не колебалась: — Конечно! Когда остальные лягут спать. — Мы можем задвинуть занавески. — Дайте мне допить вино. — Пусть не думает, что ей невтерпеж. Фрэнсис покачал головой: — Такая жестокость! — Он растянулся на постели. — Знаете, некоторые считают, что женщина не должна достигнуть оргазма прежде, чем забеременеет. — Ерунда. Я никогда… — Кэтрин осеклась, поняв, что едва не призналась: да, она позволяла Гарри некоторые вольности. — Вы точно знаете, что это ерунда, — сказал Фрэнсис со своей неизменной сардонической усмешкой. — Значит, мистер Мэнокс был не таким уж плохим любовником! Не беспокойтесь, Кэтрин, я не ожидаю, что такая прекрасная молодая женщина, как вы, окажется девственницей. — Но я девственница. Я решила подождать, пока не появится достойный мужчина, прежде чем расставаться с девичеством. И вот я такого нашла! Только что пробило три часа, и Кэтрин уже готова была нырнуть с ним под одеяло, но тут Мег показалось, что она слышала звуки шагов в галерее снаружи. Никто не смел отворить дверь, все затаили дыхание — не раздадутся ли снова тревожные звуки, но их не было. — Это привидение! — Фрэнсис осклабился. — Какое привидение? — широко распахнув глаза, спросила Кэтрин. — О, я не знаю. — Дерем захохотал. — Но по этому дому обязательно должен блуждать какой-нибудь безголовый призрак или мертвенно-бледный упырь. — Прекратите! — к радости Фрэнсиса, взвизгнула Кэтрин. — Думаю, нам лучше уйти, — сказал Эдвард Дерему. — На всякий случай, вдруг там кто-то был. Не стоит рисковать, что нашим милым пирушкам положат конец. — Я вернусь завтра, — пообещал Фрэнсис и звонко поцеловал Кэтрин, возбудив в ней небывалое ощущение. — Это будет отложенное удовольствие, хотя мне очень жаль покидать вас. Кэтрин в досаде легла спать. Весь день она томилась по Фрэнсису и решила, что сегодня вечером отдастся ему, а теперь ей придется ждать следующего свидания еще целые сутки. Часы тянулись бесконечно, но тем не менее прошли. Когда наконец наступил вечер, Мэри, которую Кэтрин теперь считала своей подругой, пусть и не близкой, согласилась снова взять в опочивальне герцогини ключ. Кэтрин побежала в девичью спальню впереди всех, сбросила с себя одежду, вставила внутрь комочек смоченной в уксусе ткани и задвинула занавески со стороны комнаты. Она лежала в лихорадочном ожидании и ждала прихода Фрэнсиса. Он появился, как только колокол пробил полночь. — Кэтрин? Вы спите? — послышался знакомый шепот. — Нет, я жду вас. Фрэнсис отодвинул штору и уставился на нее в изумленном восторге: она лежала, обнажив груди, и ее волосы огненно-рыжим облаком разметались по подушке. Фрэнсис сбросил накидку и запрыгнул на постель в дублете и рейтузах, дергая за гульфик, чтобы обнажить интимные части тела. — Кэтрин! — воскликнул он, откинув в сторону одеяло и увидев ее всю обнаженной — мраморное тело, залитое падавшим из окна лунным светом и разрисованное тенями от ажурной решетки. — Как вы прекрасны! Он стал гладить ее тело пальцами, сперва мягко, потом более интенсивно, и водил и водил ими, пока она не возжелала его отчаянно. Стянув вниз рейтузы, он вошел в нее и скакал как жеребец, ахая и издавая стоны, а потом вдруг замер и начал содрогаться. Сперва ей было больно, но недолго, потому что внутри начало расти другое ощущение. Прижавшись к Фрэнсису всем телом, Кэтрин отдалась головокружительному восторгу. Никогда еще она не испытывала такого удовольствия!
Они были любовниками в продолжение всей этой волшебной зимы. Кэтрин позволяла Фрэнсису обращаться с собою так, как мужья обращаются с женами, и радовалась этому. Часы наедине летели незаметно, ночь превращалась почти уже в день, когда он, обычно последним, покидал спальню камеристок. Теперь Кэтрин часто таскала ключи из опочивальни герцогини сама и сама запирала дверь изнутри. Ею двигало не одно лишь вожделение. Она снова была влюблена, и на этот раз сильнее прежнего. Кэтрин знала, что чувства к ней Фрэнсиса так же глубоки и искренни, как его желание. Камеристки знали, что происходит у них в спальне. Некоторые относились к этому с пониманием. Даже Мэри беззлобно подтрунивала над ней. Однажды, застав Кэтрин и Фрэнсиса страстно целующимися, она со смехом сказала: — Посмотрите на них, чирикают, как воробушки! — Ой, Дерем, бедняга, совсем запыхался! — хихикали другие девушки, слыша, как возится под одеялом влюбленная парочка. Иногда Кэтрин уводила Фрэнсиса в свою комнату для большей уединенности, но там дверь не закрывалась на ключ, и страх, что кто-нибудь услышит их и войдет, не давал ей расслабиться. В общей спальне, где можно запереться изнутри, было безопаснее. Однажды Кэтрин попросила своего любовника раздеться догола. Ей хотелось быть как можно ближе к нему, ощущать кожей его кожу, однако Мег, услышав ее слова, предупредила, что так лучше не делать, это рискованно. — Вдруг герцогиня примется искать ключ и потребует, чтобы ее пустили внутрь? — Она хоть раз так делала? — возразила Кэтрин, но все же велела Фрэнсису не обнажаться. Несколько раз, когда она уже бросала ждать его, он появлялся под утро, в четыре или даже в пять часов, и заставал свою возлюбленную делящей постель с Кэт, Элис или еще кем-нибудь из камеристок, чью кровать заняла какая-нибудь любвеобильная парочка. Он расшнуровывал гульфик и бесстыдно покачивал своим напряженным пенисом или засовывал под одеяло руку и трогал Кэтрин за интимные места, отчего ее соседка по ложу переворачивалась на другой бок и отползала к противоположному краю кровати, пряча глаза и давая наглецу возможность залезть в постель и порезвиться с Кэтрин, которая при этом не переставала давиться от смеха. Кэт жаловалась только на то, что они не дают ей спать. — Прошу, мистер Дерем, лежите спокойно! — шипела она. Элис же злилась, когда Фрэнсис заваливался на кровать, и мигом из нее выскакивала. — Такого пыхтения и сопения в жизни не слышала! — восклицала она и сердито топала искать себе место под боком у кого-нибудь другого. — Стыдоба! На следующее утро она зажала Кэтрин в углу: — Я больше не буду спать с вами. Маргарет Беннет тоже накинулась на нее: — И я тоже не буду. Вы не знаете, что такое супружество! Кэтрин пожала плечами. Нашли чем испугать! Она предпочитала спать одна. И Фрэнсис, когда подруга рассказала ему о недовольстве девушек, отнесся к этому с пренебрежением. Иногда он не заботился даже о том, чтобы задвинуть занавески, и предавался страсти на виду у всех, кому была охота смотреть: несколько раз Кэтрин замечала, что кое-кто смотрит. Иногда он вел себя более смирно, приносил еду и выпивку, чтобы повеселиться, правда, это не усмиряло таких, как Элис. Однажды вечером, подходя к спальне, Кэтрин услышала обрывок фразы Элис, сказанной кому-то, о забавах мистресс Кэтрин с Деремом. Потом раздался голос Мэри: — Оставьте ее в покое, если она будет продолжать в том же духе, то очень быстро превратится в ничто. Все говорят о ней, даже привратник и грумы в покоях миледи. Рано или поздно герцогиня все узнает. Кэтрин вошла в комнату: — Зачем же вы тогда меня поощряли, Мэри? «О, мистер Дерем будет хорошей партией для меня» — так вы сказали. Щеки Мэри порозовели. — Я имела в виду брак, мистресс Кэтрин, а не блуд. — А чем, по-вашему, мы собирались заниматься, когда вы приносили нам ключ? — возразила Кэтрин. — Я думала, вы будете флиртовать! — резко ответила Мэри. — Как знать, может, мы и поженимся, — сказала Кэтрин. — Не похоже, что он собирается жениться на вас, — буркнула Элис. — Он и так наслаждается всеми супружескими удовольствиями. Чего ему еще? — Он меня любит, — ответила Кэтрин, — и, полагаю, о моих личных делах мне известно больше, чем вам. Она быстро вышла, кипя от возмущения и молясь, чтобы девушки не выдали ее герцогине. Пока ей ничто не угрожает, думала Кэтрин. Она слишком многое знала о любовных похождениях Элис, чтобы та рискнула понаушничать, а Мэри до сих пор и словом не обмолвилась насчет Мэнокса. Малин была совсем другое дело. Кэтрин и Фрэнсис теперь уже отбросили в сторону все предосторожности и забирались в постель когда хотели: утром, днем или вечером. Однажды поутру они нежились в кровати, пока другие девушки слушали мессу, и тут в дверь спальни с бархатным платьем в руках вошла Малин. Кэтрин лежала голой, а Фрэнсис, одетый в одну только короткую куртку, держал руку на ее потайном месте. Малин уронила свою ношу и выскочила из комнаты как ошпаренная. Желание угасло, Кэтрин быстро встала, попросила Фрэнсиса помочь ей одеться и пошла искать Малин, которую обнаружила в винокурне. — Не жалуйся на меня, прошу тебя, Малин, — молила она. — Я люблю его, и мы никому не делаем зла. — Тебя не заботит, что ты рискуешь покрыть позором и Говардов, и Тилни? — холодно спросила Малин. — Едва ли мои поступки имеют хоть какое-то значение. Герцогиня, кажется, вообще забыла о моем существовании. И что же, мне зачахнуть здесь, в Ламбете, не познав никаких радостей жизни? — К окончанию этой горестной тирады Кэтрин уже плакала. Малин, всегда отличавшаяся мягкостью сердца, сжалилась над ней. — Просто прекрати заниматься тем, что ты делаешь, дорогая. Пусть мистер Дерем пойдет к миледи и попросит твоей руки. А не то будет хуже. Может, она не станет возражать, ведь он кузен нам всем. Вот как нужно поступить, и это будет правильно. Кэтрин подумала и решила не следовать совету Малин. Вдруг герцогиня скажет «нет»? Тогда она узнает, что между ней и Фрэнсисом что-то происходит, и наверняка запретит им видеться. Фрэнсиса отошлют прочь, как Гарри. Нет, лучше не рисковать.
Самого же Фрэнсиса все это, казалось, не волновало вовсе. Он любил рисковать и подбивал Кэтрин быть еще смелее. В то время как ей следовало проявлять бо́льшую осмотрительность, она так жаждала близости с ним, что всякая осторожность пускалась по боку. Они проводили вместе долгие часы днем, когда остальные девушки находились внизу, но не раздевались полностью, вдруг кто-нибудь войдет. Несколько раз Фрэнсис настоял даже на том, чтобы они занялись любовью в спальне герцогини, пока та слушала мессу или обедала, и, бывало, они целовались, лежа на ее громадной кровати под балдахином с резными столбиками и алым покрывалом, не заботясь о том, что время от времени в комнату заходили слуги. — Ш-ш-ш! — говорил тогда Дерем, прикладывая палец к губам и подмигивая. — Никому ни слова! В другой раз он мог предложить, чтобы они воспользовались спальней матушки Эммет или даже уборной. Однажды он оставил дверь открытой и только вложил в руку Кэтрин свой член, как она, повернув голову, увидела смотревшую на них Маргарет Беннет. Кэтрин задумалась: интересно, эта девица шпионит за ними или, подглядывая, удовлетворяет собственную похоть? Один раз она уже замечала, как та глядит в щелочку приоткрытой двери, когда Фрэнсис задрал ей юбку и любовался ее ногами. Спальня камеристок разделилась на тех, кто не одобрял любовь Кэтрин и Дерема или был шокирован ею, и тех, кто считал, что влюбленных нужно оставить в покое, пусть сами решают, как им жить. Такого мнения придерживались юные леди и джентльмены, которые сами по ночам занимались любовными играми. Полуночные пирушки продолжались, несмотря на возникшее среди участников напряжение. Еду и напитки тайком приносили в спальню, Фрэнсис играл на лютне, выпивка развязывала языки, и разговоры заходили о самых интимных вещах. — Я видел, как вы двое выходили из спальни герцогини, — сказал Роберт Дэмпорт. — Да, там гораздо удобнее, чем здесь, — с ухмылкой ответил Фрэнсис, приобняв одной рукой Кэтрин, — и в любом случае здесь собралось гусиное стадо женщин, которые разбирали свои наряды. А дело было срочное. Видите ли, моя возлюбленная, вот эта, захворала зеленухой. Кэтрин ткнула его локтем под ребра: — Ничего подобного! Это тебя обуяла похоть. — Сейчас я расскажу вам о зеленухе, — продолжил Фрэнсис, игнорируя ее. — Ее еще называют болезнью девственниц. Она происходит от дурной крови, которая накапливается в теле за несколько дней до того, как у женщины начнутся месячные. Тогда лицо у нее зеленеет, и она чувствует себя слабой и нервной. И есть только один способ облегчить ее страдания. — Заткнись, Фрэнсис! — буркнула Кэтрин, потому что остальные стали прислушиваться к разговору. — И какой же? — пожелал узнать Роберт. — Ну, больные зеленухой девы имеют опасную склонность к похоти, и только соитие может освободить их от дурной крови. Поверьте, она была ненасытной. — Он взмахнул рукой перед лицом. Кэтрин шлепнула по ней: — Не верьте этим глупостям. Он все выдумал. — Но я могу в это поверить! — ухмыльнулся Роберт. — Несколько раз я слышал, как ты, Фрэнсис, пыхтел, удовлетворяя с ней свое желание! Кэтрин стукнула и его тоже. — Нет, клянусь, про зеленуху — это истинная правда, — со смехом настаивал на своем Фрэнсис. — Спросите любую леди здесь. Но Роберт не стал. Усмехнувшись, он поднялся, чтобы взять себе еще еды, а потом сел рядом с Кэт Тилни. Фрэнсис повалил Кэтрин на кровать и начал целовать ее. Другие пары тоже принялись за любовные утехи. Кэтрин услышала, как на соседней кровати Элис сказала: — Вы знаете, что делать, если вдруг войдет миледи? — Фрэнсис скроется в маленькой галерее вместе с другими джентльменами, — между поцелуями ответила Кэтрин. Дверь туда находилась в дальнем конце общей спальни. — Но Фрэнсис хочет остаться здесь, — пробормотал ее любовник, выпростал руку и задернул штору.
Ближе к Рождеству Кэтрин и Фрэнсис воспользовались отъездом герцогини на банкет ко двору и встретились в галерее, где широкий подоконник у одного из окон был превращен в мягкое сиденье. Свечей они не зажигали, чтобы никто не заметил мерцания света в окне или в щели под дверью, и занялись любовью в темноте. Желание, как обычно, усиливалось сознанием того, что они на запретной территории. После этого, оправив одежду, влюбленные сидели и разговаривали, делясь воспоминаниями о прошлом. — Знаете, Кэтрин, я понял, что полюблю вас, как только увидел, — сказал Фрэнсис, гладя ее по щеке. — И я люблю вас. Меня тянет к вам не только плотское желание. — Он наклонился и прильнул к ней с поцелуем, долгим и нежным. — И я тоже люблю вас всем сердцем, — ответила она, с жаром отвечая ему. — Я хочу жениться на вас, — сказал Фрэнсис. — Нет, — ответила Кэтрин. — Пусть все останется как есть. Миледи может отказать, и тогда настанет конец всему. — Но я хочу, хочу, чтобы вы стали моей женой. И вы тоже хотите меня, мы получим друг друга, что бы кто ни говорил! Кэтрин собиралась ответить ему, но тут открылась дверь и вошла Джоан Балмер. Увидев их, она тихо вскрикнула. — Ох, я приняла вас за привидений! — выдохнула она. — Почему вы сидите здесь в полной темноте? — Мы просто разговаривали, — сказала Кэтрин. — Хотели немного уединиться и спокойно побеседовать. — Что сказала бы миледи, узнай она об этом! — воскликнула Джоан и поспешно удалилась.
Фрэнсис упорно настаивал, чтобы Кэтрин вышла за него замуж. Он просил ее об этом при каждой встрече, а она всякий раз отказывалась. Это лишь усиливало его настойчивость. Он начал приходить в девичью спальню каждый день и приносил ей подарки: нитку бус, моток ленты, красивый шелковый цветок. — Мне сказали, что в Лондоне есть одна женщина-горбунья, большая умелица в изготовлении цветов из шелка, — сказал Фрэнсис. — Я пошел к ней и выбрал французский фенхель, решив, что вам он понравится. Утром Кэтрин показала цветок другим девушкам. — Не лучший выбор! — заметила Джоан. — Неужели он не знает, что фенхель означает лесть и глупость? — И печаль, — добавила Мэри. Кэтрин это не расстроило. У нее было совсем мало красивых вещей, и подарок очень приглянулся ей. А другим просто завидно!
В Рождественский сочельник, когда камеристки помогали разбирать зеленые ветви, принесенные для украшения главного зала, Мэри бочком подобралась к Кэтрин. — Значит, мистер Дерем намерен жениться на вас, мистресс Кэтрин, — пробормотала она. — Сегодня утром я слышала, как он похвалялся перед своими друзьями: мол, вы теперь оказываете ему такие милости, что он женился бы на вас, если бы захотел. К счастью, мистер Дэмпорт образумил его и предупредил, чтобы он остерегался заниматься такими делами, иначе наживет себе большие неприятности. Кэтрин рассердилась, бросила ветки остролиста, которые связывала лентой, и пошла искать Фрэнсиса. Нашла она его в винном погребе, осушающим кружку рождественского эля. — Как вы посмели говорить всем и каждому, что можете жениться на мне! Фрэнсис засмеялся: — Вы так прекрасны, когда сердитесь. — Нет, Фрэнсис, я серьезно! Вы не имели права. Он встал и обнял ее: — Если бы ваша бабуля смилостивилась, вы вышли бы за меня завтра же. Кэтрин брыкалась и била его кулаками в грудь, но Фрэнсис держал ее крепко. — Признайтесь, моя милая львица. — Он поцелуем заглушил все ее протесты, потом отстранился и с улыбкой посмотрел на свою возлюбленную. — Теперь лучше? — Нет, пока вы не пообещаете быть более осмотрительным! Кто-нибудь может войти. — Я буду, если вы признаетесь, что хотите стать моей женой. — О, вы невозможны! Хорошо, да, я хочу стать вашей женой, но боюсь, что скажет герцогиня. — Тогда давайте пока дадим друг другу слово, что поженимся когда-нибудь в будущем, — не отступался Фрэнсис. — Если это вас успокоит, то да, — согласилась Кэтрин. Гнев ее утих; в конце концов, это так приятно, когда любимый мужчина просит твоей руки. — Скажите, что даете честное слово. — Глаза его потемнели от страсти. — Я обещаю! Клянусь, Фрэнсис, верой и правдой, что стану вашей женой. — И у вас не будет другого мужа, кроме меня. — И у меня не будет другого мужа, кроме вас. Фрэнсис засиял улыбкой победителя: — А я обещаю, клянусь верой и правдой, что женюсь на вас, Кэтрин Говард, и другой жены у меня не будет. Теперь мы помолвлены, и я могу называть вас женой! — Я не знаю, — с сомнением проговорила Кэтрин, но душа ее пела. Она будет принадлежать ему навечно. Они придумают, как им пожениться, это точно. — Может быть, лучше пока держать нашу помолвку в секрете? — Я буду осмотрителен, как вы хотите, — обещал ликующий Фрэнсис. В ту ночь он овладел ею с удвоенной страстью и силой. Это была одна из немногих ночей, когда они лежали в объятиях друг друга полностью обнаженные. Какое блаженство!
Придя в спальню камеристок в новогоднюю ночь, Фрэнсис принес Кэтрин подарок. Она этого не ожидала и, получив еще один изысканный шелковый цветок, очень обрадовалась. — Это фиалка, на память, — сказал Фрэнсис. — Надеюсь, нося ее на платье, вы будете вспоминать обо мне. — Как я могу забыть вас? — выдохнула она. — Она так прекрасна. Спасибо! Я пришью ее на свое лучшее платье. Но, увы, Фрэнсис, у меня для вас ничего нет. — Ничего? — Он уныло повесил голову, но на губах играла улыбка. — Неужели Говарды не соблюдают новогодние обычаи? — Мы соблюдаем, но у меня нет денег. — Кэтрин расстроилась. Вдруг она придумала — стянула с запястья тонкий серебряный браслет. — Вот, это для вас, я хочу, чтобы вы взяли. Это подарок моей сводной сестры Изабель, и он очень дорог мне. Фрэнсис взял браслет: — Вы уверены? — Конечно! — Тогда позвольте мне показать, как я вам благодарен…
Глава 11
1539 ГОД Несмотря на обещание, Фрэнсис не мог держать язык за зубами. При дворе герцогини уже пошли разговоры, что они с Кэтрин поженятся, хотя те, кто недолюбливал его за властность и бесцеремонность, отпускали язвительные замечания: мол, они не думают, чтобы Кэтрин Говард могла опуститься так низко, или утверждали, что не верят в намерение Фрэнсиса сделать ее честной женщиной. Слухи распространялись. Однажды вечером в начале января Гарри, который не пытался увидеться с Кэтрин после той ужасной сцены у привратницкой, явился в дом герцогини и потребовал встречи с мистером Деремом, как позже, лежа в постели в пустой девичьей спальне, рассказал ей сам Фрэнсис. — Он был очень зол и вел себя так, будто вы ему обещаны! — Никогда этого не было! — возмутилась Кэтрин. — Я знаю. Этот парень — просто ревнивый болван. Я выпроводил его, не волнуйтесь. Показал ему вот это. — Фрэнсис сжал руки в кулаки. — Больше он нас не потревожит. Но, дорогая, мы должны заставить умолкнуть эти злые языки. Пожалуйста, разрешите мне называть вас женой и сами зовите меня мужем. Тогда люди поймут, что мы действительно принадлежим друг другу и мои намерения серьезны и честны, если вы не против. «Хуже от этого не будет», — решила Кэтрин и согласилась: — Хорошо, муж мой. Фрэнсис жадно поцеловал ее и хозяйничал языком у нее во рту, пока Кэтрин не отстранилась, чтобы глотнуть воздуха. Потом он снова прильнул к ее губам. Тут вошла Дороти. — Мистер Дерем, похоже, вам никогда не нацеловаться вдоволь с мистресс Кэтрин! — громко сказала она. — Вы что же, не позволяете мне целовать собственную жену? — возразил он, отрываясь от Кэтрин, чтобы вдохнуть. — Я вижу, скоро что-то случится! — встряла Мэри. — Что именно? — спросил Фрэнсис. — Свадьба! — Мэри засмеялась. — Мистер Дерем женится на мистресс Кэтрин Говард! — Клянусь святым Иоанном! — взревел Фрэнсис. — Сколько бы вы ни гадали, лучше не придумаешь! — Ш-ш-ш! — Кэтрин зажала ему рот рукой. — Я просто шучу! — сказал Фрэнсис, убрав с губ ее пальцы. Она наклонилась к его уху: — Вдруг они начнут сплетничать, что вы зовете меня своей женой, и герцогиня это услышит? Дерем задернул занавеску, отгородив их ото всех, и прошептал: — Ну тогда придется сказать правду. Дело в том, Кэтрин, что мы с вами все равно что женаты, и она ничего не сможет с этим поделать. Дать друг другу обещание пожениться и после этого спать в одной постели — это равносильно венчанию в церкви. Многие люди поступают так. Теперь нужен церковный суд, чтобы разлучить нас. Кэтрин в изумлении смотрела на него. О таких вещах она и слыхом не слыхивала. Все Говарды женились в церкви и, насколько ей было известно, вероятно, ждали этого, прежде чем окончательно скрепить свой брачный союз. — Вы имеете в виду, что мы все равно что женаты? — Да! — Он начал тереться носом о ее шею. — И я по праву могу называть вас супругом? — Да. А я по праву могу поступать с вами как с женой! — В доказательство он именно этим и занялся.Кэтрин проснулась и увидела, что ночью выпало немного снега. Сад выглядел очень красиво, и она, завернувшись в накидку, вышла на улицу и прошлась по дорожкам, скрипя снежком и любуясь заиндевелыми деревьями. Фрэнсис нашел ее у реки. Пар от их дыхания смешался в холодном воздухе. Припорошенный мир казался зачарованным. — Я кое-что принес вам, — сказал Фрэнсис. — Помолвки нужно отмечать подарками. — Он положил на ее одетую в перчатку руку изящную золотую цепочку. — О, Фрэнсис, это, наверное, стоит уйму денег! Вы так щедры. Она огляделась, проверяя, нет ли кого рядом, а потом обняла и поцеловала его. — У моей жены должно быть все самое лучшее. Отпустив Фрэнсиса, Кэтрин стянула с руки перчатку. На пальце у нее было материнское кольцо с рубином. Она носила его каждый день с того момента, как оно стало подходить ей. — Это ваш подарок в честь помолвки, — сказала Кэтрин, отдавая кольцо Фрэнсису. — Я не могу его взять. Вам оно очень дорого. — Тем больше причин отдать его вам, — настояла Кэтрин и надела кольцо на мизинец Фрэнсису. — Я люблю вас, — сказал он, вдруг посерьезнев. — А я люблю вас! — крикнула она, вскинула руки ему на шею и поцеловала в губы.
После этого они часто обменивались подарками и знаками любви. Фрэнсис даже давал Кэтрин деньги, когда было что дать, ведь своих у нее не было ни пенни, и она полностью зависела от милостей герцогини. Часть их Кэтрин использовала, чтобы купить ему воротник и рукава для рубашки, которые заказала у портнихи в Ламбете. Фрэнсис, хотя и обрадовался подарку, упрекнул ее за то, что тратит подаренные деньги на него, и принес ей отрез розового шелка, который она отдала бабушкиному вышивальщику мистеру Роузу, и тот сделал из него стеганую шапочку. Когда она ее надела, Фрэнсис восхитился орнаментом из францисканских узлов. — Что, жена моя, тут францисканские узлы для Фрэнсиса! — Он усмехнулся. — Продуманный выбор. Кэтрин улыбнулась. Вообще-то, узор она с мастером не обсуждала. — Мистер Роуз говорит, они символизируют истинную любовь. — Да, так и есть, — подтвердил Фрэнсис и обнял ее.
Кэтрин не осмеливалась носить подаренные Фрэнсисом шелковые цветы в присутствии герцогини, но иногда, по случаю, прикрепляла их к платьям, и один как раз был на ее лифе, когда миледи неожиданно вошла в гостиную, где камеристки играли в карты, в поисках своей диванной собачки. — Она под столом, мадам, — указала туда Кэтрин и наклонилась, чтобы достать непослушное создание. Передавая собачку в руки бабушки, она заметила, что герцогиня смотрит на французский фенхель. Старая леди ничего не сказала, но Кэтрин поняла: она наверняка заинтересовалась, откуда у ее внучки такая редкая вещь. Кэтрин кинулась искать леди Бреретон, самую добросердечную из всех придворных дам герцогини, которой она очень сочувствовала, потому что ее мужа обезглавили вместе с мужчинами, которых признали виновными в прелюбодеянии с королевой Анной. Леди Бреретон всегда была особенно мила с Кэтрин, а та со своей стороны при любой возможности старалась сделать ей что-нибудь приятное. Леди Бреретон в одиночестве сидела в винокурне, как всегда одетая в черное. — Мистресс Кэтрин! — приветливо улыбнулась она. — Я хочу попросить вас об одолжении, — сказала ей та. — Один джентльмен, которому я нравлюсь, — очень хороший человек — подарил мне этот цветок в знак своего уважения. Кажется, миледи заметила его, и, если она спросит, скажите ей, пожалуйста, что это вы дали его мне. — Я не должна так поступать, но сделаю это, — согласилась леди Бреретон. — Вы всегда были добры ко мне. Кэтрин убежала, немного успокоившись, но хорошее настроение быстро улетучилось: ее позвали к бабушке. К покоям герцогини она подходила в трепете, молясь, чтобы это не имело отношения к французскому фенхелю. Не тут-то было. — Цветок, который ты носишь, — проговорила старая леди, сидя с прямой спиной на своем троне. — Откуда он у тебя? — Его дала мне леди Бреретон, — ответила Кэтрин. — Она сказала, что я всегда была добра к ней. Герцогиня покачала головой: — Я спрашиваю еще раз. Кто дал его тебе? — Леди Бреретон, миледи. — Кэтрин почувствовала, что щеки у нее запылали. — Не лги мне, дитя. Это был мистер Дерем, не так ли? Я не слепая и вижу, что происходит при моем дворе. Люди молчать не станут. — (Кэтрин онемела.) — Говори! Это был мистер Дерем? — пролаяла герцогиня. — Да, миледи, но прошу вас, не прогоняйте его. Он хороший человек, и добрый. — Знаю. Он мой кузен и нравится мне. Да, он может быть подходящей парой для тебя, но это совершенно непозволительный подарок. Добродетельные юные леди не принимают таких презентов от джентльменов. — Он и мой кузен тоже, — заметила Кэтрин. — Мы ничего плохого не сделали. — Очень рада слышать это, но ты сейчас же отдашь мне этот цветок, и я верну его мистеру Дерему. — Она протянула ей маленькие ножницы. Кэтрин неохотно срезала цветок. — Можно мне видеться с ним, миледи? — Между вами есть какая-то особая симпатия? Мне сказали, он давал тебе деньги. Это тоже неприемлемо. Кэтрин смогла только молча кивнуть, глаза ее наполнились слезами. Неужели это конец их с Фрэнсисом романа? — Мы очень нравимся друг другу, и он давал мне деньги, но только потому, что беспокоился за меня, ведь своих я не имею. — Значит, он делал это, чувствуя к тебе родственную привязанность, — продолжила герцогиня. — Но любите ли вы друг друга? Я имею в виду любовь, не связанную с родством. — Да, мадам, — призналась Кэтрин. — Ты знаешь, что говорят люди? Если вам нужен мистер Дерем, ищите его в комнате мистресс Кэтрин Говард или в спальне камеристок. Дитя, ему нечего делать ни в том, ни в другом месте, и ты не должна принимать его ни у себя, ни в общей спальне. Ты меня поняла? — Да, — едва слышно ответила Кэтрин. Герцогиня пронзила ее пристальным взглядом: — Я хочу услышать от тебя заверение, что между вами не произошло ничего непотребного. Я помню твое сомнительное поведение с мистером Мэноксом, а потому питала надежду, что ты тогда получила хороший урок и запомнила его. — О да, мадам, с мистером Деремом я не делала ничего дурного. Они же все равно что женаты, так разве можно называть их любовные соития неправильными или непотребными? — Рада слышатьэто! — суровым тоном проговорила бабушка. — Теперь ты можешь общаться с мистером Деремом, соблюдая приличия, и я спрошу мнение твоего отца, одобрит ли он союз между вами. Если он не одобрит, тогда ты должна прекратить встречи. — Да, миледи, — пролепетала Кэтрин, молясь, чтобы отец согласился. Только пройдут годы, прежде чем она узнает ответ: письма до Кале шли долго.
Ей не терпелось поделиться радостной новостью с Фрэнсисом: это ведь была хорошая новость, верно? До самой ночи Кэтрин была сама не своя, и когда он пришел в спальню, она тут же отвела его в свою комнату, пренебрегая велением бабушки соблюдать приличия, и передала любимому слова герцогини. Фрэнсис уставился на нее, его сардонические глаза вдруг заблестели. — Ей-богу, Кэтрин, я был прав! Наше сердечное желание свершится. И если ваш отец откажет, нам придется открыться ему и сказать, что мы дали друг другу слово. — Он заключил ее в объятия. — Мы будем вместе, открыто, и все увидят, как я горд, что вы моя жена! — О Фрэнсис! — воскликнула Кэтрин. — Молюсь, чтобы мой отец поскорее написал. — Я поеду в Кале, если понадобится, и покажу ему, каким хорошим мужем буду для вас! — заявил он. Кэтрин снова прильнула к нему, отвечая на его желание. Она знала, что поступает плохо, нарушая приказание герцогини, но какое это имело значение? В глубине души она была уверена, что они с Фрэнсисом скоро поженятся.
На следующее утро в дверь ее спальни постучала матушка Эммет. Кэтрин возблагодарила Господа и всех святых, что Фрэнсис уже успел удалиться. — Можно войти? — спросила та, и Кэтрин отступила в сторону, пропуская ее. Старушка обвела взглядом переворошенную постель и кучу сброшенной на пол одежды. Кэтрин поспешила накинуть на кровать покрывало, надеясь, что наставница девушек не заметила пятен на простыне. — Миледи Норфолк сообщила мне о твоем легкомысленном поведении, — холодно проговорила матушка Эммет. — И отругала меня за это. Я объяснила, что не могу отвечать за поступки всех камеристок и не имела понятия о твоем неблаговидном поведении. Мистресс Кэтрин, ты разочаровала меня и покрыла позором. Надеюсь, в будущем ты будешь осмотрительнее. — Простите меня, — кротко произнесла Кэтрин. Если бы вы не были так ленивы, благодарение Господу, еще больше девушек оказались бы в неловком положении! — Я буду следить за тобой. — Матушка Эммет погрозила пальцем. — Смотри!
Следующей ночью Фрэнсис пришел в спальню камеристок очень веселый. — Вы знаете, что уже все говорят о ваших визитах к мистресс Кэтрин? — с вызовом спросила его Джоан. — Старуха Агнес знает об этом, — встряла Элис. — Мне это известно. — Фрэнсис ухмыльнулся и повернулся к Кэтрин. — Герцогиня сегодня утром сыграла со мной шутку. Она подошла ко мне в галерее и сказала, что знает, где меня найти, если я ей понадоблюсь, — в вашей комнате. И еще обвинила, что я слишком близко сошелся с вами, и велела прекратить это, но потом она добавила, что моя самонадеянность может пойти мне на пользу. — Я так на это надеюсь! — воскликнула Кэтрин. Очевидно, герцогиня одобряла их брак, а если так, то и отец, вероятно, не станет ему противиться. — Она и мне о вас говорила сегодня, — обратился к Фрэнсису Эдвард Уолдгрейв. Он сидел на кровати напротив, обняв рукой Джоан, оба уплетали пирожные с кремом. — Сказала, что она думает, вы так и не покинете спальню мистресс Кэтрин, несмотря на ее повеление не появляться там. — Я там был, — включился в разговор Уильям Эшби. — Она сказала Эдварду, что подозревает, вы крутите любовь с мистресс Кэтрин, что не доверяет вам и опасается, как бы вы не совершили чего-нибудь неподобающего. — Вероятно, не так уж сильно она вам не доверяет, — встряла в разговор Джоан, — иначе давно бы уже забеспокоилась и положила всему этому конец. — Старуха Агнес предпочитает по возможности лишний раз не беспокоить себя ничем, — заметила Мег, наливая всем вина. — Она считает, раз дает нам кров и кормит, этим ее долг перед нами исчерпан. — Только некоторым счастливицам вроде Малин повезло — их выдали замуж, — пробормотала Джоан. Кэтрин удивилась, с чего это она жалуется, сама-то ведь замужем. Джоан никогда не упоминала об Уильяме Балмере, а Кэтрин не спрашивала, почему она оставила своего супруга. Кэт говорила, что муж ей изменял, а Дороти считала, что он выставил Джоан из дому, потому что та ходила на сторону. — Думаю, в моем случае герцогиня все-таки возьмется за дело, — сказала Кэтрин. — Она собирается написать моему отцу и спросить, можем ли мы с Фрэнсисом пожениться. — Ну, лишь бы у нее дошли до этого руки, — едко заметила Мег. — Я на это надеюсь, — сказала Кэтрин. — Очень надеюсь. — Меня вот что тревожит, — продолжила Мег, — как бы старуха Агнес не заподозрила, что все мы пошаливаем. — Едва ли у нее возникнут подозрения, — успокоила ее Кэтрин. — Она ни о чем таком не упоминала. Но велела матушке Эммет присматривать за мной, так что, Фрэнсис, нам нужно быть осторожными. — О нет! — воскликнул тот, в притворном ужасе воздевая руки. — Только не этот дракон! — Едва ли к ней подходит такое слово, — со смехом произнесла Кэтрин. — Скорее уж киска, — поправила Кэт и хохотнула. — Серьезно, — сказал Фрэнсис, — при мне герцогиня тоже и словом не обмолвилась о вас. Думаю, вам ничто не грозит. — Тем не менее вы двое поставили нас под угрозу своим пренебрежением условностями, — сердито заметила Джоан. — И теперь лучше поостерегитесь. — Мы так и сделаем, моя дорогая Джоан! — ответил Фрэнсис и чмокнул ее в губы. — Не волнуйтесь.
Однажды вечером в начале февраля в спальне камеристок разговор зашел о предстоящей женитьбе Гарри Мэнокса. — Он говорил, что отец принуждает его жениться на дочери какого-то соседа, — сказала Кэтрин. — Полагаю, он в конце концов согласился. — Я слышала от одной из горничных леди Беймент, что он уехал жить в Стритхэм, — сообщила Кэт. — Скатертью дорога! — бросил Фрэнсис, который лежал, растянувшись на постели, и накручивал на палец локон Кэтрин. Все засмеялись. — Могу поспорить, вы рады, что он убрался с дороги! — фыркнула Элис. Фрэнсис пожал плечами: — Несколько месяцев назад я показал ему, где выход. Кэтрин теперь любит меня. — И вы непрестанно говорите об этом, — поддразнил его Роберт. — Кэтрин, он хвастается вами дни напролет! Всему миру уже известно о вашей любви. При дворе, наверное, уже тоже об этом знают! — Замолчите! — оборвал его Фрэнсис, не шутя. — Лучше бы вы были посдержаннее, — укорила его Кэтрин. — По крайней мере, до тех пор, пока мы не получим ответ моего отца. — Я? Посдержаннее? — Он ухмыльнулся. — С чего это мне сдерживаться? Я хочу, чтобы весь мир знал: вы моя. — Скоро так и будет, я уверена, — подтвердила Кэтрин. — А пока, прошу, будьте осторожнее. Ради меня. — Ради вас я готов на все, — заявил Фрэнсис и поцеловал ей руку с напускной почтительностью.
Больше Кэтрин о Гарри не вспоминала. Однако неделю спустя, когда она разбирала шелк для вышивки в гостиной, туда вбежала Мэри с криком: — Пойдемте скорее! Мистер Дерем ругается с мистером Мэноксом, и я боюсь, как бы не случилось драки! Кэтрин бросила нитки и кинулась вслед за Мэри. Пока они неслись через двор, она успела заметить Гарри, с багровым лицом стоявшего у привратницкой. Увидев ее, он развернулся и затопал к воротам. Фрэнсиса нигде поблизости не было. — Слава Богу, они перестали кричать! — сказала запыхавшаяся Мэри. — Я думала, они поубивают друг друга. Привратник говорил им, чтоб успокоились, или он позовет миледи. — Что случилось? — спросила Кэтрин. — Я шла через двор и услышала громкие голоса и ваше имя. Я увидела их сквозь арку. Они прямо-таки рычали друг на друга. А когда мистер Мэнокс похвастался, что знает одну отметину у вас на теле в интимном месте… Ой, что тут началось! — Подлец! — крикнула Кэтрин. — Как он смеет! Ну и дура же она, что связалась с таким проходимцем! — Я думала, мистер Дерем сейчас вытащит кинжал, — продолжила Мэри. — Тут я и побежала за вами. — Пойду искать его, — сказала Кэтрин, решив, что слова Гарри наверняка сильно задели Фрэнсиса. Повернувшись, чтобы уйти, она услышала голос Гарри: — Мистресс Ласселлс! Кэтрин оглянулась и увидела за воротами своего бывшего любовника. Мэри пошла к нему. Они поговорили несколько минут, Гарри явно горячился, а Мэри пыталась успокоить его, но, что они говорили, слышно не было. Потом Гарри удалился, а Мэри вернулась назад. — Похоже, он все еще любит вас и ревнует к мистеру Дерему, — сказала она, когда они шли через двор. Кэтрин пришла в ужас: — Но ведь он теперь женат! — Против воли, полагаю. Ему нужны вы, и он злится, что мистер Дерем занял его место. Очевидно, кто-то сказал ему, что тот похваляется своей победой, и он пришел сюда предупредить герцогиню, но мистер Дерем увидел его, тут и разразилась ссора. Мистер Мэнокс хотел поговорить с вами о ваших отношениях с мистером Деремом, но я сказала ему, чтобы он унялся и шел домой. — Слава Богу, он вас послушался! — воскликнула Кэтрин, надеясь, что Гарри оставил свои притязания и больше не появится. Они вернулись в гостиную. Кэтрин наклонилась собрать разбросанный шелк, а Мэри, задержавшись около нее, сказала: — Правда, мистресс Кэтрин, вам бы быть поразборчивее с поклонниками. А то ведете себя как распутница. — Это неправда! — взвилась Кэтрин. — Мы с Фрэнсисом скоро поженимся, и вы это знаете. — Вообще-то, вы сами еще точно этого не знаете. И ваши любовные похождения дали столько поводов для разговоров в этом доме, как ничьи больше. Я вам уже говорила из добрых побуждений, остерегайтесь. И не отдавайтесь задешево. — Я была бы вам весьма признательна, если бы вы занялись своими делами! — резко ответила уязвленная ее речами Кэтрин. Мэри молча вышла, закрыв за собою дверь, и Кэтрин постепенно успокоилась. Мэри была странной: внешне высокомерная, она на самом деле беспокоилась за нее и ведь спровадила Гарри, так что ей, Кэтрин, нужно быть благодарной за это. Но где же искать Фрэнсиса? Щеки ее пылали при мысли о том, какие интимные тайны открыл ему Гарри. Фрэнсис тоже знал эту родинку и много раз целовал ее. Она нашла его на конюшне, он седлал лошадь. — Кэтрин! — Фрэнсис поднял ее, такую маленькую, обхватив за талию, и закружил. — Мэри сказала мне, что вы слышали о моей маленькой утренней перепалке с пройдохой Мэноксом. Этот человек невозможен, но не волнуйтесь, больше он нас не побеспокоит. Я сказал ему: если еще раз появится здесь, я наткну его на вертел. — Нет! — Да, и я не шутил. Он понял. Теперь я отправляюсь в Саутуарк на травлю медведя. Увидимся вечером. Фрэнсис крепко поцеловал ее. Она ответила со всем пылом, благодарная, что он не упомянул о сказанных Гарри постыдных словах.
В тот вечер юные камеристки собрались в спальне, и Кэтрин пришла к ним. Намечалась очередная пирушка, еды уже натаскали и спрятали в шкафах и сундуках, но до полуночи оставалось еще три часа, так что они лежали в кроватях, болтали и хихикали в предвкушении грядущих удовольствий. Кто-то забыл запереть дверь. Когда часы на церкви Святой Марии еще не пробили десять раз, она резко распахнулась и в комнату вошла герцогиня в весьма свирепом настроении, за спиной у нее толпились придворные дамы. — Ну? Где он? — грозно спросила старуха. Кэтрин обмерла. — Кто он, мадам? — спросила Мэри. Все выглядели испуганными. — Мистер Гастингс, конечно! — прокричала герцогиня. — Мне сообщили, что он приходит в эту спальню по ночам и встречается с одной из вас, потаскушек. Я вижу, матушка Эммет опять не углядела за вами. Как будто у нас мало проблем с мистером Деремом! — Она сердито глянула на Кэтрин. Матушка Эммет, разумеется, вообще никуда не глядела. Несмотря на всю свою заботливость и обещанное усиление бдительности, ее никогда не было, когда она больше всего была нужна. Кэтрин даже начала думать, не устранялась ли эта леди намеренно, чтобы не создавать проблем? Но кто такой мистер Гастингс? — Я никогда не слышала о мистере Гастингсе. — Это Кэтрин могла сказать абсолютно честно. Хотя верно было и то, что она не знала поименно всех молодых джентльменов, приходивших в спальню камеристок по ночам. Остальные девушки изобразили непонимание и напустили на себя возмущенный вид, мол, как только могла герцогиня заподозрить одну из них в таком скандальном поведении! — Что ж, это странно, — произнесла герцогиня, села на стул и вытащила из кармана сложенный листок бумаги. — Сегодня днем я нашла эту записку у своей скамьи в часовне. Я скажу вам, что в ней написано. «Ваша милость, советую вам хорошенько присмотреть за своими камеристками. Если вам будет угодно, через час после того, как вы отходите ко сну, встаньте и внезапно посетите их спальню. Вы увидите там нечто такое, что вам не понравится». Подписи нет. — Герцогиня подняла глаза и обвела всех девушек внимательным взглядом. — Можете вы предположить, кто прислал это? И зачем? Кэтрин могла бы сказать ей. Она не сомневалась, что это месть Гарри Мэнокса. Но промолчала, а остальные девушки качали головами и говорили, что понятия не имеют, кто автор этой записки. — Хорошо, — сказала герцогиня. — Вероятно, это какой-то глупый розыгрыш. Простите, что побеспокоила вас. Спокойной ночи! Как только стихло эхо ее шагов, камеристки бросились с жаром обсуждать происшествие. — Кто-то знает, что здесь происходит, — заявила Мег. — Да, но это чужак, — высказала мнение Кэт. — Я не знаю никакого мистера Гастингса. И никто не знал. — В записке, вообще-то, о мистере Гастингсе не упоминается, — заметила Элис. — Тогда почему герцогиня спрашивала о нем? — удивилась Кэтрин. — Понятия не имею, — ответила Элис. — Может, у нее есть какие-то свои подозрения. — Она лает не на то дерево, — сказала Джоан. Кэтрин повернулась к Мэри, с которой успела помириться за ужином, и прошептала: — Это Гарри, я уверена. — Я тоже, — тихо ответила Мэри. — Не говорите ничего, — попросила ее Кэтрин.
Она лежала в постели и с тревогой размышляла о том, что Гарри на этом не остановится. Вдруг герцогиня начнет копаться в этом деле и обнаружит, что записка написана его почерком? В доме остались старые нотные тетради с его пометками и аннотациями, может быть, даже письма. Нет! Нельзя оставить миледи ни единого шанса увидеть их. Каждый день в восемь утра герцогиня слушала мессу. Пока она была занята этим, Кэтрин прокралась в ее покои и вздрогнула, увидев там делавших уборку горничных. — Я, кажется, оставила здесь свой молитвенник, — сказала она, быстро придумав предлог, который давал возможность обыскать комнату. Ей повезло, записка лежала поверх кучи бумаг на столе. Незаметно сунув ее в карман, Кэтрин поспешно вернулась в спальню и вгляделась в почерк. Да, несомненно, это была рука Гарри. Она показала письмо Фрэнсису. Тот страшно разозлился и вскочил на ноги: — Клянусь, он за это ответит! — Нет, Фрэнсис! — крикнула Кэтрин. — Не делайте глупостей, прошу вас! Но тот уже вылетел из комнаты. Фрэнсис был слишком горяч, на свою беду. Неужели он не понимает, что лучше не привлекать внимания ни к себе, ни к ней? Кэтрин бросилась за ним и бежала следом всю дорогу по Черч-стрит до дома лорда Беймента, но опоздала. Фрэнсис уже стоял у дверей и орал на Гарри, обзывал его подлецом и еще хуже. — Ты никогда не любил ее! — услышала Кэтрин его слова. — Если бы любил, то не стал бы вредить ей. Она любит меня, просто смирись с этим! Кэтрин попятилась. Мужчины были настроены весьма воинственно. Гарри посмотрел на нее. — В один прекрасный день, мистер Дерем, она и вас бросит, как бросила меня! — прорычал он. — Она маленькая потаскушка, которая задирает юбки перед каждым симпатичным парнем, который ей приглянется. Кэтрин ахнула, а Фрэнсис схватил наглеца за горло. Гарри ударил его кулаком в лицо. Из носа у Фрэнсиса полилась кровь, он налетел на обидчика как дикий бык и припечатал его спиной к двери. Гарри схватился за кинжал, Кэтрин в ужасе завизжала. Фрэнсис вцепился в запястье противника и вывернул ему руку за спину, заставив вскрикнуть от боли и выронить оружие, после чего толчком повалил на колени. — Не вздумай махать на меня руками! — прорычал он, пока Гарри силился подняться на ноги. — И я буду тебе очень благодарен, если ты не станешь больше беспокоить герцогиню своими писульками! — Ты еще обо мне услышишь, — процедил сквозь зубы Гарри. — Сунься ко мне еще раз — и ты об этом пожалеешь, — предупредил Фрэнсис. — Пойдемте, Кэтрин, этот подонок неподходящая компания для леди. Оставив Гарри, который потирал больное запястье и выкрикивал им вслед проклятия, они быстро пошли обратно к дому герцогини и встретились с ее сыном лордом Уильямом Говардом, который в сопровождении двоих грумов как раз выходил на улицу, очень нарядный — в дамастовом платье и берете с пером. У лорда Уильяма были тонкие говардовские черты лица и аристократический нос, как у матери. Он поклонился Кэтрин, а та сделала реверанс. — Воюете, мистер Дерем? — спросил лорд Уильям, глядя на окровавленный платок, который Фрэнсис прижимал к носу. — Видели бы вы моего противника, милорд, — с мрачной усмешкой ответил тот. — Серьезно, мистер Мэнокс, который учил музыке вашу племянницу и был уволен миледи Норфолк за то, что возомнил, будто может взять в жены свою ученицу, теперь создает ей проблемы. Миледи спросила лорда Эдмунда Говарда, можно ли нам вступить в законный брак, а мистер Мэнокс ревнует. Он прислал миледи анонимное письмо, намекая, что мы с ее внучкой ближе, чем следовало бы, и хотя она убедилась, что это клевета, этот проходимец не унимается. — Фрэнсис объяснил, что произошло. — И я не стану повторять, что он говорил о мистресс Кэтрин. Лорд Уильям нахмурился: — Я не допущу, чтобы на мою племянницу клеветал какой-то Мэнокс, и очень неприятно, что вы оказались в таком положении, мистер Дерем. Вы знаете, я о вас хорошего мнения, и мы родня. Этот Мэнокс живет у лорда Беймента? — Нет, милорд, у него дом в Стритхэме, он живет там со своей женой, — сказала Кэтрин. — Они поженились недавно. — Вот как? — Лорд Уильям приподнял брови. — Я бы мог предположить, что у него есть занятия получше, чем преследовать бывшую зазнобу. Слушайте, сегодня мне нужно быть при дворе, но вечером я поеду в Стритхэм и вразумлю этого Мэнокса. Я не допущу, чтобы моих родных оскорбляли. Они поблагодарили лорда Уильяма за содействие и посторонились, пропуская его к карете. — Хотел бы я посмотреть, как Мэнокс будет препираться с таким, как лорд Уильям, — с усмешкой произнес Фрэнсис.
В тот вечер Фрэнсис пришел в спальню раньше обычного и застал там только Кэтрин и Джоан Балмер, ожидавшую Эдварда Уолдгрейва. — Пойдемте в мою комнату, — сказала ему Кэтрин. — Герцогиня в любой момент может зайти и проверить нас. А ты, Джоан, даже не думай пускать сюда мистера Уолдгрейва. Это слишком опасно. — Я сама решу, что опасно, а что нет, благодарю тебя, — отрезала Джоан. — Я не останусь, — сказал Фрэнсис. — Пришел сообщить вам новость: лорд Уильям только что заходил ко мне и передал, что заезжал в Стритхэм и пригрозил Мэноксу всевозможными карами, если тот продолжит задевать честь дочери Говардов и его родных. Он четверть часа распекал Мэнокса и его супругу на пороге их собственного дома. — Едва ли Гарри осмелится устроить нам еще какую-нибудь пакость. — Кэтрин прильнула к Фрэнсису, испытав громадное облегчение. — Теперь мы можем жить спокойно. — Да, и вскоре, я надеюсь, мы получим ответ вашего отца. — Он наклонился, чтобы поцеловать Кэтрин, положив одну руку ей на грудь. — И чем это вы здесь занимаетесь? — раздался скрипучий старческий голос. В дверях с лицом мрачнее грозовой тучи стояла герцогиня. — Это вы называете: «мы не делаем ничего дурного»? Хорошо, что решила зайти сюда сегодня! — Она кинулась на Фрэнсиса и дала ему затрещину. Пока он стоял, ошеломленный неожиданным нападением и онемевший от шока, старуха подняла свою палку и отходила ею Кэтрин по заду и по спине. — Потаскуха! Глупая девка! — ярилась она. — И ты тоже, раз позволила это! — Она наградила ударом заодно и несчастную Джоан, потом опять повернулась к Фрэнсису. — Миледи… — начал было он, но герцогиня испепеляющим взглядом заставила его умолкнуть. — Вам больше не рады в этом доме, — заявила она. — Я не позволю вам превращать его в королевский двор, где вольности поощряются. Завтра вы уедете. — Нет! — крикнула Кэтрин, и у нее до боли сжался низ живота. — Миледи, мы должны пожениться! — Ни одна Говард не выйдет замуж за мужчину, который так низко ценит ее честь, — холодно произнесла герцогиня. — Мадам, мы помолвлены, — вмешался Фрэнсис. — Нет ничего плохого в том, что мужчина любит свою жену. — Жену? Не говорите глупостей! — возмутилась старуха. — Как вы можете быть помолвлены? — Мы обещали друг другу стать мужем и женой, — объяснил ей Фрэнсис. — Слабое оправдание! — возразила она. — Это правда. Кэтрин подтвердит. — Он взглянул на свою суженую потемневшими от гнева и боли глазами. Фрэнсис действительно любил ее. Неужели бабушка не видит? — Это правда, — кивнула Кэтрин, — и я уверена, мой отец согласится. — К счастью, я еще не написала ему, — сказала герцогиня. Кэтрин заплакала. Она со дня на день ожидала ответа отца, и мысль об отсрочке была невыносима. — К тому же, — продолжила герцогиня, — его уволили с должности; он явно некомпетентен и нездоров, лорд Лайл больше не желает утруждать его службой у себя. Лорд Эдмунд сообщил мне, что надеется скоро вернуться в Англию. У него и без тебя забот хватает. Это была плохая новость, но в ней таился проблеск надежды: если отец вскорости вернется домой, Кэтрин не сомневалась, что уговорит его дать согласие на ее брак с Фрэнсисом. — Скажи мне, — герцогиня стукнула палкой об пол, — это у вас зашло дальше? Лучше было соврать. — Нет, мадам, — ответила Кэтрин. — Мы помолвлены, — настаивал Фрэнсис. — Нет, не помолвлены! — взвизгнула герцогиня. — И не смейте повторять это снова. А теперь, мистер Дерем, вы соберете свои вещи и уедете. Прежде чем вы уйдете, я требую обещания от вас обоих, что вы откажетесь от попыток увидеться впредь. Кэтрин посмотрела на Фрэнсиса. Он кивнул и подмигнул ей. Оба они дали слово. Герцогиня молча смотрела вслед уходящему кузену, а потом двинулась за ним, хлопнув напоследок дверью. — Я увижусь с ним, увижусь! — поклялась Кэтрин, утирая слезы. — Не говори глупостей, — резко сказала Джоан, поглаживая ее по руке. — Но он не откажется от меня, я знаю! Мы дали обещание друг другу. — Она, морщась, села на кровать: спина болела от полученных ударов. — Думаю, герцогиня будет следить за вами, — продолжила Джоан. — Остерегайся, мистресс Кэтрин. — Она смахнула слезы с глаз. — Эдвард не пришел. А обещал. Я думала, он любит меня, но ошиблась. В последнее время он был холоден со мной. Все равно у нас нет будущего. Я… — Джоан помолчала, и Кэтрин почувствовала, что она про себя решает, стоит ли довериться ей. — Я замужем, — наконец произнесла Джоан, — хотя мы с Уиллом некоторое время живем раздельно. Он изменял мне с моей горничной, и я не стала мириться с этим. Теперь он переезжает в Йоркшир, поближе к родным, и попросил меня отправиться с ним, сказал, что больше не любит ту женщину. Ему нужен наследник, разумеется; и это единственное, что я могу ему дать, а она нет. Когда герцогиня ударила меня, я приняла решение. Ненавижу я этот дом и ее ненавижу! Вернусь к Уиллу. Тут как раз появился Эдвард. Почуяв неладное, он уставился на них: — Что случилось? Джоан осушила глаза и рассказала ему о произошедшем. — О, бедная моя, — сказал он, обнимая ее. — И вы, мистресс Кэтрин. Мне жаль вас обеих. У Кэтрин снова покатились слезы из глаз. — Не могу вынести мысли, что больше не увижу Фрэнсиса. «И не буду делить с ним постель», — пронеслось у нее в голове. Если подсчитать, они провели вместе не меньше сотни ночей. Как ей теперь спать одной? — Зная его, могу сказать, он что-нибудь придумает, — утешил ее Эдвард. — Будь я на его месте, я бы тоже постарался, — галантно добавил он.
Проведя бессонную ночь, Кэтрин встала рано, чтобы поймать Фрэнсиса до отъезда. Ее не заботило, что она нарушает данное герцогине слово. Проходя через полный народу холл, она встретила свою тетю, леди Бриджуотер, любимую и самую красивую дочь герцогини, которая часто приезжала к матери погостить. Три ее сестры тоже были здесь нередкими гостьями. Они привозили с собой огромные свиты, приезжие наполняли дом и были очень требовательны к слугам, однако герцогиня оставалась глухой ко всем жалобам. — Меня огорчило известие о случившемся, — мягко сказала леди Бриджуотер. — Миледи передала мне. Я знаю о банкетах, которые устраивают девушки, но не думала, что ты тоже в этом участвуешь. Знаешь что, моя дорогая, если ты и дальше будешь так развлекаться и не спать по ночам, то потеряешь свою красоту. Кэтрин это волновало меньше всего. Ей хотелось одного: увидеться с Фрэнсисом. Она извинилась и быстро пошла прочь. Любимый был обнаружен в винном погребе: он проверял содержимое бочки с элем. — Что вы делаете? — спросила Кэтрин. — Разве вы не должны уезжать? Фрэнсис выпрямился и обнял ее: — Нет, дорогая. Я отговорил миледи от этого. Сказал, будет нехорошо, если члена ее семьи выставят на улицу и он начнет во всеуслышание жаловаться на это. Люди заинтересуются, почему так произошло, а она ведь не хочет скандала. Герцогиня вняла моим доводам и согласилась, чтобы я остался, но не приближался к вам. Как видите, я ее наипокорнейший слуга! — Он наклонился и поцеловал Кэтрин. Она засмеялась — Фрэнсис неисправим! — и вдруг снова почувствовала себя счастливой. — Есть много способов. Мы придумаем, как нам видеться, — сказала воспрявшая духом Кэтрин. — Да, только надо быть более осторожными. Как вы относитесь к прогулке по саду у церкви Святой Марии сегодня вечером? — Вы будете приходить в общую спальню? — Нет, какое-то время, — ответил Фрэнсис. — Старуха Агнес может нагрянуть туда опять. Если она нас застукает, нашей истории конец. Давайте пока будем встречаться, когда подвернется случай, и удовлетворимся этим. — Он игриво ущипнул ее за ягодицу.
Они продолжали тайно встречаться, но только в таких местах, где их не мог увидеть кто-нибудь из знакомых. Сад при церкви Святой Марии был слишком близко к дому герцогини, чтобы чувствовать себя там спокойно, поэтому они отправлялись на прогулки вдоль заболоченного берега Темзы к северу от Ламбета и дальше, в поля к Бэтричси, где располагалась принадлежавшая Вестминстерскому аббатству ферма и стояли стога сена, в которых можно было укрыться. Встречаться удавалось нечасто: Кэтрин не осмеливалась пропадать надолго, чтобы ее отсутствия не заметили, тем ценнее становились свидания. Скоро вернется отец. Тогда, — молилась Кэтрин, — этим уверткам придет конец, и, даст Бог, они с Фрэнсисом станут мужем и женой по-настоящему. Она считала дни до этого счастливого момента.
Глава 12
1539 ГОД В марте повидаться с Кэтрин пришли братья, лица у них были очень серьезные. Чарльзу стукнуло уже двадцать три, Генри — двадцать один и Джорджу двадцать, все они процветали на службе у герцога. Кэтрин встречалась с ними примерно раз в месяц, но теперь они не были так близки, как в детстве. Их жизненные пути разошлись, у молодых людей появились другие интересы и новые друзья, но все же родственная приязнь между братьями и сестрой сохранялась. — Китти, мы принесли тебе печальную весть, — сказал Чарльз, когда они остались одни в маленькой гостиной. — Отец умер в Кале. — О нет! — Она разразилась слезами. Братья утешали ее, ощущая неловкость перед лицом такого бурного выражения горя. — Что будет со мной?! — воскликнула Кэтрин. — Теперь глава семьи — я, — сказал Чарльз, — хотя, боюсь, это мало что значит, так как у меня нет ни денег, ни земель, отец умер в долгах. Его похоронят в Кале, потому что у меня нет средств перевезти его домой. — А что с Маргарет? — Кэтрин вспомнила о своей несчастной овдовевшей мачехе. — Кажется, она прекрасно справляется, хотя осталась в нищете и полагается на своих родных, которые помогают ей деньгами. Лорд Лайл очень добр к ней. — А что с Плейс-Хаусом? — Его вернули семье Дороти, — ответил Джордж. — Значит, ничего не осталось, — упавшим голосом сказала Кэтрин. Но, произнося эти слова, она вдруг поняла, что Чарльз, пусть и без гроша за душой, мог превратить ее мечту о браке в реальность. Братья печально качали головами. — Хорошо, что мы служим у герцога, — сказал Генри, — иначе остались бы нищими. — Он договорился с герцогиней, ты сможешь и дальше жить здесь, — сообщил Чарльз Кэтрин. — Братец, — начала она, — есть один человек, кузен герцогини, который готов жениться на мне без приданого. — И кто же это? — Мистер Дерем. Фрэнсис Дерем. Братья переглянулись. — Он мошенник, — сказал Генри, — и не пользуется уважением, насколько я знаю. — Китти, ты можешь сделать лучшую партию, — добавил Чарльз, — даже без приданого. Я позабочусь о тебе. В Норфолк-Хаусе и при дворе есть немало молодых джентльменов. — Но я люблю мистера Дерема! — выпалила Кэтрин. — И он любит меня! — Это неподходящий супруг для тебя, — настаивал на своем Чарльз. — Я не допущу, чтобы ты вышла замуж за человека с сомнительной репутацией, какой бы близкой ни была твоя связь с ним. Какой смысл спорить? Кэтрин давно знала Чарльза. Если он что-то решил, его не переубедишь. — Хорошо, — сказала она, поднимаясь и думая, что более подавленной чувствовать себя невозможно. — Я должна надеть траур и помолиться за душу отца.Фрэнсис спокойно отнесся к известию, что надежды у них нет, но Кэтрин была безутешна. Казалось, будущее не сулит ей ничего хорошего. Недостаточно было встречаться с любимым тайно; их свидания оставляли ее неудовлетворенной и заставляли чувствовать себя совершенно ничтожной, ей будто каждый раз говорили: чего еще тебе ждать от этого мира? Когда она видела другие влюбленные пары, сердце у нее разрывалось на части. Почему она не может выйти замуж за любимого мужчину? Почему им даже нельзя показаться людям на глаза вместе? Ночевала Кэтрин в те дни в своей спальне. Она не могла вынести вида упражняющихся в постели парочек, занятых тем, что было недоступно ей с Фрэнсисом, или слышать разговоры о помолвках. Все лето Кэтрин провела в унынии. Жизнь не доставляла никакого удовольствия, и ее по малейшим поводам тянуло к слезам. Отчасти, думала несчастная девушка, это связано со скорбью по отцу, хотя он так давно уехал и оставил ее, что она едва ли ощущала недостаток его физического присутствия рядом. Скорее, дело было в том, что она чувствовала себя брошенной на произвол судьбы, сиротой без надежд на будущее, и единственный человек, который хотел помочь ей, был бессилен что-либо сделать. Фрэнсис долго был терпелив с ней, но шли месяцы, и отношения между ними становились натянутыми. Он часто говорил, что когда-нибудь все изменится к лучшему, но Кэтрин не видела, как это может произойти. В тот день, когда пришло известие, что король женится на немецкой принцессе, они отправились на свою обычную прогулку в северную сторону. Наступил октябрь, воздух был прохладный, и сердце Кэтрин тоже стыло. — Вы такая тихая, — заметил Фрэнсис. — Все в порядке. — Она слабо улыбнулась ему. — Настроение по-прежнему неважное? Она не могла говорить. — Я люблю вас, и этого ничто не изменит, — сказал Фрэнсис, глядя на морских птиц, порхавших над заболоченным берегом, — но вы должны как-то взбодриться. Мне неприятно видеть вас такой унылой, это вгоняет в тоску. — Просто я чувствую, что у меня нет будущего, или у нас, — печально проговорила Кэтрин. — Но я же здесь! — сквозь зубы прорычал он. — Я здесь, сейчас и люблю вас. Это ведь что-то значит, верно? Такая любовь, как у нас, не всем дается. — Этого недостаточно! — взорвалась Кэтрин и тут же пожалела, потому что Фрэнсис помрачнел и отвернулся. — Я не меньше вашего хочу, чтобы мы поженились, но вы, печалясь о несбыточном, не видите того, что у нас есть. И если этого недостаточно, то, может быть, вам угодно покончить с нашими отношениями? — Голос его дрожал как натянутая струна. — Вероятно, тогда вы будете более счастливой. — Не думаю, что я когда-нибудь еще буду счастливой. — Кэтрин снова заплакала, все глубже погрязая в печали оттого, что Фрэнсис не кинулся ее утешать, как обычно. — Вы хотите покончить с этим? — Если из-за меня вы несчастны, вероятно, так будет лучше. — Он до сих пор не повернулся к ней. — Но я не оставил бы вас по собственной воле. Важно то, чего хотите вы. — Не знаю я, чего хочу! — взвыла Кэтрин. — Тогда едва ли нам следует продолжать, — ответил Фрэнсис. — Если бы вы по-настоящему любили меня, то знали бы и не сомневались. И он ушел, а она осталась, будто к месту приросла, в слезах и таком потрясении, что сил кинуться вслед за ним не было. Сколько простояла она так на ветру, Кэтрин не знала, но в Норфолк-Хаус вернулась в сумерках и подумала, что ужин, наверное, уже закончился. В любом случае кусок не лез ей в горло.
Через три дня Кэтрин погрузилась в полное отчаяние, неспособная открыть кому-нибудь свое горе или найти Фрэнсиса и наладить заново их отношения. После той злосчастной встречи она с ним не видалась, и что-то подсказывало ей: сам Фрэнсис первого шага к примирению не сделает. Кэтрин понимала, что обидела его, но не знала, как исправить положение. Ничего-то она не могла предложить ему, кроме уныния. Потом Мэри сообщила Кэтрин о желании герцогини поговорить с ней, и Кэтрин сразу подумала, что ее видели с Фрэнсисом и сейчас выбранят или еще хуже. Однако бабушка, сидевшая у огня, при появлении внучки заулыбалась. — Кэтрин! — приветливо произнесла она. — Садись, моя дорогая, — и указала на табурет по другую сторону очага. — Как тебе известно, его величество женится на леди Анне Клевской. Остается только сожалеть, что Клеве состоит в союзе с протестантскими принцами Германии, а я предпочла бы видеть на троне королеву-католичку, но, как бы там ни было, мне всегда хотелось устроить тебя ко двору. Вскоре ожидается приезд леди Анны в Англию, и, как ты понимаешь, завязалось соперничество за места при новом дворе. Тебе будет радостно услышать, что милорд герцог обеспечил должности фрейлин тебе и твоим кузинам Мэри Норрис и Кэтрин Кэри. Кэтрин слушала герцогиню с нарастающим радостным волнением, какого не ощущала уже много месяцев. Она поедет ко двору, окажется в этом волшебном месте, куда как магнитом тянет знатнейших людей страны! К тому же в приличной компании. Кузин у Кэтрин имелось множество, с некоторыми она ни разу в жизни не встречалась, хотя об этих двух слышала, так как отец Мэри Норрис был одним из казненных за прелюбодеяние с королевой Анной, а Кэтрин Кэри — племянница последней, дочь ее сестры Мэри. Кэтрин понадеялась, что они сойдутся. — Тебе очень повезло, моя милая, — говорила тем временем герцогиня. — Одна юная леди уже была назначена на эту должность, но не смогла занять свое место, и герцог убедил короля, чтобы тот взял тебя. Кэтрин набрала в грудь воздуха. Она постепенно осознавала реальность происходящего. Ей предстоит жить во дворцах, носить красивые платья, танцевать и веселиться, причем в непосредственной близости от самого короля! Это не сон, это случится на самом деле! От восторга у нее вдруг голова пошла кругом. Более действенного лекарства от всех ее печалей и найти невозможно! Кэтрин захлопала в ладоши: — Миледи, лучшей новости вы не могли мне сообщить! — Я рада, — сказала герцогиня. — Поедешь ко двору и перестанешь таскаться по округе со своим мистером Деремом. Не думай, что мне ничего не известно. Кэтрин уставилась на нее. И это после всех уловок и ухищрений… — Твое ослушание достойно порицания, — продолжила бабушка, — но я понимаю, ты действовала с оглядкой. Ну а теперь все равно уедешь ко двору. Надеюсь, ты привлечешь какого-нибудь подходящего поклонника, такого, который обеспечит тебе жизнь, к какой ты, как урожденная Говард, имеешь привычку. — Но, миледи, вы же готовы были дать согласие на наш брак, если бы отец не стал возражать? — Я расположена к мистеру Дерему. Если бы все осталось так, как есть сейчас, он был бы для тебя приемлемым супругом. Но тебе выпал великолепный шанс, и я рада, что перед тобой открываются большие возможности. Теперь мы выкинем из головы мистера Дерема, потому как нам многое нужно сделать. Во-первых, собрать тебя ко двору, и как можно скорее. Скоро ожидается прибытие леди Анны в Англию, и ты должна быть готова. Сэр Томас Меннерс, ее будущий камергер, сообщит мне, когда наступит момент прислать тебя. Малин, Мег и Кэт тоже поедут ко двору как горничные королевы. Они надеялись получить места фрейлин, но пусть радуются, что их вообще взяли! Сэр Филип Тилни станет церемониймейстером личных покоев короля, так что они с Малин будут вместе служить при дворе. Женатым придворным выделяют отдельные комнаты. Герцогиня продолжала болтать, но Кэтрин слушала ее вполуха. Дух захватывало от того, с какой скоростью и как круто изменилась ее жизнь, вдруг обретшая смысл. Впереди замаячило будущее, к тому же блестящее. Однако, прежде чем она сможет им насладиться, нужно обо всем рассказать Фрэнсису. Придется встретиться с ним.
Кэтрин нашла его в столовой, он распоряжался подготовкой к трапезе. — Подождите меня в саду, — с бесстрастным лицом сказал ей Дерем. Она вышла и ждала минут десять. Нервозность в ней нарастала. Неужели он решил, что Кэтрин пришла извиняться за свои опрометчивые слова? Хочет ли Фрэнсис вернуть ее? И как отреагирует, услышав, что она едет ко двору? Устремив взгляд вдаль, на реку, Кэтрин поняла, что ко двору ей хочется гораздо больше, чем быть с Фрэнсисом. Их любовь омрачилась пятном безнадежности и пониманием того, что ей никогда не расцвести. И все же чувства к Фрэнсису не исчезли, хотя это уже не была прежняя безудержная страсть. Она наверняка будет скучать по нему, только неизвестно, насколько сильно. Прошло около четверти часа, наконец Фрэнсис присоединился к ней, встав рядом у низкой ограды сада. — Привет, Кэтрин. Как вы? — Хорошо. Мне нужно поговорить с вами. — Не думаю, что у нас есть тема для разговора. — Я не о том. Меня вызывают ко двору служить новой королеве. Фрэнсис задержал дыхание. — Вы покидаете Ламбет навсегда? — Я буду приезжать, если смогу. — Значит, между нами действительно все кончено. — Он отвернулся. — Если вы уедете, я в этом доме тоже не задержусь. — Я уеду. Это организовал милорд Норфолк. У меня нет выбора. А вы поступайте как хотите. Поверьте, мне грустно покидать вас. — Так я и поверил. — В его голосе звучала горечь. — Двор кишит привлекательными мужчинами, и вы скоро забудете меня. — Это неправда, — защищалась Кэтрин; ей хотелось, чтобы Фрэнсису стало легче и он подобрел к ней. — Никогда вы не сможете сказать, что я отреклась от вас. — В это мне тоже хотелось бы верить, — пробормотал Дерем. — Верьте, — сказала Кэтрин и взяла Фрэнсиса за руку, испытывая к нему жалость. Он повернулся к ней, его темные глаза были полны боли. — Помните, как мы давали друг другу обещание? — спросил Фрэнсис, забирая у нее свою руку и захватывая пальцы. — Даже если вы предпочтете мне другого, то все равно останетесь моей, и я всегда буду верен вам. — А я буду верна вам, — обещала Кэтрин, желая только одного: поскорее уйти отсюда. В мыслях она уже оставила Фрэнсиса в прошлом и распахнула объятия навстречу новой жизни. Да, они дали друг другу слово, но когда это было? Кэтрин не считала, что давнишнее обещание так обязывает, как, похоже, считал Фрэнсис. Герцогиня наверняка не разделяла его мнения. — Когда вы уезжаете? — Когда меня вызовут. Это зависит от того, когда приедет королева. Но ждать осталось недолго. — Значит, мы пока еще можем видеться? — Конечно, — кивнула Кэтрин, понимая, что поступает неправильно: не стоило подавать ему надежду, будто между ними все еще может быть по-старому. — Тогда давайте завтра пойдем в Бэтричси, — предложил Фрэнсис. — А теперь мне нужно вернуться к своим обязанностям. — Хорошо, — согласилась Кэтрин. Он поцеловал ее, и это вызвало в ней какое-то странное ощущение. Она засомневалась, хочет ли идти с ним в Бэтричси, и, возвращаясь в дом, решила изобрести какой-нибудь предлог, чтобы не ходить.
Однако придумать ничего не удалось, потому что после обеда Кэтрин окунулась в круговерть приготовлений к отъезду. Пришел портной герцогини и снял с нее мерки, чтобы сшить шесть платьев. Он выкладывал на стол великолепные ткани, отрез за отрезом, миледи наклонялась и тщательно рассматривала их, а Кэтрин стояла в стороне и горячо надеялась, что выбор падет на понравившиеся ей. Там был прекрасный алый дамаст… Но нет. Все платья должны были быть черными или белыми. — Покойная королева требовала этого, как и королева Екатерина, — объяснила герцогиня. — Они не хотели, чтобы фрейлины затмевали их. Вот отличная черная ткань, самая дорогая. Герцог хочет, чтобы тебя обеспечили самым лучшим. Ты будешь представлять при дворе наш дом и должна выглядеть соответственно. Явился шляпник с проволокой и клеёным холстом, чтобы изготовить французские капоры для Кэтрин. Больше ей не придется бегать с распущенными волосами. Был приглашен новый преподаватель танцев, и мистер Барнс снова давал Кэтрин уроки музыки, потому что прежние она все позабыла. Леди Бриджуотер учила ее держать осанку и для этого заставляла ходить вверх-вниз по лестнице с книгой на голове. Потом появился ювелир, и Кэтрин позволили выбрать из его запасов три вещи для украшения платьев. Она взяла подвеску, изображавшую сцену Рождества Христова, брошь с девизом Говардов «Sola virtus invictus», означавшим: «Лишь храбрость неукротима», и серебряный перстень. Жаль, чтоматеринское кольцо с рубином отдано Фрэнсису, но она не могла заставить себя попросить его обратно, боясь вызвать бурную реакцию. Кэтрин была очень занята. Пришлось запиской уведомить Фрэнсиса о невозможности их встречи, даже ничего выдумывать не пришлось. Матушка Эммет заказала тонкого льна на сорочки, и Кэтрин велели заняться шитьем. «Нельзя тратить время попусту», — сказали ей. На самом деле за тот суматошный месяц Кэтрин всего три раза удалось встретиться с Деремом, и ни одно из свиданий не доставило ни ему, ни ей особого удовольствия. Она подозревала, что Фрэнсис догадывается о перемене ее чувств к нему, несмотря на все ее старания скрыть это. И ни разу не предались они внезапному порыву страсти, что раньше случалось так часто. Грустить времени не оставалось. По правде говоря, Кэтрин не могла дождаться отъезда. Малин, Мег и Кэт разделяли ее восторг и тоже были заняты спешными приготовлениями. Остальные девушки с завистью поглядывали на них. Щедроты, которыми осыпали Кэтрин, показали, что она, благородная дочь Говардов, стоит выше их всех и денег на ее дебют при дворе не жалеют. В середине ноября Кэтрин снова позвали в покои герцогини, где она застала своего кузена Тома Калпепера и очень обрадовалась. В последний раз она видела его, когда ей было лет семь. — Мистера Калпепера прислал граф Ратленд с сообщением, что ты должна прибыть ко двору в Уайтхолл через три дня, — сияя улыбкой, изрекла герцогиня. Том поклонился. А когда выпрямил спину, Кэтрин в изумлении уставилась на него. Прекрасный юноша превратился в широкоплечего и очень привлекательного мужчину с волевым подбородком и высокими скулами. Курчавые каштановые волосы все те же, как и блестящие голубые глаза, но появилась в нем некая новая властность, уверенность в себе. Одет он был в платье из пурпурного бархата и шелка, скроенное по последней моде, что говорило о богатстве и высоком статусе. Ей хотелось обнять кузена, но она уже не ребенок, а он теперь важный джентльмен, к тому же герцогиня следила за ней, а значит, нужно вести себя пристойно. Кроме того, Кэтрин отчетливо ощутила трепет в груди, причиной которого была близость Тома. Если бы он в числе прочих кавалеров посещал покои камеристок, она бы испытала его мужские качества, это точно, несмотря ни на какого Фрэнсиса. Кэтрин сама слегка изумилась, с какой легкостью она отставила в сторону бывшего любовника. Пришлось ей пока удовлетвориться реверансом. — Никогда я не была так рада видеть вас, кузен. Вы принесли долгожданные вести. Том смотрел на нее с нескрываемым восхищением. — Ну и ну, моя милая маленькая кузина превратилась в прекрасную, грациозную леди! — воскликнул он. — Вы украсите своим присутствием двор и произведете там переполох. — Надеюсь, не слишком большой, — вставила герцогиня, и Кэтрин сразу поняла, что та подумала о Фрэнсисе, и о Гарри, и обо всех тех событиях, которые произошли в связи с ними. Миледи предложила им обоим сесть и приказала подать вина. — По вашему костюму я вижу, что вы в большой чести у короля, мистер Калпепер, — сказала она. — По-моему, только королевским особам позволено одеваться в пурпур. Том слегка покраснел: — Его милости было угодно даровать мне множество привилегий и почтить меня повышениями по службе. Кэтрин знает, что я рос в его личных покоях. Я начал пажом, а примерно шесть лет назад он сделал меня джентльменом своих личных покоев. Герцогиня явно находилась под впечатлением. — Кэтрин, любой человек, достигший такого положения, действительно попадает в большой фавор. Джентльмены из личных покоев могут общаться с королем напрямую и обладают немалым влиянием. Том самодовольно улыбался. Он явно гордился своими достижениями. — За последние три года я удостоился особенно больших почестей. Король, ясное дело, был шокирован, когда обнаружил, что сэр Генри Норрис совершил измену с королевой Анной. Норрис был главным джентльменом личных покоев и близким другом его милости. И тогда король в поисках дружбы обратился ко мне. — Калпепер вздохнул. — Я думал, что получу должность сэра Генри, ведь казалось, я пользуюсь такими же милостями, но главным джентльменом вместо него сделали сэра Томаса Хиниджа. Впрочем, я доволен, потому как имею честь по ночам делить ложе с его величеством. Я уверен, он искренне симпатизирует мне. — Он хотел бы иметь такого сына, как вы, — заметила герцогиня. — Надежного преемника, обходительного и миловидного. В такой одежде вы могли бы сойти за принца! Том улыбнулся. Кэтрин сознавала, что он не спускает с нее глаз, и сама не могла оторваться от него. — При такой любви к вам короля и вашей близости к нему вы наверняка обладаете большим влиянием, — продолжила герцогиня. — Могу представить, сколько людей ищут вашего покровительства. — Немного, — с улыбкой признался Том. — Но вы явно не упускаете своей выгоды. — Это может приносить доход. Королю было угодно назначить меня на несколько должностей: я служитель оружейной палаты, хранитель Пенсхерста и Норт-Ли, главный ловчий, лейтенант замка Тонбридж и смотритель Эшдон-Фореста. У меня прекрасный дом в Гринвиче и еще один в Пенсхерсте. — Вы, должно быть, человек обеспеченный, — сказала герцогиня, и Кэтрин вдруг поняла, к чему она клонит. Почти во всех отношениях Том был в высшей степени желанным поклонником. Бабушка подбирала ей жениха. Хотя Кэтрин и нравился Том, новый кавалер ей сейчас был не нужен. Ситуация с Фрэнсисом и без того достаточно запутанная. И вообще, она хотела поехать ко двору и в ближайшем будущем получать удовольствие от жизни. Ей пока ни к чему связывать себя узами брака; она не хотела отправиться в деревню и рожать там детей раз в два года. Кэтрин посмотрела на Тома. Разумеется, тактику герцогини он видел насквозь. И тем не менее сидел с вежливой улыбкой и явно получал удовольствие от разговора о самом себе. Том не поинтересовался ее жизнью, не задал ни единого вопроса о том, что происходило с ней за все те годы, пока они не виделись. Это поразило Кэтрин. Наконец Калпепер повернулся к ней: — Вам понравится при дворе, дорогая кузина. Но если у вас когда-нибудь возникнет нужда во мне, я будут рад оказать вам помощь. — Вы очень добры, — сказала герцогиня. Кэтрин встала и поблагодарила Тома. — Прошу, позвольте мне уйти, миледи, я должна закончить шитье, а времени мало. — Тогда беги. А с мистером Калпепером ты еще увидишься при дворе, — милостиво согласилась герцогиня.
На беспокойных водах Темзы покачивалась барка. Кэтрин видела ее из окна своей комнаты: вот на пристань сошел лорд Уильям Говард и направился к дому. Он приехал проводить племянницу во дворец Уайтхолл, расположенный совсем недалеко, ниже по течению реки. Кэтрин была готова, облачилась в одно из своих новых платьев и надела украшения. На кровати лежала подбитая мехом накидка. Сегодня она ей понадобится: ноябрьский ветер пробирал до костей. Дорожный сундук уже снесли вниз, к барке. Малин успела взойти на борт, а Мег и Кэт стояли в дверях и натягивали перчатки. Осталось только попрощаться. Молодые камеристки, бывшие подругами Кэтрин последние девять лет, обнимали и целовали ее, просили не забывать их, приезжать и рассказывать о жизни при дворе. Даже Джоан и Мэри, казалось, жалели, что она уезжает. — Я приеду навестить вас, — пообещала Кэтрин, — и буду вспоминать в своих молитвах. Она ринулась вниз по лестнице, и девушки поспешили следом — хотели помахать ей на прощание. — Я должна найти миледи, — сказала им Кэтрин и направилась в сторону покоев герцогини. Скрывшись из виду, она сменила курс и пошла в комнату управляющего, где надеялась застать Фрэнсиса. Нельзя было уехать, не попрощавшись с ним. Он был у себя, к счастью один. Увидев Кэтрин, отставил в сторону серебряную чашу, которую внимательно рассматривал, вероятно в поисках не стертых следов пальцев, и сказал: — Вы уезжаете ко двору? — Да. Пришла сказать «прощайте». Фрэнсис бросил на нее суровый взгляд: — Это прощание навсегда? — О нет! — поспешила заверить его Кэтрин. — Я буду приезжать и видеться с вами, когда смогу. — Ну, меня может здесь не быть. Я попросил у миледи Норфолк дозволения покинуть свой пост. Меня удерживали здесь только вы. С вашим отъездом я тоже намерен оставить этот дом. — Но куда вы поедете? — спросила Кэтрин. — Еще не решил. Но не бойтесь, это не навсегда. Я вернусь и потребую вас назад, когда сделаю состояние! — Фрэнсис коротко улыбнулся ей. Тишина разверзла между ними свою пасть, похожую на пропасть, и Кэтрин должна была проложить над ней мостик словами о том, как ей не хочется уезжать и как страшно она будет скучать по нему. — Кэтрин, — наконец проговорил Фрэнсис, — я должен просить вас об одолжении и прошу как ваш супруг, потому что долг супруга — обеспечить свою жену. Я составил завещание и хочу, чтобы вы хранили его вместе с большей частью моих сбережений, а это сто фунтов. Если я не вернусь, считайте эти деньги своими. Сумма была значительная, ее отец мог бы мечтать о такой, но что-то в словах Фрэнсиса обеспокоило Кэтрин. — Как это — если не вернетесь? Надеюсь, вы не собираетесь ввязаться в какую-нибудь опасную авантюру! — Нет, вовсе нет, — усмехнулся он. — Я хочу всего лишь посмотреть мир и попутно заработать денег. Но пытаюсь предусмотреть все возможные варианты. Ну что же, вы последите за этими вещами? — Конечно, но где мне их хранить? При дворе может не оказаться надежного места. Полагаю, я могу оставить их здесь. В моей комнате, в углу у окна, одна доска не приколочена к полу. Под ней я прячу свои сокровища. Положите туда деньги и завещание и приколотите доску потихоньку, когда никого не будет рядом. Только вы и я будем знать, что они там лежат. — Я так и сделаю, — пообещал Фрэнсис. — А теперь, что же, прощайте. — Да, — с трудом произнесла Кэтрин. Они постояли немного, потом Фрэнсис взял ее руку, поднес к губам и поцеловал. На его мизинце блеснуло материнское кольцо. Кэтрин захотелось плакать: стало жаль терять Фрэнсиса, жаль былого счастья.
Часть вторая «Так сильно любимая, много, много больше остальных»
Глава 13
1539 ГОД Кэтрин часто видела с реки черно-белые, «в шашечку», стены дворца Уайтхолл, иногда прогуливалась мимо по дороге, которая вела к Чаринг-кросс и Стрэнду. Это была главная королевская резиденция и, по слухам, самый большой дворец во всем христианском мире. Когда они высадились из барки на берег и были пропущены на территорию дворца через гейтхаус, лорд Уильям повел своих подопечных по дворцовым залам к камергеру королевы графу Ратленду. Кэтрин шла по извилистому лабиринту великолепных парадных апартаментов, жилых комнат и служебных помещений, располагавшихся вокруг нескольких внутренних дворов. Граф Ратленд вел себя с подчеркнутой вежливостью и оказался очень похожим на висевший в Ламбете портрет короля. Он принял вновь прибывших в картинной галерее и подождал, пока лорд Уильям пожелает своим подопечным удачи на прощание, после чего проводил девушек в апартаменты королевы и с удовольствием ответил на их многочисленные вопросы о дворце. — Милорд, а где живет король? — Его покои выходят на реку, мистресс Кэтрин, и они восхитительны. Вы сами их увидите, когда будете сопровождать королеву. С ее комнатами они соединяются галереей. — Мы увидим его милость? — пожелала узнать Мег. — Не сегодня, насколько я понимаю. Он занят государственными делами. — Наверное, готовится к приезду королевы, — предположила Кэт. — Король — нетерпеливый жених, — с улыбкой ответил камергер. В апартаментах королевы Кэтрин и ее подруги, разинув рты, рассматривали резные золоченые потолки и каминные доски, прекрасные гобелены и мебель. Тут и правда было чему подивиться! Сквозь окно виднелся личный сад королевы — маленький рай, в котором его хозяйка могла отдыхать вместе со своими дамами. И она, Кэтрин, поселится здесь! Жизнь становилась все краше и краше. Встречи с ними ждала миссис Стонор, наставница девушек, которая являла собой гораздо более внушительную фигуру, чем апатичная матушка Эммет, но тем не менее оказала своим новым подопечным теплый прием. — Благодарю вас, милорд, — произнесла она, обращаясь к Ратленду, прежде чем тот откланялся и оставил девушек в пустом приемном зале королевы. — Дайте-ка мне посмотреть на вас. Да, вы выглядите прекрасно. Миледи Норфолк постаралась на славу. Кэтрин наслаждалась похвалами. Ей так хотелось произвести хорошее впечатление. — Не стоит отдельного упоминания, — строго проговорила миссис Стонор, — что на службе у королевы вы должны быть образцами добродетели и скромности. Вы не должны вести себя дерзко или шумно, а также совершать поступки, которые уронят достоинство ваше или ваших компаньонок. Я выражаюсь ясно? — Да, миссис Стонор, — хором ответили они. — Хорошо. — Она улыбнулась. — Некоторые из ваших компаньонок уже здесь. Я отведу вас в спальню девушек. Ваши сундуки в скором времени доставят туда. А вы, леди Тилни, пожалуйста, останьтесь здесь. Я попросила вашего мужа прийти и проводить вас в вашу комнату. Временно распрощавшись с Малин, Кэтрин пошла впереди Мег и Кэт вверх по винтовой лестнице и вступила в просторную комнату с высоким потолком, где насчитала пятнадцать кроватей. Четыре девушки уже находились там — распаковывали свои вещи. Это помещение не слишком отличалось от общей спальни в Ламбете, за исключением того, что было больше по размеру и чище. Очевидно, миссис Стонор умело управляла своими подопечными. Кэтрин не могла представить, чтобы здесь творилось что-то подобное встречам в Норфолк-Хаусе. — А теперь, леди, я оставлю вас знакомиться, — сказала миссис Стонор. — Выбирайте любую кровать, какая вам нравится. — С этими словами она вышла и стала торопливо спускаться по лестнице, а Кэтрин улыбнулась находившимся в спальне девушкам, которые подошли к ней, чтобы представиться. — Я Анна Бассет, — сказала миловидная блондинка, — а это — Мэри Норрис. Худенькая девушка лет четырнадцати с каштановыми волосами и гордой осанкой дружелюбно улыбнулась вновь прибывшим. Еще одна очень приятная юная леди представилась как Кейт Кэри, затем четвертая, которая была немного старше остальных, имела худое лицо и кудрявые черные волосы, сказала, что она Дороти Брей, но люди обычно зовут ее Дора. — Кажется, мы с вами кузины, — обратилась Кэтрин к Кейт Кэри. — Я Кэтрин Говард, а эти леди — Мег Мортон и Кэт Тилни, еще одна наша кузина. — Я наверняка тоже в какой-то мере вам родня, — вставила Мег. Они завели беседу, и вскоре Кэтрин узнала, что Анна Бассет служила у Джейн Сеймур, а ее отчим, лорд Лайл, был представителем короля в Кале, тем самым, который проявлял такую доброту и снисходительность к ее отцу. Сестра Анны очень хотела попасть ко двору, но ей не досталось места. — Поэтому моя почтенная матушка ждет, что я выпрошу эту милость у короля. — Анна захихикала. — К счастью, его величество всегда был добр ко мне, даже позволил остаться здесь после смерти королевы Джейн. Это звучало странно, так как Кэтрин знала, что в отсутствие королевы при дворе нет места дамам; она подивилась про себя: не кроется ли тут нечто большее? Но почувствовала, что Анна сказала бы им, если бы было о чем говорить. Дора сообщила, что впервые оказалась при дворе. — Я так рада, что вы знакомы со здешними порядками, — сказала она Анне, — а то я сама совершенно потерялась бы. — Миссис Стонор быстро наставит вас на путь истинный, — ответила Анна. — Сегодня вечером — это неизбежно как смерть — мы все услышим лекцию о правилах, которые должно соблюдать, и необходимости быть добродетельными юными леди, не сплетничать и не входить в слишком близкие отношения с джентльменами. — Я уверена, ваша матушка все вам об этом рассказала, — сказала Мэри Норрис, взглянув на Кейт Кэри. Кейт покраснела. — Нехорошо вам говорить такое, Мэри. — Она повернулась к Кэтрин и двум другим новым девушкам. — Вам следует услышать это от меня, раз уж всему миру известно, что моя мать — сестра королевы Анны и какое-то время была любовницей короля. — Ни к чему подтрунивать из-за этого над Кейт, — зло сказала Дора. Мэри пожала плечами: — Меня тоже есть чем дразнить. Вы, леди, наверное, слышали про сэра Генри Норриса, которому отрубили голову за беззаконную связь с королевой Анной. Так вот он мой отец. — Знаете, как говорят: злом зла не поправишь, — вмешалась Анна, которая все вынимала и вынимала из сундука бесконечный запас своей одежды. — Нам нужно поддерживать друг друга. — Я никогда не дразнила вас, Мэри, — сказала Кейт. — Наоборот, я очень вам сочувствую. — Мне не нужна жалость, — отрезала Мэри. — О, простите, Кейт, я не хотела вас обидеть. Мне не стоило так говорить. Простите меня. — Конечно, — довольно небрежно отозвалась Кейт и вытащила из сундука платье. — Мне нужно подшить подол. Кэтрин стало не по себе от этой стычки в девичьей спальне. Она понадеялась, что такие перепалки не будут случаться часто. — Наши сундуки принесли! — весело объявила Мег. — Ну что, выберем кровати и займемся вещами?К вечеру прибыли и другие юные леди. Величественнее всех появилась леди Люси Сомерсет, пятнадцатилетняя гордячка, которая хвасталась своим родством с королем, на самом деле довольно отдаленным. — Мой отец — внук последнего из Бофортов, герцогов Сомерсета, — заявила она. — Да, родился на изнанке одеяла[141], — шепнула Анна на ухо Кэтрин, для которой все это ровно ничего не значило, поскольку она слыхом не слыхивала о Бофортах, герцогах Сомерсета. — В каком она родстве с королем? — шепотом спросила Кэтрин. — Бабушка его милости была Бофорт, — объяснила ей Анна. Вскоре Кэтрин заметила, что Мэри Норрис не разговаривает с леди Люси. — Неудивительно, — буркнула Анна, которая, похоже, знала все обо всех. — Мать Люси первой дала показания против королевы Анны. Их семьи давно враждуют. — Ну, я буду держаться от них подальше, — решительно сказала Кэтрин и пошла знакомиться с другими девушками, которые представились как Урсула Стоуртон, Маргарет Гарниш, Маргарет Коуплдайк и Дамаскин Страдлинг. Она поговорила и с двумя камеристками, миссис Фридсвайд и миссис Лаффкин, но те держались холодно и явно чувствовали себя неловко в присутствии высокородных девиц. Позже тем же вечером в присутствии лорда Ратленда и главных служителей двора всех девушек привели к присяге на верную службу королеве. Кэтрин поклялась быть верной, преданной, послушной и добродетельной. Она произносила эти слова от всего сердца. Ужин подали в большом зале за тремя рядами столов на козлах. Высшие чины королевского двора сидели за высоким столом на помосте. Кэтрин считала двор в Ламбете великолепным, но он был ничто в сравнении с этим. Она никогда не видела столько людей, собравшихся за одной трапезой, и осознала, как богат и могуществен король, о котором была наслышана. Теперь Кэтрин лично убедилась, что слухи не лгали. Роскошь обстановки не простиралась на стол. Тарелки и прочая посуда были деревянные, хлеб пшеничный и черный, а вместо вина подали эль в кожаном кувшине. Еду принесли на больших блюдах, каждое на четверых. — Вы не должны доедать все, — сказала Анна Кэтрин. — Это немилосердно. Остатки собирают в корзину и раздают нищим у ворот. Похоже, ей предстоит еще многое узнать о жизни при дворе. Главные леди сидели ближе к высокому столу. Анна, упивавшаяся своим превосходством в знании порядков при дворе, показывала и называла их: — Вон та, с рыжими волосами, — племянница короля, леди Маргарет Дуглас. Кэтрин невольно задержала на ней взгляд. Последнее, что она слышала об этой женщине: леди Маргарет была удалена от двора и жила в большой печали в аббатстве Сион. Теперь она болтала и смеялась совершенно беззаботно. — Рядом с ней — герцогиня Ричмонд, — продолжила Анна; Кэтрин узнала дочь дяди Норфолка Мэри, которую в последний раз видела на похоронах леди Уилтшир. — Напротив нее — герцогиня Саффолк, а дама в песочном платье — ваша тетка, графиня Сассекс. Леди Уильям Говард не нуждалась в представлении, Кэтрин часто встречалась с ней в Ламбете. Леди Уильям тоже ее заметила — она кивнула и улыбнулась. Множество других дам из личных покоев королевы сидели дальше вдоль стола. Анна продолжала перечислять их, а тем временем в зал приносили все новые подносы с мясом и подливками и водружали на столы. — Миледи Ратленд — супруга камергера ее милости, а рядом с ней леди Клинтон. — Анна понизила голос. — Она тоже была любовницей короля и родила ему сына, покойного герцога Ричмонда. Вы, конечно, знаете, что он был женат на вашей кузине. Кэтрин знала, хотя никогда не видела герцога, умершего года четыре назад в возрасте семнадцати лет. — Дама в алом гейбле[142] — леди Рочфорд. — Анна указала на худощавую женщину с лицом в форме сердечка и пухлыми губами, уже не юную, но сохранившую миловидность, и склонилась к самому уху Кэтрин. — Ее муж был братом королевы Анны. Ну конечно! Лорда Рочфорда казнили за инцест с сестрой, говорили, что леди Рочфорд дала против них показания. Кэтрин задумалась, правда ли это? — Там еще сидит леди Эджкамб, а напротив нее, на нашей стороне, леди Бейнтон. Изабель! Кэтрин, слишком занятая сборами и прочими делами, не подумала, что ее сводная сестра будет здесь. Она выдвинулась вперед и увидела, что лицо Изабель, заметившей ее, осветилось улыбкой. Кэтрин с удивлением вгляделась в сестру: да у нее уже появились морщины! Чему удивляться, ей ведь уже лет сорок пять. Изабель сразу встала, подошла к Кэтрин и обняла ее. — Как приятно видеть тебя, сестрица! — воскликнула она. — Я слышала о твоем назначении фрейлиной, но не знала, когда ты приедешь. Эдварда опять назначили вице-камергером королевы, ты слышала? Мы вместе служим ей! Они тепло обнялись, и Кэтрин поздравила ее. — Дай мне посмотреть на тебя, — сказала Изабель. — Честно говоря, ты выросла красавицей, и это платье очень тебе идет. Нам нужно поговорить. Я приду позже в девичий покой. Кэтрин села, радуясь, что Изабель будет с ней при дворе: ей сразу стало как-то уютнее. Она заметила на себе оценивающий взгляд леди Рочфорд и робко улыбнулась, получив ответную улыбку. — Остерегайтесь ее, — пробормотала Анна. — Она странная. — Что вы имеете в виду? — Просто она странная. После того жуткого дела с ее мужем. Вы, конечно, знаете, какие ходили слухи? — Да. — Кэтрин не хотелось распространяться об этом. — С тех пор за ней присматривают, если вы понимаете, о чем я. Мне кажется, она оказала услугу лорду Кромвелю. Даже Кэтрин слышала — а кто не слышал? — о лорде Кромвеле, главном министре короля. — Вы имеете в виду, что она… — Не здесь! — Анна покачала головой. За соседним столом, сообщила она Кэтрин, собрались камеристки личных покоев; их слишком много, чтобы сразу представлять всех, но сидевших ближе всего к ним назвала: мистресс Анна Парр и мистресс Кромвель, сестра покойной королевы Джейн. За ними Кэтрин, кажется, приметила другую свою сводную сестру, Маргарет, леди Арундел, с которой не встречалась с детских лет. А на другом конце стола увидела Малин, Мег и Кэт, которые оживленно беседовали с другими камеристками. Вдруг у нее захватило дух, ей стало даже немного страшно: она теперь часть такого огромного двора! Называть по именам мужчин, разместившихся за дальним от них столом, и упоминать их должности, важные и не очень, Анна даже не пыталась. Кэтрин напомнила себе, что она Говард, а Говарды давно в милости при английском дворе. Это было ее место по праву, и она здесь преуспеет.
Кэтрин надеялась окунуться в бесконечную круговерть танцев и пиров, но вскоре обнаружила, что жизнь при дворе довольно скучная. Королева еще не приехала, и они должны были находиться в отведенных ей апартаментах и развлекать себя самостоятельно по мере сил. Миссис Стонор объяснила, что двор — это царство мужчин, и любая юная леди нарушит приличия, если вторгнется туда. Кэтрин довольно быстро начала ценить свободу, которой пользовалась в Ламбете. Никаких обязанностей они не исполняли. К приезду королевы все уже было готово, сшито до последнего стежка и натерто до ярчайшего блеска. Девушки занимали себя чем только могли: шили, музицировали и бесконечно играли в кости. У Изабель имелся набор для игры в бирюльки, и они с Кэтрин забавлялись ею по вечерам. Иногда к ним присоединялась Маргарет Арундел, приносившая карты. Кэтрин всегда жаловалась на свой маленький рост и завидовала тому, как вытянулась ее сводная сестра. Девушка молилась про себя, чтобы с прибытием королевы жизнь стала веселее. — Интересно, какая она? — рассуждала Кэтрин однажды холодным темным вечером, пока Маргарет сдавала карты. — Королева? — уточнила Изабель. — Думаю, красивая и добродетельная. Иначе король не выбрал бы ее. Эдвард говорит, его милость влюбился в ее портрет. Мастер Гольбейн ездил в Клеве и рисовал ее. — Ну, скоро мы узнаем, какова она, — проговорила Маргарет. — Ее приезда ожидают до Рождества. — Надеюсь, она окажется доброй госпожой, — сказала наблюдавшая за игрой Анна Парр. — И говорит по-английски! — добавила Кэтрин. Все засмеялись.
Короля Кэтрин впервые увидела в Йолетиды[143]. Анна Клевская задержалась в Кале: капризный ветер не давал ей возможности пересечь пролив, и Рождество праздновали в Уайтхолле в атмосфере напряженного ожидания. Многие лорды привезли с собой жен, чтобы оказать почести новой королеве. В присутствии такого количества благородных дам требования к фрейлинам королевы ослабли, так что девушки могли свободно мешаться с толпой заполонивших дворец гостей, наслаждаться пирами и шумным весельем. В сочельник в главный зал принесли йольское бревно и торжественно зажгли в очаге; по рукам пошли заздравные чаши. Потом звонкий голос возгласил: — Дорогу его величеству королю! — и в двери вошла небольшая процессия. Кто из них король, стало ясно сразу: он был выше и шире всех в плечах, одет в великолепную золотую парчу и черный бархат, увешан драгоценностями. О, но он такой старый — и толстый! Кэтрин была потрясена. Генрих совсем не походил на висевший в Ламбете портрет; верно, его написали много лет назад, когда король на зависть всем был стройным и прекрасным молодым человеком. Теперь рыжие волосы, видневшиеся из-под бархатного берета, были пронизаны сединой, дублет и короткая накидка на толстой подкладке вмещали в себя массивное тело. Если бы он не улыбался весело, приветствуя всех, можно было подумать, что чело его всегда хмуро, а лицо в спокойном состоянии имеет выражение суровое и недовольное. К тому же он хромал. Под белыми рейтузами Кэтрин различила бинты. Ей стало жаль бедную королеву. Имела ли Анна Клевская представление о том, что ждет ее в конце пути? Король он или не король, а этот заплывший жиром старик мало мог предложить молодой женщине. Кэтрин поймала себя даже на том, что ей жаль его: каким он был раньше и каков теперь. Король приближался. Кэтрин и остальные девушки присели в реверансах, пока он их приветствовал, а потом по его команде поднялись. — Вот милейшая стайка красавиц! — заметил король, весело сверкая глазами. — Вы, должно быть, все заскучали в ожидании леди Анны, так же как я. — Его взгляд на мгновение задержался на Кэтрин. — Даст Бог, она скоро будет здесь. Счастливого Рождества всем вам, леди! — И он ушел, оставив за собой сладковатый душок. Запах исходил от его больной ноги. Кэтрин была уверена. Король напомнил ей кого-то, но она не могла понять, кого именно. Когда монарх удалился, молодые женщины жеманно заулыбались и залились румянцем, разволновавшись, что их заметили. Но мысли Кэтрин блуждали где-то далеко. Она только что выхватила взглядом из толпы окружавших короля джентльменов Тома Калпепера, и тот улыбнулся ей.
Позже в тот вечер, когда девушки готовились ко сну, Кэтрин мельком увидела профиль Кейт Кэри и поняла, кого напомнил ей король. Сходство было разительное. Кейт, несомненно, его дочь.
Глава 14
1540 ГОД В карете было очень холодно, и юные леди прижались друг к другу, чтобы согреться. Погода стояла отвратительная, мокрая и ветреная, небо хмурилось. Подбитая мехом накидка не защищала Кэтрин от стужи. Казалось, поездка была бесконечно долгой, но вот, благодарение Господу, впереди показался Дартфорд. Кэтрин так закоченела, что, когда они наконец прибыли, едва могла вылезти из кареты. Она стояла и топала ногами, пока служители двора королевы и ее придворные дамы под ударами ледяного ветра собирались у городских ворот. К фрейлинам подошла представительная дама в соболях. — Я леди Браун, — сообщила она. — Меня назначили помогать миссис Стонор наблюдать за вами до возвращения в Гринвич. Эскорт королевы уже показался. Вас здесь долго не продержат. — Она похожа на дракона, — буркнула себе под нос Анна. — Я все слышала! — с укором произнесла у нее за спиной миссис Стонор. Кэтрин захихикала. Зубы у нее стучали. Наконец свита королевы приблизилась к ним. Кэтрин увидела дядю Норфолка и герцога Саффолка. Они ехали по бокам от прекрасной золоченой кареты из резного дерева. Карета остановилась, дядя Норфолк спешился и предложил руку выходившей из нее даме. Она тоже была закутана в меха, но капюшон накидки был опущен, и Кэтрин увидела на голове у женщины какой-то удивительный головной убор, покрывавший волосы, с непонятными полупрозрачными крыльями. Потом леди Анна повернулась к графу Ратленду, чтобы поприветствовать его и остальных придворных; стало видно ее лицо. Она не была красавицей: длинный нос и выступавший вперед подбородок портили ее, но глаза светились добротой, а губы улыбались. — Хм, — хмыкнула Анна рядом с ухом Кэтрин. — Ш-ш-ш! — шикнула на нее та, потому что архиепископ Кранмер и герцог Саффолк начали представлять дам и девушек леди Анне. Когда настал черед Кэтрин, она сделала изящный реверанс и склонилась над протянутой рукой своей новой госпожи, чтобы поцеловать ее, ощутив при этом неприятный запах. Боже, моются ли они у себя в Клеве? О короле Кэтрин знала немного, но одно ей было известно точно: он крайне брезглив. Миссис Стонор предупреждала их, чтобы они не клали еду на покрывала постелей и не прикасались жирными руками к гобеленам, а еще Кэтрин насмешило, что во дворах дворца красными крестами на стенах были отмечены места, где, как ей объяснили, мужчинам запрещалось справлять малую нужду. Разумеется, королю не понравится жена, от которой дурно пахнет. Кэтрин заметила, что леди Анну сопровождало множество немецких дам; все они были одеты в какую-то диковинную, не красившую их одежду. Ей сказали, что эти женщины будут служить королеве вместе с английскими леди. Наконец — о радость! — процессия двинулась к бывшему приорату Дартфорда, который, как и другие святые обители в Англии, был закрыт королем. Кэтрин держалась одного мнения со своими родными: это неправильно, более того, кощунственно со стороны его милости — распускать монастыри и забирать себе их богатства, но особенно сильно это ее не волновало. У нее имелись более серьезные заботы. Скоро она приступит к своим обязанностям, и начнется новая жизнь.В тот вечер леди Анна позвала дам и фрейлин в свои личные покои. Предложила им сесть: дамам на стулья, девушкам — на пол — и сказала, запинаясь, на ломаном английском с гортанным акцентом: — Меня зовут Анна. Я хочу узнать вас. С помощью одной из своих камеристок, фламандки миссис Гилман, которая выполняла обязанности переводчицы, леди Анна поговорила с каждой из дам и девушек. Когда очередь дошла до Кэтрин, она сделала реверанс и улыбнулась принцессе, понимая, что та, должно быть, нервничает, попав в чужую страну, чтобы выйти замуж за незнакомого, грозного и, сказать по правде, отталкивающего с виду человека. — Мистресс Кэтрин Говард, ваша милость, — произнесла миссис Гилман, — племянница герцога Норфолка. — Добро пожаловать, — сказала принцесса с ответной улыбкой. — Вы счастливы быть здесь? — О да, ваша милость! — ответила Кэтрин. — Разве может быть иначе? Служить вам — большая честь. — Вы давно при дворе? — Нет, я здесь тоже новенькая! — Кэтрин засмеялась. Ей нравилась эта добрая молодая женщина, которая так старалась проявить дружелюбие. Анна также побуждала своих английских дам знакомиться с немецкими, которые сидели все вместе с одной стороны покоя. Кэтрин попыталась, но они почти не говорили по-английски; тогда она рискнула подойти к матушке Лёве, главной над немецкими девушками, дородной матроне, которая держалась с большой важностью и немного изъяснялась на английском. — Кто вы? — спросила ее матушка Лёве в своей отрывистой манере. — Кэтрин Говард. Мой дядя — герцог Норфолк. Матушку Лёве, похоже, это не впечатлило. — А ваш Vater?[144] — Лорд Эдмунд Говард. Он умер в прошлом году. Моя мать почила, когда я была ребенком, и меня отправили жить к бабушке, вдовствующей герцогине Норфолк. — Вам было хорошо там? — Да, но мне нравится при дворе. — Ваша семья будет гордиться вами. — Я надеюсь добиться этого. Дальше разговор, прерывистый и неловкий, зашел об официальном приеме, который ждал завтра новую королеву. Анна, похоже, боялась его, но была намерена показать себя наилучшим образом. Кэтрин и самой не терпелось надеть прекрасное алое бархатное платье, в которое полагалось облачиться по такому случаю. Вечер заканчивался. Кэтрин надеялась, что будут музыка и танцы или даже карты, но леди Анна отошла ко сну вскоре после девяти часов, так что и всем остальным тоже пришлось ложиться. Конечно, завтра рано поутру им предстояло ехать на луг Блэкхит, но Кэтрин про себя взмолилась, чтобы они не проводили так все грядущие вечера.
Надев бархатное платье, Кэтрин сама почувствовала себя королевой. Стоя вместе с остальными придворными Анны перед шелковым шатром, установленным у подножия Шутерс-Хилл, она позабыла о холоде, хотя некоторые другие девушки дрожали. Они покинули Дартфорд на рассвете и поехали вперед, чтобы подготовиться к приему своей новой госпожи. Здесь собрались тысячи людей: рыцари, солдаты, ливрейные слуги, толпы простонародья, не говоря уже о бесчисленных лордах и леди, разодетых по такому случаю в лучшие наряды. Даже вдовствующая герцогиня приехала — она стояла рядом с графиней Бриджуотер и остальными Говардами. В полдень все глаза устремились на карету Анны, спускавшуюся с Шутерс-Хилл во главе впечатляющего кортежа. Когда принцесса вылезла из кареты у шатра, граф Ратленд поклонился ей, и вперед со словами приветствия вышли леди Маргарет Дуглас, герцогиня Ричмонд и еще одна племянница короля, маркиза Дорсет. После этого Кэтрин и остальные придворные тоже раскланялись. — Я от души благодарю вас, — сказала Анна и по очереди расцеловала своих главных придворных дам. Пришлось бесконечно долго ждать, пока ее податель милостыни произнесет длиннейшую речь на латыни, затем он начал официально представлять леди Анне всех, кого привели к присяге на верную службу ей. Это тоже заняло довольно много времени: каждый в порядке старшинства опускался на колени и целовал руку новой госпоже. Кэтрин промерзла до костей и очень обрадовалась, когда они вошли в шатер, где в жаровнях тлели угли, на которые бросили ароматные травы, и смогли отогреться и поучаствовать в банкете, устроенном на длинных столах. После этого девушки помогли леди Анне переодеться в платье из золотой парчи. Кэтрин удивилась, что у него только круглая юбка, а шлейфа нет, и заметила, что другие дамы тоже удивленно смотрят на это чудо. Все выстроились снаружи, перед шатром. Анна явно нервничала. Прошлой ночью дамы обсуждали первую встречу своей госпожи с королем и решили, что она прошла нехорошо: его милость появился перед ничего не подозревающей невестой переодетым и удивил ее. Хотя после этого между ними все было благополучно. Кэтрин подумала: если бы король устроил такой сюрприз ей, она, наверное, завизжала бы от ужаса! Вдалеке зазвучали трубы. Видя, как Анна садится на верховую лошадь, Кэтрин оседлала свою и поехала вместе с другими дамами к Гринвичскому дворцу. С высоты лошадиной спины она видела лорд-мэра и самых знатных горожан — все низко кланялись, — а позади них — трубачей, которые возвещали о приближении королевской процессии. Кортеж Анны остановился у каменного креста, и Кэтрин разглядела рядом с королем дядю Норфолка, герцога Саффолка и архиепископа Кранмера, которого мельком видела в Ламбете. О, как же здорово находиться посреди такой великолепной живой картины! Король в алой бархатной накидке и наряде из золотой парчи был величествен и похож на какое-то неземное создание. Он сверкал драгоценностями, и люди смотрели на него, благоговейно разинув рты. Сияя улыбкой, властитель Англии поворачивал голову направо и налево, приветственно воздевал руку, потом пришпорил коня и поскакал во весь опор навстречу своей будущей королеве. — Миледи Анна, добро пожаловать в Англию! — провозгласил он, чтобы все слышали, и поклонился ей с седла. Анна ответила ему с величайшей почтительностью. Кэтрин не могла расслышать ее слов, но увидела, что король улыбнулся и обнял свою нареченную под громогласный рев толпы. Началось выстраивание в огромную процессию. Граф Ратленд со строгим видом подавал сигналы придворным Анны, чтобы те занимали места позади него. Они двинулись вслед за королем и его невестой обратно к шатру. Анна ехала на почетном месте по правую руку от короля. Все радостно кричали. В шатре Кэтрин стояла вместе с другими фрейлинами, а король приказал подать вина со специями, наскоро съел немного сладкого и представил Анне своих главных министров. Наконец обмен любезностями завершился, и настало время отъезда в Гринвич. Опять заревели трубы, процессия выстроилась заново; возглавляли ее король и Анна. Кэтрин ехала во второй карете, где поместились английские дамы, горничные и прачки. Впереди, в первой карете, сидели немецкие дамы. Кэтрин подумала, что предпочтение следовало бы отдать английским, ведь Анна станет королевой Англии, но потом решила: вероятно, правила вежливости требовали, чтобы иностранкам оказали особые почести. Они проехали через олений парк, поднялись на холм, за которым на берегу Темзы находился выстроенный из красного кирпича дворец Гринвич. С возвышенности открывался захватывающий вид на разноцветные крыши и воздушные турреты. Кэтрин в восторге любовалась им. О, она как будто умерла и вознеслась на Небеса! Жизнь в Ламбете отодвинулась в далекое прошлое. Вот то, ради чего она родилась на свет. На реке виднелось множество переполненных людьми лодок: всем хотелось поглазеть на новую королеву; со многих судов неслась музыка. Когда королевская процессия прибыла во дворец, с крыши высокой башни, расположенной в середине выходившего на воду фасада, украшенного рядами прекрасных эркерных окон, раздался мощный пушечный залп. Кареты следом за королевской четой проехали под аркой гейтхауса у подножия башни и оказались во внутреннем дворе, где король спешился, помог Анне спуститься из конных носилок, нежно обнял и поцеловал ее. Все приветствовали их аплодисментами и радостными выкриками. Дамы и фрейлины шли следом за королем, пока тот вел Анну в ее покои. Проходя через зал с очень высоким потолком, Кэтрин почувствовала запах свежей краски и услышала стук молотков. О Небо, дворец, похоже, все еще готовили к приезду новой хозяйки! К моменту прибытия в апартаменты королевы придворных дам и фрейлин король уже покинул их. Они застали Анну за серьезным разговором с матушкой Лёве, но обе женщины, завидев прибывших англичанок, мигом умолкли. Матушка Лёве подошла к ним и на ломаном английском пролаяла: — Распаковать вещи! Взбить перину! Накрыть стол для ее милости! Было ясно, кто намерен заправлять здесь всем. Миссис Стонор, имея такую грозную противницу, могла даже не пытаться установить свою власть над девушками.
Через три дня Кэтрин и другие фрейлины помогали придворным дамам одевать Анну к свадьбе. Матушка Лёве была тут как тут, наблюдала за всем и указывала то на выбившуюся из ряда жемчужину, то на замявшийся рукав. К этому моменту Кэтрин уже поняла, какова на самом деле эта грозная матрона. Она оказалась вовсе не драконом, как все решили поначалу, а просто горделивой пожилой женщиной, которая очень любила свою госпожу и хотела для нее только лучшего. В подвенечном платье Анна выглядела прелестно. Кэтрин любовалась роскошной золотой парчой с орнаментом из цветов с вкраплениями крупного восточного жемчуга. У платья были длинные висячие рукава и круглая юбка по голландской моде. Кэтрин помогала расчесывать волосы Анны. Их оставили распущенными, как подобало невесте, а на голову ей надели усыпанный бриллиантами золотой венец. — Передайте мне корзину! — скомандовала матушка Лёве, и Мэри Норрис выполнила приказание. Кэтрин почувствовала запах сушеного розмарина, а матушка Лёве приколола несколько веточек на свадебное платье Анны, приговаривая что-то по-немецки. Потом к невесте подошли главные придворные дамы с золотыми цепочками, усыпанным самоцветами распятием, которое матушка Лёве повесила на шею Анны сама, и поясом с золотыми накладками, который нужно было надеть на невесту. В конце концов она вся засверкала, настолько сильный эффект создали украшения. И Кэтрин единственный раз подумала, что Анна хороша собой. Сопровождать невесту на церемонии в Королевской капелле должны были только придворные дамы. Кэтрин многое бы отдала, чтобы попасть туда, но ей пришлось остаться и вместе с другими девушками прибираться в покоях королевы. Однако им позволили находиться в приемном зале короля, где после бракосочетания его милость обедал со своей новой королевой на глазах у всего двора; прислуживали им за столом главные лорды и высшие чины государства. Стоя справа от королевы вместе с другими фрейлинами, вновь облаченными в алые платья, Кэтрин следилаза высокой четой. Обед подавали с большими церемониями и ели почти в полном молчании. Хотя король проявлял учтивость по отношению к Анне и время от времени заговаривал с ней, однако сегодня он был не так оживлен, как тогда, на Блэкхите. Вероятно, виной тому была общая торжественность обстановки. Анна выглядела испуганной, а как иначе, учитывая, что ждало ее впереди. После обеда она удалилась в свои покои, и фрейлины провели ранний вечер, рассказывая друг другу анекдоты и музицируя, пока матушка Лёве не велела им угомониться, сказав, что королеве нужен отдых. Вечером Анну нарядили для свадебного пира. Кэтрин едва могла сдержать возбуждение, потому что давно мечтала участвовать в таком придворном торжестве, а вот ее госпожа вовсе не казалась радостной и через силу заставляла себя улыбаться. Еда была изысканная, вино крепкое, разговоры не умолкали, и вскоре Кэтрин изрядно развеселилась. После трапезы король повел компанию придворных из ближнего круга в свой приемный зал на сладкий банкет, и Анна, к радости Кэтрин, поманила за собой фрейлин. Все наелись сластей, а потом было исполнено представление масок под названием «Маскарад Гименея». Кэтрин слышала о таких развлечениях при дворе и очень хотела увидеть хотя бы одно из них. Никогда не становилась она свидетельницей чего-либо более восхитительного: участники представления надели фантастические костюмы, были устроены яркие декорации, звучала чарующая музыка. Кэтрин так громко хохотала вместе со всеми над сальными шутками, что в конце концов испугалась, как бы у нее не разошелся по швам лиф платья, а когда, закончив выступление, маски стали вытаскивать зрителей в центр зала и побуждать к танцам, затрепетала от радости. — Маленькая кузина! — Это был Том Калпепер, одетый сатиром и очень похожий на своего героя. Он улыбнулся Кэтрин, глядя на нее сверху вниз, и протянул ей руку. — Не доставите ли вы мне удовольствие? Она охотно приняла предложение, не смея взглянуть в сторону матушки Лёве или миссис Стонор. Они с Томом заняли место среди пар и приготовились исполнить аллеманду. Зазвучала музыка. Как же здорово было танцевать перед королем и всем двором! Кэтрин не могла устоять перед искушением немного покрасоваться и привлечь к себе внимание. — Его милость, кажется, не слишком доволен, — тихо проговорила она, когда они с Томом удалились от помоста и оказались вне пределов слышимости королевской четы. — У него болит нога, — тихо сказал Том. — Это его сильно огорчает. Теперь он не может танцевать, хотя, когда был моложе, считался отличным танцором и вообще преуспевал во всем. — Как, наверное, ужасно — знать, что удовольствия молодости тебе больше недоступны. — Вам нравится при дворе? — сменил тему Том. — Очень нравится! Вдруг музыка прекратилась, и все расступились: король помогал своей супруге спуститься с помоста. — Мы станцуем павану — королевскую павану! — провозгласил он, и музыканты возобновили игру. Зазвучала медленная мелодия с четким ритмом, который отбивали барабаны. Остальные танцоры повторяли шаги за королевской четой, двигавшейся неспешно и величаво. Когда танец завершился, Кэтрин сделала реверанс, а Том поклонился. — Станцуем еще? — спросил он. — Конечно. Остаток вечера Кэтрин не покидала площадку для танцев. Не желая связывать себя с одним партнером, она покружилась с несколькими джентльменами; каждый сделал ей комплимент по поводу ее внешности и грации. У Кэтрин закружилась голова от похвал. Вдруг музыка смолкла. Король поднялся. Настало время укладывать невесту в постель. Матушка Лёве созвала дам королевы прислуживать ей, но, когда Кэтрин и Анна Бассет поспешили на зов, оказалось, что в их услугах нет надобности. — Не годится незамужним девицам видеть укладывание в постель, — сказала им матушка Лёве. — Можете быть свободны. — Все равно идите с нами! — велела миссис Стонор, пытаясь отстоять свой авторитет. Кэтрин задумчиво проводила взглядом удалявшихся короля и королеву, а потом неохотно потащилась вслед за остальными фрейлинами. Жаль, что вечер заканчивался.
Королева выглядела довольно привлекательной в новом английском платье и французском капоре. Она нервничала из-за того, что пришлось надеть их, так как считала оба предмета туалета нескромными, но явно обрадовалась, когда король одобрительно кивнул и сделал ей комплимент. Кэтрин и другие фрейлины сидели позади них на королевской трибуне сбоку от турнирной площадки. Сегодняшние поединки были частью свадебных торжеств. Когда рыцари начали сшибаться, Кэтрин кричала вместе со всеми. Сердце замирало от ужаса и восторга при виде схваток бросавших вызов с защитниками. Именно таким, по ее представлениям, должен быть двор! Жизнь прекрасна! У нее была добрая госпожа, благожелательная, даже внушавшая любовь. Кэтрин заводила друзей при дворе и привлекала поклонников: несколько молодых кавалеров уже положили на нее глаз, намекая взглядами на желание тайных свиданий, и девушка получила немалое удовольствие, презрительно отвергнув все их поползновения. Она пока была не готова вновь вступить в отношения с мужчиной; ей жилось слишком хорошо. О Фрэнсисе Кэтрин почти не вспоминала, не писала ему, не получала никаких вестей от него и не ездила в Ламбет; не знала даже, там ли он. Ей казалось странным, что год назад, примерно в это же время, она была так сильно влюблена в него. Удивительно, как перегорает страсть. Впрочем, их отношения с самого начала были обречены, рассуждала про себя Кэтрин. В перерыве между поединками подали закуски. Фрейлины и юные джентльмены, служившие при дворе короля, оживленно обсуждали ход турнира и делали предположения, кто выйдет победителем. Вскоре Кэтрин заметила группу девушек, которые, хихикая, шушукались о чем-то слева от нее. — Чему вы смеетесь? — повернувшись к ним, спросила она. — Вы не слышали сплетню? — спросила Люси Сомерсет. — Какую? Люси наклонилась к ее уху: — Говорят, что король не может… ну понимаете… с королевой! — Она глумливо ухмыльнулась. — Вроде бы он способен на это с другими, но не с ней. Другие девушки содрогались от едва сдерживаемого хохота. — Неужели правда? — удивилась Кэтрин, уставившись на королеву. Все знали, что король регулярно посещает ее ложе, и Анна не подавала виду, будто есть какие-то проблемы. Разумеется, она не стала бы ничего говорить фрейлинам, но, вообще-то, казалась довольно счастливой. — Многие в это верят, — сказала Дора Брей, которую всегда интересовали сексуальные подробности. — Я бы не советовала вам повторять это, — предупредила Анна Бассет. — Порочить короля и сомневаться в наследниках — это измена. Несколько ртов захлопнулись. Кэтрин решила не верить слухам. Грешно смеяться над несчастьями других. Некоторым людям просто нравится любой пустяк превращать в драму.
Кэтрин мечтала, что служба у королевы будет круговертью сплошных праздников. Как же она ошиблась! Лишь только свадебные торжества завершились, жизнь быстро вернулась к обыденной рутине. Королева не умела ни танцевать, ни петь, ни играть на музыкальных инструментах. Она даже на лошадь садилась, только когда без этого было никак не обойтись. Вместо того чтобы устраивать развлечения, Анна предпочитала тихо сидеть в своих покоях. Придворные дамы бесконечные часы проводили за шитьем, а также за игрой в карты или в кости. Кэтрин часто сидела на полу и возилась с диванными собачками придворных дам. Иногда Анна вызывала Уилла Сомерса, королевского шута, чтобы тот позабавил их, и это давало желанное отвлечение от скуки, как и выступления акробата, крутившего тройные сальто. Случалось, приходил король, тогда все впадали в трепет и опускались в низких реверансах. Он вежливо приветствовал супругу — его величество вообще обладал изысканными манерами — и некоторое время беседовал с женой и ее дамами. Английский Анны день ото дня становился лучше, она упорно занималась языком, но до сих пор чувствовала себя неловко в обществе супруга, а фрейлины, те вообще впадали в благоговейный ужас; некоторые не могли даже отвечать на любезные слова его милости. Кэтрин к числу этих робких овечек не относилась. Стоило королю обратиться к ней с просьбой налить ему вина, она, не теряясь, исполняла ее с большим изяществом и говорила: — Надеюсь, оно вам понравится, сир. Глаза короля на миг задерживались на ней, а потом он кивал. В остальном дни тянулись уныло. В спальне девушек все разговоры вертелись вокруг брака короля. Кэтрин замечала, что придворные дамы косятся на королеву и перешептываются. Лучше бы они перестали: Анне явно было от этого не по себе. Кэтрин хотелось как-то отвлечься. Двор — вот он, здесь, но она от него отрезана. Можно просто взбеситься от досады! Оставалось ждать февраля, когда состоится коронация и устроят новые торжества. А потом наступит Пасха, а Пасху, как слышала Кэтрин, при дворе отмечают шумно. Скоро будет лучше.
Вместе со всеми фрейлинами и дамами Кэтрин в нетерпении ждала начала приготовлений к коронации, но ничего не происходило. Разговоры об этом не прекращались, пока миссис Стонор, искусно обойдя на повороте матушку Лёве, которая буквально разинула рот от изумления, не объявила, что церемония отложена до Троицы. «Ну что ж, — сказала себе Кэтрин, — все равно есть чего дожидаться». Но до того королеву по традиции должны были официально приветствовать в Лондоне. В феврале ее дамы еще раз нарядились в алые платья и прошли к баркам, пришвартованным у причала Гринвича. Все вещи Анны упаковали и отправили во дворец Уайтхолл, куда переезжал двор. Кэтрин смотрела, как король, пошатываясь, взошел на борт своей великолепной барки; потом появилась королева, ей помогли подняться по сходням на другую, и она в сопровождении своих главных дам проследовала в каюту на корме судна. Настал черед Кэтрин и остальных фрейлин: они неуклюже забирались в лодку. Подниматься было страшновато, и гребцы от души хохотали, когда девушки взвизгивали и кидались вперед, чтобы поскорее попасть в относительную безопасность каюты. Тут было тесно, но Кэтрин досталось место у окна. Барку на веслах вывели на середину реки и направили вслед за королевской вверх по течению, к Лондону. При виде собравшейся по берегам Темзы толпы глаза Кэтрин расширились; люди махали руками и кричали. Вместе с другими фрейлинами Кэтрин махала им в ответ. Она заметила, что позади них шли барки лорд-мэра и лондонских гильдий, украшенные щитами и парчой. За ними виднелась целая флотилия из маленьких суденышек. Каждый корабль, мимо которого они проплывали, давал залп салюта, а когда приблизились к лондонскому Тауэру, с пристани оглушительно грянули пушки; казалось, канонада не умолкнет никогда. За Лондонским мостом послышался колокольный перезвон: городские церкви приветствовали королеву. Жители столпились на берегу, вытягивали шеи, кричали и хлопали в ладоши. Вскоре барки подошли к Вестминстеру, и Кэтрин прильнула к окну, чтобы хоть краешком глаза углядеть Ламбет, который находился впереди, на суррейском берегу. Справа от себя она увидела короля, который под громкие аплодисменты толпы встречал королеву на Вестминстерской лестнице и провожал ее через огромный гейтхаус в Уайтхолл.
Глава 15
1540 ГОД Март выдался необыкновенно теплый, и Кэтрин нравилось в свободное время гулять по прекрасным садам Уайтхолла. Девушка молилась, чтобы с наступлением весны жизнь стала веселее, ибо здесь она была ничуть не интереснее, чем в Гринвиче. По крайней мере, скоро коронация. Или нет? Фрейлины продолжали шептаться о том, что королева до сих пор девственница; некоторые судачили, не разведется ли с ней король. Усилились и слухи о его импотенции. Анна Бассет резко опровергала их. Кэтрин узнала, что его милость ухаживал за ней, прежде чем решил жениться на принцессе Анне, и это сильно расстроило мистресс Бассет. Интересно, подумала Кэтрин, уж не надеется ли она оживить интерес к себе короля и что на самом деле между ними происходило? Пользуясь хорошей погодой, Кэтрин присоединялась к зрителям, которые собирались у аллеи для игры в шары, или ходила к теннисной площадке и смотрела матчи. Она всегда соблюдала требование матушки Лёве быть в обществе кого-нибудь из фрейлин. Обычно с ней гуляла Изабель, но однажды, когда та была занята, а день стоял особенно яркий и солнечный, компанию Кэтрин составила Маргарет, и они остановились понаблюдать за состязанием игроков в шары. Том участвовал в нем; его соперником был молодой джентльмен лет двадцати с небольшим, имевший совсем еще детское лицо. Оба бросали не только шары, но и заинтересованные взгляды на Кэтрин. После партии, которую Том выиграл, молодые люди подошли к тому месту, где стояли Кэтрин и Маргарет. — Кэтрин, позволь представить тебе Томаса Пастона. Он служит вместе со мной в личных покоях. Томас зарделся и улыбнулся ей: — Это честь для меня, мистресс Кэтрин. Я надеялся познакомиться с вами. — Моя сестра Маргарет, — представила свою спутницу Кэтрин. Пастон не вызвал в ней особой симпатии, и она не хотела поощрять его. — Вы прогуляетесь с нами? — спросил Том, подавая ей руку. Пока они вчетвером шли к реке, он прижимал к себе руку Кэтрин, касаясь локтем ее груди. Намеренно? Она удивилась бы, если бы Том заинтересовался ею в этом смысле; до сих пор он вроде бы относился к ней как к маленькой кузине. Сама же Кэтрин теперь думала о нем как о мужчине, причем весьма привлекательном. У реки они остановились и стали смотреть на проплывавшие мимо лодки. Томас выглядел немного скованным. Он, без сомнения, понял, что Кэтрин не собирается поощрять его ухаживания, а составившая ему пару Маргарет была дама замужняя. Наконец Пастон завел разговор с другим молодым джентльменом, стоявшим неподалеку, и Маргарет тоже включилась в беседу. — Тебе по-прежнему нравится при дворе королевы? — спросил Том у Кэтрин. — Да. — Какая-то странная нотка в его тоне обеспокоила ее. — А что, не должно? Том замялся. — Она добрая госпожа, я уверен. — Ты чего-то недоговариваешь. Калпепер понизил голос: — Я кое-что слышал. Но занимаю привилегированное положение и дал клятву соблюдать тайну. А ты просто прислушивайся к разговорам. — Ах, Том! — Кэтрин начала терять терпение. — Зачем говорить такие вещи и оставлять меня в недоумении, что ты имел в виду. Он взял ее за руку: — Я не играю с тобой, просто беспокоюсь за твое будущее. Она встретилась с ним взглядом. Казалось, этот мужчина вполне искренен с ней. И он действительно был довольно красив: темные кудрявые волосы, точеные скулы и веселые голубые глаза. — Кэтрин, — начал Том, подчеркивая тоном важность своих слов, — знаешь, я много думаю о тебе. И я хотел бы видеться с тобой чаще, если ты не против. Она обомлела. Это было так неожиданно. Том ей нравился — правда, она всегда его любила, но нужен ли ей сейчас поклонник? Кэтрин забрала у него руку. Если она и научилась чему-нибудь у своих новых подруг, так это тому, что устанавливать правила в отношениях должна женщина. — Мне это будет приятно, но давай пока останемся просто друзьями. Том явно приуныл и сказал: — Если тебе так будет угодно. Кэтрин кивнула: — А теперь я должна идти, или у меня будут проблемы с матушкой-наставницей. Это вряд ли, но такое заявление давало предлог, чтобы уйти и все обдумать. Она покинула своего кавалера и поспешила к Маргарет, которая занимала беседой Пастона, тактично оставив их с Томом наедине. Кэтрин видела ее в нескольких ярдах впереди, на дорожке, которая вела ко входу в апартаменты королевы. — Эти два юных господина пожелали сблизиться с вами, — произнес за спиной у Кэтрин чей-то высокий голос. Она обернулась и увидела улыбавшуюся ей леди Рочфорд. Была в этой загадочной женщине какая-то кошачья вкрадчивость, тем не менее она всегда вела себя приветливо. — О чем вы? — удивленно спросила Кэтрин. — Я давно дружу с мистером Калпепером, — сообщила ей леди Рочфорд, — и, судя по его словам, мистер Пастон неравнодушен к вам, хотя у него не хватало смелости заговорить с вами. — Сегодня он говорил со мной, — ответила ей Кэтрин, и они вместе пошли к дворцу, — но я дала ему отставку. — Это правильно, так как я думаю, вы заслуживаете лучшего, чем он, — выразила свое мнение леди Рочфорд. — Вот мистер Калпепер — ну, это птица другого полета. — Он мой кузен, хотя и очень дальний, — сказала Кэтрин. — Я знаю его почти всю жизнь. Но сегодня он дал мне повод думать, что я для него больше чем кузина. — Кэтрин сама удивилась, с чего это она так разоткровенничалась с леди Рочфорд, но та смотрела на нее с большим сочувствием и, казалось, искренне заботится о ней. — Так и есть! — отозвалась леди Рочфорд. — Он говорил мне, что хотел бы стать для вас больше чем кузеном. Моя дорогая, мне ясно, что он в вас влюблен. — Он всегда любил меня, но не так. — Мистер Калпепер — прекрасный молодой человек, его ждет блестящее будущее, и он так красив, а вы, Кэтрин, весьма привлекательная молодая женщина. Я говорю как ваша кузина и родственница, ведь мой покойный супруг был братом королевы Анны. Я знаю, у вас нет ни отца, ни матери, и сочувствую вашим утратам. Если бы я могла заполнить эту пустоту, то почла бы это за честь для себя. По крайней мере, вы можете рассчитывать на мою дружбу. Кэтрин была тронута, но какой-то тревожный голосок в ее голове спрашивал: почему леди Рочфорд проявила такую заботу о ее благополучии именно сейчас, хотя они вместе служили при дворе королевы уже четыре месяца? Ее подвигли к этому доверительные признания Тома? Если она давно приятельствует с ним, может, делает это ради него? — Спасибо вам за доброту, — ответила Кэтрин. — Это очень мило с вашей стороны — проявлять интерес ко мне. И меня опечалили ваши слова об утрате супруга. Леди Рочфорд поджала губы и проговорила весьма ядовитым тоном: — Он был порочным человеком во многих смыслах. И получил по заслугам. Как и она. — Потом улыбнулась и переменила тему. — Но давайте побеседуем о чем-нибудь более приятном. Например, о мистере Калпепере! Он гордится собой, и по праву, потому что так преуспел в жизни. Король относится к нему почти как к сыну. Леди, которой удастся заполучить его в мужья, будет счастливицей. В ее голосе прозвучала досадливая нотка, и Кэтрин удивилась: неужели леди Рочфорд сама мечтает о Томе? Она для него старовата; ей, наверное, около сорока, а он лет на десять моложе. — Подумайте об этом, Кэтрин, — добавила леди Рочфорд. — Не отвергайте его, держите под рукой. Я уверена, он по-настоящему любит вас. — Он просил вас замолвить за него словечко? — Вовсе нет. Но я была бы счастлива увидеть вас вместе. Это не слишком походило на правду, но Кэтрин в жизни не догадалась бы, какие потаенные мотивы двигали леди Рочфорд. Они уже дошли до дворца. — Я подумаю об этом, — сказала она, поднимаясь по лестнице.С того дня Том как будто случайно оказывался везде, куда бы ни пошла Кэтрин: в саду, рядом с теннисной площадкой, у мишеней для стрельбы из лука. Он всегда появлялся где-то поблизости. Кэтрин льстило, что она стала объектом внимания такого эффектного кавалера, и ее сильно влекло к нему. Учитывая, что она всегда обожала его как брата, чувства ее легко и естественно могли приобрести иную окраску. Девушка поймала себя на том, что ждет этих «случайных» встреч и отрывочных разговоров, хотя сказать прямо о том, что безмолвно выражали их взгляды, было невозможно, так как они никогда не оставались одни. Даже когда Кэтрин просила леди Рочфорд сопровождать ее на прогулке, зная, что та даст ей шанс провести время с Томом наедине, она не могла уделить ему много времени, боясь, что кто-нибудь может сообщить об их встрече матушке Лёве или миссис Стонор. Том передавал ей послания через леди Рочфорд. — Он говорит, что хочет сделать вас дамой своего сердца. — Он жаждет новой встречи. — Он хочет увидеться с вами наедине. — Мне бы тоже этого хотелось, — ответила Кэтрин на последнее сообщение, — но вдруг нас поймают? Я не хочу потерять место. — Вы можете встретиться в моей комнате, — предложила леди Рочфорд. — Я сама посторожу вас. Прежде чем согласиться на свидание в спальне, Кэтрин желала услышать от самого Тома, честны ли его намерения. Ей нужно это знать. Идея о замужестве с ним становилась все более привлекательной, и она не хотела, чтобы он считал ее распутницей. Мужчины с положением не женятся на гулящих девках. Он не должен узнать, до чего она доходила в Ламбете и Чесворте. Все это навсегда осталось в прошлом. Ей уготовано лучшее будущее.
Однажды вечером, после того как королева легла в постель, Кэтрин засиделась в комнате Изабель: они потягивали из кружек ягодный эль и разговаривали. — Том Калпепер интересуется мной, — поделилась Кэтрин со своей сводной сестрой, думая, что та обрадуется, ведь у нее появился такой прекрасный ухажер в лице их очаровательного кузена, однако Изабель нахмурилась: — Какой Том Калпепер? Тот, что служит у короля или у лорда Кромвеля? — Тот, что служит у короля. Я не знала, что его старший брат тоже при дворе. — О Боже! Эдвард говорил… — Изабель выглядела расстроенной. — Он не велел мне общаться с Томом. Наш кузен возгордился без меры. Он не боится Бога, и его единственная цель в жизни — поиск наслаждений. — Это не тот Том, которого я знаю, — сказала Кэтрин, — и ты тоже его знаешь, каков он на самом деле. — Кэтрин, в нем есть другая сторона, которой мы никогда не видели, — порочная сторона. — Изабель, крайне удрученная, крутила на пальце обручальное кольцо. — Порочная? — эхом отозвалась Кэтрин. — Боюсь, что да. В личных покоях держат в секрете, что в прошлом году он изнасиловал в лесу жену смотрителя парка. — Нет! — Кэтрин ужаснулась. — Это злостная клевета. — Боюсь, это правда, — осадила ее Изабель. — Страшно говорить об этом, но трое или четверо его приятелей держали ее. На них наткнулись жители деревни и попытались схватить его, чтобы отдать в руки правосудия, но он сопротивлялся и убил одного из них. И король простил ему эту гнусность. Кэтрин онемела. Том, которого она знала, не мог совершить такого ужасного поступка. В это нельзя поверить! — Это еще не все. В кругу семьи об этом знают, и мне сказали, что отец исключил Тома из своего завещания. Так что, хотя он счастливо отделался, у него нет наследства, и ему нечего предложить супруге, кроме того, что даст его величество. — Но почему король простил его? Изнасилование — это страшное преступление. — Я знаю. Эдвард говорит, король считает его самым отвратительным наряду с убийством, но он очень любит Калпепера. Хотя… Кэтрин уныло кивала головой. Она все еще не могла поверить, что это правда, и Том, дорогой Том, который стал ее героем, способен на такое.
Уснуть Кэтрин не удавалось. Нужно узнать правду, пусть это будет стоить ей любви Тома. Если он насильник и убийца, она больше не захочет иметь с ним ничего общего. На следующий день Кэтрин ускользнула из покоев королевы, как только исполнила все свои обязанности, и пошла искать Тома. Она понятия не имела, когда он освободится, но была готова ждать. Кэтрин подумала, что он может отыскать ее в саду, как делал обычно, поэтому села на каменную скамью, с которой хорошо был виден задний вход во дворец, и прождала в одиночестве около получаса. Наконец Том появился. Он сразу заметил ее и быстро подошел, воскликнув: — Кэтрин! С тобой все в порядке? — Я не могу остаться надолго, — сказала она ему. — Матушка Лёве и миссис Стонор убьют меня, если узнают, что я ушла одна. Но мне нужно спросить тебя кое о чем, что меня сильно тревожит. — Что же это? — Том насторожился. — Говорят, король простил тебя за… за… — Она не могла произнести это слово. — За что? — Голос его стал резким, и это заставило Кэтрин предполагать худшее. — За изнасилование и убийство, — прошептала она. — Кто это сказал? — Не важно. Это правда? На долю секунды он замешкался. — Это правда, что я был прощен, но вся моя вина состояла во флирте с девицей и дурачестве с приятелями. Произошла небольшая потасовка, но я не насиловал ее. Она сама хотела, но, когда увидела, что идет ее отец с селянами, начала голосить. Они набросились на нас, и да, я убил одного из них, но это была самозащита. Клянусь! — Он взял руку Кэтрин в свои ладони и сжал, но она отдернула ее. — Кэтрин, ты должна поверить мне, — с убитым видом проговорил Том. — Я не собирался обижать ее. Если бы я был виноват, король никогда не простил бы меня, он очень строг, когда речь идет о таких преступлениях. Его величество принял мои объяснения. Надеюсь, ты тоже сможешь. Ей этого хотелось, очень хотелось. Том с мольбой смотрел на нее. Но отец ему явно не поверил. И королю не пришлось бы прощать его, если бы он не совершил ничего дурного. Она стояла молча и заламывала руки. — Кэтрин, клянусь, я не насильник и не убийца! — Том был вне себя; она никогда не видела его таким. — Моя клятва удовлетворит тебя? Любовь одержала верх. Кэтрин кивнула со слезами на глазах. — О дорогая! — сказал он и обнял ее. — Я бы не вынес, если бы ты поверила, будто я такой. Ты для меня — все. Думаю, тебе это известно. Кэтрин подняла на него глаза, пытливо вгляделась в его лицо: не лжет ли он? Ничто не выдавало этого. Том смотрел на нее открыто, не отводя честного взгляда. Глупо было с ее стороны думать, что ее Том, ее любимый, добрый Том, мог совершить такие вещи. — Я знала, что ты не виноват, — сказала она. — Просто меня потрясли эти слова. — Покажи мне того, кто сказал их, и я буду виновен в убийстве! — прорычал он. — Я с ним разделаюсь! — Вообще-то, это была женщина, с которой поделился слухом один ее приятель из личных покоев короля, — ответила Кэтрин. Никаких имен она называть не собиралась. — Скажи ей, чтоб не сплетничала! — рявкнул Том. — Она не имела права говорить тебе такие вещи. — Я с большим удовольствием скажу ей, что все это ложь, — пообещала ему Кэтрин. Том недовольно хмыкнул. Он продолжал держать ее в объятиях. Кэтрин понимала, что ей не стоит задерживаться, но так приятно было прильнуть к нему и почувствовать близость его тела. — Мне нужно идти, — неохотно проговорила она и встала. — Я увижу тебя позже? — Том тоже поднялся. — Нет. Я сегодня на дежурстве. Завтра после обеда? — Я приду. — Он поднес к губам ее руку и поцеловал. — До встречи, моя дорогая.
Этот разговор словно развязал какой-то узел в их отношениях. Они сблизились и стали более откровенны друг с другом. Кэтрин заметила, что живет в ожидании их следующей встречи, а потом другой, и еще одной… Изабель не пожелала принять оправдания Тома, как того хотелось Кэтрин. Она отнеслась к ним скептически и своего мнения не изменила. Отношения между сестрами разладились. Кэтрин больше не доверяла Изабель. В поисках сочувствия она обратилась к леди Рочфорд, всегда готовой выслушать и утешить. Теперь они называли друг друга Кэтрин и Джейн и стали подругами, а не только кузинами, несмотря на двадцать лет разницы в возрасте. Джейн всегда проявляла большой интерес к делам Кэтрин, заботилась о ее благополучии и охотно поощряла увлечение своей подруги Томом Калпепером. — Вы должны встретиться в моей комнате, дорогая! — снова предложила она однажды утром в конце марта, когда они находились в опочивальне королевы — убирали ее одежду и украшения. — Но я не хочу, чтобы Том подумал, будто я легкая добыча, — ответила Кэтрин. — Я хочу, чтобы он уважал меня. — Он уважает тебя, моя дорогая, уважает! Это ясно как день. И я буду на страже, за дверью. Честно говоря, я не представляю, как иначе вы сможете побыть вместе, и, если меня не подводит чутье, существуют вещи, которые вам нужно обсудить наедине. — Какие вещи? — спросила Кэтрин. Посмеет ли она надеяться? Джейн улыбнулась: — Том намекнул мне, что хотел бы уверить тебя в своих намерениях. — Ты имеешь в виду, что он хочет жениться на мне? — О да! Что еще это может означать? Я знаю, его намерения честны. — В таком случае… — Кэтрин не нуждалась в дальнейших уговорах. — Я встречусь с ним в твоей комнате, если ты скажешь ему, что я делаю это не для развлечения. Когда это можно устроить? Как она могла устоять? Душа ее жаждала восторгов. А развлечений и веселья, к которым так стремилась Кэтрин, при дворе было совсем мало: королева Анна бо́льшую часть времени проводила в своих покоях. Скучно было заниматься бесконечным шитьем под бесстрастным взглядом госпожи, мысленно торопя часы, чтобы они шли побыстрее; не лучше и прислуживать королеве за столом или сопровождать ее во время появлений при дворе или выхода в церковь. Королева ведь не должна оставаться одна ни на минуту, даже в уборной — исполнять эту обязанность Кэтрин не любила. Не слишком радовалась она и наступлению ее очереди спать на тюфяке в комнате Анны или дежурить у дверей спальни в редких теперь случаях, когда король оказывал честь своей супруге и посещал ее ложе. Конечно, приятно было находиться в компании других фрейлин, которые, по крайней мере, говорили по-английски и своей веселой болтовней вносили оживление в степенную атмосферу двора. Но теперь ей наконец выпал шанс получить удовольствие, и эта перспектива приводила Кэтрин в восторг.
Свидание с Томом было назначено на вечер через два дня, после того как королева ляжет спать. К счастью, дежурили в ту ночь Мэри Норрис и Анна Парр. Когда Кэтрин вернулась в личные покои, Джейн ждала ее с зажженной свечой в руке. — Он здесь. — Она отвела Кэтрин в свою комнату, отворила дверь и тихо прикрыла ее, оставив их вдвоем. — Дорогая! — Том протянул к ней руки.
Бо́льшую часть драгоценных часов они провели, сидя на кровати, обнимали друг друга и целовались так страстно, будто от этого зависела их жизнь. Кэтрин могла только изумляться, как быстро изменились ее приоритеты. Брак с Томом, даже вот такие свидания с ним теперь стали гораздо привлекательнее, чем нудная придворная жизнь. — Я люблю тебя, — сказал Том. — Не так, как любил, когда знал тебя маленькой девочкой, хотя ты и тогда была милой, но как прекрасную женщину, какой ты стала. — Он прикоснулся губами к ее шее. Французский капор уже давно упал на пол с головы Кэтрин. — Я люблю тебя, — прошептала она, крепко обнимая его, потом подняла лицо и подставила ему свои губы; его уста сомкнулись на них, язык щекотал ее язык. — О Кэтрин! — сказал Том, когда глаза их встретились. — Ты привязала меня к себе, я люблю тебя больше всех на свете. Сердце у нее стучало; желание нарастало. — Я бы никогда не расставался с тобой, — пробормотал он. — Могу я надеяться, что таковы и твои чувства? Момент настал. Еще мгновение — и Том оказался бы лежащим на ней, она не успела бы и глазом моргнуть. — Я знаю только одно: хочу, чтобы это не кончалось, — жарко проговорила Кэтрин. Их прервал стук в дверь. Именно сейчас! Том глубоко вдохнул, поднялся на ноги и пригладил рукой взлохмаченные волосы. Когда он открыл дверь, Кэтрин услышала голос Джейн: — Тут кто-то есть. Лучше вам уйти. Том быстро поцеловал Кэтрин и, уже повернувшись к выходу, спросил: — Могу я прийти завтра? Джейн улыбнулась: — Это зависит от Кэтрин. — О да! — радостно воскликнула та.
Следующей ночью Том попросил ее выйти за него замуж. На одно колено перед ней не опускался, просто взял за руку и посмотрел в глаза. В его взгляде Кэтрин прочла все, чего только могла желать. — Ты будешь моей женой? Она удивилась своему замешательству. Его предложение вызвало в памяти образ Фрэнсиса, который называл ее своей женой, и обострило понимание того, что теперь тот, прежний «супруг» ничего для нее не значил. До него был Гарри, и ее чувства к нему тоже остыли. Кэтрин любила Тома, любила глубоко, но он начал ухаживать за ней меньше месяца назад. Нельзя обижать его — ответить согласием сейчас, а потом разочароваться и отвергнуть. — Это мое самое большое желание, — сказала Кэтрин, — но я думаю, нам нужно дать друг другу время, чтобы убедиться в силе и стойкости нашей любви. — Я тоже так думаю! — горячо откликнулся Том. — Увы, Том, я видела, как люди влюбляются так сильно, что думают, это навсегда, а потом любовь проходит. Сердце подталкивает меня сказать «да»; разум советует быть осторожной. Я прошу только немного времени для проверки. Это будет ничто в сравнении с целой жизнью, которую мы проведем вместе. Том явно расстроился. — Ну вот, я испортила такой прекрасный момент, — грустно произнесла Кэтрин, — но я не нарочно. Тебе следует радоваться, что женщина, которую ты хочешь взять в жены, осмотрительна и мудра! — Мне все равно, какая ты, если я могу жениться на тебе, — сказал Том, и они снова принялись целоваться. — Я подожду, — пробормотал он. — Я буду ждать тебя вечно.
— Могу поспорить, мистресс Кэтрин скоро выйдет замуж, — сказала Мег Мортон как-то раз в начале апреля, когда они после обеда сидели за шитьем в залитой солнцем девичьей спальне. С ними была еще Кэт Тилни. Остальные девушки сопровождали королеву на прогулке по личному саду. Кэтрин подняла глаза от работы: — Для меня это новость! — Но мы видели тебя под ручку с мистером Калпепером в саду. Ты всегда с ним, и он не скрывает своей любви. Люди шепчутся о вас. — Ты выйдешь замуж? — нетерпеливо спросила Кэт. Кэтрин чуть задержалась с ответом, но потом произнесла: — Нет, — и почувствовала, что краснеет. — Но разговоры ходят другие, — возразила Мег. — Думаю, о своих делах я знаю больше, чем досужие сплетники! — вспылила Кэтрин. — Лучше бы они не болтали о таких вещах. Вдруг матушка Лёве услышит? Или королева? — Королеве начали перемывать косточки сразу после свадьбы, и она об этом не догадывается, так что ты в безопасности, — утешила ее Кэт, складывая шитье. — Или притворяется, что ничего не слышала, — заметила Мег. — Я бы так и делала на ее месте, чтобы сохранить лицо. — Что ж, я была бы вам благодарна, если бы вы не распространяли сплетен обо мне, — отрезала Кэтрин. — Я не помолвлена с мистером Калпепером, и это все! — Она встала, сунула починенное платье в свой дорожный сундук и вышла; за спиной у нее раздались смешки. Когда Кэтрин появилась в саду, Анна улыбнулась ей: — Мистресс Кэтрин, герцог Норфолк прислал гонца с просьбой, чтобы вы посетили его в Норфолк-Хаусе сегодня вечером. Я дала разрешение. Вы можете ехать.
Глава 16
1540 ГОД «С чего бы это?» — про себя недоумевала Кэтрин, а Изабель, не проронив почти ни слова, зашнуровала на ней черное дамастовое платье, самое лучшее, и заплела ей волосы, приколов косы шпильками в нужных местах, после чего надела на голову отправлявшейся с визитом сестре черно-белый французский капор. Что за дело великой важности заставило герцога послать за ней? Кэтрин хотелось поделиться с Изабель своими мыслями, но между ними сохранялась холодность. «Может, он организовал для меня брак?» — размышляла Кэтрин, пока паром перевозил ее и доставившего весть гонца через Темзу к Ламбету. Она вся сжалась, представив, какого супруга мог подобрать ей грозный дядюшка. Наверняка это какая-то партия, выгодная для него, а вовсе не тот человек, которого желала бы иметь мужем она сама. Кэтрин благоговела перед дядей Норфолком, как большинство членов семьи, и опасалась, что у нее не хватит смелости постоять за себя. Когда они оказались перед внушительными воротами Норфолк-Хауса, ее уже трясло. В комнате горели свечи, в очаге уютно потрескивали дрова. Кэтрин поднялась из реверанса и ждала, скромно опустив голову. — Добро пожаловать, мистресс Кэтрин, — сказал герцог, сидевший в огромном кресле. На его непроницаемом лице с длинным носом и белесыми бровями изобразилось подобие улыбки. — Ты удивишься, почему я послал за тобой. — Он подался вперед и добавил: — То, что мы будем обсуждать, должно остаться в пределах этих четырех стен, ты понимаешь? — Да, милорд, — ответила Кэтрин и сглотнула. — Господь даровал тебе возможность вернуть это погрязшее во мраке королевство к истинной вере. Мы, Говарды, защитники старой католической религии, не можем относиться иначе как с презрением к этим так называемым реформаторам и их новым порядкам в Англии. Я без стыда признаюсь, что никогда не читал Писания и не буду, но знаю, что нужно держаться веры своих праотцев. Кроме того, мне известно, что до появления этого нового учения Англия благоденствовала! — Губы его презрительно скривились. — Есть один человек, который стал архитектором этого злодейства. Кэтрин не представляла, о ком он говорит, и слова дяди, что она каким-то образом должна вернуть Англию к истинной вере, встревожили ее. В мученицы Кэтрин себя не готовила, она простая девушка, которая любит Господа и соблюдает обряды своей религии. Кэтрин начала подозревать, что ее дядюшка, вероятно, немного помешался рассудком. — Я имею в виду Кромвеля! — выпалил герцог; голос его был пропитан ядом. Лорд Кромвель. Кэтрин несколько раз видела его при дворе, слышала разговоры о нем и знала, что человек этот весьма могуществен. Но ее это не интересовало. — Он организовал союз с Клеве посредством брака, — продолжил герцог, — завлек в него короля, а теперь его величество хочет как-то избавиться от этих оков. И мы с епископом Винчестерским и другими нашими друзьями, сторонниками старой веры, намерены добиться исполнения его желания. — Король не любит королеву? — спросила Кэтрин. — Нет, и никогда не любил! Он даже не хотел вступать с ней в брак, но наш приятель Кромвель сказал ему, что разорвать контракт невозможно. Брак остается не заключенным до конца. Значит, слухи не лгали. Кэтрин стало жаль бедную королеву Анну, которая была так мила и добра. Представляла ли она, в какой опасности находится? — Нам больше не нужен альянс с Клеве, — вещал герцог. — Император и король Франции оба ищут дружбы Англии. Наша задача — убедить его величество в необходимости найти какой-нибудь предлог для развода с королевой, а что может быть лучшим доводом в пользу этого, чем попавшаяся ему на пути прекрасная собой юная леди, которую он найдет неотразимой, особенно притом что стареет и должен очень быстро жениться вновь и зачать сыновей, дабы обеспечить наследование престола. Вот где ты появишься, Кэтрин. Первой ее реакцией было отвращение. Выйти замуж за короля?! Нет, этого не может быть! Он старый, толстый и вонючий — и у него уже было четыре несчастливые жены. Если она и хочет стать чьей-то супругой, так это Тома. И как она сможет предать свою милую, ничего не подозревающую госпожу, сговорившись занять ее место? — Мы полагаем необходимым заменить Анну Клевскую королевой-католичкой и свергнуть Кромвеля, — решительно заявил Норфолк. — Я уже был свидетелем того, как одна из моих племянниц стала королевой, и не вижу причин, почему и другая не может вознестись на ту же высоту. Кэтрин, ты намного красивее, чем эта шлюха Болейн, и обладаешь шармом. Король будет очарован. — Мы уверены, что тебя ждет блестящее будущее, дитя, — вмешалась в разговор вдовствующая герцогиня и улыбнулась. — Я с огромным удовольствием порекомендую тебя его величеству. Представь, что это означает — быть королевой! Кэтрин стояла и в тревоге мяла руки. Слова бабушки навели ее на мысли о преимуществах дядиного плана. Перспектива стать королевой ослепляла, даже если это означало, что придется выйти замуж за стареющего, больного человека. Только… От нее ждали послушания и благодарности. Кэтрин понимала, что любые ее протесты перед лицом такой мощной коалиции будут быстро подавлены. У нее не было иного выбора, кроме как согласиться. Но как же Том? Как же королева? Они станут первыми жертвами ее угодливости. Страх уже приступил к ней вкупе с чувством вины и утраты. Неужели придется бросить Тома? — Тебе нечего сказать? — пролаял герцог, пронзая ее стальным взглядом. — Большинство девушек пришли бы в восторг от перспективы стать королевой. — Тебе следует понять, какой громадной чести удостоит тебя король, выбрав для такой великой судьбы, — упрекнула ее герцогиня. — О, я понимаю, понимаю и очень благодарна, — торопливо пролепетала Кэтрин. — Я так потрясена оказанной мне честью, что не могла говорить. Норфолк и герцогиня слегка успокоились. — Но, — продолжила Кэтрин, — король никогда не обращал на меня внимания, и я не уверена, что он заинтересуется мной. — К тому моменту, как мы закончим работу над тобой, он будет заинтересован! — заверила ее бабушка. — Мы позаботимся о том, чтобы он тебя заметил. — Благодарю вас, — запинаясь, проговорила Кэтрин. — Но мне бы не хотелось, чтобы королева пострадала из-за меня. — Рано или поздно король предпримет шаги, чтобы развестись с ней, независимо от наших действий, — сказал герцог. — Вероятно, она от этого только выгадает и будет гораздо счастливее, чем сейчас. — Я на это надеюсь. — Перестань беспокоиться, Кэтрин. — Тон герцогини был тверд. — А теперь, — продолжил дядюшка, — мы дадим тебе советы, как вести себя, чем ты можешь потешить короля и насколько часто. Когда ты привлечешь его внимание, не демонстрируй нетерпения. Это только сильнее разожжет его пыл. — Поощряй его, а потом отдаляйся, — наставляла герцогиня. — Не давай слишком много сразу. Норфолк строго посмотрел на Кэтрин: — Я уверен, у тебя есть некий опыт в этих делах. Она зарделась. Чего наговорила ему герцогиня? — Я был весьма разочарован в тебе, но, что бы ни происходило прежде, ты будешь держать себя как чистая и невинная девушка, но дашь ясно понять королю, что с радостью упадешь в его объятия, после того как он наденет тебе на палец обручальное кольцо. Он очень ценит в женщинах добродетель. «Кто бы говорил!» — возмущенно подумала Кэтрин. Какой же ее дядюшка лицемер, отправил свою герцогиню в деревню, а сам развлекается с Бесс Холланд! Да что он знает о добродетели! — Ты не должна ни при каких обстоятельствах признаваться его величеству в своих прежних любовных связях, особливо упоминать об этой глупой помолвке с мистером Деремом, — втолковывала ей герцогиня. — Ему не нужноничего знать об этих вещах. Какое облегчение! В любом случае все это в прошлом и теперь не имеет для нее никакого значения. Упоминать о своей любви к Тому Калпеперу не было смысла. Это ничто в сравнении с планами выдать ее замуж за короля. Однако Кэтрин стало тошно от мысли, что придется порвать с Томом, а она должна это сделать. — Возьмемся за дело прямо сейчас, — сказала герцогиня. — Я пошлю за портным. Кэтрин изумилась, что он уже был здесь — ждал в галерее и был хорошо подготовлен, так как принес с собой тяжелые рулоны восхитительных тканей. Бабушка выбрала зеленую, и Кэтрин вспомнила свое любимое детское платье, — а потом еще три — алую, желтую и рыжевато-коричневую. — Это подойдет к твоей расцветке, — пояснила свой выбор герцогиня и повернулась к портному. — Пойдемте с нами. Вы снимете мерки с мистресс Кэтрин. — Она отвела их в маленький кабинет и закрыла дверь. — Прошу вас, сшейте платья во французском стиле и подходящие к ним капоры, — распорядилась герцогиня, когда портной вынул измерительную ленту. — Кэтрин, я одолжу тебе кое-какие украшения, чтобы ты сияла при дворе. Я покажу их тебе позже. Кэтрин в изумленном восторге смотрела на роскошные ткани. Они, наверное, стоили целое состояние. У нее никогда не было такой одежды, даже при дворе. Дядюшка решительно вознамерился обеспечить ей успех, это было ясно. И представшие ее глазам сокровища — всего лишь предвестие того, что ее ждет, если она удачно сыграет свою роль. — Ты слышала что-нибудь о мистере Дереме? — спросила герцогиня, пока Кэтрин стояла с поднятыми в стороны руками. — Нет, — ответила она, чувствуя себя виноватой, потому что не писала ему. — Ну, он исчез. У тебя есть идеи, где он может быть? — Я не знаю. И не получала от него никаких вестей. — Думаю, это к лучшему, — отозвалась герцогиня и переменила тему. Они вернулись в зал и застали там в нетерпении ожидавшего их Норфолка. — Я скоро пришлю за тобой, — сказал он Кэтрин. — Ты — Говард и не подведешь нас.Лежа той ночью в своей постели в девичьей спальне, Кэтрин переживала и лила слезы. Она не могла обманывать себя: мирская слава была для нее желанной, даже очень, но какой ценой? Где гарантия, что король заметит ее, тем более возьмет в жены, и ей велели никому ничего не говорить. Как она объяснится с Томом? Если бы он узнал правду, то наверняка понял бы, но неужели Кэтрин осмелится солгать, что ее любовь прошла? Это глубоко ранит его. Невозможно было решиться на такое. А если король действительно хотел ее? Мысль о том, чтобы лечь с ним в постель, вызвала ужас. Он такой старый. Под покровом величия и роскошной одеждой скрывался недужный человек с больными ногами. Она сама видела, что иногда король передвигался с трудом, а взобраться на лошадь вообще не мог. Сможет ли Кэтрин вынести то, что дядя назвал его объятиями, не выдав, как он отвратителен ей? А вдруг слухи не лгали и никаких объятий не будет? Эта мысль ее немного успокоила. И тем не менее Кэтрин слышала, что в прежние времена король слыл весьма любвеобильным мужчиной. Однако на ее глазах он никогда не проявлял к королеве и другим дамам ничего, кроме доброты и обходительности. Да, определенное очарование в нем было. Но Генрих отрубил голову ее кузине Анне! И все его брачные союзы закончились катастрофой, включая, похоже, и нынешний. Но может, не он один в этом виноват? Королева Екатерина была упряма, а королева Джейн, которую он явно любил, умерла. Анна же, вероятно, заслужила свою горькую участь. Кэтрин была уверена только в одном: она хочет быть королевой. Эта перспектива будоражила ее и подкрашивала в радужные цвета все остальное. Стать первой леди в стране, которой все выказывают почтение, носить самую красивую одежду и жить в великолепнейших дворцах, иметь слуг, порхающих вокруг и считающих каждое твое желание законом, — кто устоит перед таким искушением? Но каждый раз, представляя, как эти мечты обратились в реальность, она вспоминала Тома, и сердце у нее сжималось. Мысли Кэтрин крутились по одному и тому же кругу, пока она наконец не заснула в полном изнеможении.
Тому она ничего не сказала. Просто не могла себя заставить. Встречаясь с ним в саду, демонстрировала такую же радость, как прежде, — да она и была рада, — но всегда старалась сделать так, чтобы они не оставались одни, ведь тогда он попытался бы ее поцеловать, и она возненавидела бы себя еще сильнее. Кэтрин любила его, правда любила, но, если быть до конца честной с собой, открывшиеся возможности заставили ее понять, как случилось и в истории с Фрэнсисом, что жизнь припасла для нее более восхитительные перспективы.
Вторично герцог вызвал к себе Кэтрин на второй неделе апреля. Через два дня после этого, накануне отъезда двора в Хэмптон-Корт, ей пришлось отпрашиваться у королевы, чтобы поехать в Норфолк-Хаус. Было пять часов вечера. Момент настал, и ей нужно проявить характер. В своем сердце она уже приняла решение. Кэтрин спросила Анну, можно ли ей навестить бабушку, и та охотно отпустила ее. Потом она вымыла волосы и долго их расчесывала, пока они не заблестели как начищенное золото, и в назначенное время с трепещущим сердцем взошла на паром, не смея думать о Томе. Она делает это ради своей семьи, во имя истинной веры — ну и для себя, конечно. Ей нельзя оплошать.
Это должно произойти сегодня! Судьба манила… Когда Кэтрин приехала, герцог уже поджидал ее. — Его светлость епископ Винчестерский сегодня вечером принимает короля в Винчестер-Хаусе, — сказал он ей. — Мы будем там почетными гостями. Епископ — твой друг и желает тебе удачного брака. — (Она понимала, что это значит.) — Для тебя все готово. Собирайся быстро! Когда Кэтрин спустилась по лестнице, одетая в зеленое платье с низким вырезом и юбкой из переливчатого шелка, дядюшка улыбнулся герцогине: — Вы постарались на славу, мачеха. Она уже выглядит королевой. Боже мой, Кэтрин, ты держишься прекрасно! Его величество не сможет не заметить тебя. Она села вместе с герцогом в его барку, величественная, как императрица, и они поплыли вниз по реке к Бэнксайду. Дядюшка всю дорогу сыпал советами: — Племянница, король ценит в женщинах добродетель. Не бойся, что отвратишь его, не позволив сразу получить желаемое. Дождись главного приза и помни, что стоит на кону. — Да, милорд, — ответила Кэтрин, понимая, что после сегодняшнего вечера вся ее жизнь изменится. Жаль, что она до сих пор не порвала с Томом. Нечестно и дальше морочить ему голову, когда у них явно нет будущего. — Мы на месте, — буркнул герцог, когда барка подошла к пристани. На берегу виднелся огромный каменный дворец, лондонская резиденция епископов Винчестерских, окруженная прекрасным садом. Их проводили в зал со сводчатым потолком и круглым окном-розеткой с витражным стеклом. Церемониймейстер объявил о прибытии герцога Норфолка. — Милорд герцог! Проходите, проходите! Норфолк улыбнулся: — Милорд епископ, позвольте представить вам мою племянницу, мистресс Кэтрин Говард. Склонив голову, она опустилась в реверансе. Епископ приподнял ее лицо за подбородок и оценивающе вгляделся в него: — Добро пожаловать, мистресс Кэтрин. Она прекрасна, милорд, именно то, что нам нужно. Епископ лично показал гостям их места. Герцогу полагалось сидеть по правую руку от короля, хозяин разместится слева от его величества. Кэтрин отвели место ниже солонки[145], в конце главного стола, в трех стульях от дяди, тем не менее достаточно заметное. Гости собрались группами и оживленно беседовали, но Кэтрин не слушала их разговоры; она напряженно ждала объявления о прибытии короля — стояла рядом с дядей и сильно нервничала. Момент истины приближался. Господи, пусть король заметит ее! За дверями поднялась какая-то суматоха, зазвучали фанфары, потом послышались возгласы: — Дорогу его величеству королю! Расступитесь! Сверкающий серебряной парчой с искрящимися рубинами, он тяжелым шагом вступил в зал, где все склонились в поклонах. Епископ Гардинер встал на колени перед своим повелителем и от всего сердца приветствовал его, потом проводил к огромному креслу, установленному под балдахином с королевскими гербами Англии. Наступил момент для Кэтрин и остальных гостей занять свои места. Все встали у своих стульев, послушали произнесенное на латыни благословение трапезы, потом сели, и разговоры возобновились, сперва тихие, но становившиеся громче по мере того, как в зал церемонно вносили первую подачу блюд. Кэтрин следила за королем с восторженной полуулыбкой на лице — вдруг он посмотрит в ее сторону. Ел он очень разборчиво, часто промакивал губы салфеткой и споласкивал пальцы в чаше с розовой водой, не прерывая беседы с соседями по столу. Однако его прищуренные голубые глаза все время рыскали по залу, и прошло совсем немного времени, прежде чем они остановились на Кэтрин. А когда это произошло, они засияли. — Скажите мне, милорд Норфолк, что это за юная леди сидит в конце стола? — услышала Кэтрин слова короля. — Кажется, она служит королеве? — Это моя племянница Кэтрин Говард, ваша милость, — ответил герцог. — Еще одна ваша племянница, — сухо произнес король. — Уверяю вас, ваша милость, эта не чета той, — поспешил заверить его Норфолк. — Хм… У нее очень приятное лицо. Я замечал ее и раньше. — Он улыбнулся Кэтрин. — Какое удовольствие снова видеть вас, мистресс Кэтрин. — Ваше величество, вы оказываете мне большую честь, — отозвалась та. — Вам нравится пир? — Как же иначе, сир, когда ваша милость здесь? — Кэтрин одарила его улыбкой, надеясь, что она получилась лучезарной. Норфолк и Гардинер одобрительно смотрели на нее. — Вижу, вы изящны в речах, так же как прекрасны собой, — сделал ей комплимент король. — А кроме того, она добродетельна, сир, — добавил Норфолк. Кэтрин слегка поежилась, уж лучше бы он попридержал язык. — Это редкое сочетание, — заметил король. — Вам очень повезло, мистресс Кэтрин, Мать-Природа наделила вас такими дарами. Скажите, сколько вам лет? — Мне девятнадцать, сир. — О, где мои девятнадцать лет! — Король вздохнул. — Юность так быстротечна. Вот бы мне быть таким молодым, чтобы разыгрывать влюбленного с такой красавицей. — Но ваше величество вовсе не стары! Вы в расцвете лет, сир! Он снова лучисто улыбнулся ей: — Вижу, мягкосердечие тоже в числе ваших добродетелей. Дядя Норфолк довольно заурчал. Кэтрин могла поклясться. Король подозвал подавальщика блюд и передал ему свою тарелку: — Отнеси эти лучшие куски мистресс Кэтрин. В знак нашего почтения, госпожа. — Как вы добры, ваша милость. Благодарю вас! — произнесла Кэтрин с таким восторгом, будто он достал ей луну с неба. Король откинулся на спинку кресла, радуясь, что доставил девушке такое удовольствие. — Вы помолвлены? — О нет, сир. — Она чиста, невинна и свободна от любых матримониальных уз, — вставил Норфолк. Улыбка застыла на лице Кэтрин. — Хм… Вы стали бы желанной наградой для любого мужчины, мистресс Кэтрин. Остальное время трапезы они обменивались любезностями, и король забавлял ее шутками, то и дело задерживаясь на ней сладострастным взглядом. Как приятно было находиться в центре внимания! Все, кто был в зале, смотрели на нее и обменивались соображениями, почему король проявляет к ней такой интерес. Завтра языки точно начнут болтать! И все вышло так просто. Казалось, она инстинктивно знала, что сказать и как польстить королю. Он и правда оказался просто одиноким немолодым мужчиной, которому хочется чуточку доброты и привязанности. Едва ли дать их ему будет так уж трудно. По окончании трапезы король попросил Кэтрин посидеть с ним. — Я видел вас в покоях королевы. Вам нравится там? — Да, сир. Ее милость — хорошая госпожа. — Да, она восхитительная леди. — Фраза прозвучала как-то ворчливо. Он спросил, умеет ли она играть на музыкальных инструментах, и Кэтрин сказала, что умеет на лютне и вёрджинеле. Это очень порадовало короля. На него также произвели впечатление ее слова о том, что она поет, любит танцевать и хотела бы иметь лошадь, чтобы отправляться на прогулки верхом или даже охотиться. — Увы, я бедна, ваша милость. Милорд отец мой умер в долгах. — Я знаю, — сказал король. — Мне жаль вас. Посмотрим, что можно сделать, чтобы найти вам коня. Вскоре после этого он ушел, но перед этим поднес руку Кэтрин к своим губам и поцеловал в весьма изысканной манере. — Я еще увижусь с вами, Кэтрин, — пообещал король. — Мне это было бы очень приятно, — ответила она и сделала низкий реверанс. Когда король удалился, Кэтрин спряталась за спину дяди Норфолка и ждала, пока остальные гости не разойдутся. Наконец последний из них скрылся за дверями, и епископ Гардинер дал волю ликованию. — Милорд герцог, все, кажется, сложилось как нельзя лучше! Дитя мое, король явно очень тронут вами. Вы сделали все прекрасно. — Ты вела себя превосходно, — подхватил Норфолк. — Начало хорошее. — Нужно развить успех, — сказал епископ. — На следующей неделе я приглашу его величество на ужин в узком кругу и сообщу, что мистресс Кэтрин тоже там появится. Если события будут развиваться так, как мы рассчитываем, я предложу королю использовать мой дом в любое время, когда ему понадобится уединение. — Отличная идея! — провозгласил герцог. Предложив Кэтрин руку, он проводил ее вдоль освещенной факелами пристани к барке. Судно плавно скользило по воде, а в голове у Кэтрин крутились воспоминания о прошедшем вечере: ей с трудом верилось, что сам король ухаживал за ней. Когда они причалили у лестницы в Ламбете, дядюшка посмотрел на нее с довольной улыбкой на устах: — Мы можем гордиться тобой, племянница. Теперь тебе осталось только удержать интерес к себе короля. Кэтрин затрепетала, осознав, как сильно все рассчитывают на нее. Казалось, будущее Англии принадлежит ей. — Я постараюсь, — дала слово она и поспешила через спящий дом в свою комнату, где разбудила задремавшую Долли Доуби, чтобы та расшнуровала ей платье. Кэтрин так утомилась, что повалилась в постель, но сон не шел. Король Англии был милостив к ней, и в его глазах светился огонек любви! Голова у нее шла кругом от радужных перспектив. Она лежала и лелеяла в сердце свою тайну.
В продолжение следующих двух недель епископ Гардинер устроил для короля несколько ужинов, пиров и приемов. Кэтрин присутствовала на всех. Было ясно, что Гардинер не меньше, чем дядя Норфолк, стремится к достижению поставленной цели и не оставит своих усилий, которые к тому же имели поддержку. Многие консервативно настроенные люди жаждали свержения Кромвеля и женитьбы короля на правоверной католичке. Разумеется, королева Анна была такой, но ее брак, как объяснил Гардинер, воплощал в себе альянс с немецкими лютеранами. Говоря это, он вздрогнул. Гардинер был человеком грозным, умеющим убеждать и властным. Дядя Норфолк говорил, что он главный защитник веры в Англии, кроме него самого, разумеется. Кэтрин не сомневалась, что вместе эти двое добьются желаемого. Она не могла поверить, как быстро влюбился в нее король. — Я стал мечтать о вас, Кэтрин, с первого раза, как только увидел, — сказал он ей во время третьей встречи, когда они сидели вдвоем, после того как епископ выпроводил из-за стола других гостей. — Меня привлекли ваша необыкновенная красота, замечательное достоинство и девичья скромность. — Он положил унизанную кольцами руку поверх ее руки. — О, сир, я не стою таких похвал! — Но вы стоите, Кэтрин, стоите! Вы очаровали меня миловидностью и свежестью, изысканной грацией и нежностью лица. Вы так миниатюрны и стали так дороги мне. Ваша юность оживила меня. Я чувствую себя новым человеком. С таким пылким поклонником играть роль обожающей возлюбленной и отвечать на его ухаживания не составляло труда. Даже по прошествии двух недель голову Кэтрин все еще туманило сознание того, что за ней ухлестывает сам король, однако она удивлялась, как легко общаться с ним и — это она тоже начинала понимать — любить его. Можно ли было устоять перед такой любовью, такой добротой и снисходительностью к любым ее капризам и переменам настроения? Да, она не любила его, как любила Гарри или Фрэнсиса, как продолжала любить Тома. Это была платоническая любовь, возникшая в ответ на обожание. И относиться к королю как к мужчине тоже пока не получалось. Пусть он берет ее руку и прикладывается к ней устами, пусть — она не возражала, но, когда король осмелился поцеловать ее в губы, Кэтрин не нашла в себе сил ответить, что — благодарение Господу! — было воспринято как свидетельство ее неопытности. — Вас никогда не целовали, дорогая? Я научу. — И он продолжил поцелуй. Она вытерпела это, притворяясь, что ей нравится иметь его язык у себя во рту. «Усилия окупятся», — заверила себя Кэтрин, не желая представлять, каково ей будет оказаться с ним в постели и сносить более интимные вторжения. Но она всегда сможет закрыть глаза и притвориться, что это происходит не с ней! Справится, если придется. Впервые Кэтрин почувствовала себя такой же амбициозной, как ее родные. Если покорность желаниям короля была платой за возвышение, она согласна заплатить. Вообще, ей хотелось, чтобы весь мир знал: король ухаживает за ней! Он уже подарил ей лошадь — толстую кобылу, которую на славу кормили в королевских конюшнях. Когда-нибудь они вместе поедут прогуляться верхом, — пообещал король. Наступил апрель, расцвели сирень и пролески, когда король даровал Кэтрин конфискованное имущество одного осужденного преступника. По стандартам Говардов это было немного, но Кэтрин так обрадовало это доказательство уважения к ней короля, что она не смогла сохранить секрет. — Его величество даровал мне земли! — триумфально заявила она своей кузине Мэри Говард, герцогине Ричмонд, потому что не успела дочитать до конца дарственную, когда та подошла к ней в личных покоях королевы. Раньше эта дама относилась к Кэтрин пренебрежительно, но теперь стала проявлять уважение: видимо, дядя Норфолк поделился с дочерью своим замыслом. — Вы справились, — улыбнулась Мэри, не отрывая глаз от королевской печати. — Я хорошо знаю его величество, недаром ведь была замужем за его сыном. Он всегда проявлял ко мне доброту. Льстить ему и выражать почтение — верный путь к его сердцу. Кэтрин поблагодарила ее за совет. Повторяющиеся визиты короля в Винчестер-Хаус и одновременное с ними отсутствие при дворе Кэтрин породили разные слухи. Джейн Рочфорд сообщила своей приятельнице, что о ней сплетничают в Уайтхолле. — Люди говорят, его милость слишком сблизился с некой леди, — обвинительным тоном сказала она. — Некоторые утверждают, что он очень привязался к тебе и из-за тебя отдалился от королевы Анны. Это правда? — Он был добр и проявил интерес ко мне, — с опаской ответила Кэтрин, наспех подбирая слова, — но молва сильно все преувеличивает. Герцог, мой дядя, сказал ему, что я сирота и у меня нет ни средств к существованию, ни приданого. — Значит, он не доискивается твоих милостей? — Нет. — Это, по крайней мере, был правдой — пока. — И ты по-прежнему любишь Тома Калпепера? Поверь мне, он любит тебя искренне! — с некой горячностью проговорила Джейн. — Люблю, — ответила Кэтрин. Однако, произнося это, она задалась вопросом: да так ли? Ее приоритеты кардинально изменились. Замужество с Томом и обреченность на тихую жизнь в семейном кругу в Пенсхерсте больше ее не привлекали. — Он просит о свидании с тобой, — сказала Джейн. — Скажи ему, что я встречусь с ним в саду завтра утром, — ответила Кэтрин. Она понимала: нельзя и дальше откладывать объяснение, нужно сказать Тому, что все кончено. Но стоило ей увидеть его, и ее решимость куда-то подевалась. Кэтрин вела себя так, будто между ними все по-прежнему, и пообещала встретиться с ним через три дня на том же месте. После этого, понимая, что повторяет жалкие окончания своих прежних любовных историй, возненавидела себя за слабость.
Глава 17
1540 ГОД В конце апреля установилась теплая погода, и король вместе со всем двором вернулся в Уайтхолл. Почти тотчас же он устроил, чтобы Кэтрин привели в его личный сад у реки: там имелась увитая зеленью беседка, где они могли уединиться. Она стала обычным местом их свиданий; только во время дождя они уходили в дом и проводили время в личной галерее короля. Его горячность день ото дня возрастала. Он был явно очарован — прижимал Кэтрин к своей широкой, усыпанной драгоценными камнями груди и жадно искал губами ее рот. — Вы вернули мне молодость, Кэтрин! — пробормотал он ей на ухо как-то раз благоуханным вечером. — Ваша юность, ваша грация, ваша красота — такие свежие и чистые. Природа создала вас сиять наравне со звездами. Я люблю вас! — Впервые с его губ сорвалось такое признание, и потом он с мольбой в голосе спросил: — А вы могли бы полюбить меня? Взглянув на римский профиль короля и ощутив исходившую от него мужскую силу, Кэтрин удивилась, что он может быть столь робким с ней. — Я всегда любила вас, сир, — ответила она. Это не было правдой в том смысле, которого желал влюбленный король, но он принял слова Кэтрин за правду и смял ее в объятиях, так что она едва могла вдохнуть. Он засыпал ее подарками: драгоценностями и роскошными шелками. Кэтрин прятала их ото всех, засовывала на самое дно сундука, а показывала только дяде и бабушке, когда в очередной раз докладывала им о своих успехах. — Все идет так, как я и предчувствовал, — сказал герцог и улыбнулся, довольный, как лакающий сливки кот. — Когда у его милости возникает пристрастие к какому-нибудь человеку или вещи, он проходит весь путь до конца. Герцогиня подготовила еще несколько новых платьев для Кэтрин, и та ахнула, увидев их, потому что все они годились только для королевы или принцессы. Золотая и серебряная парча, тончайшая малиновая ткань и алый дамаст, отделка жемчугом, драгоценными камнями или златоткаными лентами. Наверное, они обошлись в целое состояние. — Чтобы получить хорошую отдачу, нужно сперва вложиться, — прокомментировал герцог. — Пришла пора поднять ставки в нашей игре. Скоро Майский день, будут устроены турниры и прочие развлечения. Это твой шанс воссиять, Кэтрин, и усилить любовь короля. — Он просил тебя лечь с ним в постель? — без обиняков спросила герцогиня. — Еще нет, — ответила Кэтрин. — Он страстен, но почтителен. — Хм… — ответствовал герцог, лицо его помрачнело. Кэтрин вспомнила о слухах, что король импотент. Поэтому он до сих пор не домогался ее? Не пришла ли в голову ее дядюшке та же мысль? — Позволь ему чуть больше вольности, — помолчав, сказал Норфолк. — Посмотри, разожжет ли это его пыл. Но не отдавайся ему. Дай понять, что бережешь себя для брака. «Теперь уж поздно», — бесстрастно подумала Кэтрин. Ей нечего беречь. В воображении возникла отвратительная картина, как король лапает ее за грудь или решается на какие-то еще более интимные вещи, но ничего, она позволит ему, если он попытается, если попросит достаточно мягко. О, Кэтрин становилась кокеткой!Оказавшись наедине с королем в беседке в следующий раз, Кэтрин ответила на его поцелуи со всей горячностью, на какую оказалась способна, желая завлечь его, чтобы он пошел дальше. И он сделал это. Его рука двинулась к ее лифу и начала гладить обнаженную часть груди. Если она держала глаза закрытыми, то почти могла поверить, что ее ласкает Том, и так было сносно. Осмелев, король перенес руку на бедро Кэтрин. Пока хватит. Она мягко перенесла ее обратно к себе на талию. — Ах, Кэтрин, вы маленькая шалунья! — хрипло хохотнул король. — Знаете, я сделал бы вас дамой своего сердца и открыто признал это перед всем миром. — Я не понимаю, что имеет в виду ваша милость, — ответила она. — Я был бы вашим слугой! — И моим любовником? — Этими словами Кэтрин намеревалась распалить его. — О боже, да! — выдохнул король. — Если бы вы позволили. Кэтрин отстранилась. Ее надежды, что он окажется слишком слабым для любовных утех, быстро улетучивались. — Увы, сир, я не могу. Я буду беречь себя для брака. Если я стану вашей признанной дамой сердца, люди решат, что я отдалась вам. Король сглотнул и слегка покраснел: — Я не должен был просить вас об этом, Кэтрин. Простите. Меня слишком захватило желание обладать вами. — Все забыто, — беззаботно ответила она и посмотрела на него обожающим взглядом, по крайней мере надеялась, что взгляд ее был именно таким. — У меня для вас кое-что есть, — объявил король. — Компенсация за мое плохое поведение, но вы получили бы это в любом случае. — Он вынул из дублета бархатный кошель и протянул ей. Кэтрин открыла его и обнаружила внутри две тонкие золотые цепочки и прекрасную камею с изображением Венеры и Купидона. — Вам нравится? — нетерпеливо спросил король. — Очень, сир! О, благодарю вас! — воскликнула Кэтрин и нежно поцеловала его. — Как же я люблю вас! — произнес король. — Вы моя английская роза, моя тюдоровская роза.
При следующей встрече король велел Кэтрин называть его в приватной обстановке Генрихом и подарил ей отрез золотистого шелка на платье. Она вскрикнула от восторга, и король обрадовался сверх всякой меры. Назавтра Кэтрин показала украшения и шелк герцогине Ричмонд, выложив их на постель в пустой спальне, когда остальные фрейлины разошлись по своим делам. Она не стала демонстрировать свои сокровища Изабель, так как подозревала, что та этого не одобрит, хотя их отношения наладились; вызывать враждебность в других леди и фрейлинах ей тоже не хотелось, ведь они могли, и вполне справедливо, решить, что она нарушает клятву верности королеве. А Мэри Ричмонд была по рождению Говард, значит, скорее всего, станет аплодировать успеху Кэтрин у короля. К ее неудовольствию, в спальню вошла Джейн Рочфорд и выпучила глаза, увидев лежащие на покрывале сокровища. — Матерь Божья, где ты это взяла? — Это подарки короля, — призналась Кэтрин. Джейн сурово взглянула на нее: — Он, должно быть, вовсю добивается тебя. — Я не его любовница, — сказала Кэтрин, — ни в каком смысле. — Такие речи для меня не новость, — возразила Джейн. — Анна говорила то же самое. А целилась на гораздо большее. И ты действуешь как она. Последовала пауза, которую нарушил смех Кэтрин. — Неужели ты считаешь меня такой сердцеедкой? — Я не знаю, — ядовитым тоном ответила Джейн. — А что? — О, будь реалистичной! — воскликнула Кэтрин. — Я уверена, его милость никогда не подумает обо мне в таком смысле. Это просто мимолетное увлечение. Она улыбнулась герцогине Ричмонд и ушла в свою спальню, незаметно подавая знаки Джейн, чтобы та шла за ней. Как только они остались одни, Кэтрин заперла дверь и сказала: — Ни в коем случае не говори об этом Тому. Когда тебя поманит король, глупо говорить «нет». Ты, конечно, это понимаешь. Но я слышала, его интерес к женщинам быстро исчезает, и, когда это произойдет, я хочу, чтобы Том ждал меня. Казалось, Джейн смягчилась. — Я ему не скажу, — пообещала она, — если ты и дальше будешь с ним встречаться. В противном случае он почует неладное. Кэтрин задумалась, сколько еще она сможет видеться с Томом втайне от короля? Она становилась неприятна самой себе из-за всей этой лжи поневоле.
Позже в тот же день Кэтрин стало ясно, что до королевы, вероятно, тоже дошли кое-какие слухи. Однако отношение к ней Анны не изменилось. Внешне Кэтрин ничем не выдавала, что имеет представление о возникших проблемах. Дядя Норфолк говорил, что король разведется с Анной в любом случае. Вопрос стоял скорее «когда?», чем «если?». Кэтрин было жаль королеву, которая жила в неведении и не чуяла, какая беда нависла над ней, но она и нервничала слегка, поскольку пока не было и намека на приготовления к разводу. «Разумеется, — сказала себе Кэтрин, — их и не будет». Такие вещи совершаются тайно. Королева, вероятно, узнает обо всем последней, поэтому строгим требованием дня оставалась абсолютная секретность.
Кэтрин с восторгом ждала Майского дня. Ей сказали, что при дворе этот праздник всегда отмечают пышными торжествами, а она изголодалась по ним. В Уайтхолле планировалось устроить четырехдневный турнир. Когда Кэтрин в первый день появилась на людях в новом алом дамастовом платье, то привлекла к себе много завистливых взглядов и снискала немало комплиментов. Но все же она не слишком выделялась, ведь все придворные оделись в лучшие наряды. Вместе с другими фрейлинами Кэтрин стояла позади короля и королевы, их лордов и леди у широкого эркерного окна нового гейтхауса в Уайтхолле и старательно вытягивала шею, чтобы хоть краем глаза углядеть, как бьются внизу, на улице, турнирные бойцы. Ростом она не вышла, а потому почти ничегошеньки не видела, что было досадно, ведь о турнире объявили во Франции, Фландрии, Шотландии и Испании и сюда собрался цвет европейского рыцарства. — Там сорок шесть защитников, — сообщила ей Дора Брей, состроив глазки по очереди нескольким из них. Кэтрин успела заметить мужчин на конях в белых дублетах и рейтузах. — И возглавляет их граф Суррей, — добавила Анна Бассет. — Там ваш дядя, лорд Уильям Говард! — Сэр Джон Дадли во главе бросающих вызов, — сказала сестра Кэтрин Маргарет и, покосившись на нее, добавила: — Я вижу среди них Томаса Калпепера. Кэтрин улыбнулась. Пусть лучше люди думают, что за ней ухаживает Том, чем король. — Мистер Калпепер одет в цвета моей матери! — воскликнула Анна. — Я бы решила, что у нее все это в прошлом, в ее-то возрасте. — Не она одна чувствительна к его чарам, — заметила Люси Сомерсет. Кэтрин невольно ощутила зависть. Конечно, Том не мог одеться в ее цвета, потому что их отношения следовало держать в секрете, но почему он выбрал цвета леди Лайл? Рядом подскакивала на месте Элизабет Сеймур: она хотела разглядеть своего мужа, сына лорда Кромвеля, который демонстрировал удаль на турнирной площадке. Вдруг король заревел: — Нет! Окружавшие его дружно ахнули, послышались испуганные возгласы с трибун. — Что случилось? — спросила Кэтрин. Джейн Рочфорд обернулась к ней: — Мистера Калпепера сбросили с коня, но он поднялся на ноги и сейчас уходит за ограждение. Сердце Кэтрин затрепетало от облегчения. Она бы не вынесла, если бы Том серьезно пострадал или погиб. Должно быть, Кэтрин все еще любила его, раз испытала столь сильные чувства. Ну почему, почему жизнь так запутанна! Когда поединки этого дня завершились, король вручил победителям прекрасные призы. Потом среди публики распространилась весть, что бросавшие вызов держат открытый дом в Дарем-Хаусе на Стрэнде и для короля с королевой там будет устроен роскошный пир. Туда приглашали всех. Кэтрин подхватила юбки, пробила себе путь вниз по лестнице и присоединилась к толпе придворных, валившей по Уайтхоллу к Чаринг-кросс и дальше по Стрэнду. Людской поток принес ее к Дарем-Хаусу, богато украшенному дорогими портьерами и уставленному огромными буфетами с посудой. Король с королевой уже сидели за столом в главном зале, гости вошли, заняли места, и появилась целая процессия слуг, которые несли мясо и обильную выпивку. Заиграли менестрели, под высокими сводами гулко зазвучали разговоры о сегодняшних подвигах. Сидя между своей высокой сестрой Маргарет и маленькой Мэри Норрис, Кэтрин увидела за противоположным столом Тома, который, несмотря на падение, выглядел превосходно. Он улыбнулся ей, но она не отреагировала: вдруг король смотрит в ее сторону. Кэтрин не раз ловила на себе его взгляды и была этому рада. Ничто не должно ставить под угрозу планы дяди Норфолка. В продолжение нескольких следующих дней турниры не прекращались. Каждый вечер в Дарем-Хаусе держали открытый дом, и король с королевой приходили туда. Там устраивали ужины и банкеты. Кэтрин развлекалась вовсю. В последний вечер Норфолк и вдовствующая герцогиня тоже посетили Дарем-Хаус: они внимательно следили за тем, как ведет себя Кэтрин. Она радовалась, что надела платье из серебряной парчи, — король не мог не одобрить, как ловко облегало оно ее тонкую талию, а потом пышно спускалось к полу мягкими складками, — и искоса наблюдала за герцогиней, которая поднесла королеве эмалевую шкатулку с жемчужным браслетом. Анна тепло поблагодарила ее. Оставалось только изумляться, как искусна в двуличии бабушка. После ужина все собрались в протянувшемся вдоль берега Темзы саду, освещенном мягким светом подвешенных к ветвям деревьев фонарей. Вечер выдался теплый, слуги обходили гостей, предлагали угоститься сластями с огромных подносов или наливали вина в украшенные драгоценными камнями кубки. Кэтрин стояла с Изабель и Элизабет Сеймур всего в нескольких шагах от короля, громко поздравлявшего группу молодых людей, участников поединков. Королева Анна и несколько ее придворных дам жадно слушали, а фрейлины бросали сладострастные взгляды на героев дня. Вдруг Кэтрин заметила, что король смотрит в ее сторону. Воспользовавшись моментом, она ответила на его улыбку и была вознаграждена, увидев, как глаза Генриха оценивающе прищурились и окинули с головы до ног ее фигуру. — Пойдемте с нами, мистресс Кэтрин! — позвал он, и Кэтрин пошла к нему, обратив внимание, что королева куда-то пропала. Кэтрин старательно поддерживала милую болтовню с королем и юными кавалерами, непрестанно сознавая, что Генрих не сводит с нее глаз. Потом, сделав реверанс, она удалилась, чтобы оставить его неудовлетворенным и желающим наслаждаться ее обществом и дальше. Кэтрин специально покрутилась среди гостей, особенно юных рыцарей, сражавшихся на турнире, а полночь застала ее стоящей у одного из длинных столов и размышляющей, действительно ли ей хочется съесть что-нибудь еще? Протянув руку за золоченым марципаном, она почувствовала, что за спиной у нее появился кто-то высокий. Это был король. — Вы избегали меня, — сказала он, шутя только отчасти. — Нет, сир, что вы! — запротестовала Кэтрин. — Я решила, что лучше не привлекать к себе внимания пребыванием в том месте, где мне хотелось бы быть, то есть рядом с вами. И ее милость королева находилась там. — Она вернулась в Уайтхолл, — сказал король, видимо очень довольный этим. Рука Кэтрин подлетела ко рту. — Я должна была сопровождать ее! Меня хватятся. Король снисходительно улыбнулся: — Она ускользнула незаметно. Не хотела лишать своих слуг удовольствий и взяла с собой только двух фрейлин. А я аплодирую вашей осмотрительности. — Он склонился к ней, и на нее пахнуло вином от его дыхания. «Король немного навеселе», — сообразила Кэтрин. — Будьте моей сегодня! — страстно проговорил он. К счастью, рядом никого не было. — Нет, сир, я не могу, — прошептала она. — Я намерена сохранить добродетель, которую вы так высоко цените. Он грустно улыбнулся и вздохнул: — Меня снова хорошенько отчитали. Тогда, надеюсь, вы придете в мой личный сад завтра после обеда? — Если смогу улизнуть, — игриво ответила Кэтрин. — Я буду жить надеждой, — отозвался король, и его глаза похотливо заблестели. Генрих ушел и присоединился к кружку знатных господ, которые радостно приветствовали его. Кэтрин положила себе на тарелку марципан, прибавила несколько засахаренных фруктов и пошла искать своих подруг. Внезапно путь ей преградил Том. — Скажите мне, что люди говорят неправду, — тихо произнес он, дико сверкая взглядом. Кэтрин сглотнула: — О чем ты? — Что король влюблен в тебя. Это правда? — Не так громко! — прошипела она. — Иди сюда, здесь тише. К счастью, король находился в другой стороне сада и был отделен от них толпой шумных, говорливых людей. Кэтрин подошла к каменной скамье, прикрытой пологом ветвей, и села. Том последовал ее примеру, но опустился на сиденье в добром футе от нее. — Так что же? Сперва Кэтрин сказала немного правды: — Верно, что он считает себя влюбленным в меня, только я не влюблена в него. Он предложил мне быть дамой его сердца, но я отказалась. — И тем не менее ты позволила зайти его увлечению так далеко! — Том, у меня нет выбора! Когда нас поманит пальцем король, мы все должны вскакивать с места и бежать к нему. Тебе это должно быть известно, ведь ты служишь ему каждый день. — Я понимаю, но ты, наверное, как-то поощряла его. Кэтрин замялась: — Это сложно объяснить, Том. С меня взяли слово хранить тайну. — Все всегда сложно! — фыркнул он. — И сегодня вечером я как-то не заметил, чтобы его величество сильно утруждался, скрывая свой интерес к тебе. Именно об этом сплетничает половина гостей. — Он впился в нее глазами. — Скажи честно, Кэтрин, ты поощряла его? Она молчала чуть дольше, чем следовало, и наконец произнесла: — Я делала то, что подсказывало мне сердце. — Не играй со мной! — прорычал Том и схватил ее за запястье так крепко, что у нее в голове промелькнула мысль: а не правдива ли история о том, что он совершил изнасилование и убийство? — Отпусти, — сквозь зубы процедила Кэтрин. — Люди смотрят. — Она встала. — Не нужно, чтобы нас видели здесь вместе. — А что, боишься, как бы король не заметил нас? Или как бы кто-нибудь не нашептал ему о том, что мы вместе? — Я не принадлежу тебе! — бросила Кэтрин. — Прекрати стращать меня! — С этими словами она пошла к дому. Калпепер догнал ее в одном из пустых парадных залов. Том был вне себя, вообще-то, он плакал. — Кэтрин, между нами все кончено? Скажи честно, прошу! Она сама была близка к слезам. Меньше всего ей хотелось обижать Тома, но ухаживания короля развивались так стремительно, и это сулило такие заманчивые перспективы; будет только хуже, если сейчас она даст ему ложную надежду. — Мы должны разорвать отношения, Том. Из всех мужчин король меньше всех склонен терпеть соперников, и я не знаю, что ждет меня в будущем. — Ты ставишь его любовь выше моей? — А что мне остается! — Слезы ручьями потекли по ее щекам. — Значит, он лишил меня того, что я люблю больше всего на свете! — Том кинулся к ней. — Я хотел сделать тебя своей женой. Теперь ты для меня потеряна. Мне остается только умереть. — Он, всхлипывая, опустился на стул. Кэтрин не знала, что сказать или сделать, чтобы утешить его. Она встала на колени рядом с ним, радуясь, что никто не заглянул сюда случайно и они одни. — Прости меня, Том. Если бы я была вольна распоряжаться собой, этого не случилось бы. Но у меня действительно нет выбора, поверь. Он поднял на нее мокрое от слез страдальческое лицо: — Нет, есть. Ты могла бы сказать королю, что влюблена и обещала себя другому. — Но это неправда. Я солгала бы, потому что никогда не обещала выйти за тебя замуж. — Я прошу об этом сейчас. — Он взял ее руку, на этот раз нежно, и с мольбой посмотрел ей в глаза. — Мне придется ответить «нет», — сказала ему Кэтрин и увидела, как он поморщился. — Я не свободна в выборе, поверь. Но я буду всегда любить тебя, как прежде. — Она снова залилась слезами. Том встал и молча направился к двери, а ее оставил стоящей на коленях.
Через несколько дней Кэтрин была в числе фрейлин и дам, находившихся при королеве в ее личных покоях во время выступления недавно прибывших ко двору музыкантов Бассано из Венеции. Она сознавала, что король время от времени поглядывает на нее, сидящую на полу между Кейт Кэри и Анной Бассет, видела и Тома Калпепера — он стоял с другими джентльменами, мрачный, и в ее сторону не смотрел. Анна Бассет тоже все утро была угрюма, и музыка, казалось, ничуть не поднимала ей настроения. После одного особенно эмоционального пассажа она вдруг со слезами уткнулась в плечо Элизабет Сеймур. По сигналу королевы матушка Лёве подняла бедняжку на ноги и вывела за дверь, сочувственно клохтая. Король нахмурился, но вскоре суматоха улеглась. Вечером Кэтрин помогала убирать со стола после ужина Анны и Генриха и услышала, как он сказал, что арестовал за измену отчима Анны Бассет, наместника Кале лорда Лайла, чем, вероятно, и объясняются ее слезы. Кэтрин эта новость тоже расстроила, ведь лорд Лайл был милостив к ее отцу, хотя тот и справлялся со своими обязанностями плохо. Она не могла представить, что такое совершил его светлость, чем заслужил арест, и ей стало ясно, как всесилен король и насколько далеко простирается его могущество. Это был не ее робкий поклонник, который шептал нежные слова, умоляя полюбить его. Он обладал ужасающей властью над всеми своими подданными, высокородными и простолюдинами, и был способен уничтожить любого, кто вызовет его неудовольствие. Кэтрин поежилась, задумавшись: стоит ли связываться с ним? Лорд Лайл занимал высокое положение и пользовался огромным доверием, а потом вдруг пал, и весь мир вокруг него рухнул. Она услышала вопрос королевы: — Мне уволить ее? — Нет, Анна, — ответил король. — Она не совершала измены, и мне нравится эта маленькая шалунья. Можете сказать ей, что мое неудовольствие на нее не распространяется. Тут Кэтрин пришлось уйти в буфетную, и окончания разговора она не слышала, но немного успокоилась. Все-таки в короле была и доброта. Она тревожилась по пустякам.
Кэтрин избегала показываться в саду после той ужасной сцены с Томом в Дарем-Хаусе. Она чувствовала себя виноватой и не могла забыть выражения лица своего бывшего возлюбленного в момент, когда перечеркивала его надежды. Однако погода в последний день мая была теплая, и Кэтрин надоело сидеть в доме или ограничивать маршруты своих прогулок личным садом королевы. Когда Изабель и Маргарет предложили ей пойти с ними, она подумала: почему бы и нет? Они защитят ее, если к ней подойдет Том с резкими словами, хотя Кэтрин сомневалась, что он решится на такое. — О коронации королевы так и не объявили, — сказала Маргарет, пока они брели по гравийной дорожке между цветочными клумбами, обнесенными низкими оградками с высокими столбами на каждом углу, которые служили постаментами для скульптур геральдических животных. — Не так давно люди почти ни о чем другом не говорили. — Предполагалось, что ее коронуют на Троицу, — вспомнила Кэтрин. Честно говоря, она была так занята своими делами, что совсем забыла о коронации, а сейчасзадумалась: неужели дяде Норфолку и епископу Гардинеру удалось убедить короля, чтобы он дал отставку королеве? — Да, — сказала Изабель, — но если вы спросите меня, то коронации не будет, по крайней мере пока. Королева Джейн ее так и не дождалась. Сперва случилась эпидемия, затем Благодатное паломничество[146], а потом она умерла вскоре после родов. Эдвард говорит, король не станет тратиться на коронацию, пока она не родит ему наследника. Если бы Джейн осталась жива, могу поспорить, она была бы коронована. Но эта королева… По-моему, наследников не предвидится. Король уже давно не посещает ее ложе. — Но ему нужен еще один сын, — сказала Маргарет. — Кэтрин, он говорил тебе что-нибудь? — спросила Изабель. Это было тактичное признание, что она, как и многие другие, знает об увлечении Генриха Кэтрин и не собирается притворяться, будто этого не происходит. Одобряла она это или нет — другой вопрос. Кэтрин не сомневалась, что Изабель принимает ее интересы близко к сердцу, но она так нуждалась в ее открытой поддержке. — Он никогда не упоминает о королеве, и я хочу, чтобы ты знала: между нами не происходит ничего неприличного. — Ты нацеливаешься на брак? — спросила Изабель. — Люди так говорят. Кэтрин остолбенела от ее прямоты. — Ты не первая, кто использует такую тактику, — продолжила Изабель; в ее тоне звучало неодобрение. — А тебе не приходило в голову, что у меня, вероятно, не было другого выбора, кроме как принять его ухаживания? — спросила Кэтрин; ей было невыносимо, что Изабель осуждает ее, не зная правды. Она потянулась к уху своей сводной сестры. — Милорд Норфолк и епископ Гардинер заставили меня. Мое сердце принадлежало другому, но я не посмела заявить им об этом. Больше я ничего не могу сказать. Изабель уставилась на нее, потом обернулась к Маргарет: — Иди дальше, дорогая. Я вижу впереди Дору и Урсулу. Мне нужно поговорить с Кэтрин. Маргарет понимающе улыбнулась и ушла. — Ты не должна этого делать, — сказала Изабель. — Должна. От этого многое зависит. И я порвала со своим прежним поклонником, чем сильно его огорчила. — Кэтрин нервно огляделась, как делала всю дорогу от дворца, беспокоясь, нет ли где поблизости Тома. — О, моя бедная девочка, — сказала Изабель и сжала руку Кэтрин. — Король упоминал о браке? — Нет, он… — Она замолчала, потому что увидела невероятное: по дорожке прямо к ним шел Фрэнсис. Он был вторым с конца в списке людей, которых Кэтрин хотела или ожидала увидеть. Только на прошлой неделе бабушка говорила ей, что он в Ирландии, загадочно добавив: «Ради нее». Когда Кэтрин начала приставать к ней, чтобы она объяснилась, старая леди ответила, мол, он уехал туда сделать себе состояние в глупой надежде, что сможет жениться на ней. «Я отослала его прочь, обругав», — фыркнула герцогиня. — Это поклонник? — спросила Изабель. — Нет. — Кэтрин замялась. — Это мистер Дерем. Он служил у миледи Норфолк в Ламбете. Фрэнсис приподнял шляпу и картинно отвесил дамам поклон: — К вашим услугам, леди. — Когда он выпрямился, рот его был растянут в волчьей улыбке, а глаза мрачны. — Добрый день, мистер Дерем, — выдавила из себя Кэтрин. — Это моя сводная сестра леди Бейнтон, супруга камергера королевы. Изабель, позволь представить тебе мистера Дерема. Фрэнсис поклонился еще раз и сообщил им: — Я больше не служу у герцогини. Я здесь сопровождаю лорда Уильяма Говарда, который оказался для меня хорошим покровителем. — Я давно не получала от вас вестей, мистер Дерем, — сказала Кэтрин, восхищаясь его разбитной красотой и вновь ощущая влечение к нему. — Я был в Ирландии, — ответил Фрэнсис. — В Ирландии? — эхом отозвалась она, изображая удивление. — У вас там родные или вы ездили по делам? — вежливо поинтересовалась Изабель. — У меня там были дела. И это имеет отношение к мистресс Кэтрин. Если, с вашего разрешения, леди Бейнтон, я мог бы поговорить с ней приватно… Изабель посмотрела на Кэтрин. Очевидно, она мысленно рассуждала, стоит ли оставлять этих двоих наедине. — Все в порядке, — успокоила ее Кэтрин. — Мистер Дерем — мой кузен, и герцогини тоже. Я давно его знаю. На его лице промелькнула мимолетная усмешка. Изабель вежливо улыбнулась: — Что ж, приятно было познакомиться с вами, мистер Дерем, — и пошла к остальным девушкам. Кэтрин ужаснулась, увидев стоявшего невдалеке Тома, который мрачно смотрел на них с Фрэнсисом. Она догадывалась, какие мысли проносились в его голове. — Пойдемте к реке, — предложила Кэтрин Дерему и повела его по дорожке, которая вилась за живой изгородью. — Так чем вы занимались в Ирландии? — беззаботным тоном спросила она, как только они скрылись с глаз Тома. — Я стал пиратом! — ответил Фрэнсис; в его голосе слышался надрыв. — Уехал в Ирландию, как только узнал от Мег Мортон, что его милость король влюбился в вас. Я также слышал от Кэт Тилни, мол, при дворе ходят разговоры, будто вы собираетесь замуж за некоего джентльмена из личных покоев короля. Вот я и решил совместить свою тягу к приключениям с зарабатыванием денег, чтобы потягаться с такой великолепной компанией. — Судя по тону, он потешался. — Я потратил свои сбережения на лодку и пытался захватывать торговые суда, чтобы получать за них выкуп. Особых успехов я не добился и был вынужден вернуться домой. — Фрэнсис помолчал, глаза его прищурились. — Эти людские толки — правда? Что происходит, Кэтрин? Она набрала в грудь воздуха: — Это правда, что один джентльмен, мистер Калпепер, ухаживал за мной, но разговора о браке между нами не было. Если вы слышали такое, значит вам известно больше, чем мне. Кроме того, я окончательно отвергла его, когда ко мне проявил интерес король. Я не могла ответить «нет» королю. — Вы его любовница? — резко спросил Фрэнсис. — Нет, и никогда ею не буду. Дерем сдвинул брови: — Я не знаю, что за игру вы ведете, Кэтрин, но вам не стоит забывать двух вещей: во-первых, что я по-прежнему люблю вас; и во-вторых, что вы помолвлены со мной и не свободны для другого замужества. — Только не начинайте снова! — крикнула она. — Зачем вы опять заводите этот бесполезный разговор! Между нами все кончено. Я вас не приму! Он строго взглянул на нее: — Я думал о вас лучше, Кэтрин. Я мог бы сделать вас своей, если бы хотел, хотя я не смею, ибо вас наметил для себя король. Но если он умрет, я женюсь на вас. — Ш-ш-ш! — шикнула на него Кэтрин и нервно огляделась, чтобы проверить, не слышал ли его кто-нибудь. — Вы разве не знаете, что говорить о смерти короля — это измена? — Вы же не донесете на меня, верно? — парировал ее выпад Фрэнсис. — Не бойтесь, я ухожу и больше вас не обеспокою. Просто помните: на двоемужество смотрят косо.
Кэтрин в тревоге пошла обратно ко дворцу. Изабель ждала ее. — Слава Богу, ты здесь! — воскликнула Кэтрин. — Этот человек преследует меня. Он проявлял интерес ко мне в Ламбете, что я не приветствовала, и ведет себя так, будто был для меня всем на свете. — Хочешь, я поговорю с ним? — спросила Изабель, беря ее за руку. Кэтрин оглянулась, чтобы проверить, не идет ли следом за ними Фрэнсис. — Нет. Я просто буду избегать его и постараюсь не поднимать шума. Чем меньше слов, тем лучше. Надеюсь, он правильно меня понял. — Ну что ж, — задумчиво проговорила Изабель, — если понадобится моя помощь, ты знаешь, где меня найти. Они молча пошли по гравийной дорожке. Невозможно поверить, что Фрэнсис появился при дворе. Почему ее жизнь такая запутанная? Сейчас ей не хотелось иметь отношений ни с кем: ни с Фрэнсисом, ни с Томом, ни даже с королем. Лучше бы ее оставили в покое. Однако в антикамере перед покоями королевы ее ждал вестник в королевской ливрее. — Его величество просит, чтобы вы встретились с ним в его личном саду завтра в пять часов, мистресс Кэтрин. Я сам приду и провожу вас туда. Сердце ее упало. Что ей оставалось? Идти и делать вид, что она счастлива.
На следующее утро, когда Кэтрин вышла из девичьей спальни, в приемном зале королевы ее ожидала матушка Лёве. — Мистресс Кэтрин, герцог Норфолк был бы благодарен, если бы вы встретились с ним в главном зале, — холодно проговорила она, и Кэтрин догадалась, что наставница фрейлин слышала, о чем говорят при дворе. Матушка Лёве отдала бы все и даже умерла бы за королеву Анну. Естественно, она возненавидит всякого, кто причинит вред ее обожаемой госпоже. Кэтрин взглянула на часы, стоявшие на буфете, и сказала: — Я должна быть при королеве через пять минут. — Ее милость отпустила вас встретиться с дядюшкой. — Она очень добра, — ответила Кэтрин и быстро ушла. Норфолк сидел один за высоким столом на помосте. В дальнем конце зала слуги складывали и составляли к стене столы на козлах, которые использовали во время завтрака. Герцог встал и подвел Кэтрин к окну, под которым было устроено мягкое сиденье. — Садись! — велел он ей. — Я хотел спросить, все ли идет хорошо. — Очень хорошо, милорд, — ответила Кэтрин. — Думаю, король тешит себя мыслью, что влюблен в меня, а я в него. — Именно. — Норфолк улыбнулся. — Это успех. Он упоминал о браке или о разводе с королевой? — Пока нет, сэр. — Что ж, не все сразу. Он до этого дойдет, я уверен. Когда ты с ним снова увидишься? — Сегодня после обеда. — Хорошо. — Герцог склонился к ней. — Кромвель шатается. Король, может, и сделал его графом Эссекским, но он имеет привычку оказывать милости тем, кого намерен уничтожить. Помяни мое слово, дни этого человека сочтены. Если представится шанс, используй свои уловки и убеди короля, что Кромвель ему враг. Кэтрин стало не по себе. — Но я ничего о нем не знаю! — Ты знаешь, что брак с принцессой Клевской — его рук дело. Учти, что не стоит критиковать его за это, пока король не подаст знака, что он подумывает о разрыве брачных уз, но ты можешь сказать, мол, до тебя дошли слухи, что Кромвель еретик и лютеранин. Тебе всего лишь нужно заложить зерно сомнения в разум его милости. Он легко поддается внушениям, и если так одурманен тобой, как ты говоришь, то внемлет твоим словам. — Хорошо, — согласилась Кэтрин, в душе опасаясь, что это окажется выше ее сил. — Я постараюсь. — Продолжай в том же духе — и корона окажется у тебя на голове, не успеешь и глазом моргнуть! — усмехнулся Норфолк.
Глава 18
1540 ГОД В тот вечер, когда Кэтрин вошла в сад, король уже сидел в беседке. — Какой прекрасный день, сир, — сказала она, поднявшись из реверанса и подходя, чтобы сесть рядом с ним. Король вздохнул: — Вы — пир для глаз, Кэтрин, и видеть вас — для меня огромное наслаждение. Но я в некотором смысле устал от жизни. Мои советники плохо справляются со своими обязанностями. Кэтрин улучила момент: — Вы имеете в виду графа Эссекса? Король удивленно взглянул на нее: — Почему вы так говорите, дорогая? — Ну, ходят слухи, сир. Мне не следует повторять их вам. Вероятно, они ничего не значат. — Нет, продолжайте, Кэтрин. Мне нужно знать, что говорят люди. — Его называют еретиком-лютеранином, сир, и говорят, что он плохо служит вашей милости. Я не вполне уверена, что они имеют в виду. — Хм… — Лицо Генриха вспыхнуло. — Это интересно. — Я не хотела никому навредить, — добавила Кэтрин. — Конечно нет. — Король утвердительно кивнул. — Но я позвал вас не для того, чтобы вы слушали мои жалобы, и не для разговоров о лорде Эссексе. Я хотел спросить вас кое о чем. — (Она задержала дыхание.) — Кэтрин, вы правда не связаны никакими обязательствами? — Обязательствами, сир? — Она изобразила невинность, но прекрасно поняла, куда он клонит. Пульс у нее участился. — Я имею в виду, не помолвлены ли вы и не обещаны ли кому-то? У Кэтрин в голове промелькнула мысль о Фрэнсисе, но она решительно оттолкнула ее прочь. — Нет, сир. — Меня удивляет, что какой-нибудь юный кавалер до сих пор не ухватился за вас, — сказал король, кладя ладонь на руку Кэтрин. — У меня нет приданого, — ответила она. — Ах! Но какое это имеет значение в сравнении с такой красотой и очарованием? — Похоже, немалое, — рассмеялась Кэтрин. — Жаль, что люди высокородные считают необходимым вступать в брак ради выгоды и преимуществ. Я говорю по собственному опыту, как человек, женившийся по политическим соображениям и по любви. Любовь важнее. Не забывайте об этом, Кэтрин. Какой смысл в политике, если она вынуждает проводить жизнь в постели с нелюбимой женщиной? Кэтрин догадалась, кого он имеет в виду. — Это приносит несчастье обоим супругам. Король печально кивнул. Больше он ничего не говорил о браке, но принялся рассказывать ей о летнем выезде на охоту, который планировал совершить; она тоже примет в нем участие, сопровождая королеву. Настало время ужина, и Кэтрин пришлось уйти. Король поцеловал ей руку, неотрывно глядя на нее, и сказал: — Скоро я снова пошлю за вами.Связана ли она с кем-нибудь? Вопрос короля беспрестанно крутился у нее в голове. Разве стал бы он спрашивать, если бы не имел на уме брака — разве что намеревался подобрать ей супруга, в чем Кэтрин очень сильно сомневалась. Нет, он наверняка думал, делать ли предложение! Как только представилась возможность, Кэтрин отправилась искать дядю Норфолка, желая передать ему разговор. Она нашла герцога в его апартаментах вместе с епископом Гардинером и за стаканом вина сообщила им, что сказал король и как она затронула тему Кромвеля. — Вы все сделали правильно, мистресс, — заявил Гардинер. — Не зря мы поверили в вас. — Он думает о браке, — сказал Норфолк. — Все складывается, как мы запланировали.
Так и было. Не прошло и двух недель, как по двору разлетелась новость об аресте Кромвеля за измену и ересь: главного министра лишили знаков достоинства и препроводили в Тауэр. Кэтрин задумалась, не подтолкнули ли короля к этому решению ее слова? И ощутила укол вины, а вот дядя Норфолк и епископ Гардинер ликовали. — Пришел конец сыну кузнеца! — провозгласил герцог. — Теперь верховенство в Англии перейдет в руки тех, кто рожден для этого!
Такого сухого и жаркого лета Кэтрин не помнила, дождя не было очень долго. К третьей неделе июня трава выгорела, и возникли опасения, как бы не появилась чума. О Кромвеле король при Кэтрин больше не упоминал, и заводить разговор о павшем министре не имело смысла. Она чувствовала, что в Генрихе кипит гнев, который он подавляет ради нее, и подумала, что, вероятно, недовольство копилось в душе короля все те месяцы, которые он провел в браке с королевой. Было жарко даже в тенистой беседке. Кэтрин надела легкое платье из зеленого шелка, но и оно липло к телу. Она готова была сидеть здесь в одной нижней сорочке, если бы ей позволили! Король был в одной рубашке с не завязанным воротником, расшитым черной нитью, сквозь вырез виднелись рыжие волосы на широкой груди. Он обильно потел, и вскоре Кэтрин догадалась, что не только от жары. — Кэтрин, — сказал Генрих, прерывая беседу о представлении масок, — мне нужно поговорить с вами. Прежде чем я женился на королеве, меня заверили, что имеются доказательства расторжения ее помолвки с герцогом Лоррейнским. Однако послы Клеве не привезли этих доказательств, когда препровождали ее в Англию, отчего я неохотно готовился к вступлению в брак с ней. Герцог Клевский обещал прислать их мне, но не сделал этого, и мне ясно, что никаких доказательств просто не существует. Поэтому я решил аннулировать брак. Кэтрин напряглась. Король собирался просить ее руки. — Королева пока об этом не знает, — продолжил он, — и я намерен провести все как можно более безболезненно для нее и для вас. О нас идет молва, я не хочу, чтобы люди решили, будто причина этого развода — вы. Решение было принято еще до того, как я стал вашим слугой. Поэтому я отправляю вас обратно в Ламбет, к миледи Норфолк. Кэтрин едва не бросилась в слезы. Она не хотела возвращаться в Ламбет. Ей нравилось при дворе, к тому же Кэтрин начала испытывать некие чувства к Генриху. Не такие, как к другим своим поклонникам, но все-таки это была определенного рода привязанность, да и ухаживания такого могущественного человека — это нечто особенное. Но он не сказал ни слова о браке, и ей придется уехать без каких-либо гарантий на будущее. А сможет ли она когда-нибудь вернуться? — Не унывайте, — сказал ей Генрих. — Я буду приезжать и навещать вас приватно. — Я буду ждать этого, — сказала Кэтрин, немного ободрившись. Он нежно поцеловал ее: — Я тоже. Вы уедете через два дня. Скажите королеве, что вы нужны дома бабушке. Намекните, мол, наметился брак. Да, но какой? И неужели королева не догадается, что это обман? Они прогулялись до реки, где Генрих предложил группе молодых лордов и джентльменов присоединиться к ним. Пока все стояли и шутливо болтали, Кэтрин купалась в неприкрытом восхищении прекрасных кавалеров, пока не подняла взгляд и не увидела фигуру в окне верхнего этажа. Это была королева, она смотрела прямо на нее, и лицо ее было маской печали. Кэтрин про себя взмолилась: пусть госпожа решит, будто она как-то связана с одним из молодых людей. Даже если у нее будут проблемы, это лучше, чем вызвать у королевы мысль, что она предала ее. Кэтрин уже заметила настороженность по отношению к ней со стороны Анны и подозревала, что до той дошли какие-то слухи. Тем не менее обращалась она со своей соперницей по-прежнему мягко, оставалась любезной и обходительной. Кэтрин ощущала жалость к королеве, ведь та не догадывалась, какая участь ей уготована, и виноватой тоже себя чувствовала. Но все-таки она знала: король в любом случае покончил бы с этим браком, и вовсе не из-за нее. В поведении королевы явно ощущался страх. Анна, вероятно, догадывалась, что грядут перемены. А как иначе, если король почти не приходил к ней? Конечно, бедняжка переживала, что он может избавиться от нее, как избавился от королевы Екатерины или — не дай Бог! — королевы Анны. Она легко могла решить, что он отвергает ее ради возможности жениться на другой. Кэтрин чувствовала, что некоторые дамы и фрейлины стали враждебны к ней. Анна была доброй госпожой, снискавшей преданность слуг и вызывавшей у них желание защищать ее. Отношение к Кэтрин матушки Лёве теперь было откровенно холодным. Даже Джейн Рочфорд утратила прежнее дружелюбие, но это, вероятно, из-за того, как Кэтрин обошлась с Томом Калпепером. И разумеется, возникла зависть со стороны тех, кто многое бы дал, лишь бы добиться внимания короля. Может, и к лучшему, что она покидает двор. Но все же Кэтрин делала это с тяжелым сердцем, и когда она попросила у королевы позволения уехать, трудно было сдержать слезы. Анна заметила, как расстроена Кэтрин, и спросила, не обидел ли ее кто-нибудь. — Нет, мадам. — Девушка всхлипнула. — Но мне казалось, вы счастливы здесь? — Мадам, я была. — Это из-за молодого человека? Кэтрин промокнула глаза: — Нет, мадам. Я нужна миледи Норфолк. Анна как будто удивилась. Разумеется, она засомневалась, с чего бы это Говардам позволять одной из своих кровных родственниц покидать двор ради помощи бабушке. Однако возражать не стала, да Кэтрин от нее этого и не ждала. Королева, вероятно, вздохнет с облегчением после ее отъезда. Когда Кэтрин вернулась в свою комнату, ее там ждала Малин, готовая подставить сочувственное плечо для слезных излияний. И весьма кстати. Кэтрин была нестерпима мысль о прозябании в Ламбете, когда Малин, Мег и Кэт оставались при дворе.
Ламбет показался Кэтрин относительно тихим в сравнении с двором. Тут тоже кипела жизнь, но не с таким размахом. Исчезли многие знакомые лица. Из тех, кто жил здесь прежде вместе с ней, в спальне камеристок остались только Дороти Бервик, Маргарет Беннет, Дотти Баскервиль и Долли Доуби, а она никогда не была особенно дружна ни с одной из этих девушек. Они довольно безразлично рассказали ей, что Мэри Ласселлс вышла замуж за мистера Холла и уехала в Сассекс, Джоан Балмер вернулась к своему супругу и теперь жила в Йорке, а Элис Уилкс вступила в брак с мистером Энтони Рестволдом и отправилась в Бакингемшир. Кэтрин пожалела, что Элис уехала; ей не хватало присутствия рядом этой жизнерадостной молодой женщины. Хорошо, что герцогиня никому не отдала ее комнату. Кэтрин печально убрала свои придворные наряды в сундук, стоявший в изножье кровати, и подумала: когда-то ей теперь выпадет случай надеть их? Она благодарила Господа за отсутствие Фрэнсиса. К счастью, тот поступил на службу к лорду Уильяму Говарду. Однако она обрадовалась, увидев Эдварда Уолдгрейва, Роберта Дэмпорта и Уильяма Эшби: все они выразили удовольствие по поводу ее возвращения. И герцогиня тепло приветствовала внучку, когда та явилась по вызову к ней в покои. — Скоро, по милости Божьей, это я буду делать реверансы перед тобой! — заявила она. — Я не уверена, мадам, — отозвалась Кэтрин. — Его величество не упоминал о браке и удалил меня от двора. — Голос ее оборвался. — Дитя, он защищает тебя от скандала, — бодро сказала герцогиня. — Герцог сообщил мне о готовящемся разводе, и весьма уместно, что ты здесь, вдали от двора. Ты не должна усматривать в этом худшее. Он отправил твою кузину Анну домой, когда его развод с королевой Екатериной стали считать неминуемым. Услышав это, Кэтрин немного приободрилась. И все же она хандрила — уныло бродила по дому, скучала и не знала, чем себя занять. Жаркие летние дни тянулись томительно долго. Настал вечер, когда Кэтрин, наслаждавшаяся прохладой в саду, увидела лодку, которая пересекала Темзу в сторону Ламбета. На берегу стояли люди и наблюдали за ней. Заметив на борту короля, Кэтрин ахнула, и дух ее воспарил. Но вот и он, выбирается на причал, с ним всего двое джентльменов, и шагает к ней, протягивая вперед руки: — Кэтрин! — Ваша милость! — воскликнула она и побежала к нему, едва не забыв сделать реверанс от радости, что ее помнят. И король, вероятно, этого не заметил — таким довольным он выглядел, завидев ее. — Я скучал по вам, сердце мое, — сказал Генрих, обхватывая мясистой рукой ее нежные плечи. — Но все идет хорошо и, похоже, вскоре завершится с пользой для меня. О чем он говорил? Не о том ли, что в ближайшее время будет свободен для женитьбы на ней? Очень на то похоже, но Кэтрин не смела поверить: через несколько коротких недель, если будет на то воля Господня, она станет королевой. Хотя взволновала ее не только перспектива надеть корону. Кэтрин была искренне рада видеть Генриха. Ни один мужчина до сих пор не был так добр к ней или так смиренен в ухаживаниях. Кэтрин знала, что он достанет луну с неба, стоит ей только попросить. Прибытие короля заметили, и камергер герцогини выбежал из дома, чтобы приветствовать его. Миледи лично ждала в холле. Она сделала глубокий реверанс при появлении соверена и улыбнулась, увидев, что он идет под руку с Кэтрин. — Миледи Норфолк! Приветствую! — Добро пожаловать, ваша милость, в мое скромное жилище, — сказала герцогиня, обводя рукой прекрасную мебель, дорогие гобелены и буфет, ломившийся от золотой посуды. — Вы примете кубок вина, пока я распоряжаюсь насчет угощения? — Вина — с превеликим удовольствием, — отозвался Генрих, — но больше, прошу, не беспокойтесь ни о чем, я уже отужинал. Я приехал повидаться с мистресс Кэтрин, и, с вашего позволения, мы с ней подышим воздухом в саду. — Конечно, сир, — согласилась герцогиня, лучисто улыбаясь им обоим. Генрих остался на два часа; бо́льшую часть этого времени они просидели на скамье с видом на воду. — Я отправил королеву в Ричмонд, — сообщил король, — для ее здоровья. Он сделал едва заметный упор на последних словах, из чего Кэтрин заключила, что Анну тоже убрали с дороги, пока шли приготовления к разводу. Больше Генрих об этом ничего не сказал, но переключился на разговор о своей любви к морю и кораблям, о соперничестве с королем Франции, о своей печали по поводу смерти любимого коня и о массе других вещей. Кэтрин поведала ему о своем детстве в Мортоне, Ламбете и Оксон-Хоате, о братьях, которые преуспевали на службе у Норфолка, и о Мэри, младшей сестре, которую она очень редко видела; ей уже исполнилось двенадцать, и она росла в Оксон-Хоате. — У меня было четыре сестры, — сказал король, — все они уже умерли, кроме одной, и от нее больше всего проблем. Я найду вашей Мэри место при дворе. Когда стало поздно, Генрих горячо попрощался с Кэтрин, крепко сжимая ее в объятиях и целуя так страстно, будто хотел вобрать в себя целиком. После этого он часто приезжал, обычно днем, но иногда и по вечерам. Кэтрин виделась с ним и в Винчестер-Хаусе, где епископ Гардинер устраивал для них пиры и приемы. По дороге туда Кэтрин замечала, что лондонцы следят за ее баркой, пересекающей реку, и не все дружелюбно. Она вдруг осознала, что слава о ней — скорее дурная — распространилась за пределы двора, и опасалась, как бы люди не пришли к неверным заключениям по поводу нее. Эти страхи усилились однажды вечером, когда, вернувшись из Винчестер-Хауса, Кэтрин прокралась мимо привратницкой и услышала, как ее хозяин говорит кому-то, кого она не видела: — Его милость король два вечера пировал с мистресс Кэтрин, и я подозреваю, что они не только конфетами угощались. Щеки у Кэтрин вспыхнули. К концу июня Генрих стал приезжать к ней каждый день. Ранним вечером было все еще жарко, и они обычно беседовали в маленькой гостиной рядом с холлом. Однажды король сказал, что, несмотря на все усилия, предпринятые для сохранения секретности, при дворе распространились слухи о его намерении развестись с королевой. — Мало того, двое моих законников рассуждали о том, что Кромвель, мол, оказался в Тауэре, потому что не одобрил бы развода. Милорд Кентерберийский услышал это и передал моему Совету, который подверг болтунов суровому наказанию. Дорогая, было бы хорошо, чтобы вы написали письмо архиепископу и поблагодарили его. Кэтрин, нервничая, принесла письменные принадлежности. Ей не хотелось, чтобы король видел, с каким трудом она выводит буквы. Это могло дать ему повод задуматься: а стоит ли делать ее королевой? Однако Кэтрин справилась достойно, как считала сама: заверила Кранмера, что его расторопность снискала величайшее благоволение к нему, какого он до сих пор не знал. Хотя Кранмер и был убежденным реформистом, Кэтрин желала заручиться его дружбой. Ему не слишком понравится королева-католичка на троне, но, может быть, он проникнется симпатией к ней самой.
В Ламбете мало говорили о почти неминуемой участи Кромвеля. — Его казнят, как он того заслуживает, — предсказал Роберт Дэмпорт. К концу первой недели июля эти разговоры затмили спекуляции на тему об очередном разводе его величества. Не было секретом, что король каждый день ездит к своей пассии, и люди начали коситься на Кэтрин, когда речь заходила о разладе в королевском семействе. Это и смущало, и будоражило ее, но она молчала. В конце концов, ей и сказать-то было нечего, верно? — Надеюсь, этот развод не затянется так, как предыдущий, — произнесла однажды за обедом матушка Эммет. — Тот продолжался семь лет, по моим подсчетам. Кэтрин тоже надеялась. Терпеть ожидание было нелегко. И как только вынесла это ее кузина Анна?
В середине июля настал день, когда король прибыл в Ламбет ближе к вечеру и сказал, что желает говорить с герцогиней наедине. Когда он скрылся в покоях бабушки, Кэтрин принялась беспокойно шагать по галерее взад-вперед: ей не терпелось узнать, о чем толкуют за закрытыми дверями. Казалось, прошла вечность, прежде чем Генрих появился и спросил, не прогуляется ли она с ним по саду. — Там мы сможем поговорить свободно, — добавил он. Небо над силуэтом крыш Вестминстера было подкрашено в золотисто-розовый цвет. Они неспешно брели по гравийной дорожке. Король тяжело опирался на трость. В последние дни нога сильно беспокоила его, но настроение от этого не ухудшилось; он сжал руку Кэтрин и сделал ей комплимент по поводу платья — зеленого, ее любимого. Когда они отошли на некоторое расстояние от дома, король попросил ее сесть рядом с ним на деревянную скамью. — У меня добрые вести, дорогая, — начал он. — Сегодня парламент подтвердил аннулирование моего брака. Сердце у Кэтрин застучало. — Я рада за вашу милость. — За вас, Генрих, — напомнил он ей. — Приятно знать, что ваши сомнения разрешились, Генрих, — осмелилась произнести Кэтрин и засмеялась. — Совет уже обратился ко мне с просьбой жениться вновь, — сообщил ей король. «Еще бы, — подумала она, — все так и было задумано». — Они хотят, чтобы я настроил сердце на любовь и оказал честь какой-нибудь благородной леди, с которой мог бы соединиться в законном браке и обеспечить преемственность наследования ради спокойствия страны. — Он взял ее за руку. — Сегодня, моя милая Кэтрин, я спросил миледи Норфолк, достойны ли вы стать моей королевой. — Голубые глаза, ярко выделявшиеся на загорелом лице Генриха, светились теплотой. У Кэтрин закружилась голова, от волнения перехватило дыхание. — Она сказала мне, что знает вас только с хорошей стороны, — продолжил король, — и отметила ваши непорочность и честность. Моя дорогая, теперь, когда я уверен в вашей добродетели и свободе от любых обязательств, я желаю почтить вас браком со мной. — Он наклонился и жарко поцеловал ее в губы. — Я бы встал на одно колено, как полагается, но сомневаюсь, что смогу потом подняться. Кэтрин, скажите, что вы принимаете меня! Избыток чувств мешал ей заговорить. Именно эти слова она жаждала услышать. План Норфолка и Гардинера осуществлялся, что сулило ей самой корону на голове, а Говардов вело на вершину успеха… Оставалось ликовать. Однако эти захватывающие дух секунды, пока Генрих делал ей предложение, Кэтрин думала только об одном: герцогиня солгала. Внучка ее не была ни честна, ни непорочна. И выйдет за короля, обманув его. На какое-то безумное мгновение Кэтрин захотелось во всем признаться. Но это перечеркнет все надежды и разрушит ее будущее. К тому же король в явном нетерпении ожидал ответа. — Это такая честь, — проговорила Кэтрин голосом чуть громче шепота. — Право, Генрих, я в смятении. — Значит, вы согласны, моя дорогая? — Всем сердцем, — ответила она. По щекам короля потекли слезы, он заключил Кэтрин в объятия и поцеловал с новым пылом. — Слава Богу! — выдохнул Генрих. — Это чудо для меня — на склоне лет, после стольких проблем, порожденных браками, обрести такое совершенное сокровище женственности, милую леди, которая выражает искреннюю любовь ко мне, что дарит покой моему разуму, и я снова могу с надеждой ждать желанных плодов супружества. — Генрих отстранился от нее и заглянул в лицо. — Я никогда не встречал такого достоинства, чистоты и девической скромности в юной леди. В горле у Кэтрин встал огромный ком чувства вины. Они все сговорились обмануть короля, и с этим ничего не поделать. Слишком много надежд возлагалось на нее. Ну что же, отныне она станет воплощением всех тех качеств, которыми он восторгался. А прошлое пусть останется в прошлом. Генрих нежно поцеловал ее: — Я знаю, что буду доволен вами, Кэтрин. И вы легко завоюете сердца моих подданных, потому как превосходите красотой всех леди в Англии. У вас такое милое лицо, и вы так изысканны в речах. Они полюбят вас за скромные манеры и учтивость. — Надеюсь, я сумею оправдать ваши ожидания, — сказала Кэтрин и погладила Генриха по щеке. — О, Кэтрин, Кэтрин, как вы можете сомневаться в этом?! — воскликнул он и страстно поцеловал ее.
Ночью она лежала без сна, переживая, что обманывает короля. Как там сказал Фрэнсис о двоемужестве? На это косо смотрят? Но они не были женаты, просто пообещали себя друг другу, а герцогиня отмахнулась от этого, не придав никакого значения их тайной помолвке, поэтому Кэтрин убедила себя, что Фрэнсис все воспринимал неправильно. Знать бы ей побольше о таких вещах, но теперь она не смела никого спросить. Кэтрин заглушила угрызения совести, погрузившись в мечты о том, как будет королевой. Ожидание богатства, влияния и славы кружило голову, и она пришла к заключению, что все это достанется ей не такой уж дорогой ценой. Король был очень милым, любящим, добрым и заботливым, и Кэтрин сильно привязалась к нему. Перспектива делить с ним ложе не слишком ее привлекала, но он показал себя пылким влюбленным и, может быть, еще удивит ее. Пока он не заподозрит, что она не невинна, все будет хорошо. Кэтрин вспомнила пятна крови на простыне, которые появились после того, как она отдала свой девичий цвет Фрэнсису, и решила уколоть себе палец, прежде чем уснет первой брачной ночью, чтобы, когда встанет утром, на постели остались похожие следы. Все будет хорошо. Наконец она уснула, измучившись беспокойными мыслями и метаниями по кровати.
В Ламбете новость первой узнала герцогиня. Она ушла на покой до отъезда короля, поэтому Кэтрин сообщила ей радостное известие утром после мессы. — Миледи, — сказала она, зайдя вслед за бабушкой в ее покои и закрыв за собою дверь, — король сделал мне предложение! Я буду королевой! Впервые за всю жизнь бабушка раскинула руки, обняла внучку и расцеловала ее. — Меня как будто посетил архангел Гавриил! Екатерина, ты победила! Я знала, что ты нас не подведешь. Тут же она послала церемониймейстера за герцогом, лордом и леди Уильям Говард и графиней Бриджуотер. Прошло, казалось, не больше десяти минут, как Норфолк явился от двора вместе с епископом Гардинером. Услышав радостную весть, он с непривычной теплотой обнял Екатерину: — Славно сработано, племянница! Приятно думать, что мы снова будем иметь на троне королеву Говард. Это принесет большую пользу всему королевству. Епископ поздравил Екатерину: — Моя дорогая, нет сомнений в том, что вы станете самой красивой из жен его милости. Ему действительно повезло. За спиной Гардинера она увидела своих заметно повзрослевших братьев, которые выглядели весьма оживленными и радостными. Они по очереди поцеловали сестру и похвалили ее за сметливость. — Я пока не могу осознать этого! — ответила им Екатерина. Потом в спешке прибыл лорд Уильям, глаза его сияли; он низко поклонился Екатерине, игриво продемонстрировав тем почтение, которым та вскоре будет окружена.
В тот вечер при появлении Генриха герцогиня поспешила ему навстречу, говоря, как она ценит оказанную ее дому честь. Король заулыбался, видя неуемную радость старухи, и ответил, что это Екатерина оказала ему честь, согласившись стать его королевой. — Когда будет объявлено о браке? — поинтересовалась герцогиня. — Еще рано, — сказал король. — Сейчас ходит слишком много досужих разговоров о моем разводе с леди Анной, и я думаю, лучше подождать, пока они не утихнут. Оставшись наедине с Екатериной в саду, Генрих попросил ее сесть рядом и поцеловал: — Моя маленькая королева сегодня выглядит прелестно. — Прелестно и вся сопрела от жары! — со смехом ответила она. — Да, все еще стоит духота, — пожаловался король и снял с себя накидку, оставшись в одной рубашке. — Вы знаете, о нас сплетничают при дворе, и не только. Мне доложили, что французский посол полагает, мы уже женаты! Он сообщил своему господину, что развод с королевой произвели в спешке, потому как мне нужно было срочно жениться на вас. — Нет! — воскликнула Екатерина, заливаясь краской. — Мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь так думал. — Время докажет, что это ошибка, — сказал Генрих. — Вам нужно привыкать к такого рода домыслам. Как королева, вы будете жить на виду у всех, и люди станут следить за каждым вашим шагом. — Я знаю, — отозвалась она. — Ни один здравомыслящий человек, знакомый со мной, не поверит, что я сделал вас своей любовницей. Они понимают, что я ни за что не поставил бы под сомнение законность своих детей, рожденных в браке. Кроме того, моя королева должна быть образцом чистоты, подобно Деве Марии. Сердце Екатерины вновь упало. Она совсем не подходила на роль королевы, какую желал иметь Генрих. — Я подумал, мы сможем пожениться в конце этого месяца, после роспуска парламента, — сказал Генрих. Так скоро! — Как вам будет угодно, — ответила Екатерина. — А вам, дорогая? — Конечно! — сказал она, отбрасывая страхи и лучезарно улыбаясь ему. — Церемония будет скромная, только для нас, — продолжил Генрих. — Моя казна пуста. Надеюсь, вы не станете возражать. О нашем браке я объявлю через неделю или чуть позже, чтобы мы могли насладиться медовым месяцем вдвоем. — Как хотите. Я всем довольна, — заверила его Екатерина.
На третьей неделе июля Екатерине доставили письмо, написанное незнакомой рукой. Сломав печать, она увидела, что оно от сэра Джорджа Сифорда, знакомого ее бабушки. Он сообщал, что был по делам в Йорке и там встретился с Джоан Балмер, которая отправила ей прилагаемую записку. Екатерина развернула ее и прочла послание Джоан. Сэр Джон, должно быть, рассказал ей о разводе короля и о слухах, что Екатерина станет королевой. В непривычно многословной манере Джоан желала своей бывшей компаньонке богатства и удачи, о каких только можно мечтать. «Вы будете достойны этой чести», — написала та, потом от всего сердца пожелала, чтобы Екатерина не забывала о той любви, которую она, Джоан, всегда испытывала к ней, а дальше принялась рассказывать, как перемена фортуны привела ее в жалкое состояние и что теперь она ведет самое ничтожное существование. Невозможно в письме выразить все ее печали, и исцеления им нет, если только Екатерина по доброте своей не найдет какой-нибудь способ переправить ее в Лондон, чего сама Джоан сделать не в состоянии.
Но если Вы напишете моему мужу и распорядитесь, чтобы он привез меня, думаю, он не посмеет ослушаться. Если это можно организовать, я хотела бы быть при Вас до того, как Вы сподобитесь высокой чести. А тем временем, умоляю, приберегите место для меня при Вашем дворе, какое Вам покажется подходящим, так как чем ближе я окажусь к Вам, тем счастливее буду. Я бы написала больше, но не смею отважиться на такую дерзость, учитывая великую честь, которая вскоре Вам выпадет. Но, вспоминая, как Вы всегда были честны, я почувствовала в себе решимость написать это. Молю Вас не забыть о моей просьбе, потому что, если Вы не поможете мне, у меня не останется никакой радости в этом мире. Прошу Вас, если можете, ответьте мне что-нибудь, чем успокоится мой разум; ведь я знаю, что королева Британии не забудет своего верного секретаря, и рассчитываю на Вашу милость.Сердце Екатерина застучало. Это была угроза, не меньше. Колкое напоминание о ее прошлом, обернутое в самые льстивые слова, этот едкий намек на ее «честность» — экивок в сторону утраченной добродетели и называние себя «секретарем». Время от времени Джоан действительно была чем-то вроде секретаря при ней: она не только иногда писала за нее письма, но и знала ее секреты. Слова бывшей компаньонки были нагружены смыслом. «Я бы написала вам больше, но не смею отважиться на такую дерзость», — что это, как не угроза, напоминание, что ей известно о «шалостях» Екатерины с Фрэнсисом и Гарри? Категоричный, диктаторский тон ее требований и многозначительная подпись были совсем не похожи на манеру, в которой проситель должен обращаться к лицу высшего ранга. И все это выражено в самых дружественных и лестных фразах, так умно составленных, что никто другой, читая это послание, не догадался бы о его скрытом подтексте. Она долго не отрывала глаз от письма. Послужит ли исполнение просьбы Джоан платой за ее молчание? И не захочет ли она большего? Не станет ли держать свои завуалированные угрозы дамокловым мечом над головой госпожи? Екатерина не смела и помыслить о том, что эта женщина окажется при ее дворе, особенно после такого. Джоан будет постоянным напоминанием о прошлом, которое Екатерина пыталась забыть. Но был ли у нее выбор? Да, был! Она не позволит, чтобы ее запугивали. Екатерина взяла перо и чернила и удалилась в свою комнату, где написала короткую записку Джоан, поблагодарив ее за доброе письмо и сообщив, что король уже назначил придворных (неправда), но, если в будущем появится место, она пошлет за ней. Это удовлетворит Джоан или, по крайней мере, обеспечит ее молчание! Твердо решив никогда не посылать за мистресс Балмер, Кэтрин запечатала свое послание.Ваша покорная слуга, чистосердечная Джоан Балмер.
Сделать предстояло много. Дядя Норфолк заказал новые платья, которые могли бы составить гардероб королевы, но герцогиня настояла, что этого мало. Ювелир миледи часто посещал Ламбет и приносил свои товары поднос за подносом. Когда Кэтрин заколебалась, узнав стоимость некоторых украшений, бабушка улыбнулась ей: — Думай об этом как о вложении средств, моя дорогая, в ожидании грядущих выгод. Екатерина надеялась, что король проявит щедрость к ее родным, которые очень на это рассчитывали. Много часов она провела, сидя в тенистом саду и вышивая сорочки и чепцы. Юные камеристки собирались вокруг, предлагали помощь и все до одной теперь хотели с ней подружиться. Разумеется, они надеялись получить место при дворе. Изабель и Маргарет приехали навестить ее и приложили руки к бесконечному шитью. А июль тем временем неуклонно шел к концу. Двадцать седьмого числа от короля прибыл сэр Джон Рассел с сообщением, что его величество в сопровождении немногочисленной верховой свиты переезжает во дворец Отлендс, где будет охотиться, и требует, чтобы мистресс Екатерина присоединилась к нему как можно скорее. К ее приезду все будет готово. Он лично проводит госпожу до места. Екатерина поняла, что означал этот вызов. — Я еду в Отлендс, чтобы там выйти замуж, — сказала она герцогине. Та прижала ее к своей плоской груди и тепло поцеловала, воскликнув: — Благодарение Господу! Ты гордость нашего дома! Вещи упаковали. Пока их грузили на присланных королем вьючных мулов, Екатерина переоделась в костюм для верховой езды из рыжевато-коричневого дамаста с подходящим к нему беретом, украшенным броским пером. Сэр Джон в восхищении смотрел на нее, когда она спускалась по лестнице. Герцогиня ждала внучку: — Прощай, дитя мое. Да пребудет с тобой Господь. Вспоминай нас в своих молитвах и никогдане забывай, что ты — Говард! Погода стояла угнетающе жаркая, но в каюте барки, которая везла их вверх по реке к Уолтону-на-Темзе, можно было укрыться от палящего солнца, и с воды тянуло ветерком. Ближе к вечеру они сошли на берег, где их уже ждали лошади, и проскакали три мили до Отлендса. Дворец с украшенным башенками гейтхаусом и остроконечными крышами стоял в уединении среди огромного оленьего парка, и Екатерина поняла, почему Генрих выбрал это место для их бракосочетания. Она удивилась громадным размерам и новизне этой королевской резиденции. Они проехали по горбатому мосту надо рвом и увидели сэра Энтони Уингфилда, вице-камергера королевского двора, который встречал их с приветствиями у гейтхауса. По пути в просторный внутренний двор сэр Энтони рассказал Екатерине, что король приобрел старое дворцовое здание три года назад и с тех пор расширяет его. — Это только первый из трех дворов, мадам. Во втором, неправильной формы, оформленном восьмиугольной башней, которая, по словам сэра Энтони, называлась Смотровой, они вошли в королевские апартаменты. Екатерина выразила удивление, что здесь не было главного зала. — Его величество отказался от него, — пояснил сэр Джон. — Он теперь предпочитает комнаты размером поменьше. Пока они поднимались по лестнице, Екатерина заметила за окнами сад. Отлендс и правда был прекрасен. Генрих ждал ее в своем приемном зале. Когда она сделала низкий реверанс, он радостно поднял ее, обнял и, воскликнув: — Как я ждал этого дня! — махнул рукой сэру Энтони и сэру Джону, чтобы те удалились. Король приказал подать вина, а Екатерина тем временем осматривалась: красивые французские гобелены, турецкие ковры и мебель, обтянутая бархатом и золотой парчой. — Вы одобряете? — спросил Генрих, видя ее изумление. — Это прекрасно, — сказала она. — Подходящее место для медового месяца, — заметил он. — Подождите, вот увидите апартаменты королевы! Я вызвал вашу сводную сестру, леди Бейнтон, и леди Арундел, чтобы они помогали вам, пока формируется ваш двор. Мы должны позаботиться об этом, находясь здесь. Екатерина обрадовалась, что ей будут служить две женщины, которых она любила. Вдруг где-то вдалеке раздался стук молотков. — Не обращайте внимания, — сказал Генрих. — Работы здесь еще продолжаются, но я распорядился в первую очередь закончить с королевскими апартаментами. Охота в здешних краях превосходная. И я велел проложить дорогу между Отлендсом и Хэмптон-Кортом, чтобы легко добираться туда. Вино было налито, и, как только паж удалился, Генрих поднял кубок и чокнулся с Екатериной: — За нас, дорогая, и наше будущее! Да будет наш брак благословлен большим счастьем и множеством детей. — За нас! — эхом отозвалась она, с испугом сознавая, что очень скоро может стать матерью — матерью принца! Вдруг испытанные за последнее время страхи и сомнения показались ей неважными. Все будет хорошо, она это знала. — Я послал за своим священником, епископом Лондонским, чтобы тот приехал и поженил нас, — сказал ей Генрих. — Мы обвенчаемся завтра. Это происходило на самом деле. До сей минуты Екатерина верила в уготованную ей судьбу только наполовину.
Ее апартаменты оказались роскошными, как и обещал Генрих. Изабель с Маргарет ждали в ее приемном зале и присели бы в реверансах, если бы Екатерина не обхватила их обеих руками и не закружила на месте, восклицая: — Как хорошо, что вы здесь! — Надеюсь, ты не станешь так фамильярничать со всеми своими дамами! — Изабель засмеялась. Они все вместе прошлись по комнатам, составлявшим личные покои королевы, любуясь гобеленами со сценами из античных времен, турецкими коврами и позолоченными стенными панелями. Потом выпили немного вина, переодели Екатерину в платье из золотой парчи и расчесали ей волосы так, что они заблестели, как начищенная медь. Екатерина прошла в столовую, где стол был накрыт белоснежной скатертью; на нем стояли кубки из венецианского стекла и лежали посеребренные столовые приборы. Только когда появился король, Изабель и Маргарет потихоньку удалились. После вкуснейшего ужина, состоявшего из лососины и цыпленка, Генрих и Екатерина, взявшись за руки, прогулялись по террасному саду и выпили воды из фонтана, потом нашли место в красивом, обнесенном стеной парке и сели. Король заключил свою нареченную в объятия и благоговейно поцеловал. — Я считаю часы до завтра, — пробормотал Генрих. — Я так люблю вас, моя Кэтрин. — И он поцеловал ее снова, как будто никак не мог насытиться ею.
Глава 19
1540 ГОД На следующий день после обеда сэр Энтони и сэр Джон проводили Екатерину в кабинет при часовне. Изабель и Маргарет шли следом и несли ее шлейф. Она была в платье из золотой парчи и надела на шею подаренную королем подвеску с изображением Венеры и Купидона. Генрих ждал ее, весь в серебристо-белом; он поднес руку своей невесты к губам, прежде чем повернуться к священнику. Екатерина бросила взгляд на тучного, толстощекого Эдмунда Боннера, епископа Лондонского, и сразу прониклась к нему неприязнью. Был он грубоват и вел себя как-то слишком уж эмоционально и повелительно. Тем не менее этикет соблюдал, хотя и проводил обряд венчания так, будто изгонял демонов. Однако король ничего этого не замечал, лишь выразил величайшую радость, когда их с Екатериной объявили мужем и женой. После этого, когда Генрих выпустил Екатерину из своих объятий, все поклонились ей и поздравили. — Я так рада за вас! — сказала Изабель, и глаза ее увлажнились. — Не думала, что доживу до этого дня! Екатерина ощутила головокружительный восторг. Она действительно стала королевой!Створки большого эркерного окна оставили открытыми, и от этого в спальне было свежо. Снаружи на фоне лунного неба вырисовывались силуэты дворцовых крыш. Екатерина отвернулась от окна и подошла к роскошной жемчужного цвета кровати, которую Генрих специально заказал у французского мастера и велел привезти сюда для брачной ночи. На постельном белье был вышит инициал «Е», милая деталь. Изабель и Маргарет проворно, почти без слов, сняли с Екатерины платье, потом надели на нее через голову полупрозрачную батистовую ночную сорочку, украшенную по вороту и краям рукавов крошечными цветочками, которые она вышила сама золотой нитью. Затем до блеска расчесали ей волосы. Церемонии укладывания в постель не предполагалось. Король настоял на полной приватности, что стало для Екатерины большим облегчением: ей было бы омерзительно присутствие злобного епископа Боннера, который благословлял бы брачное ложе, когда она на нем уже лежала. Сделав все необходимое, Изабель и Маргарет поцеловали Екатерину, присели в реверансе, пожелали ей спокойной ночи и оставили одну. Она быстро вынула иглу из шкатулки для шитья и воткнула ее в матрас под своей подушкой, потом встала у окна и задумалась, стоит ли ей лечь в постель. Простояла она так недолго. Дверь мягко отворилась, и, обернувшись, Екатерина увидела короля, одетого в длинную ночную рубашку из алого дамаста. Он глядел на нее в восхищении; его глаза рыскали по ее фигуре в тонкой сорочке. — Кэтрин! О, моя дорогая… Генрих, прихрамывая, подошел к ней и прижал к своей широкой груди, припал губами к ее губам и стал шарить руками по телу. Екатерина закрыла глаза, воображая, что с ней Том, и удивилась, обнаружив, что отзывается на ласки. — Дайте мне посмотреть на вас, — хриплым от страсти голосом проговорил Генрих, развязал ленточки на ее сорочке, и ворот раскрылся, отчасти обнажив груди. — О, вы прекрасны… Он стянул рубашку с ее плеч, и та упала на пол. Екатерина стояла перед ним обнаженной. Глаза его похотливо прищурились. Она не ожидала, что мужчина такого возраста и веса, как Генрих, еще не лишился мужской силы. Накануне свадьбы она размышляла: интересно, когда дойдет до дела, окажется ли он способным к супружескому акту. Поэтому теперь очень удивилась жарким объятиям Генриха, который неистово хватал ее за груди и целовал так, будто хотел проглотить. Потом он потянул ее к постели. Екатерина легла, и Генрих взгромоздился сверху; его желание совокупиться с ней нетерпеливо трепыхалось у нее между бедер. Она едва могла дышать под его весом, вдавившим ее в матрас, но потом Генрих немного переместился в одну сторону и опустил вниз руку, чтобы войти в нее. Екатерина не забыла ахнуть, будто от боли, задержала дыхание, изображая, что терпит дискомфорт, а потом позволила себе улыбнуться. И правда, это было не так отвратительно, как она боялась. Только от больной ноги Генриха исходил слабый запах гниения, а когда он кончил и скатился с нее, то подумал об удовольствии супруги: его пальцы мягко задвигались у нее между ног. Он знал, как разжечь в ней желание, и она дошла до оргазма очень быстро. Они лежали рядом и учащенно дышали, его рука лежала у нее на бедре. — Я не думала, что испытаю такое блаженство, — прошептала Екатерина. — Мои врачи говорят, что женщина должна получать удовольствие, чтобы зачать, — пробормотал Генрих. — Но мне хочется, чтобы вам доставляла радость и любовь сама по себе тоже. Надеюсь, я не причинил вам боли, дорогая? — Совсем немного, — сказала она, — а потом мне начало нравиться. Он поцеловал Екатерину, приподняв ее голову за подбородок, чтобы заглянуть в глаза, и прошептал: — Мне кажется, я в раю. — Рай для меня там, где вы, — ответила она, удивляясь, откуда у нее взялось вдохновение, чтобы говорить такие вещи. — О, моя дорогая… — Генрих приткнулся головой к ее шее. — Я благодарю Господа, что вы стали моей, моя дорогая тюдоровская роза. И я люблю вас намного, намного больше всех остальных. Наконец-то у меня есть жена, которая воплощает в себе все, чем я восхищаюсь в женщине: красоту, очарование, приятный характер, послушание и добродетель. Я по-настоящему счастлив. Екатерина сглотнула: — Я рада, что приношу вам счастье после неудач ваших прежних браков. — Это новое начало для нас обоих. И я рад, что мы проведем здесь время вместе. Хочу наслаждаться вами и получше узнать вас, прежде чем нам придется вернуться ко двору и вас объявят королевой. Тут мы получим немного драгоценного уединения. — Когда мы должны быть при дворе? — Не раньше чем через пять дней. Пять дней, которые мы посвятим друг другу, и только. — Генрих снова поцеловал ее. — А теперь, дорогая, пора спать. Он захрапел почти сразу. Екатерина потянулась за иглой.
Ее разбудили поцелуи Генриха. Его борода грубо терлась о подбородок, дыхание было кислым. Руки исследовали тело. Екатерина послушно позволяла ему делать все, что он хотел, и вскоре супруг перевернулся на спину и затащил ее на себя. — Оседлайте меня, как коня! — приказал он; она послушалась, раздвинув ноги, и засунула его в себя. Вид ее мерно раскачивающегося тела заворожил Генриха, а потом он в экстазе закрыл глаза. После этого он доставлял ей удовольствие, как раньше, а затем, когда они немного отдохнули, поцеловал и поднялся с постели, сказав: — У меня для вас кое-что есть. — Генрих был как ребенок, которому не терпится раскрыть свой секрет. Екатерина села (одеяло спустилось до пояса, обнажив плечи и грудь) и смотрела, как ее супруг отпирает маленький резной ларец, стоявший на столе под окном. Потом он принес сундучок на кровать, открыл и высыпал содержимое ей на колени. — Украшения королевы Англии! — триумфально провозгласил Генрих, жадно наблюдая за реакцией. Она ахнула, увидев каскадом просыпавшиеся на нее сокровища. «Тут, наверное, больше сотни разных вещей», — подумала она; все они сверкали золотом и драгоценными камнями. Между ее пальцами проскальзывали самоцветы, которым нет цены, нити жемчуга, часы, подвески, броши, кольца… и все это она будет носить. — Они чудесны! — воскликнула Екатерина. — О, благодарю вас, Генрих, благодарю! Он был почти вне себя от счастья. — Некоторые из этих вещей мои предки дарили своим любимым супругам. Я отдаю их вам вместе со своей любовью. Я так рад, что они вам нравятся. — Как же иначе? — спросила Екатерина, широко раскрыв глаза от удивления. — А вот это я приказал изготовить специально для вас, — сказал Генрих. Он положил поверх других украшений пухлый бархатный мешочек и открыл его, а там — новые сокровища. Она вытащила оттуда по очереди: золотую брошь со сценами из жизни Ноя, усыпанную бриллиантами и рубинами, украшенный бриллиантами золотой кораблик и великолепную гривну с ее инициалами, выложенными опять же из бриллиантов. Еще там лежали инкрустированные драгоценными камнями кресты, ожерелье из плоско ограненных бриллиантов, помандеры[147], пояса, а также украшенные самоцветами книги и кошельки. — О, Генрих! — выдохнула Екатерина и с любовью поцеловала его. Она провела с ним очень счастливый час, восхищаясь украшениями и примеряя их, совершенно голая, пока созерцание ее наготы не превозмогло его терпения, и тогда он снова предъявил на нее свои права, на этот раз уже с меньшим пылом. После этого Генрих улыбнулся ей: — Нам нужно отпраздновать ваше пробуждение в качестве жены! По обычаю муж дарит супруге подарок. — Но вы уже так много всего дали мне. Украшения… — Они принадлежат вам как моей королеве. А это ваши утренние подарки. — Генрих наклонился и достал что-то обернутое в шелк; должно быть, он спрятал этот сверток накануне за шторой на ступеньке у кровати. Екатерина села и распустила ленту, которой он был перевязан. Шелк упал по сторонам, и она увидела четыре книги в изысканных переплетах из фиолетового и алого бархата, кожи и золоченого серебра. На обложках она прочла названия: два Требника, Новый Завет и одна книга на французском; читать на этом языке она не умела. — Они прекрасны, Генрих! — Екатерина поцеловала его, но сердце ее упало: он явно считал свою королеву лучше образованной, чем было на самом деле. Она в жизни не прочла ни одной книги ради удовольствия. Чтение, как и письмо, давалось ей с трудом. — Я буду беречь их. — Это руководства к богопочитанию, что, я знаю, принесет вам душевный покой. Я заказал для вас и другие книги, но на них пока еще не выгравировали ваши инициалы. Это латинские труды Отцов Церкви, Эразма, святого Иоанна Хризостома и папы Григория Великого, и там есть одна превосходная работа о разнице между властью королевской и духовной, написанная ректором Королевского колледжа в Кембридже. Латынь! Она едва могла читать по-английски. — Вы так добры ко мне, — сказала она, — но мне может понадобиться помощь с латынью. — Конечно. — Генрих улыбнулся. — Я и не рассчитывал, что вы ею владеете. Это книги, которые должны быть в собрании жены верховного главы Церкви. Мне самому они очень нравятся, и я с удовольствием буду обсуждать их с вами. «Это будет забавно», — грустно подумала Екатерина. Но долго печалиться ей не пришлось. Пора было вставать. Когда Генрих поцеловал ее и ушел, чтобы предаться в руки своих джентльменов, она надела ночную сорочку и халат и послала за Изабель с Маргарет, чувствуя себя абсолютно счастливой. Брачная ночь оказалась не такой плохой; вопреки ее опасениям, она испытала удовольствие, какое должна получать жена, и теперь была королевой, обладательницей несметных богатств, а также имела мужа, который обожал ее и был добр к ней. И это только начало! Изабель и Маргарет вели себя сдержанно. — Ваша милость, вы просто сияете! — сказала первая, задумчиво глядя на нее. — О, как прекрасно быть молодой, когда вся жизнь впереди. Я желаю вам всевозможного счастья, моя дорогая. Екатерина ерзала от нетерпения, пока ее одевали в алое платье: ей так хотелось выбрать несколько украшений из ларца с сокровищами, которые подойдут к этому наряду. Она взяла кольца, цепочки и брошь с тремя рубинами, которую Маргарет приколола ей на грудь. Потом Изабель принялась заплетать своей госпоже волосы. — Нет, оставь их распущенными, — сказала Екатерина. — Но жена должна убирать волосы и закрывать их, мадам, с того момента, как поднимется после первой брачной ночи. Только супругу полагается видеть их во всей красе. Думаю, король ожидает, что вы скроете свои косы. — Хорошо, — согласилась она, решив попросить Генриха, чтобы тот позволил ей оставлять волосы под головным убором незаплетенными, как она делала всегда. Изабель приколола ее косы шпильками и накрыла их французским капором из черного и малинового бархата с белой лентой и жемчужной отделкой по краю. Екатерина все это вытерпела. — Ваша милость выглядит до кончиков ногтей королевой, — закончив, сказала Изабель, потом, слегка замявшись, продолжила: — Могу я попросить тебя о помощи? — Конечно, — сказала Екатерина. — Мой брат Джон все еще находится в Тауэре. Прошло много месяцев, и нет никаких вестей. Если представится возможность, спроси у короля, не отпустит ли он его? — Я спрошу, — пообещала Екатерина. — Когда представится удобный момент.
Она присоединилась к Генриху за завтраком, который по его распоряжению им подали в маленьком садике. — Вы выглядите превосходно, — сияя, сказал он. — Но мне пришлось убрать волосы. Генрих, как, по-вашему, можно ли мне носить их распущенными, как раньше? — Вы можете поступать как хотите, дорогая. Теперь вы моя королева и в этом качестве наделены духовной чистотой. В вас отразился образ нашей Благословенной Девы, и вы можете носить ваши волосы, как вам нравится. Его слова показали Екатерине всю тяжесть ее высокого ранга. Она теперь занимала самое высокое положение, к какому только может стремиться женщина, и собиралась наслаждаться каждой минутой. Но, кроме того, она была супругой верховного главы Церкви, и это будет запечатлено в церемониях, которыми ее окружат, и в людских надеждах. Она должна быть не просто добродетельной, ей нужно подражать примеру Девы Марии во всем: в любви к королю, рождении ему детей — о Небо, может, она уже беременна! — в благих делах и актах милосердия, которых ждут от королевы. — Я хочу быть достойной вас, — сказала она Генриху, намазывая маслом белый хлебец и кладя внутрь него кусок холодной говядины. — Я намерена выполнять свои обязанности, как подобает жене могущественного владыки, но у меня явно не хватает опыта в управлении большим двором. — Не беспокойтесь, — ответил Генрих, допивая эль. — У вас будут придворные чины, которые займутся этим. Когда мы приедем в Хэмптон-Корт, я назначу их. А вы тем временем подумайте, кого хотите иметь у себя на службе. Полагаю, вы захотите, чтобы сестры остались с вами, и сэр Эдвард Бейнтон как вице-камергер? — Да, пожалуйста, — кивнула Екатерина. — Большинство из назначенных на посты при леди Анне Клевской могут остаться с вами, — продолжил король, — но мы может произвести изменения, если вы захотите. — Казалось, он готов был исполнить любое ее желание. — Вы должны выбрать эмблему, — добавил Генрих. Екатерина об этом не подумала. — Что вы порекомендуете? — Пожалуй, розу с короной для моей прекрасной тюдоровской розы. — Мне это нравится! — воскликнула она. — И еще вам нужен девиз. Она несколько мгновений подумала. Король был добр к ней. — Я хочу какой-нибудь такой, чтобы показал: я во всем полагаюсь на вас. Знаю! «Нет другой воли, только его». Вам нравится? Король широко улыбался: — Разумеется. Но он должен быть на французском. Non autre volonté que le sienne. Я прикажу, чтобы его выгравировали на браслете, который вы можете носить всегда и везде. Вашу эмблему и герб мы разместим повсюду, вместо знаков леди Анны. Я распоряжусь сегодня же. Послышался робкий стук в деревянные воротца. — Войдите! — крикнул король. И появился Том Калпепер, очень бледный. Увидев его, Екатерина ужаснулась, но быстро сообразила: вполне естественно, что он здесь, как один из самых близких к королю джентльменов. И они не делали ничего дурного, им нечего стыдиться. Не взглянув на нее, Том с бесстрастным лицом опустился на одно колено: — Ваша милость, я пришел сообщить, что распоряжение, отданное вами вчера, выполнено. Генрих перестал улыбаться: — Благодарю, что дали мне знать. Можете идти. Том встал, поклонился и вышел, так и не удостоив Екатерину взглядом. Лицо Генриха окаменело. Он сидел задумчивый и молчал. — Что случилось? — спросила она. Король посмотрел на нее пустыми глазами. Он как будто вообще забыл, что она здесь. — Увы, дорогая, мне бы не хотелось ничем омрачать наш медовый месяц, но некоторых проблем не избежать. Вам нужно знать: вчера казнили Кромвеля. Я просил не беспокоить меня разговорами об этом, потому что был день нашей свадьбы. Он приказал казнить Кромвеля в день их свадьбы? Екатерина не могла в такое поверить. И тем не менее в каком-то смысле момент был выбран очень подходящий. Кромвель вовлек Генриха в брак, который так и не стал настоящим супружеским союзом и принес много забот и огорчений. Неудивительно, что король посчитал уместным, чтобы опальный министр заплатил за свои злодеяния в тот день, когда сам он берет в жены другую женщину. Ей следовало радоваться, что Кромвеля больше нет. Дядя Норфолк и все ее родственники Говарды ненавидели его и поклялись уничтожить. Они обрадуются, что он мертв и путь к власти для них расчищен. Ее возвышение помогло осуществлению этого. Гибель Кромвеля оставила вакантным место, которое наверняка займет кто-нибудь из представителей католической партии, и Норфолк с Гардинером были в числе претендентов на пост. Екатерина подумала и обо всех тех, кто пережил несчастья из-за Кромвеля: первой на ум пришла королева Анна, потом сэр Томас Мор и епископ Фишер, святой человек, сложивший голову на плахе за то, что поддерживал старую веру. Теперь на Кромвеля ополчились его же подчиненные. — Никогда больше я не стану полагаться ни на одного министра, — продолжил Генрих. — Благодаря Уолси и Кромвелю я выучил свой урок. Отныне я буду править сам. — Он вытер рот, положил салфетку на стол, медленно поднялся на ноги и сказал: — Давайте подумаем о более приятных вещах, дорогая. Вы прогуляетесь со мною по террасам?
После обеда, пока король почивал в своих апартаментах, она отправилась в парк. Кромвель не шел у нее из головы, она постоянно возвращалась к одной и той же мысли: как он чувствовал себя перед самым концом и страдал ли? Хорошо еще, что ему не пришлось взойти на костер, ведь Генрих говорил ей, что бывшего министра признали виновным в ереси и измене. Она убеждала себя, что ей не следует сожалеть о нем, но все же простая человечность требовала этого. Погода до сих пор стояла жаркая, Екатерине было душно и неудобно в дамастовом платье. Она сняла капор и распустила волосы, их ворошил ветер. Гулять в знойный день утомительно, и Кэтрин обвела взглядом парк в поисках тенистого дерева, под которым можно было бы посидеть. Слева от нее росло купой несколько вполне подходящих для ее цели. Когда она подошла к ним, то заметила на ветвях остатки разноцветных фонариков. Это место, видимо, использовали для какого-то пикника на лоне природы. Екатерина села на траву в тенистом месте, прислонилась спиной к стволу и закрыла глаза. Она не провела так и пяти минут, как вдруг услышала громкий всхлип, доносившийся откуда-то сзади. Испугавшись, она оглянулась, чтобы понять, кто там, и заметила торчавший из-за дерева пышный черный рукав, несомненно мужской. Что ей делать? Потихоньку сбежать и оставить этого человека, кто бы он ни был, изливать свое горе? Вероятно, так будет лучше, ведь тот несчастный мог вовсе не оценить ее участливого вмешательства. Но пока она вставала, под ногой хрустнула ветка, и за спиной раздался шорох. Обернувшись, Екатерина увидела Тома Калпепера, который глядел на нее; лицо его исказило страдание. — Кэтрин?! — Он явно удивился. — Прости, я имел в виду — ваша милость. — Том! — Она была шокирована не меньше. — В чем дело? — Говоря это, Екатерина уже знала ответ и готова была наподдать самой себе за бестактность. Он покачал головой: — Ты сама знаешь! Услышав, что ты станешь женой короля, я сильно опечалился и с тех пор не нахожу себе места. А когда окончательно уверился, что ты для меня потеряна, то готов был умереть. Я не мог есть и почти не спал. При этом вынужден был каждый день служить королю и слушать, как он поет тебе дифирамбы. Екатерина подняла руку, чтобы остановить его: — Том, мне искренне жаль тебя, я понимаю твои страдания, но мне не нужно это слушать. Прости меня. Я его жена, и этого ничто не изменит. А теперь прощай. Я должна идти. Подняв с земли капор, она развернулась и пошла назад, ко дворцу, оставив его стоять на месте. Она чувствовала себя ужасно, но не могла поступить иначе: нельзя, чтобы ее застали за разговором с Томом наедине.
Руки Генриха так и тянулись к Екатерине. Всякий раз, как они сидели и разговаривали, гуляли в саду или оставались за столом после еды, он ласкал и целовал ее, говорил, как сильно любит свою ненаглядную и как ему приятно быть ей слугой. И это делал человек, который был не только королем, полновластным владыкой в своей земле, но и верховным главой Церкви, почитаемым едва ли не наравне с Господом. У Екатерины это вызывало благоговейный трепет. Они постепенно сближались. Генриху нравилось вести беседы о религии; о теологии он знал гораздо больше, чем Екатерина. Она пыталась демонстрировать интерес, но ловила себя на том, что ей трудно сдержать зевоту. Иногда, заводя разговор о себе и о том, что значит править королевством, Генрих производил впечатление почти что ханжеское. Для него не было середины, только моральные абсолюты. — Когда я сравниваю свою честность, открытость, простоту и рыцарственность с вероломством и лживостью других людей, то просто изумляюсь, — сказал он однажды, когда они сидели в саду и пили охлажденный в ведре с водой эль. — Я готов быть милостивым ко всем, но не доверяю ни одному человеку. И советуюсь только с собой. Еще в молодости я уразумел, что страх порождает послушание, и правлю, исходя из этого постулата. — Вдруг он улыбнулся. — Но мне бы не хотелось вызывать страх в вас, Кэтрин. — Король погладил ее по щеке. — О, Генрих, я не боюсь вас. Во время долгих бесед Екатерина узнала многое об этом замечательном человеке, который стал ее мужем. Он был крайне самоуверен, что неудивительно, ведь много лет его мнение было единственно значимым. И не имел в мыслях, что хотя бы иногда может быть не прав. Она поняла, что за четыре месяца знакомства с ним ни разу не слышала, чтобы кто-нибудь ему возражал. Но при этом Генрих очень легко поддавался внушениям. Несмотря на все его уверения, что он не слушает придворные сплетни, было ясно: производимое ими впечатление никогда не изглаживалось в нем. Он с невероятной ревностью относился ко всем, и это предрасполагало его к тому, чтобы плохо думать о людях. Казнью Кромвеля, который много лет был его правой рукой, король продемонстрировал, что вознесшиеся высоко могут быть повергнуты одним ударом. Это внушало страх. И тем не менее имелась в нем и почти детская простота. Он ревностно соблюдал религиозные обряды. Однажды, когда у него разболелась нога, Кэтрин услышала, как один священник сказал, что ему не следует вставать на колени для поклонения телу Спасителя, он может принимать причастие, сидя в кресле. Генрих отказался со словами: — Даже если бы я пластом лег на землю или зарылся под землею, то и тогда не считал бы, что в достаточной мере выразил свое преклонение перед Его Святыми Дарами. В тот день Генрих показал Екатерине свой Псалтырь, в котором имелось семь изысканных миниатюр: одна изображала его самого в виде царя Давида, убивающего Голиафа; на других король был показан играющим на арфе или читающим молитвенник в своей опочивальне. На странице с тридцать шестым псалмом, напротив стиха: «Я был молод и состарился, не видал праведника оставленным», Екатерина увидела сделанную рукой Генриха надпись на латыни. — Что это значит? — спросила она. — Горькое высказывание, — перевел Генрих; глаза его были исполнены печали. Тогда она поняла, что больше всего на свете он сожалеет об утрате золотой юности.
В дни медового месяца встреч с Томом было не избежать, потому что Генрих привез с собой лишь немногих джентльменов, и ему нравилось иметь при себе Калпепера. Тот прислуживал за столом, следовал позади на приличном расстоянии, когда королевская чета прогуливалась, или нес один из факелов, освещая путь королю вверх по лестнице в спальню супруги. Не раз Екатерина ловила на себе его скорбные взгляды, не оставлявшие ей сомнений в том, как он страдает. Даже Генрих заметил. — Калпепер, ты болен? — спросил он однажды за ужином, когда Том, с виду очень бледный, поставил перед королем блюдо с мясом. — В последнее время ты сам на себя не похож. — Ваша милость очень добры, что спрашиваете, — ответил Том. — По правде говоря, я в печали. Мне не хотелось омрачать счастье вашей милости, но в прошлом месяце скончался мой отец. — Ей-богу, приятель, ты должен был сказать мне. — Соболезную, — вступила в разговор Екатерина, размышляя про себя, примирился ли сэр Александр Калпепер со своим сыном перед смертью, или Том так и остался лишенным наследства. — Калпепер, ты освобожден от своих обязанностей при дворе, — сказал король. — Поезжай к себе домой, в Пенсхерст, чтобы там оправиться, и получи две тысячи крон на расходы. Екатерине нравилось, когда Генрих показывал себя таким; приятно было видеть его доброту и сердечную щедрость. — Ваша милость, не могу выразить, как я вам благодарен, — сказал Том, едва не качнувшись на ногах. — С вашего позволения, я уеду завтра утром. Ей было жаль Тома. Она понимала, что печалится он не только об отце, но и о ней.
После пяти благословенных дней покоя Генрих и Екатерина покинули Отлендс и поехали в Хэмптон-Корт. Дворец был восхитительный. Она ахнула при виде огромного главного зала с великолепным резным потолком и роскошных апартаментов, которые приготовили для нее. Широко раскрытыми глазами она смотрела на украшенные золоченой и посеребренной резьбой стены, резвящихся на фризах херувимов и висевшие в просторных покоях великолепные гобелены. Все, что можно покрыть золотом, было им покрыто. И повсюду виднелись ее гербы в паре с королевскими: на шторах, покрывалах и мебели, даже на оконных стеклах. Полы были устланы бесценными коврами, а потолки отделаны зеркалами. После того как Екатерина обняла и поцеловала Генриха, выразив восхищение его заботливостью, тот скрылся в своих новых тайных комнатах, расположенных позади личных покоев. Доступ туда был открыт только самым привилегированным людям. В первый вечер, проведенный в Хэмптон-Корте, Екатерина обедала с ним там и удивилась, что приемный зал был почти пуст, а личные покои за ним наполнены людьми, которые больше не принадлежали к ближнему кругу короля. — Я ценю приватность, — сказал ей Генрих за ростбифом. — Давно хотел жить в уединении, чтобы рядом были только мои джентльмены и грумы из личных покоев. Екатерина подозревала, что необходимость в этом возникла в связи с эпизодически повторявшимися у короля рецидивами болезни, которая лишала его способности двигаться; он не хотел, чтобы люди видели его слабым хоть в каком-то смысле и подумали, будто он теряет хватку. Король добавил себе на тарелку соуса. — Я распорядился, чтобы впредь просители не досаждали мне своими делами, а посылали письменные обращения моему Тайному совету. Это походило на уход от публичной жизни. Екатерина надеялась, что дальше не последует отмена всех придворных развлечений: ей хотелось сыграть роль королевы сполна. Ее роскошные апартаменты располагались вдоль северной стороны окруженного крытой галереей Зеленого двора, напротив комнат короля; их покои соединяла анфилада общих приемных залов. Она любовалась великолепными кроватями, мебелью из ореха, фламандскими гобеленами и турецкими коврами. Пока здесь размещались только она, Изабель и Маргарет, комнаты казались огромными. Хотя вскоре они наполнятся людьми — ее новыми придворными, которые будут толпиться здесь. Вещи Екатерины только успели распаковать и разложить по местам, как явился Генрих, проводил ее в старые апартаменты королевы и предложил выглянуть в окно с видом на внутренний двор дворца. — Посмотрите туда. Мои новые астрономические часы! Их только что установили. Они показывают время, месяц, дату, количество дней с начала года, фазы луны, движение созвездий по зодиакальному кругу и моменты подъема воды у Лондонского моста, что очень полезно для планирования поездок по реке. И присмотритесь, Кэтрин, там есть Солнце, вращающееся вокруг Земли. Она изумилась. Эти часы — настоящее чудо, к тому же они были очень красивы. Как кто-то смог сделать их, оставалось для нее непостижимым. Но Генрих любил астрономию и астрологию, он собрал у себя много часов; они его зачаровывали. — Я хочу показать вам кое-что еще. Екатерина проследовала за ним через покои и галереи, которые вели в его апартаменты, потом спустилась по лестнице в личный сад короля. Там, в самом центре, стояли новые солнечные часы. — Я сконструировал их сам, — сообщил ей Генрих, сгорая от нетерпения, как мальчишка. — Они показывают час дня, день месяца, фазу луны, отлив и прилив моря и еще много чего. Она была поражена тем, что ее супруг разбирается, как работают такие устройства. Он был необыкновенный. Каждый день она узнавала новые удивительные вещи о нем.
Королевой Екатерину пока не объявили: Генрих хотел еще несколько дней понаслаждаться уединением и покоем, прежде чем допустить к себе мир. Они проводили время в ее апартаментах или у него и избегали встреч с большим количеством людей, но однажды церемониймейстер, дежуривший у внешних дверей покоев Екатерины, объявил о приходе дяди Норфолка. — С возвращением, племянница, или мне теперь следует называть тебя «ваша милость»? — восторженно приветствовал ее он. Екатерина никогда еще не видела дядюшку таким ликующим. — Именно так, милорд! — ответила она, протягивая ему руку для поцелуя, что он и сделал с горячностью. — Вам наверняка известно, что произошло за время моего отсутствия. — Его величество сам известил меня письмом. Я радостно воспринял эту новость, как ты догадываешься. У нас теперь королева Говард, а лживый мужлан мертв. Это победа католической веры! Посмотри, как теперь реформаторы прячутся по углам, будто крысы. Только вчера сожгли на костре лютеранина Роберта Барнса. Ты еще увидишь, как король раздавит все эти реформы и ересь. Екатерина сжалась от мысли, что кому-то выпала такая ужасная смерть и приказ отдал Генрих, хотя и понимала: запах адского огня на земле мог заставить еретиков в последнюю минуту отречься от своих убеждений и спасти их от вечного проклятия. — Настал наш час! — говорил тем временем герцог. — Когда дело дойдет до назначения твоих придворных, вспомни о своих родных и близких. — Я и сама думала об этом, — ответила ему Екатерина. — Не считайте меня забывчивой, я помню, что вы для меня сделали. Говоря это, она осознала, что еще пару месяцев назад не позволила бы себе общаться с дядей так по-свойски. Любовь короля и статус королевы творили с ней чудеса.
— Я сегодня поеду в Ричмонд, дорогая, — сказал Генрих, вставая с постели теплым утром в начале августа. — Мне нужно повидаться с леди Анной и получить ее подпись на документе, который покончит с нашим притворным браком. Екатерина не имела ничего против его отъезда. Она знала, что он никогда не любил Анну и бывшая королева ей не соперница. День Екатерина провела, разучивая новые танцевальные движения и заказывая себе платья.
Часть третья «Быть королевой мне назначено судьбой»
Глава 20
1540 ГОД Восьмого августа знатнейшие леди королевства надели на Екатерину королевскую мантию с горностаевым подбоем. Она едва могла стоять спокойно от волнения. Сегодня о ее браке будет объявлено во всеуслышание. Отныне ей будут доступны все привилегии королевы. Екатерина мысленно уповала, чтобы придворные и страна в целом приняли ее. Когда в апартаментах сформировалась процессия, вдовствующая герцогиня Норфолк возложила золотой венец на голову своей внучки. Потом следом за герольдами Екатерина прошла сквозь огромные двери своих покоев (длинная свита тянулась за ней) и направилась через весь дворец Хэмптон-Корт в Королевскую капеллу. Галереи и сама капелла были полны придворных, которые изгибали шеи, чтобы увидеть ее. Многие улыбались или аплодировали; лишь некоторые глядели на нее с сомнением. Екатерина заняла место рядом с пустым троном короля на королевской скамье и, подняв взгляд, залюбовалась изукрашенным синим с золотом потолком. Отслужили мессу, в ходе которой за нее молились как за королеву. После этого, собранная и полная решимости не ударить в грязь лицом, она обедала в своем главном покое, сидя одна под балдахином с королевскими и говардовскими гербами. Герольд объявил ее королевой Англии. Раздались аплодисменты наблюдавшей за ней толпы, и Екатерина улыбнулась со всей грацией, на какую в тот момент была способна, ощущая легкое головокружение от того, что стала первой леди в стране. Остаток августа прошел в торжествах. К радости Екатерины, устраивали пиры, спортивные состязания и банкеты, все в ее честь. Почти каждый день она охотилась с Генрихом, трепеща от азарта погони и триумфов поимки добычи. — Все, чего я хочу, дорогая, — сказал ей Генрих, когда однажды ранним вечером они возвращались во дворец, — это спокойно править, имея рядом вас. Клянусь, вы ни в чем не будете нуждаться, если моя любовь сможет доставить вам это! Я вас так люблю, намного, намного больше остальных. — Он склонился, сидя в седле, и поцеловал ее руку.Когда в том же месяце составили двор Екатерины, занять должности пригласили многих из тех, кто служил королеве Анне, а до нее — королеве Джейн. Кузен Генриха граф Ратленд стал камергером, и, как обещал король, мужа Изабель сэра Эдварда Бейнтона назначили вице-камергером. Племянница короля, леди Маргарет Дуглас, возглавила штат придворных дам. По желанию Екатерины значительную часть мест получили Говарды. Дочь Норфолка, герцогиня Ричмонд, которую Екатерина очень любила, снова заняла должность одной из гранд-дам двора. Кроме того, новая королева попросила, чтобы при ней были леди Уильям Говард, бывшая Маргарет Гэмидж, никогда не унывающая, и графиня Бриджуотер, проявлявшая доброту к ней в Ламбете. Екатерина опасалась, что родственница герцога Мэри Арундел, графиня Сассекс, весьма эмоциональная девушка с миндалевидными глазами, может создать проблемы, а Кэтрин Уиллоуби, герцогиня Саффолк, посчитает свою госпожу невеждой, ведь сама она была известна образованностью. Однако обе леди оказались приятными компаньонками. Леди Ратленд, женщина средних лет, супруга камергера королевы, была гранд-дамой старой школы — добрая, рассудительная и щедрая. Она возглавила состоявший из девяти женщин штат служительниц личных покоев королевы; следующими за ней по рангу стали Изабель и Маргарет. Екатерина не забыла и свою мачеху, леди Эдмунд Говард, которая прибыла в Хэмптон-Корт, едва не плача от благодарности. Среди остальных дам и фрейлин были Элизабет Сеймур, Анна Бассет, Люси Сомерсет и две новенькие: светловолосая Бесс Харвей и красавица Элизабет Фицджеральд, которую рекомендовал кузен Екатерины, граф Суррей. Так как епископ Гардинер сильно постарался сделать ее королевой, Екатерина назначила его племянницу, чопорную леди Ризли, в свои покои. В целом она чувствовала себя комфортно со своими дамами, почему и не позвала ко двору Джейн Рочфорд, опасаясь, что та злится на нее из-за разрыва с Томом Калпепером, хотя, разумеется, Джейн должна была понимать, почему Екатерине пришлось так поступить. Их дружба закончилась, оставив у королевы легкое ощущение неловкости. Камеристками служили несколько молодых женщин, которые были ее приятельницами в Ламбете: Мег Мортон, Элис Рестволд, миссис Лаффкин и миссис Фридсвайд. Кэт Тилни Екатерина тоже предложила место, так как та была неразлучна с Мег, однако мать Кэт заболела, и той пришлось поехать к ней. Когда прежние подруги стали благодарить ее за милость, Екатерина покраснела. Она считала для себя делом чести взять их ко двору, надеясь этим купить их молчание, так как всем им были известны тайны ее прошлого. Сердце у нее сжималось при мысли о том, сколько людей знают о ее любовных историях с Гарри и Фрэнсисом. Вдруг они начнут распускать сплетни? Впервые Екатерина всерьез задумалась, что может сделать Фрэнсис теперь, когда она вышла замуж за короля? Неужели он посмеет заявить свои права на нее? Слишком много свидетелей, слишком много секретов. Улыбка не сходила с лица Екатерины, но она с ужасом понимала: ей не познать душевного спокойствия, пока имеется вероятность, что кто-нибудь распустит язык и слухи дойдут до короля. С новой силой она осознала это, когда Элис Рестволд поднялась из реверанса и с хитрой улыбкой проговорила: — Я уверена, ваша милость не забыли о тех добрых временах, когда мы жили в Ламбете. Вечером Екатерина вызвала к себе Элис прежде всех, кто должен был укладывать ее в постель. — Я хочу, чтобы ты взяла вот это, — сказала она, передавая ей расшитый золотом билимент[148] для французского капора и золотую пластинку — дорогие подарки, каких обычно и не мечтают получить камеристки. — В память о тех добрых временах, которые мы провели вместе. Элис вытаращила глаза, глядя на лежавшие в ее ладони сокровища: — Я понимаю, мадам. Благодарю вас. Вы можете рассчитывать на мою сдержанность. Лежа в постели в ожидании короля, она размышляла: уж лучше держать своих старых знакомых под присмотром. Она постарается сделать так, чтобы у них не было причин выдавать ее.
Жизнь Екатерины превратилась в сплошную круговерть развлечений: она только и делала, что танцевала, веселилась, купалась в лести, которой ее окружили, и упивалась одобрением дяди Норфолка и всей семьи. Она не проявляла никакого интереса к государственным делам; ее ум не был расположен ни к политике, ни к придворным интригам. Когда придворные дамы начали сплетничать о леди Анне Клевской, кактеперь называли ее прежнюю госпожу, и рассуждать, что-то она сейчас поделывает и чем так не понравилась королю, Екатерина велела им прекратить это, заявив, что не желает слышать ни одного дурного слова об Анне. Каждый вечер в шесть часов сэр Томас Хинидж, хранитель королевского стула, доставлял ей новости о супруге, за что Екатерина всегда мило благодарила его. Но чаще она уже встречалась с Генрихом в течение дня, поскольку король проводил с ней каждую свободную минуту. Он души в ней не чаял. Постоянно ласкал или обнимал и приходил на ее ложе каждую ночь. Она уже привыкла к его телу и неизбывному желанию, пытаясь не допускать предательских мыслей, вроде: «хорошо бы он был помоложе, постройнее да сохранил побольше мужской силы». Иногда Генриху было трудно войти в нее, и он отстранялся, раздосадованный и униженный. Тогда она использовала особые уловки, чтобы снова возбудить его, обычно успешно. — Увы, Кэтрин, я хотел бы быть для вас лучшим супругом, — бормотал Генрих. — Знали бы вы меня в молодости. Ни один мужчина не мог сравняться со мной ни на турнирах, ни в постели. В ответ она всегда улыбалась ему и говорила: — Я люблю вас таким, какой вы есть. — Был ли хоть один мужчина так благословен? — со вздохом отвечал Генрих и целовал ее. Он исполнял любой каприз обожаемой супруги. Каждый день на ней было новое платье. Она целиком завладела сердцем короля. Услышав новое воззвание к молитве, которое теперь произносили не только в Королевской капелле Хэмптон-Корта, но и во всех церквах Англии, где имя королевы Анны сменилось ее именем, Екатерина была тронута и с новой силой осознала величие королевского статуса и свою неготовность нести это бремя. Но она научится. У нее были любовь короля, несметные сокровища, власть на кончиках пальцев и армия слуг, готовых исполнить любую ее прихоть по кивку головы. Екатерина старалась, чтобы все это не ударило ей в голову. Гордыня, она это знала, — первый шаг к падению. И тем не менее постепенно менялась, обретала уверенность и становилась более требовательной и привередливой. Она даже начала замечать повелительный тон в своем голосе, когда отдавала распоряжения. Однажды портниха миссис Джосслин принесла показать ей готовое платье, и Екатерина обратила внимание, что женщина выглядит смущенной. — Что-нибудь не так? — спросила она. — О да, мадам. Я беспокоюсь, вдруг моя работа не понравится вашей милости. Екатерина подумала, что портниха, вероятно, слышала о резком выговоре, который она сделала накануне своему портному за то, что киртл у него вышел слишком короткий. Нужно научиться сдерживать язык, а то она чересчур легко выходит из себя, если что-то не так, как ей хочется. — Это прекрасное платье, — с улыбкой сказала Екатерина. — Спасибо вам за вашу трудную работу.
Генрих не видел в своей юной супруге никаких изъянов. — Вы совершенная жена во всех отношениях, — говорил он. — Скоро, по милости Божьей, вы будете ждать ребенка. Они сидели в его барке и наслаждались вечерней прогулкой по Темзе; на корме играли музыканты. Жара никак не спадала, и дувший с реки ветерок обдавал их приятной прохладой. Уже не в первый раз Генрих выражал надежду, что она подарит ему сыновей. Вечером придется разочаровать его. У нее начались месячные. Екатерина всегда любила детей, и ей нравилась идея стать матерью. Это невероятно повысило бы ее статус. Она чувствовала себя такой благословенной и удачливой, что не сомневалась: Господь и Его Святая Матерь сохранят ее во время тягот беременности и родов. Ее дети станут следующими в ряду наследников престола после принца Эдуарда. Мысль была волнительная. Разумеется, она не желала вреда этому бесценному малышу. Ей хотелось поскорее познакомиться с ним и с дочерями короля тоже. — Вы что-то притихли, дорогая, — заметил Генрих, когда они проплывали мимо освещенных факелами улиц Кингстона. — Я думаю о том, что мы в этом месяце не получили благословения, — сказала она. Генрих похлопал ее по руке: — Ничего. Мы женаты еще меньше месяца. Господь действует в свое время. Может быть, скоро он благословит нас. — Я молюсь об этом, — сказала она. Слуга принес им вино и золоченые марципаны. Екатерина уютно устроилась под рукой супруга и с удовольствием принялась за угощение. На берегу реки, закончив дневные труды и наслаждаясь душистым вечером, отдыхали какие-то люди, и она помахала им. Король снисходительно улыбнулся: — Предполагается, что это частная прогулка! — Они не знают, кто мы. На барке не было королевских гербов. — Скорее всего, догадаются. Смотрите, они встают! — Генрих тоже поднял руку в приветствии, и некоторые люди на берегу опустились на колени. — Видите, они знают, кто мы. Барка прошла изгиб реки, и слева открылся вид на огромный комплекс зданий. Территория вокруг заросла травой, и все это место выглядело заброшенным и зловещим в сумеречном свете. — Это бывшее аббатство Сион, — сказал король. — Оно было распущено в прошлом году. — Никто там не живет? — спросила Екатерина. — Нет. Я еще не решил, что с ним делать. Оно стоит на прекрасном месте. Ей стало грустно оттого, что такая прекрасная обитель опустела. Она даже слегка поежилась. Не хотелось бы оказаться внутри этого покинутого аббатства, по залам которого блуждает гулкое эхо. Но ей пришло на ум кое-что еще. — Генрих, — сказала она, поднимая на него взгляд, — я хочу просить вас об одолжении. — Просите о чем угодно. — Речь о моих братьях. Они выросли в доме милорда Норфолка и теперь овладели всеми навыками рыцарей. Для меня очень важно, чтобы они оказались при дворе. Генрих заулыбался: — Я могу взять в свои личные покои еще троих джентльменов. Они получат хорошее жалованье и новое платье, а ваш дядя лорд Уильям объяснит им, в чем будут состоять их обязанности. — Благодарю вас! — воскликнула Екатерина и поцеловала его. — Все для вас, — сказал король и сжал ее руку. — Я думаю дать вашему дяде графу Сассексу должность главного камергера, которая никем не занята после ареста Кромвеля. Это влиятельный пост в личных покоях, и я знаю, что могу полагаться на графа, он будет исполнять свои обязанности достойно. А юный Суррей станет рыцарем Подвязки. Дядя Норфолк обрадуется! Екатерина раскинула руки и обняла Генриха: — Вы так добры ко мне и к моим родным! Ей не терпелось сообщить своему кузену отличную новость. Они были почти одного возраста, и Екатерина любила и самого Суррея, и его жену Фрэнсис. — Я хочу спросить еще об одной вещи, — осмелилась продолжить Екатерина. — Мой сводный брат Джон Ли некоторое время находится в Тауэре. Я всегда считала его хорошим человеком. Не подумает ли ваша милость о том, чтобы отпустить его? Генрих нахмурился: — Хм… Я разберусь с этим делом, дорогая. — Некоторое время король сидел в задумчивости, потом переменил тему. — Я намерен просить мастера Гольбейна, чтобы он нарисовал вас. Мне хочется, чтобы это была миниатюра и я всегда мог бы носить ее с собой. — Я с радостью попозирую ему. Они уже приблизились к Хэмптон-Корту, и гребцы направили барку к пристани. Темно-синее бархатное ночное небо было расцвечено звездами, а дворец освещен факелами. Генрих помог ей сойти на берег, и они рука об руку направились во дворец.
Для позирования Екатерина надела французский капор, рыжевато-коричневое платье с глубоким вырезом, обшитым подаренной Генрихом каймой, и меховые нарукавники, которые пришлось потом снять: сидеть в них долго было слишком жарко. В качестве украшений она выбрала золотую брошь с плоским бриллиантом, к которой были подвешены рубин и жемчужина, а также тяжелое жемчужное ожерелье — вещи из сокровищницы королев. Приготовившись, Екатерина села в приемном зале. Сегодня ко двору прибывали ее братья, и она хотела поприветствовать их, прежде чем вызовет мастера Гольбейна. Братья низко поклонились, потом обняли сестру. Они были намного выше ее, и она залюбовалась, какими же мужественными красавцами стали все трое. Чарльзу было уже двадцать четыре, Генри — двадцать два, а Джорджу — двадцать один. — Как же ты постаралась, сестрица, для себя и для нас, — сказал Чарльз. — Мы очень благодарны тебе, — вступил в разговор Генри. — Доходы, которые я получу от своей новой должности, позволят мне жениться. — Жениться? — эхом откликнулась Кэтрин. — Этот дурак думает, что влюблен! — поддразнил брата Джордж. — Я-то влюблен. А тебе еще нужно подрасти! — парировал Генри. — Ее зовут Энн, и она очень мила. — Надеюсь познакомиться с ней, — улыбнулась Екатерина. — Китти, ты выглядишь до кончиков ногтей королевой, — сказал Чарльз. — Полагаю, мне все еще можно называть тебя так? — Конечно, — с улыбкой ответила она. — Есть какие-нибудь новости о нашей сестре Мэри? — Да, ее тоже скоро выдадут замуж за мистера Траффорда, юного джентльмена из Ланкашира. Милорд герцог организовал это. — В это трудно поверить! — ужаснулась Екатерина. — Ей всего двенадцать, и она скоро станет чьей-то женой. Я не видела ее с тех пор, как она была совсем крошкой. Уверена, что не узнаю Мэри. Теперь она поселится на севере, и я сомневаюсь, что мы встретимся в скором времени, а ведь я надеялась устроить ее при дворе. Это печально. У меня есть сестра, но я с ней не знакома. — Я слышал, она рада замужеству, — сказал Генри. — Траффорду всего четырнадцать. Они будут жить с его родителями. Может быть, Мэри когда-нибудь приедет ко двору. — А кто эта юная леди вон там? — спросил Чарльз, указывая на Маргарет Дуглас, сидевшую у окна с Мэри Говард. — Племянница короля, леди Маргарет Дуглас. — Какая красавица! — Нет, Чарльз, она не для тебя. Ее когда-нибудь выдадут замуж ради выгоды короля, — решительно заявила Екатерина. — Но я могу помечтать… — Он подмигнул ей. Хорошо, что ее братья будут при дворе.
Когда закончился сеанс позирования мастеру Гольбейну, Екатерина присоединилась к своим дамам в личных покоях, куда пришли несколько джентльменов составить им компанию. Некоторые занялись игрой в карты, другие музицировали. К Екатерине подошел кузен Суррей и сел на стул рядом с ее креслом. Он обладал живым артистическим темпераментом и временами бывал довольно буйным. Все знали, каких взглядов он придерживается, ибо Суррей во всеуслышание объявлял о них, но при этом был весьма остроумен и всегда добр к Екатерине. — Как чувствует себя моя кузина в роли королевы? — Превосходно! — с восторгом ответила она. — Мой отец восхваляет вас целыми днями и совсем перестал по-стариковски брюзжать. — Суррей усмехнулся. — По правде говоря, мы все благодарны вам. Это непросто — заманить в ловушку короля. — Думаю, это король заманивал меня в ловушку, — засмеялась Екатерина. — И теперь реформистам надели намордники! — весело продолжил Суррей. — Дни архиепископа Кранмера и выскочек Сеймуров сочтены. Я слышал, они теперь грызутся друг с другом, что развязывает руки нам, консерваторам. Она слегка рассердилась: — И вы считаете, король не управится с ними? — Он легко поддается влиянию, и наша задача — проследить, как бы его не увлекли в неправильном направлении. Вот почему ваша роль так важна. Пока он любит вас глубоко и искренне, нам нечего бояться, а значит, крайне важно, чтобы вы сохранили его привязанность. — Он не так прост, как вы думаете, — холодно ответила Екатерина, злясь на Суррея: с чего он решил, будто Генрихом так легко манипулировать? — Король крайне подозрителен и мало кому доверяет. Тревожится, что люди из его окружения прониклись лютеранскими идеями, особенно молодое поколение вроде нас; настороженно относится к амбициозным придворным. Ему нравится, когда люди не уверены в нем. Не слишком мудро судить о короле так, как судите вы, потому что он не щенок. — Вы наблюдательны, — заметил Суррей. — И все-таки он внушаем — и тем опасен. Сжигает католиков за поддержку папы, а протестантов — за ересь. Нам всем нужно следить за своими поступками, чтобы нас не поджарили! И если король не приструнит реформистов при дворе, это должны сделать мы. Екатерина покачала головой: — Вы бы лучше последили за своим языком, милорд, чтобы не нажить себе проблем. Суррей сердито глянул на нее: — Вы ведь не передадите ему мои слова? — Нет, но вижу, вы боитесь, что я могу передать. И это доказывает могущество короля! — Она дерзко улыбнулась ему. — Хорошо, я признаю себя побежденным. — Суррей засмеялся. — Его милости неплохо было бы узнать, какую верную защитницу он приобрел в вашем лице!
Лето стояло сухое и жаркое. В Лондоне началось моровое поветрие, и двор переехал в замок Виндзор, который после великолепного Хэмптон-Корта казался старым и мрачным. Генрих наказал священникам, чтобы те призывали людей в храмах молиться о дожде и окончании мора. На улицах появились процессии молящихся, возглавляемые духовенством. — Мы уезжаем, — сказал король. — Пора продолжить наш медовый месяц охотничьим туром. Она пришла в восторг и велела своим дамам паковать вещи, а то, что возьмет с собой, отбирала сама. Когда Генрих вошел в ее опочивальню и увидел наваленные горой на постели платья, разбросанные по полу туфли и лежащие повсюду капоры, он хлопнул себя рукой по лбу и в шутливом отчаянии воскликнул: — Неудивительно, что моя казна пуста! — Потом обнял хихикающую Екатерину. — Но вы выглядите прелестно во всем этом, моя дорогая, так что эти деньги потрачены не зря. Они покинули Виндзор двадцать второго августа и проехали через Беркшир в Рединг. Остановились в пустующем аббатстве; покои, которыми прежде пользовались короли и королевы, находились в отличном состоянии. Екатерина нашла это место пугающим: она вглядывалась в пустоту церкви и представляла себе невидимых монахов и эхо разносящихся под сводами хоралов. Печально, что в стране больше не осталось монастырей. Когда настало время продолжить путь, она вздохнула с облегчением. Въехав в Оксфордшир, они добрались до Юэлма, живописной деревушки среди цветущей сельской местности, где заночевали в старом королевском поместье. — Мой отец говорил, что меня зачали здесь, — сказал Генрих во время их прогулки по саду. — Раньше поместье принадлежало моей сестре Марии, французской королеве. Она умерла семь лет назад. — Король выглядел задумчивым; он явно любил покойную. — Это хорошая база для выездов на охоту. В сопровождении нескольких придворных они прошли через деревню, чтобы осмотреть церковь. Там Генрих показал Екатерине прекрасную гробницу сына поэта Джеффри Чосера Томаса. — Раньше он был лордом-смотрителем поместья Юэлм и сражался при Азенкуре, — сказал король. Екатерина пожалела, что плохо знает историю Англии, а могла бы порадовать Генриха умным ответом, но об Азенкуре она имела весьма смутные представления. Генрих двинулся дальше: — А это могила дочери Томаса Алисы Чосер. Она была замужем за герцогом Саффолком. Моя бабка, леди Маргарет Бофорт, недолгое время была женой их сына. Последний герцог Саффолк оказался изменником, в результате поместье перешло к Короне. Екатерине очень понравилась мраморная статуя Алисы Чосер. Снаружи поглазеть на них собралась целая толпа. Около пруда какая-то старуха сказала ей, что здесь играют феи и вода обладает целебной силой. В этот момент Генрих споткнулся о камень и едва не упал в пруд, промочив свои бархатные башмаки. — Теперь его станут называть Королевским прудом! — сказал он, и все засмеялись.
В тот вечер после ужина, проведенного супругами наедине, к королю прибыл гонец от Тайного совета и вручил скрепленный печатью документ. Прочитав его, Генрих сощурил глаза и жестом отослал гонца. — Что случилось? — спросила Екатерина. — Вам не о чем беспокоиться, дорогая, — ответил он. — Просто злостные слухи. Она похолодела. Слишком многие знали о ней слишком много. — Если это обо мне, я бы хотела услышать, что было сказано. Генрих немного поколебался: — Одного священника привели в магистрат Виндзора за то, что он говорил о вас неподобающие слова. — Какие слова? Что мог знать о ней виндзорский священник? — Совет не упоминает. Но я этого не потерплю. Никому не позволено пятнать вашу честь. Его отправят в свою епархию и прикажут быть более сдержанным на язык. Екатерина задумалась: как отреагировал бы Генрих, узнай он, что ее честь уже запятнана в известном смысле. И ее снова охватило чувство вины.
Они продолжили поездку, останавливались в Рикоте, Нотли, Бакингеме и в конце августа прибыли в королевское поместье Графтон в Нортгемптоншире. В первый вечер, когда Генрих и Екатерина ужинали вместе в отделанном деревянными панелями покое с видом на поля, он сказал ей, что здесь, в Графтоне, тайно женился его дед, король Эдуард IV. — Дворяне хотели, чтобы он взял в жены французскую принцессу, а он полюбил вдовую Елизавету Вудвилл и не послушался их. Это породило массу проблем. — Генрих усмехнулся. — Кажется, женитьба по любви — обычай в моей семье! — Он поднес к губам и поцеловал руку Екатерины. Они были женаты месяц. Генрих, казалось, любил свою молодую жену сильнее прежнего и не таясь демонстрировал это. Ему все время нужно было прикасаться к ней и ласкать ее. Он постоянно вглядывался в лицо супруги и говорил, какая она красавица, не заботясь о том, есть ли рядом кто-нибудь. — Я приказал в память о нашем браке выбить эту золотую медаль, — сказал Генрих и вложил ее в руку Екатерины. На вещице были изображены тюдоровские розы и переплетенные узлы вечной любви, а также имелась надпись:
HENRICUS VIII: RUTILANS ROSA SINE SPINA.— Что это значит? — Это значит, что вы — моя красная роза без шипов. Шипы острые; они колются. Екатерина ни за что не причинила бы ему боли: она слишком высоко ценила его и по-своему любила. Надпись была вполне подходящая. И опять у нее беспокойно зашевелилась совесть: Генрих считал ее совершенством, а она им вовсе не была.
На второй неделе сентября они отправились к югу, в Эмптхилл, где провели две недели. Генрих охотился, а Екатерина с дамами и фрейлинами проводила время в прелестном садике, загорая на солнышке. — Я была здесь раньше, с вдовствующей принцессой, после того как ее удалили от двора, — сказала однажды утром Анна Парр, и Екатерине потребовалось мгновение, чтобы понять, что речь шла о королеве Екатерине. — Я тогда была совсем юной и недавно потеряла мать, а та была очень близка со вдовствующей принцессой. Мы все как будто находились в заключении. К счастью, король позволил мне уехать отсюда и нашел для меня место при дворе. Я переживала, что бросаю свою добрую госпожу, но радовалась возможности покинуть это место, потому что в Эмптхилле в то время царила ужасно гнетущая атмосфера. — Лучше не задерживаться на таких вещах, — посоветовала леди Саффолк, обмахиваясь снятой вуалью. Было жарко, и сад смотрелся выгоревшим. — Если бы вдовствующая принцесса не противилась королю и согласилась на развод, он подарил бы ей весь мир, — заметила леди Ратленд. — Такая неуместная отвага! Екатерине не хотелось больше слушать это разговор. Как-то неприятно думать, что Генрих удалил королеву от двора и отправил в одинокую ссылку в глушь. После обеда ожидались танцы, и ей нужно было решить, что она наденет. — Я слышала, сегодня вечером нас будет развлекать Уилл Сомерс, — сказала Екатерина. Став королевой, она с легкой досадой открыла для себя, что эксцентричный королевский шут, беспрестанно сыпавший злобными остротами, почти неотлучно находился в покоях Генриха. Ему были известны многие мысли короля, которые тот держал в секрете от других. Никто не смел так фамильярно разговаривать с Генрихом, как Сомерс, тем не менее его преданность королю была абсолютной. Екатерина не могла понять, нравится ей этот человек или нет, и опасалась его острого языка. Она не раз становилась свидетельницей того, как Сомерс оттачивал на людях свое красноречие, однако с ней он всегда был мил. Разумеется, шут знал, как сильно любит ее король. Обед прошел превосходно, и Сомерс потешал весь двор на славу — заставил хвататься за бока и смеяться до слез. — Что за зверюга, у которой хвост между глаз? — вопрошал шут. — Это кошка, когда она лижет свой зад. Генрих грохотал хохотом. В какой-то момент в зал вошел Томас, королевский жонглер. — Время моего выступления! — сказал он Сомерсу, но тот не внял требованию — быстро вышел и тут же вернулся с кружкой молока и круглым хлебом. — Дашь мне ложку, Гарри? — обратился шут к королю под сердитым взглядом Томаса. — Увы, у меня ее нет, — ответил тот. — Ох… — скорбно закачал головой шут, и король засмеялся. Сомерс усмехнулся, глядя на зрителей, и, протянув своему господину кусок хлеба, разразился сочиненной на ходу песенкой:
Утром, придя помогать Екатерине, Изабель рассыпалась в извинениях: — Будь уверена, я высказала ему все, что следовало! О чем он только думал, когда вел себя будто недоросль, который хочет произвести впечатление на своих приятелей? Величайшая глупость! — Не переживай больше, — убеждала ее Екатерина. — По-моему, это было забавно, но я не посмела сказать такое королю. По правде говоря, она удивилась, что Эдвард, оказывается, способен забыть о своем достоинстве и совершать идиотские поступки. — Ну я не считаю, что это было забавно! — заявила Изабель. — Сегодня утром Эдвард и остальные провинившиеся будут стоять на коленях перед королем и просить у него прощения. — Она воткнула булавку в подушечку с такой яростью, будто пронзала ею своего заблудшего супруга. Вошла Элизабет Сеймур: — Ваша милость, здесь церемониймейстер его величества. Он говорит, королю нездоровится и его уложили в постель. Екатерина надела на голову выбранный на сегодня капор: — Я должна пойти к нему. Она поспешила в апартаменты короля, но была остановлена в антикамере доктором Баттсом, одним из личных врачей Генриха: — Ваша милость, вы не можете войти. Его милость нездоров. У него воспалилась нога, и его знобит. Мои коллеги сейчас с ним. Я приду к вам с новостями позже. — Но я должна его увидеть! Он захочет, чтобы я была рядом. Доктор Баттс с добротой взглянул на нее: — Боюсь, мадам, он не допустит, чтобы вы видели его больным и несчастным. Он приказал не пускать вас к нему и велит вам проводить время со своими дамами, пока ему не станет лучше. Екатерина заколебалась. Она с радостью исполнила бы приказание Генриха, так как терпеть не могла комнаты больных, но почитала своим долгом показать, что пыталась увидеться с ним. Король наверняка это одобрит. — Позвольте болящему человеку сохранить свою гордость, — пробормотал доктор. — Хорошо, — согласилась Екатерина, — но скажите мне, он в опасности? Она оробела от одной мысли о смерти Генриха, так как уже прониклась любовью к своему супругу и не могла представить себе мира без него. — В настоящий момент нет, мадам, но мы тревожимся. Я пришлю к вам вестника или приду сам, если его состояние изменится.
Она апатично сидела на любимой тенистой скамье и слушала болтовню своих дам, но вдруг поднялась и пошла в часовню, встала на колени и принялась жарко молиться о выздоровлении Генриха. Кое-что еще было у нее на уме, о чем нужно просить Господа. Месячные у нее задерживались, всего на несколько дней, но надежда уже забрезжила. Екатерина представила, как сообщает Генриху радостную новость: она ждет ребенка. Как же он будет доволен ею! У выхода из часовни ее поджидал доктор Баттс. — Ваша милость, мы думаем, что инфекция поразила обе ноги короля. Мы наложили пластыри и повязки и надеемся вскоре увидеть улучшения. — Могу я увидеть его величество? — Пока нет. Дайте лечению время оказать действие. Его величество принял лекарство и сейчас спит. Екатерина подумала, не поделиться ли своей тайной надеждой с этим добрым доктором и не спросить ли его мнения. Ей отчаянно хотелось кому-то довериться. Но может, лучше молчать, пока она не будет окончательно уверена?
На следующий день Екатерине сказали, что Генриху резко стало лучше и он зовет ее. Снова она торопливо пошла в покои короля, размышляя на ходу, не слишком ли рано ободрять его, раскрывая свой волнующий секрет. Удивительно, но она застала короля не в постели. Он был полностью одет и сидел в кресле у открытого окна, положив ноги на удобную подставку. — Кэтрин! О, какая радость видеть вас! — Король протянул к ней руки, и она бросилась к нему. Генрих любовно поцеловал ее. Ей было не удержаться от искушения. — Есть кое-что, о чем мне очень хочется сообщить, — сказала она, опустившись рядом с ним на колени. — Думаю, я жду ребенка. Она в жизни не видела, чтобы у человека так освещалось радостью лицо. — Вы уверены? — спросил Генрих, крепко сжимая ей руку. — Почти. — Тогда я буду молиться, чтобы вы не ошиблись и Господь воистину благословил нас, — сказал король и звонко поцеловал ее. — Но никому не говорите пока ни слова. Пусть это будет нашим секретом.
Они перебрались в Данстейбл, а оттуда — в Мор, который, по словам Анны Парр, был еще одним местом изгнанничества королевы Екатерины. Кэтрин радовалась, что они проведут там всего две ночи. Наступил октябрь. Генрих каждый день спрашивал, уверена ли она по-прежнему, что ждет ребенка. Он исследовал ее тело в поисках признаков беременности, но их не было, впрочем, следов наступления месячных тоже не наблюдалось. Все-таки это были лишь первые дни, и когда они миновали, Генрих исполнился радостных надежд и начал опекать супругу сверх меры. Каждый каприз Екатерины неукоснительно исполнялся. Король подарил ей два набора четок, украшенных крестами и кистями, и золотую брошь с рельефным изображением Ноева ковчега в рамке из бриллиантов. Чтобы порадовать супругу, он даровал ее брату Джорджу пенсион в сотню марок и несколько поместий, в недавнем прошлом бывших собственностью аббатства Уилтон, а также назначил его и Чарльза джентльменами-пенсионерами, то есть членами своей личной стражи. Изабель получила в подарок деньги за хорошую службу Екатерине, а сэр Эдвард — поместье; верный знак, что его недавний проступок забыт. Восьмого октября в первый раз с июня выпал дождь. Услышав стук капель в стекло, Екатерина и ее фрейлины выбежали в сад и стали радостно кружиться, подставляя лица под освежающие струи. Церковь Мора в тот день была полна людьми, которые возносили Господу хвалы за долгожданную влагу. Засуха стояла ужасная, безжалостная жара изматывала, но теперь стало прохладнее и дышалось легче. Скоро они будут дома. По настоянию короля Екатерина путешествовала в носилках — берегла свое тайное сокровище. Теперь она была уверена, что беременна.
Глава 21
1540 ГОД Где-то в середине октября они прибыли в Виндзор. Генрих заверил Екатерину, что ей ничто не грозит; эпидемия утихла, и он приказал всем, кто контактировал с больными, покинуть город. Она с радостью спустилась из носилок за первой грядой оборонительных стен и прошла в свои апартаменты. Поездка была долгая, и она решила полежать, прежде чем вымоется и сменит одежду. Позже, облаченная в алое платье с черным бархатным партлетом и новомодным воротником-стойкой, она пришла ужинать с королем в столовую залу и удивилась, застав его сильно не в духе. — Что случилось? — спросила Екатерина, когда слуги вышли. — Вам нужно кое-что узнать, дорогая, и лучше вы услышите это от меня, чем от досужих сплетников. Екатерину пробрала дрожь. Господи, не допусти, чтобы кто-нибудь выдал тайны ее прошлого! Генрих вздохнул. Щеки его слегка покраснели. — Мне сообщили, ходят слухи, будто я сделал леди Анне Клевской ребенка, когда посещал ее в августе. Это, разумеется, неправда. Екатерина исполнилась облегчения. — Конечно нет, — сказала она. — Я бы ни на миг этому не поверила. Невозможно понять, что заставляло людей доверять таким сплетням, ведь никто не сомневался, кому принадлежит сердце Генриха, к тому же он никогда не любил Анну и не желал ее. — Зачем распускать такие слухи? — удивленно проговорила она, пока король накладывал ей куски цыпленка. — Леди Анна слегла в постель, у нее были проблемы с желудком. Мне сказали, ей теперь лучше. Но какие-то глупцы, сложив два плюс два, получили пять и растрезвонили повсюду, что она, мол, страдает от тошноты, свойственной беременным. Если этих негодяев найдут, они узнают, что такое гнев короля! — Генрих допил вино и заново наполнил кубок. — Вы не будете огорчаться из-за этого, дорогая? — Ничуть, — ответила ему Екатерина. Он поднес к губам ее руку: — Никаких признаков месячных? — Нет. — Она улыбнулась. — И не думаю, что таковые появятся.Через два дня они вернулись в Хэмптон-Корт. Ночью, пока Генрих храпел рядом с ней, Екатерина проснулась от спазматической боли внизу живота. С растущим смятением она осознала, что это предвещает. А встав, чтобы пойти в уборную, увидела кровь на простынях. Выглядело это так ужасно, что она бросилась в слезы. Генрих резко сел и сразу потянулся за мечом. — Что? — спросил он. — Что случилось? — Потом заметил кровь. — О, дорогая… — Мне так жаль, Генрих! Так жаль! — Она безутешно плакала. — Я хотела порадовать вас принцем. Я правда думала, что у меня будет ребенок. Простите… Король встал, напряженный, подошел к ней и обвил руками: — Может быть, вы были беременны. Очень часто младенцев теряют совсем рано. Это мне хорошо известно. Не расстраивайтесь, Кэтрин. Генрих утешал ее, пока она не успокоилась немножко, потом послал за Изабель. Та явилась в ночном халате и с распущенными по плечам седеющими волосами. — Вы нужны ее милости, — сказал ей король и ушел к себе. — О, Изабель… — Екатерина снова залилась слезами и между всхлипами объяснила, что произошло. — Нет ничего необычного в том, чтобы потерять первого ребенка, — сказала ей сестра. — Я сама теряла и знаю еще нескольких женщин, с которыми случилось то же самое. Обычно это происходит очень рано. Или, может быть, у тебя просто задержались месячные. Так бывает в начале семейной жизни. Из-за изменений и привыкания… гм… к физической стороне дела. Екатерина не могла признаться ей, что привыкла ко всему задолго до того, как вышла замуж за короля. — Но потом у меня родился здоровый малыш, — утешала ее Изабель, — и так бывает со многими женщинами. Не расстраивайся слишком сильно. А теперь давай найдем тебе ветоши и чистую ночную сорочку. — Она встала и увидела, что сестра снова плачет. — Ну не надо, — мягко проговорила Изабель. — Это не конец света. — Но он назвал меня Кэтрин! — Она не могла сдержать слез. — Что в этом плохого? — Он всегда называет меня дорогая или милая. Он рассердился на меня, я знаю. — Он вовсе не выглядел сердитым, когда разговаривал со мной, — сказала Изабель, копаясь в сундуке. — Но был весьма озабочен. Наверняка тоже расстроен, а когда люди расстроены, они не всегда ведут себя так, как от них ожидают. Китти, ты придаешь этому слишком большое значение. Вот, возьми это с собой в уборную. Я сейчас приду к тебе. Остаток ночи Изабель провела с ней. Спазмы усилились, и кровь лилась ручьем, но к утру все успокоилось. Однако Екатерина очень устала и решила весь день провести в постели. А потом проверить, как она, пришел Генрих со слезами на глазах и красной розой в руке. — Это вам, дорогая. Леди Бейнтон говорит, что все в порядке. Екатерина поднесла розу к губам; цветок пах восхитительно. — Вы простили меня? — Тут нечего прощать. — Генрих наклонился и поцеловал ее. Изабель стояла рядом и широко улыбалась. — Я же тебе говорила, — сказал она, когда король отправился на мессу. — Все в порядке. — Ты так добра, — произнесла Екатерина. — Я хочу, чтобы ты взяла вот это. — Она протянула руку к лежавшей на столике у кровати золотой броши. — В знак моей признательности. Изабель в недоумении уставилась на нее: — Мне, вероятно, не положено… — Ничего подобного! Я хочу, чтобы ты взяла. Ты лучшая сестра на свете. Изабель обняла Екатерину и приняла подарок. — Спасибо. — Она улыбнулась. — Я буду беречь ее.
Екатерина лежала в постели и пыталась уснуть, но не могла. В ее голове родилась идея: Господь, вероятно, наказывает ее за прелюбодеяния с Гарри и Фрэнсисом и сокрытие этого от короля. Но что поделать? Теперь уже сознаваться поздно, придется и дальше жить под гнетом вины и в страхе разоблачения. Она была уверена, что Гарри больше не увидит: он женился и не захочет выгребать из прошлого затухшие угли старого скандала. А вот Фрэнсис? Уже несколько месяцев о нем не было ни слуху ни духу, что утешало. Однако Дерем и по сию пору мог тешить себя убеждением, будто они муж и жена. Не случится ли так, что в какой-то момент, печалясь об утрате любимой, он сболтнет лишнее? Ее охватила паника. Она уже видела, как блестящее здание новой жизни рушится и погребает ее под обломками; как умирает любовь к ней Генриха, а вместе с тем исчезают и все блага, из этой любви проистекавшие. Это было невыносимо. Она чувствовала себя беспомощной. Хотела как-то защититься, но что можно было сделать, не выдав себя? Где хотя бы один человек, с кем она могла бы поговорить? Даже Изабель не подходила для этого. Том был вдали от двора, в противном случае Екатерина с отчаяния могла бы решиться и довериться ему. Хуже он о ней думать уже не мог. Но вдруг Том посчитал бы, что долг верности королю требует от него раскрыть ее секреты? Нет, с ним делиться нельзя; к тому же Том до сих пор не оправился от нанесенного ею удара. Екатерина лежала и пыталась унять страхи. «Все пройдет», — уверяла она себя, пройдет, как случалось и раньше. Она снова преувеличивает опасность. Если бы Фрэнсис хотел разоблачить ее, то наверняка уже сделал бы это.
Ближе к обеду леди Уильям Говард пришла помочь ей одеться. Пока они болтали о том о сем, Екатерина пришла в голову мысль: а не знает ли леди Уильям чего-нибудь о Фрэнсисе? — Вы не слышали, где теперь мистер Дерем? — спросила она, надеясь, что ее слова прозвучат как невинный вопрос о старом знакомом. — Мадам, он здесь, с милордом, — ответила леди Уильям. — О… — сказала Екатерина, запаниковав при мысли, что Фрэнсис совсем рядом, при дворе, и отчаянно ища предлог для оправдания своего интереса к этому человеку. — Миледи Норфолк просила меня выказать к нему доброту, и я намерена сделать это. — Он будет рад, — сказала леди Уильям. — Не сомневаюсь, но не говорите ему ничего. Я пока не решила, что должна сделать для него. Леди Уильям отступила назад, чтобы полюбоваться плодами своих трудов. — Я не скажу ни слова. Милорд обрадуется, услышав о вашей доброте. Он хорошего мнения о Дереме. Черт! Какая же она дура, распустила язык! Теперь придется оказать какую-нибудь милость Фрэнсису, и как он интерпретирует это? Вероятно, лучше просто забыть о высказанном намерении и надеяться, что леди Уильям поступит так же.
В начале ноября Ричард Джонс, директор школы Святого Павла в Лондоне, попросил об аудиенции с королевой. Встав на колени, он преподнес своей новой повелительнице книгу, глядя на нее в нетерпеливом ожидании одобрения. Екатерина поблагодарила его и открыла обложку. На титульном листе она прочла: «Рождение человечества, или Женская книга». Это был трактат о деторождении и повивальном деле, посвященный «нашей милостивейшей и добродетельнейшей королеве Екатерине», с наставлением всем людям использовать его с благочестием. Как ей удалось удержаться от слез, Екатерина не знала. Печаль об утраченных надеждах была еще свежа. Однако она через силу улыбнулась и поблагодарила мастера Джонса за комплимент. Когда он ушел, Екатерина вернулась в свои личные покои и отдала книгу Изабель: — Забери ее, пожалуйста. Возьми себе. Изабель обняла сестру и шепнула: — Постарайся не грустить долго о своей утрате. Потом в комнату вошли другие дамы, сестры отпрянули друг от друга, и Екатерина объявила, что послеобеденное время будет посвящено разучиванию новых танцевальных движений. Ближе к концу месяца Генрих взял ее на соколиную охоту, для чего они поехали в Уокинг, расположенный в графстве Суррей. Екатерина очень обрадовалась. С ними отправилась небольшая верховая свита и четверо тайных советников: мрачный лицом граф Саутгемптон, лорд — хранитель личной печати; сэр Джон Рассел, лорд — главный адмирал; галантный сэр Энтони Браун, главный конюший, и сэр Энтони Уингфилд, вице-камергер. С ними были месье Шапюи и месье де Марильяк, императорский и французский послы. — Его величество выглядит новым человеком, — сказал Екатерине сэр Энтони Браун, когда они наблюдали, как смотритель королевских соколов прикрепляет путы птицы к запястью Генриха. — Он помолодел, женившись на вашей милости. Это было правдой. Генрих завел себе новый режим дня. Он вставал между пятью и шестью часами, слушал мессу в семь, потом выезжал с Екатериной на соколиную охоту, в десять подавали завтрак. После полудня король запирался в кабинете со своими советниками и занимался государственными делами, а Екатерина и ее дамы проводили досуг с джентльменами из личных покоев. К счастью, среди них не было Тома Калпепера. «Ему лучше, — сообщил Генрих, — но его удерживают вдали от двора неотложные дела». Она подумала, не отослал ли его король прочь намеренно, уловив чувства Тома к ней. Свои Екатерина старательно подавляла, зная, что думать о нем как о поклоннике теперь не имело смысла. — За городом мне гораздо лучше, чем в Лондоне, — признался Генрих, когда однажды утром они рысцой выехали из конюшни. — Нога беспокоит меньше, и, думаю, я сбросил вес. Трудно было судить, правда ли это, потому что его костюмы имели толстую подкладку и пышные рукава, но выглядел он свежее. «Все благодаря чистому воздуху», — подумала она. После жаркого лета они наслаждались солнечными днями мягкой осени. Однажды Екатерина сидела в гостиной и перебирала струны лютни, когда к ней со встревоженным видом подошла Изабель: — Кэт Тилни здесь и просит встречи с тобой. Она ищет место при твоем дворе. — Я уверена, что смогу что-нибудь для нее подыскать. — Екатерина улыбнулась. — С ней мистер Дерем, — добавила Изабель. Сердце Екатерины камнем упало вниз. — Чего ему нужно? — прошипела она резче, чем рассчитывала. — Ничего, мадам, — ответила Изабель. — Он сопровождает ее. И со мной не говорил. — Приведи ее одну! — приказала Екатерина. — Скажи ему, что он может перекусить в буфетной и идти восвояси. — Она молилась, чтобы Фрэнсис не потребовал встречи с ней и не имел дурных намерений, явившись сюда. К ее облегчению, Кэт пришла одна и сделала реверанс. Екатерина тепло поприветствовала ее и спросила о здоровье матери. Кэт ответила, что той лучше, и поэтому она захотела вернуться ко двору. — Ты будешь одной из моих камеристок, — сказала Екатерина, думая про себя: только бы Джоан Балмер не прознала об этом в далеком Йорке. — Мег покажет тебе спальню девушек и объяснит твои обязанности. Помни, я требую строгого соблюдения приличий и верности от тех, кто служит мне. — Она задержалась взглядом на Кэт, рассчитывая, что та правильно поймет ее. Эта девушка была свидетельницей вещей, о которых ее новая госпожа предпочла бы забыть. — Конечно, мадам. — Кэт улыбнулась. — Я такблагодарна за возможность служить вам. — Ты можешь отправить мистера Дерема обратно в Ламбет, — продолжила Екатерина; ей нужно было точно знать, что он покинул двор. — Я передам ему, мадам, — с понимающей улыбкой ответила Кэт.
Екатерина до сих пор не виделась с детьми короля. У трехлетнего Эдуарда был собственный двор. Как и его сводная сестра Елизавета, он проводил время по очереди в разных дворцах, предназначенных для воспитания детей короля; все они располагались в предместьях Лондона, где воздух был чище и здоровее, чем в городе. Екатерина надеялась вскоре познакомиться с ними обоими. Генрих обещал, что это произойдет; он очень любил детей и хотел, чтобы они узнали свою новую мачеху, однако эпидемия и поездка по стране помешали ему послать за ними. — Скоро я велю привезти их, — сказал он. Она побаивалась встречи со старшей дочерью короля леди Марией, которая была на пять лет старше ее. И хотя молва превозносила Марию за набожность, благочестие и доброту, говорили также, что она ожесточена из-за развода родителей и отсутствия мужа. Мария нашла утешение в вере, которую разделяла с Екатериной, но, судя по слухам, жила как монахиня. Казалось, она не вольется в ближний круг королевы, где любили веселье и разные удовольствия, а потому Екатерина ничего не сделала, чтобы заручиться дружбой Марии, даже не написала ей. В результате, когда в начале декабря ее падчерица приехала с визитом ко двору, Екатерина была полна дурных предчувствий. Роскошно одетая в бархат и меха, сверкая украшениями и меньше всего походя на монахиню, Мария вошла в приемный зал Генриха и сделала перед отцом низкий реверанс. Это была невзрачная молодая женщина с рыжими волосами, вздернутым носом, поджатыми губами и напряженным взглядом. Она смотрела так, будто была близорука, и держалась с достоинством, но при этом робела. Поднявшись из реверанса, Мария внимательно посмотрела на королеву. Та почувствовала себя под прицелом и нервно улыбнулась. Мария ответила ей, хотя улыбка затронула только ее губы. — Я оставлю вас, леди, чтобы вы познакомились ближе, — сияя, сказал Генрих и покинул апартаменты королевы. Дамы сразу собрались вокруг Марии, осыпали ее любезностями и окружили заботами, чем обычно пользовалась Екатерина, так что остаток дня гостья была центром внимания. Королева сидела в стороне, по собственному выбору, чувствовала себя немного заброшенной и от души надеялась, что Мария не задержится при дворе на три дня. Что касается двух фрейлин, которые прибыли с ней, то они вообще игнорировали Екатерину! В какой-то момент, когда она сидела за вёрджинелом и с силой жала на клавиши, чтобы инструмент звучал как можно громче, Мария подошла к ней: — Можно мне посидеть с вашей милостью? — Конечно, — сдержанно ответила Екатерина. — Я слышала, вы друг истинной веры, — сказала Мария. — Она нуждается в такой защитнице в эти трудные времена. — Верно, — коротко ответила Екатерина, не желая смягчаться. — Я была рада услышать, что его милость мой отец счастлив в браке, — продолжила Мария. — Надеюсь, ваша милость тоже довольны. Если вам когда-нибудь понадобится совет или помощь, я с радостью откликнусь. Вы очень молоды и неопытны в придворных обычаях. Моя мать была королевой и прекрасным примером для всех. — Благодарю вас, — сказала Екатерина, злясь, потому что Мария явно считала ее недотягивающей до высокого идеала, каким была ее мать, и намекала, что юность и неопытность не позволят ей быть хорошей королевой. — Мне почти двадцать, и у меня в наставниках сам король. Вы знаете, как он внимателен. — Да. Я знаю его гораздо дольше, чем ваша милость, — сказала Мария, чем еще сильнее разожгла ярость Кэтрин. Не успела она придумать едкий ответ, как к ним подошла и села рядом леди Саффолк. Она взяла Марию за руку и сказала: — Моя почтенная родительница очень любила мать вашей милости. Вам будет грустно услышать, что она умерла в прошлом году. — Это действительно печальная новость, — отозвалась Мария, и глаза ее наполнились слезами. — Я любила вашу матушку. Она всегда была ко мне добра. И моя праведная мать обожала ее. Они предались воспоминаниям, к которым подключились и другие дамы, и Екатерина опять почувствовала себя изгоем. У нее не было ничего общего с Марией. Кроме веры, ничто их не связывало. Обязанность придворных дам — прислуживать ей и развлекать ее, а не бесконечно лебезить перед Марией! Екатерина так и сказала Генриху за ужином. — Они игнорировали меня бо́льшую часть вечера, — пожаловалась она. — Простите их, дорогая. Некоторые из них знали мою дочь с детства. На мгновение он задумался, словно вспомнил то далекое время, когда был молод и женат на Екатерине Арагонской, обожал свою дочь и продолжал надеяться на сына. Если бы та родила этого сына, история пошла бы по совершенно иному пути. Екатерина, наверное, сегодня здесь не сидела бы. — Дело не только в моих дамах! Сама леди Мария обращалась со мной без должного уважения. А две фрейлины, которых она привезла с собой, просто не обращали на меня внимания! — Я понимаю, — вздохнул Генрих. — Хорошо, если вы хотите, Кэтрин, я отправлю Марию к ее брату Эдуарду в Эшридж. Я скажу ей, что мы уезжаем в Отлендс. И прикажу, чтобы этих фрейлин уволили. — Благодарю вас, Генрих, — сказала Екатерина, кладя ладонь на его руку. Король выглядел несчастным. Разумеется, ему было приятно видеть дочь. Екатерина почувствовала неловкость оттого, что заставляет его отослать Марию прочь. Но та сама виновата. Нужно было объяснить своим фрейлинам, что те должны оказывать должное почтение королеве, и самой не говорить с ней таким покровительственным тоном. Утром Генрих пришел на конюшню с опозданием. Следом за ним появился месье Шапюи. — Мои извинения, дорогая, — сказал Генрих, видя, что Екатерина ждет его, одетая в зеленый бархатный костюм для верховой езды. — Я буду через минуту. — Генрих повернулся к послу. — Значит, леди Мария просила вас вступиться за ее фрейлин? Король положил руку на плечо Шапюи и отвел его немного в сторону от охотничьей партии. Но не слишком далеко, так что Екатерина слышала, о чем шла речь. — Ваше величество, она опасается, что приказание отослать их прочь исходит целиком от королевы. — Мы не позволим никому выказывать неуважение к ее милости, — возразил Генрих. — Она утверждает, что это было сделано ненамеренно, сир, — отозвался Шапюи. — Ну может, я был слишком строг. Я отменю распоряжение. Скажите фрейлинам, чтобы готовились к отъезду с леди Марией завтра. Гнев Екатерины тоже иссяк. Она не стала возражать против решения Генриха, когда тот присоединился к ней, и они вместе выехали в парк. Он отсылал Марию. Этого было достаточно. Однако во время охоты ее смутило замечание месье де Марильяка, обращенное к Шапюи, что, мол, чистая атмосфера, окружающая леди Марию, удивительным образом контрастирует с затхлым духом двора. Неужели он намекал на нее? Она едва не спросила Марильяка напрямик, но вовремя сдержалась. Лучше помалкивать о таких вещах. Чтобы порадовать Генриха, на следующее утро, когда Мария уезжала, Екатерина подарила ей украшенный драгоценными камнями помандер. — Это знак моего уважения, — сказала она своей падчерице. Мария, которая, прощаясь, едва улыбнулась, пришла в замешательство: — Вы очень добры, ваша милость. Это прекрасный подарок, и я буду беречь его. Генрих осклабился, довольный милостивым жестом супруги. Купаясь в его одобрении, она решила послать что-нибудь Елизавете тоже и выбрала из своего огромного запаса украшений несколько красивых бусин и золотую брошь с камеей, усыпанную рубинами и изумрудами, — яркие вещицы, которые понравятся девочке. Король пришел в восторг. — У вас щедрое сердце, дорогая, — сказал он ей.
Отлендс, укутанный декабрьским снегом, на фоне мглистого неба, прорезанного лучами низкого солнца, казался волшебным местом. Трудно поверить, что прошло уже больше четырех месяцев с того момента, как они с Генрихом поженились здесь. Чтобы отметить возвращение, он подарил ей пару четок. Приятно было снова попасть сюда и насладиться краткими днями уединения, как во время медового месяца. Омрачало их жизнь только присутствие Тома Калпепера. Он закончил дела, удерживавшие его вдали от двора, и постоянно находился при Генрихе, который относился к нему как к сыну. Екатерина соблюдала вежливость, когда ей приходилось общаться с Томом, но старалась не встречаться с ним глазами, чтобы Генрих не заподозрил, будто между ними что-то было. Она постоянно чувствовала на себе взгляд Тома и хотела, чтобы тот отвернулся. Ее до сих пор влекло к нему, по-мужски красивому и полному сил, но она, как верная супруга, гнала от себя всякие сравнения его с королем. Том не мог дать ей того, что давал Генрих, который к тому же так сильно ее любил. Но, с другой стороны, нашептывал у нее в голове предательский голосок, Генрих не мог дать ей того, на что был способен Том! Кэтрин расстраивала мысль, что ей, вероятно, никогда больше не иметь молодого любовника. В Отлендсе они провели три недели, а на Рождество отправились в Хэмптон-Корт. По прибытии туда Генрих сделал Екатерине сюрприз: подарил нитку крупного жемчуга, за что она отблагодарила его множеством поцелуев. Он пребывал в отличном настроении и каждый день обедал и ужинал в ее покоях. Рождественские торжества проходили еще великолепнее, чем в прошлом году, когда все ожидали приезда Анны Клевской. Фанфары звучали всякий раз, как король с королевой появлялись на пиру или празднике. Королевские музыканты играли для придворных на цитрах, барабанах и виолах; мужчины и дети из Королевской капеллы пели подобно ангелам; устраивали игры и танцы, выезжали на охоту; герольды раздавали всем щедрые дары короля. Кэтрин была счастлива как никогда и радостно принимала участие в общем веселье.
Глава 22
1541 ГОД В день Нового года Генрих разбудил Екатерину поцелуем и привлек к себе. Она отдалась ему с готовностью и довольной улыбкой, уже привыкнув к их близости. Его стареющее тело не ужасало ее, к тому же король знал, как доставить удовольствие женщине. Будь он лет на двадцать моложе, лучшего любовника было бы не сыскать. После, сев в постели, он преподнес ей восемь изысканных украшений в качестве новогоднего подарка: гривны с чистыми, плоско ограненными бриллиантами, нити жемчуга, квадратную подвеску с гроздьями бриллиантов и жемчужин и великолепную черную бархатную муфту, подбитую соболями и украшенную рубинами, сотнями перлов и тонкими золотыми цепочками. Екатерина вскрикнула от восторга при виде этих сокровищ и заметила слезы на глазах короля. Тем утром она сидела рядом с супругом во время долгой церемонии поднесения даров и любовалась прекрасными вещами, которые вручали Генриху придворные, а затем отправилась в свой приемный зал, чтобы раздать подарки дамам и слугам. Маргарет Дуглас затрепетала от восторга, получив бусы из венецианского стекла, а Изабель громко ахнула при виде поднесенного ей пояса с золотыми накладками. За обедом Генрих был разговорчив. — Я отправил деньги леди Марии и леди Елизавете. Они лучше меня знают, на что их потратить. О, и еще я наградил ваших менестрелей и музыкантов, дорогая. — Это хорошо. — Екатерина улыбнулась, поливая соусом курицу на своей тарелке. — Вы так добры ко мне, Генрих. Король откинулся на спинку кресла, преданно глядя на нее: — Дорогая, леди Анна живет сейчас неподалеку, в Ричмонде, и я подумал, мы могли бы пригласить ее ко двору на праздники. Она проявила уступчивость в отношении развода и, когда я сказал ей о нашем браке, не приревновала к моему счастью. Екатерина в принципе не возражала против появления Анны при дворе, эта женщина всегда была ей симпатична, но предвидела, что между ними возникнет некая неловкость. Разве могло быть иначе, ведь она сместила Анну с трона? К тому же принцесса Клеве выросла при дворе; та могла посчитать, что Екатерина недостойна быть королевой. Она улыбнулась и сказала: — Разумеется, леди Анна должна приехать. Генрих с интересом смотрел на нее. — Мне кажется, или вы немного поправились? — спросил он. Екатерина вспыхнула. Она действительно набрала вес из-за обильных трапез, которые ей подавали все последние месяцы. Дамы уже не могли зашнуровать на ней платья так туго, как делали это летом. Но она надеялась, что Генрих этого не заметит. — Не в том ли причина, что вы ждете ребенка? — нетерпеливо спросил он. — Я точно знаю, что нет, — ответила она, жалея, что разочаровывает его. — Ничего, — живо откликнулся король. — Я продолжу жить надеждой. Это прозвучало упреком. Ему было почти пятьдесят, и, в отличие от Екатерины, он не мог тратить время понапрасну. — О, я тоже! — воскликнула она. — Я молюсь об этом каждый день. — Тогда мы не должны упустить ни единого шанса, — сказал Генрих, подмигнув ей, и все снова стало хорошо.Подарки леди Анны прибыли раньше ее — два огромных коня в бархатных попонах. Генрих пришел в восторг. — По крайней мере, она с умом тратит содержание, которое я ей выделяю! — заметил он, поглаживая гривы лошадей на глазах у королевы и группы придворных, которые стояли на конюшенном дворе и любовались прекрасными животными. — Это отличные верховые лошади! Анна прибыла в тот же день ближе к вечеру. Извещенная о приезде гостьи, Екатерина отправила герцогиню Саффолк и графиню Хартфорд встретить ее и проводить в покои королевы. Генрих распорядился, чтобы Анне отвели просторные апартаменты с богатой обстановкой. Пусть у нее будет все самое лучшее. Екатерина отметила про себя, как быстро его неприязнь к бывшей супруге сменилась почтением. В ожидании Анны она нервно расхаживала взад-вперед по своим покоям, одетая в платье из серебристой парчи, — переживала, как пройдет встреча с предшественницей. Екатерина не могла забыть, что была фрейлиной Анны и предала доверие своей госпожи. Вызвав лорд-канцлера Одли и своего дядю графа Сассекса, занимавшего пост лорда — главного камергера, она спросила у них совета, как ей обращаться с гостьей. — Ваша милость теперь королева, — сказали они ей. — Леди Анна поймет это. Не бойтесь. Екатерина вошла в приемный зал и встала на помосте, дамы собрались вокруг нее. Она не стала садиться, чувствуя, что это неуместно, учитывая высокий статус Анны как принцессы Клеве. Потом объявили о приходе гостьи, и та, заставив Екатерину обмереть, опустилась перед ней на колени с таким почтением и церемонностью, словно была самой незначительной дамой при дворе. — О, прошу вас, леди Анна, не вставайте передо мной на колени, пожалуйста! — воскликнула Екатерина и наклонилась, помогая гостье подняться на ноги. — Я так рада вас видеть! И от души надеюсь, что мы с вами подружимся. Вы всегда были доброй госпожой для меня, и теперь я хочу оказать вам ответную милость. Она обняла и поцеловала Анну. Та отреагировала тепло, и Екатерина впервые подумала, что, видимо, развод стал для этой женщины желанным облегчением. В ее взгляде не читалось затаенной обиды, только доброе расположение. — Дорогу его величеству королю! — провозгласил церемониймейстер, и в зал, широко улыбаясь, вошел Генрих. — Добро пожаловать, Анна, моя дорогая сестра! — пробасил он, принял в объятия свою бывшую супругу и припечатал губы к ее губам. — Вижу, вы, дамы, прекрасно ладите. Кони великолепны, не могу передать, как я вам благодарен. Любовь моя… — Генрих отпустил Анну, обнял Екатерину и горячо поцеловал ее, заставив покраснеть. Может быть, он хотел опровергнуть слухи и показать всему миру, которую из двух по-настоящему любит. Под звуки фанфар король проводил обеих дам в приемный зал на ужин. Екатерина шла справа, Анна — слева. Свежий аромат хвои наполнял комнату; на праздничных столах и окнах, украшенных венками из сосновых шишек, высушенных с пряностями апельсинов и можжевеловых ягод, мерцали свечи. Екатерина села рядом с Генрихом за главный стол. Анну усадили на место ниже солонки, но все-таки достаточно близко, чтобы она могла разговаривать с королевой, королем и леди Марией, приехавшей ко двору. Бывшая королева улыбалась всем вокруг и выглядела абсолютно беззаботной, как будто между ней и Генрихом не произошло никакого разлада. Ужин прошел весело и оживленно, все много смеялись, и выпито было немало. Екатерина поймала себя на том, что получает удовольствие от общества Анны, какого до сих пор не знала. Ей даже удалось обменяться шутками с Марией, которая вела себя гораздо дружелюбнее и уважительнее, чем в прошлый раз. Екатерина взахлеб рассказывала обеим гостьям о роскошных торжествах, которые были запланированы на Двенадцатую ночь, и увлеченно обсуждала с ними всегда волновавший ее вопрос об одежде, с удовольствием отметив, что на Анне английское платье, и подарки, которые получила от короля. — А танцы будут? — спросила Екатерина, которой не терпелось подняться и начать танцевать. — О, Генрих, прошу вас, скажите, что мы можем потанцевать. Я так люблю, когда вы ведете меня перед всем двором. Король улыбнулся ей, но покачал головой: — Думаю, я немного устал и предпочел бы лечь в постель. Но вы, дамы, можете потанцевать вместе. — Он дал знак музыкантам на галерее, и те начали играть. — О, благодарю вас, Генрих! — воскликнула Екатерина. — Не задерживайтесь слишком, — сказал он, погладил ее по щеке и поднялся уходить. Все встали, но король махнул рукой. — Сидите, друзья! Наслаждайтесь остатком вечера. Когда Генрих ушел, Екатерина и Анна сели рядом, продолжили разговор и допили вино. Как только кубки опустели, Екатерина протянула руку: — Миледи Анна, прошу вас, потанцуйте со мной! — Она была немного навеселе, и ей не терпелось спуститься с помоста на пол. Анна как будто не могла решиться, и Екатерина подумала, не поставила ли она свою новую подругу в неловкое положение. Едва ли ей хоть раз приходилось видеть Анну танцующей. Однако та встала и произнесла, беря руку Екатерины: — С удовольствием. — Павана! — крикнула Екатерина, и музыканты завели медленную, торжественную мелодию. Юная королева с наслаждением демонстрировала свое искусство в танцах и заметила, что Анна постепенно обретает уверенность. Когда Екатерина крикнула, чтобы играли резвый бранль, та живо включилась в танец, явно получая от этого удовольствие. Все хлопали, и Екатерина попросила джентльменов выводить на площадку своих дам. Скоро зал наполнился парами. Вечер прошел чудесно, и в завершение его Кэтрин счастливая завалилась в постель. На следующий день Генрих пригласил Анну отобедать с ним и королевой в его личных покоях, и снова разговор тек рекой под шутки и смех. После этого Екатерина и Анна играли в бирюльки в личных покоях королевы. Их забаву прервало появление церемониймейстера с двумя крошечными диванными собачками. Вошедший поклонился Екатерине: — Ваша милость, король просил меня вручить вам эти подарки. — Он передал ей поводки и мешочек, из которого она вынула кольцо с рубином и растерялась: чем ей восхищаться прежде? — Оно превосходно! — воскликнула Екатерина, положив кольцо на ладонь. Анна при этом потянулась вперед, чтобы рассмотреть его. Щенки робко обнюхивали тростниковую подстилку на полу. — О, они восхитительны! — продолжила восторгаться Екатерина и сгребла собачек себе на колени, где те уселись на задние лапки, дрожа от страха, как будто испугались ее. — Глупышки, не нужно бояться Кэфвин, — просюсюкала она, потерлась носом о гладкие головки щенков и прикоснулась губами к шелковистому меху. Потом подняла взгляд. — Анна, они вам нравятся? Та протянула руку погладить собачек. — Да. Такие милые. — Они ваши! — порывисто заявила Екатерина и пересадила щенков на колени Анны. — О, но я не могу… — запротестовала та. — Я хочу, чтобы вы их взяли, — настояла на своем королева. — И кольцо! Анна не могла скрыть удовольствия. Возможно, она тоже боялась их встречи. — Спасибо вам! — Гостья наклонилась и поцеловала Екатерину. — Я так благодарна! Екатерина повернулась к церемониймейстеру: — Прошу вас, скажите спасибо его величеству за доброту ко мне и передайте, что я отблагодарю его как полагается, когда увижусь с ним позже. В целом вечер оказался весьма приятным, и когда он закончился, Екатерина с сожалением попрощалась с Анной.
Через неделю Екатерину встревожили разговоры фрейлин о том, что, мол, ходят слухи, будто король может взять Анну обратно и снова сделать своей королевой. Она собиралась войти в свои личные покои, дверь в которые была открыта настежь, но остановилась, услышав голоса девушек. — Наверное, считается, раз он послал ей подарки, значит сожалеет о разводе. — Это была Элизабет Фицджеральд. — Но, судя по тому, как он заботится о королеве, это невозможно! — заявила Дамаскин Страдлинг. — Думаю, люди пришли к таким заключениям, потому что леди Анна выглядела такой счастливой в обществе короля, а ее милость до сих пор не enceinte[149], — встряла в разговор Маргарет Гарниш. — Это абсурд! — возразила Люси Сомерсет. — Король никогда не бросит королеву, он слишком сильно любит ее. Екатерина обрадовалась, услышав это, но ей было обидно: отчего люди склонны верить, будто Генрих может ее бросить? Разве им не очевидно, что он думает о ней? Они, верно, слепы!
Через неделю к Екатерине явился Норфолк. Он застал ее за разучиванием новых танцевальных шагов в личных покоях. Герцог по-прежнему купался в лучах славы, оттого что теперь был дядей королевы, и до краев полнился одобрением. — Надеюсь, Кэтрин, ты поможешь мне, — сказал он, когда она предложила ему сесть. — Год назад умер капитан крепости Гин, и я хотел получить этот пост для лорда Уильяма, но пройдоха Кромвель помешал мне. Должность до сих пор никем не занята, и я был бы тебе очень признателен, если бы ты замолвила перед королем словечко за лорда Уильяма. — Конечно, — согласилась она, всегда готовая порадеть на пользу своей родни. В ту ночь в постели она передала просьбу дяди Норфолка королю. — Я люблю лорда Уильяма, и он жаждет служить вам, — добавила она. — Для вас — все, что угодно, дорогая, — ответил Генрих, приятно утомленный от любовных трудов. — Я отдам распоряжение. Это было так легко, до головокружения. Нет, Екатерина не рвалась к власти, но хотела использовать свое влияние во благо. Она поклялась себе, что никогда не станет злоупотреблять им. И когда лорд Уильям пришел благодарить ее за участие, затрепетала: она осчастливила его, получила для него вожделенный пост, и ей это почти ничего не стоило. Вот что самое приятное в патронаже. Через три дня Екатерине представилась еще одна такая же возможность. Ее сестра Маргарет пришла к ней и с извиняющимся видом сказала: — Ваша милость, я снова жду ребенка и прошу у вас разрешения уехать домой. Я все время чувствую усталость, меня постоянно тошнит, и малыш Чарльз нуждается во мне, он опять заболел. Второй сын Маргарет не отличался крепким здоровьем, хотя старший Мэтью был веселым и бойким мальчуганом. — Конечно, ты можешь ехать, — сказала Екатерина, обнимая ее. — Просить тебя остаться было бы эгоизмом с моей стороны. Означает ли это, что ты покидаешь мой двор навсегда? — Да, — печально ответила Маргарет. — Мне очень жаль. Я буду скучать по тебе, моя дорогая сестра. После ухода Маргарет Екатерина задумалась, кто мог бы сменить ее. За ужином в тот вечер она заговорила об этом с королем. — Почему бы не назначить леди Рочфорд? — спросил тот. — Она весьма опытна, служила трем последним королевам. — Конечно, — быстро согласилась Екатерина, опасаясь, как бы супруг не поинтересовался, отчего она не пригласила леди Рочфорд на службу с самого начала. — Я спрошу ее сама, с вашего позволения. — Безусловно. — Генрих улыбнулся и принялся за паштет из оленины.
Джейн стояла перед Екатериной, держась чопорно. Она прибыла утром из отцовского поместья в Эссексе. Екатерина думала про себя: интересно, чем занималась ее забытая подруга последние шесть месяцев, ведь ей, вероятно, было нелегко уйти в тень после стольких лет придворной службы. Неудивительно, что Джейн выглядела такой отчужденной. — При моем дворе освободилось место. Я хотела бы предложить тебе должность леди личных покоев, — сказала Екатерина. — Его величество порекомендовал тебя. Джейн улыбнулась своей кошачьей улыбкой: — Я с благодарностью принимаю ваше предложение, мадам. — Мне жаль, что наша дружба прекратилась, — продолжила Екатерина, желая наладить отношения, прежде чем Джейн приступит к своим обязанностям. — Я уверена, ты понимаешь, что обстоятельства оказались сильнее меня. Моя жизнь изменилась прежде, чем я успела осознать это. Но надеюсь, мы сможем снова стать друзьями. — Таково и мое желание, — с улыбкой ответила Джейн. — Я всегда была глубоко привязана к вашей милости. Могу я спросить о нашем общем друге? Все ли с ним в порядке? Екатерина похолодела, услышав, как Джейн заговорила о Томе Калпепере в таком тоне. — Полагаю, что да. Я мало общаюсь с ним теперь, хотя король имеет о нем более высокое мнение, чем когда-либо, и, надеюсь, сохранит его навсегда. — Екатерина рассчитывала, что Джейн уловит намек и внемлет предостережению. Она как могла старалась забыть Тома. Это было нелегко, притом что он часто прислуживал королю и попадался ей на глаза примерно через день. Екатерина не хотела, чтобы у Джейн сложилось неверное впечатление. — Я рада слышать это, — сказала Джейн. — Мне он всегда был симпатичен, как вы знаете. И я не причиню ему вреда. Она поняла намек. Екатерина улыбнулась и успокоилась.
В начале февраля Генрих отправился в Лондон заниматься делами государства, оставив королеву и ее двор в Хэмптон-Корте. Впервые после женитьбы они разлучились, и Екатерина поймала себя на том, что скучает по супругу. Оказывается, она сильно привязалась к нему, а потому испытала искреннюю радость, когда король вернулся, проведя без нее три ночи. Дней через десять он пожаловался, что чувствует озноб и ему нехорошо. Екатерина в тревоге ждала в своих покоях прихода докторов с докладом. — Это легкая трехдневная лихорадка, — объявил доктор Баттс. — Лучшее средство от нее — алкоголь, и мы порекомендовали, чтобы его милость пил как можно больше вина. — Ему скоро станет лучше? — спросила она. — Разумеется, мадам. С ним такое уже случалось, и он поправился. Не нужно волноваться. Какой бы слабой ни была лихорадка, а Генрих чувствовал себя неважно и не появился на представлениях масок, которые устраивали в Хэмптон-Корте два вечера подряд. Екатерине пришлось возглавлять их одной, сидя в кресле небольшого размера рядом с огромным пустым троном короля. После этого, к счастью, лихорадка отступила, и Генрих поправился. — Думаю, мне нужно посетить свои замки на побережье против Франции, чтобы проследить за ремонтом крепостных валов, а то, судя по докладам, они местами обрушились, — объявил король однажды вечером, подняв глаза от книги. Сидевшая напротив него с шитьем Екатерина, услышав это, обрадовалась. — Мне особенно важно осмотреть укрепления Дувра, — продолжил Генрих. — Вы должны поехать со мной, дорогая. Мы превратим это в отпуск. Они никуда не поехали. На следующее утро Генрих пожаловался на боль в ноге. Сняв повязку, он показал Екатерине опухшую, почерневшую, страшную на вид голень. Она в ужасе задержала дыхание. — Рана снова затянулась, — морщась, объяснил он. — Мои врачи пытаются держать ее открытой, что лучше для моего здоровья, но она внезапно закрылась. — Генрих втянул носом воздух. — Ей-богу, Кэтрин, это мучительно и очень опасно. Лет пять или шесть назад такое уже случалось, и я думал, что умру. Я вернусь в свои покои и позову врачей. Он попытался встать, но, потерпев поражение, грузно опустился в кресло; на лбу у него выступил пот. — Оставайтесь здесь, Генрих! — в тревоге крикнула Екатерина. — Я позову врачей. — Нет, я пойду к себе, — настоял на своем король и с трудом поднялся на ноги. Как ему это удалось, Екатерина не понимала. Кликнув из-за дверей стражников, он с их помощью надел ночной халат и чепец, после чего ему помогли добраться до спальни, а Екатерина, обхватив себя руками за плечи, беспомощно наблюдала за этим. — Если я чем-нибудь могу помочь вашей милости… — начала было она, но Генрих заставил ее умолкнуть. — Вы не должны переживать из-за меня, Кэтрин. Со мною все будет хорошо. И король ушел. Слушая, как стихают вдали его тяжелые шаги, она заплакала.
Позже тем же утром к ней пришли доктора. Екатерина ощутила слабость, увидев их мрачные лица. — Ваша милость, вести недобрые, — начал Баттс. — Мы опасаемся за жизнь его милости. Язва закупорена, у него жар, и он почернел лицом. Опасность не столько в лихорадке, сколько в ноге. Язва не залечивается, потому что его милость очень тучен, пьет и ест слишком много. Мы вскрыли нарыв и выпустили оттуда жидкость, чтобы снять опухоль, но это был весьма болезненный процесс. Будем молиться, чтобы это произвело нужный эффект. Она очень испугалась и едва сдержала слезы. Мысль о возможности потерять Генриха, обожавшего ее супруга, была невыносима. Что с ней станется? Как поступают с овдовевшими королевами? Так же, как поступил Генрих с Анной Клевской? Она представила себя обеспеченной деньгами, землями и великолепными домами. Но, кроме того, перед ее мысленным взором предстал и другой образ: она покидает двор во вдовьем трауре, больше не королева, лишенная любви и защиты почившего супруга. А потом Екатерина увидела себя снова невестой, целующей Тома на паперти церкви. Нет! Нельзя представлять себе такие вещи. Она любит Генриха, любит! И хочет, чтобы он выздоровел. — О, я буду молиться за него! — вскричала она. — А вы, добрые господа, сделайте все, что в ваших силах, чтобы его милость поправился. — Мы сделаем, мадам, — заверили ее доктора. — А вам нужно отдохнуть. Это испытание и для вас тоже. Господь внял мольбам Екатерины. Через три дня, во вторник на Масленой неделе, Генрих позвал ее к себе. Ему стало лучше, и он сидел в кресле у очага, положив больную ногу на подставку, но был сам не свой. Супруг не протянул к ней рук, как делал обычно, а лишь печально улыбнулся. — Увы, Кэтрин, кому может довериться человек? — со вздохом проговорил король. — Я правлю жалкими людьми, которые вскоре станут такими ничтожными, что не будут иметь ни храбрости, ни силы противостоять мне. Екатерина не имела понятия, о чем он говорит. — Что случилось? — в тревоге спросила она и подскочила, когда из-за кресла Генриха выполз шут Уилл Сомерс. — Советники Гарри развлекались, управляя Англией без него, — прокряхтел он, скорчив гримасу. — Убирайся! — рявкнул Генрих. — Проваливай отсюда, негодяй! Уилл со скорбным выражением на лице ускакал. Он знал, насколько далеко может заходить со своим господином. — Это правда? — спросила Екатерина, когда шут скрылся с глаз. — Более или менее, — прорычал Генрих. — Большинство членов моего Тайного совета под предлогом службы мне заботятся только о личной выгоде. Я знаю их уловки. Они все борются за превосходство, каждый хочет возвыситься над другими и через это управлять мною. Но я отличаю хороших слуг от льстецов и, если Господь даст мне здоровье, расстрою их планы. — Он распалял сам себя. Ему это было вредно. — Вы скоро поправитесь, — утешительно произнесла она, — и тогда, я уверена, разберетесь с вашими обидчиками. — Хм… — Генрих задумался. — Хотите, я позову музыкантов? — спросила Екатерина. — Нет. Это испугало ее. Музыка была одной из страстей короля. — Может быть, тогда я сама вам сыграю? — Кэтрин, вы очень добры, но я сейчас не в настроении. Нога так болит. Когда я думаю, каким был прежде, скакал верхом, бился на турнирах, участвовал в состязаниях, стоило мне только захотеть… А теперь едва способен обойти свою комнату. Черт побери, мне это надоело, надоело болеть, надоели советники — осточертело все это! Как подумаю, сколько я всего сделал для своих людей и что получил взамен, так во мне закипает кровь. Я отрублю им всем головы, если они хотя бы пискнут о том, чтобы снять ношу с моих плеч! Он продолжал этот бессвязный ропот, не имевший для Екатерины никакого смысла. Она даже забеспокоилась, не началась ли у него снова лихорадка. Тут дверь открылась, и вошел Том Калпепер с подносом в руках. — Простите за вторжение, ваша милость, — сказал он, с бесстрастным лицом поставил поднос и поклонился. — Я пришел накрыть стол к обеду. — Вы ведь не предадите меня, а, Том? — жалобно спросил Генрих. Том, который в этот момент разглаживал на столе скатерть, оторопел: — Конечно нет, сир. — А остальные предают! — прорычал король и огляделся, будто искал, кому бы поддать. — Клянусь Богом, они узнают, что такое мой гнев! — взорвался он. Оба, Екатерина и Том, вздрогнули. Глаза их на миг встретились. Том покачал головой, почти незаметно, будто предупреждал ее, что успокаивать монарха сейчас бесполезно. — Был ли хотя бы один правитель так несчастен в своих советниках? — Голос Генриха стал более ровным, но в нем звучала горечь. — Под мельчайшим предлогом, по ложному обвинению они заставили меня казнить вернейшего слугу, какой у меня когда-либо был. Он говорил о Кромвеле, поняла Екатерина, а среди людей, которых король обвинял, наверняка был и ее дядя. Она ощутила острый приступ страха как участница заговора. — Кромвель был выше фракций! — горячился король. — Он держал бы их под контролем. — Генрих осел в своем кресле и закрыл лицо руками. — О Боже! Не слушайте меня, дорогая. Я старый медведь. Это боль, а не министры, разжигает во мне злость. — Могу я чем-нибудь помочь, сир? — спросил Том. — Нет. Я побуду один. Уходите, вы оба. Том, развлеките чем-нибудь мою бедную королеву. Это будет для нее тихая Масленица. Мне не до развлечений и веселья. Пришлите духовника, чтобы исповедал меня. Том поклонился, Екатерина сделала реверанс, порывисто наклонилась и поцеловала Генриха в щеку: — Поправляйтесь, сир. Я буду молиться за вас.
В антикамере, когда за ними закрылась дверь, Екатерина испустила вздох: — Я никогда его таким не видела. — Он становится раздражительным, когда у него разболится нога, — отозвался Том, не отрывая взгляда от ее лица, потом понизил голос: — Скажи, Кэтрин, как ты выносишь это? — Выношу — что? Я сегодня впервые увидела его таким. — Нет. Я имею в виду супружество с ним. Озабоченный тон, каким были произнесены эти слова, сыграл свою роль. Былое чувство вспыхнуло и разгорелось в ней. — Я люблю его, Том. Он был ко мне более чем добр. — Ты любишь его? — Во взгляде Тома отобразилось страдание. — Да, люблю. Это была правда. Но, оказавшись наедине с Томом, Екатерина поняла, что она не влюблена в Генриха, а это совершенно другое дело. Потом Калпепер заговорил совсем другим тоном — наигранно оживленным: — Так что же я могу предложить, чтобы развлечь вашу милость? Последовала пауза. — Прогулку по саду, может быть? — с некоторой неохотой сказала она. — Как будет угодно вашей милости. Я играю в теннис в два часа, если король отпустит меня. — Тогда я приду посмотреть на это. — Она возьмет с собою нескольких дам. Их присутствие обеспечит безопасность. — Думаю, в сад я пока не пойду.
Глава 23
1541 ГОД Вся в смятении, Екатерина быстро вернулась в свои покои. Нельзя ей думать о Томе, но она не могла удержаться. Он был так галантен, так красив. Ее снова потянуло к нему, как тянуло всегда. Колесо Судьбы могло повернуться иначе, Том стал бы ее мужем, и она бы блаженствовала. Тем не менее она сама бросила его ради короны, и это дорого ей обошлось. Но у нее действительно не было выбора. Екатерина полагала, что она счастлива замужем за Генрихом, и во многих смыслах так и было. Но он стар, а она — в расцвете юности, в жилах у нее бурлит молодая кровь, и ей известно, что такое страсть. Встреча с Томом, разговор с ним пробудили в ней чувство, которое она считала умершим. «Хватит! — приказала себе Екатерина. — Ты не можешь получить его. Так что забудь о нем, как забыла прежде». Идти наблюдать за игрой Тома в теннис не хотелось, но ведь она обещала, так пусть ее появление станет слабой компенсацией за то, чего она не могла ему дать. И Екатерина пошла и провела все время, выпивая и глядя, как двигается перед ней, будто в танце, гибкое, атлетическое тело Тома. — Он красивый джентльмен, — промурлыкала ей в ухо Люси Сомерсет. — Я бы хотела завладеть его мечтами! — Ничего не выйдет, — сказала леди Ризли. — Я слышала, он глаз не сводит с Бесс Харвей. — Бесс Харвей? — эхом откликнулась шокированная Екатерина. А она-то воображала, что Том чахнет от тоски по ней… Значит, ей вообще нечего жалеть его! Перед глазами встало милое, пустоватое личико фрейлины, и Екатерине захотелось надавать по нему пощечин. Но нужно соблюдать осторожность. Никто не должен заподозрить, что она ревнует.При дворе на той неделе было тихо и так пусто, что он больше походил на частный дом, а не на королевскую резиденцию. Екатерина скучала, и у нее было слишком много времени на размышления, что пугало: куда заведут ее эти мысли? Когда в следующий раз она отправилась проведать Генриха, стражники у дверей скрестили алебарды при ее появлении. — Что вы делаете? — изрекла она самым повелительным тоном, на какой была способна. — Я хочу видеть короля. — Простите, ваша милость, — сказал один из офицеров. — Нам приказано не пускать никого, даже вас. Она покраснела и ушла, уязвленная этим публичным отказом. Почему король не хочет ее видеть? Неужели кто-нибудь донес ему, как королева любовалась Томом за игрой в теннис? Или, еще хуже, их разговор в антикамере подслушали? Она не сказала ничего плохого, но не одернула Тома и не отругала его за дерзость. — Король отказывается видеть меня, — поделилась Екатерина с Изабель, которая застала ее одиноко сидящей в спальне. — И я не знаю почему! — Разве это не очевидно? — мягко проговорила Изабель. — Это гордость. Он не хочет, чтобы ты видела его слабым и больным. И может быть, понимает, что он сейчас малоприятный собеседник. — Вероятно, так и есть, — сказала Екатерина, но до конца не успокоилась. Она знала, как легко Генрих впадает в подозрительность, как порывист в угрозах и скор на расправу с теми, кого считал виноватыми перед собой. Лишь бы его гнев не пал на нее, молилась она. Но узнать что-то было невозможно. Или нет? Том знал обо всех переменах в настроении Генриха. Он скажет ей. Екатерина пошла в Королевскую капеллу. Был пост, и никто не обратит внимания, если королева станет молиться чаще, чем обычно. Она преклонила колени на королевской скамье, где ее никто не увидит снизу, из нефа, и время от времени бросала взгляды через парапет, чтобы посмотреть, кто появлялся в церкви. Прошла неделя, десять дней, она по-прежнему ходила в капеллу. К этому моменту она уже вся извелась от беспокойства. Доктора докладывали ей, что Генрих по-прежнему в дурном настроении и отказывается встречаться с кем бы то ни было. Екатерина читала в этом всевозможные ужасные знаки. Она не могла проводить в церкви все время, но находилась там столько, сколько могла. О, когда же придет Том? Он должен скоро появиться! Когда в следующий раз она приблизилась к королевской скамье, некоторые из ее дам стояли на молитве. Она услышала, как они поднялись и вышли, уловила обрывки разговора о себе — шелестящий шепоток. — Он уже почти две недели не видится с ней, а раньше ни на миг не разлучался, — сказала одна. — Может, он устал от нее, — ответила другая. — Неужели новый развод! — Конечно нет. Леди Ратленд думает, что ее милость ждет ребенка. Шаги стихли, Екатерину объял страх. Так вот что думают люди! Неужели король и правда задумал развестись с ней? Если так, то почему? Кто-нибудь рассказал ему о ее прошлом или о Томе? Или Генрих решил, что она бесплодна? Екатерину трясло, когда, по счастью, в капеллу вошел Том. Она слетела вниз по ступенькам и облегченно выдохнула, увидев, что он один. — Ваша милость! — испуганно сказал Калпепер. — Я хотел немного побыть в тишине. Его величество был очень плох, и все мы сбились с ног. Она огляделась — не прячется ли кто-нибудь в тени? — и понизила голос: — Том, мне нужно знать! Он упоминал обо мне? — Иногда он зовет тебя во сне, — сказал Том, — и говорил, что надеется вскоре поправиться, потому что хочет организовать твой торжественный въезд в Лондон. Почему ты так расстроена? — Потому что слышала разговоры, что он устал от меня. Нельзя, чтобы Том видел ее плачущей. Кто знает, к чему это может привести? — Ну я впервые об этом слышу, — ответил Том, глядя на нее своими прекрасными глазами. — Прямо сейчас он занят завершением укреплений в Кале и Гине. Помнишь, когда он хотел избавиться от леди Анны, то ни о чем другом не говорил. Это сплетни, Кэтрин. Не обращай на них внимания. — Не буду, — ответила она, заметив, что он назвал ее по имени, а не как полагалось в соответствии с титулом. — Благодарю тебя. Ты успокоил мой разум. Только почему же его милость отказывается от встреч со мной… — Он не хочет, чтобы ты видела, как он ослаб. Перед тобой он желает представать всесильным, истинным воплощением мужественности. Я уверен, это единственная причина. Все знают, что он без ума от тебя. На него сейчас действительно больно смотреть. Глаза их встретились. Том явно не утратил чувств к ней. Последовала долгая пауза. Екатерина первая отвела взгляд. — Я уверена, Бесс Харвей помогла тебе забыть, что я когда-то имела для тебя значение, — сказала она. — А что мне было делать? — спросил Том. — Жить монахом? — Нет. — Она вздохнула. — Я ни в коем случае не упрекаю тебя. Но теперь между нами не может быть ничего. — Я это прекрасно понимаю, — с горечью произнес Том. — Мне нужно идти. Никто не должен видеть нас разговаривающими наедине. Благодарю за утешительные слова, теперь мне гораздо лучше. Мы должны молиться, чтобы король поскорее поправился. Екатеринаотвернулась от него и вышла из церкви.
Она понимала, что не успокоится окончательно, пока не увидится и не поговорит с Генрихом, и очень обрадовалась, когда через два дня он наконец прислал ей записку с приглашением отобедать с ним. Изабель пришла помочь ей одеться, вид у нее был встревоженный. — Мадам, вы помните, что наш брат Джон обвинен в тайном сговоре с кардиналом Поулом? — Да, помню. Джон Ли до сих пор сидел в Тауэре, и Екатерина ощутила чувство вины: она так и не добилась его освобождения. — Мать кардинала, леди Солсбери, томится в Тауэре уже больше двух лет, — продолжила Изабель. — Говорят, ее держат в холодной камере без теплой одежды, а на улице сейчас мороз. Она пожилая женщина, и мне невыносима мысль о ее страданиях. Ты поговоришь о ней и о Джоне с его величеством? — Конечно поговорю, — согласилась Екатерина, содрогаясь от мысли о печальной участи леди Солсбери. — Я сделаю для них все, что смогу, когда настанет подходящий момент.
Прибыв в личные покои Генриха в сопровождении одной только Анны Бассет, она застала супруга за столом у очага; его больная нога была накрыта куском дамаста. — Садитесь, Кэтрин, — предложил ей король. Она вгляделась в его лицо, ища малейшие признаки неудовольствия, но ничего не увидела и сказала: — Как я рада видеть, что вам лучше! Я соскучилась по вам. — Комната больного не место для юной леди, — ответил ей Генрих. — Вы ничего не могли сделать, и боюсь, я был очень резок со своими врачами. Так всегда, когда у меня разболится нога. Слава Богу, аппетит вернулся ко мне! Попробуйте эту форель, она превосходна. Он положил ей кусок на тарелку. Екатерина испытала такое облегчение, что едва не расплакалась. — Что тревожит вас, дорогая? — заботливо спросил Генрих. — О, Генрих, я так беспокоилась, — призналась она. — Я слышала, будто вы устали от меня. — Кто болтал такие глупости? — нахмурился Генрих. — Не знаю. Я услышала разговор в нефе, когда молилась на своей скамье в капелле. — Проклятье, они подбирают крошку и называют ее караваем! Дорогая, вы не должны верить таким вещам или искать правду в слухах. Екатерина размякла от облегчения. Она надеялась, что Анна Бассет передаст слова короля дамам, которые сплетничали. — Больше не буду доверять никаким слухам, — сказала она, расцветая. — Но огорчило меня и еще кое-что. Я слышала, старая леди Солсбери находится в Тауэре в ужасных условиях, в неподобающей одежде и без тепла в эту холодную погоду. Улыбка сошла с лица Генриха. Екатерина пожалела, что завела речь об этом. — Она изменница! — рявкнул король. — Ей повезло, что я оставил ее в живых. — Простите меня, — взмолилась она, испугавшись такой перемены его настроения. — Я не знаю, в чем ее вина, но уверена, вы наказали ее справедливо. Однако Господь учит нас помогать узникам, и меня тронуло ее бедственное положение, потому что она пожилая леди. — У вас доброе сердце, дорогая, — вздохнул Генрих, — но в данном случае ваши симпатии обращены не на того человека. Леди Солсбери — моя кузина и имеет сомнительные притязания на престол. Несколько лет назад ее сын, кардинал Поул, написал против меня изменнический трактат и теперь живет изгнанником в Италии. Вскоре после этого его братья-сотоварищи замыслили убить меня. Я казнил их, а остальных членов семьи заточил в Тауэр. — Леди Солсбери была причастна к заговору? Генрих снова наполнил свой кубок: — Я в этом убежден. Когда мои люди обыскивали ее замок в Уорблингтоне, они нашли там шелковую мантию, расшитую королевскими гербами — без отличительных знаков, как будто эта вещь принадлежит правящему монарху. Я не сомневаюсь, что замысел состоял в том, чтобы посадить вместо меня на трон леди Солсбери или кого-нибудь из ее сыновей. Вот почему против нее был издан Акт о лишении гражданских прав и состояния, и ей вынесли смертный приговор. Но, уважая почтенный возраст этой дамы, я спас ее от топора. — Ваша милость всегда проявляет сострадание, — сказала Екатерина, посчитав, что лесть сейчас — лучшее средство, — но, хотя она и изменница, меня печалит, что эта леди вынуждена терпеть такие лишения, все-таки она человек. Можно я пошлю ей теплую одежду? Генрих нахмурился. Екатерина ждала ответа, надеясь, что не рассердила его. — Хорошо, — согласился он после продолжительного молчания. — Но вы заплатите за это из своего личного кошелька. Король имел в виду деньги, которые выделял ей на личные траты. — О, благодарю вас, Генрих! Вы так добры! — воскликнула она, встала и поцеловала его. — Хм… — проворчал он, оттаивая. — В следующий раз вы заставите меня селить изменников в Тауэрском дворце! Я ни в чем не могу отказать вам. — Он взял ее лицо в ладони и поцеловал в ответ. — Как же я люблю вас, моя маленькая королева! Екатерина подумала, что сейчас не время просить за Джона Ли.
На следующее утро она вызвала своего портного, мастера Скатта, и приказала ему изготовить одежду для отправки леди Солсбери. Подбитый мехом ночной халат был главным предметом, и у него должна быть подкладка из атласа; она также заказала киртл из гаруса, меховую нижнюю юбку, гейбл и налобную повязку в старом стиле, четыре пары чулок, четыре пары туфель и тапочки. Сумма, которую она заплатила, могла бы составить годовой заработок ремесленника, но деньги потрачены на доброе дело, — сказала себе Кэтрин. Портной сразу взялся за работу, и одежду доставили в Тауэр. Разумеется, леди Солсбери не полагалось иметь принадлежности для письма, поэтому она не могла поблагодарить Екатерину, но той достаточно было знать, что старой леди будет теперь теплее и удобнее. Гонец только что был отпущен, когда к Екатерине вошла заплаканная Бесс Харвей. — Мадам, я прошу вашего позволения оставить свой пост. Ревность вскипела в Екатерине. В последнее время она не могла смотреть на Бесс, не представляя рядом с ней Тома. — Почему? — Голос ее прозвучал резче, чем она рассчитывала. — Вы несчастны здесь? Лицо Бесс вспыхнуло. — Нет, мадам, личное дело вынуждает меня поехать домой. Екатерина не стала допытываться. Она была рада отъезду этой девушки, а потому сказала: — Я даю вам разрешение, всего хорошего, — воздержавшись от выражения благодарности Бесс за службу. — Спасибо, мадам. Когда Бесс ушла, Екатерина улыбнулась самой себе. Она многое могла бы поставить на то, что этот отъезд имеет какое-то отношение к Тому. Может, он потерял интерес к Бесс? Или девушка действительно была расстроена из-за каких-то домашних неурядиц и ей самой пришлось оставить Тома?
Наступил март, Генрих быстро шел на поправку, хотя еще не покидал своих покоев. — Пусть Том Калпепер отведет вас на теннисный корт или в аллею для боулинга, — предложил он Екатерине однажды солнечным утром. — Пришла весна, и вам нужно почаще бывать на свежем воздухе. — Он улыбнулся Тому. — Почту за честь сопровождать ее милость, — сказал тот. «Почему Генрих так настойчиво сводит нас вместе?» — спрашивала себя Екатерина, возвращаясь в свои покои, чтобы взять накидку и позвать двух фрейлин, которые пойдут с ней и будут держаться позади на почтительном расстоянии. Король как будто поощрял ее сближение с Томом! Но ведь он ничего не знает об их прежней любви — любви, нового расцвета которой Екатерина боялась. Из-за этого она не хотела проводить время рядом с Калпепером. Общение с ним могло подорвать ее решимость оставить прошлое в прошлом. Но как объяснить свое нежелание иметь в компаньонах Тома ничего не подозревающему супругу? Калпепер ждал ее в личном саду короля. — Чем бы хотелось заняться вашей милости? Только в мечтах она могла честно ответить ему. Он выглядел таким привлекательным — высокий, широкоплечий, в элегантном черном платье, дублете с серебристыми полосами и базах[150]; головной убор Том держал в руках, и его темные кудри рассыпались вокруг ворота рубашки. Екатерина с трудом оторвала от него взгляд. — Давай прогуляемся до аллеи и посмотрим игру в шары, — сказала она. Они неспешно прошли через сад мимо набирающих цвет деревьев, поговорили о том, какая хорошая стоит погода и насколько лучше чувствует себя король. Никто, наблюдая за ними, не усмотрел бы ничего настораживающего. К несчастью, аллея для игры в шары была пуста, поэтому они сели на одну из скамеек у реки и смотрели на лодки. Фрейлины заняли соседнюю скамью и весело болтали, а Екатерина не могла придумать никакого безопасного способа завести разговор со своим спутником. Так много несказанного отделяло ее от Тома. Месяцами она решительно отбрасывала в сторону все мысли о нем; теперь эти проклятые чувства переполняли ее настолько, что она боялась, как бы ей не сболтнуть или не сделать какой-нибудь глупости. Ей и правда не нужно было оказываться здесь с Томом. Она уже собралась было подняться, когда он заговорил: — Кэтрин, я умираю от любви к тебе. Слова были произнесены шепотом, так что никто не мог их слышать, но томление в его голосе потрясло ее. — Ты не должен говорить мне такие вещи! — упрекнула она его. — Мы оба связаны узами верности королю. — Король болен. Он, конечно, не может быть настоящим мужем для тебя. Но я… я могу сделать тебя счастливой. — Ш-ш-ш! — Она нервно огляделась. Поблизости никого не было, только ее фрейлины в нескольких ярдах от них хихикали, забавляясь чем-то. — Я счастлива. Король — настоящий муж. Прошу тебя больше ничего не говорить. Я не стану это слушать. — Она встала. — Становится прохладно. Я вернусь к себе. Не следуй за мной, Том. Прощай. — Кэтрин… — В глазах его застыла мольба. — Прощай! И давай покончим с этим! — Она ушла и позвала фрейлин следовать за собой. Сердце у нее колотилось, и все тело дрожало. Как близко Екатерина оказалась к краю пропасти, как сильно было искушение… Никогда, никогда больше ей нельзя оставаться наедине с Томом! Чистое безумие — думать, что они могут быть просто друзьями.
Джейн Рочфорд расчесывала волосы Екатерины. Другие женщины закончили готовить свою госпожу ко сну и ушли. Скоро, надеялась она, к ней придет король. Он не делал этого с того момента, как заболел. Она хотела, чтобы он занялся с ней любовью, заставил забыть томительную тоску по Тому и утолил бушевавшее в ней желание. — Ваша милость сегодня какая-то тихая, — заметила Джейн. — Не из-за того ли это, что вы думаете об одном нашем общем друге? В зеркале Екатерина видела, как краснота наползает ей на шею из-под выреза ночной рубашки. Она только и думала о словах Тома: «Я умираю от любви к тебе». — Нашем общем друге? — эхом отозвалась она. — Мистере Калпепере, — пояснила Джейн, и ее хитрые глаза блеснули. «Она сама влюблена в него», — решила про себя Екатерина, а вслух сказала: — С чего мне думать о нем? — Вы сами знаете. Он пришел ко мне и рассказал все. Вы не поговорите с ним? — Я говорила с ним и ясно дала ему понять, что между нами ничего быть не может. Я замужем за королем. И не стану изменять ему. Кроме того, это очень опасно. Мне никогда не забыть, что случилось с моей кузиной Анной, и ты, Джейн, не должна поддерживать Тома в его любви ко мне и подстрекать меня, чтобы я его поощряла! — Анна пала, потому что ее боялся Кромвель! И она получила по заслугам. Но, зная, что вы с мистером Калпепером любите друг друга, я с огромным желанием буду стоять на страже и охранять вас обоих. «А тебе-то какой в этом прок?» — подумала Екатерина и не смогла найти ответа. — Нет. Том должен забыть меня, как я забыла его. А теперь иди, король может скоро прийти сюда. Джейн вышла, сделав реверанс, ничего не возразила, однако не сдалась. Когда они в следующий раз остались наедине, она не упустила своего шанса: — Мистер Калпепер не желает ничего больше, кроме вашей любви. Неужели вы даже не согласитесь встретиться с ним? Екатерина резко обернулась к ней и прошипела: — Перестань надоедать мне! Я не хочу, чтобы он преследовал меня своею любовью или даже просто смотрел на меня, если это вызывает в нем желание! — Вы должны позволять мужчинам смотреть на вас, потому что они все равно будут это делать, — возразила Джейн. — Вы очень красивы. — Ты что, поощряешь его в этой глупости?! — рявкнула Екатерина. — Я знаю, что лежит между вами. — Джейн улыбнулась. — И буду вашим другом так же, как другом мистера Калпепера. Однажды Мег Мортон вошла в спальню с чистым постельным бельем как раз в тот момент, когда Джейн пела хвалы Тому. Она презрительно покачала головой и удалилась. Позже в тот же день Мег вернулась, чтобы помочь стелить постель для королевы. Екатерина сидела у зеркала и перебирала украшения в шкатулке, выбирая, что надеть к ужину. Она подняла взгляд на фрейлину, и глаза их встретились. — Я знаю, что делает леди Рочфорд, мадам, — сказала Мег, — и она должна прекратить, потому что это глупо и неправильно. — То же самое твержу ей и я! — ответила Екатерина. — Но она не унимается. — Ваша милость может отослать ее прочь. — На каком основании? У нее из-за этого могут возникнуть проблемы — и у мистера Калпепера, если поднимется шум. — Верно, — кивнула Мег. — Но зачем она это делает? — Я сама задавала себе этот вопрос много раз, — вздохнула Екатерина. — Может быть, она ждет награды. — За то, что склоняет королеву Англии к прелюбодеянию? Высказанная без обиняков, эта мысль ужаснула Екатерину. — Ну в благодарность, я полагаю. — По-моему, она родилась пронырой и просто не может удержаться, чтобы не сунуть нос в чужие дела. Екатерина приложила к груди подвеску: — Это еще слабо сказано. Она проявляет такое рвение. Явно сама обожает мистера Калпепера и тем не менее толкает меня к тому, чтобы я любила его. — Неужели она не понимает, как это опасно? — спросила Мег. — Если и понимает, это ее не останавливает. Она уверяет, что будет охранять нас. — Знаете, что я думаю, мадам? — Мег замялась. — Мне кажется, она получает удовольствие, представляя вас и мистера Калпепера вместе. Я уверена, у нее порочное воображение. Чем еще объяснить ее поведение? Екатерина задумалась над этим замечанием. Она и сама была близка к такому же умозаключению. Если бы не множество мелких услуг, оказанных Джейн, и не ее интерес к ней, она уволила бы ее и уже собиралась сделать это, но Генрих мог заинтересоваться причинами. Нет, увольнять Джейн слишком рискованно. Нужно просто твердо поговорить с ней и положить конец этой глупой истории. Возможность представилась на следующий день. Джейн подошла к Екатерине, когда та, сидя на диване у окна, играла на лютне. Ее дамы были увлечены какой-то очень шумной карточной игрой, и Екатерина чувствовала раздражение, потому что они заглушали криками музыку. — Ваша милость, я снова хочу поговорить с вами о Томе Калпепере, — опять взялась за свое Джейн, понизив голос, так что Екатерине пришлось напрягать слух, чтобы расслышать ее. — А я хочу побеседовать о нем с тобой! — Мадам, я думаю, вы не так поняли. Он не желает ничего другого, кроме как поговорить, и я готова поклясться на Библии, что его намерения абсолютно честны. Екатерине показалось, что, вероятно, стоит встретиться с Томом, хотя бы для того, чтобы он остановил Джейн, пусть та прекратит донимать ее разговорами о нем. — Знаешь, я встречусь с ним, — сказала она. — И положу этому конец. Лицо Джейн засияло. — Я передам ему. И приведу его в свою комнату в полночь. Екатерина терзалась мрачными предчувствиями. Что, если Генрих придет к ней сегодня? Что ж, тогда Тому придется подождать другого раза! Но Генрих не пришел. Когда наступила ночная тьма и Хэмптон-Корт погрузился в сон, она поднялась с постели, надела дамастовый ночной халат с высоким стоячим воротником и прокралась по галерее в комнату Джейн. Открыв дверь, она обнаружила, что ее ждет Том, один. Екатерина отшатнулась. Она-то рассчитывала на присутствие здесь своей компаньонки. Остаться в галерее Екатерина не посмела, а потому вступила в комнату и тихо прикрыла за собою дверь. — Кэтрин, ты пришла! — выдохнул Том, глядя на нее с вожделением. Она поклялась себе, что не поддастся его чарам, но это было нелегко. — Я не могу остаться. Я пришла сказать, что ты должен прекратить свои просьбы к леди Рочфорд, чтобы та передавала мне твои послания. — Я должен прекратить? Уверяю тебя, Кэтрин, она сама разжигает во мне любовь к тебе. Все время говорит, как сильно ты меня любишь. — Он явно был в замешательстве. — Никогда я не говорила ей, что люблю тебя. Она только и делает, что подбивает меня встретиться с тобой. Скажи честно, Том, ты подговорил ее? — Ну, думаю, да, — признался он. — Можешь ли ты винить меня, если я обуян каким-то безумием? — Это должно прекратиться немедленно! — твердо заявила она. — Я пришла сюда, чтобы сказать тебе это. Ни за что на свете я не желала бы причинить тебе боль, но у нас нет будущего, и мы подвергаем себя большой опасности, встречаясь вот так. — Я знаю, — с видом мученика отозвался Том. — Но я люблю тебя, Кэтрин, и пойду на любой риск. — А я — жена короля! — напомнила она ему. — Думаешь, я могу забыть об этом, прислуживая ему каждый день? Он без конца говорит о тебе. Мне невыносимо слышать это. Позволь мне поцеловать тебя, прошу… — Нет, — ответила она и отступила назад. — Я должна идти. Между нами ничего не может быть, Том. А теперь прощай. — Кэтрин… Но она ушла, сердце у нее бешено колотилось. Джейн поджидала ее в галерее. Екатерина смутно различала ее силуэт в потемках. — Все прошло хорошо? — прошептала та. — Я покончила с этим, — сказала ей Екатерина. — Но как же так! — горячилась Джейн. — Да неужели это никогда не прекратится? — прошипела Екатерина. — Я прошу тебя, передай ему, чтобы больше меня не тревожил, и поставим на этом точку! Она злилась на упрямство Джейн, но на следующий день выяснилось, что та выполнила ее поручение. — Он не примет «нет» за окончательный ответ, — тихо проговорила Джейн, присоединившись к Екатерине в ее личном саду, который уже был весь в цвету. — Он просит вас помнить, как много вы значили друг для друга и что вы могли бы быть его женой. — Ш-ш-ш! Никто не должен знать об этом. Но она помнила. И не могла думать почти ни о чем другом. Екатерина буквально разрывалась на части. Она постоянно напоминала себе, что их тайная встреча прошлой ночью осталась незамеченной, и это оказалось так просто. Посмеет ли она… Сможет ли сделать это? Перед ней открылись возможности. Искушение было велико. Генрих ничего не узнает. Никто, кроме Джейн, не должен знать. Нет, это слишком большой риск. Безумие — даже думать о таком. Но она так хотела Тома. Уже не одну неделю Екатерина проводила ночи в одиночестве. Ее тянуло прикоснуться к нему, ощутить его ласки. Представляя его внутри себя, Кэтрин едва не падала в обморок от желания. Она должна удержаться. Нельзя предавать Генриха, дорогого Генриха, который так любил ее и сделал ей так много хорошего — гораздо больше, чем она заслуживала. И — ей не стоит забывать об этом ни на миг — он был не только ее мужем, но и королем. Отдаться Тому — значит совершить не просто супружескую измену, но измену государственную. Впрочем, Генрих может остаться в неведении…
Том проигнорировал ее предупреждение и без конца просил Джейн, чтобы та уговорила свою госпожу, по крайней мере, встретиться с ним и поговорить, а Генрих, которого больная нога бо́льшую часть времени удерживала прикованным к креслу, изображал беспечного Купидона и часто сам предлагал, чтобы Том ухаживал за Екатериной вместо него. В тот вечер король умиленно наблюдал за ними с помоста. По его приказанию были устроены танцы, и Том встал в пару с королевой. Екатерина предпринимала невероятные усилия, чтобы держаться царственно и не выказать своих истинных чувств к нему. Когда Том взял ее руку, она ощутила, как что-то припечаталось к ладони. Это был сложенный листочек бумаги, и она быстро сунула его в карман, надеясь, что никто не заметил. Ей было не дождаться возвращения в свои покои. Вечер тянулся бесконечно долго. Но наконец, наконец-то она осталась одна и смогла прочесть записку. Том писал о своей любви к ней, которая зародилась, когда Екатерина была еще маленькой девочкой, и стала глубже, когда он впервые увидел ее при дворе. Неужели они не могут встретиться? — спрашивал он. Том не просит ее ни о чем больше, кроме как о дружбе. И снова она поддалась искушению. Написала ответ: «Наберись терпения, и я найду способ исполнить твое желание». На следующий вечер опять планировали устроить танцы, и Том неизбежно будет ее партнером. Екатерине удалось передать ему записку, и он обрадовался сверх меры, почти не пытаясь скрыть это. Она про себя взмолилась: только бы никто не заметил, и нарочито громко произнесла: — Я очень рада добрым вестям о вашем брате, мистер Калпепер! Томас Пастон наблюдал за ними. Екатерина почти забыла об их знакомстве в тот день, когда впервые поняла, что Том смотрит на нее не просто как на свою маленькую кузину. Джейн недавно обмолвилась, что Пастон до сих пор мечтает о милостях Екатерины, и, вероятно, это было правдой, поскольку тот злобно сверкал глазами на Тома. «Ну что ж, смотрите», — подумала она. Ей Пастон никогда не нравился. Через два дня за ужином Генрих ворчал, что несколько слуг Калпепера и Пастона оскандалились. — Они устроили драку в Саутуарке черт знает из-за чего! — («Кажется, я знаю», — подумала Екатерина.) — Пастона я отправил в тюрьму Флит за подстрекательство. По крайней мере, Том не виноват. Генрих не видел в нем никаких изъянов. Джейн сгорала от нетерпения, так ей хотелось устроить еще одну встречу, но Екатерина воздерживалась от этого. Она не была уверена, что хочет снова подвергать себя риску.
На Пасху двор переехал в Уайтхолл. Генрих стал почти таким, как прежде, и радостно строил планы официального приема Екатерины в Лондоне. О коронации он не упоминал, а ей спрашивать не хотелось. Может быть, Генрих не мог позволить себе такие траты или ждал, когда она заслужит эту привилегию, родив ему сына? Король решил, что его новая королева должна предстать перед лондонцами во время парада лодок на Темзе. Готовясь к церемонии, Екатерина выбирала, какое платье надеть, и думала о королеве Анне: семь лет назад та тоже въезжала в Лондон по реке в сопровождении множества лодок, и это было великолепное зрелище. «Пусть и у меня все будет так же», — загадала она. Накануне, вернувшись в свои покои после вечерни, она застала в галерее ожидавшего ее кузена Суррея. — Добрый вечер, милорд, — приветствовала его Екатерина. — Я хотел бы просить вашу милость о покровительстве, — сказал он, задумчиво взглянув на нее темными глазами. — Мне нужна ваша помощь. — Что я могу для вас сделать? Суррей картинно упал перед ней на колени, взял ее руку и приложил к губам. — Вы, вероятно, слышали, что мои друзья сэр Томас Уайетт и сэр Джон Уоллоп заточены в Тауэр. Злокозненные люди убедили его величество, что сэр Томас — лютеранин, а сэр Джон хвалил папу, обоих обвинили в измене. Но я хорошо их знаю, мадам, и могу сказать, положа руку на сердце, что все это неправда. Беднягу Уайетта держат в грязной темнице. Не заступитесь ли вы за них перед королем из милосердия? — Конечно, — сказала она, думая, что в день ее триумфа Генрих согласится исполнить любую просьбу. — Да благословит Господь вашу милость за доброту! — воскликнул Суррей и снова поцеловал руку Екатерины. Она улыбнулась ему: — Встаньте, кузен. Я рада помочь. А теперь пойдемте со мной в мои покои, вы расскажете мне поподробнее об обстоятельствах этого дела.
Облаченная в белый дамаст и золотую парчу, Екатерина с поистине королевским достоинством взошла на королевскую барку, причаленную у спускавшейся к воде лестницы в Уайтхолле, и села рядом с королем в каюте. — Вы выглядите великолепно! — сказал ей Генрих, взял ее руку и положил на свое колено. Гребцы отвалили от причала, и лодка понеслась на веслах по Темзе к Гринвичу, мимо столпившихся на берегу, кричавших и махавших руками людей. Генрих был в своей стихии, широко улыбался направо и налево, благосклонно принимая восторги своих подданных. В три часа они прошли под Лондонским мостом и встретились с ожидавшими их лодками, увешанными яркими тканями и флагами, где сидели лорд-мэр, олдермены и члены ремесленных гильдий. Эта флотилия сопровождала королевскую барку на отрезке пути мимо Тауэра, откуда раздался артиллерийский салют, а когда Генрих и Екатерина прибыли в Гринвич, все суда, пришвартованные там, ударили из пушек. Грохот стоял оглушительный. — Великий триумф, дорогая, — прокомментировал Генрих. — Мои люди любят вас. — Сир, я хочу обратиться к вам за милостью. — Чего вы желаете, моя дорогая? — Могу я просить ваше величество об освобождении сэра Томаса Уайетта и сэра Джона Уоллопа? Мой кузен Суррей рассказал мне все и убедил, что их обоих оклеветали лживые люди. — Хм… — Генрих явно сомневался. — Пожалуйста, ради меня. Я умоляю вас, Генрих! — Она попыталась встать на колени, но король усадил ее на место. — Вы перевернете лодку, Кэтрин! — (Вдруг они оба рассмеялись.) — Хорошо, я прощу их обоих. Я и сам начал сомневаться в их виновности. И в этот знаменательнейший день не могу отказать вам. — О, Генрих, я так благодарна вам! — воскликнула она. — Вы так благочестивы и всегда готовы прощать и миловать. Спасибо вам! Король лучисто улыбался ей, купаясь в похвалах. — Но есть одно условие, — сказал он, — а именно: Уайетт должен вернуться к своей жене, от которой ушел много лет назад. Не годится, чтобы супруги жили порознь. — И Генрих чопорно поджал губы, что было ему свойственно. — И пусть его предупредят, что отныне он должен быть верен ей под страхом смерти. — Но, Генрих, — ужаснулась Екатерина, — насколько мне известно от моего кузена Суррея, это она была ему неверна. — Он жил в прелюбодеянии с Бесс Даррелл, которая когда-то служила вдовствующей принцессе, и должен прекратить это. Два проступка не составят одного благодеяния. Он должен вернуться к жене и следовать пути добродетели. — Сир, я прошу вас изменить решение! Он наверняка не виделся с женой уже много лет. Но Генрих остался непреклонен. Больше она ничего не могла сделать.
Многие люди пришли поздравить Екатерину с тем, что ей удалось добиться прощения для Уайетта. Генрих сам был явно впечатлен ее сострадательностью к узникам и, казалось, упивался ролью снисходительного супруга и милостивого соверена. На волне успеха своего заступничества Екатерина воспользовалась моментом и, набравшись храбрости, попросила короля освободить ее сводного брата Джона Ли, который до сих пор прозябал в Тауэре. На ее прежние мольбы Генрих не откликнулся, но на этот раз исполнил ее просьбу, и Екатерина имела счастье увидеть встречу Джона с сестрой Изабель, которая заливалась слезами радости. Тюрьма изменила его: он больше не был тем жизнерадостным молодым человеком, которого Екатерина знала в детстве, но на сердце у нее потеплело, когда сэр Джон обнял ее и от души поблагодарил за проявленную доброту. — Вы позволите своей доброй супруге стать моей камеристкой? — спросила она его. Изможденное лицо сэра Джона осветилось радостью. — Элизабет почтет это за честь, мадам! Екатерине нравилась его добросердечная и мягкая жена. — Значит, решено, — сказала она. — Пусть приезжает ко мне, после того как вы побудете вместе какое-то время.
Двадцать первого марта Генрих выехал в Дувр осматривать укрепления, оставив королеву и ее дам в Гринвиче. — Я вернусь к Вербному воскресенью, — сказал он ей, когда она протягивала ему кубок с вином и говорила прощальные слова. — Скоро мы снова будем вместе. Крови у нее в том месяце не наступили. Она ничего не сказала Генриху после его возвращения — не хотела возбуждать в нем надежду, чтобы потом не пришлось разрушать ее. Дни шли, и Екатерина проводила все больше времени в своей молельне или в капелле, упрашивая Господа, чтобы тот послал ей сына. «Я больше никогда не увижусь с Томом Калпепером!» — поклялась она. Джейн продолжала изводить ее подстрекательством к встречам с ним, напоминала о данном обещании, но Екатерина теперь старалась избегать бесед с ней наедине. В апреле красные цветы у Екатерины тоже не расцветали. Когда Генрих впервые за много недель пришел к ней в постель и начал ласкать ее, пришлось сказать ему. — Мы не должны. Думаю, я жду ребенка. Генрих сгреб ее в объятия и крепко прижал к себе. Екатерина чувствовала, как он взволнован. — О, дорогая, — выдохнул король, — если так, это будет для меня огромной радостью. И я короную вас на Троицу. На следующий день Генрих объявил об этом. Коронация должна состояться пятого июня. Вдруг все пришло в движение, начались спешные приготовления. Армия вышивальщиков взялась за украшение мебели и драпировок для Вестминстерского аббатства и Вестминстер-Холла, где пройдет коронационный банкет. Из разных церквей свозили ризы и церковную утварь. Молодые лорды и придворные джентльмены начали упражняться, готовясь к намеченным Генрихом турнирам. Внезапно Екатерину охватил страх. Кто-то упомянул королеву Джейн, и она вспомнила, что та умерла после родов, как и ее мать. Никогда ей не забыть эту ужасную утрату и неподвижную фигуру на постели. Всю радость от беременности как рукой сняло. А потом… Она лежала на кровати и заливалась горючими слезами, упрекая себя. Она потеряла ребенка. Он лежал — крошечный комочек плоти, не больше кончика пальца, в судне в ее уборной. И это была ее вина. Господь послал ей ребенка в ответ на горячие мольбы, и, наверное, Он разгневался, что она пошла на попятный, испугалась, захотела, чтобы малыша не было. Она не годится для материнства. Дамы собрались вокруг, пытались утешить ее, но она не могла успокоиться, ведь нужно еще сообщить обо всем Генриху. Кто-то, должно быть, послал за ним, потому что он спешно явился. Она ощутила у себя на плече чью-то руку. — Успокойтесь, Кэтрин, — дрожащим голосом произнес король. — Это Божья воля. Может быть, Он не хочет, чтобы у нас были дети. От этого Екатерина разрыдалась еще сильнее. Слова Генриха прозвучали похоронным звоном, как будто он оставил всякую надежду. Но она еще молода. Господь наверняка сподобит ее снова забеременеть. — Отдохните, — сказал король. — Я приду к вам позже. Но он не пришел. И вскоре Екатерина поняла, что все приготовления к коронации остановлены.
Часть четвертая «Презревшая узы приличий и целомудрие»
Глава 24
1541 ГОД Любовь Генриха к ней охладела, Екатерина это знала. Она разочаровала его. Изабель пыталась утешить сестру, говоря, что король перестал посещать ее ложе, потому что она еще не оправилась после выкидыша. — Но он мог бы обнять меня и заверить, что по-прежнему любит, разве нет? — в отчаянии воскликнула Екатерина, которой была нестерпима мысль, что она утратила любовь и благоволение Генриха. — Некоторые мужчины не понимают этого, — сказала Изабель и похлопала ее по руке. — Если бы только он пришел ко мне обедать! — всхлипывала Екатерина. — Я не видела его уже три дня. — Он скоро придет, я уверена, — успокаивала ее Изабель. — А теперь постарайся отдохнуть, чтобы выглядеть как можно лучше, когда это случится. Позволь мне капнуть на подушку несколько капель лавандовой настойки. Это поможет тебе успокоиться. Она обрызгала изголовье постели и задернула шторы, чтобы в окна не бил солнечный свет, после чего ушла, тихо прикрыв за собою дверь. Вдыхая сильный запах лаванды, Кэтрин лежала на постели и растравляла себе душу. «Пожалуйста, придите, Генрих! — мысленно взывала она. — Боже, прошу, пусть он придет!» Главной причиной терзаний был страх, что король откажется от нее. Раздался негромкий стук в дверь, и кто-то вошел в комнату. Екатерина села и в тусклом свете увидела улыбавшуюся ей Джейн Рочфорд. — Я надеюсь, ваша милость чувствует себя лучше. Король, несомненно, тоже опечален вашей утратой и, когда обретет душевное равновесие, придет к вам. — Надеюсь, — прошептала Екатерина. — Но есть хорошие новости, — продолжила Джейн, без спроса усаживаясь на край кровати. — Его милость в награду за службу даровал мистеру Калпеперу четыре поместья в Глостершире и одно в Уилтшире. Наш друг теперь состоятельный мужчина! — Джейн, я рада за него, но сейчас хотела бы остаться одна и поспать, — сказала Екатерина. — Конечно, — отозвалась Джейн. — Я оставлю вас. — Она на цыпочках вышла.Через неделю кровотечение у Екатерины прекратилось, и она немного успокоилась: Генрих пришел к ней ужинать. С первого же взгляда на лицо супруга ей стало ясно: он тоже страдал. — Надеюсь, вы оправились, Кэтрин, — сказал король, садясь за стол. — Простите, я не приходил к вам и не присылал известий, но я сам был болен. — Надеюсь, вы чувствуете себя лучше, — сказала она, удивляясь, почему они вдруг стали так церемонны друг с другом. — Я чувствую себя сносно. — Он вздохнул. Разговор казался принужденным, прерывался долгими паузами. Ни один из них не упоминал о потерянном ребенке. В девять, раньше обычного, Генрих поднялся, поцеловал ей руку и ушел. На следующий вечер он не вернулся. Она пришла в сильное смятение, убежденная, что Генрих ее бросит. Но как? Мог ли он затеять развод из-за неспособности супруги выносить ребенка? Она не представляла. Разумеется, ее супруг слишком сильно любил свою тюдоровскую розу, чтобы обойтись с ней более жестоко. Но если король разгневан… По ее спине пробежал холодок. Джейн снова явилась к ней, когда она, глядя в пустоту, сидела на диване у окна в отдалении от других дам. — Я знаю, чем вас порадовать, — склонившись к уху Екатерины, тихо проговорила Джейн. — Есть одна старая кухня, где вы можете спокойно поговорить с мистером Калпепером. Екатерина задумалась: почему она позволяет себе слушать Джейн? Но ответ был ясен. Ей нравилось представлять Тома в роли своего любовника, и Джейн, искушавшая ее предложением разных возможностей, только сильнее разжигала воображение. Екатерина чувствовала себя такой подавленной, что жаждала обрести утешение в объятиях Тома. И зачем ей лишать себя этого? Генрих-то ее больше не хочет! Всю ночь она размышляла об этом и к утру приняла решение.
Назавтра был Великий четверг. Рано утром Екатерина послала за своим портным. К счастью, у него нашлось именно то, что ей было нужно. Потом она приготовилась вместе с Генрихом идти в Королевскую капеллу на службу, где совершат обряд омовения ног беднякам. Там, одетая, как и король, в огромный белый передник, она стояла, держа в руках золотой тазик, рядом с мягким табуретом, на котором сидел Генрих, омывавший ноги пятидесяти бедным мужчинам и женщинам, по одному за каждый год своей жизни. Конечно, все они тщательно отскребли свои пятки заранее и получили чистую одежду. Избранники в благоговейном трепете смотрели на короля Англии, который склонялся к их скамеечкам для ног с влажной тряпицей и целовал им ступни, уподобляясь Христу. После этого Генрих раздал счастливчикам полные монет кожаные кошельки. Екатерине было трудно терпеливо вынести длинную церемонию. Она мысленно укреплялась в решимости сделать то, что было запланировано на вечер, до которого еще так долго. Но вот последний бедняк, кланяясь и выражая благодарность, покинул церковь, и Генрих сказал, что будет обедать с ней. Ожидание продолжилось, и напряжение возросло до того, что Екатерина уже была готова взвыть от досады. К полудню она наконец освободилась. Генрих ушел встречаться с Советом. Выждав для безопасности какое-то время, она послала своего церемониймейстера Генри Уэбба за Томом, и тот был введен в ее приемный зал, где вместе с ней сидели придворные дамы. Том покраснел от волнения и вопросительно посмотрел на нее. Когда он опустился на одно колено, Екатерина встала: — Прошу вас, поднимитесь, мистер Калпепер. Я хочу лично поблагодарить вас за усердную службу его величеству во время болезни. — Она повернулась к своим дамам. — Я буду говорить с мистером Калпепером наедине. Вы можете идти. Дверь закрылась. Они остались одни. — Ты послала за мной! — радостно выдохнул Том. — Я ждала удобного случая, — ответила она. — И действительно хочу выразить тебе благодарность за все, что ты сделал для его милости короля. Возьми вот это. — Она вложила ему в руки красивую бархатную шапочку, украшенную брошью, три дюжины наконечников для шнурков и цепочку. — Спрячь под накидку, чтоб никто не увидел. Она ждала, что Том осыплет ее благодарностями. Он должен был знать, что такой подарок от дамы поклоннику — это исключительная милость. Вместо этого Калпепер посмотрел на нее как будто с ожесточением. — Увы, мадам, почему вы не сделали этого до того, как вышли замуж за короля? В ней вспыхнул гнев. Она сильно рисковала, давая ему то, о чем он неустанно просил. Сейчас ее дамы, вероятно, недоумевали, почему это госпожа настояла на том, чтобы они оставили ее без своего внимания. — И это твоя благодарность?! — крикнула Екатерина. — Если бы я знала, что услышу такие слова, ты никогда не получил бы эти подарки! — О, прости, Кэтрин, — тут же сдался Том. — Меня терзает мысль, что ты так легко могла стать моей, но поставила желание получить корону выше нашей любви, которая намного ценнее. — Знаю. Меня ослепила мысль, что я стану королевой. И мне нравится быть ею. Но, как я уже говорила, у меня не было выбора. Милорд Норфолк и епископ Гардинер решили, что король обязательно полюбит меня, и привели множество доводов, почему мне следует поощрять это. Я должна была помочь спасению истинной веры! Как я могла противиться им? Но что сделано, то сделано. Можем мы начать сначала? При этом откровении Том удивленно поднял брови и сказал, беря ее за руку: — Я желаю этого всем сердцем. Прости, что в моих словах прозвучала неблагодарность. Это прекрасные подарки, и я буду бережно хранить их. — Пусть никто не узнает, откуда они у тебя! — Никогда! — Он улыбнулся. Как же ей хотелось прильнуть к нему! Но здесь это было невозможно, слишком людное место. — Я ничего не знал, — продолжил Том. — Прости, что я так резко судил о тебе. Конечно, ты была в безвыходном положении. Но все меняется. Как мы можем встретиться? — Леди Рочфорд поможет нам. Я уверена, она позволит нам воспользоваться ее комнатой. Но я бы предпочла не ходить на ту кухню. — Кухню? — Ты не знал? Она сказала, тут есть какая-то пустующая кухня, где мы можем тайно встречаться. — Ты достойна лучшего, чем это, — сказал Том, поднося к губам и целуя ее руку. — Скажи… — Его глаза, темные от страсти, искали встречи с ее взглядом. — На что я могу надеяться? Екатерина ощутила панический трепет. — Не рассчитывай на многое, прошу. Помни, кто я. Есть такие вещи, на которые я не рискну пойти. Надеюсь, ты понимаешь. — Да, Кэтрин. Я буду терпелив. Ради тебя я готов ждать вечно.
Джейн проявляла невероятную услужливость. Разумеется, они могут воспользоваться ее спальней! Она постоит на страже в галерее. Она так рада, что они снова стали друзьями. В первый раз оставшись наедине с Томом в залитой лунным светом комнате, Екатерина ощущала неловкость. Широкая кровать под балдахином манила, но нет, относительно этого она ясно выразила свою позицию. Том поцеловал ее, сперва почтительно, потом более требовательно, однако она отстранилась и сказала: — Давай просто поговорим. — Как хочешь. Они сели на скамью у изножья постели и предались воспоминаниям о старых добрых днях, проведенных в Оксон-Хоате и Ламбете. — У меня были любовники и раньше, — призналась Екатерина. — Это не имеет значения, — сказал Том. — Теперь они мне не соперники. Ни он, ни она не упоминали о главном сопернике, который, ничего не подозревая, спал в огромной опочивальне за дверью в дальнем конце галереи. — Ты до сих пор общаешься с Бесс Харвей? — спросила Екатерина. — Нет, — ответил Том. — Это было мимолетное увлечение. С тобой я надеюсь на более серьезные отношения. Почему, спрашивала себя Екатерина, она так сильно хочет Тома, впитывает в себя каждую его черточку, у нее перехватывает дыхание от близости с ним, и при этом она не может высказать ему свои чувства? — Я тоже на это надеюсь, — сказала она, понимая, что произнесенные слова не передают и малой толики испытываемых ею бурных эмоций. — Я принес тебе подарок, — Том дал ей кольцо с гранатом, — в знак моей любви. Знаешь, милая Кэтрин, я люблю тебя больше, чем король и любой другой человек на свете. И надеюсь только на то, что ты могла бы полюбить меня хотя бы вполовину так же сильно. Упоминание о Генрихе заставило Екатерину почувствовать себя такой подлой изменницей, что остальных слов Тома она почти не слышала и молчала. Том обнял ее одной рукой: — Скажи, что я могу надеяться. — Да, ты можешь надеяться, — проговорила она. — А теперь я должна идти. Становится поздно, и мои дамы забеспокоятся, где я. — Неужели так скоро? — Том выглядел потрясенным. — Да! Спокойной ночи, Том. Она вышла из комнаты со слезами на глазах. Какая досада, что она, всегда знавшая, чем и как прельстить поклонника, должна вести себя так неловко с любимым мужчиной. А это была любовь, она не сомневалась. Совершенно другая, не такая, как к Генриху. Господи, только бы Тома не отвратила ее скованность! Это была последняя мысль Екатерины, прежде чем она уснула.
Через несколько дней Джейн сообщила ей, что Том заболел. — Нашего друга сильно лихорадит, и ему велено оставаться в своей комнате. Екатерине хотелось пойти к нему, застращать докторов и сделать все возможное, чтобы он поправился. Вдруг Том умрет? Она тогда, наверное, тоже зачахнет с горя. Все, что она могла сделать, — это послать к любимому с услужливым Моррисом, ее пажом, подарки, которые было дозволено отправить занедужившему слуге: красное мясо, чтобы дать силу его крови, и свежую рыбу, полезную всем болящим. Моррис сообщил, что мистер Калпепер был очень рад подаркам и обещал наградить его. Екатерина знала, что рискует,но не могла устоять и решила отправить Тому письмо, которое планировала спрятать в корзине с белыми хлебцами. Марать бумагу она не любила, поэтому принялась диктовать всегда готовой услужить Джейн то, что хотела сказать. Потом, не желая упускать прекрасной возможности ясно выразить свои чувства, но при этом стремясь сохранить их в тайне от посторонних, она решила продолжить свое послание самостоятельно. Закончив, она перечитала написанное.
Господин Калпепер, сердечно приветствую Вас и прошу сообщить мне о своем здоровье. Мне сказали, что Вы больны. Это меня сильно беспокоит и не перестанет беспокоить, пока я не получу от Вас вестей, потому что я никогда еще не хотела ничего так сильно, как видеть Вас и говорить с Вами, что, я надеюсь, вскорости случится. Мысль сия утешает меня всякий раз, как я об этом подумаю; и когда я вспоминаю, что потом Вам придется оставить меня снова, сердце мое умирает, когда я понимаю, как несчастна моя судьба, оттого что я не могу всегда пребывать в Вашем обществе. Но я продолжаю надеяться, что Вы останетесь таким, как обещали мне, и в этой надежде тверда, прося, чтобы Вы пришли, когда миледи Рочфорд будет здесь, потому как тогда я буду иметь случай быть в Вашем распоряжении. Спасибо, что Вы обещали сделать добро моему бедному пажу. Прошу Вас, держите его при себе, чтобы я иногда могла получать весточки от Вас. На сем прощаюсь с Вами, надеюсь на скорую встречу. Если бы Вы сейчас были рядом, то увидели бы, с каким трудом дается мне это письмо.Том поправился быстро, к большому облегчению для Екатерины, и она устроила вторую встречу с ним в спальне Джейн, куда хозяйка комнаты привела «их общего друга» по потайной лестнице в самый глухой час ночи, когда стало ясно, что король не придет в постель к королеве, а ее дамы спят. Как только за Томом закрылась дверь, он обнял и поцеловал Екатерину. — Ты не представляешь, как помогло моему выздоровлению твое милое письмо, — жарко проговорил он. — Я столько раз перечитал его, что оно вот-вот рассыплется в прах. Кэтрин, ты написала все это всерьез? — Каждое слово. После этого ей стало легче общаться с Томом, она лучше выражала свои мысли и чувства — и то, чего не могла показать слишком явно, он дополнял более чем успешно, хотя и не проявляя неуважительности. Екатерина удивлялась их обоюдной сдержанности, особенно когда вспоминала, как свободно она отдавалась своим страстям до приезда ко двору. Один раз Том, обняв ее, осмелился положить руку ей на грудь, но она тут же убрала ее, шепнув: — Пока нет! Она чувствовала в нем сексуальное возбуждение, но он не протестовал и, когда прощался с ней при первых признаках зари — они проговорили несколько часов, — поцеловал ей руку и сказал: — Обещаю, на большее я не осмелюсь. Ей это очень понравилось. После этого они встречались много раз, как только им удавалось устроить свидание — по большей части в комнате Джейн, но иногда и у Екатерины. Джейн всегда охраняла их и всячески поощряла, была посредницей и наперсницей. Екатерина призналась ей, как глубоко любит Тома, и та объяснила ему, что Екатерине очень трудно подобрать слова, чтобы передать силу своих чувств. Однако очень скоро у Тома не осталось сомнений в ее любви: его появление Екатерина всякий раз встречала с восторгом. Она хорошо понимала, как сильно рискует. — Если однажды нас поймают, пощады нам не будет, — сказала она Джейн. — Но коль скоро все останется в тайне, мне бояться нечего. — Я никому не скажу ни слова, — клятвенно обещала Джейн. — Знаю. — Екатерина поцеловала ее. — Если кто-нибудь спросит, что происходит, отрицай все. Они не могли не доверять друг другу. Иногда, лежа по ночам в постели, Екатерина спрашивала себя: понимает ли она, что делает, заведя любовную интригу за спиной короля? Королеве Англии не следует вести себя так безрассудно. На ум ей часто приходила в те дни ее кузина, королева Анна. Но она так любила Тома, и ведь они не делали ничего плохого, верно? Анна совершила прелюбодеяние с несколькими мужчинами. Екатерина и Том любовниками вовсе не были, хотя оба хотели этого. Верность королю удерживала их, и страх последствий, конечно. Утром она вновь обретала смелость, убежденная, что наслаждаться любовью обоих главных мужчин в своей жизни — это возможно. В таком настроении она посылала весточку Тому через леди Рочфорд, сообщая, что истомилась и умирает от любви к нему, или передавала какой-нибудь подарок. Часто Моррис, с которого Екатерина взяла клятву хранить тайну под угрозой увольнения, если он проболтается, приносил ей ответный дар.Навечно Ваша,Екатерина.
В начале мая Екатерина на барке отправилась в королевскую резиденцию в Челси, чтобы проверить, все ли там готово к приезду ее падчерицы леди Елизаветы. Генрих наконец согласился, что пришло время познакомить новую королеву с его младшими детьми. Кэтрин с нетерпением ждала встречи. Елизавете было семь лет — еще дитя, и характер у нее наверняка не такой тяжелый, как у ее сестры леди Марии; к тому же она племянница Екатерины по матери. Хорошо бы Том поехал с ней, но это невозможно. Не его дело — сопровождать королеву, если только ему не прикажет Генрих, а Генрих этого не делал. Но как приятно было бы прогуляться вместе по этим прекрасным садам, пообедать под сенью этих деревьев у реки!
Удовлетворенная тем, что лучшая посуда выставлена на видные места, мебель натерта до блеска, а постельное белье отбелено и накрахмалено до хруста, Екатерина остановилась в замке Байнарда — одном из своих поместий, полученных в приданое. Массивное белокаменное здание с высокими башнями величественно возвышалось на берегу Темзы в нескольких улицах от собора Святого Павла. Через два дня она вернулась в Челси, где ей сообщили, что Елизавета уже прибыла и гуляет по саду. Идя по гравийной дорожке в сопровождении своих дам, Екатерина увидела впереди маленькую девочку с длинными огненно-рыжими волосами и одетую в черное женщину. «Наверное, это няня Елизаветы, миссис Эстли», — заключила она. Генрих на все лады расхваливал эту даму, говоря, как она образованна и как хорошо заботится о благополучии его дочери. Заслышав приближающиеся шаги, девочка обернулась, и Екатерина испугалась, увидев, какое старое у Елизаветы лицо. В манере этой малышки ощущалась царственная настороженность, что неудивительно, учитывая ее статус незаконнорожденной и судьбу матери. Елизавета сделала изящный реверанс, склонив голову. Екатерина собиралась взять девочку на руки и разыграть роль доброй мачехи, но инстинкт подсказал, что тискать и ласкать этого ребенка, полного собственного достоинства, не нужно. Поэтому она наклонилась с приветливой улыбкой и легонько чмокнула Елизавету в обе щеки. К вечеру Екатерина поняла, что между ними лежит непреодолимая пропасть. Елизавета была развита не по годам и не по-детски мудра. Она обладала значительными познаниями о разных вещах. Екатерина не могла состязаться с ней в учености. Роднило их одно лишь тщеславие, а разговоры о моде не будешь вести вечно. О женщине, кровь которой текла в жилах у них обеих, по понятным причинам, не упоминалось. Кроме того, Елизавета проявляла норов. Она хотела ехать в Уолтхэм, где их ждал Генрих с принцем Эдуардом. Было вполне очевидно, что отец — ее герой, и на мачеху у нее мало времени. Екатерина попыталась сблизиться с Елизаветой, но это оказалось нелегко. Она напомнила себе, что у девочки уже были две мачехи, и ни одна не продержалась долго. Можно ли винить малышку за то, что она не желала отдавать свое сердце еще одной? «Ирония в том, — подумала Екатерина, — что я-то, вероятно, останусь ее мачехой надолго». На следующий день они поехали в Далленс, королевское поместье в Эссексе, неподалеку от аббатства Уолтхэм. Там в холле их ожидал Генрих с леди Марией, державшей за руку принца Эдуарда. Генрих раскрыл объятия для Елизаветы, и та, забыв сделать реверанс, бросилась в них. — Кэтрин, моя дорогая, приветствую вас! — воскликнул король, обнимая ее. От неловкости, разделявшей их прежде, не осталось и следа. Она поняла, что прощена. — Как же я скучал по вам! — сказал Генрих, отпустил Екатерину и легонько подтолкнул сына в ее сторону. — Позвольте представить вам принца Уэльского. Екатерина зачарованно следила, как трехлетний крепыш протопал к ней и совершил удачную попытку изящно поклониться, затем, так как он был наследником Англии, она сделала ему маленький реверанс, отчего малыш гордо хохотнул. — Какой вы милый мальчик, ваша милость! — воскликнула Екатерина. — Я привезла вам подарок. — Она вынула из кармана серебряную лошадку и всадника, уместившихся на ее ладони. Генрих одобрительно улыбался. — Что вы скажете, сэр? — Благодавю вас, коволева Кефевин, — проговорил Эдуард. Его прелестное личико, похожее формой на сердечко, с пухлыми щечками и острым подбородком порозовело от удовольствия. Он показал игрушки своей сводной сестре Елизавете. — Смотви Бесс, пвавда квасивые? Та вместо ответа крепко обняла брата и спросила у отца: — Можно мы пойдем играть, сир? — Идите. Миссис Эстли, отведите их в сад. Няня подошла и взяла детей за руки. Несмотря на дорогие одежды и слуг, эти два ребенка, лишившиеся матерей, выглядели такими уязвимыми. — Они неразлучны, — заметила Мария. — Трогательно видеть, как они любят друг друга. — Какие чудесные дети! — воскликнула Екатерина. — И так похожи на вас, сир. У них ваша расцветка. Ей хотелось бы быть матерью такого же. Генрих надулся от гордости и сказал: — К тому же они хорошие дети. Что ж, вы, наверное, проголодались после долгой дороги. Пойдемте к столу. Они втроем обедали в личных покоях короля; прислуживали им Калпепер и еще один джентльмен. Екатерина осторожничала — не позволяла себе коситься на Тома, тем более открыто смотреть на него. — Ваша милость выглядит очень хорошо, — сказала Мария, обращаясь к Екатерине. — Благодарю вас. Надеюсь, вы сами здоровы? — Я чувствую себя неплохо. Осень для меня — худшее время. Я почему-то всегда в это время подхватываю разные болезни. — Я говорил вам, чтобы вы не прекращали принимать капли, которые я для вас приготовил, — сказал Генрих. Он любил составлять лекарства и, казалось, был знатоком в этом деле. У него имелось наготове средство от любых недугов. Король повернулся к Екатерине: — Дорогая, я решил дать Марии разрешение на пребывание при дворе в любое время по ее желанию. — Конечно, — милостиво согласилась Екатерина. — Мы будем компаньонками. Мария исполнилась благодарности. — По моему приказу для нее обустраивают новые апартаменты в Хэмптон-Корте, — продолжил Генрих. — Надеюсь, дочь моя, вскоре мы будем иметь удовольствие пользоваться вашим обществом, и летом вы отправитесь с нами объезжать страну. Тур будет величайший, потому что мы отправимся в Линкольн и Йорк. Я намерен привести своих подданных в этих краях к покорности после недавнего восстания. Екатерина слышала про Благодатное паломничество, потому что ее дядя Норфолк участвовал в подавлении этого бунта. Четыре года назад так называемые паломники совершили марш в отчаянной надежде остановить начатые королем религиозные реформы и роспуск монастырей, но это народное выступление было безжалостно пресечено. На память приходили рассказы о массовых казнях, расставленных повсюду виселицах. Только бы им не пришлось ехать по враждебным территориям. — И еще я хочу повидаться со своим племянником, королем шотландцев, — продолжил Генрих. — Он согласился приехать на юг, в Йорк. — Я с удовольствием составлю компанию вашим милостям, — сказала Мария. — Значит, решено. Я собираюсь отправиться в путь в конце июня. Лишь бы погода нам благоприятствовала. Поездка будет долгая.
Глава 25
1541 ГОД Король с королевой вернулись в Гринвич готовиться к туру по стране. Он протянется несколько недель, и Екатерина занялась тщательным продумыванием своего гардероба. Ей понадобятся дюжины новых платьев, киртлов и капоров: список казался бесконечным. Изабель помогала ей, но, казалось, была озабочена чем-то другим. — Что-нибудь случилось? — спросила Екатерина. Изабель улыбнулась ей: — Я заметила, что ты стала проводить много времени с леди Рочфорд. Думаю, тебе стоит остерегаться этой женщины. У нее дурная репутация. Екатерина обмерла, и ей понадобилось мгновение, чтобы собраться с мыслями. — Ты имеешь в виду, что она выдвинула обвинения против своего мужа? — Да, это, и еще невоздержанность в отношениях с мужчинами. В молодости она была печально известна своей распущенностью. — Я ничего об этом не знаю, — твердо заявила Екатерина. — Значит, не так уж известна ее распущенность. Сейчас она не раздает милостей по своей прихоти. — Что ж, просто будь осмотрительной. Есть в ней что-то неприятное. «Изабель ревнует, — заключила Екатерина, перебирая украшения. — Она предпочла бы, чтобы я доверялась ей». Но если бы Екатерина это сделала, последствия предсказать было нетрудно: Изабель велела бы ей прекратить всякие контакты с Калпепером. Именно поэтому Екатерина не посвятила сестру в тайну своей любви к Тому. Изабель постаралась бы убедить ее, что долг нужно ставить превыше удовольствия.Екатерина трепетала от восторга, предвкушая, что долгое путешествие даст ей много возможностей для уединения с Томом. Генрих долго-долго перечислял те места, где они будут останавливаться; разумеется, там найдутся какие-нибудь укромные уголки, где можно побыть вдвоем. Джейн последит, чтобы рядом никого не было. Екатерина с истомой вздохнула. Желание в ней разгоралось, поскольку оставалось неудовлетворенным и, вероятно, никогда не будет удовлетворено. Генрих поправился и каждую ночь разделял с ней ложе, надеясь снова зачать ребенка, и Екатерина почти не виделась с Томом. Теперь Генрих уехал в Уайтхолл заниматься неотложными делами государства и забрал Тома с собой. Она спала одна и — новый томный вздох — доставляла себе удовольствие сама. Стоя на коленях в кабинете, она перебирала вещи в сундуке в поисках узора для вышивки, которой хотела украсить ночную сорочку, как вдруг услышала разговор фрейлин за дверью в соседней спальне. — Я сегодня слышала на теннисном корте, как кто-то сказал, что его милость собирается отказаться от королевы и взять обратно леди Клевскую. Это правда? — спросила Элизабет Фицджеральд. — Если она действительно бесплодна, тогда у него есть причина, — заметила Дамаскин Страдлинг. — Но что станет с нами? — О Боже! — воскликнула Элизабет и прошептала что-то, чего Екатерина не расслышала. Потом девушки ушли, шаги их стихли, а она так и стояла на коленях, держа в трясущейся руке ставшие вдруг ненужными пяльцы. Неужели это правда? Генрих не подавал признаков, что начал уставать от нее, но с ним ничего нельзя знать наверняка. Говорят, он милостиво улыбался Кромвелю до того самого утра, когда министра арестовали. Может, король и с ней притворяется. Все-таки она потеряла их ребенка. Но кто распространяет эти слухи? Человек, знающий ситуацию изнутри? Нет, это, должно быть, просто сплетни, болтовня людей, которым больше нечем заняться. Генрих рассердится, что она прислушивается к таким глупостям. Екатерина попыталась выбросить из головы слова фрейлин, но не преуспела в этом. Когда Генрих в тот вечер вернулся в Уайтхолл и явился к ней ужинать, она почувствовала, что не так весела, игрива и беззаботна, как обычно, и поймала себя на том, что пристально вглядывается в короля, ищет малейшие признаки охлаждения к ней. — Что случилось, дорогая? — наконец спросил он, накрывая ее руку своей. — С момента моего приезда вы печальны и задумчивы. Екатерина замялась: говорить ли ему, что у нее на уме? А вдруг это окажется правдой? Или король посчитает ее дурой: как можно верить в такие вещи! Но все же решила сказать, иначе ее мучениям не будет конца. — Вы решите, что я глупа, но я слышала, как мои фрейлины повторяют слухи, будто вы собираетесь взять назад леди Анну. — О, Кэтрин! Когда вы уже научитесь не доверять сплетням? Вы ошибаетесь, ища правду в подобной пустой болтовне. Если мне, не дай Бог, придется когда-нибудь жениться снова, я ни за что не возьму в жены леди Клевскую. Слова короля утешили Екатерину. Он усадил ее к себе на колени и начал целовать и ласкать. — Пусть это успокоит ваш ум, — пробормотал Генрих, потом отвел ее в спальню и сам исполнил роль горничной — развязал рукава и расшнуровал на ней платье, стянул чулки. Она стояла перед ним голой, он провел руками по ее телу. Закрыв глаза, она представила, что это делает Том, и вдруг сильно возбудилась, стала развязной, удивив Генриха своей смелостью. Вскоре они уже лежали в постели и страстно предавались любви. Екатерина наслаждалась, приглашая в себя Генриха и доводя его до экстаза. После она лежала в кольце из его рук и чувствовала себя виноватой, что мысль о Томе так воспламенила ее. Но Генрих был счастлив и ничего не замечал, остальное не имело значения.
В мае выпало несколько дней, в которые Екатерина почти не виделась с Генрихом, а когда они встречались, он был отстраненным и раздражительным. — В Йоркшире произошло восстание, — сказал он ей, найдя наконец время для совместного ужина. — Это все паписты, разумеется. Они хотели свергнуть милорда президента Севера и восстановить старые формы религии. Ну теперь они не так буйствуют. Мы всех разогнали. Как только зачинщиков поймают, их сразу казнят. — Король помолчал. — Я думаю, они хотели вызволить из Тауэра леди Солсбери и возвести ее на престол. — Нет! — воскликнула она и положила нож. — Я не могу в это поверить. — Вы ничего о ней не знаете, — сказал Генрих с необычайной суровостью. — А я знаком с ней давно. Это очень опасная женщина. Даже если сама она не была вовлечена в заговор, то остается приманкой для раскольников, и, пока она жива, я не могу быть спокоен на троне. — Генрих, она пожилая леди! Что она может сделать против вас? — Сесть на мой трон и надеть мою корону! Мне жаль, если это расстроит вас, Кэтрин, но я намерен незамедлительно привести в исполнение вынесенный ей приговор. — Вы казните ее? — Да. — Король был непреклонен. — Это недовольство среди моих подданных на севере может привести к новым заговорам с целью реставрации старой королевской ветви. Леди Солсбери — угроза безопасности королевства и моего трона. Она должна умереть. — Прошу вас, Генрих, не делайте этого, я вас умоляю! — Екатерина встала на колени у стола и схватила его за руку. Король посмотрел на нее со смешанным выражением боли и раздражения на лице: — Эту вашу просьбу я не могу выполнить. Я любил леди Солсбери. Она моя кузина и воспитывала Марию. Я считал ее самой праведной женщиной в Англии. Но это было давно, до того, как она развела вокруг себя змеиное гнездо и ополчилась на меня. Теперь я должен сделать то, что необходимо, это дело слишком сильно затрагивает меня. Екатерина поняла, что терпит поражение. Давить на короля дальше она не осмелилась. Власть, которой он обладал, вызывала в ней благоговейный ужас. Одно его слово обрекало людей на гибель. Представлять себе, какие чувства испытает бедная леди Солсбери, когда ей скажут, что ее дни сочтены, было невыносимо. Ведь эта несчастная женщина уже два года провела в Тауэре и, должно быть, считала тюремное заключение худшим, что выпало на ее долю. Как она встретит известие о неминуемой и близкой смерти на эшафоте, куда ей придется взойти, положить голову на плаху и ждать, когда опустится топор, считая истекающие секунды жизни? Как наберется она смелости перенести этот ужас? Екатерина не раз пыталась вообразить, что чувствовала в такой же ситуации ее кузина Анна, а та все-таки приняла более чистую смерть — от меча. Очень расстроенная, Екатерина поднялась с колен и села на свое место. — Когда вы отдадите приказ? — Сегодня вечером, — ответил Генрих. — Она умрет утром. Глаза Екатерины увлажнились, но сквозь туман слез она различила, что король перестал есть, и задумалась: не скрывалось ли под наружностью сурового правителя сердце, которое сжималось от боли при необходимости решаться на такие жестокие меры? Она начинала понимать, почему имя Генриха внушает многим людям страх. И это был ее супруг, которого она предавала.
Бо́льшую часть следующего утра, пока ее дамы паковали вещи, готовясь к намеченному на вторую половину дня переезду в Уайтхолл, Екатерина провела на коленях в своей молельне перед завешенным золотой парчой алтарем. — Облегчи ее страдания! — взывала она к статуе Девы Марии. — Даруй ей быстрый переход на Небеса! Екатерина вышла к обеду и села за стол в своих личных покоях, но отмахнулась от поданных кушаний: меньше всего ей сейчас хотелось есть. Потом явился Генрих и грузно опустился в кресло напротив нее. Лицо у него посерело. — Леди, оставьте нас. Дамы, сделав реверансы, вышли. Король взял Екатерину за руку: — Дорогая, леди Солсбери умерла сегодня утром. Я хочу, чтобы вы узнали об этом от меня, прежде чем услышите о случившемся от кого-нибудь другого, потому что я к этому не причастен. Екатерина напряглась. — Что произошло, Генрих? — Констебль Тауэра привел ее на Тауэр-Грин. Леди Солсбери — дама высокого ранга, поэтому я распорядился, чтобы казнь совершили не на людях. Времени построить эшафот не было, и колоду установили прямо на траве. Она приняла свою участь спокойно, предала душу Господу и пожелала, чтобы лорд-мэр и другие присутствовавшие там люди молились за меня и за вас, за принца Эдуарда и леди Марию. — Он помолчал, явно не желая продолжать рассказ. — Палач, исполняющий публичные казни, сейчас разбирается с мятежниками, поэтому констебль нашел вместо него какого-то негодного юнца. Увы, тот плохо справился со своей задачей. Боюсь, смерть не была мгновенной. Ей-богу, они за это поплатятся! — О нет! — Рука Екатерины подлетела ко рту. — Это ужасно! Она едва ли могла представить, насколько это было ужасно, и разразилась потоком слез. — Не надо! — сказал Генрих, встал и привлек ее к себе. — Мало того, что ей пришлось умереть, — сквозь всхлипы проговорила она. — Это было необходимо, — отрезал Генрих, — но такого я ей не желал. Он подержал Екатерину в объятиях несколько мгновений, потом подал ей платок — вытереть слезы. — Давайте съешьте что-нибудь. Мы скоро поедем в Уайтхолл, и я не хочу, чтобы вас тошнило, если вы сядете в барку на голодный желудок. Через силу Екатерина съела немного мяса и выпила вина, пытаясь прийти в себя, но не могла выбросить из головы отвратительные картины последних моментов жизни леди Солсбери, встававшие у нее перед глазами. Они не покинули ее и к тому моменту, когда она поднялась на королевскую барку и села рядом с Генрихом в каюте с мягкой обивкой; преследовали всю дорогу на запад, вверх по Темзе. При виде показавшегося вдали Тауэра Екатерина не могла сдержать дрожи. Генрих обнял ее рукой за плечи: — У меня есть для вас хорошие новости. Я даю вашим братьям патент на ввоз вина из Гаскони и древесины из Тулузы. Это принесет им солидный доход. Она понимала, что он старается отвлечь ее от мыслей о произошедшем за этими мрачными стенами сегодня утром. «Предано ли уже земле тело бедной леди Солсбери?» — подумала она, а вслух сказала: — Вы очень щедры, Генрих, — сознавая, что не на такую реакцию он надеялся. Обычно она раскидывала руки, обнимала и целовала его. — Они будут вам благодарны. Король убрал руку: — Перестаньте, Кэтрин. Эта женщина была изменницей. Вы бы лучше приберегли свои слезы для радости, что мятежники не свергли меня с трона. — Но то, как она умерла… — Это не моя вина! Редко Генрих бывал так резок с ней. Екатерина отвернулась и уставилась в окно, подавляя слезы. Они проплывали мимо Лондона, скоро прибудут в Уайтхолл, тогда она сможет укрыться от него и поплакать. Король больше ничего не говорил, только заметил, как красив город со множеством устремленных в небо церковных шпилей. Екатерина кивнула, но ничего не ответила, и он снова погрузился в молчание. Она чувствовала, что супруг злится на нее. — Я на вашей стороне, Генрих, правда! — вдруг выпалила она. — Знаю, изменников нужно наказывать. Но если бы вы не приказали казнить леди Солсбери, она не перенесла бы таких страданий. — Значит, это моя вина! — взвился он. — Не я махал топором. — Его лицо побагровело. — Прекрасно, когда моя жена становится на сторону изменницы, желавшей захватить мой трон! — Король кипел от гнева. — Но вы не знаете, что… — Ей-богу, Кэтрин, ее осудил парламент. Вы сказали достаточно. Помолчите! Никогда еще он не был так груб с ней. Екатерина сидела молча, по ее щекам текли слезы, но ей было все равно, видит это кто-нибудь или нет. Гребцы причаливали барку к лестничному спуску Уайтхолла. — Соберитесь, — буркнул Генрих. Она вытерла слезы и спустилась вслед за ним по трапу. Он помог ей сойти на берег, и они вместе прошли по галерее в королевские апартаменты, улыбаясь встречавшим их придворным. У дверей покоев королевы Генрих поцеловал ей руку и поклонился: — Я скоро увижусь с вами, мадам. Екатерина сделала реверанс, и он удалился.
В ту ночь Генрих к ней не пришел. Неужели она и вправду ожидала, что он придет после их первой ссоры? Екатерина поняла, как глупо было спорить с ним, тем более по поводу такого острого вопроса. Разговор без конца повторялся у нее в голове, соперничая за место с жуткими образами казни леди Солсбери. Екатерине казалось, что она не может чувствовать себя более несчастной. Миновала полночь, Генрих не появлялся, и она послала за Джейн Рочфорд. — Можешь передать мистеру Калпеперу, чтобы он пришел сюда? — Конечно, — улыбнулась Джейн, — если он не ночует в спальне короля. У нас есть условный код. Если он получает от меня сообщение, что я прошу его об одолжении, в чем нет ничего необычного, так как он получает много разных просьб, то понимает, что вы хотите его видеть. — А можно нам встретиться в твоей комнате? — спросила Екатерина. — Мадам, вам с мистером Калпепером я предоставлю ее с удовольствием. — Почему ты делаешь это? — не удержавшись, задала давно волновавший ее вопрос Екатерина. Джейн посмотрела ей в глаза: — Я люблю вас обоих. Вы милая девушка, мадам, и заслуживаете счастья. — А мистер Калпепер? — Мне он давно нравится, с тех пор как впервые явился ко двору прекрасным юношей во время Великого дела короля. — И это все? Ты подвергаешь себя большому риску ради нас. Джейн замялась и понизила голос: — Мадам, говорить о смерти короля или даже представлять ее себе — это измена, как узнала, на свою беду, королева Анна. Но все видят, что он нездоров, а принц еще очень мал. Если будет регентство, вы, как королева, можете оказаться богатой вдовой с большим влиянием, и вам понадобятся друзья, а может быть, и супруг, после приличествующего случаю срока. Вот мы и хотим быть для вас добрыми друзьями. Екатерина уставилась на нее. Неужели Том использовал ее как ступеньку на пути к власти и богатству? И они спланировали все это вместе? Играли ею, как куклой? Она пришла в такой ужас, что у нее немного закружилась голова. — Значит, он меня вовсе не любит, — дрожащим голосом проговорила она. — Он лишь добивается того, что я могу ему дать, а ты хочешь получить свою долю! — Нет! — запротестовала Джейн. — Нет! Он сильно любит вас, не сомневайтесь в этом. Он готов был жениться на вас и раньше, помните? Бог знает, тогда вы ничего не могли предложить ему в смысле власти и богатства. Сердце его было разбито, когда вы вышли за короля, предпочтя ему славу. Это правда. И Тому нужно было быть по-настоящему хорошим актером, чтобы так искусно притворяться влюбленным в последние недели. — Болезнь короля навела его на мысль о том, что может случиться, если… ну я не могу говорить об этом. Мистер Калпепер занимает важный пост в Тайном совете и хорошо знаком с порядками при дворе. Он сможет защитить вас и быть вашим советником. Вместе вы обретете большое влияние, богатство и будете счастливы. Мы все можем выгадать. Честно, Кэтрин, мы не используем вас. Я всегда была вам другом. Опять «мы». Екатерине это не нравилось. Лучше бы они объяснили ей свои замыслы с самого начала. Джейн-то, похоже, и правда использовала ее. А что касается Тома… — Мне нужно видеть его, — сказала она. — Пошли за ним сейчас же.
Когда Том проскользнул в спальню Джейн, его лицо осветилось при виде находившейся там в одиночестве Екатерины. — Леди Рочфорд начеку? — спросила она. — Да. Сидит в галерее. О, Кэтрин… — Он хотел обнять ее, но она отшатнулась и сказала: — Меня использовали те, кому ради своих целей нужно было женить на мне короля. Теперь, похоже, мной снова пользуется тот, кто должен любить. Ты рассчитываешь пробиться к власти с моей помощью? Том ужаснулся: — Я хочу только любить тебя и взять в жены. Это дело времени. — Говори потише! У стен здесь есть уши. По словам Джейн, ты надеешься получить влияние в случае регентства, как и сама она хочет выгадать от этого — на мне! Том крепко обнял ее и не отпускал, хоть она и силилась вырваться. — Кэтрин, я бы женился на тебе, даже если бы ты была кухаркой. То, что ты королева, ничего не меняет. Ты не можешь сомневаться в моей любви. Но ты королева, и если мы поженимся, то все сможем жить счастливо. Даже если Джейн помогает нам из корыстных соображений, у нас есть причины благодарить ее. И не забывай, она помогала нам задолго до того, как король решил жениться на тебе. Екатерина позволила себе растаять в его объятиях. — Я думала об этом. Меня все время интересовало, каковы ее мотивы. — Между нами, она странная женщина. Ей доставляет удовольствие наблюдать за любовью других. У меня часто возникало впечатление, что она сама влюблена в меня, но, если так, зачем ей поощрять мою любовь к тебе? — Меня посещали такие же мысли, — призналась она. — Это как-то непонятно. — Никогда не сомневайся во мне! — убежденным тоном произнес Том, и Екатерина позволила ему поцеловать себя. — Прости мне дурные мысли о тебе, — тихо произнесла она. — День выдался ужасный, и я была расстроена. Ты слышал о леди Солсбери? — Да, — ответил Том, прижимая ее к себе. — Я ужаснулся. Как и все. — Король рассердился на меня, потому что я критиковала его за это. Я молила сохранить ей жизнь, но он не слушал. — Ты проявила большую отвагу. Он в последнее время в переменчивом настроении. — Это было самое меньшее, что я могла сделать. — Она содрогнулась, вспомнив, как Генрих разговаривал с ней. Они сели на кровать и долго беседовали, потом принялись целоваться и не останавливались, пока не забрезжили первые лучи зари.
Бо́льшую часть июня Генрих не приходил к Екатерине — ни в постель, ни за стол. В церкви или когда она сидела на троне рядом с ним в приемном зале, он был любезен и улыбался. Никто не заподозрил бы, что король недоволен супругой. Но Екатерина не сомневалась, что Генрих намеренно избегает ее общества. Вероятно, он искал удовольствий где-то в другом месте. «Прекрасный способ заиметь сына», — злилась она. Екатерина не покидала своих покоев. Том приходил к ней почти каждую ночь, и Джейн стерегла их. Один раз, когда по галерее ходили туда-сюда слуги — вероятно, кто-то заболел, — она сидела в комнате, повернувшись к ним спиной. Ее присутствие сковывало, и когда Том попытался обнять Екатерину, она, ощутив неловкость, воскликнула: — Ради Бога, Джейн рядом с нами! — вспомнив со стыдом, что в Ламбете не была такой скромницей. Но Том — он особенный; она любила его, как никого другого, и ей не хотелось ничем марать эту любовь.
— Эдвард сказал мне, что его величество берет с собой на север самые дорогие наряды, лучшие ковры и посуду из Уайтхолла, — однажды утром сообщила Изабель, подавая Екатерине завтрак. — Он считает, тебя коронуют в Йорке. Екатерина испугалась. Но начала верить в это, когда в тот же день столкнулась с Генрихом в саду, где прогуливалась с дамами, а он приветствовал ее звучным поцелуем. Она изумилась такой перемене в его поведении и не могла придумать объяснения этому внезапному потеплению к ней короля. Может быть, он вовсе не злился на нее, а болел? Он сегодня особенно сильно хромал. — Какое милое зрелище в такой великолепный день! — воскликнул он. — Рад видеть вас, Кэтрин! Она сделала реверанс. Сопровождавшие короля джентльмены заулыбались, приподняли шляпы и поклонились. Только Том не улыбался. — Пойдемте, дорогая, прогуляемся, — сказал Генрих и повел Екатерину впереди остальных. — Вы готовы к туру по стране? — Да, сир. Вчера доставили мои новые платья. — Знаю. Я получил счет. Вы меня погубите! — Он покосился на нее. — Простите, если я вызвала ваше неудовольствие. Король уловил намек. — Я не могу долго сердиться на вас, дорогая, — сказал Генрих, зажимая ее руку в сгибе локтя. — Эта поездка на север очень важна. Обычно я отправляюсь охотиться, и дичи там изобилие, но этот объезд страны я намерен обставить особым великолепием, чтобы произвести впечатление на моих северных подданных, нагнать благоговейного страху и показать им, что надо мной нельзя глумиться. К сожалению, в тех краях еще остается много папистов, которым не по душе мои реформы. Я хочу усилить свою власть на севере и собрать штрафы, наложенные на города, поддержавшие Благодатное паломничество. — Вы раньше бывали на севере, сир? — спросила Екатерина. — Нет. Там я для людей всего лишь имя. Ну ничего, скоро они познакомятся со мной поближе! И я с нетерпением жду встречи со своим племянником королем Яковом, чтобы скрепить узы дружбы между нами. Это поможет защитить мои северные границы от вторжений шотландцев. — Король повернулся к своим джентльменам. — Да, мы так продемонстрируем им мощь Англии, что они затрепещут от страха! Придворные встретили это заявление одобрительными возгласами и стали хлопать один другого по спине. — О, сир, я надеюсь, вы не подвергнете себя опасности, — с тревогой проговорила Екатерина. — Вы внушаете мне страх перед этой поездкой. — Чепуха! — рявкнул Генрих, остальные мужчины засмеялись. — Я беру с собой столько вооруженных людей, что моя свита будет больше походить на военный лагерь, чем на двор. А вы, моя королева, можете ожидать теплого приема, потому что ваша семья хорошо известна на севере. Люди там не забыли, как ваш дедушка разбил шотландцев при Флоддене. Это была правда, но Екатерина не сомневалась, что последним их воспоминанием о Говардах будет кровавая расправа дяди Норфолка с участниками Благодатного паломничества.
Екатерина пребывала в отличном настроении, вместе с дамами отбирая платья для поездки. Оно улетучилось, когда церемониймейстер принес ей запечатанный пакет. Она удивилась и расстроилась, увидев, что это послание от Фрэнсиса Дерема. Что он мог сказать ей теперь? Удалившись в кабинет, она сломала печать и обнаружила вложенные в письмо десять фунтов золотом. Дерем обращался к ней с должной вежливостью и просил о милости. Не может ли она предложить ему должность при своем дворе? Деньги, видимо, были взяткой. У Екатерины возникло такое же чувство, какое она испытала год назад, получив угрожающее письмо от Джоан Балмер. К счастью, та ей больше не писала, и Екатерина про себя молилась, чтобы так оставалось и дальше. Здесь не было ни скрытой угрозы, ни напоминаний об их общем прошлом, но отправка ей такой значительной суммы содержала в себе послание. Она не хотела видеть рядом с собой Фрэнсиса. Он был живым воплощением всего, о чем она хотела забыть. Вряд ли можно рассчитывать, что он сохранит в тайне их историю. Королева не забыла, каким невоздержанным на язык был Дерем, когда выпьет. Чем дальше она сможет держать его от Генриха, тем лучше. Ей не хотелось, чтобы он наблюдал за ней, вожделел к ней, заводил речи о том, что она его жена… А вдруг он учует, что она неравнодушна к Тому? Жуткая мысль! Нужно отказать ему. Что ей написать? Потом Екатерина вспомнила, что она королева и не обязана ничего отвечать. Она проигнорирует письмо и будет надеяться, что отправитель правильно поймет ее молчание.
Глава 26
1541 ГОД Впервые Екатерина видела столько людей и лошадей одновременно. Говорили, что такой огромной королевской свиты страна не лицезрела с того момента, как Генрих встречался с французским королем на Поле золотой парчи двадцать один год назад, когда она еще не родилась. — Тут пять тысяч лошадей и тысяча солдат, — сказал ей Генрих. Они стояли на дворцовой лестнице и наблюдали развернувшуюся перед ними картину. Король был в костюме для верховой езды, и ему не терпелось тронуться в путь. Его сопровождал весь двор — невероятное множество людей. Те, кому не найдется места в домах, где остановятся Генрих, Екатерина и Мария, будут ночевать в походных шатрах. Принц Эдуард, конечно, никуда не поехал. Король сильно беспокоился о его здоровье и безопасности. В Лондоне заниматься делами государства остались архиепископ Кранмер, лорд-канцлер Одли, граф Хартфорд и сэр Ральф Сэдлер. — Более опасной кучки еретиков и представить невозможно, — прорычал в ухо племянницы Норфолк, глядя, как те совещаются с королем. — Нам повезет, если к моменту нашего возвращения Англия не станет протестантской. — Дядя, вы слишком беспокоитесь, — укорила его Екатерина. — Король не назначил бы их, если бы не питал к ним доверия. — Кромвелю он тоже доверял, — напомнил ей герцог. — Да, и со временем пожалел об этом. — Не дай Бог ему пожалеть о том, что он наделил властью эту компанию! — недовольно пропыхтел Норфолк. Король как будто был готов к отъезду. Увидев, что он направился к своему коню, Екатерина поспешила присоединиться к супругу. Вокруг все садились на лошадей, прощались, выкрикивали последние распоряжения. Сидя в седле, Генрих подал сигнал. Зазвучали трубы, и они с Екатериной бок о бок двинулись вперед во главе огромной свиты — пять тысяч человек, так сказал ей Генрих. Он с досадой поглядывал на небо: — Как-то не по сезону холодно для конца июня. Надеюсь, дождя не будет. Нам нужно проехать несколько миль, прежде чем мы найдем укрытие. Екатерина тоже на это надеялась. Жаль будет, если ее зеленый бархатный костюм для верховой езды пострадает от сырости.Первые несколько дней дождь не шел. Они ехали на север, останавливались в Хатфилде, Данстейбле и Эмптхилле по дороге в Графтон, попутно охотились, в том числе с соколами. В каждом городе люди собирались толпами поглазеть на них. Генрих ехал впереди на своем могучем коне в сопровождении главных лордов, которые выстраивались парами, а следом за ними скакали шесть или восемь десятков лучников с натянутыми луками. Екатерина, леди Мария и остальные дамы держались позади. Улицы были ярко украшены, произносились речи, устраивались приемы и банкеты. Генрих завоевывал сердца, напуская на подданных свои неотразимые чары и давая доступ к себе всем, кто искал его справедливого суда. Екатерина изумлялась, как хорошо было продумано перемещение такого огромного количества людей. Различные службы королевского двора снабжали путников горами провизии, которая дополнялась дичью и рыбой, добытой охотничьими партиями и приготовленной на полевых кухнях. После довольно быстрого начала продвижение замедлилось. Как и боялся Генрих, им помешали дожди, сопровождавшиеся штормовым ветром. Дороги, ведущие на север, залило, и повозки с багажом пробирались по ним с большим трудом. Каждый день все промокали до нитки, и вскоре Екатерина перестала беспокоиться о том, как выглядит ее одежда. С этим ничего нельзя было поделать. Каждую ночь она так мерзла, что приходилось зажигать огонь в ее комнатах — и это в июле! — Я рассчитывал к этому времени быть в Линкольне, — ворчал Генрих; они провели в дороге уже три недели. — Этот дождь никогда не прекратится. Грустно видеть уничтоженные посевы. — Он махнул рукой в сторону тянувшихся вдалеке полей. В тот день у Екатерины начался сильный насморк. Пришлось провести еще одну ночь в королевском поместье Графтон, чтобы дать ей время оправиться. Фрейлины рассуждали, не отдаст ли король приказа поворачивать обратно, но Екатерина знала, что этого не будет. Этот тур по стране значил для Генриха слишком много. Но такими темпами им не добраться до Линкольна и к середине августа. После Графтона небо прояснилось, и королевская процессия смогла двинуться к Нортгемптону с большей скоростью. Екатерина чувствовала себя лучше, и Генрих был в жизнерадостном настроении. До сих пор возможности устроить свидание с Томом не представлялось, и к моменту, когда в конце июля добрались до Лоддингтон-Холла, она вся извелась от досады. Уже много недель они не оставались наедине, и она видела Тома только мельком среди людей или второпях, когда входила или выходила из очередного пристанища. У них едва хватало времени обменяться взглядами. В Лоддингтоне, боясь, как бы Том не подумал, что она к нему охладела, Екатерина взялась писать ему письмо, в котором сообщила, что устроит встречу, как только сможет. Она запечатала свое послание, оставив наружную сторону пустой, подозвала Мег Мортон и приказала отнести записку леди Рочфорд: — Скажи ей, я сожалею, что не могу написать ничего больше. Мег вернулась и передала ей, что леди Рочфорд обещала дать ответ завтра утром. Екатерина погрузилась в лихорадочное нетерпение и отправила Мег к Джейн еще до завтрака. Та вернулась с запечатанной запиской. — Миледи просит вашу милость держать это в секрете, — сказала девушка, которой было явно любопытно узнать, что внутри. — Благодарю. — Екатерина улыбнулась и, решив сбить Мег со следа, добавила: — Короля это порадует! Когда фрейлина ушла, она сорвала печать и прочла, что Том сказал: он готов ждать вечно, если понадобится, только бы в конце концов увидеть ее. И все. Улыбнувшись себе, Екатерина сожгла записку. В Колливестон она летела как на крыльях, едва слушая Генриха, говорившего, что это была любимая резиденция его бабушки леди Маргарет Бофорт, графиниРичмонд. А потом он прибавил, как-то задумчиво, что его незаконнорожденный сын, герцог Ричмонд, тоже владел этим поместьем. Екатерина с удовольствием отметила, что никаких напоминаний об этом в доме не осталось. Ей не хотелось, чтобы следы былого присутствия здесь умершего сына печалили Генриха. Ничто не должно портить им отпускного настроения. В замке Гримсторп их радушно принимали герцог и герцогиня Саффолк. Герцогиня была одной из главных дам при дворе Екатерины и гордо показывала, какие улучшения они произвели в древней крепости. Генрих утомился и прислал сообщение, что не придет в спальню Екатерины, которая располагалась в одной из старых башен. Она тут же отправила Кэт Тилни к Джейн Рочфорд спросить, когда получит то, что та ей обещала. Ответ был: Джейн сидит и ждет, а завтра сама сообщит обо всем королеве, и не стоит утруждать Кэт снова. Когда совсем стемнело, Екатерина встала, надела ночной халат из черного дамаста и спустилась по винтовой лестнице в спальню Джейн ярусом ниже. Том был там, ждал ее. Увидев Екатерину, босую и с распущенными волосами, он втянул в себя носом воздух. Времени на разговоры не было. Том заключил ее в объятия, и они поцеловались так жадно, будто хотели проглотить друг друга. Его рука легла ей на грудь, но она убрала ее. Вынужденная сдержанность подпитывала их страсть, и Екатерина вернулась к себе, когда было уже два часа ночи. На следующий вечер их планы нарушил Генрих, который пришел в спальню к супруге с твердым намерением заняться постельными упражнениями. — Посмотрим, не удастся ли нам сегодня заделать еще одного принца для Англии! — бросил он вызов супруге, разгоряченный вином. По большей части то же самое было на уме у короля и в следующие ночи, но на каждой остановке Екатерина пыталась тайно увидеться с Томом, урвать хотя бы несколько мгновений. Джейн проявляла изобретательность. Она продолжала поощрять их, передавала сообщения и иногда подарки, только теперь ее посылала к Тому Екатерина. В каждом новом доме она сама разыскивала задние двери и черные лестницы, вместо того чтобы поручить это Джейн, и сообщала своей наперснице, удобны ли они для устройства тайной встречи с любимым. Иногда Екатерина брала с собой на поиски фрейлин, говоря, что им нужно знать, где выход на случай пожара. Если девушки и подозревали неладное, то ничего не говорили. Когда Том приходил по ночам, Екатерина всегда приказывала Джейн быть рядом, потому что та завела привычку уходить куда-нибудь. Екатерине стало казаться, что она пытается оградить себя от неловких ситуаций. Однажды ночью, когда они с Томом лежали на постели, полностью одетые, и шептались, он вынул из кармана кольцо от судорог, одно из нескольких, освященных королем в Страстную пятницу. — Я стащил его у Джейн, — сказал Том. — Она говорит, оно твое. — Нет, — шепнула Екатерина. — Зачем она солгала? — Не представляю. — Я пошлю ее к тебе с одним из моих. Пусть у тебя будет два. Говорят, носить одно — это дурной знак. На следующий день она исполнила обещанное.
Девятого августа они прибыли в Темпл-Брюер, что в семи милях от Линкольна, и там для них был устроен пышный обед. Генрих облачился в линкольнский зеленый[151], чтобы сделать приятное жителям графства, а Екатерина появилась в алом бархате. Шелковый шатер для короля и королевы разбили за городской стеной, и они проследовали туда в сопровождении свиты, предшествуемые трубачами, барабанщиками, лучниками с натянутыми луками и йоменами личной стражи короля, вооруженными пиками и топорами. — Отцы города уже собираются в Линкольне, ваши величества, — сообщил им сэр Роберт Тирвитт, главный шериф Линкольншира, когда они сели за пиршественный стол в своем шатре. Екатерина внутренне трепетала. Линкольн восстал против короля во время Благодатного паломничества и был приведен к покорности жестокими мерами. Не случится ли каких-нибудь демонстраций или даже бунта? Но Генрих не выказывал ни малейшей тревоги. Он с аппетитом принялся за еду. Закончив трапезу и дождавшись, когда разойдутся местные богачи, Генрих и Екатерина подготовились к приему в Линкольне. Он переоделся в наряд из блестящей золотой парчи, она облачилась в серебряную. Когда они вышли на публику, их ждали придворные леди и джентльмены, с которыми были шестеро детей почетного эскорта в платьях из парчи и бархата. Том прислуживал королю, и Екатерина невольно отметила про себя, как он красив в костюме из темно-красного дамаста. К ним приближалась процессия знати во главе с настоятелем Линкольнского собора и духовенством. Архидиакон произнес речь на латыни и преподнес королю корзину местной снеди: полынные колбаски, жареные потроха, имбирный пряник и сливовый хлеб, за что Генрих его сердечно поблагодарил. Потом они с Екатериной оседлали своих коней в роскошных попонах. Лорд Гастингс с государственным мечом в руках пошел впереди, король двинулся следом, его жеребца вел под уздцы главный конюший. За ним верхом на огромных лошадях поехали дети, а дальше — граф Ратленд, Кэтрин и остальные дамы. Замыкала шествие королевская стража. У ворот Линкольна их встречал мэр со своей братией; он пал на колени и возопил: — Иисусе, сохрани вашу милость! Городской судья зачитал речь по свитку, который после этого преподнес королю. Тот отдал его герцогу Норфолку. Кэтрин наблюдала за горожанами, некоторые из них смотрели на ее дядю с плохо скрываемой враждебностью. Господь знает, у них не было оснований для любви к нему. Узел напряжения у нее в животе затянулся туже. Тем временем мэр предъявлял свои знаки отличия — меч и жезл; главные горожане, рыцари и джентльмены графства занимали места во главе свиты Генриха. Потом огромная кавалькада снова тронулась, и когда король с королевой въехали в Линкольн, на всех церквах зазвонили колокола. Им пришлось взбираться на такой крутой холм, каких Екатерина в жизни не видела. Где-то в середине подъема она глянула через плечо на обрывавшийся вниз склон и ощутила легкое головокружение. Решительно устремив взор вперед и наказав себе больше туда не смотреть, она поехала дальше. Она кивала головой и улыбалась стоявшим по обеим сторонам дороги людям. На вершине процессия свернула вправо, и перед ними вырос мощный фасад собора, украшенный великолепными арками. Казалось, приветствовать их собрался весь Линкольншир. Мэр и отцы города опустились на колени, а Генрих взирал на них с коня. Стоявшие вокруг люди тоже стали падать ниц. Мэр откашлялся и заговорил звенящим голосом: — Ваше величество, мы, ваши смиренные подданные, жители этого, покорного вашей милости графства Линкольн, признаем себя негодными людьми, которые из-за нехватки приличия и истинного знания правды Божьей самым прискорбным, отвратительным и бездумным образом нанесли обиду вашему величеству, проявив злостное, гнуснейшее и возмутительнейшее непослушание и устроив изменнический мятеж. Мы молим вас о всемилостивейшем прощении и обещаем, что отныне мы сами и потомки наши будем молиться о благополучии вашего величества, королевы Екатерины и принца Эдуарда. Генрих окинул орлиным взором море склоненных голов. — Добрые люди Линкольншира, мои возлюбленные подданные! — провозгласил он. — Я официально прощаю вам ваше непослушание. Прошу вас всех встать и разойтись с миром. Он пришпорил коня и поехал сквозь толпу вместе с Екатериной, которая улыбалась сверху вниз тем, кто благословлял ее за обретение королевской милости. «Клянусь святой Марией, — подумала она, — эти люди считают меня своей заступницей! Я этого не заслужила». О других причинах, не дающих ей права на восхваления, королева думать не стала. Они подъехали к западным дверям собора и спешились. Внутри с крестом в руке и клиром за спиной их ждал епископ Линкольнский, духовник короля. Вдоль нефа был расстелен ковер, а перед главным алтарем поставлены две молитвенные скамьи с парчовыми подушками для преклонения колен. Встав на молитву рядом с Генрихом, Екатерина увидела, что для них обоих были положены распятия. Она с жаром поцеловала свое и возблагодарила Господа, что день прошел так хорошо и не возникло никаких проблем. Потом епископ окурил их ладаном; они приняли причастие и помолились под хоровое пение «Te Deum».
Разместились король с королевой в примыкавшем к собору Епископском дворце, очень старом здании, которое с годами приукрасилось. Вечером епископ Лонгленд устроил в главном зале пир в честь королевской четы. Ближе к ночи, когда стало ясно, что Генрих к ней не придет, Екатерина выскользнула из своих покоев, полностью одетая, с намерением подняться в комнату Джейн и попросить, чтобы та вызвала Тома. Она преодолела два коротких лестничных пролета и вдруг услышала за спиной голос Кэт: — Простите, мадам, мы не слышали, как вы нас звали. Екатерина оглянулась и увидела стоящих в галерее Кэт и Мег. — Я просто пошла повидаться с леди Рочфорд, — объяснила она фрейлинам. — Мы должны сопровождать вашу милость, — вызвалась Мег, и девушки пошли вслед за ней, и она не посмела отказаться от их услуг, чтобы они не учуяли подвоха. Наверху лестницы она улыбнулась и сказала: — Вы можете ложиться спать. Я позову вас, если понадобится. Фрейлины спустились вниз, Екатерина открыла дверь и, облегченно вздохнув, опустила плечи. Джейн изложила ей свой план. — Мы договорились, что он будет ждать сигнала под моим окном. Если я не покажусь до полуночи, он пойдет спать. Как только Том появился, Екатерина прильнула к нему, а он начал целовать ее так горячо, будто не мог остановиться. Когда желание немного утихло, они больше часа проговорили, стоя на маленькой галерее, окружавшей верхнюю площадку лестницы, потому что Джейн устала, и Екатерина почувствовала себя обязанной отпустить ее. Один раз им показалось, что на лестнице внизу кто-то был, но когда Екатерина спустилась посмотреть, то никого не увидела. Спать она легла около двух часов, голова ее полнилась мыслями о Томе. На следующий день она сопровождала Генриха во время прогулки по замку Линкольна и старому городу. Король находился в приподнятом настроении и особенно хотел, чтобы ему показали какие-то римские развалины и гробницу Екатерины Суинфорд, своей прабабки, упокоенной в соборе. — Она была матерью Бофортов, а это семья моей бабушки, — сказал он, глядя на медную доску. — Джон Гонт очень любил ее, сделал своей любовницей, а потом женился на ней. Для герцога из королевской семьи это был из ряда вон выходящий поступок, но любовь превращает в глупцов достойнейших мужчин! — Генрих подмигнул Екатерине. — Тут сказано, что она была красавицей. — Король читал латинскую эпитафию. — Как и вы, любовь моя. — Он взял ее руку и сжал. Она думала, Генрих придет к ней этой ночью, но нога сыграла с ним злую шутку. Он слишком долго ходил, — так объяснил свою немощь король. В одиннадцать часов Екатерина стояла с Джейн у задней двери своих покоев и ждала Тома. Они высунулись на улицу, а мимо как раз проходил стражник с факелом. Женщины отпрянули и скрылись внутри, а он запер на замок дверь снаружи. Екатерина и Джейн в смятении переглянулись. — Как же Том войдет? — прошептала Екатерина. Вскоре они услышали, что кто-то возится с замком, а потом раздался звук удаляющихся шагов. Через некоторое время дверь открылась, на пороге стоял улыбающийся Том. Джейн затащила его внутрь и поспешила затворить дверь. — Мой человек вскрыл замок, — сказал им Калпепер. — Не волнуйтесь, он ушел. Екатерина порадовалась его изобретательности. — Иди наверх и жди меня в комнате леди Рочфорд, — сказала она и поспешила в спальню, где уже собрались фрейлины, чтобы укладывать королеву в постель. — Дамы, вы можете идти, — скомандовала она. — Разве вашей милости не нужно помочь раздеться? — спросила Кэт. — Вы поможете мне, когда понадобится, — торопливо ответила Екатерина. Никто не должен заподозрить неладное. — Но я лягу поздно, так что вам придется подождать. Рассудив, что Джейн, вероятно, уже провела Тома в свою спальню, она взяла с собой Кэт Тилни, поднялась по лестнице и оставила девушку на площадке вместе с горничной Джейн, сказав: — Мне нужно обсудить одно личное дело с миледи Рочфорд. Не беспокойте нас. Том ждал в комнате вместе с Джейн. — Я тут подумала, вы можете побыть вдвоем в вашей уборной, — сказала Джейн. — Никто вас там не найдет и не услышит. А я постерегу в спальне. Екатерина согласилась без колебаний, ей нужно остаться наедине с Томом. Когда путь был расчищен, они втроем крадучись спустились вниз. Джейн отправила спать фрейлин, которые ждали момента, когда нужно будет готовить королеву ко сну. Уборная, куда они вошли через опочивальню королевы, была просторной, тут хватало места, чтобы развесить одежду, к тому же в этом помещении поддерживали особую чистоту и часто его проветривали. Туалет стоял в углу — обтянутый красным бархатом, с мягкой подбивкой, закрепленной медными гвоздями с большими шляпками. Том притащил скамью, они сели и увлеклись беседой, не замечая, как течет время; поговорили о том, как жили до встречи при дворе, и о любви. Екатерина преуменьшила свои чувства к Фрэнсису, не заикнулась об их планах пожениться и о том, насколько они были близки. — Меня принуждали делать то, чего я не хотела. Я не могла открыть этого королю — слишком сильно боялась его, но с тобой я честна, потому что люблю тебя по-настоящему и хочу, чтобы между нами не было никаких секретов. — Ты ложилась с ними в постель? — резко спросил Том. — Только с Фрэнсисом, — ответила она, — но я была осторожна. Он не заходил дальше, чем я ему позволяла. Пусть Том думает, что границы дозволенного простирались не так уж далеко. — Они пользовались тобой, эти негодяи! — кипятился Том. — Ты была юной и наивной. А Мэнокс — он же твой учитель! И попрал оказанное ему доверие. Его следовало выпороть кнутом! Екатерине не хотелось говорить, что она поощряла Гарри. — Не будем об этом. Все в прошлом. Надеюсь, ты не стал думать обо мне хуже? — Она с мольбой посмотрела на Тома. — Как я могу? На тебе греха меньше, чем на тех, кто согрешил против тебя. Забудь все, милая Кэтрин. И не будем больше никогда говорить об этом. Он привлек ее к себе и принялся целовать, а она думала о том, что так и не была до конца честна с ним. Но то, о чем Том не знал, не могло задеть его чувства, верно? — А ты, конечно, в свое время заглядывался на многих юных леди, — ловко сменила тему Екатерина. Том снова поцеловал ее. — На нескольких, — ответил он, с виду все еще раздраженный. — Прежде чем отдал сердце тебе. — Ты любил кого-нибудь из них? — Тогда думал, что да, но большинство, как Бесс, мало для меня значили. Я ухаживал за ней только потому, что ты была недоступна. С марта я ее не видел. Именно тогда Бесс покинула службу у Екатерины. — Ты сказал ей, что устал от нее? — Боюсь, я это сделал и тем обидел бедняжку, — признался Том. Екатерина так сильно любила Тома, что вдруг посочувствовала любившей, но потерявшей его девушке. Нужно было ей тогда, в марте, проявить больше доброты к Бесс. — И она из-за этого покинула двор? Том кивнул: — Я понял, что по-прежнему люблю тебя и замены тебе не найти. Было просто нечестно вовлекать ее в отношения, которые ни к чему не приведут. — Знаешь что? Я пошлю ей платье! — порывисто сказала Екатерина. — Пусть это будет компенсацией за утрату. Мне жаль ее. — Это более чем щедро! — восторженно проговорил Том. — Подарить ей платье должен я. — О нет, ты не должен! Я отправлю ей подарок и передам на словах: «Надеюсь, у вас теперь все хорошо». В спальне послышался шум. Екатерина задержала дыхание. Наверняка это Джейн. Но вдруг Генрих проснулся среди ночи и ему пришло в голову навестить свою супругу? Сегодня он был настроен любовно — ласкал ее и целовал почти на глазах у всех. Но он никогда не приходил к ней так поздно. Екатерина просунула голову в дверь. Слава Богу, там была только Джейн — шила при свете свечи! И вновь какой-то шум, на этот раз из лестничного колодца! Екатерина вздрогнула. Джейн вопросительно подняла на нее глаза, тогда она прокралась по комнате, приоткрыла дверь и глянула вниз, на лестницу. Никого. — Наверное, это мышь, — сказал Том, когда Екатерина вернулась. — Не стоит так пугаться. — Должно быть, я действительно люблю тебя, — сказала она, — раз иду на такой риск. — Я тоже рискую, — напомнил он ей. — Но ты привязала меня к себе, как уже было прежде, и теперь я опять должен любить тебя больше всех на свете! Они снова принялись целоваться, но в ужасе отскочили друг от друга, когда снаружи раздался громкий стук. — Жди здесь, — шепнула Кэтрин. Она выглянула в спальню и увидела посеревшую лицом Джейн, которая стояла посреди комнаты. Кто-то громко колотил в наружную дверь. У Кэтрин похолодела кровь. — Откройте! — прошипела королева, нырнула обратно в уборную и закрыла за собою дверь. Они с Томом стояли, задержав дыхание. Приподнялась задвижка, и раздался голос камеристки миссис Лаффкин: — Королева до сих пор не в постели, миледи. Вы знаете, где она? — Она в уборной, — ответила Джейн. — Ох! Какое облегчение! А мы-то думали, куда она пропала. Вы знаете, который час? — Я слышала, часы пробили три, — сказала Джейн. — Уже почти четыре. — Ее милость не рассчитывает, что вы так долго будете бодрствовать ради нее. Тилни ждет, чтобы уложить королеву в постель. — Тилни дрыхнет на лестнице. — Ложитесь спать, Лаффкин! — рявкнула Джейн. Екатерина и Том услышали, как хлопнула дверь. — Лучше я пойду, — сказал Том. — Мне не хочется, но скоро уже рассветет. — Он поцеловал Екатерину в губы. — Пусть Господь пошлет тебе сладкий сон! — По правде говоря, он мне необходим. В последнее время она так часто не ложилась спать допоздна, что чувствовала себя уставшей и измотанной, иногда даже задремывала, сидя в седле. Изабель спрашивала, не заболела ли она, и Генрих как-то заметил, что она осунулась. Ей нужно поспать!
Через два дня королевская свита длинной процессией потянулась в Гейнсборо. Граф Дерби нес перед королем государственный меч. В Гейнсборо они остановились в замке Олд-Холл. Екатерине он приглянулся, хотя его хозяин, краснолицый, прямолинейный и откровенно страшный с виду лорд Бург, немного обескуражил ее. В сопровождении своих бесчисленных чад и нервной жены он встречал короля так, будто оказывал ему милость, и, окинув Екатерину с головы до ног блудливым взглядом, со смешком проговорил: — Хороших детишек нарожает ее милость, а? — не замечая, что по шее Генриха от воротника вверх расползается опасная краснота. Однако душевное общение наладилось, когда его светлость проводил высоких гостей в главный зал своего дома — отделанный деревом, с высоким потолком — и предложил по кубку прекрасного вина, а потом настоял, чтобы кубки наполнили заново. Леди Бург показала королеве приготовленную для нее комнату наверху башни, куда можно было попасть из главного зала. Пока они поднимались по ступенькам узкой винтовой лестницы, Екатерине стало ясно, что Генриху их никогда не одолеть, и она вознесла благодарственную молитву, узнав от хозяйки, что королю отвели лучшие покои на первом этаже. А вот Тому справиться с этой преградой не составит труда. Вечером, только успела закрыться за ней дверь спальни, Екатерина затосковала по нему. Ее охватило желание не только излить ему свои чувства, но и слиться с ним физически; избавиться от этого наваждения не удавалось. — Пришлите ко мне леди Рочфорд, — приказала она фрейлинам и отпустила их. Джейн пришла, запыхавшись от подъема. В живости и проворстве она уступала Екатерине. — Ты можешь устроить, чтобы мистер Калпепер тайно пришел сюда? — Я не знаю точно, где его разместили, — с сомнением ответила Джейн. — Тогда ты должна передать ему сообщение. Скажи, что я тоскую… Нет, скажи, я умираю от любви к нему! Джейн пристально вгляделась в нее: — Вы понимаете, что говорите? Я о том, как он может истолковать значение этого «умираю»? — Я хочу, чтобы он именно так все и понял. — Мадам, я не догадывалась, что вы оба зашли так далеко. — Мы не зашли… Вот почему я умираю от тоски по нему! — Будьте осторожны, молю вас. — Джейн выглядела испуганной. — Вдруг он сделает вам ребенка? — До этого не дойдет! Но есть другие способы дарить наслаждение. — А то я не знаю. — В голосе Джейн прозвучала горечь. — Что ты имеешь в виду? Екатерина вдруг поняла, что ей почти ничего не известно о женщине, которая стала поверенной всех ее тайн. — Мой покойный супруг делал со мной такие вещи, которые я не в силах описать словами, и никогда не решусь на такое, — пробормотала Джейн. Лорда Рочфорда она при Екатерине почти никогда не поминала, и теперь было легко понять почему. — Разумеется, мистер Калпепер не такой, — торопливо добавила Джейн. — Я прошу только, чтобы вы были осмотрительны. Но не стану отказывать вам в удовольствиях, — сказала она уже бодрее. — Пойду разыщу мистера Калпепера. Если горизонт чист, я приведу его к вам.
В ту ночь Екатерина позволила Тому изучить потайные места ее тела и доставить ей удовольствие. Экстаз, который он возбудил в ней, был сродни духовному опыту и поглотил ее целиком. Ее подмывало отдаться ему, но она сохранила остатки рассудительности и заставила его сдержаться, пока их обоих не унесло окончательно в пучину страсти. Потом они вместе лежали на постели. «Сколько еще нам удастся продержаться? — спрашивала себя Екатерина. — Скоро ли я буду принадлежать ему целиком?» Осознав истинный смысл этого, она испытала глубокое чувство стыда. Хотя такое состояние постепенно становилось для нее привычным.
Через неделю они остановились в Хатфилде, рядом с Донкастером, в старинном нормандском поместье, которое мало чем могло их порадовать, помимо чисто спартанского комфорта. Однако охота в Хатфилде была превосходная: Генрих со своими джентльменами настрелял около четырехсот оленей за два дня. Екатерина с ними не ездила. Начавшиеся месячные проходили болезненно. Она снова не забеременела. Надолго ли хватит терпения у Генриха? В последнее время он окружил ее такой любовью, но это может закончиться, если она не даст ему того единственного, что имело значение. К вечеру ей стало лучше, и она поднялась с постели. На час вышла в сад со своими дамами, потом сидела за вышивкой у себя в комнате. Около шести часов Екатерина услышала стук копыт: охотники вернулись. Подойдя к окну, она увидела въезжавшего во двор Генриха и помахала ему. Он приветственно поднял руку, спешился и вошел в дом. Среди скопища людей и лошадей Екатерина заметила Тома и не могла оторвать от него глаз. Он выглядел таким изящным в кожаном охотничьем костюме, с развевавшимися на ветру темными волосами… Том поднял взгляд, увидел ее и быстро отвернулся. Она следила за ним, пока он не скрылся из виду, а отойдя от окна, заметила, что Мег Мортон наблюдает за ней в не слишком дружелюбной манере. Ей показалось, что Мег и, вероятно, Кэт Тилни начинают кое о чем догадываться. Не нужно было смотреть на Тома так долго. Больше она подобной оплошности не допустит! — поклялась Екатерина. Как же легко выдать себя.
— Мы вышли к реке, — рассказывал Генрих за ужином, который поглощал с большим аппетитом. — Настреляли уйму молодых лебедей, две полные лодки речных птиц, наловили огромных щук и много другой рыбы. — Он был очень доволен собой. Екатерина сидела и переживала из-за Мег, надеясь, что та не успела прийти к определенным выводам. «Но это могут быть только домыслы», — сказала она себе. Ничего дурного нет в том, что она засмотрелась в окно; ее внимание к Калпеперу можно объяснить и по-другому. К примеру, сказать, что она глядела на него с нежностью, потому что он ее кузен и его любит король. — С вами все в порядке, дорогая? — вдруг спросил Генрих. Екатерина поняла, что, занятая своими страхами, унеслась мыслями далеко отсюда. — Превосходно! — ответила она, возвращаясь к реальности. — Я думала, что завтра могла бы поехать с вами, если вы позволите? — Конечно! — Генрих заулыбался. — Мы славно поохотимся, дорогая. Король не пришел ни той ночью, ни следующей — никогда не спал с ней, когда у нее были месячные. На третью ночь Генрих сам был не расположен к близости, у него случился очередной приступ ослепляющей головной боли; он страдал от них периодически. Тогда Джейн привела Тома в свою комнату и осталась сторожить снаружи. В ту ночь Екатерина и Том провели вместе пять или шесть часов. Они стали любовниками во всех смыслах, кроме самого интимного, и познали секреты тел друг друга. — Я хочу тебя, Кэтрин. — Том вздохнул и крепко прижал ее к себе. — Хочу целиком. Меня убивает необходимость сдерживаться. — Я хочу тебя не меньше! — выдохнула она. — Хочу ощутить тебя в себе. — Когда-нибудь ты станешь моей! — поклялся он. Екатерина хотела сказать, что будет ждать этого дня с нетерпением, но знала, что снова почувствует себя виноватой, ведь этот день мог настать только после смерти Генриха. — Я тоже хочу обладать тобой, — сказала она Тому. — Я томлюсь по тебе все время. Том стал ласкать ее и быстро довел до такого пика удовольствия, что она вскрикнула. Потом они ненадолго задремали… Екатерина пробудилась в испуге: — Боже, сколько сейчас времени? Я не собиралась спать! — Тише, любовь моя, — успокоил ее Том. — Наша добрая подруга стережет нас. — Мне нужно вернуться, — сказала Екатерина, продолжая нервничать. Том помог ей одеться и крепко обнял, прежде чем поцеловать на прощание. Когда она вышла из комнаты, то встретила сильно встревоженную Джейн. — Мортон была здесь! — выпалила та. — Услышала ваш крик. Чем вы занимались? У Екатерины порозовели щеки. — А ты как думаешь? О Боже! Она что-нибудь сказала? Если прибавить тревогу миссис Мортон к обеспокоенности миссис Лаффкин, на днях стучавшейся в дверь ее спальни, это было уже слишком! Их тайную связь раскроют! — Она спросила, все ли с вами в порядке, и мне пришлось быстро что-то придумывать, — ответила потрясенная Джейн. — Я сказала, вы мучаетесь от месячных болей, но это неправда. — Да! Она узнает, что я положила в грязное белье последние тряпицы с пятнами крови два дня назад. Как по-вашему, она не догадалась, что происходит? — Надеюсь, что нет. А что происходит? — резко спросила Джейн. — Вы лежали с ним в постели, да? Я вас слышала. Екатерина возмутилась, что с ней разговаривают как с нашкодившим ребенком. Она все-таки королева! И не дура! Разве Тому не было отказано в последней милости? Она накинулась на Джейн: — Клянусь именем Господа и Его святыми ангелами, что не отдалась ему! Я бы не посмела так осквернить ложе моего соверена. — Произнося эти слова, Кэтрин знала, что осквернила его и что есть не один способ совершить измену. — Какое облегчение, — сказала Джейн. — Молюсь, чтобы этого никогда не случилось! Но на будущее, мадам, остерегитесь. Если появится хотя бы малейший намек, что кто-то догадался, придется это прекратить!
Глава 27
1541 ГОД Король с королевой были на охоте, а когда под цокот лошадиных копыт проезжали через гейтхаус в Хатфилде, Екатерина заметила, как в дом со двора вошла знакомая фигура. Фрэнсис Дерем! Она ощутила головокружение и ухватилась рукой за луку седла, чтобы не упасть. Что он здесь делает? Меньше всего ей хотелось, чтобы на него обратили внимание Генрих или Том. Кто знает, что мог сделать Том, увидев Фрэнсиса? Подошел конюх, и Екатерина спустилась с седла. — Мне нужно поскорее вернуться в свои покои, сир, — сказала она Генриху. — Зря я выпила столько эля за обедом! Войдя в дом, она опасливо огляделась — не поджидает ли ее Фрэнсис, но его нигде не было. Она поднялась по старинной каменной лестнице в свой приемный зал и сразу увидела кланявшегося ей Дерема. Дамы с интересом поглядывали на него, все-таки Фрэнсис был хорош собою. Однако легкая небрежность во всем его облике больше не привлекала Екатерину. — Что вы здесь делаете? — Ваше величество… — Голос Дерема пронизывала едва уловимая ирония. Снова поклонившись, он протянул ей письмо с гербом вдовствующей герцогини. После того как Екатерина вышла замуж за короля, их общение прервалось. С чего это бабушка решила написать ей, да к тому же из всех людей выбрала в качестве своего посланца именно Фрэнсиса? Она что, потеряла разум? Екатерина сломала печать и с нарастающим изумлением прочла, что герцогиня просит о милости. Ее дочь, графиня Бриджуотер, а также леди Уильям Говард задумали устроить Дерема на службу к королеве и упросили ее поговорить об этом с Екатериной. «Поэтому я смиреннейше прошу вашу милость исполнить мою просьбу, имея в виду то, как исправно служил Дерем мне самой и лорду Уильяму. Молю вас, ради меня будьте к нему благосклонны и окажите ему покровительство». Герцогиня много сделала для нее и никогда ни о чем не просила, поэтому Екатерина едва ли могла отказать ей. Это было бы неблагодарностью. Она задумалась: понуждал ли Фрэнсис леди Бриджуотер и леди Уильям просить о протекции для него, и если так, то каковы его мотивы? Не мог же он рассчитывать на какие-то особые милости с ее стороны или, не дай Бог, на возобновление их отношений? Господи, только бы он не начал снова повторять эти глупости о том, что они муж и жена! Фрэнсис стоял перед ней с беспечным видом и дерзко улыбался. Неужели он не понимает, какой опасности подвергает их обоих? Но что с него взять — Дерем всегда отличался бесшабашностью, ему все нипочем; любил он поиграть с огнем. — Пройдите со мной в сад, мистер Дерем, — сказала Екатерина. — Леди Кромвель и леди Герберт, прошу вас сопровождать меня. Она ни за что не останется с ним наедине. Фрэнсис с преувеличенной почтительностью отвесил еще один поклон, и Екатерина вместе с ним вышла в сад. Дамы держались на приличном расстоянии, вне пределов слышимости. — Зачем вы явились сюда? — спросила она. — У вас дурные намерения? — Почему вы так обо мне думаете? — ответил вопросом на вопрос Фрэнсис. — Ни на миг не воображайте себе, что я отношусь к вам, как раньше. — Она должна расставить все по местам прямо сейчас. — Я не допущу, чтобы вы думали, будто я имею желание вернуться к прежней жизни. Он не отвечал, только понимающе улыбался ей. Екатерина уже забыла, каким несносным он мог быть. — Не знаю, о чем думала миледи Норфолк, когда рекомендовала вас, — продолжила она. — Все просто, — сказал Дерем. — Помните то письмо Мэнокса об одной юной леди, которая завела шашни с неким мистером Гастингсом? Ну, той весной я выложил герцогине всю правду, что это было обо мне и о вас. Ей следовало и самой догадаться — она ведь знала, как мы были близки, однако старуха разозлилась и указала мне на дверь. — Так как же она могла порекомендовать вас мне? — Я попросил леди Бриджуотер и леди Уильям Говард замолвить за меня словечко. Напомнил им о наших с вами отношениях. — Он повернул голову и улыбнулся. — Тогда миледи запела по-другому! Екатерина вся сжалась от этой завуалированной угрозы. Таким же способом Джоан Балмер пыталась проникнуть ко двору. И Фрэнсис проделал весь этот путь до Йоркшира, чтобы добиться своего. Он явно не шутил. Ах, зачем только она позволяла ему любить себя! Из-за этой ее глупости Дерем теперь имел власть над ней. Бывший любовник слишком много знал о ее прошлом, чтобы она посмела обидеть его отказом. Он мог нанести неописуемый ущерб ее репутации и положению. И ей никак было не оценить, можно ли рассчитывать, что он не использует эти сведения к своей выгоде. Неужели это только начало? Она не осмелится отказать ему. — Вы колеблетесь, мадам, — заметил Фрэнсис. — Не забывайте, что этот ваш так называемый брак — просто обман. Вы были моей женой, прежде чем вышли за короля. Но, не удовлетворившись этим, стали благосклонно смотреть на другого, как я слышал. У меня есть друзья при вашем дворе. Они держат меня в курсе событий. При этих его словах Екатерина похолодела. Кто пронюхал? Кто начал болтать? Они с Томом так старались сохранить свою любовь в тайне. — Не имею понятия, о чем вы говорите, — холодно проговорила она. — Я стала смотреть на другого? Это чушь! Кто вам такое сказал? — Кэтрин, вы же не думаете, что я предам оказанное мне доверие? — усмехнувшись, ответил Дерем, и она про себя отметила, что он обратился к ней по имени. — Но если вы задумали обмануть короля, то можете успешно сделать это со своим законным супругом! — Я люблю короля и не собираюсь изменять ему! Фрэнсис вопросительно взглянул на нее, как будто уличал во лжи. О Боже, кто же меня выдал?! И не кому-нибудь, а Фрэнсису! — Негодный способ вы выбрали, чтобы получить место при моем дворе, — упрекнула она его. — Вы придаете слишком большое значение нашей симпатии друг к другу, которая осталась в прошлом. — Мы все еще женаты, — сказал Дерем. — Вы дали мне слово. И я ревнивый супруг. — Какое слово? — Екатерина нервно оглянулась, чтобы проверить, на достаточном ли расстоянии держатся дамы. — Обещали взять меня в мужья. Это так же обязывает, как брак, заключенный в церкви. — Я вам не верю! — Спросите любого священника. Архиепископа Кранмера, если хотите! — О, перестаньте досаждать мне вашими глупостями! — раздраженно воскликнула она. — Я хочу, чтобы вы ушли — сейчас же! — Очень жаль, — произнес Фрэнсис, искоса глядя на нее. — Одного моего слова достаточно, чтобы все поняли, какой ничтожный фарс этот ваш брак. Екатерину пробрал смертельный холод. Она знала, что Фрэнсис на такое способен. Нельзя ему отказывать. — Если я дам вам место, вы должны обещать мне никогда ни с кем не говорить о нашем прошлом. Мне нужно от вас слово чести. Дерем хохотнул: — Чего бы оно ни стоило, я даю его. Вы всегда были наивны, Кэтрин.На следующий день она вызвала его к себе и, сидя на троне под балдахином, ждала, пока он закончит поклоны, исполняемые с картинным изяществом. — Мистер Дерем, я решила сделать вас церемониймейстером своих покоев, — сообщила ему Екатерина. — Вы будете принимать гостей и просителей, выполнять мои поручения и писать письма в отсутствие моего секретаря. Фрэнсис улыбнулся, снова раскланялся и сказал: — Ваша милость очень добры. Примите мою покорнейшую благодарность. Он насмехался над ней, это было ясно как день. — Мой казначей выдаст вам деньги на покупку нового платья, — продолжила она. — Я сообщу миледи Норфолк, как ваша милость облагодетельствовали меня, — ответил Дерем. За пару дней Екатерина осознала, что новые обязанности вынуждают Фрэнсиса присутствовать в ее личных покоях чаще, чем ей хотелось бы. Фрейлины и даже некоторые придворные дамы из тех, что помоложе, всякий раз трепетали при его появлении, ведь он был такой удалец с виду, да к тому же всегда им подмигивал и имел про запас какую-нибудь шутку. Дамам сообщили чистую правду: мистер Дерем — кузен их госпожи и его порекомендовала герцогиня Норфолк. — Кто этот новый церемониймейстер? — поинтересовался Генрих, после того как Фрэнсис возвестил о его приходе и удалился. Екатерина ощутила боязливую дрожь. Ее нервировало, что Фрэнсис оказался в такой непосредственной близости от короля, не говоря уже о Томе. — Он мой родственник и миледи Норфолк тоже. Служил ей в Ламбете. Она просила оказать ему покровительство, что я и сделала. — В этом платье из белого атласа он вылитый попугай! — Да, верно. — Екатерина сердилась, что Фрэнсис потратил выделенные ею деньги на такой броский костюм. — Я обсудила это со своим камергером, но он сказал, что церемониймейстерам дозволено носить белый атлас. — Присматривайте за ним, — посоветовал Генрих. — Не позволяйте ему заноситься. «Ах, если бы вы только знали!» — подумала Екатерина.
Вскоре, к вящей досаде королевы, мистер Хаттофт, ее секретарь, слег в лихорадке. Работу с ее личной корреспонденцией и написание конфиденциальных писем пришлось возложить на Фрэнсиса. Обязанности секретаря вынуждали его оставаться с ней наедине, в ее кабинете, где больше никого не было. Держась настороже, Екатерина старалась не отвлекаться от дел и не реагировала на проявления фамильярности, которые время от времени позволял себе Дерем. В первое утро, когда он составлял письма, Екатерина заметила у него на пальце рубиновое кольцо своей матери. В ней закипел гнев, что какой-то проходимец теперь носит его. Но ведь она сама подарила это кольцо Фрэнсису в разгар своей любви к нему. Он надел его, чтобы напомнить об этом? Через некоторое время Дерем отложил перо, потянулся и выставил вперед ногу: — Видите, у меня рейтузы в дырках. Ради нашей старой дружбы, Кэтрин, не могли бы вы дать мне немного денег, чтобы купить новые? — Пяти шиллингов хватит? Он фыркнул: — Вы никогда не знали, сколько стоят вещи. Мне не купить хороших рейтуз меньше чем за три фунта. — Три фунта? — Она была уверена, что он преувеличивает. — Я покупаю свои у мастера Коутса из Ламбета. Он самый лучший. За качество приходится платить. Удивляясь, почему идет на это, Екатерина дала ему деньги из своего личного кошелька.
Ночью ей не спалось. Ее снова используют, она это понимала. Екатерине пришло в голову, что Фрэнсис до сих пор не вывел ее на чистую воду, потому что это сказалось бы на нем самом, если они и правда помолвлены, как он утверждал. Генрих сурово обошелся бы с ними обоими, узнай он, что они скрыли свое обручение и тем скомпрометировали наследование престола. Нет, Фрэнсис напоминал об их так называемой помолвке, чтобы получить власть над ней и выжимать из нее разные милости для себя. Как и Том, он, вероятно, надеялся взять ее в жены после смерти короля, и это еще одна причина, почему он неустанно твердил об этом глупом обручении. Что ж, она не позволит манипулировать собой. Если уж, овдовев, она и выйдет за кого-нибудь замуж, так это за Тома.
В конце августа двор прибыл в замок Понтефракт. Генрих решил, что они останутся здесь на шесть дней для восстановления сил после долгих двух месяцев пути. Понтефракт был мощной, неприступной крепостью, и в нем, как обнаружила Екатерина, имелось множество потайных лестниц и неиспользуемых комнат, прекрасно подходящих для свиданий с Томом. Екатерину с Генрихом разместили в башнях короля и королевы, расположенных по обе стороны от главного зала. Каждая состояла из четырех ярусов. В спальне Екатерины имелись две двери, через одну можно было попасть по винтовой лестнице на верхние этажи, вторая вела в коридор, а оттуда — в зал. Комната Джейн находилась на третьем ярусе, а помещения над ней пустовали. По настоянию Екатерины, они обе, и Том тоже, должны были вести себя с еще большей осмотрительностью, чем раньше. «Ведь кто-то при дворе, похоже, пронюхал-таки о моей любовной интриге», — сжимаясь от страха, думала она. — Мне здесь не нравится, — призналась в первый вечер их пребывания в Понтефракте Дамаскин Страдлинг, готовившая королеву ко сну. — Тут слишком темно и мрачно. Говорят, здесь убили короля. — Ричарда Второго, — подтвердила Анна Бассет. — Отчим говорил мне, что его привезли сюда, когда свергли с трона, и уморили голодом. — О, не рассказывайте мне таких ужасов! — Дамаскин задрожала. — Он, наверное, блуждает здесь по ночам призраком. — Не говорите глупостей! — одернула ее леди Ратленд. — Это случилось давным-давно, — сказала Анна. Екатерина обрадовалась, когда женщины ушли и оставили ее одну. Она лежала в постели и размышляла, придет ли к ней Генрих? Отдаленный бой часов возвестил о наступлении полуночи, и она уверилась, что не придет. За ужином король выглядел усталым после целого дня охоты. Встав с постели, Екатерина надела ночной халат, прокралась вверх по лестнице мимо комнаты, где почивала леди Ратленд, потом поднялась выше, к спальне Джейн, и тихонько постучала в дверь. Джейн, еще не раздевавшаяся, впустила ее и заперлась. — Я ждала вас. Дверь внизу не закрыта на ключ. Вы хотите, чтобы я доставила сообщение мистеру Калпеперу? — Да, — шепнула Екатерина. — Скажи ему про дверь, и что он может прийти сюда, ничего не опасаясь. Джейн оставила ее и на цыпочках спустилась вниз. Вскоре она вернулась. — Я нашла его у дверей и передала ваше сообщение, но внизу у лестницы стоял стражник. Екатерина накрыла рот ладонью: — О нет! Нас поймали? Это король поставил его у задней двери, там, где пойдет Том? Боже мой, нас разоблачили?! — Успокойтесь! — строго сказала Джейн. — Стражник не видел, как я разговаривала с мистером Калпепером, мы стояли в тени той башни, что слева, и он не выглядел так, будто следит за кем-то. Может, просто ждал момента выкрикнуть час. — Молюсь, чтобы ты оказалась права! — Екатерину трясло. — Я отправлю Морриса, пусть последит за дверью, не заходила ли туда стража и не выходил ли кто, — сказала Джейн. Они сели на кровать и прождали, казалось, много часов. Екатерина беспокоилась, как бы Тома не схватили при входе в Башню королевы, но Джейн заверила ее, что он сметлив и не допустит этого. — Мистер Калпепер знает, чем рискует, так же как вы, — сказала она, держа Екатерину за руку, пока та пыталась уверить себя, что Генрих не обращался бы с ней сегодня так любовно, если бы подозревал в измене. Около трех часов Моррис вернулся и сообщил, что стражник давно ушел и никто больше не приближался к двери. Вздохнув с облегчением, Екатерина вернулась в постель. Том не появится так поздно, и это хорошо. Она очень испугалась и решила впредь быть еще осторожнее. На следующий вечер, убедившись при помощи Джейн в отсутствии опасности, она снова послала за Томом, и они встретились в холодной пыльной комнате на четвертом этаже. Времени у них хватило только на краткий разговор, потому что Том должен был помогать королю при отходе ко сну. А на следующий день Генрих лег рано. Не желая пользоваться ужасной комнатушкой под самой крышей, Екатерина подумала, не пустить ли Тома в свою спальню? Джейн сказала, что это будет безопасно. Дверь в коридор можно запереть, а сама она покараулит у двери, ведущей на лестницу. И вот Том пришел, крепко обнялЕкатерину, она жадно прильнула к его губам поцелуем, его руки блуждали по ее спине и бедрам. Вскоре они уже извивались на постели, наслаждаясь друг другом, насколько осмеливались. — Я люблю тебя! — крикнула Екатерина в ухо Тому. — Люблю больше всех других мужчин! Позже, вытерев с покрывала его семя в надежде, что пятна не останется, она стала дразнить Тома: — Ты так красив, мистер Калпепер, особенно без одежды. Удивительно, что до сих пор никакая прекрасная леди не увела тебя к алтарю. — Это потому, что мое сердце всегда принадлежало тебе, любовь моя. — Он лениво потянулся. — Хотя мне приходится утешаться с другими, раз уж ты так жестоко отказываешь мне. — С другими? — Том заставил ее верить, что с того момента, как она вышла за короля, он интересовался одною только Бесс Харвей. — С какими другими? У него хватило такта изобразить смущение. — Ну, я флиртовал с леди Герберт. С камеристкой! Прямо у меня под носом! — Не знала, что Анна Парр — неверная жена, — надевая халат, холодно проговорила ошарашенная Екатерина. — Что ты называешь флиртом? Тому явно было неловко. — Ты спал с ней! Когда? — Сразу после того, как ты стала женой короля, Кэтрин… — Удивляюсь, как ты мог говорить, что любил меня, и так скоро лечь в постель с другой! — прошипела она. Том потянулся вперед и схватил ее руку: — Но ты вышла замуж прежде, чем я сошелся с ней, а от тебя мне выпадало так мало милостей, что я был вынужден искать утешения у других. — Если бы я захотела, то могла бы предложить тебе и других распутных девок! Вроде этой потаскухи Доры Брей, которая сделала своим рабом милорда Парра, но тем не менее я уверена, с готовностью примет и тебя! — взвизгнула Екатерина. — Ты, без сомнения, считаешь, что я вроде них, и ценишь соответственно! — Нет! — запротестовал Том. — Нет? Раз уж на то пошло, будь я сейчас в девичьей спальне в Ламбете, то позабавилась бы с тобой так, как забавлялась с Фрэнсисом! — Но ты говорила… — Если вести речь о честности, мы оба не на высоте. Он сглотнул: — Кэтрин, она ничего для меня не значила. — Но должна была что-то значить! — Любовь моя, ты говоришь неразумно. — Он попытался обнять ее, но она вырвалась. — Кэтрин, я уважаю тебя, и Анна Герберт ничего для меня не значила. Но мужчины не могут жить на одном хлебе, и ты предпочла мне короля. С тех пор как мы вместе, никого другого у меня не было. Она позволила себе утешиться этим. Краткая вспышка гнева вскоре прошла, и Екатерина снова легла на кровать к Тому, понимая, что отреагировала не в меру эмоционально. И разумеется, примирение после ссоры только усилило их страсть…
Однажды вечером — они все еще находились в Понтефракте — Екатерина отправила своих фрейлин и дам спать, оставив прислуживать себе одну Джейн Рочфорд. Остальные посмотрели на нее косо, но ничего не сказали. Было не принято, чтобы королеву готовила ко сну всего одна леди, однако такое случалось и раньше. Том ждал, когда его пустят в спальню. Как только стемнело и они убедились, что король не придет — он посещал ложе Екатерины накануне и, вероятно, еще не восстановил силы после любовных трудов, — Джейн спустилась по лестнице, привела Тома и закрыла дверь на засов. — Горничные еще не легли. Нужно сделать вид, что я все еще при вашей милости, — сказала она и села за стол к ним спиной. Огорчившись, что не сможет лечь в постель с Томом, а ей так этого хотелось, Екатерина позволила ему обнять себя и поцеловать. Теперь, когда они сблизились, было неловко общаться с Томом при Джейн. Вдруг раздался тихий стук в дверь. Все втроем в смятении переглянулись, замерев в нерешительности. Стук повторился, на этот раз более настойчивый. — Туда! — одними губами проговорила Джейн и указала Тому на уборную, где тот мигом скрылся. Екатерина села за стол, пытаясь собраться, а Джейн открыла дверь. За ней стоял мистер Дейн, один из церемониймейстеров короля. — Мадам, — поклонившись, бесстрастно произнес он, — его величество прислал меня сообщить, что идет к вам. Екатерина молилась, чтобы на ее лице не отобразилась паника. Она взглянула на побледневшую Джейн. Они попались! Генрих часто пользовался уборной, вставал по несколько раз за ночь. Как он мог не увидеть Тома? — Я буду с нетерпением ждать его милость, — ровным, насколько могла, голосом ответила Екатерина, быстро соображая, как быть. Она решила сослаться на недомогание, чтобы охладить пыл Генриха. Джейн сделала реверанс и скрылась, когда прибыл король. Екатерина тоже присела в поклоне и, когда выпрямилась, подставила лицо для поцелуя. — Моя Кэтрин, — сказал король и погладил ее по щеке. — О, Генрих! — воскликнула она, схватившись за живот. — Я, наверное, съела что-то плохое. Ох, боль ужасная! Он был сама заботливость. — Отдохните, дорогая. Я велю, чтобы вам принесли ромашкового настоя. Мне он всегда помогает. А теперь ложитесь, я навещу вас утром. А пока я здесь, прошу извинить меня, я отлучусь на минуточку. — И король направился к уборной. Охваченная страхом, Екатерина крикнула: — Нет, Генрих, прошу вас! Там сейчас не убрано. Через мгновение, на которое у нее замерло сердце, король обернулся: — Простите меня, дорогая. Я не хотел смущать вас. Я вернусь к себе. Он поцеловал ее и ушел, у Екатерины кружилась голова от облегчения. Через несколько секунд вернулась Джейн. — О, мой Бог! — выдохнула она, приложив руку ко рту. — Я думала, нас раскроют. — Я уже видела, как меня под арестом везут в Тауэр, — задыхаясь, проговорила Екатерина. — Думаю, король слишком сильно любит меня, чтобы наказать, как Анну Болейн, но он будет обижен и рассердится, а что ждало бы Тома — и подумать страшно. Джейн подошла к двери уборной и тихо проговорила: — Мистер Калпепер, вы можете выйти. Появился Том, посеревший лицом. — Святая Матерь Божья, я думал, мне конец, — пробормотал он. — Я тоже! — с трудом дыша, сказала Джейн. — И мы все ответили бы за это, что бы ни думала ее милость. — Но король любит меня! — О, вы так наивны! — Джейн никогда еще не говорила с Екатериной так резко. — Эта любовь мигом обратится в ненависть, как только он узнает, что вы предали его. Екатерину охватил страх. Она всегда знала, что это опасно — да, и опасность делала приключение более захватывающим, — но она почему-то не допускала мысли, что их поймают. Сегодня они подошли вплотную к разоблачению, и ей вдруг показалось, что их тайну невозможно сохранить. Она с мукой во взгляде посмотрела на Тома и прошептала: — Может быть, нам лучше покончить с этим сейчас? — Нет! — Он был тверд. — Я не оставлю тебя. Я готов рискнуть ради тебя всем, ты это знаешь! — Милый дурачок! — ответила она, тронутая, но не успокоенная. — Мы теперь должны быть еще осмотрительнее. Никому ни слова, ни единого звука, даже на исповеди, ведь король — верховный глава Церкви, и наверняка ему донесут об этом. — Я буду молчать, любовь моя, — пообещал ей Том. — Даю вам слово, — заявила Джейн.
У Екатерины и на следующий вечер тряслись поджилки. Она попросила Джейн передать Тому, что лучше пока к ней не приходить. Хорошо, что она так сделала. Ее камеристки, миссис Лаффкин и миссис Фридсвайд, взяли на себя смелость, нарушая ее распоряжение, войти к ней в спальню без стука. — Что вы о себе возомнили? — крикнула Екатерина. — Я выгоню вас обеих, если вы еще раз войдете без позволения. Отныне вам запрещено прислуживать мне в спальне. Она понимала: это страх заставил ее отреагировать так бурно. Но после ухода дам, расстроенных и бормочущих извинения, ей захотелось уволить обеих, потому что тогда она могла бы заменить их женщинами по выбору Джейн Рочфорд, которые умеют хранить секреты и на которых можно было бы положиться. Позже Екатерина размышляла: ей кажется, или придворные дамы и фрейлины подозревают ее в тайной любовной связи? Не придает ли она излишнего значения тому, как они смотрят на нее и следят за ней? Не дай Бог ее разоблачат! Поведение Фрэнсиса добавляло тревог. Всегда непредсказуемый и ветреный, он оказался беспокойным прибавлением к ее двору. Получив чрезмерную сумму на рейтузы, Фрэнсис теперь просил у нее больше — десять фунтов — без малейшего стеснения. — Не поскупитесь ради старого друга, — обхаживал ее Дерем. — К тому же я рассчитываю вскоре стать для вас больше чем просто старым другом. — Нет! — крикнула Екатерина. — Этого никогда не случится. Вы забыли, что я замужем за королем? — Я-то об этом помню, а вот вы, кажется, забыли. Она ужаснулась его прямоте: — Вы не имеете права так шантажировать меня. Дерем одарил ее своей волчьей улыбкой: — У меня есть все права. Я ваш настоящий супруг. Екатерина не посмела обидеть его. Вдруг он заговорит? Этот человек всегда был невоздержан на язык. Что ж, если ей нужно покупать его молчание, пусть так. Она дала ему деньги, сказав, что на этом его требования должны прекратиться. Он только усмехнулся. Но хуже было то, что Дерем фамильярничал с ней при посторонних; доходило до того, что он называл ее Кэтрин. Она боялась, как бы при том, сколько времени ей приходилось проводить с ним, люди не решили, будто королева отдает ему предпочтение перед другими, или не пришли к каким-нибудь еще более возмутительным умозаключениям. — Знаете, ваши придворные презирают меня, — сказал ей Фрэнсис на следующий день, после того как она перечислила ему, какие письма необходимо написать. — Почему вы так думаете, мистер Дерем? — спросила Екатерина. — Потому что я у вас в фаворе. — Это не так, вам самому это прекрасно известно. Мне нужен человек, который выполнит работу мистера Хаттофта. — А я думал, вам приятно мое общество! Екатерина ужаснулась: — Вы не оставили мне выбора, кроме как терпеть его. Если бы вы не принудили меня дать вам место, я бы отправила вас паковать вещи! — Что-то мы немного разгорячились! — посмеиваясь, проговорил Фрэнсис. — Вам следует научиться вести себя так, как требуется при дворе, мистер Дерем, и соблюдать должную вежливость по отношению к вашей королеве. Тогда вы, вероятно, станете чуть более популярным. Он схватил ее за запястье: — Не забывайте, что я знал вас в Ламбете, когда вы были никому не нужны, и знал очень хорошо! — Фрэнсис теперь не смеялся. — Я пожалуюсь на вас королю! — в гневе крикнула Екатерина и вырвала у него свою руку. — Нет, вы этого не сделаете, потому что он считает вас целомудренной и придет в ужас, узнав, что это не так. Слова Дерема внушили ей страх. — Что вы имеете в виду? — Я имею в виду то, что происходило в Ламбете. И что вы ветрены. — А с чего вы взяли, будто он этого не знает? — с вызовом спросила она. — Вижу по вашему лицу, Кэтрин. Вы испуганы. — Вовсе нет! — Она почувствовала, как у нее предательски вспыхнули щеки. — Почему вы так ужасно относитесь ко мне? Улыбка сошла с его лица. — Вы забыли, что мы с вами женаты, и ушли от этого, не оглянувшись. — О, не начинайте снова! — фыркнула Екатерина. — Я не стану этого слушать. Можете идти. Дерем встал, размашисто поклонился ей и сказал: — Я этого не забуду. И однажды, когда вы не будете обременены… — Он не закончил фразу и вышел, оставив Екатерину дрожащей от ярости. Через два дня стало ясно, что его не так легко приструнить. Мистер Джонс, церемониймейстер двора королевы, захотел переговорить со своей госпожой приватно. — Мадам, — начал тот, явно испытывая неловкость, — нужно что-то сделать с мистером Деремом. Он завел себе привычку оставаться за столом со служащими вашего Совета после того, как остальные встают и уходят, а ему это не положено. Он не входит в ваш Совет и намеренно проявляет неуважение. Екатерина сердито вздохнула. Будет ли конец нахальству Фрэнсиса? — Когда я послал к нему спросить, является ли он членом Совета, — продолжил мистер Джонс, — мистер Дерем ответил, что был в совете вашей милости до того, как я познакомился с вами, и будет там, когда вы меня забудете. Он сказал такое? Екатерина задрожала и с трудом следила за речью мистера Джонса. — Потом он затеял драку со мной, мадам, в которой, боюсь, я не сумел постоять за себя. У меня не осталось выбора, кроме как искать защиты. Посмотрите на это… Джонс отогнул рукав и продемонстрировал отвратительный на вид порез, а потом указал на синяк у себя на скуле. — Он пролил кровь! — в ужасе воскликнула Екатерина и вдруг увидела способ, как избавиться от Фрэнсиса. Насилие, примененное в непосредственной близости от короля, почиталось за очень серьезный проступок и каралось сурово. Человека, ударившего другого и пролившего кровь в пределах королевского двора, подвергали штрафу, тюремному заключению и отрубали ему правую руку. Живые примеры были наглядно продемонстрированы в этом году, когда сержант-привратник напал на одного из слуг графа Суррея на теннисном корте в Гринвиче. Виновника драки осудили на усекновение правой руки, лишили прав на земли и имущество. Все было готово к исполнению приговора — Екатерина помнила огромную толпу, набившуюся в главный зал, — но привратник, в надежде на милость короля, уговорил кого-то пойти к его величеству и спросить, нельзя ли, чтобы ему отрубили левую руку вместо правой, тогда он смог бы и дальше верно служить королю. Генриха так впечатлило это выражение преданности, что тот милостиво простил драчуна, хотя после этого заявил: исполнять приговоры об ампутации конечностей нужно обязательно. Екатерина никогда бы не пожелала такой участи Фрэнсису. Но может быть, угрозы подобного наказания хватит, чтобы он собрал свои вещи и сбежал со службы у нее? — Скажите, мистер Джонс, — обратилась она к церемониймейстеру, — эта драка произошла в пределах двора? Тот с опаской поглядел на нее. Было ясно без слов: он тоже виновен в кровопролитии. — Не важно, — сказала Екатерина, вздохнув про себя. — Я поговорю с мистером Деремом, — и мысленно добавила: «Чем бы это ни закончилось». Он явился на ее вызов, и она приняла его в кабинете, где они работали с корреспонденцией. — Я только что узнала о происшествии с мистером Джонсом и о том, что вы ему сказали. Следите за своим языком! И не забывайте, что можете остаться без правой руки, если затеете драку и прольете кровь в пределах двора. Даже это ничуть не обескуражило Дерема. Он стоял и улыбался. — Ну? — рявкнула она. — Что вы можете сказать в свою защиту? — Прошу вас, примите мои покорные извинения, — произнес он и поклонился, широко взмахнув рукой. — О, уйдите! — в раздражении воскликнула Екатерина.
Той ночью Том пришел какой-то подавленный. Он не обнял и не поцеловал Екатерину, а вместо этого сел за стол и окинул ее сердитым взглядом. — Что случилось, дорогой? — Почему мистер Дерем оказался при дворе? Екатерина обмерла. Чего-то подобного она опасалась. — Миледи попросила найти ему место. Я не могла ей отказать. Это выглядело бы неблагодарностью. Том сурово взирал на нее: — Более чем глупо! Он намекает на близкое знакомство с тобой. О Боже! Не зря она боялась, что Фрэнсис не удержит язык за зубами. Ему неизвестно, что такое благоразумие и осторожность. — Неужели! — Ее возмущение было вполне искренним. — Он всегда был негодяем. Том пристально вглядывался в ее лицо: — Сегодня за ужином кое-кто из моих приятелей, джентльменов из Тайного совета, обмолвился, что Дерем фамильярничает с тобой и не выказывает должного уважения. Очевидно, на это пожаловались твои слуги. Мы сами слышали его речи с другой стороны стола. Он говорил достаточно громко. Что в случае смерти короля, он уверен, ты выйдешь замуж за него. Это правда, Кэтрин? — Разумеется, нет! Если что-нибудь случится с королем, я выйду замуж за тебя. Поверь, Том, у тебя нет нужды ревновать меня к Фрэнсису. Меня влечет только к тебе. Я не люблю мистера Дерема и никогда не стану поощрять в нем такие мысли. — Ты должна ясно дать ему это понять, — сказал ей Том, — потому как он живет в опасных иллюзиях. Ему также следует знать, что говорить о смерти короля — измена. Если на него донесут, он просто так не отделается. Екатерина отчасти понадеялась на это, лишь бы Фрэнсис перестал трепать языком. Но она не пожелала бы ему участи изменника, хотя он и становился серьезной проблемой. Только вчера снова попросил у нее денег, пришлось отправить к нему с кошельком серебра Кэт Тилни и наградить ее за услугу. — Он дурак, — сказала Екатерина, овладевая собой, — я говорила ему, что он для меня ничто, и по-другому не будет. — Скажи еще раз! — вспыхнул Том, а потом глубоко вдохнул. — Прости, любовь моя. Мне больно слышать, как бахвалится этот проходимец. Я бы задушил его. — Забудь о нем, — наставительно сказала она. — Я не хочу, чтобы он вторгался в твои мысли и мешал нам проводить вместе это бесценное время. Вскоре Екатерина уже снова была в объятиях Тома, и все встало на свои места. Она горячо молилась, чтобы в будущем Фрэнсис держал язык за зубами. Он и правда играл в кости со смертью и мог получить за это суровый урок — и увлечь вслед за собой ее.
Глава 28
1541 ГОД В начале сентября двор покинул Понтефракт и переехал в старинный замок архиепископа Йоркского Кавуд. Когда они приближались к нему верхом на лошадях, Маргарет Дуглас наклонилась вперед в седле — ее длинные рыжие волосы развевались на ветру — и сказала Екатерине, что здесь арестовали кардинала Уолси. Кавуд оказался печальной старой громадой, и все были рады покинуть его на следующий же день и перебраться в замок Врессле, конфискованный у могущественной семьи Перси, выступившей в поддержку Благодатного паломничества. Там они остались на три ночи, и две из них Генрих провел с Екатериной. — Пора, пора нам обзавестись сыном! — сказал король, взгромоздился на Екатерину и завозился у нее между ног. На этот раз она не смела думать о Томе ни во время соитий, ни после, когда Генрих нежно держал ее в объятиях, терся грубой бородой о ее щеку и говорил, как сильно любит свою Кэтрин и какое это благословение — иметь такую прекрасную супругу. Она ненавидела себя за то, что обманывает его. Дни шли за днями, и она уже потеряла счет местам, где они останавливались. Леконфилд, Халл, снова Леконфилд и обратно в Врессле. Потом направились в Йорк, где состоится долгожданная встреча Генриха с королем шотландцев. До места добрались к середине сентября, давно выбившись из расписания. — Мы уже должны быть на полпути к Лондону, — сказал Генрих, когда они увидели впереди Йоркский собор, во всем своем великолепии высившийся над городскими стенами. — По крайней мере, раз уж мы так задержались, рабочие, наверное, успели закончить свои дела. До отъезда в тур по стране король приказал отремонтировать бывший дом аббата в распущенном бенедиктинском монастыре Святой Марии в Йорке, который теперь назывался Кингс-Мэнор — Королевским поместьем. — Я отправил туда полторы тысячи рабочих, которые трудились день и ночь. Впереди, около ворот Миклгейт-Бар, через которые короли въезжали во второй по величине город Англии, собралась толпа. Генрих выглядел довольным. — Вижу, нас ожидает отличный прием. Мне сказали, что добрые люди Йорка, увидев роскошные приготовления к нашему визиту, решили, что это предвещает какой-то грандиозный триумф. Они рассчитывают, что я короную вас в их соборе, Кэтрин. Ничего в этом нет дурного, пусть себе думают или надеются, что вы родите герцога Йоркского. — Я молюсь об этом каждый день, — сказала она, чувствуя себя виноватой, что до сих пор не забеременела после весеннего выкидыша. Они оделись в самые великолепные наряды, так же поступили и горожане, которые старались не показать вида, что страшатся визита короля. Встречали королевскую чету не менее торжественно, чем в Линкольне. Генриха и Кэтрин официально приветствовал архиепископ Йоркский в сопровождении трехсот духовных лиц, затем двести мужчин, которые участвовали в восстании против короля и были прощены, подошли выразить покорность своему соверену, встали перед ним на колени и поднесли набитые золотом кошельки. После этого процессия медленным шагом вступила в город. Королевское поместье выглядело великолепно. Армия работников потрудилась на славу. Екатерина в изумлении смотрела на заново отделанный главный зал, обставленный мебелью и украшенный гобеленами и посудой из Уайтхолла; их доставили специально для того, чтобы произвести впечатление на короля Якова. Кроме того, Генрих велел привезти из Лондона свою самую роскошную одежду, а также новые ливреи для его лучников, пажей и джентльменов. На территории монастыря разбили яркие шатры и павильоны для членов двух придворных свит и огромных запасов продовольствия, свезенного сюда из окрестностей Йорка. Екатерина сразу поняла, что устроить свидание с Томом здесь будет трудно. Главный дом поместья, хотя и большой, был до отказа наполнен придворными и слугами. Лучшее, что смогла придумать Джейн, — это краткая встреча наверху черной лестницы, во время которой сама она стояла на страже этажом ниже. Как же приятно побыть наедине с Томом, пусть и совсем недолго. — У нас мало времени, — прошептала Екатерина, опасливо поглядывая вверх и вниз, — но мне так хотелось увидеть тебя, сердце мое, и сказать, как сильна моя любовь к тебе. — Я думал, что умру от тоски, — тихо произнес Том, прижимая ее к себе. У них едва хватило времени обменяться несколькими поцелуями, как явилась Джейн и сказала, что Екатерине нужно идти. Следующей ночью им удалось урвать часок в спальне Джейн. Екатерина рассказала Тому больше о годах, проведенных в Ламбете. — Когда я впервые приехала туда молоденькой девушкой, то возненавидела это место. Я так сильно грустила, что то и дело плакала прямо при своих компаньонках. — Но позже ты стала счастливее? — Я думала, что да. Но теперь я знаю, что такое настоящее счастье. — И что же? — Том улыбнулся ей. Она изобразила, что задумалась. — Ну есть один джентльмен, который за мной ухаживает. И у меня, кроме него, еще несколько любовников про запас! Том в недоумении уставился на нее, но тут она рассмеялась, и он, обхватив ее одной рукой, другой шлепнул по заду: — Злая девчонка! Она взвизгнула, достаточно громко, чтобы Джейн постучала в дверь и прошипела: — Тише! После этого встречаться им не удавалось. Генрих предъявлял права на нее каждую ночь, распаленный идеей зачать герцога Йоркского в Йорке. Однажды вечером Джейн передала Екатерине красивое колечко. — Это подарок для вашей милости, от мистера Калпепера, — сказала она. — И оно стоит немало. Он вручил его мне сегодня после обеда, когда вернулся из Шериф-Хаттона, где король охотился. Екатерина залюбовалась оправленным в золото алым гранатом. Кольцо превосходно село на палец. На следующий день Том прислал ей фазана к обеду. — Вашей милости нужно купить ему что-нибудь в ответ, — сказала Джейн. Что-то в ее тоне вновь навело Екатерину на мысль: уж не влюблена ли она сама в Тома? Это объяснило бы такую чуткую заботу о его интересах. — Я знаю! — ответила Екатерина. — Пойду и куплю что-нибудь сама. Мы можем, переодевшись, пойти в Йорк и заглянуть в лавки. Глаза Джейн засверкали. — Вы думаете, нам удастся сделать это незаметно? — Доверься мне. Надев накидки с капюшонами, Екатерина и Джейн тайком выбрались из Кингс-Мэнор и отправились бродить по улицам Йорка. Екатерина уже забыла, каково это — иметь свободу и идти куда захочется. Странно было толкаться среди людей и слышать, как мужчины свистят ей вслед. Знали бы они, кто она! Две подружки с удовольствием прогулялись по забитым народом улочкам, настолько узким, что верхние этажи фахверковых домов почти сходились у них над головами. Прошли мимо красивых церквей и прекрасной ратуши, поглазели на разные товары в магазинчиках и на рынке. Рядом с Соборным двором нашли лавку ювелира и присмотрели среди выложенных на витрине вещей пару браслетов. — Это отличный подарок для Тома, — заметила Екатерина, отсчитывая монеты из кошелька. — Ты отнесешь их Тому? Скажи, это чтобы у него не мерзли руки! Обе они рассмеялись и пошли обратно, а на подходе к Кингс-Мэнор предусмотрительно надвинули капюшоны на головы. Екатерина как раз успела снять накидку и мыла руки перед обедом, когда явился Генрих, сильно разгневанный. — Он не приедет! — прорычал король, грозно топая по комнате. К счастью, он был так занят своими мыслями, что не спросил, где она была. Яков не прибыл к намеченному сроку. Раздражение Генриха нарастало несколько дней подряд: время шло, а король шотландцев не появлялся. Теперь король англичан уже был багровым от гнева. Екатерина взяла его за руку: — Что случилось? — Шотландцы напали на Англию! Они сожгли несколько домов и убили по меньшей мере семь человек. И это после того, как мой племянник выражал дружеские чувства ко мне и желал нашей встречи. Если это дружба, тогда я — папа! — Лицо его дышало яростью. — Клянусь Богом, я бы сказал ему пару ласковых, будь он здесь! У людей нынче нет чести. Когда я думаю о том, сколько шуму вызвала новость о его приезде, и обо всех этих приготовлениях… — Генриха трясло от бешенства. — Ну что ж, он узнает, что такое мой гнев. Так обходиться с моей дружбой я не позволю! Он кипятился еще некоторое время, а Екатерина издавала разные утешительные звуки. Она не притворялась, будто понимает политику шотландцев; на самом деле ей становилось скучно. Путешествие, которое тянулось уже три месяца, утомило ее. Она готова была вернуться домой. Делать здесь больше решительно нечего. Наконец — о радость! — они покинули Йорк. Сентябрь близился к концу. Холодало. Они провели неуютную ночь в Холм-он-Сполдинг-Муре — поместье, конфискованном у сэра Роберта Констебля, одного из вожаков Благодатного паломничества, тело которого, закованное в цепи, висело над воротами в Халле. Призрак несчастного сэра Роберта блуждал здесь, и Екатерина радовалась, что рядом с ней в постели лежит могучий Генрих. Они поехали на восток, в Халл, чтобы король мог составить план оборонительных укреплений: он всегда опасался вторжения французов, и ему нравилось заниматься любыми военными делами. Физическая нагрузка вернула Генриху бодрость духа, и все пять дней, проведенных в поместье Халл, он находился в отпускном настроении, нуждался в близости Кэтрин и каждую ночь проводил с ней. Для свиданий с Томом возможностей не было. Из Халла огромная, но изрядно утомленная королевская свита двинулась на юг, в Линкольншир, где двор развлекали и потчевали в поместье Торнтон, в Кеттлби-Холле, в Бишоп-Нортон, в Инглби, Ноктоне и Слифорде. К середине октября они вернулись в Колливестон, а через два дня прибыли в замок Фотерингей, который стал владением Екатерины в числе прочих имений, полученных ею после свадьбы. Хотя были предприняты все возможные усилия, чтобы придать старинной крепости обитаемый вид, даже сделать ее комфортной, и королевские покои в этом замке когда-то явно отличались роскошью, здание все равно было пропитано сыростью и выглядело каким-то блеклым. Екатерина с интересом узнала, что давным-давно здесь родился король Ричард III. В те времена Фотерингей служил одной из главных резиденций королевского дома Йорков, родственников Генриха по материнской линии. Правда, сам Генрих не любил вспоминать об этом и держался весьма невысокого мнения о своем двоюродном дедушке Ричарде, который сгубил своих юных дядьев, принцев, в Тауэре и не останавливался ни перед чем, лишь бы заполучить корону. Генрих чувствовал себя неуютно и в местной церкви, где были погребены некоторые из его предков Йорков. Кэтрин посчитала уместным посетить ее, потому что являлась патронессой церковной коллегии Фотерингея, но Генрих сказал, что два года назад она перешла к Короне и ей нечего там делать. Церковь оказалась одним из двух мест, которые не понравились ей в Фотерингее. На второй вечер Джейн договорилась с Томом, чтобы тот ждал там Екатерину, решив, что безопаснее укрытия не найти. Она надела накидку и, глубоко надвинув на голову капюшон, проскользнула мимо стоявших у ворот замка стражников. Они заулюлюкали ей вслед, приняв за девушку-служанку, которая спешит на свидание с каким-нибудь сельским парнем. Екатерина пробежала по залитой лунным светом улице и толкнула тяжелую дверь церкви. Том встретил ее с фонарем в руке, по его лицу было видно: что-то случилось. — Я получил известие от брата. Моя мать больна. Она составила завещание, но мне не оставила ничего, даже не упомянула меня в нем. — Том с перекошенным от злости лицом начал расхаживать взад-вперед по стылому нефу. — Я надеялся, мои родители наконец поверят, что я не виновен в изнасиловании и убийстве, но, очевидно, этого не произошло. Напрасно я ждал от своей матери хотя бы капли сочувствия. Екатерина обняла его и ощутила, как напряжено от обиды его тело. — Хочешь, я напишу ей? Я могу сказать, что сам король не видит на тебе вины. Том замялся. — Лучше оставить все как есть, но спасибо за предложение, моя дорогая. Ты так добра. Она задумалась: почему Том отверг ее помощь? Может, его родные знали нечто такое, чего не знала она? И он боялся, как бы они не просветили ее? Нет, что за предательские мысли! Том ни в чем не виноват, а родные поступают с ним несправедливо, в этом она уверена. — Стоит попробовать, — заметила Екатерина. — Особенно раз твоя мать больна. — Нет. Я сам напишу ей, — сказал Том. — Если ничто не поможет, я воспользуюсь твоим предложением. Он был слишком расстроен для любовных утех, поэтому оба ушли, прикрыв за собою дверь. В деревне было тихо, как на кладбище, но вдруг, только они двинулись к черной громаде замка, где-то позади зазвучало негромкое пение мужских голосов. Том и Екатерина замерли и уставились друг на друга. — Что это? — прошептала она. — Похоже на монашеский распев, — сказал Том. — Голос доносится из церкви, но там совершенно темно и еще минуту назад никого не было. Они немного постояли, прислушиваясь. У Екатерины было такое чувство, будто у нее волосы на голове встают дыбом. Внезапно пение смолкло, но одинокий мужской голос продолжал звучать монотонно, словно читал молитву на латыни. Екатерина задрожала: — Вернемся в замок! — Иди вперед, — велел ей Том. — Я немного обожду и пойду следом за тобой. Нельзя, чтобы нас видели вместе. Спокойной ночи, любовь моя. Но Екатерины уже не было, она полетела к замку так быстро, будто за ней гналась стая адских псов.Второе неприятное место в Фотерингее находилось в главном зале, рядом с огромным очагом. Огонь в нем горел постоянно, но когда бы Екатерина ни прошла мимо, ее обдавало холодом, и она испытывала беспричинный страх. — Вы тоже это чувствуете, — произнес у нее за спиной чей-то голос, когда она, внутренне содрогнувшись, остановилась у очага. Екатерина обернулась и увидела Фрэнсиса; на этот раз он не улыбался. — Здесь случилось что-то нехорошее. Анна Парр, которая вместе с Дорой Брей находилась в тот момент при Екатерине, холодно взглянула на него и сказала: — Мы с матерью служили почившей вдовствующей принцессе, которая владела этим замком. Она жаловалась, что дом сырой и неуютный, но никогда не упоминала о том, что здесь свершились какие-то темные дела. — Это могло произойти в давние времена. Замок очень старый, — возразил Фрэнсис. — Вот тут, определенно, какое-то холодное место, — сказала Екатерина, держась подальше от Анны. — Если я передвинусь сюда, — она сделала несколько шагов влево, — тут заметно теплее, а ведь я стою дальше от очага. — И здесь тоже теплее, — сказал Фрэнсис, отойдя немного вправо. — Это может быть предвестием каких-то неприятностей в будущем. — Перестаньте говорить глупости, мистер Дерем! — с укоризной сказала Анна. В этот момент в зал вошел Том и весь ощетинился при виде Фрэнсиса, который сердито глянул на него. Екатерина испугалась, как бы они не накинулись друг на друга. — Мистер Дерем, мне нужно, чтобы вы написали несколько писем, — быстро сказала она. — Жду вас в своем кабинете. Пойдемте, леди. — С этими словами она ушла, притворившись, что не заметила озлобленных выражений на лицах обоих мужчин.
Вскоре двор направился на юг, в Хайэм-Феррерс, где их принимал отец Люси Сомерсет, граф Вустер. После весьма оживленного вечера Екатерина столкнулась на лестнице с Фрэнсисом. От него пахло алкоголем. — Какая приятная встреча, женушка! — ухмыльнулся он. — Ш-ш-ш! — шикнула она. — Мои дамы совсем рядом. Дерем протиснулся мимо нее на узкой винтовой лестнице, обвив рукой за талию, и пробормотал: — Я все равно получу вас снова. Екатерина сердито вывернулась, едва не потеряв равновесие, и бросила ему: — Никогда! — Это мы посмотрим, — протянул Фрэнсис. — Если кто-нибудь и станет наслаждаться вашими милостями, так это я, имеющий на то все права. — Он звонко чмокнул ее в губы и ушел — простучали по ступеням каблуки. Возмущение продолжало клокотать в душе Екатерины, когда королевская свита переехала в Уиллингтон, однако, добравшись до замка Эмптхилл и поместья Чениз, где их с Генрихом разместили в величественном новом крыле, она убедила себя, что Фрэнсис просто бахвалится. Он потеряет не меньше, чем она, если выдаст ее. Ему просто нравится играть с ней в кошки-мышки. Негодяй! Что ж, это ничего ему не даст. Элис Рестволд попросила отпуск, чтобы навестить своего мужа в их загородном имении Ваш. — Это всего в пяти милях от Чениз, мадам. Я могу съездить туда и вернуться к вечеру. — Конечно, — согласилась Екатерина. Элис не уходила. — Мадам, я тут подумала… Не могли бы вы помочь мне, — с улыбкой проговорила она, — в память о том славном времени, которое мы провели вместе в Ламбете? Екатерина похолодела. — Что я могу для тебя сделать? Элис улыбнулась: — Я подумала, как было бы мило, если бы я могла появиться дома и выглядеть как знатная леди. Это впечатлило бы моего мужа! Красивый билимент… может быть, какое-нибудь украшение? Это было открытое вымогательство. Просто возмутительно! И не только потому, что камеристкам не полагалось выглядеть знатными дамами. Однако Екатерина не посмела выказать гнева. — Посмотрим, что я смогу сделать, — сухо проговорила она. — Благодарю вас, мадам, — сказала Элис и присела в реверансе. Екатерина сердито смотрела ей вслед. У нее не было выбора, кроме как выполнить требование этой нахалки. Скрежеща зубами, она заглянула в дорожный сундук и нашла билимент с золотыми накладками, который собиралась пришить на французский капор, и маленькую прямоугольную золотую подвеску. Отдав эти вещи Джейн, Екатерина приказала ей отнести их миссис Рестволд. Слава Богу, хоть Джейн можно доверять: она не станет пользоваться своей осведомленностью для извлечения личных выгод! Екатерина вошла в личные покои, где дамы и несколько джентльменов оживленно играли в карты. Маргарет Дуглас сидела отдельно от остальных. Екатерина не сразу заметила, что она плачет. — Что случилось, Маргарет? — негромко спросила она, присаживаясь рядом. — Моя почтенная матушка умерла, — ответила Маргарет с напряженным от боли лицом. — Мы никогда не были близки, и я не видела ее много лет. Я приехала в Англию юной девушкой — мое детство не назовешь счастливым, потому что родители не ладили, а потом мой отец поссорился с королем Яковом. Я надеялась увидеться в Йорке со своим сводным братом, королем Яковом[152], и спросить его о матери… Не получилось. А теперь уже слишком поздно. Простите меня. Новость обрушилась на меня так внезапно. — Тут нечего прощать, — обняв Маргарет за плечи, тепло сказала Екатерина. В комнату вошел ее брат Чарльз. «Наверное, он хочет составить компанию игрокам в карты», — подумала Екатерина. Ему было уже двадцать пять. Широкоплечий красавец, Чарльз привлекал к себе восхищенные взгляды дам при каждом своем появлении. Служба в личных покоях короля шла успешно, и Генрих высоко ценил его, о чем свидетельствовали недавние пожалования — упраздненный приорат и два поместья в Гемпшире. Однако Чарльз не присоединился к группе картежников за столом. Вместо этого он посмотрел на Маргарет, а та поймала его взгляд, и ее глаза исполнились томления. Очевидно, между ними что-то было и, вероятно, серьезное. Чарльз, видимо, не прислушался к предупреждению сестры. И ничего хорошего из этого выйти не могло, учитывая, кем была Маргарет, а также то, что она один раз уже пострадала из-за катастрофической любовной истории с лордом Томасом Говардом. По совести говоря, Екатерина не могла осуждать их: ее увлечение Томом было, по сути, гораздо хуже, однако она хорошо понимала чувства Чарльза и Маргарет. Но все же нужно высказаться! — Надеюсь, вы понимаете, что делаете, — тихо произнесла Екатерина. — Я знаю, что мне не следует, — призналась Маргарет, не отрывая глаз от Чарльза, который так и стоял в дверях, явно не желая подходить к ней при королеве. — Но в этом все мое утешение, — прошептала она. — Будьте осторожны, молю вас! — наставительно сказала Екатерина, потом встала, поприветствовала Чарльза поцелуем, пробормотала: — Надеюсь, ты не поставишь ее под угрозу, — и ушла.
Каким же облегчением было после четырех месяцев отсутствия увидеть вдалеке на возвышенности толстые башни Виндзорского замка. Они провели там четыре ночи, прежде чем отправиться в Хэмптон-Корт. Приятно вернуться в знакомые места после такой долгой поездки. Но времени на отдых им не дали: испачканный грязью гонец ждал короля со срочным донесением. — Ваше величество, — пав на колени, сказал он. — Я только что прибыл из Хансдона. Принц Уэльский заболел четырехдневной малярией. Обычно розовое лицо Генриха побледнело. — Мой сын болен? Серьезно? — Жар еще не спал, когда я уезжал, сир. — Вызовите всех моих врачей! — крикнул Генрих своим лордам и джентльменам. — Они должны сейчас же ехать к нему. Екатерина прикоснулась к его руке: — Может, нам тоже поехать? — Нет, дорогая. Ему нужны доктора. — Но мальчику всего четыре года. Кто-то близкий должен быть рядом, чтобы поддерживать его дух. — Я сказал — нет! Ни к чему рисковать, вдруг привезем туда еще какую-нибудь инфекцию. Вспомните, где мы побывали за последнее время. Кто знает, чего мы могли нахвататься из воздуха. Нет. Как бы мне ни хотелось поехать к Эдуарду, я должен поступать осмотрительно. Его безопасность превыше всего. Он — мой единственный наследник! Король сказал это не в упрек ей, Екатерина знала, но его слова напомнили, как сильно она подводит своего супруга. Должно быть, в ней есть какой-то изъян, потому что с его стороны усилий было предпринято больше чем достаточно. — Простите меня, Кэтрин, — сказал Генрих, сжав ее руку; он был явно очень расстроен. — Вы должны извинить мои грубые манеры. Страх за Эдуарда сделал меня резким. — Глаза короля наполнились слезами. — Я достаточно осведомлен в медицинских делах, чтобы понимать: это опасная болезнь для ребенка в его возрасте. Дай Бог, чтобы Эдуард справился с ней! Доктор Чеймберс и доктор Баттс, главные среди личных врачей короля, немедля ускакали в Хансдон. Утешительные слова, сказанные ими при отъезде, не смогли замаскировать страха за принца. Генрих заперся в молельне и принялся упрашивать Всевышнего и торговаться с ним, чтобы Он спас его сына. Король отстоял на коленях много часов, а когда вышел, то едва держался на ногах. Ночь он провел, лежа в объятиях Екатерины и всхлипывая у нее на плече. Через два дня они вяло ковырялись в еде, когда прибыл другой гонец и подал королю письмо. Генрих торопливо прочел его и издал крик ликования. — Господь услышал мои молитвы! Принц быстро поправляется! — Хвала Господу! — выдохнула Екатерина. — О, сир, какое это для вас облегчение! Генрих вкладывал монеты в руку вестника: — Возьмите это за ваши труды и за то, что доставили нам такую радостную весть. Пойдите в буфетную и скажите, что я распорядился, чтобы вас накормили на славу. — После ухода гонца Генрих повернулся к Екатерине. — Когда Эдуард совсем поправится, я пошлю его в Эшридж. Воздух там целебный. И сокращу число его слуг. Я не смею рисковать, чтобы он сейчас подхватил еще что-нибудь. А теперь нам нужно это отпраздновать. Сегодня вечером я возьму с собой нескольких джентльменов и приду в ваши покои к вам и вашим дамам. Мы будем веселиться! И они веселились. Генрих привел с собой Уилла Сомерса, и вскоре все покатывались со смеху от его шуток. У Изабель, Кэт и Мег по щекам текли слезы. — Что сказал садовник, когда цветок собрался скинуть лепестки? — выкрикивал Сомерс, безжалостно выпаливая одну шутку за другой. — «Ты этого не сделаешь!» А слышали про скрягу, который в завещании все оставил самому себе? — Снова и снова кудахтал он, приплясывая и стуча об пол увешанной бубенцами палкой. — Хватит! — воскликнул задыхающийся Генрих. — Ты уморишь нас всех, дурак! — Еще одну, Гарри? — Уилл склонил голову набок и с мольбой поглядел на своего господина. — Убирайся! — Король махнул рукой. — Иди и принеси мне вина. Пусть от тебя будет хоть какая-то польза. Снова раздался хохот. — О, как жаль, — буркнул Уилл и пошел к буфету, на котором стоял кувшин с вином. Но при этом он улыбался. Они с Генрихом были сильно привязаны друг к другу. Празднование завершилось незадолго до вечерни. — Я должен поблагодарить Господа за возвращение здоровья принцу, — сказал король, прощаясь с Екатериной. — Потом я, наверное, лягу пораньше. Увидимся утром, дорогая. — Он взял ее лицо в ладони. — Спасибо вам за доброту ко мне в это тяжелое время. Вы сокровище среди женщин, украшение моей старости, я благодарю Господа за то, что Он послал мне такую жену. — Генрих помолчал, глядя ей в глаза. — Вы этого не знаете, Кэтрин, но, пока мы были в дороге, я отдал распоряжение, и завтра, в День Всех Святых, по всей стране отслужат особые благодарственные молебны, мои подданные вознесут хвалы Всевышнему за мое счастье с вами. За вашу добродетель и достойное поведение все королевство отдаст вам дань уважения. Екатерина былапотрясена и устыдилась. Она не заслужила такой великой чести, которой удостоил ее король; она этого не стоила. — Я хочу только любить вас и служить вам, — сказала она, ощущая разлившееся по щекам тепло и надеясь, что Генрих не заметил, с каким смущением она приняла его великолепный жест. Над Господом нельзя насмехаться. Расплата за это последует неминуемо, Екатерина была уверена.
Часть пятая «Сколь гибельно сокровище хрупкой красоты»
Глава 29
1541 ГОД Екатерина сидела на роскошной королевской скамье рядом с местом Генриха в Королевской капелле Хэмптон-Корта. Был День Всех Святых, и они только что получили Святое причастие. Она сильно растрогалась, слыша, как ее муж, все еще стоявший на коленях перед алтарем, приносил Создателю самые смиренные благодарности за счастливую жизнь, которую вел и надеялся продолжить в будущем. Генрих хотел, чтобы его исповедник, епископ Линкольнский, молился вместе с ним. Тот громко возгласил: — Всемогущий Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты послал нашему верховному правителю королю такую любящую, верную долгу и добродетельную королеву. — Аминь! — хором произнесла паства. Екатерина, закрывшая глаза в молитве, услышала звонкий голос Генриха: — Я приношу Тебе благодарность, о Господь, что после стольких неурядиц, сопровождавших мои браки, Тебе было угодно даровать мне жену, совершенно подходящую к моим склонностям, как та, что есть у меня теперь. Собравшиеся в нефе придворные вдруг зааплодировали. Екатерине хотелось, чтобы пол разверзся и земля поглотила ее. Она отправится в ад, это точно. Могла ли она бросить Тома? Но она так любила его; он был нужен ей как воздух; его любовь для нее — сама жизнь. Генриха она тоже любила, но по-другому, и в брак с ним вступила не по собственной воле. Господь, знающий тайны людских сердец, поймет это. Но как Он может одобрить нарушение обетов, которые она дала во время венчания? Тревожа ее совесть, Господь подсказывал ей путь. Екатерина знала, что ей нужно сделать, но она отчетливо понимала и свою неспособность совершить такой шаг. Служба закончилась. Екатерина вместе с Генрихом в сопровождении придворных вернулась в приемный зал, где их ждал пир, и этот момент душевных терзаний прошел. А когда она увидела Тома, который наклонился к королю с золотым кувшином в руке и стал наливать своему господину вино, то осознала, что пропала безвозвратно.Наутро после Дня Всех Святых Екатерина снова пришла на мессу с Генрихом. Когда они вместе сели на королевскую скамью, она заметила лежавшее на подлокотнике рядом с местом короля запечатанное письмо. Генрих сунул его под дублет, и служба началась. После мессы он любовно попрощался с ней в молельне позади королевской скамьи и пошел принимать каких-то послов. Екатерина вернулась в свои апартаменты обедать. В три часа пополудни дверь личных покоев королевы распахнулась, и в зал вошли лорд-канцлер Одли и депутация членов Тайного совета, с ними были четверо стражников. — Екатерина, королева Англии, вы арестованы! — провозгласил лорд-канцлер и показал ей грамоту с подписью короля. Комната закружилась; в висках застучала кровь. Екатерина была близка к обмороку. И тем не менее не удивилась. Она увидела в ужасе глядевшую на нее Изабель, посеревшее лицо Джейн Рочфорд, поймала на себе понимающие взгляды Мег и Кэт. Они догадались! И выдали ее? — Леди, вы можете нас оставить, — сказал Одли. Дамы молча вышли, украдкой поглядывая на свою госпожу, а Екатерина стояла, в отчаянии заламывая руки, и едва могла дышать. — Взять под охрану апартаменты! — распорядился лорд-канцлер, и стражники заняли места у дверей, скрестив алебарды, чтобы она не могла выйти. — Вы под домашним арестом и останетесь здесь до дальнейших распоряжений, — продолжил Одли, не встречаясь с ней взглядом, но с таким отвращением, будто она была комком грязи, налипшим на его башмаки. Екатерина поняла, что он действует так по приказу короля. О великий Боже, что она натворила! Почему была так глупа? Вожделение теперь так мало значило в сравнении со страхом и стыдом: ее любовь к Тому представлялась пустой и греховной, какой и была. Она не могла представить, что чувствует Генрих, особенно если ему открылось происходившее у него за спиной, притом вскоре после того, как он прилюдно благодарил Господа за дарование ему такой добродетельной жены! Каким же дураком она его выставила! Но многое ли — и что именно — ему известно? Екатерина посмотрела на советников и дрожащим голосом проговорила: — Милорды, какова причина моего ареста? — Мадам, вы обвиняетесь в неблаговидном поведении до брака с королем, — мрачно ответил Одли. Фрэнсис! Фрэнсис что-то разболтал. Она пригрела на груди змею. Ясно было, что давать ему место при дворе — горькая ошибка, но какой выбор был у нее, запутавшейся в сетях своего прошлого и отданной на милость других людей? О, как же она сглупила, недооценив злонамеренность Дерема! «Но, — сказала себе Екатерина, — еще не все потеряно». Лорд-канцлер упомянул только о дурном поведении до брака. Речь не шла о Томе. Она могла покрыть себя вечным позором и бесчестьем, но, вступив в близкие отношения с Гарри и Фрэнсисом, не совершила ничего преступного. Вдруг ее поразила мысль: если это Фрэнсис выдал ее, тогда и его тоже, вероятно, арестовали! Но что ему известно о Томе и знает ли он вообще что-нибудь? О чем он вел речь в тот день, когда сказал, что, она, кажется, забыла о своем браке с королем? Какие сплетни слышал? Разумеется, Фрэнсис мог все выдумать, с него станется. Но если люди распускали слухи, связывали ли они ее с Томом? От этой мысли Екатерину пробрал могильный холод. Она слышала, что часто во время допросов у людей развязываются языки. Ни для кого не было секретом, сколь ужасные вещи творятся в Тауэре. — Какое неблаговидное поведение? — спросила она. — Такое, что до брака вы имели сексуальные отношения с мистером Мэноксом и неким Деремом, который ныне служит при вашем дворе. — На последних словах Одли сделал особый упор, будто намекая, что это само по себе подозрительно. Неужели они считали, что она решила возобновить свои отношения с Фрэнсисом? О, это обвинение она легко опровергнет! Все будет хорошо, если опровергать придется только его и если ей поверят. И никто не упомянет о Томе. Есть такая старая поговорка: чем меньше слов, тем проще поправить дело. Внутреннее чутье подсказывало Екатерине: нужно все отрицать. — Я всегда была верной женой королю, — заявила она. Если речь шла о том, чтобы целиком отдать свое тело другому мужчине, это было правдой. — Случившееся до брака не имеет к этому отношения. Лорды стояли молча. Одли откашлялся: — Мадам, наружные двери ваших покоев будут заперты, но вы можете оставить у себя ключи от всех комнат. — С этими словами он кивнул остальным, и они ушли. Стражники закрыли двери, и Екатерина осталась одна. Королева опустилась на пол — оптимизм мигом покинул ее — и завыла от ужаса и раскаяния. Что она наделала? Какая несусветная глупость — позволить своему сердцу и низменным страстям завести себя в такое ужасное положение. Но больше всего пугала неизвестность: какие обвинения против нее могут выдвинуть? Правда, кое-что страшило еще сильнее: что с ней могут сделать? А если выражаться более точно: что сделает с ней Генрих? На ум пришли ужасные воспоминания о кровавой участи леди Солсбери… мясник-палач… невыразимые муки. И Анна Болейн, стоящая на коленях на соломе и ждущая, когда опустится на ее шею карающий меч… Но они совершили измену. Дурное поведение до брака — это не измена. О Генрихе Екатерина не смела и подумать. Только позавчера вечером он держал ее в объятиях, публично благодарил за нее Господа, называл сокровищем среди женщин. Забыть такое невозможно. Но сыграет ли это в ее пользу или обратится против? Если вскроются лишь добрачные любовные истории, найдет ли Генрих в себе силы простить ее? Однако совесть грызла бедняжку жестоко; она знала, что вины на ней гораздо больше. Избавиться от всплывавших в голове образов королевы Анны и леди Солсбери не удавалось. Мысли об их кровавой участи вызывали такой ужас, что начинала кружиться голова. Склонившись вперед, Екатерина обхватила себя руками и завыла. Но никто не слышал этого горестного плача, некому было ее утешить. Наконец слезная буря утихла, и Екатерина, пошатываясь, встала на ноги. Нужно смотреть на вещи позитивно; нужно быть храброй. Не могут ее осудить на смерть за то, что она сделала до брака, а о случившемся после никто не знает, иначе ее обвинили бы и в этом. Джейн присутствовала при аресте, однако приходили не за ней. Надо утешаться этим. О ее прошлом Джейн не имела никакого понятия, но, должно быть, дрожала от страха, так как была виновна в подстрекательстве к преступлениям, о которых Совет не знал, и содействии им, к тому же ей лучше других известно, в каком опасном положении оказалась она сама вместе со своей госпожой. Возвращение дам немного взбодрило Екатерину. Она пока не лишилась ничего, кроме свободы, даже трон под балдахином остался на месте. Генрих не мог считать ее провинившейся слишком серьезно, если оставил ей статус королевы. Однако когда Екатерина попыталась заговорить со своими дамами о случившемся, то наткнулась на стену молчания. — Нам было велено не обсуждать это с вами, мадам, — сухо проговорила леди Ратленд. Они относились к ней настороженно. Некоторые явно осуждали. Разумеется, ни одной из них не хотелось, чтобы ее как-то связывали с павшей королевой. Но она еще не пала! Нарушить приказание Совета рискнула одна только Джейн: она вызвалась сопровождать Екатерину в уборную и, едва успев закрыть дверь, прошептала: — Нам сказали, что вы арестованы за неблаговидное поведение до брака. Это все? Екатерина заглянула ей в глаза. В них застыл страх, и неудивительно. — Да, слава Богу! Ты слышала что-нибудь о Томе? — Ничего, кроме того, что вчера он отправился на охоту, — ответила Джейн. — Я бы пошла искать его, но нам приказали всем вместе ждать в зале, а там были стражники. Все таращились на нас. Я не посмела разыскивать Тома, вдруг меня бы выследили. Екатерина пала духом. — Да, ты не могла рисковать. Будем молиться, что никто не подозревает, как много он для меня значит. — Она дрожала от возбуждения. Нужно было внушить Джейн необходимость держать язык за зубами. — Если это дело не выйдет наружу, нам бояться нечего. Я ни в чем не признаюсь, и ты, если любишь меня, отрицай все и ни в коем случае не выдавай. Предупреждаю, с тобой могут обращаться очень любезно и по-доброму, чтобы заставить говорить, но помни: если признаешься, то погубишь и себя, и других. — Я ни за что не признаюсь, даже если меня будут разрывать надвое дикими конями, — пообещала Джейн. — Мы должны благодарить Господа, что тебя еще не допрашивали. Нам нужно утешаться этим, ведь это означает, что о наших отношениях с Томом им ничего не известно. Если тебе станут задавать вопросы, держись естественно. И страшись последствий своих слов! — Думаете, я не знаю, что с нами сделают, если разоблачат, и с мистером Калпепером? — резко возразила Джейн. — Вы глупая девчонка, неужели вам не ясно, что я уже живу в страхе? Неужели я подпишу себе смертный приговор? Екатерина отшатнулась. Никогда еще она не видела свою подругу такой взволнованной. Глаза у Джейн были дикие, руки тряслись. Учитывая обстоятельства, ее грубость была простительной. — Мы не должны оставаться здесь одни дольше. Тебе и другим женщинам позволено выходить? — Да, но мы должны объяснять стражникам, по какому делу идем. — Тогда, прошу тебя, придумай какой-нибудь предлог, чтобы отыскать Тома. Узнай, не арестован ли он. Это доказало бы, что она вне опасности — пока. — Я к нему не приближусь! — решительно заявила Джейн. — Да, конечно. Это мудро. Странно, но видеть Тома Екатерине не хотелось — только узнать, что он все еще на свободе. Когда позже Джейн подошла к ней и заверила, что да, чувство облегчения длилось несколько часов, а потом Екатерина вновь послала свою наперсницу сходить и проверить, потом еще раз. Сперва Джейн сносила это терпеливо, но нервы и у нее были на пределе. — Вы просите меня уже в четвертый раз! — огрызнулась она вечером. — Дамы удивятся, что это я все время сопровождаю вас в уборную, и у меня кончаются предлоги для стражников, чтобы оправдать свой очередной выход. — Но это и в твоих интересах — узнать, на свободе ли Том, — заметила Екатерина. — Я не уверена, что смогу и дальше терпеть эту неизвестность, — сморщив лицо, сказала Джейн. — Все твержу себе, что это лишь дело времени… — Она потеряла самообладание и всхлипнула. — Не могу отделаться от мыслей о моем муже. Три удара топором… — Голос ее замер. — Меня может ждать такая же ужасная смерть. Господь покарает меня за то, что я дала показания против него. Екатерина в ужасе смотрела, как Джейн Рочфорд, всегда прекрасно владевшая собой, распадается у нее на глазах, царапает себе шею и разевает рот в беззвучном крике. Ей самой захотелось кричать, потому что слова Джейн снова привели ее в ужас. — Успокойся! — прошипела Екатерина. — Ты же не хочешь, чтобы кто-нибудь услышал тебя или увидел такой. Это вызовет подозрения. Джейн молча уставилась на нее круглыми испуганными глазами. Едва держась на ногах, Екатерина вышла из уборной в спальню. Она оттягивала как могла укладывание в постель, боясь остаться наедине со своими мыслями и страхами, которые принесет ночь, но горничные зевали, и было уже больше часа пополуночи. Лучше бы Джейн не говорила эти ужасные вещи о лорде Рочфорде. Екатерина не могла выбросить ее слова из головы. Но брать их с собой в постель ей хотелось меньше всего. Она позволила служанкам раздеть себя и уложить под одеяло, но запретила тушить свечи — не желала оставаться в темноте. Хотя, судя по всему, вскоре она могла оказаться в вечном мраке. «Хватит! — приказала себе Екатерина. — Еще не все потеряно. Надо думать о лучшем. Меня не могут наказать за то, что случилось в прошлом», — твердила она про себя весь день. Хотелось бы в это верить. Лежа в кровати, Екатерина терзалась тревожными мыслями, сон к ней не шел. Что происходит за взятыми под охрану дверями ее покоев? Хуже всего было не иметь представления, что известно Совету и кто начал болтать. Том еще на свободе? Слышал ли он о ее аресте? А Генрих… Он ведь находится под крышей этого дома. Насколько она могла представить, король сейчас тоже, вероятно, лежал в постели в слезах, пытаясь свыкнуться с мыслью, что его обожаемая супруга оказалась не такой, как он думал. Но ей же наказали молчать о своем прошлом! Дядя Норфолк настаивал на этом, и герцогиня тоже. О, как же Екатерине хотелось увидеться с Генрихом и все ему объяснить! Она была уверена, что он поймет. Постепенно она прониклась решимостью: она с ним встретится! Устроит это как-нибудь. И с этой утешительной мыслью наконец заснула.
На следующее утро Екатерина пробудилась рано, и страх тут же сковал ее кандалами. Воспоминания о событиях вчерашнего дня обрушились на нее падающей стеной, и ей захотелось одного — зарыться с головой под одеяло и не вылезать. Но так нельзя; она должна измыслить какой-нибудь план. Вечером Екатерина ничего не ела; она была слишком расстроена — от одной мысли о еде тошнило. Однако, видя в зеркале, какой у нее бледный вид, заставила себя позавтракать, потом пощипала щеки, чтобы они приобрели цвет. Если ей удастся увидеться с Генрихом, она должна выглядеть как можно лучше. Сегодня король пойдет к вечерне, если не изменил своим привычкам. Разумеется, он мог быть слишком поглощен горем или зол, чтобы показываться на публике, но Кэтрин должна воспользоваться шансом. Дамы удивились, когда Екатерина приказала им одеть ее в платье из темно-желтого дамаста с глубоким вырезом и украшенным драгоценными камнями билиментом. Это был один из нарядов, которые Генрих особенно любил, и мастер Гольбейн писал ее именно в нем. Теперь Екатерина готова была расплакаться, вспоминая те дни, но не стоит задерживаться на этом. Элизабет Сеймур до блеска расчесала ей волосы. И вскоре Екатерина была готова. Оставалось только ждать.
Часы тянулись бесконечно. Екатерина сидела с дамами в своих покоях. Говорили мало. Изабель держала ее за руку с таким видом, будто вот-вот зальется слезами. Екатерина не могла ни слушать музыку, ни играть сама, чтобы не вызывать в памяти воспоминаний о более счастливых днях. Она взялась за вышивку и все испортила. Бо́льшую часть времени она сидела, глядя в пустоту, снова и снова прокручивая в голове все события и пытаясь сообразить, велика ли вероятность, что Совет узнает о ее увлечении Томом. Небо потемнело. Сумерки в эти ноябрьские дни наступали быстро, и вскоре зажгли свечи. Время пришло. — Мне нужен воздух, — сказала Екатерина. — Голова кружится. — Кто-нибудь, откройте окно, — распорядилась леди Ратленд. — Нет, я должна выйти в сад, — простонала она, метнулась к главной двери своих апартаментов и забарабанила в дверь. Ключ повернулся в замке, и дверь открылась. На нее сурово взирал стражник. — Помогите! — выдохнула Екатерина. — Мне нужен воздух! Я сейчас упаду в обморок. — И она едва не повалилась прямо на него. — Приведите помощь! — велел стражник своему напарнику и поддержал королеву, чтобы та не упала. Как только второй стражник убежал за подмогой, Екатерина вывернулась из рук первого и понеслась по галерее в сторону Королевской капеллы. За спиной у нее раздавались тяжелые шаги и крики: — Вернитесь! Стойте! К счастью, галерея была пуста. Все собрались на вечерню. Двери в молельни стояли открытыми: Бог как будто помогал ей! Все складывалось именно так, как она надеялась. В этот момент Генрих вышел из капеллы в сопровождении нескольких джентльменов. Екатерина сразу заметила, как он осунулся. — Ваша милость! — воскликнула она. — Сир! Мужчины остановились. Генрих повернул голову в ее сторону, потом отвел взгляд; его лицо было будто высеченным из камня. Тут Екатерину нагнал стражник и схватил сзади. Она вскрикнула. — Генрих! Выслушайте меня! Я вас умоляю! Отбиваясь от нападения, Екатерина увидела, что король колеблется. Потом он повернулся к ней спиной и пошел в противоположном направлении, джентльмены последовали за ним. — Генрих! — завизжала Екатерина. — Генрих, помогите мне! Подоспел второй охранник, и они на пару потащили ее обратно в апартаменты. Екатерина была как безумная, она визжала и выла от дикого страха, понимая, что Генрих бросил ее и все потеряно. Когда Екатерину наконец водворили в ее покои, она все еще боролась, все еще кричала. Дамы подбежали к ней и отвели в спальню, где уложили на постель. Она не сопротивлялась, но скулила и подвывала, как страдающее от боли животное. — Он оставил меня! — воскликнула Екатерина, когда наконец обрела членораздельную речь. — Я не хочу умирать! — Кто говорил хотя бы слово о смерти? — живо спросила леди Ратленд. — Успокойтесь, мадам! Отчаяние только повредит вам. — Но он ушел! Я звала его, а он ушел. — Она снова и снова переживала в душе этот момент унижения. — Он расправится со мной так же, как с Анной Болейн! — Это вздор! — резко сказала Джейн, и Екатерина услышала злость в ее голосе. — Вы не сделали ничего дурного, разве что притворялись целомудренной, не будучи таковой. — Мы не должны обсуждать это, — упрекнула ее леди Ратленд. — Едва ли мы можем игнорировать ее милость, когда она в таком состоянии! — возразила Джейн. — И я говорю правду. — Кто знает, какова она — правда? — пробормотала леди Ратленд, отчего Екатерина снова завыла. — Тише, тише, — проговорила та, на этот раз добрее. — Перестаньте! Вам нужно отдохнуть, мадам. Изабель тоже попыталась утешить ее: — Давай, Кэтрин. Соберись. Ты только делаешь себе хуже. Екатерина не прислушивалась к увещеваниям. Она лежала на постели, стонала и всхлипывала, тело ее содрогалось от спазмов ужаса. Любовь Генриха утрачена, и больше ей рассчитывать не на что; без его покровительства она пропала. Никто ей не поможет. Следующие два дня она провела, погрязнув в печали и страхе, переходя из одного состояния в другое. Дамы пребывали в отчаянии. Они делали все возможное, чтобы поднять своей госпоже настроение и успокоить, когда она впадала в истерику, но их старания не давали почти никакого результата. Екатерина ничего не ела, не могла уснуть и отказывалась переодеваться. Она лежала без сна, чувствуя себя запутавшейся в сетях ночного кошмара. В какой-то момент Екатерина услышала голоса и шум во дворе, под окнами своих покоев. Потом все стихло. Угнетенная страхами, она забыла об этом, но позже одна из дам сказала, что дворец стал таким тихим, потому что король отправился в Лондон. Значит, он уехал и оставил ее на произвол судьбы. Это вызвало новый поток слез.
Глава 30
1541 ГОД На третий день довольно рано утром раздался стук в дверь, и вошла Изабель. С момента ареста сёстры впервые оказались наедине. — Кэтрин, поднимайся. Нам только что сообщили, что к тебе идет архиепископ Кранмер. — Архиепископ Кранмер? Снова забрезжила надежда. Возможно ли, что Генрих обдумывает условия расторжения их брака, а не затевает против нее процесс? Развод или смерть? Может быть, еще не конец всему. Зачем иначе к ней идет Кранмер? Она встала с постели: — Ух, от меня воняет! — Давай сменим белье, — сказала Изабель, расшнуровывая на ней платье. — Эту сорочку нужно замочить. Вскоре Екатерина была вымыта и одета, распущенные волосы были влажными. Изабель настояла, чтобы платье выбрали скромное — черное, со стоячим воротником, и никаких украшений. — Ты же не хочешь походить на женщину легкого поведения. Екатерина взглянула на себя в зеркало. Выглядела она довольно чопорно и была очень бледной. В десять часов она сидела в своих покоях и пыталась сконцентрироваться на вышивке, когда дверь открылась и за ней показался не один только архиепископ Кранмер, но и лорд-канцлер Одли, ее дядя Сассекс, епископ Гардинер, который не поднимал на нее глаз, и дядя Норфолк, смотревший на свою племянницу так, будто она была недостойна даже презрения. «Какая несправедливость!» — с горечью подумала Екатерина. Он знал о ее прошлом и заставил молчать о нем. Сердце Екатерины упало. Если они явились с целью запугать ее, чтобы она согласилась на развод, то могут не тратить понапрасну время. Она согласится на все, лишь бы спасти себе жизнь. Екатерина опасливо поглядывала на лордов. Кранмер никогда не симпатизировал ей. Он был страстным сторонником церковных реформ и — ходили слухи — тайным протестантом, к тому же архиепископ не одобрял ее брак, потому что в результате к власти при дворе пришли католики, и, конечно, обрадуется возможности избавиться от неугодной королевы и оттеснить противников реформистов. А Гардинер и Норфолк явно злились на нее за нанесенную королю обиду; их беспокоило собственное политическое будущее. Архиепископ казался раздраженным. — Ну, мадам, дела ваши плохи. Вам, разумеется, известно, что вас обвиняют в предосудительном поведении до брака с королем. — (Екатерина кивнула.) — Что имеет ваша милость сказать на это обвинение? — Я его отрицаю, — заявила она. Норфолк посмотрел на нее оценивающим взглядом, в котором Екатерина различила оттенок восхищения. Может, он подумал, что еще не все потеряно. И она правильно поступает, опровергая все нападки. — Вы отрицаете? — повторил вопрос Одли и сурово сдвинул брови. — Да. Я знаю, есть злонамеренные люди, которые ищут способы навредить мне и выгадать на этом. Что бы вам ни говорили, все это ложь. — Но у нас есть данные под присягой показания свидетелей. — Значит, они нарушили присягу! — Следите за своими словами, мадам, — предостерег ее Кранмер. — Мы дадим вам время подумать. Я вернусь позже.Еще один бесконечный, мучительный день. Екатерина провела его, терзаясь мыслями о том, кто мог дать против нее показания. Она была убеждена, что к этому причастен Фрэнсис и, вероятно, кое-кто из ее дам проболтался. Все они были рядом, и Екатерина изучала их лица, одно за другим, разыскивая признаки — скрытность, нежелание встречаться с ней взглядом, — которые выдали бы виновницу. Бесполезно. Большинство были настороже. Только Изабель проявляла к ней доброту. Джейн держалась отстраненно. К вечеру Кранмер вернулся в сопровождении одного только сэра Джона Дадли, главного конюшего при дворе Екатерины. Этот человек ей никогда не нравился, потому что был холоден и резок в манерах. Но очевидно, Дадли явился сюда лишь для того, чтобы делать заметки, так как сел за стол и положил перед собой принадлежности для письма, ничего не говоря. При виде Кранмера Екатерина бросилась в слезы, давая волю своим затаенным страхам и подавленным эмоциям. Она не могла остановиться и, подвывая, опустилась на колени на полу. Архиепископ выглядел крайне огорченным. — Мадам, успокойтесь, прошу вас! — взмолился он, но она была не в силах хоть как-то отреагировать. Кранмер беспомощно огляделся и сказал: — Леди, пожалуйста, помогите! Королева сильно расстроена. Мне еще не приходилось видеть ни одного создания в таком горе, ее страдания вызвали бы жалость в сердце любого человека. Изабель торопливо подошла к ней: — Соберитесь, Кэтрин, архиепископ пришел поговорить с вами. У вас, по крайней мере, есть возможность оправдать себя. Но Екатерина продолжала стенать, не в силах совладать с чувствами. — Невозможно говорить с ней разумно, когда она в таком состоянии, — сказал Кранмер. — Я опасаюсь за ее рассудок. Пусть она успокоится, а пока я ее оставлю и вернусь позже. Когда он ушел, Изабель опустилась на колени рядом с сестрой: — Дитя, ты должна успокоиться, слышишь? Милорд Кентерберийский вернется позднее, и тебе нужно собраться и поговорить с ним. Это очень важно. Кэтрин, ты меня слышишь? Но Екатерина почти не обращала на нее внимания. Рассудительность покинула ее; она была уверена, что визит Кранмера сулит недоброе, и впала в исступление — в ужасе металась по комнате, пытаясь выбраться наружу. Никакие усилия Изабель и других дам не помогали. Наконец Екатерина сдалась: села на пол, прижала колени к груди, обхватив их руками, и всхлипывала сквозь икоту. В таком состоянии и застал ее вернувшийся после ужина архиепископ Кранмер. — Дочь моя, — мягко начал он, вставая на колени рядом с ней, — я пришел узнать правду и предложить вам утешение, потому что его величество — самый добросердечный и милостивый правитель. Он обещал вам прощение, если вы признаете свою вину. Прощение! Генрих обещал простить ее. Он не совсем от нее отказался. Безумная тревога улеглась. Екатерина подняла заплаканное лицо и вскинула вверх руки: — О, милорд, я покорнейше благодарю его величество за то, что он оказал мне больше милости и снисхождения, чем я заслуживаю. Я не осмелилась бы просить о таком, не могла даже надеяться. Теперь она тихо плакала, растроганная добротой Генриха, которая действительно намного, намного превосходила все, чего можно было ожидать в сложившихся обстоятельствах. Потом, заново осознав, что потеряла любовь короля и разрушила собственную жизнь, Екатерина опять заревела, содрогаясь от горя и отчаяния. Кранмер заговорил бодро: — А теперь, мадам, прекратите эти глупости! У вас нет никакого повода. Что вас так огорчает? Король обещал вам милосердие. Разве это плохая новость? — Нет. — Екатерина всхлипнула. — Послушайте, дитя, я хочу только одного, чтобы вы открыли мне свое сердце. Скажите, почему вы плачете? Она продолжала сидеть на полу, сжавшись с комок, и пыталась справиться с собой. Кранмер протянул ей руку и помог встать, после чего усадил в кресло перед очагом, а сам сел напротив. — Ну, — начал он, — почему вы пребываете в таком плачевном состоянии? — Увы, милорд, зачем только я живу на свете! — воскликнула Екатерина. — Страх смерти никогда не печалил меня больше, чем печалит сейчас воспоминание о доброте, какую проявлял ко мне король, и когда я думаю о том, какого имела благосклонного и любящего супруга, то не могу не горевать. И эта нежданная милость, на какую я не могла и надеяться, будучи столь недостойной, делает мои проступки еще более ужасными, чем они казались мне до сих пор. И чем больше я думаю о величии сострадания, выказанного мне его милостью, тем сильнее скорблю сердцем о том, что так провинилась перед своим повелителем. — И Екатерина снова заплакала. Напрасно Кранмер пытался ее утешить, она его не слушала. Так продолжалось некоторое время, но потом Екатерина затихла. — Вот так лучше. — Архиепископ улыбнулся. — А теперь нам нужно просто поговорить. В этот момент часы пробили шесть, и Екатерина вновь залилась слезами, вспомнив, что каждый вечер в это время мастер Хинидж доставлял ей вести от короля, если тот не мог прийти к ней, и часто — любовные послания. Когда она сказала об этом Кранмеру, тот лишь печально улыбнулся. Екатерина откинула голову на спинку кресла. Слез у нее больше не осталось, она чувствовала себя нездоровой. Нос был заложен, зажатый в руке платок промок насквозь. — А теперь готовы ли вы рассказать мне правду, которая кроется за выдвинутыми против вас обвинениями? — спросил архиепископ. — Да, но кто меня обвинил? — отозвалась она. — Я не вправе открывать вам это, но с вашей стороны было бы разумно сделать заявление. Сэр Джон запишет ваши слова. Во-первых, тут должна быть преамбула. Сэр Джон, напишите следующее: «Будучи допрошенной милордом Кентерберийским, я, Екатерина, королева Англии, отвечаю честно и по совести, как буду отвечать в день Страшного суда, и по обету, данному при крещении и на причастии в недавний День Всех Святых». Надеюсь, вы понимаете меня, мадам? — Да, милорд. — Хорошо. Теперь вы под присягой. Я хочу спросить вас о ваших отношениях с Фрэнсисом Деремом. Вы разделяли с ним ложе до замужества с королем? Екатерину бросило в жар. — Да, — едва слышно произнесла она. — Но это было задолго до того, как я познакомилась с его милостью. Кранмер ничего не сказал. — Кажется, имела место помолвка между вами и Деремом, которая может сделать недействительным ваш брак с королем. Значит, это Фрэнсис проболтался! Он уничтожил ее! Однако, казалось, Кранмера больше интересовала эта несчастная помолвка, чем ее сожительство с Фрэнсисом. Может, целью этого расследования было все-таки расторжение брака? Уже лучше владея собой, Екатерина старательно подбирала слова: — Я признаю, что мистер Дерем много раз вынуждал меня дать согласие на замужество с ним, но, насколько помню, я ни разу не входила с ним в другие соглашения, кроме тех, о которых упомянула. Он просил у меня обещание выйти за него замуж, но я думала, что это не считается настоящей помолвкой. — Не считалось бы, если бы за этим не последовало совокупление плоти, — строго проговорил Кранмер. — Но оно последовало вслед за подобным обещанием, верно? Вы поклялись верой и правдой, что не будете иметь другого супруга, кроме Дерема! — Нет, я уверена, что никогда не давала такой клятвы, — упиралась Екатерина, опасаясь, что признание не сулит ей ничего хорошего. Кранмер начал раздражаться: — Вы когда-нибудь говорили Дерему: «Заверяю, что люблю вас всем сердцем»? — Не помню, чтобы я когда-нибудь произносила такие слова, — ответила она, сознавая, что, вероятно, без них не обошлось. — Какими памятными вещами и подарками вы обменивались с Деремом? — Я подарила ему пояс и рукава для рубашки. Их сделала одна леди из Ламбета. Больше я никаких подарков ему не делала, за исключением тех вещей, которые он взял у меня и оставил себе против моей воли. — Екатерина определенно не собиралась упоминать о деньгах, которые вымогал у нее Фрэнсис. Кранмер покопался в своей кожаной суме и вынул из нее кольцо: — Это нашли среди вещей Дерема. Екатерина увидела материнское кольцо с рубином, которое она отдала Фрэнсису, думая, что их любовь продлится вечно. — Оно не мое, — солгала она, чувствуя укол совести оттого, что предавала свою мать. О Боже, если кольцо у них, значит и Фрэнсис тоже! — Какие подарки делал вам Дерем, мадам? — спросил Кранмер. — В основном знаки любви. Он знал одну горбунью в Лондоне, большую искусницу в изготовлении цветов из шелка. Она сделала для меня французский фенхель, и еще он подарил мне шелковую фиалку на Новый год, хотя миледи Норфолк вернула ему цветок. Он купил мне подкладочного шелку на стеганый чепец, и я отдала его одному человеку в доме миледи — кажется, его звали Роуз, — чтобы тот вышил любой узор, который посчитает подходящим. — Вы просили, чтобы чепец украсили францисканскими узлами? — Я не просила мистера Роуза украшать чепец францисканскими узлами, что он может подтвердить, если не лишен чести, он сам расшил ими шапочку. — Важно было показать, что ее не особенно интересовал Фрэнсис. — Но когда Дерем увидел ее, он воскликнул: «Что, женушка, тут францисканские узлы для Фрэнсиса!»? — допытывался Кранмер. — Мне кажется, то, с какой фамильярностью он использовал это слово «женушка», безусловно, указывает на существовавшее между вами соглашение о помолвке. — Нет, милорд, это всего лишь самонадеянность мистера Дерема, — не сдавалась Екатерина. — Вы обменивались еще какими-нибудь подарками? — Нет, насколько я помню, за исключением того, что в начале тура по стране он дал мне десять фунтов золотом. Я приняла это за взятку, так как он хотел получить место при моем дворе. — Правда ли, что он оставил вам сто фунтов, когда покидал двор в Ламбете? — Да. Это была бо́льшая часть его сбережений. Он сказал, что, если не вернется, я могу считать эти деньги своими. Кранмер откинулся на спинку кресла и улыбнулся: — Это, мадам, доказывает, что отношения были установлены. Дело жены — следить за деньгами мужа. — Но я сделала это в качестве одолжения, не как жена, уверяю вас, — заявила Екатерина. Архиепископ повернулся к сэру Джону: — Прошу вас, принесите сюда показания королевы. Мадам, прочтите, что вы сказали, и подтвердите, все ли записано верно. — Он подал ей документ. — Да, все верно, — через некоторое время сказала она. Часы на дворе пробили семь. — Становится поздно, и вам нужен отдых, мадам, — сказал Кранмер. — Я вернусь завтра, и мы продолжим. Помните, если вы признаетесь в своих проступках, хотя закон лишает вас права на жизнь, король намерен проявить к вам свое самое милостивое снисхождение. Слова Кранмера настолько потрясли Екатерину — как можно лишить ее права на жизнь? — что она едва слушала архиепископа, который говорил, что ей следует обратиться с письменным прошением к Генриху, сознаться в своих прегрешениях и молить его о пощаде. У нее отняли право на жизнь… Она не имеет права на жизнь. Екатерина не могла выбросить эти слова из головы. После ухода Кранмера и Дадли она снова залилась слезами. Как же она одинока, как беспомощна и почти ничего не знает о законах! Часом позже, когда Екатерина, едва держась на ногах, вошла в спальню, все дамы встали и искательно взглянули на нее. Но она не осмелилась поделиться с ними. Им приказали ничего с ней не обсуждать, и Екатерина подумала, что, вероятно, ее служанкам велено шпионить за своей госпожой. Да и в любом случае, что они могут знать о том, как устроены законы?
Хотя Изабель могла что-нибудь знать. Ее супруг, сэр Эдвард Бейнтон, умел судить обо всем, и сама она была хорошо информирована. — Я собираюсь лечь спать рано, — сказала Екатерина. — Я совсем измотана. Никто не разговаривал, дамы молча выполняли свои обязанности. Когда горничные закончили раздевать ее, она попросила Изабель расчесать ей волосы, а потом шепнула на ухо сестре: — Приходи ко мне, как только сможешь, если любишь меня! Изабель сделала вид, что ничего не слышала, но позже, когда все стихло, неслышно отодвинула засов и на цыпочках вошла в спальню. Екатерина сразу села в постели и выглянула из-за занавесок. — Ты пришла! Слава Богу! — Да, Кэтрин. В чем дело? — Мне нужно с кем-нибудь поговорить. — Она снова была близка к слезам. — Архиепископ Кранмер сегодня сказал, что я лишена права на жизнь. — О Боже! — ахнула Изабель. — Неужели они собираются устроить суд над тобой? — Я не знаю, — покачала головой Екатерина. — Молюсь, чтобы этого не произошло. Милорд Кентерберийский сказал: если я признаю свою вину, король окажет мне снисхождение. По правде говоря, я не знаю, в чем провинилась, разве что не сказала королю, что любила других до знакомства с ним. Так как же меня могут лишить права на жизнь? Больше мне спросить об этом не у кого. — Честно говоря, я не знаю, — с расстроенным видом произнесла Изабель. — О чем спрашивал архиепископ? — Все о том, что было до брака. Разве это преступление — не сообщить королю о своем прошлом? Изабель явно засомневалась. — Я о таком не слышала. — Он спрашивал, не была ли я помолвлена с другим до того, как вышла замуж за короля. Неужели за это меня могут лишить жизни? Изабель замялась. — Если ты была помолвлена с другим, твой брак с королем объявят недействительным. А если бы ты родила ему ребенка? Встал бы вопрос, кто его родители и насколько он законен. Тогда речь могла бы зайти о том, что ты своим поведением вызвала сомнения в чистоте крови наследников престола, а это измена. Только такое объяснение я способна придумать. — Проблема в том, что я не знаю, была ли помолвлена. — Вы с Деремом когда-нибудь давали друг другу взаимное обещание стать супругами? — спросила Изабель. Екатерина вспомнила, как Фрэнсис заставил ее дать слово, что она выйдет за него замуж, стал называть своей женой, а она звала его мужем. — Да, но я не думала, что это обязательство. Изабель вспыхнула: — И прости меня, но я должна спросить: после этого ты спала с ним? — Да, — призналась Екатерина. Изабель покачала головой, как будто в отчаянии: — Тогда, боюсь, все это очень похоже на настоящую помолвку. Обещание выйти замуж и последующее сожительство налагает такие же обязательства, как брак. — Значит, выйдя замуж за короля, я могла поставить под сомнение чистоту крови наследников и совершила измену? — Вероятно, но я не знаток законов. — Но в этом есть смысл, — сказала Екатерина. — Значит, я и дальше буду все отрицать. Это всего лишь слово Фрэнсиса против моего. — Я не смею давать тебе советы, — сказала Изабель. — Слишком многое поставлено на кон, и мне вообще не следовало обсуждать это с тобой. Но может быть, лучше сказать правду и отдаться на милость короля. Сошлись на то, что была юна и наивна, не понимала последствий того, что делаешь, и вышла замуж за его милость, не ведая за собой вины. — Верно! Верно! Это правда. — Тогда скажи ее. Я уверена, правильно поступить именно так. — Но, Изабель… — Голос Екатерины замер. Да, она была юна и наивна, но у нее в голове вдруг мелькнула мысль, как лучше спасти себя и заручиться сочувствием. Это означало, что придется солгать, но Фрэнсис не заботился о последствиях, когда предавал ее. — Что, Китти? — мягко спросила Изабель. — Есть кое-что, о чем я никому не говорила, — сказала Екатерина. — О Фрэнсисе… Он принудил меня лечь с ним в постель, я сделала это против своей воли и желания. Он взял меня силой. Изабель в ужасе уставилась на нее: — Он тебя изнасиловал? Екатерина кивнула, а глаза ее наполнились слезами. Она почувствовала, будто это произошло на самом деле. — Нужно сказать об этом архиепископу Кранмеру, — заявила Изабель. — Я пойду и отыщу Эдварда.
Когда на следующее утро Кранмер вернулся, Екатерина готова была отступиться от своего решения обвинить Фрэнсиса в изнасиловании, но не посмела отказаться от своих слов, боясь осуждения Изабель, к тому же она действительно была убеждена, что это путь к спасению. Ее так ужасала необходимость солгать по такому серьезному поводу, что она рыдала почти так же истерично, как накануне. — Что это вы? — корил ее Кранмер. — Разве я не говорил вам, что король будет милосерден, если вы признаетесь в своих грехах? — Да, — всхлипнула Екатерина, думая про себя, как они поступят с Фрэнсисом, если поверят ей. Какое наказание грозило насильникам? — Ну, мадам, — произнес Кранмер, садясь на стул и подавая сигнал сэру Дадли, чтобы тот все записывал. Он уставился на Екатерину, давившуюся словами и содрогавшуюся от рыданий. — Вы утверждаете, что Дерем принудил вас и применил силу? — Да, — сказала она и шмыгнула носом. — Вы когда-нибудь называли его мужем? — Да. — Слезотечение прекратилось. — И он называл вас женой? — Да. При дворе миледи Норфолк говорили, что нам нужно пожениться, и некоторые его враги завидовали. — Мистер Мэнокс, возможно? — Да. Мы с ним любили друг друга до того, как я узнала мистера Дерема. — Это были плотские отношения? — Нет. Я была девушкой, и совсем юной. Он учил меня музыке. Лестью и уговорами он добивался того, чтобы я позволила ему трогать потайные места своего тела, чего я не могла допустить, а ему не следовало требовать. — Значит, он завидовал Дерему? — Да, именно поэтому Дерем хотел, чтобы я разрешила ему называть меня женой, и я сама много раз называла его мужем. Он не раз целовал меня, но то же самое делал и с другими девушками в доме. Однажды он поцеловал меня много раз, и видевшие нас сказали, мол, им кажется, ему никогда не нацеловаться со мной. А он ответил: «Кто запретит мне целовать свою жену?» Тогда они сказали: верно, так и случится, что когда-нибудь Дерем меня получит. Кранмер кивнул. Лицо его ничего не выражало. — Вы с Деремом точно не давали друг другу взаимного обещания пожениться? — Нет, не давали. — Подумайте хорошенько. Двубрачие делает второй брак недействительным. Это не преступление, но прегрешение в духовной сфере, с такими вещами разбирается церковный суд. Только он имеет полномочия выносить решения о законности брака. В данном случае умолчание о заключенной помолвке может быть расценено как сокрытиеизмены, потому что это подвергает опасности наследование королевского престола. Наказание за это — заключение в тюрьму. Так что подумайте еще раз! — Мы ничего друг другу не обещали, — заявила Екатерина. Кранмер поглядел на нее скептически, но оставил эту тему и перешел к другой: — А теперь сожалею, но мне придется затронуть весьма деликатный вопрос, а именно — плотское познание. Что вы можете сказать о ваших отношениях с Деремом? Екатерина почувствовала, что заливается краской. Она не готова была вторично обсуждать это и с неприязнью ощущала на себе порицающий взгляд сэра Джона, который чутко внимал каждому ее слову. Глубоко вдохнув, она ответила: — Признаюсь, что он много раз ложился со мной в постель, иногда в дублете и рейтузах, и два или три раза голым, но не так, что на нем ничего не было, он никогда не снимал, по крайней мере, дублета и, насколько я помню, рейтуз тоже; я говорю «голым», имея в виду, что рейтузы у него были спущены. — Мне сказали, что в спальне камеристок по ночам устраивали развлечения. — Да. Много раз Дерем и другие джентльмены приносили вино, клубнику, яблоки и прочие угощения, чтобы устроить пирушку, после того как миледи ложилась спать. — Он когда-нибудь оставался в спальне, после того как ее запирали на ночь? — Это абсолютная неправда. — Еще одна ложь. — Вы когда-нибудь брали тайком ключи у герцогини? — Нет, я никогда этого не делала и не просила других достать ключ, чтобы впустить Дерема, но двери по многим причинам часто оставались открытыми, иногда всю ночь и даже ранним утром, по моей просьбе и по желаниям других. Случалось, Дерем приходил рано утром и вел себя весьма развратно, но ни разу это не происходило по моему приглашению или с моего согласия. Кранмер нахмурился: — Тем не менее у нас есть показания, что миледи Норфолк требовала, чтобы ключи от спальни камеристок на ночь приносили в ее покои, а вы ходили туда и брали их тайком. Кто мог такое сказать? — Это неправда, — настаивала на своем Екатерина. — Что произошло, когда ваши отношения с Деремом завершились? — Помню, после того как я узнала, что поеду ко двору, он сказал мне, что не задержится в Ламбете, когда меня не будет. А я ответила, что он может поступать, как ему угодно. Больше я ничего не припоминаю. — Вы говорили ему, что расставание печалит вас так же сильно, как его? — Нет. Я никогда такого не говорила. — Вы плакали при прощании и говорили, что он в жизни не сможет упрекнуть вас в том, что вы отказались от него? — Все это неправда. Любой, кто знал меня тогда, видел, как я радовалась отъезду ко двору. Кранмер прервал допрос, чтобы послать за элем для них обоих. Они сидели в молчании и ждали, пока принесут питье. Затем, когда Екатерина с благодарностью пригубила свой кубок, архиепископ продолжил: — Мне известно, что Дерем уехал в Ирландию. Вы сносились с ним после его возвращения? — Нет. Насколько я помню, он сам отыскал меня и спросил, собираюсь ли я выйти замуж, так как до него докатилась молва об этом, и он ревновал. Я спросила, почему он пристает ко мне с такими вопросами, когда это не его дело и ясно, что моим супругом ему не бывать; и еще что если он слышал такие сплетни, то знает больше меня. — Екатерина намеренно избегала упоминаний о Томе и молилась, чтобы ее не начали расспрашивать подробнее, но Кранмер не стал допытываться. Теперь она была почти уверена, что ему ничего не известно о ее отношениях с Томом. — Вы утверждаете, что Дерем изнасиловал вас, но тем не менее дарили ему подарки, называли мужем и были близки с ним какое-то время. Мадам, это не похоже на поступки женщины, которую силой принудили к плотской связи. Екатерина вновь устыдилась своей лжи. — Я боялась его, мало ли что он мог сделать. Его буйный нрав был мне известен. Я подлаживалась к нему, чтобы не злить. — А когда вы разорвали отношения с ним, он не протестовал и не применял насилия? — Нет. Но к тому моменту наша связь ослабла. После того как герцогиня застала нас вместе, мы почти лишились возможности встречаться наедине. Кранмер кивнул: — Думаю, пока это все. Сэр Джон, принесите мне показания. — Он просмотрел написанное, потом передал бумагу Екатерине и спросил: — Вы подпишете? Она подписала и вернула ему документ. — Теперь я должен обсудить это с Тайным советом. Когда Кранмер и Дадли ушли, Екатерина вздохнула с облегчением. Речь действительно шла только о ней и Фрэнсисе. Это не имело никакого отношения к Тому. Она начала верить, что все обойдется. Напомнила себе, что король смилостивился над Маргарет Дуглас и Томасом Говардом и не казнил лорда Лайла. Он может развестись с ней, может разлюбить ее, но, вероятно, избавит от самого страшного наказания. Любой исход будет лучше этого ночного кошмара. После этих нескольких ужасных дней Кэтрин уже почти хотелось снова стать частным лицом. Она с радостью покинет двор и проживет остаток дней в безвестности.
На следующее утро архиепископ вернулся в сопровождении нескольких лордов из Тайного совета. — Ваша милость, мы здесь для того, чтобы помочь вам составить прошение о помиловании к королю, — сказали они ей. Новость была утешительная, ведь если советники готовы содействовать ей в этом, значит не имели намерения причинить ей вред. Под их диктовку Екатерина вывела медленно и с трудом (Кранмер поправлял ошибки в правописании):
Я, самая горестная из всех подданных Вашей милости и гнуснейшая нечестивица в мире, недостойная того, чтобы обратиться к Вашему высочайшему величеству, покорнейше предаюсь Вам и сознаюсь в своих прегрешениях. И хотя я знаю, что у Вашей милости нет причин оказывать мне снисхождение, однако, из свойственного Вам милосердия, которое простиралось и на других, не заслуживающих того людей, я нижайше, стоя на коленях, молю, чтобы частица его упала и на меня, несмотря на то что я меньше всех достойна называться Вашей супругой и подданной. Никакими словами не выразить мою скорбь. Тем не менее я уповаю на то, что из своего природного благодушия Вы учтете мою юность, мою неопытность, мою уязвимость и смиренное признание вины, и потому предаю себя целиком Вашей милости, полагаясь на Вашу жалость и сострадание. Теперь, когда вся правда без остатка явлена Вашему величеству, я покорнейше молю Вас учесть мягкие уговоры молодого человека, равно как и неведение и податливость молодой женщины. Я так жаждала снискать расположение Вашей милости, была так ослеплена желанием мирской славы, что не подумала, какой большой ошибкой было скрыть от Вашего величества мои прежние грехи, притом что я намеревалась всегда хранить верность и преданность Вашему величеству. Тем не менее сожаление о своих проступках возникало во мне всякий раз, как я видела бесконечную доброту ко мне Вашего величества. Теперь я отдаю справедливый суд о моих поступках, как и свою жизнь и смерть, целиком на волю Вашей милости, как благороднейшего и милосерднейшего человека, в рассуждение Вашей бесконечной доброты, жалости, сочувствия и сострадания, без которых я признаю себя достойной самого сурового наказания.Екатерина утешалась сознанием того, что советникам прекрасно известно, как лучше всего подступиться к Генриху: униженная мольба — наилучшее средство возбудить в его сердце жалость. Вскоре после того, как лорды ушли, чтобы отнести ее признание и прошение о помиловании королю, стражники впустили в покои сэра Томаса Сеймура. Екатерине никогда особенно не нравился этот брат королевы Джейн, дядя принца и младший брат пылкого реформиста графа Хартфорда — самодовольный, напыщенный и непредсказуемый. Многие дамы находили его привлекательным, но Екатерина относилась к нему с опаской. Сегодня в нем не наблюдалось обычной лихой небрежности. Сеймур отвесил поклон и торжественно обратился к Екатерине: — Ваша милость, я прибыл для того, чтобы составить опись ваших драгоценностей. Где я могу их найти? — Принесите, пожалуйста, — обратилась Екатерина к леди Ратленд. Та сходила в спальню и вернулась назад с ларцом. Глаза Екатерины затуманились слезами, когда сэр Томас открыл его и вывалил бесценное содержимое на стол. Она вспоминала, как Генрих осыпал ее этими дарами наутро после первой брачной ночи, выражая обожание своей юной супруге. С каким наслаждением она носила эти украшения — прекрасные, сверкающие вещицы! Теперь ее больше не обожают, и все это, конечно, у нее заберут. Составив список, сэр Томас вернул драгоценности в ларец и попросил леди Ратленд унести его. — Хорошего дня, ваша милость, — сказал Сеймур, снова поклонился и оставил Екатерину недоумевать, почему он не забрал драгоценности с собой. Может, Генрих решал, позволить ли ей оставить у себя хотя бы некоторые из них?
Глава 31
1541 ГОД В тот день после обеда Джейн вернулась из очередной вылазки ко двору с расстроенным видом. — Я нигде не могла найти мистера Калпепера, — прошептала она, склонившись у кресла Екатерины, чтобы подобрать с пола пяльцы своей госпожи. — И никто не мог сказать мне, где он. Екатерина похолодела; по телу побежали мурашки. Этой новости королева боялась. Ее затошнило. Они знали. Они знали! И по лицу Джейн было видно, что она пришла к такому же заключению. — Не говори ничего, помни! — прошипела Екатерина ей в ухо. Вышивать она не могла. Все время пропускала стежки. Напряженно ждала стука в дверь, уверенная, что за ней придут с минуты на минуту. Дурное поведение до брака — это одно; неверность после — совершенно другое. Измена. За то же казнили Анну Болейн. Екатерина всхлипнула. Дамы подняли на нее глаза, но она, приложив огромное усилие, подавила слезы и снова склонилась над шитьем. Любострастие довело ее до этого. Похоть и падкость на нежности молодых мужчин заставили свернуть с пути добродетели, презреть доводы разума и поддаться незаконной страсти. Но она была так юна, к тому же слишком немногие призывали ее хранить целомудрие и беречь репутацию. Она была плохо подготовлена к тому, чтобы сопротивляться собственной тяге к блуду. Думала только о плотских удовольствиях и никогда о последствиях. Какая слепота! Почему, о, почему она не держалась прямого и узкого пути честной супруги? О, Том, мы оба были слишком слабы, чтобы устоять перед вожделением! Снова и снова повторялись в голове у Екатерины одни и те же мысли, не давая ей покоя. Если бы только, если бы… Но теперь уже было поздно жалеть о содеянном. Оставалось только ждать и молиться. Джейн выглядела такой же измученной и напуганной, какой чувствовала себя Екатерина, без слов понимавшая, что ее подруга думала только о Томе. Никакой возможности узнать, на свободе ли он, не представлялось, и обе они страдали от неизвестности и терзались догадками: арестован Калпепер или нет? И это, осознала Екатерина, было единственной причиной, по которой она продолжала вспоминать о нем. Неужели она так мало его любила? Теперь эта любовь казалась сном.Утром в спальню ворвалась заплаканная Маргарет Дуглас. Екатерина испугалась. — Что такое?! — крикнула она и выскочила из постели, опасаясь худшего. Маргарет снова разразилась потоком слез: — Чарльзу запретили появляться при дворе. Наша любовь раскрыта. А я должна оставаться здесь, с вами. Мне нельзя покидать эти комнаты. Остальные дамы столпились за спиной у Маргарет и с участием смотрели на страдалицу. Екатерина обняла ее, они обе залились слезами и всхлипывали одна у другой на плече. Будет ли конец этим злым напастям? — Что с ним будет?! — вопрошала убитая горем Маргарет. — Ничего. Он сильный, он справится, — утешала ее Екатерина. — Может быть, ему скоро разрешат вернуться. — Мне дали понять предельно ясно, что я не должна больше видеться с ним, никогда! — выпалила Маргарет. — Как мне жить без него? О, я так несчастна в любви! Я умру старой девой. Екатерина отпустила ее: — Я помолюсь за вас. Пустые слова! Она не могла молиться даже за себя. Спокойствия хватило ей ненадолго, ее так измучила тревога. Но бедный Чарльз. Он отлично служил при дворе, достиг больших высот. Дядя Норфолк, должно быть, крайне недоволен им — будто мало ему неприятностей из-за позора племянницы! Екатерина не питала иллюзий. Норфолк и пальцем не пошевелит, чтобы помочь им.
Дни тянулись мучительно медленно. Ничего не происходило. И Екатерина горячо благодарила за это Господа. Новостей тоже не было. Отверг ли король ее прошение? Екатерина убеждала себя, что отсутствие новостей — это хорошая новость. Она с трудом находила, чем себя занять. Никогда в жизни не вышивала столько часов подряд. Раньше только и делала, что танцевала, но теперь не могла вынести звуков музыки, нервы ее были на пределе, и Екатерина боялась, что, услышав знакомую мелодию, лишится остатков самообладания. Музыка вызывала радость или грусть, навевала воспоминания или окрыляла душу. Екатерина была не в силах справиться ни с одним из этих эмоциональных переживаний. Она теперь просто существовала, пытаясь не думать слишком много. Когда в дверь постучали музыканты, она велела дамам сказать им, что сейчас не время для танцев. Запертая в своих комнатах, Екатерина думала, что сойдет с ума. Она не имела ни малейшего представления о том, что происходит в мире за пределами ее покоев и продолжается ли расследование. Ее служанки, даже Изабель, не могли или не хотели ничего ей говорить. Но, разумеется, скоро она узнает свою судьбу. Генрих не допустит, чтобы эта ситуация неопределенности затянулась надолго. Екатерина думала, что помутится рассудком от бесконечного ожидания в неизвестности. В покинутом шумным двором Хэмптон-Корте воцарилась зловещая тишина. Выглядывая в окно, Екатерина видела одних только расставленных на посты стражников. Она не знала даже, остались ли здесь архиепископ Кранмер и другие советники короля. Дамы, которые иногда совершали вылазки в опустевший дворец, говорили, что никого не видели, хотя бы мельком. «Почему они тянут?» — спрашивала себя Екатерина. Все еще пытаются собрать улики? Или дали показания другие люди? Если бы, ах, если бы только она могла поговорить с Генрихом. Она не сомневалась, что он простил бы ее. Вероятно, они даже могли бы помириться. Но где он сейчас, Генрих? Даже этого Екатерина не знала. И ей по собственному опыту было известно, что любовь иногда умирает довольно внезапно. В пятницу после обеда, на десятый день с начала заточения, стражники резко открыли двери, и в ее покои вошел сэр Томас Ризли. Екатерина мало знала этого господина, но замечала некую суровость в его манерах. Он не будет так мягок с ней, как Кранмер. — Ваша милость, я здесь для того, чтобы поговорить с вами об открывшемся деле, связанном с Томасом Калпепером, — начал Ризли. Этого она больше всего и боялась. Екатерина задрожала и не осмеливалась взглянуть на Джейн, отошедшую вместе с другими дамами в дальний конец зала. — Что вы имеете в виду, сэр Томас? — Я имею в виду, мадам, что, оказалось, в своем признании вы не упомянули об отношениях между вами и мистером Калпепером. Екатерина попыталась унять заколотившееся сердце и сжала руки, чтобы не дрожали. — Не имею представления, о чем вы говорите. Между мной и мистером Калпепером не было никаких отношений. Ризли посмотрел на нее тяжелым, долгим взглядом: — Правда? — Правда! Я созналась во всех своих прегрешениях. Не знаю, что еще могу к этому добавить. — Ясно, — ответил сэр Томас. — Я передам ваш ответ Совету. И, к удивлению Екатерины, он ушел, отвесив ей едва заметный поклон. Она встала, прошла в спальню и стала ждать. Предчувствия не обманули ее: вскоре к ней явилась Джейн, на лице которой ясно читалась паника. — Я слышала, как он упомянул мистера Калпепера! — жарко прошептала она. — Упомянул. — Екатерина передала ей разговор с Ризли. — Но я все отрицала. Сказала, что не имею понятия, о чем он говорит. Если тебя спросят, ты должна ответить то же самое, ради нас обеих. Джейн заплакала: — О Боже, им все известно! Теперь это только дело времени. Екатерина, ужаснувшись, втянула носом воздух. Жуть, но, похоже, так и было. И снова ей пришлось бороться с истерикой.
Позже тем же вечером прибыл архиепископ Кранмер. Екатерина чувствовала сильную слабость и страшилась, как бы он не начал расспрашивать ее о Томе, но оказалось, что тот явился по совершенно другому делу. — Мадам, королю угодно, чтобы вы переехали в аббатство Сион, где останетесь до дальнейших распоряжений. Вас будут содержать под строгим домашним арестом и позволят вам сохранять статус королевы, но скромно, без балдахина с гербами, как того и заслуживает ваше поведение. Вы отправитесь в понедельник. Екатерина не знала, смеяться ей или плакать. По крайней мере, ее не забрали в Тауэр, и это было огромным облегчением: значит, ее не считают виновной в серьезном преступлении. Она вспомнила, как они с Генрихом проплывали по реке мимо покинутого аббатства Сион, где затихла всякая жизнь, и каким устрашающим оно выглядело. Но это она переживет. Все лучше, чем оказаться в Тауэре. Екатерина знала, что во времена расцвета Сион славился как оплот добродетели, ему покровительствовали королевские особы. Странно, что ее решили запереть именно там. Казалось, Генрих намеренно выбрал для нее место заточения, больше всего похожее на монастырь. — Вам будет позволено взять с собой небольшое число слуг, — говорил тем временем Кранмер. — Ваш камергер, лорд Эдвард Бейнтон, будет управлять вашим двором, и вы можете взять четырех камеристок и двух горничных по своему усмотрению, но одной из них должна быть леди Бейнтон. С вами также поедет ваш податель милостыни. — Я глубоко благодарна его величеству за заботу, — смиренно произнесла Екатерина. — Мне будет приятно иметь при себе свою сестру леди Бейнтон. Могу я также взять с собою леди Рочфорд, миссис Ли и миссис Мьютас? С доброй и практичной Элизабет Ли она поладит, а Джейн Мьютас была тихой и спокойной. Кэтрин не хотела находиться в окружении дам и камеристок, мужья которых держались реформистских взглядов, так как они могли втайне радоваться ее падению. Она уже заметила перемену в их отношении к себе. — Это приемлемо. — Кранмер записал имена в небольшую книжечку. — А горничные? Екатерина сразу отмела Кэт Тилни, Мег Мортон и миссис Лаффкин. — Миссис Рестволд и миссис Фридсвайд, — предложила она. — Миссис Рестволд — нет, — отозвался Кранмер. — Почему? — Я не могу вам объяснить. Значит, это Элис начала болтать! Удивительно. — Хорошо, тогда миссис Лаффкин. — Екатерина не любила ее, но придется смириться. — А что будет с остальными моими слугами? — Их следует распустить, они тоже должны уехать в понедельник. Некоторые будут переведены на службу к милорду принцу и леди Марии. Леди Магарет Дуглас отправится в дом миледи Норфолк в Кеннингхолле вместе с леди Ричмонд. Фрейлины вернутся к своим родным. Сердце Екатерины упало. Ее постепенно лишали внешних атрибутов статуса королевы; бо́льшую часть придворных уволят. За этим последует развод, она не сомневалась, — позорный развод и, возможно, длительное заточение в Сионе. — Могу я взять с собою какие-нибудь личные вещи? — нервно спросила Екатерина. Кранмер справился со своей книжечкой: — Его милость распорядился, чтобы вы взяли строгую одежду, не украшенную драгоценными камнями и жемчугом. — (То есть ничего, что могла бы носить королева.) — Вам позволено иметь шесть французских капоров со златотканой каймой, но на них не должно быть ни самоцветов, ни жемчуга. Также вы можете иметь в своем гардеробе шесть пар рукавов, шесть платьев и шесть киртлов из атласного дамаста и бархата, но без драгоценных камней и жемчуга. Вам разрешается забрать с собой ваши личные вещи, такие как принадлежности для шитья и украшения, которые были у вас до брака, но не подаренные королем книги. Они останутся в королевской библиотеке. Продуктами, вином, элем и прочим необходимым в Сионе вас обеспечат. Надеюсь, все понятно, мадам? — Да, милорд. Я была бы благодарна вам, если бы вы передали эти распоряжения сэру Эдварду Бейнтону. — Разумеется. А теперь я вынужден покинуть вашу милость. Желаю вам доброй ночи. И это, понадеялась Екатерина, конец ее переживаниям. Ей позволяли жить и дышать, а долгое заключение в Сионе она как-нибудь вынесет. Есть места и похуже.
Однако это был еще не конец. На следующий день архиепископ вернулся с лорд-канцлером, дядьями Екатерины Норфолком и Сассексом, а также с епископом Гардинером. — Мы пришли допросить вашу милость касательно Калпепера, — сказал Кранмер, вселяя в Екатерину страх. — Нам известно, что до вашего брака с королем ходили разговоры о том, что вы с ним поженитесь. Вы планировали выйти за него? Признание, что до брака она была увлечена Томом, наверняка не повредит ей. В конце концов, они тогда не совершили ничего постыдного. — Он хотел жениться на мне, и я тоже думала об этом, — сказала Екатерина, полагая, что это самый безопасный ответ. — Как случилось, что вы возобновили любовную связь с ним? — спросил Гардинер. — Возобновила любовную связь? Я не понимаю, — солгала она. — Не играйте с нами в игры! — рявкнул Норфолк. — Мы знаем, что вы тайно встречались с ним во время тура по стране. Нельзя ей упасть в обморок. Все зависело от того, что она сейчас скажет. Екатерина отчаянно пыталась отыскать в голове нужные слова. Вдруг ее осенило: она спасется, если свалит вину на Джейн. — Это была не любовная связь. Скорее, одолжение леди Рочфорд, — выдала вдруг Екатерина, ненавидя себя за это. — Она много раз просила меня встретиться с мистером Калпепером, повторяла, что он чтит и уважает меня и не хочет ничего иного, кроме как поговорить со мной. Но я чувствовала, что она побуждает меня любить его, хотя складывалось впечатление, будто леди Рочфорд сама в него влюблена, и я не вполне понимала, чего от меня добивается эта женщина. Я говорила ей, чтобы она больше не надоедала мне такими глупыми просьбами, но безо всякого результата. Только когда она убедила меня, что мистер Калпепер желает лишь побеседовать со мной, и готова была поклясться на Библии в том, что его намерения честны, я согласилась на разговор с ним. — Содрогаясь от ужаса, Екатерина осознала, что, вероятно, Джейн теперь придется туго, ведь она, по сути, намекала, что та подстрекала ее к совершению измены. Она молилась про себя, лишь бы ее развязавшийся язык не причинил вреда подруге, но тем не менее сразу ощутила легший на плечи груз вины. Ну почему, почему она не удержала рот на замке или не придумала другого объяснения? Екатерина надеялась, что лорды как-нибудь отреагируют, тогда она поняла бы, грозит ли Джейн наказание, однако Норфолк и остальные ничем не выдали своих чувств и мыслей. — И вы говорили с ним? — Мы говорили в маленькой галерее на верхней площадке лестницы в Линкольне, поздно вечером, часов в десять или одиннадцать. — Как долго вы общались? — спросил Кранмер. — Час или больше. В другой раз мы встретились в моей спальне в Понтефракте, леди Рочфорд была рядом, и еще раз — в ее комнате в Йорке. Это все. Лорды с мрачными лицами смотрели на нее и не подавали никаких признаков, верят они ей или нет. — Вы оставались наедине с Калпепером? — спросил Сассекс. — Никогда. Леди Рочфорд всегда была рядом. — Вы дарили Калпеперу бархатную шапку и кольцо? — Да. Леди Рочфорд предложила сделать ему подарок в знак благоволения. — Называли ли вы его когда-нибудь «мой милый дурачок»? — Последние слова Гардинер произнес как ругательства. — Да, один раз, в шутку. — И посылали ему браслеты? — Да, по просьбе леди Рочфорд. Она их выбрала. — Мы должны спросить вас, — сказал Гардинер, — познали ли вы с Калпепером друг друга плотски? На это ответить было легко. — Нет, клянусь! — твердо заявила Кэтрин. — Он когда-нибудь прикасался к вам? — Только к руке. Как легко слетала ложь с ее языка. Но сказать им правду — это верная смерть. По кивку Кранмера советники встали, загремев стульями, и оставили ее одну.
Екатерина, будто призрак, проплыла в свою спальню и легла. Поверили ли ей лорды? Или вернутся и начнут выпытывать у нее подробности, что было да как? История еще не закончилась, отнюдь нет. Екатерина надеялась, что сделанное признание избавит ее от дальнейших расспросов, но теперь кто знает, до чего они докопались? Что-то подсказывало ей: Генрих не потерпит во второй раз измены своей королевы, и его любовь быстро превратится в ненависть, если он узнает, что она предала его. От этой мысли она снова впала в истерику, и дамы напрасно пытались успокоить ее. Она завывала и скулила, рыдала и металась на постели как помешанная. — Я убью себя и избавлю палача от трудов! — крикнула Екатерина, не обращая внимания на вытянувшиеся лица дам. Когда ей принесли ужин, она не стала ни есть, ни пить и, шмыгая носом, проговорила: — Я уморю себя голодом и так избавлюсь от этого позора. Меня все равно убьют, если подозрение в измене будет доказано, так зачем ждать казни и доставлять моим гонителям такое удовольствие? Позже, когда буря эмоций стихла, Екатерина приподнялась, опершись на локоть. Сидевшая рядом на стуле Изабель задремала. Сколько же беспокойства ей пришлось вынести, да и другим дамам тоже! Екатерине стало стыдно за себя. Она теперь была гораздо спокойнее, но страх преследовал ее неотступно, окутал мрачным облаком. Казалось, она видит и делает все в последний раз, потому что у нее нет будущего. Казалось, ничто и никогда больше не доставит ей удовольствия. Но ужаснее всего было представлять, что с ней могут сделать. Выбросить из головы образ залитой кровью плахи не удавалось, так же как избавиться от постоянно всплывавшей перед глазами картины: она стоит на коленях и ждет, когда на нее обрушится последний удар. Будет ли ей больно? Претерпит ли она муки, как леди Солсбери? Или все произойдет в мгновение ока и она ничего не успеет почувствовать? Так или иначе — все равно, только мысли о том, как тебе отрубают голову, сами по себе ужасны. «Хватит!» — резко оборвала их Екатерина, вспоминая, что ей предстоит отправиться в Сион, а не в Тауэр. Если ее ждет только тюремное заключение, она будет счастлива и терпеливо перенесет его. По крайней мере, рядом будет Изабель. Нужно поесть! Екатерина села и свесила ноги с края кровати. Изабель очнулась от дремоты: — Кэтрин, ты не спишь! Тебе лучше? — Да, я хотела попросить, чтобы мне принесли чего-нибудь поесть. Изабель встала, протирая глаза: — Я распоряжусь. Чего тебе хочется? — Холодного мяса с хлебом и немного эля. Еду быстро принесли и поставили перед Екатериной. — Где мой нож? — Я нарежу для тебя мясо, — сказала Изабель. — Твои ножи спрятали под замок. Ты угрожала, что убьешь себя. — Это я не всерьез! — заверила ее Екатерина, но Изабель не уступила. — Я знаю, ты не можешь говорить об этом, — сказала Екатерина за едой, — но известно ли тебе, что происходит? Есть ли что-нибудь такое, о чем мне нужно знать? Я впадаю в отчаяние оттого, что меня держат во мраке. Изабель покачала головой: — Мне ничего не известно. Она лгала. Екатерина это видела. Изабель наверняка скрывала от нее что-то ужасное. Да она, вероятно, знала даже, суждено ей жить или умереть! — Ты уверена? — допытывалась она. — Дорогая, я не в курсе дел Совета, и Эдвард ничего мне не сообщает. Он говорит, так лучше. Но, уверяю, я не слышала и намека на то, что твоя жизнь в опасности. Это, по крайней мере, кое-что. — Ты ведь скажешь мне, правда? Изабель кивнула и взяла ее за руку: — Сомневаюсь, что сумею промолчать.
В воскресенье, когда Екатерина и ее дамы готовились к отъезду из Хэмптон-Корта, объявили о прибытии сэра Томаса Ризли. Он поклонился, затем велел всем дамам и джентльменам проследовать за ним в Главный сторожевой покой. Екатерина смотрела им вслед и думала: увидит ли она их когда-нибудь еще? Они отсутствовали недолго. Вернувшись, многие возобновили сборы. Екатерина переглянулась с Джейн Рочфорд, и та прошла за ней в молельню. — Что он сказал? — Все в порядке, — ответила Джейн. — Он объявил о проступках, которые вы совершили до брака с королем, используя ваше тело неподобающим образом с известными персонами, потом распустил весь ваш двор, за исключением тех, кто поедет с вами в Сион, и приказал уволенным отправляться по домам. Екатерина знала, что это случится, но все равно расстроилась, однако собралась с духом и приняла одного за другим всех, кто был отставлен от службы и явился проститься с ней и поцеловать руку. Некоторые пожелали ей удачи; другие явно испытывали облегчение, что уезжают. Она и сама была рада покинуть эти роскошные покои, которые теперь вызывали у нее одну лишь печаль. Вскоре при ней остались только шесть избранных женщин. Екатерина наблюдала, как они отбирают и складывают в дорожные сундуки одежду, которую ей теперь полагалось носить. Великолепные придворные платья и украшенные драгоценными камнями капоры придется оставить здесь, что вызывало жгучую досаду. Но самым ужасным был момент, когда сэр Томас Сеймур пришел забирать ее драгоценности. Екатерина невольно вспомнила, как Генрих высыпал их ей на колени. Как же она хотела увидеть его еще хотя бы один раз, пусть даже только для того, чтобы сказать, как она виновата, как глубоко сожалеет о нанесенной ему обиде и своем бесчестии! Она бы все отдала за возможность повернуть время вспять. И тогда вела бы себя совершенно иначе!
Глава 32
1541 ГОД Ранним утром в понедельник Екатерина со своей маленькой свитой под стражей покинула Хэмптон-Корт и отправилась в аббатство Сион. Ее отъезд совершился едва ли не тайно: одетую в простое черное платье и накидку Екатерину провели по личной галерее королевы на пристань, где она взошла на закрытую барку. Шторки на окнах в каюте были задвинуты. Поездка длиной восемь миль показалась ей бесконечной, ни у кого не было охоты разговаривать, и Екатерина всю дорогу переживала: каким-то окажется новое жилище? Не заточат ли ее в одну из монашеских келий? Барка причаливала. Екатерина слышала отдаваемые гребцам команды: дверь каюты была открыта. — Пора высаживаться, мадам, — не глядя на нее, буркнул капитан. Первым, что бросилось в глаза Екатерине, когда она ступила на причал, была монастырская церковь — огромная, как кафедральный собор, она величественно возвышалась над окрестным сельским пейзажем. Оглянувшись в ожидании своих дам, Екатерина увидела на другом берегу реки дворец Ричмонд и подумала: не там ли сейчас живет леди Клевская? Как же она завидовала Анне, которой несказанно повезло избавиться от брака с королем не только без ущерба для себя, но получив в придачу щедрое содержание! Они двинулись к церкви и окружавшим ее монастырским зданиям; стражники шли по бокам от Екатерины. — Аббатство принадлежало бригитткам, — сказал сэр Эдвард Бейнтон, чтобы завязать разговор. — Его основал король Генрих Пятый и назвал в честь горы Сион на Святой земле. Бригиттки брали к себе монахинь отовсюду, но орден был строго замкнутый. «Как буду я», — подумала Екатерина, испытывая ужас. Теперь она понимала, почему Генрих послал ее сюда. — Сион был очень богатым монастырем, — продолжил сэр Эдвард, — владел всеми окрестными землями. Сады занимают тут много акров. — Мне позволят гулять там? — спросила она. Камергер нахмурился: — Особых указаний на этот счет не было, но я спрошу. Они прошли через гейтхаус, пересекли пустынный наружный двор, потом сквозь арку вступили во внутренний, обведенный крытой галереей с кельями, где в прежние времена обитали монахини; этот двор примыкал к церковному зданию. — Церковь закрыта, так же как дом собраний, — пояснил сэр Эдвард. — Вон то сооружение — это библиотека, очень знаменитая в свое время. Сейчас она, конечно, пустая. Книги вывезли. Все вокруг несло на себе печать заброшенности. Кладбище, где хоронили монахинь, было усыпано хрусткой опавшей листвой. — Вот ваши апартаменты, — объявил сэр Эдвард, вынул связку ключей и отпер одну из дверей, располагавшихся в стене под крытой галереей внутреннего монастырского двора. На лежавших по бокам от нее вровень с землей каменных плитах Екатерина заметила высеченные кресты и решила, что это, наверное, могильные камни. Ее передернуло. Она предпочла бы не иметь столько скорбного напоминания о том, что люди смертны, прямо под окнами своего жилища. Стражники пропустили всех вперед, потом заперли дверь и заняли посты снаружи. «Апартаменты» состояли всего из четырех комнат, пол был выложен разноцветными плитками: зелеными, черными, коричневыми, желтыми и голубыми. Каменные стены столовой завешены протертыми до дыр гобеленами, из мебели — грубый деревянный стол, лавки и буфет. Следующее помещение явно должно было служить личным покоем и приемным залом Екатерины. С одной стороны этой комнаты стояло обтянутое тканью кресло, но без балдахина, — так распорядился король, — с другой — еще один обеденный стол. Сэр Эдвард пояснил, что она должна принимать пищу отдельно от него и других своих слуг. Дальше располагалась спальня, где имелись старая дубовая кровать и соломенные тюфяки для дам. Вторая дверь из столовой вела в спальню Эдварда и Изабель. — Ваш податель милостыни, епископ Рочестерский, будет приезжать по вашему требованию, — продолжил инструктаж сэр Эдвард. — Я обязан поставить вас в известность, что количество ваших слуг может быть увеличено или сокращено по усмотрению Совета. Мы будем служить вам, пока нам не сообщат, какие распоряжения соблаговолит отдать его величество в дальнейшем. «Значит, длительное заключение — дело решенное», — в отчаянии осознала Екатерина и вернулась в свой личный покой, он же приемный зал, чтобы проследить за разбором вещей. Но, по крайней мере, ей повезло больше, чем Анне Болейн. Она не в Тауэре — пока. Еще оставалась надежда. Неужели такого наказания недостаточно? Отправлена в это ужасное место, будет жить в тесноте, лишена всех знаков королевского достоинства и осуждена на унылое одиночество в заключении, где не предвидится никаких развлечений. Екатерина села на постель и попыталась сдержать слезы. Что она будет здесь делать? Джейн всхлипывала. — Подумать только, до чего я докатилась! — сквозь слезы проговорила она; все посмотрели на нее. — И я ни в чем не виновата! Родилась в хорошей семье, но росла при дворе без надзора и была предоставлена собственным страстям и грязному вожделению! Екатерина подошла и положила руки ей на плечи: — Что ты имеешь в виду? — Я могла бы завлечь любого, — хлюпая носом, продолжила Джейн. — К стыду моему, любовников у меня хватало. Но пришлось выйти за Джорджа Болейна. Сказать, что мы не были счастливы, — значит ничего не сказать. Когда Джордж обесчестил меня, я стала искать утешения с другими. Мне дела не было до добродетели; я Бога не боялась. А когда моя красота начала меркнуть, озлобилась. Это я, я обвинила Джорджа и Анну в инцесте! Я отправила их на эшафот! — Джейн впадала в истерику. Забыв о собственных бедах, Кэтрин в тревоге переглядывалась с Изабель, Элизабет Ли и миссис Мьютас. Потом Джейн расхохоталась. — И я сделала это, чтобы избавиться от него! — сквозь надрывный гогот прокричала она. — У меня не было оснований говорить такое. Екатерина застыла на месте. Неужели Джейн сходит с ума? Если она совсем потеряла голову и во всеуслышание признается в клевете на мужа, в позорном желании из мести отправить его вместе с сестрой на лютую смерть, что еще она может сболтнуть? Вот ужас-то! Мало того, что ей придется жить в этом жутком месте, да к тому же под такой угрозой! — Думаю, мы все немного издергались, моя дорогая, — бодрым голосом проговорила Изабель, обращаясь к Джейн. — Давайте прекратим этот дикий разговор. Вы подите лягте, а мы тут пока разложим все по местам. Джейн послушно ушла, тихонько похныкивая, и уснула, едва успев лечь в постель. — Леди Рочфорд уже много ночей не спит, — поделилась Элизабет. — Я слышала, как она расхаживает по комнате взад-вперед. — Она принимает все слишком близко к сердцу, — сказала Изабель. «Если бы они только знали», — подумала Екатерина.Лежа на бугристом матрасе в незнакомой комнате, она не могла заснуть. Слава Богу, дамы были на ее стороне! А вдруг Джейн ляпнет что-нибудь при Эдварде? Он по долгу службы доложит об этом, и что тогда? О, какая это будет злая ирония, если Джейн в конце концов выдаст их всех, после того как они столько времени успешно избегали разоблачения. Екатерине хотелось знать, что случилось с Томом. Она была рада, что рассказала ему о своих любовных историях с Фрэнсисом и Гарри. Вероятно, теперь о ней идет дурная слава как о порочной женщине, но тогда Том все понял. Он простил ей грехи бездумной юности. А что это было, как не легкомыслие! Она не заслужила такого позора! Лишь бы Том уничтожил ее письма, мысленно молилась Екатерина. Пусть их было всего несколько. Напрасно пыталась она вспомнить, о чем в них писала. Одно заканчивалось словами: «Навеки ваша, Екатерина». Этого она не забыла. Если кто-нибудь обнаружит ее послания, вот будет кошмар! Но Том наверняка проявил благоразумие и избавился от них. Остались ли у нее друзья? Сомнительно. Люди поспешат откреститься от падшей королевы, и прежде других — Фрэнсис и Гарри. Герцогиня и герцог отвернутся от нее. Никто не подаст голоса в ее защиту. Да и кто осмелится? Может, и к лучшему, что она вдали от всего этого, здесь, в Сионе. Уже светало, когда беспокойные мысли перестали ее терзать, и она уснула. А потом пришла Изабель — разбудила ее и помогла одеться. Обшарпанная комната, убогое платье. Беспросветная серость во всем.
Сэр Эдвард вошел в спальню Екатерины, когда та сидела за столом, уставившись в пространство пустым взглядом, и думала, чем себя занять. Он бросил взгляд на дам, которые сидели кружком по другую сторону стола и шили, потом откашлялся и сказал: — Леди Рочфорд, вас вызывают в Уайтхолл. Совет желает провести допрос. Екатерина обмерла. Она не смела взглянуть на Джейн, но услышала ее смех — смех, который быстро перешел в неконтролируемый истерический хохот. С помощью стражников Эдвард вытащил ее из комнаты. Не вставая с мест, остальные женщины глядели в окно и видели, как она билась в цепких мужских руках. А потом смех затих, и Джейн скрылась из виду. Потрясенные дамы застыли в молчании. Если бы Екатерина в тот момент не сидела в кресле, то наверняка рухнула бы на пол. Эмоциональный взрыв Джейн был равносилен признанию вины. Это конец. Надежды больше нет.
Джейн не возвращалась. Никто не знал, что с ней, по крайней мере, так говорили Екатерине. Она всячески старалась выпытать новости у Изабель, но та упрямо твердила, что ничего не знает. Екатерина подозревала худшее: что Джейн все рассказала и теперь сидит в Тауэре. Скоро придут и за ней, можно ли в этом сомневаться? Дни проходили в мучительном напряжении. Что с Томом? Его тоже взяли? Екатерина думала, что лишится рассудка от неизвестности. При каждом стуке в дверь, каждом звуке шагов она впадала в панику. Но обычно это был всего лишь местный пекарь, принесший свежий хлеб. На третьей неделе ноября к ней пришел сэр Эдвард; лицо его было мрачно. — Мадам, мне велено сообщить вам, что было сделано официальное объявление: так как вы не соблюли свою честь, против вас заведено судебное дело, и отныне вас запрещено называть королевой. — Судебное дело?! — в ужасе вскричала она. — Меня вызовут в суд? — Я не знаю, — сказал сэр Эдвард. — Больше я никаких распоряжений не получал. Екатерина жалобно заплакала. Настанет ли конец этой томительной неопределенности? Если бы она знала, что ее ждет, то могла бы подготовиться. Но будущее представлялось ей пугающей пустотой. Надежда умирала, Кэтрин поглощал страх. Смилостивится ли над ней Генрих? Только за эту мысль она еще цеплялась.
Наступил декабрь, хмурый и промозглый, а Екатерина все продолжала томиться во мраке неведения, кутаясь в шаль и зябко ежась у едва теплившегося огня. В таком виде и застал ее архиепископ Кранмер. Сэр Эдвард резко распахнул перед ним дверь, и Екатерина вскочила на ноги. Наверняка он привез какие-то новости — наконец-то, но что за новости? Она задрожала всем телом. — Ни к чему так пугаться, мадам, — успокоил ее Кранмер. — Я здесь всего лишь для того, чтобы задать вам несколько вопросов. — Конечно, милорд, — не сказала, скорее, прокаркала Екатерина. — Прошу вас, садитесь. — Начнем? — (Она кивнула.) — Вы когда-нибудь посылали за миледи Норфолк, чтобы она явилась ко двору и привезла с собой Дерема? Екатерина удивилась, что ее спрашивают о Фрэнсисе. Она ожидала вопросов о Томе и ответила: — Нет. — Вдовствующая герцогиня нашла несколько писем в сундуке Дерема в Ламбете. Вы знаете, что в них? Опять Фрэнсис. — Нет. Мы не обменивались письмами. — Вы в то время знали, что миледи подозревает о вашем недостойном поведении с Деремом? К чему он клонит? — Думаю, да, она о нас знала. — Она хоть раз заставала вас с Деремом в объятиях друг друга? В момент поцелуя? — Да, и поколотила нас за это. — Екатерине начинало приходить на ум, что герцогиня попала под суд за то, что утаила от короля правду о своей внучке. — Знала ли герцогиня, что вы устраивали пирушки с юными джентльменами в девичьей спальне? — Я так не думаю. — Она никогда не отчитывала вас за это? — Нет. Повторяю, я сомневаюсь, что она знала об этом. — Она еще хотя бы раз становилась свидетельницей ваших с Деремом фамильярностей? — Она знала о нашей близости. И бывало, отпускала шутки по этому поводу. — Значит, нельзя сказать, чтобы она не одобряла ваши отношения? — Нет. — Она когда-нибудь ругала вас или наказывала за легкомысленное поведение с Мэноксом? — Да. Она один раз застала нас вместе. Кранмер вздохнул: — Она знала о том, как далеко зашли ваши распутные отношения с Деремом? — Нет, полагаю, что нет. — Когда король впервые обратил на вас внимание, она снабдила вас новой одеждой? — Она дала ее мне, когда я отправилась ко двору. Кранмер прищурился: — Но дополнила ли она ваш гардероб, когда король проявил к вам интерес? — Да. — И это было сделано, чтобы соблазнить короля и вызвать в нем любовь к вам? — Да. — Екатерине было противно признаваться, ведь ее слова наверняка передадут Генриху, а он решит, что ею двигали исключительно корыстные мотивы, и это причинит ему новую боль. — Когда герцогиня узнала об интересе к вам короля, какие советы она дала вам? — Сказала, чтобы я была любезной, сговорчивой и добродетельной. — Кто-нибудь еще при дворе герцогини был свидетелем вашей близости с Деремом? Екатерина зарделась, вспоминая, что вытворяла с Фрэнсисом на глазах у посторонних. — Некоторые женщины из спальни камеристок знали. К счастью, архиепископ больше не расспрашивал ее об этом. Справившись с одной из своих бумаг, он поднял взгляд: — Вам известно, что Дерем обращался к герцогине с просьбой пристроить его на службу к вам? — Думаю, так и было. — Она просила вас принять его? — Да, просила. — Герцогиня знала о помолвке между вами? — Никакой помолвки не было! — вспыхнула Екатерина. Кранмер ничего не сказал. Он убрал свои бумаги в сумку, встал и слегка поклонился со словами: — Благодарю вас, мадам. Желаю вам доброго дня. Екатерина была изумлена. Столько вопросов, и ни единого упоминания о Томе! Надежда воспарила в ней. Она не может умереть из-за того, что случилось до брака, верно? Когда архиепископ проходил мимо, Екатерина схватила его за руку: — Что со мной будет? Молю вас, скажите! Он взглянул на нее с каким-то загадочным выражением на лице: — Увы, мадам, я не могу. Это должен решить король. Она отпустила его руку, чувствуя пустоту в душе. Значит, бесконечное ожидание продолжится… По крайней мере, теперь у нее была надежда, за которую можно цепляться. Но если речь шла только о случившемся до брака, почему Джейн забрали на допрос и она не вернулась? Может, ей задавали вопросы только о том, какие отношения были у ее госпожи с Томом Калпепером до замужества с королем?
Рождество прошло уныло. Они украсили свое жилище несколькими еловыми ветвями, добытыми в одичавших садах Сиона. Сэр Эдвард позволил Екатерине сходить за ними вместе с дамами, хотя приказал стражникам зорко следить за ней. Приятно было оказаться на свежем морозном воздухе, и Екатерина растянула поиски веток до наступления ранних зимних сумерек. К ужину на стол подали гуся, после они сидели у очага и пытались веселиться, но Екатерина не могла развеяться и понимала, что остальные тоже не забывают о печальных обстоятельствах их заключения в Сионе. В какой-то момент ей пришло в голову, что в следующее Рождество ее, вероятно, здесь уже не будет, и отделаться от этой ужасной мысли никак не получалось. Не покидали Екатерину и воспоминания о невинной радости, которую приносило с собой Рождество в детстве, и о роскошном праздновании Йолетид при дворе, где она была в центре всех торжеств. Год назад она еще не завела любовной интриги с Томом, не предала доверие короля. Как же ей хотелось повернуть время вспять! Когда миновала Двенадцатая ночь и жизнь вернулась к печальной рутине будних дней, Екатерина лишь обрадовалась.
Глава 33
1542 ГОД Однажды январским утром, выйдя из спальни, Екатерина услышала доносившиеся из-за приоткрытой двери голоса. — Что он сказал? — Это говорила Изабель. — Сказал, что его милость намерен осудить королеву и леди Рочфорд на пожизненное заключение, — ответил Эдвард. Потом дверь затворили. Сердце Екатерины на мгновение замерло. Весть была дурная, и упоминание о Джейн прозвучало зловеще, но она готовилась услышать кое-что похуже. Заключение она вынесет, лишь бы ей сохранили жизнь, а потом Генрих может смягчиться. Екатерина не винила его за то, что он сурово обходится с ней. Она это заслужила, Господь знает. Но, ох, как же ей хотелось жить, даже если это означало, что она будет заточена в Сионе и никогда больше не обретет свободы, не познает любви и радости материнства! Слова Эдварда, казалось, получили подтверждение. В середине января Екатерина отправилась на свою ежедневную прогулку по монастырю — ей теперь это позволяли — и обнаружила, что ее стерегут пуще прежнего. Было ли это добрым знаком начала долгого заточения?В конце января Кранмер явился снова, на этот раз в сопровождении герцога Саффолка, графа Саутгемптона и епископа Вестминстерского. По их лицам Екатерина сразу поняла, что они пришли сообщить ей неприятные известия, и ноги у нее подкосились. Упав в кресло, она со стучащим сердцем ждала объявления своей судьбы и трепетала от страха, как пойманное в ловушку животное. Кранмер откашлялся: — Мадам, его величество поручил парламенту разобраться в ваших проступках. В результате против вас и еще некоторых персон был составлен билль о лишении гражданских прав и состояния. Екатерина вновь ощутила пугающую близость к обмороку. Дело шло своим чередом, как положено по закону, и закончится для нее заключением в тюрьму до конца дней? Заговорил Саффолк: — Парламент будет обсуждать и оценивать ваши проступки, что избавит вас и его величество от постыдного разбирательства дела в открытом суде. Билль пройдет три слушания и по окончании третьего станет законом как акт парламента. Вы понимаете? — Да, — кивнула Екатерина. — Мы здесь, — продолжил Кранмер, — потому что в наших общих интересах не спешить с принятием билля о лишении прав, он пока прошел только одно чтение. Вы не частное лицо низкого ранга, но личность известная, и ваше дело следует разбирать таким образом, чтобы не осталось места для подозрений в наличии некой тайной распри между вами и королем. Его величество не хочет, чтобы люди говорили, будто у вас не было возможности оправдаться. Вот мы и пришли отчасти для того, чтобы успокоить ваши женские страхи, но главное — дать совет: если вам есть что сказать в свою защиту, сделайте это. Ваш любящий супруг примет ваши объяснения, если они будут убедительными. При этих словах Екатерина просияла. Казалось, Генрих бросает ей спасательный трос. Может быть, он пожалел о своей суровости и надеялся, что она даст ему основания простить ее. — Мадам, мы призываем вас заявить нам сейчас обо всем, что, по вашему мнению, может послужить на пользу вашему делу, — сказал епископ Винчестерский. — Прежде всего, — вмешался Кранмер, не дав ей времени собраться с мыслями, — мы должны зачитать вам билль о лишении гражданских прав, чтобы вы знали, в каких преступлениях вас обвиняют. Вы готовы выслушать его? В тоне его голоса Екатерина уловила предупреждение: ей не понравится то, что она услышит. Но что делать. Она кивнула, выпрямила спину и ухватилась руками за подлокотники кресла. Кранмер развернул свиток: — Билль утверждает, что вы, Екатерина Говард, до брака с королем не вели чистую и беспорочную жизнь, а факт приема вами к себе на службу Фрэнсиса Дерема, человека, с которым вы предавались распутству в то время, и горничной Кэтрин Тилни, женщины, которая была свидетельницей вашего бесстыдного поведения, доказывает ваше желание вернуться к старой порочной жизни. — Но я не… Кранмер поднял руку: — Позвольте мне закончить, мадам. Вы также вместе с леди Рочфорд замыслили достичь своих злостных и омерзительных целей с покойным Томасом Калпепером, джентльменом из личных покоев короля… Покойным? Что с ним случилось? Ее охватила паника. Неужели Джейн созналась? Или Том выдал их всех? — …и вы встретились с Калпепером в укромном месте в одиннадцать часов вечера и оставались там до трех часов утра в присутствии одной только сводни леди Рочфорд. За эти измены Калпепер и Дерем были осуждены и казнены. — Нет! — вскрикнула Екатерина. — Нет! Ей и в страшном сне не снились такие ужасы. — Их казнили в декабре, мадам, — сказал Саутгемптон, пристально вглядываясь в нее. — Вы любили их, это ясно. Екатерина онемела. Она раскачивалась из стороны в сторону, потрясенная жуткой новостью и напуганная до ужаса. Том мертв. И Фрэнсис. Она поймала на себе сочувственный взгляд Изабель. Она не была шокирована. Она все знала. — Как они умерли? — прошептала Екатерина, боясь услышать ответ. — Как изменники, мадам, — холодно ответил ей Саутгемптон, — хотя король проявил снисхождение и заменил Калпеперу казнь на усекновение головы. Это было ужасно, но представить, через какие страдания прошел Фрэнсис, Екатерина просто не могла. — Дерем ни в чем не виноват, — сквозь слезы проговорила она. — Он был моим любовником только до брака… — И намеревался стать им после, — перебил ее Саффолк. — Он сам так говорил. По закону умысел на измену равносилен ее совершению. С этим не поспоришь. Фрэнсис четко заявил ей о своих намерениях. И посмотрите, куда это его привело. — Вы, мадам, и леди Рочфорд теперь находитесь под судом, — продолжил Кранмер, не обращая внимания на всхлипы Екатерины, — а вдовствующая герцогиня Норфолк и графиня Бриджуотер за сокрытие ваших измен обвиняются в недонесении о совершении предательства. Таким же образом лорду и леди Уильям Говард, Эдварду Уолдгрейву, Кэтрин Тилни, Элис Рестволд, Джоан Балмер, Роберту Дэмпорту, Малин Тилни, Маргарет Беннет и Уильяму Эшби предъявлены обвинения в недонесении о преступлении. Все они будут лишены имущества в пользу короля и остаток дней проведут в тюрьме. Екатерина сидела, разинув рот, пока до нее постепенно доходила неизмеримая глубина собственной глупости. Она понятия не имела о том, что творилось вокруг. Ей было никак не осознать случившегося. Все эти недели ее заключения в Сионе Совет занимался сбором свидетельств и выдвигал обвинения против тех, кто был связан с ней и знал о ее дурном поведении. Эти вопросы о вдовствующей герцогине должны были подсказать ей, что происходит. — Господа лорды, что значит недонесение об измене? — Это означает сокрытие акта измены, — пояснил Кранмер. — Теперь, мадам, билль о лишении гражданских прав и состояния должен пройти второе и третье чтение. Вам сообщат результат. Мы оставим вас подумать, хотите ли вы сделать заявление. Желаем вам доброго дня.
Как только дверь за советниками закрылась, Изабель подошла к Екатерине и обняла ее: — О, сестра моя, моя бедная сестра! Как ужасно услышать такое. Если бы я знала, как они обрушат на тебя эти новости, то ослушалась бы приказа короля ничего не говорить тебе о судебных делах, которые вели против тебя и остальных. Ты когда-нибудь сможешь простить мое молчание? Екатерина крепко прижалась к ней: — Конечно. Ты ни в чем не виновата. Это все моя вина. Ты проявила такую доброту ко мне, и я очень тебе благодарна. Но, Господи, я не могу поверить, что Том мертв! И Фрэнсис. Ты знаешь, как они приняли смерть? — Эдвард был там, — открылась ей Изабель. — Помнишь тот день, когда он сказал, что должен ехать ко двору? — Но это было много недель назад! Столько времени прошло, а она ничего не знала. — Он считал, что должен там побывать, — вспоминала Изабель. — Дерема и Калпепера привезли на телеге из Тауэра на Тайберн. Калпепер попросил людей молиться за него, потом встал на колени, и ему отрубили голову, очень чисто. А потом… Дерем принял более жестокую смерть. Ты знаешь, что делают с предателями. Екатерина знала. Она представила, как Фрэнсиса придушивают, потом приводят в чувство только для того, чтобы выпотрошить. Он наверняка перенес невообразимые муки, прежде чем блаженное забытье накрыло его. Ей стало тошно от этих мыслей. — Есть ли еще что-нибудь, чего я не знаю? — спросила Екатерина, искательно вглядываясь в лицо Изабель. — Нет, клянусь честью! — заявила та. — Мы все ждем решения парламента. — Большинство осудили на заключение в тюрьму, — сказала Кэтрин. — Значит, и у меня пока еще есть надежда. Она вздрогнула, поняв, что, вероятно, обманывает себя: в глазах Совета, короля и парламента она была так же, если не больше, виновна, как и казненные из-за нее мужчины. Осознав это, Екатерина замолчала и пошатнулась. — Кэтрин? — окликнула ее Изабель, беря за руку. — Что с тобой? — Они поступят со мной так же, как с Томом и Фрэнсисом, ведь мое преступление страшнее, — прошептала она. — Меня осудят на смерть, и я это заслужила. Я не буду делать никаких заявлений и о милости просить не стану, только о том, чтобы казнь прошла втайне, а не на глазах у толпы. Изабель ужаснулась: — Ты слишком забегаешь вперед. Парламент еще не объявил своего решения. При дворе Эдварду сказали, что король намерен заточить тебя в тюрьму пожизненно. Ты должна надеяться. Обещай мне! Не мучай себя ужасными мыслями. — В моем положении я мало о чем другом могу думать.
Она не опустится и не потеряет контроля над собой. Больше никаких истерик. Если ей суждено прожить еще несколько дней или недель, нужно этому радоваться. Нельзя забывать, что она дочь Говардов и должна вести себя соответственно. Ее кузина Анна встретила смерть храбро, и ей нужно поступить так же. Кроме того, ей, может, и не грозит смерть. Прошу тебя, Господи, пусть Генрих смилостивится! Екатерина приняла веселый вид, стала надевать лучшие платья и капоры, следила за своей внешностью. Взгляд в зеркало показал ей, что она мила, как всегда, хотя и набрала вес за недели вынужденного бездействия. Екатерина пыталась вернуть себе величавость манер и вела себя так, будто царит во дворце, а не в этих жалких комнатах в разоренном аббатстве. Дамы потакали ей. Они как будто догадывались, что таким образом Екатерина борется со страхом.
Миновала первая неделя февраля, а новостей все не было. Екатерина думала, что сойдет с ума от тревоги. Трудно было сохранять самообладание, когда сама жизнь ее зависла над краем бездны. Заслышав шаги на крытой галерее двора, она подавила крик и задержала дыхание, ожидая, о ком ей доложат. Это был сэр Джон Гейдж, ревизор королевского двора, мужчина лет за пятьдесят, проявлявший изысканную вежливость в общении с ней, когда она была королевой. При виде этого человека сердце Екатерины затрепетало от страха, поскольку, помимо прочего, он являлся констеблем Тауэра. Гейдж поклонился: — Мадам, я здесь для того, чтобы распустить ваш двор. Ваши слуги будут уволены, но вы можете оставить при себе леди Бейнтон. — Я должна отправиться в Тауэр?! — воскликнула Екатерина, сжимаясь от ужаса. — Нет, мадам. Мне дали понять, что окончательное решение относительно вашего будущего еще не принято, но дело прояснится через два или три дня, тогда станет известна ваша дальнейшая участь. Все это не предвещало ничего хорошего. Размышляя о том, что увольнение ее немногочисленных слуг — недобрый знак, Екатерина наблюдала, как те собирают свои вещи, а Изабель любовно прощается с Эдвардом. Екатерина была вынуждена отвернуться, так ее сильно расстраивало лицезрение их взаимной любви и сознание того, что у них есть будущее. Но все же если бы Генрих собирался казнить ее, то отправил бы в Тауэр уже сегодня. Честно говоря, она не знала, что и думать, и понимала, что панцирь храбрости, который она на себя нацепила, с каждым часом истончается. Она больше не могла терпеть неизвестность.
В четверг, девятого февраля, стоял жгучий мороз. Закутавшись в накидки, Екатерина и Изабель сидели у очага и играли в карты. Екатерина все время проигрывала, потому что не могла сконцентрироваться. В комнате висело ощутимое напряжение. Снова шаги! Потом стук в дверь. Они услышали, как стражники открыли ее, затем — мужские голоса. Один принадлежал Кранмеру. Он вошел в сопровождении нескольких тайных советников и других мужчин, которых представил как членов парламента. Екатерина едва могла вдохнуть. Через несколько мгновений она узнает свою судьбу. — Мадам, билль о лишении гражданских прав получил одобрение короля и стал законом. Вы и леди Рочфорд за государственную измену лишены гражданских и имущественных прав обеими палатами парламента и осуждены на смерть и конфискацию имущества. Смерть! Худшее, что могло выпасть на ее долю. Неужели это случилось? Невероятно! Если бы Екатерина не сидела, то рухнула бы на пол. Это была расплата, Божья кара за ее прегрешения. Изабель, безудержно рыдая, вслепую протянула руку к сестре, но у Екатерины не хватило сил взять ее. Она принудила себя слушать архиепископа, хотя какое значение имели теперь остальные его слова? — Его величество, — говорил Кранмер, — желает действовать в вашем случае со всей умеренностью и по справедливости, а потому прислал нас к вам с предложением, если вы хотите, выступить в свою защиту в парламенте. Что это даст? Парламент уже осудил ее, и ей нечего было сказать в свое оправдание. Однако Екатерина не единожды обдумывала, что скажет, если этот страшный день все-таки наступит. Она была готова, а потому начала: — Господа лорды… — и осеклась. — Я благодарю его величество, но не воспользуюсь милостивым предложением защищать себя в парламенте. Я полностью отдаюсь на его волю, потому как согласна, что заслужила смерть. Я признаю величайшее преступление, в котором виновна перед всемогущим Господом, моим добрым повелителем и всем народом Англии. Молю вас, милорды, упросите его величество не вменять в вину мои преступления моим родным, пусть он проявит свою беспредельную милость и благоволение к моим братьям, чтобы они не пострадали из-за прегрешений своей сестры. — Мы передадим вашу просьбу его величеству, — заверил ее Кранмер. — Что-нибудь еще? Екатерине потребовалось мгновение, чтобы собраться с мыслями. — Я хочу лишь достойно принять смерть и оставить хорошее мнение о себе в сердцах людей. Прошу только об одном: пусть моя казнь пройдет в частном порядке, не на глазах у толпы. Кранмер кивнул: — Думаю, мадам, мы можем с уверенностью обещать вам это. — И могу ли я просить у его величества дозволения оставить кое-что из своей одежды тем девушкам, которые служили мне с момента моего замужества, так как у меня теперь нет более ничего, чем я могла бы воздать им по заслугам. — Мы передадим вашу просьбу. Екатерина замялась. — Вам известно, на какой день назначена казнь? — Нет, мадам. Мы сообщим о ваших желаниях королю, и он решит, что с вами будет. — Меня не отправят в Тауэр? — запинаясь, спросила она. — Нам таких распоряжений не давали, — заверил ее Кранмер. — Теперь мы должны покинуть вас, чтобы воспользоваться приливом. Да благословит вас Господь, дитя мое! — И он осенил ее крестом. Екатерина едва не разрыдалась, ведь до сих пор архиепископ ни разу так не делал.
После ухода лордов Екатерина встала на колени у постели и попыталась молиться. Она сознавала, что должна проститься с миром и со всем, что составляло ее жизнь. Надежды почти не осталось, нужно было вверить себя в руки Господа и готовиться к смерти, хотя, как приняться за это, она не представляла. Изабель преклонила колени рядом с ней, обхватила руками голову и посылала судорожные мольбы к Всевышнему о спасении своей сестры. — Она так молода! Так молода… — сквозь слезы твердила Изабель. Последние недели прошли в такой тревоге, что о дне рождения Екатерины никто не вспомнил, даже она сама. Ей исполнился двадцать один год. Слишком рано умирать.
Днем в пятницу Изабель вышла на улицу, чтобы собрать хвороста для очага. Оставленный им запас дров оказался совершенно недостаточным. Вернулась она очень быстро — торопливо прошла по крытой галерее, кутаясь в накидку, и через несколько мгновений влетела в комнату: — Мадам, к причалу только что подошла барка с герцогом Саффолком и графами Саутгемптоном и Сассексом. Они сейчас будут здесь. — Женщины переглянулись; обе понимали, что это означает, а потом Изабель обняла Екатерину и крепко прижала к себе. — Моя дорогая девочка, крепись! Екатерине ничего не хотелось больше, чем навсегда остаться в утешительных объятиях сестры, но она выпуталась из них, как только посетители вошли в комнату. — Мадам, — отрывисто проговорил Саффолк, который явно предпочел бы находиться сейчас где-нибудь не здесь, — мы прибыли с приказанием перевезти вас в лондонский Тауэр. У Екатерины едва не подломились колени, но ей удалось устоять и сохранить достоинство. Однако говорить она не могла. — Соберите вещи, — велел он Изабель. Они стояли молча и ждали. Екатерине хотелось кричать, но она напомнила себе: даже когда все надежды утрачены, дочь Говардов не должна терять контроль над собой. Изабель вернулась, трясущимися руками надела на сестру накидку и подала ей перчатки. В сопровождении шедших по бокам стражников лорды провели Екатерину по крытой галерее, пересекли внутренний двор и вышли за ворота Сиона. Моросил дождь. Они направились к причалу, где ждали барки. На первой было четверо моряков, а на двух других, пришвартованных за ней, находились ливрейные слуги и вооруженная стража. Увидев все это, Екатерина остановилась, понимая, куда будет отправлена и что ждет ее там. Это реальность. Все происходит на самом деле. Она умрет. Генрих и правда решил казнить ее! До сих пор она только наполовину верила в это, опрометчиво рассчитывала, что он проявит милосердие. Спокойствие покинуло ее. Говард она или нет, а Екатерина замотала головой: — Нет. Нет, я не пойду! — Мадам, это приказ короля, — попытался образумить ее Саффолк. — Мы все должны слушаться его. — Нет! Меня там убьют! Я не пойду! — И, развернувшись, она кинулась бежать обратно к аббатству. Разумеется, стражники догнали ее и схватили, а она силилась вырваться и визжала: — Отпустите меня! Отпустите! Сассекс в отчаянии покачал головой: — Мадам, это вам не поможет. Вы должны ехать с нами. — Нет! — взвыла она, обезумев от страха, и рухнула на колени в траву, но стражники подняли ее. — Давайте, госпожа, без глупостей! — грубо сказал один. — Позвольте мне поговорить с ней, — попросила Изабель. — Идите на барку! — рявкнул Саффолк. — Нет! — снова взвизгнула Екатерина, тогда лорды сами грубо схватили ее и заволокли, ревущую и упирающуюся, на первую лодку. Екатерина попыталась соскочить на берег, суденышко опасно закачалось на воде, а беглянке преградили путь, затащили в каюту и толкнули на скамью с мягким сиденьем. Там уже сидели три дамы — леди Дадли, леди Денни и леди Ризли — женщины, которых Екатерина не взяла служить ей в Сионе и предпочла бы не видеть рядом с собой в этот момент. Все трое глядели на нее с ужасом и некой долей сочувствия, но она была слишком расстроена и не заговорила с ними. — Оставайтесь здесь! — скомандовал Саутгемптон, наклонился и задвинул шторки на окне. — Леди Бейнтон, проследите, чтобы она никуда не делась, пока мы не доберемся до Тауэра. И не открывайте занавески. Мы будем на барках сзади. Выставив стражу у дверей каюты, советники удалились. Екатерина стенала от горя и страха, черное бархатное платье промокло. Изабель обняла ее одной рукой и крепко держала. Матросы вывели барку на середину реки и направили к Лондону. Екатерина безжизненно откинулась на спинку скамьи и сквозь щель в занавесках жадно глядела на проплывавшие мимо хорошо знакомые пейзажи и здания, понимая, что видит их в последний раз. Ей никак не удавалось осознать весь ужас своего положения. Не так давно она наслаждалась поездкой с Генрихом по тому же самому отрезку Темзы. Вспоминать об этом было просто невыносимо. Когда они плавно двигались мимо Ламбета и дома герцогини, где прошла ее беспечная юность и были совершены величайшие глупости, Екатерине пришлось отвести взгляд от окна. Когда они достигли Лондона, от качки и бушевавшей в душе тревоги Екатерину затошнило. Она боялась, что ее вырвет. — Мне нужно подышать воздухом, — схватившись за занавеску, выдохнула она. — Нет, мадам! — крикнула леди Дадли. — Мне нужен воздух или меня вырвет! — не отступалась Екатерина и, отодвинув шторку, высунулась из окна наружу. Они проходили под Лондонским мостом, на южном берегу виднелась его башня. Екатерина пригляделась и от ужаса уже не могла оторвать взгляда от того места, потому что там были выставлены на длинных шестах две головы. Они почернели и подгнили, но она их сразу узнала: Том и Фрэнсис. Екатерина отчаянно зарыдала, и ничто не могло ее успокоить. От представшего глазам зрелища мороз пробрал ее до самых костей, и она с новой силой осознала, как ужасна участь тех, кто наносит обиды королю. — Моя голова тоже будет там! — заголосила она. — Нет, никогда, — утешала ее Изабель. — Голову королевы Анны не выставляли напоказ. Но это было слабым утешением.
Глава 34
1542 ГОД Уже почти стемнело, когда они прибыли в Тауэр. Взобрались вверх по ступеням, которые вели к воротам в башне Байворд. Саутгемптон и Саффолк шли впереди, за ними тащилась Екатерина, едва способная подниматься наверх. Там ее ждал сэр Джон Гейдж. Он низко поклонился и приветствовал с такими церемониями, словно она все еще была королевой. — Я провожу вас в ваши комнаты, мадам, — сказал он и повел ее вместе с лордами и леди через наружный оборонительный пояс Тауэра к арочному проходу внизу башни, которая, по словам сэра Джона, называлась Садовой, так как стояла рядом с садом. В конце прохода они свернули налево, и Кэтрин увидела перед собой совсем новый фахверковый дом. — Здесь живу я сам, мадам, — сообщил ей сэр Джон. — Вы разместитесь тут же. Сожалею, что не могу поселить вас в апартаментах королевы вон в том дворце, потому что они заняты узниками, осужденными на пожизненное заключение. «И все из-за меня», — мрачно подумала Екатерина. Потом ее поразила новая, холодящая кровь мысль: она не задержится в Тауэре надолго, раз ее появление здесь не послужило предлогом для того, чтобы выселить других узников. И она снова задрожала, нервно оглядывая лужайку справа от себя — нет ли эшафота? — но там было пусто. «Когда же это случится? — подумала Екатерина. — Когда?» Двое стражников, стоявшие у входа, открыли дверь в дом констебля, и сэр Джон лично провел Екатерину вверх по лестнице в небольшую комнату, обставленную скупо: кровать, сундук и стул, — но приукрашенную занавесками и ковриками. Вдоль коридора располагались комнаты для дам, а в ее покое имелся, помимо мебели, соломенный тюфяк. Одна из женщин должна все время находиться при ней, пояснил сэр Джон. Неотлучные стражники уже заняли свои места за дверями. — Я распоряжусь, чтобы вам принесли ужин, — сказал ей сэр Джон. — Я не могу есть, — отозвалась Екатерина; ее все еще тошнило. — Попробуйте, мадам, — посоветовал он. — Я в любом случае пришлю его. Изабель принялась раскладывать немногочисленные вещи своей сестры, а Екатерина села на кровать, будто остекленевшая, и чувствовала себя так, словно в любой момент может рассыпаться на куски. Пришел слуга с подносом — принес жареное мясо, тарелку с горохом, кусок пирога с голубятиной и кружку эля, но она едва притронулась к еде. Какая ей теперь от нее польза? Вскоре после ужина явился исповедник короля, доктор Лонгленд, епископ Линкольнский. — Дитя мое, — мягко начал он с той спокойной уверенностью, которой снискал себе такое благоволение Генриха, — я пришел выслушать вашу исповедь и предложить вам духовное утешение. В душе Екатерины затеплилась надежда: может быть, если она сейчас расскажет всю правду и смиренно признается в своих прегрешениях, Генрих смягчится и отсрочит исполнение смертного приговора. — Для меня будет утешением снять груз с совести, — сказала она. — Мне трудно было молиться в последние два дня. Страх мешал… Я перестала видеть нашего Господа. — Это вполне понятно, — сказал доктор Лонгленд, надевая епитрахиль. — Но Господь с нами всегда. Он не забыл о вас. Он и теперь с вами. Он вас не оставит, но возвысит ваш дух, когда вы пребываете в унынии. При этих словах священника Екатерина заплакала, но его тихая убежденность задела в ней какие-то чуткие струны души. Привитая с детства вера была сильна в ней, и Екатерина почувствовала, что теперь, в момент крайней нужды, она может оказаться для нее прочной опорой. Осушив слезы, Екатерина встала на колени: — Я признаюсь, что плохо поступала в прежней жизни, до того, как король женился на мне, но я продолжаю твердо отрицать, что совершила супружескую измену. Преподобный отец, именем Господа, Его святых ангелов и спасением души клянусь, что я не виновна в тех деяниях, за которые мне вынесли приговор! Я не оскверняла ложа своего супруга! — Это была правда: она ни разу не позволила Тому овладеть собой так, как муж владеет женой. — А что касается ошибок и глупостей, совершенных в юности, я не ищу прощения за них. Господь будет мне судьей, в своем милосердии Он простит меня, о чем я прошу вас молить вместе со мной Его Сына, моего Спасителя Христа. Епископ возложил руку ей на голову и даровал отпущение грехов. Потом они вместе стояли на коленях в молитве, и Екатерина вновь залилась слезами, вспомнив, что ждало ее впереди. — Держитесь крепко своей решимости, дитя мое, — сказал епископ. — На вас теперь лежит благословение, вы во всеоружии и можете противостоять любым духовным опасностям. Помните, вы не одна. — Он говорил так убежденно и твердо, что Екатерина слегка утешилась. Когда епископ собрался уходить, она потянула его за рукав и сказала: — Я разрешаю вам передать сказанное мной на исповеди его величеству. Пусть он знает, что я не предавала его, как он думает. Епископ кивнул, осенил ее крестом и ушел. «Я не одна. Я не одна», — твердила себе Екатерина, чтобы обрести спокойствие.Уснуть было трудно: мешали неотступный страх, странная обстановка и неспособность забыть, что она в Тауэре и осуждена на смерть. Завтра в любой момент за ней могут прийти… Утром, когда явился сэр Джон Гейдж пожелать ей доброго дня и спросить, как она спала, Екатерина подскочила от страха. Это ожидание, эта неизвестность были ужасны. Екатерина больше не могла сдерживаться. — Сэр Джон, когда это случится? — выпалила она. — Мадам, я пока не получил никаких инструкций. Будьте уверены, вам отпустят время, чтобы подготовиться. Время — это теперь самое ценное, и оно истекало. Будет ли она когда-нибудь готова? Нет! Екатерина хотела жить. Хотела ощутить на щеках солнечный свет еще одного лета, дуновение апрельского ветерка и даже хлесткие удары мартовских ветров. Еще месяц, еще неделя, еще хотя бы один день был бы для нее чудесным даром. Но, может быть, ей остались считаные часы. Она легла и зарыдала, давая волю страху и тоске. Изабель и другие дамы поспешили к ее постели. — Я не хочу умирать! — крикнула она. — Я не делала того, в чем меня обвинили! — Кэтрин, перестань терзать себя! — воскликнула Изабель. — Соберись с духом, будь храброй. Но она не чувствовала в себе ни капли храбрости. Слабое утешение предыдущего вечера улетучилось, остался только ужас. Если она закричит достаточно громко, кто-нибудь наверняка придет ей на помощь! И Екатерина принялась голосить как помешанная, едва слыша топот чьих-то бегущих ног. — Что случилось? — Это был голос сэра Джона. Он звучал встревоженно. — Она очень расстроена, — сказала Изабель. — А кто бы не был? — пробормотал сэр Джон. — Вы можете сообщить Совету о ее состоянии? — Могу, — неохотно ответил Гейдж. — Король не захочет, чтобы она устраивала спектакль, когда… — Голос его смолк. Екатерина завыла громче. — Ей нужно время, чтобы собраться, — настаивала Изабель. — Именно. Так будет легче для всех. Я все еще жду приказаний, но пошлю сообщение в Совет, попрошу об отсрочке на три или четыре дня, чтобы у нее было время свыкнуться с приговором и примириться со своей совестью. Сказав так, сэр Джон ушел, и Екатерина немного оживилась. Может быть, узнав, как она страдает, Генрих сжалится над ней? Уцепившись за эту надежду, Екатерина прекратила выть и лежала тихо. Изабель сидела рядом и держала ее за руку. Унять мятущиеся мысли не удавалось. Как она дошла до этого? Как беззаботная девушка превратилась в рыдающую женщину, одетую в черное и ждущую безвременной кончины? Судьба так жестока, так изменчива и капризна! Колесо ее вращается слишком быстро. Судьба сделала ее королевой, когда она находилась в поре цветущей юности и красоты. Екатерина помнила слова Генриха, который сказал однажды, что она создана природой, чтобы сиять наравне со звездами. О, он был добр к ней! Он так любил ее! Почему она не удовлетворилась этим? Она упивалась радостью и купалась в удовольствиях, обеспеченная всем, что был способен дать ей король, любивший ее так сильно, гораздо сильнее, чем всех остальных. Это было благословение, а она не понимала. Что хорошего в красоте без Божьей милости? Это хрупкий дар, лишь подпитывающий похоть; и похоть овладела ею. Какая польза в самой неотразимой красоте, если она ведет к таким несчастьям? Но это случилось, когда она цвела нежной юностью, была слишком податливой, чтобы устоять перед тягой к блуду, слишком падкой на плотские удовольствия. Какими же слепцами бывают молодые! Екатерина не догадывалась об опасностях, которые таит в себе купидонов огонь. И теперь дорого заплатит за свои бесстыдные развлечения. Ее не ждут пышные похороны с процессией облаченных в черное плакальщиков. Оставалось надеяться, что хотя бы несколько милосердных людей всплакнут о ней, помянут добрым словом и помолятся о том, чтобы ее душа удостоилась лучшей доли, чем бренное тело.
Бо́льшую часть субботы и воскресенья Екатерина провела в молитве. «Я не одна. Я не останусь одна», — снова и снова повторяла она эти утешительные слова. В доме все время хлопали двери, кто-то приходил и уходил. Екатерина понимала, что сэр Джон очень занят. Когда он в очередной раз заглянул проведать ее, что делал трижды в день, то имел весьма обеспокоенный вид. Из комнаты Екатерины была видна лужайка Тауэр-Грин, откуда весь день доносился стук молотков. Она знала, что там строят, и не могла заставить себя посмотреть в окно с ажурной решеткой. Не хотелось раньше времени увидеть эшафот. Вечерело. Вошедший в комнату сэр Джон не успел еще и рта раскрыть, а Екатерина уже догадалась, что услышит. — Мадам, вы должны собраться с духом и приготовиться к смерти, вас обезглавят завтра в девять утра. У Екатерины не было слов, чтобы ответить. Она лишь молча склонила голову, и ее охватило какое-то странное спокойствие. Теперь, зная самое худшее, она могла стойко принять неизбежное. — Доктор Маллет, ваш исповедник, придет сюда позже сегодня вечером, чтобы вы могли облегчить свою совесть. Он совершит над вами последние обряды. — Сэр Джон откашлялся, ему явно было трудно говорить. — Мне приказали сообщить вам, что вы примете смерть под топором. Ее ждал не меч, в отличие от кузины Анны. Екатерина вспомнила девиз Говардов: «Sola virtus invictus» — «Только храбрость непобедима». Отвага, казалось покинувшая ее, теперь вновь пришла ей на подмогу. Она примет смерть храбро, дабы не посрамить честь семьи. Екатерина больше не даст родным поводов стыдиться ее. Последние оставшиеся ей часы она проведет без истерик, чтобы люди сказали, что она умерла, не дрогнув. Смерть наступит быстро: какой-то миг — и все будет кончено. Сэр Джон нервно поглядывал на нее, без сомнения ожидая нового взрыва. Однако Екатерина приосанилась как королева, она ведь была ею еще совсем недавно. — Я предаю себя справедливому суду короля, — сказала Екатерина, понимая, что отсрочки не будет, должно быть, она слишком сильно обидела Генриха, раз он не проявил к ней милосердия. — У меня есть одна просьба. Я хочу, чтобы мне сюда принесли колоду, и я могла бы потренироваться, как класть на нее голову. Сэр Джон немало удивился, но согласно кивнул: — Это будет исполнено. Колоду принесли: низкий, тяжелый кусок бревна с выдолбленной в нем полукруглой выемкой для подбородка. Дерево было гладкое, без бороздок или засечек. Специально для нее сделали? Екатерина встала на колени в присутствии Изабель, которая в ужасе наблюдала за ней, и склонилась над колодой. Нагибаться пришлось низко. Но ничего, ей недолго стоять в этом неудобном положении. Она несколько раз попробовала грациозно преклонить колени и нагнуться вперед, пока не обрела уверенности, что будет выглядеть пристойно. — Хватит, прошу тебя! — взмолилась Изабель, сильно расстроенная этими экзерсисами. — Я вдруг поняла, что это лучшее средство от страха, — ответила Екатерина. Колоду унесли, и сестры сели, взявшись за руки, и сидели так до прихода доктора Маллета.
Екатерина сама удивилась, но той ночью она спала. Изабель легла с ней и все время держала ее в своих объятиях. Проснулась Екатерина затемно. Часы только что пробили шесть. Скоро начнет светать. Она в последний раз увидит дневной свет, прежде чем все закончится. Осталось три часа. Было холодно. Изабель, вылезшая кое-как из постели, накинула халат и стала разводить огонь. — Ночью подморозило, — сказала она и трясущимися руками стала помогать Екатерине облачаться в черное бархатное платье с теплым серым киртлом. Потом заплела ее длинные волосы и свернула косы на затылке, накрыла их платом, поверх которого надела французский капор. Екатерина стояла, ни на что не обращая внимания, сосредоточенная на своих молитвах. Я не одна! Принесли мясо, хлеб и эль, но кто станет есть в такой ситуации? Изабель то и дело поглядывала в окно, а Екатерина не смотрела туда вовсе. Они ждали… «Конечно, — думала Екатерина, — нужно использовать эти последние, бесценные минуты наилучшим образом». Но ей ничего не хотелось делать. Она как будто оставила в прошлом все мирские дела. Через час, или меньше, она будет на Небесах, и земные заботы потеряют для нее всякое значение. — Я хочу поблагодарить тебя за твою доброту. Изабель силилась побороть слезы: — Хорошо, что я могла сделать для тебя хотя бы это… — Ты передашь нашим сестрам, что я люблю их? И Чарльзу, Генри и Джорджу? — Передам, я обещаю. — Скажи им, я сожалею от всего сердца, что подвела семью. Дверь открылась. Екатерина вздрогнула. На пороге стоял сэр Джон с двумя стражниками по бокам. Те держали в руках алебарды. — Пора, мадам. Уже почти девять. — Он вложил ей в руку кошелек с монетами. — Это плата палачу, вы должны отдать ему деньги. Изабель обхватила Екатерину руками, и они наскоро обнялись напоследок. Господь дал Екатерине силы выйти из Лейтенантского дома. Сэр Джон предложил ей руку, и она оперлась на нее. Так они пересекли Тауэр-Грин в сопровождении отряда йоменов стражи. Впереди них, рядом с арсеналом, собралась толпа людей. Приблизившись к ней, Екатерина узнала многих членов королевского Совета, хотя, поискав глазами дядю Норфолка и герцога Саффолка, не нашла их. Ее кузен Суррей был там, но не встретился с ней взглядом. Толпа расступилась, чтобы очистить путь к эшафоту. Он был высотой в три или четыре фута и обтянут черной материей. Приблизившись к нему, Екатерина увидела стоящую на соломе колоду и палача в маске и переднике. Оказавшись перед ступеньками, она задрожала так сильно, что едва удержалась на ногах. Сэр Джон предупредил ее накануне, что по обычаю она должна произнести речь, но не отзываться в ней плохо о короле и не подвергать сомнению справедливость его решения. Стоя на эшафоте, Екатерина окинула взглядом собравшихся внизу людей — все они выжидательно смотрели на нее — и онемела. Она испугалась, что забыла все приготовленные слова. Сердце у нее дико колотилось, и голова кружилась от страха, но она должна расстаться с жизнью достойно. Я не одна! Вдруг она обрела голос, хотя он звучал слабо и сипло. — Я умираю, имея веру в кровь Христову, — начала Екатерина. — Я хочу, чтобы весь христианский люд считал мое наказание заслуженной и справедливой карой за прегрешения против Господа, совершенные гнусно, с юности, в нарушение всех Его заповедей и ставшие великим оскорблением его королевского величества. И посему, будучи справедливо осужденной парламентом по законам королевства на смерть, я прошу вас, добрые люди, извлечь пользу из моего примера, исправить ваши нечестивые жизни и с радостью слушаться во всем короля, о благоденствии которого я искренне молюсь и прошу вас всех делать то же. А теперь я предаю свою душу Господу и призываю Его проявить ко мне милость. Момент настал. Она повернулась к палачу и отдала ему кошелек с деньгами. Тот удивил ее, встав на колени и попросив у нее прощения за то, что он должен сделать. — Я вас прощаю, — прошептала Екатерина. — Прошу, сделайте все побыстрее. Подошла Изабель, сняла с нее платье и капор, оставив стоять дрожащей от холода в киртле и платке. Потом завязала ей глаза, и Екатерина запаниковала, поняв, что больше не увидит белого света. Все инстинкты побуждали ее броситься бежать, но она знала, что это ни к чему не приведет. Спасения для нее не было. Она встала на колени перед колодой и, сжавшись всем телом, приготовилась к удару. — Господи, смилуйся над моей душой, — вслух взмолилась она. — Люди добрые, прошу, молитесь за меня! Боже, помилосердствуй…
От автора
22 декабря 1541 года, когда Екатерина томилась в аббатстве Сион, лорд Уильям Говард, его жена Маргарет Гэмидж, Кэтрин Тилни, Элис Рестволд, Джоан Балмер, Энн Говард (жена брата Кэтрин Генри), Роберт Дэмпорт, Малин Тилни, Маргарет Беннет, Эдвард Уолдгрейв и Уильям Эшби были признаны виновными в недонесении об измене и осуждены на пожизненное заключение и изъятие всего имущества в пользу Короны. Леди Рочфорд приговор вынесли одновременно с Екатериной и казнили в тот же день. Агнес Тилни, вдовствующая герцогиня Норфолк и ее дочь, графиня Бриджуотер, осуждены за недонесение об измене и приговорены к пожизненному заключению с конфискацией всей собственности. Акт о лишении гражданских прав и состояния, изданный в отношении всех четырех женщин, включал в себя одну примечательную статью, которая устанавливала, что впредь для любой особы женского пола будет считаться изменой утаивание от короля факта своей нецеломудренной жизни до замужества с ним. Леди Уильям Говард и восемь других осужденных, в основном женщины, получили прощение в последний день февраля 1542 года, однако лордаУильяма Говарда и вдовствующую герцогиню Норфолк продержали в тюрьме дольше. Герцогиня была помилована 5 мая, а лорда Уильяма отпустили на волю в конце августа.Я глубоко признательна восхитительной редакторской команде из британского издательства «Headline» и американского «Ballentine» за поддержку и творческий вклад в эту книгу, а также моим ответственным редакторам Мэри Эванс и Сюзанне Портер. Флора Рис, как всегда, великолепно справилась с литературной редактурой; работать с ней было сплошным удовольствием. Огромная благодарность также Фрэнсис Эдвардс, моему милому редактору, Кейтлин Рейнор за отличную, сделанную не без юмора рекламу, Джо Лиддьярду за блестящую разработку рыночной стратегии, Сиобан Хупер за прекрасный дизайн обложки, Беки Бейдер, Франсес Дойл и Крису Кейт-Райту за фантастическую поддержку продаж, Ханне Кавз за аудио, с признательностью вспоминаю о помощи Кэти Санлей и Эмили Пейшенс. В «Ballentine» я должна поблагодарить Эмили Хартли, Мелани Денардо, Ким Хови и остальную энергичную команду. Джулиан Александер, мой литературный агент, как обычно, оказывал неоценимую поддержку во время написания этой книги, и я тепло благодарю его. Любовь и признательность, как всегда, моей опоре в трудные времена, мужу Ранкину.
Многочисленные источники, современные эпохе Тюдоров, легли в основу этого романа, или, скорее, переработанной и расширенной биографии, исходная версия которой была опубликована в моей книге «The Six Wives of Henry VIII», выпущенной в 1991 году. Я в особом долгу перед доктором Николь Таллис за то, что она прислала мне копию своей неопубликованной диссертации «All the Queen’s Jewels, 1445–1548». Хотя этот роман базируется по большей части на подлинных документах эпохи, я бы хотела отметить ценность работ биографов Екатерины Говард: Лейси Болдуин Смит, Жозефины Уилкинсон, Дэвида Лоудса, Гарет Расселл и Джоанны Денни. Веб-сайт Мэрилин Робертс «Trouble in Paradise» (www.queens-haven.co.uk) тоже оказался весьма полезным. Названия частей книги взяты из стихотворения о Екатерине Говард Джорджа Кавендиша в его книге «Метрические видения», написанной в 1550-е и включающей в себя серию трагических поэм о кровавых судьбах тех, кто погиб на эшафоте при Генрихе VIII.
Екатерина Говард родилась либо в Ламбете, либо в Леди-Холле в Эссексе. Как мировой судья Суррея, ее отец, лорд Эдмунд Говард, имел дом на Черч-стрит, теперь это часть дороги Ламбетского моста в Ламбете. Это был один из двух домов, полученных им от отца, вероятно, по случаю женитьбы. Второй располагался в Эппинг-Форест. В 1538 году, отчаянно нуждаясь в деньгах, Эдмунд произвел отчуждение в пользу своего брата, герцога Норфолка, усадьбы — дома с надворными постройками и участком земли — под названием Леди-Холл в принадлежавшем Говардам поместье Мортон в Эссексе, которое переходило из поколения в поколение в семье со времен первого герцога Норфолка. Позднее усадьба Леди-Холл была поделена на нижнюю — Незер-Холл и верхнюю — Овер-Холл. В 1708 году Леди-Холл был усадебным домом Овер-Холла, и его также назвали Овер-Холлом, или Аппер-Холлом, под этим именем дом известен и в наши дни. В 1818 году его описывали как стоящий посреди поля неподалеку от приходской церкви Мортона. Ныне известный нам дом представляет собой Т-образное в плане фахверковое здание под черепичной крышей, расположенное на месте дома лорда Эдмунда. Едва ли к Леди-Холлу относился большой земельный участок, поскольку в 1532 году лорд Эдмунд говорил Томасу Кромвелю: «У меня нет земли». Дата рождения Екатерины — вопрос дискуссионный. Все современные исследователи согласны в том, что она была очень молода, когда вышла замуж за короля в 1540 году. Екатерина точно родилась раньше апреля 1527 года, когда в письме к кардиналу Уолси ее отец утверждает, что у него десять детей, «моих и моей жены». Так как дата женитьбы лорда Эдмунда не установлена, невозможно определить и дату появления на свет его старшего сына Чарльза, но Чарльз и его братья Генри и Джордж родились раньше 12 июня 1524 года, когда они упомянуты в завещании Джона Ли, отчима их матери. О Екатерине и ее сестре Мэри там нет ни слова, хотя Екатерина упомянута в последней воле жены Джона Ли Изабеллы, составленной 11 апреля 1527 года, Мэри к тому моменту, вероятно, еще не родилась. Некоторые авторы из упомянутых завещаний делают вывод, что в 1524 году Екатерина еще не появилась на свет, а произошло это в 1525-м или около того. В июле 1540 года Ричард Ниллс, лондонский торговец, описывал Екатерину как «совсем маленькую девочку», слова эти отдельные исследователи полагают относящимися столько же к возрасту, сколько и к миниатюрности ребенка. «Испанская хроника» (см. ниже) называет Екатерину «просто ребенком» и «совсем юной». Французский посол, Шарль де Марильяк, знавший Екатерину лично, утверждал в 1541 году, что ее отношения с родственником, Фрэнсисом Деремом, начались, когда ей было тринадцать, и продолжались до восемнадцати лет. Они завершились в январе или феврале 1539-го, и это относит время ее рождения к 1520–1521 годам, в чем сходятся многие историки. Если это верно, то отсутствие упоминания о ней в завещании Джона Ли 1524 года можно объяснить тем, что она была девочкой. Судя по словам Марильяка, в 1533–1534 годах Екатерине было тринадцать, однако ее связь с учителем музыки Генри Мэноксом не могла начаться раньше 1536 года, когда она поступила на службу к герцогине Норфолк. Следовательно, Марильяк в этом отношении ошибался. Тем не менее его утверждение о том, что Екатерине было восемнадцать в начале 1539 года, когда оборвалась ее любовная связь с Деремом, вероятно, имеет под собой больше оснований. Дата рождения 1520–1521 годы соотносится с возрастом, указанным на портрете безымянной молодой женщины «на двадцать первом году жизни» (согласно латинской надписи), который создан примерно в 1535–1540 годах. Изображенная похожа на юную леди, которая появляется на двух миниатюрах Гольбейна (из Королевской коллекции и коллекции герцога Баклю), и на довольно прочных основаниях может быть идентифицирована как Екатерина. Лиф платья из золотой парчи, дорогие украшения и меховые рукава показывают, что это была женщина высокого ранга, к тому же на ней — брошь и ожерелье, которые можно видеть на портретах Джейн Сеймур и Екатерины Парр и которые явно входили в число украшений, переходивших от одной супруги короля к другой. Более того, ее капор с золотым билиментом можно соотнести с предметом, упоминаемым в списке драгоценностей Екатерины. Подлинный портрет неизвестной женщины Гольбейна висит в Музее искусств Толидо в штате Огайо, его копии имеются в Национальной портретной галерее, в одной частной коллекции и в замке Хивер. Во всех случаях богатый наряд и украшения говорят о высоком статусе дамы. Дизайн броши на ее груди с изображением Лота и его семьи, выводимых из Содома ангелом, придуман Гольбейном, сохранились выполненные им подлинные эскизы этой вещи. На поясном украшении можно различить Бога Отца с ангелами по бокам. Этот предмет предварительно идентифицирован с вещью, упомянутой в описи имущества Екатерины Говард, а рукава — с предметами из инвентарного списка, сделанного в 1542 году во дворце Уайтхолл, хотя последние могли принадлежать королю или кому-нибудь еще, не обязательно Екатерине, а описания украшений не полностью соответствуют тому, что изображено на картине. Портреты из Толедо и Национальной портретной галереи когда-то принадлежали семье Кромвеля, так что изображенная, вероятно, была членом этого семейства. Самый подходящий кандидат на эту роль — Элизабет Сеймур, сестра королевы Джейн Сеймур, вышедшая замуж за сына Томаса Кромвеля Грегори в августе 1537 года. Обеспечив своему сыну столь выгодный брак, Томас Кромвель вполне мог по такому случаю заказать у Гольбейна и портрет, и украшение; той же причиной можно объяснить и существование нескольких копий этого изображения. Дата рождения Элизабет Сеймур не зафиксирована, но эта женщина была моложе своей сестры Джейн, родившейся около 1508 года; если это портрет Элизабет, значит она появилась на свет приблизительно в 1517 году. Если не принимать в расчет этот портрет при определении даты рождения Екатерины, тогда мы должны обратиться к иным свидетельствам, лучшее из которых, вероятно, утверждение Марильяка, что в начале 1539-го ей было восемнадцать. Это позволяет предполагать датой ее появления на свет 1520 или 1521 год, а значит, Екатерине было девятнадцать, когда Генрих женился на ней, и двадцать один на момент смерти.
Я довольно хорошо знаю Ламбет. Меня крестили в церкви Святой Марии рядом с Ламбетским дворцом, и в детстве мы жили с родителями в доме Святого Фомы, ныне разрушенном, рядом с Вестминстерским мостом, напротив Каунти-Холла. Каждый день я переходила Ламбетский мост по пути в школу на Хорсферри-роуд. Мне было легко представить себе жизнь Екатерины в Ламбете. В романе Екатерина называет вдовствующую герцогиню Норфолк «grandam». Это слово происходит от французского «grande dame» и является архаической формой слова «бабушка», но также означает женщину-предка или старую женщину, так что оно показалось мне подходящим для обращения к неродной бабке. После того как учитель музыки Генри Мэнокс был с позором изгнан из дома вдовствующей герцогини, о нем сказано, что он стал наставником детей лорда Беймента, жившего неподалеку в Ламбете. Однако в списке пэров того времени не упоминаются ни лорд Беймент, ни даже лорд Бомон. Бетричси — это устаревшее написание Беттерси. Подробности отношений Екатерины с Генри Мэноксом, Фрэнсисом Деремом и Томасом Калпепером взяты из показаний свидетелей, собранных к моменту ее низложения. Я выстроила из этих сведений хронологически последовательную нить повествования, что позволило мне связно изложить события, описываемые в соответствующих частях книги. Язык эпохи Тюдоров я осовременила в тех случаях, когда он слишком резко отличается от используемого в наши дни. Кроме беллетризации исторических источников, я почти ничего не добавляла от себя. Марильяк утверждал в 1541 году, что отношения Екатерины с Фрэнсисом Деремом длились пять лет, но, вероятно, он имел на этот счет неправильные сведения. Сама Екатерина заявляла, что их связь длилась от трех до четырех месяцев, примерно с октября 1538-го до января 1539 года. Но все же она лгала в других своих показаниях (к примеру, о ключах герцогини) и, без сомнения, считала благоразумным преуменьшить длительность и серьезность этой любовной связи. Ее слова о том, что она провела с Деремом больше ста ночей, предполагают более долгие отношения, как и упоминание о клубнике, которую тот приносил; это явно не соответствует сезону, когда, по ее словам, происходили их свидания. Долгое время историки, пишущие о Екатерине Говард, полагались во многом на цветистые описания ее жизни из анонимной «Хроники короля Генриха VIII», или «Испанской хроники», под каковым названием это сочинение обычно фигурирует. Оно охватывает период с 1537 по 1549 год, и бо́льшая его часть написана до 1550-го. Известно, что автор этого сочинения был приятелем императорского посла Юстаса Шапюи, но не слишком близким. Судя по содержащимся в хронике сведениям, он жил при церкви Святой Екатерины около Тауэра. Его труд полон вопиющих неточностей; в нем почти нет дат, и хронология событий нарушена до такой степени, что Екатерина Говард названа там четвертой женой Генриха VIII, а Анна Клевская — пятой. Однако автор хроники лично был свидетелем некоторых событий, что делает его книгу ценной, хотя очевидно, что бо́льшая ее часть основана на недостоверных слухах и сплетнях. Испанский хроникер излагает сфальсифицированную историю о любовной связи Екатерины с Калпепером, преувеличивает значение некоторых событий и безнадежно искажает факты. Именно он стал источником, по которому цитируется речь, якобы произнесенная Екатериной с эшафота, где она заявляет: «Я умираю королевой, но предпочла бы умереть женой Калпепера». Однако это резко противоречит свидетельствам тех, кто присутствовал на казни. Творчески переосмыслив, я использовала один или два отрывка из «Испанской хроники», но в остальном избегала обращений к ней как к надежному источнику. Существует достоверное свидетельство того, что Екатерина и Калпепер были влюблены друг в друга до того, как Генрих VIII решил взять ее в жены. Мольба Калпепера к Екатерине о том, чтобы она сообщила Генриху об их намерении пожениться, взята из «Испанской хроники». Его болезнь после брака задокументирована в более надежных источниках. Кажется, Калпепер действительно совершил изнасилование и убийство. 10 мая 1542 года, когда о позорном поведении Калпепера уже стало широко известно, Ричард Хиллс, лондонский торговец, державшийся радикальных религиозных взглядов и убежавший ради безопасности за границу, в Страсбург, выражал возмущение в письме к немецкому реформатору Генри Буллингеру, что «одним из тех, кого сперва повесили, а после обезглавили и четвертовали за прелюбодеяние с королевой, был некто из числа камергеров короля, и два года назад, или даже меньше, он изнасиловал жену смотрителя парка в лесной глуши, тогда как, жутко пересказывать это, трое или четверо его самых распутных слуг держали ее. Это злодеяние, несмотря ни на что, король простил ему, после того как жители деревни схватили его за это преступление, а также за убийство, совершенное им в попытке сопротивляться, когда они приступили к нему, пытаясь задержать». Мы не знаем, где произошли эти события, так как не имеем никаких иных подтверждающих свидетельств, но, вероятно, их можно датировать 1539 или 1540 годом. Имя виновного в письме не названо, и предполагалось, что преступником был брат и тезка Калпепера, служивший у Томаса Кромвеля, однако Хиллс ясно говорит, что это был слуга короля, казненный за прелюбодеяние с Екатериной Говард. Он ошибся в деталях: Калпепер не был повешен, выпотрошен и четвертован, его только обезглавили, и он не был камергером короля, но служил джентльменом в личных покоях. Однако жившему за границей Хиллсу простительно путаться в должностях и подробностях казни. Таким образом, человек, виновный в изнасиловании, — это почти наверняка Калпепер. Примечателен и тот факт, что отец и мать оба исключили его из своих завещаний, составленных после вероятной даты совершения преступлений. Вызвано ли лишение наследства тем, что родители ужаснулись, узнав о содеянном сыном? Или они считали, что благодаря щедрости короля их отпрыск и без того хорошо обеспечен? Правительство Генриха VIII негативно относилось к изнасилованиям и убийствам. В 1540 году был издан акт, лишающий виновных в таких преступлениях права искать убежище. Убийцы и насильники обычно исключались из общего королевского помилования, даруемого Генрихом, кроме одного случая в 1540 году, когда изнасилование не вошло в список исключений. Возможно, Калпепер получил прощение наравне с прочими помилованными, несмотря на то что убийство в числе исключений оставалось. В его случае убийство могло быть рассмотрено как непреднамеренное; после 1533 года суды имели возможность оправдать любого, кто лишил жизни человека, пытавшегося убить или ограбить его самого. Практика монарших помилований отдельных лиц во времена Тюдоров получила более широкое распространение; такие прощения, случалось, даровались и виновным в изнасиловании и убийстве. Если Генрих простил Калпепера, постельничего, которого очень любил, очевидно, он был согласен держать у себя на службе насильника и убийцу, имевшего возможность часто общаться с королевой. Вероятно, как написано в романе, Калпепер убедил Генриха, что его действия представили в неверном свете. Учитывая, что Калпепер приобрел такую печальную известность, удивительно, почему ни один другой исторический источник не упоминает об этом прощении за изнасилование и убийство. Если Хиллс слышал об этом, другие тоже должны были, и можно было бы ожидать, что упоминания обнаружатся в отчетах послов. Вероятно, Хиллс передавал слухи, преувеличенные молвой, и преступление не было таким серьезным, как он описал.
Почти нет сомнений в том, что Дерем заключил предварительное соглашение о браке с Екатериной, хотя сцена, во время которой он заставляет ее дать обещание, вымышлена. Помолвка расценивалась как обещание вступить в брак и считалась столь же обязывающей, как само бракосочетание; ее мог расторгнуть только церковный суд. Дерем утверждал, что он просил у Екатерины разрешения называть ее женой и она согласилась, пообещав называть его мужем, после чего у них вошло в привычку обращаться друг к другу таким образом, не стесняясь свидетелей. Этого, наряду с фактом интимных отношений между ними, было достаточно, чтобы считать их брачный союз вполне свершившимся. В момент своего падения Екатерина была слишком наивна, чтобы сознавать: признанием в заключении помолвки она могла бы спасти себе жизнь. Раз она не могла считаться законной женой короля, то и в измене ее нельзя было обвинить, только в двоемужестве, при котором второй брак становится несостоятельным. Двоеженство и двоемужество расценивались прегрешениями духовными, и ими занимались церковные суды, имевшие право объявлять браки недействительными; до 1604 года такие этические проступки не считались преступлением. На это можно возразить, что сокрытие заключенной ранее помолвки, в случае Екатерины Говард, являлось недонесением об измене, так как ставило в опасность чистоту крови наследников короля, но наказанием за это было только заключение в тюрьму. Составленный из реформистов Совет понимал это и после первичного допроса, проведенного Кранмером, намеренно старался не дать Екатерине шанса признаться в заключении помолвки.
О звуках призрачного пения в исторической церкви Фотерингея упоминается в нескольких источниках. Странные ощущения Екатерины перед очагом в главном зале замка Фотерингей и правда удивительны, потому что через сорок шесть лет после описываемых событий Мария, королева шотландцев, будет обезглавлена на эшафоте на этом самом месте. Нет исторических оснований для язвительных рассказов о том, как Екатерина убегала от стражников. Однако давно сложилась легенда, согласно которой она в растрепанной белой одежде, обезумев от страха, бежала, чтобы перехватить короля и склониться перед ним в мольбе о пощаде, когда он посещал мессу в Королевской капелле, но была поймана прямо у королевской скамьи и под крики и вопли уведена в свои покои. Ее не обретший умиротворения дух якобы заново разыгрывал эту сцену в так называемой Галерее призраков в Хэмптон-Корте, откуда открывается доступ в молельни и к королевской скамье. Галерея находится рядом с новыми покоями королевы, созданными для Анны Болейн и заново отделанными для Джейн Сеймур; их занимала и Екатерина, там же ее держали под арестом. Недавнее исследование предполагает, что история о призраке была выдумана неким насельником этих почетных апартаментов, желавшим иметь предлог для того, чтобы сменить сие обиталище на лучшее.
Перед казнью Екатерину почти наверняка содержали в Лейтенантском доме Тауэра. В связи с ее делом за предшествовавшие недели было арестовано так много людей, что констебль сообщал Совету: «…в Тауэре нет такого количества комнат, чтобы разместить их всех по отдельности, если не занимать покои короля и королевы». Он просил, чтобы «король прислал сюда свой набор ключей, либо позволил сменить замки, либо распорядился, можно ли перевести самых важных персон в Тауэр, а остальных — в другие места заключения, пока для них не подготовят комнаты». Совет постановил, что «следует использовать покои короля и королевы. Король не помнит, чтобы у него были запасные ключи, и согласен на смену замков». Даже с занятием королевских апартаментов не всех узников удалось разместить в Тауэре, и некоторых пришлось отправить в другие лондонские тюрьмы. Следовательно, Екатерину не могли поселить в старых покоях королевы в королевском дворце, так как они были заняты, к тому же ее не собирались держать в Тауэре долго, чем можно было бы оправдать выселение тех, кто уже был поселен в эти комнаты. Сэр Джон Гейдж распорядился «принять королеву в его жилище», фахверковом Лейтенантском доме, заново перестроенном в 1540 году. В одном источнике говорится, что ей отвели небольшую комнату с портьерами и ковриками, скудно обставленную.
В процессе написания книги я не могла использовать бо́льшую часть сведений из проведенного мной обширного исследования о падении Екатерины Говард, потому что ее старательно держали в неведении относительно того, как продвигается расследование. Мне приходилось решать, что ей могли сообщить или что удавалось узнать самой. Однако я пустила в дело подробные материалы из показаний свидетелей и обвиненных вместе с Екатериной, чтобы составить описание предыдущих лет ее жизни. В романе Екатерина так и не узнала, кто первым донес на нее. В действительности это был Джон Ласселлс, который осенью 1541 года, после того как его сестра Мэри рассказала ему об аморальной жизни, которую ведет Екатерина, явился с доносом к архиепископу Кранмеру. Многие полагали, что Фрэнсис Дерем незаслуженно принял смерть, уготованную изменникам, лишь за то, что спал с Екатериной до того, как она вышла за короля. Это неправильное понимание ситуации. Совет был убежден, что он стремился попасть на службу ко двору Екатерины, когда та была королевой, «с дурными намерениями. Он имел предательские замыслы и предпринимал шаги к тому, чтобы задержаться на службе у королевы, дабы продолжить их нечестивые занятия». Такое намерение являло собой измену. Согласно Акту об измене 1534 года, всякий, кто «злоумышленно хочет, проявляет волю или желание на словах, письменно или хитрой уловкой вообразить себе, выдумать, составить план или попытаться на деле причинить любой телесный вред персоне его величества короля, королеве или прямым наследникам», виновен в измене. Слово «злоумышленно» подразумевает дурные намерения, и оно неоднократно повторяется в документе. Тот же акт привел на эшафот и Калпепера. Хотя он заявлял, что они с Екатериной «не заходили дальше слов», — и ее свидетельство подтверждало это, — однако роковым образом «признался в намерении сделать это». Мэнокс избег наказания, так как женился и не проявлял дальнейшего интереса к Екатерине. Мы не знаем точно, имел ли Генрих изначально намерение заточить Екатерину в тюрьму до конца дней. В январе 1542 года итальянский дипломат Джованни Станкини докладывал из французского Фонтенбло кардиналу Фарнезе, что «король собирается осудить королеву и ее тетку, помогавшую ей, на пожизненное заключение». Нам не известно, каким образом получил Станкини эту информацию или какие события, если таковые имели место, повлияли на перемену намерений короля в отношении судьбы королевы. Тема, которую я была не способна развить в романе, так как все события в нем описываются исключительно с точки зрения Екатерины, — это вероятность того, что Генрих VIII не желал ее смерти. Он так сильно любил ее, так глубоко печалился, что мог заколебаться или дрогнуть перед мыслью о ее казни. Генрих обходился с ней мягко: пока велось расследование, отправил не в Тауэр, а в закрытый монастырь Сион; лишил ее статуса королевы не сразу, а только после того, как всплыла на свет история с Калпепером. Говорили, что король «вынес удар с большим терпением и состраданием и проявил больше снисхождения и доброты, чем многие от него ожидали, — был гораздо мягче, чем желали родные (Екатерины)». Необыкновенно милостиво обошелся король и с Калпепером, заменив ему род казни. Такой привилегии обычно удостаивались только пэры королевства. Он оставил у себя шесть украшений, которые носила Екатерина, вероятно самых любимых ею. Однако реформисты-радикалы, доминировавшие в Совете и одним ударом повергшие Говардов, не собирались входить в сговор ради их возвращения в силу. Под предлогом избавления Генриха от душевных страданий, они с жаром, неусыпным тщанием и продуманной решимостью взялись за расследование с целью отыскать следы супружеской измены. Совет производил собственное разбирательство, а король по необходимости санкционировал дальнейшие действия. Выразив возмущение поступками Екатерины в Совете, а потом расплакавшись, Генрих устранился от следствия и уединился ото всех, «не имея другого общества, кроме музыкантов и развлекавших его менестрелей». Погрузившись в печаль, он отказывался заниматься делами, что развязало руки его советникам. Он не отдал приказа, чтобы дело Екатерины слушали в суде, но поручил это парламенту. В обращенной к парламенту речи лорд-канцлер Одли «преувеличил проступки королевы до наивысшей степени», то же сделали и все прочие, причастные к расследованию. Настоятельное желание советников не упоминать публично о помолвке Екатерины с Деремом, «что могло бы послужить ей в защиту», показывает, с какой решимостью стремилась реформистская фракция погубить королеву. Аннулирования брака было недостаточно, поскольку оставалась опасность, что злость и горе Генриха со временем утихнут и он будет готов простить свою горячо любимую бывшую супругу. В парламенте лорд-канцлер выразил беспокойство Генриха, что Екатерина «не имела возможности оправдаться». После того как ее осудили, «король, желая вести дело более гуманно и в большем соответствии с формальной стороной закона, послал к ней некоторых советников и прочих из упомянутого парламента с предложением явиться в палату парламента и выступить в свою защиту», что было необычно в процессах о лишении гражданских прав и состояния. «Это было бы наиболее приемлемо для ее любящего супруга, если бы королева могла обелить себя таким образом». Очевидно, лорды имели в виду надежды короля на то, что она это сделает. Джованни Станкини слышал, что Генрих «собирается осудить королеву на пожизненное заключение». Имперский посол Юстас Шапюи рассуждал: «Вероятно, если король не имеет намерения жениться вновь, он может проявить к ней милость, или, если обнаружит, что имеет возможность развестись под предлогом супружеской измены, то возьмет себе другую». Недостоверная «Испанская хроника» (вероятно, в данном случае не такая уж недостоверная) сообщает: «Король хотел было спасти королеву и обезглавить Калпепера, но Совет сказал ему: да будет известно вашему величеству — она заслуживает смерти, потому что предала вас в мыслях, и если бы имела возможность, то предала бы и на деле». И тогда король решил, что их обоих следует казнить. В момент падения Екатерины Генрих и слышать не хотел о том, чтобы взять себе другую супругу, вероятно, он не мог смириться с потерей Екатерины. Маловероятно, чтобы в его возрасте и при таком состоянии здоровья Генрих мог вновь обрести такую любовь, какой наслаждался с ней. Впереди его ждали лишь прогрессирующие болезни, старость и смерть. Вполне понятны опасения советников, что король может смягчиться и взять назад греховодницу-жену. Обращенное к Генриху прошение «не досаждать себе преступлениями королевы» и дать согласие на Билль о лишении гражданских прав и состояния жалованной грамотой с большой королевской печатью, чтобы лорд-канцлер мог вести дело от имени короля, показывает решимость советников сделать так, чтобы их повелитель имел как можно меньше шансов смягчиться, и королева умерла, «особенно потому, что король не мог снова жениться, пока она жива». Лорды уже начали настойчиво просить его о новом браке, без сомнения рассчитывая, что он выберет невесту из среды реформистов, что он и сделал в 1543 году, когда женился в шестой раз — на Екатерине Парр. Лорды добились своего. Екатерина Говард умерла, а король и пальцем не пошевелил для ее спасения.
Мысли Екатерины о своих прегрешениях и своей юности, а также о Джейн Рочфорд основаны на строках из «Метрических видений» Джорджа Кавендиша. Кавендиш был церемониймейстером у кардинала Уолси и, очевидно, имел прочные связи при дворе, будучи лично знаком с некоторыми из тех, кто описан в его поэмах. Уместно закончить послесловие к книге его эпитафией на смерть Екатерины Говард.
Действующие лица
В порядке появления или первого упоминания. Курсивом выделены имена вымышленных персонажей.Кэтрин (Екатерина) Говард, дочь лорда Эдмунда Говарда и Джойс Калпепер. Джойс Калпепер, мать Кэтрин, дочь сэра Ричарда Калпепера и его жены Изабель Уорсли. Лорд Эдмунд Говард, отец Кэтрин, сын Томаса Говарда, 2-го герцога Норфолка от его первой жены Элизабет Тилни. Изабель Ли, сводная сестра Кэтрин, дочь Джойс Калпепер и ее первого мужа Ральфа Ли; придворная дама Анны Клевской и Кэтрин Говард. Мэри Говард, младшая сестра Кэтрин. Чарльз Говард, первый из старших братьев Кэтрин. Генри Говард, второй старший брат Кэтрин. Джордж Говард, третий старший брат Кэтрин. Няня Кэтрин в Леди-Холле. Маргарет Коттон, сестра Джойс (Джокасты) Калпепер и тетя Кэтрин Говард. Томас Говард, 3-й герцог Норфолк, старший брат лорда Эдмунда Говарда и дядя Кэтрин. Уильям Коттон, муж Маргарет Калпепер и дядя Кэтрин. Томас, Джон, Джоан и Анна Коттон, кузены и кузины Кэтрин. Сэр Ричард Калпепер, отец Джойс Калпепер и дед Кэтрин. Эдуард I, король Англии (1239–1307). Томас Калпепер, джентльмен из личных покоев Генриха VIII, дальний родственник Кэтрин. Генрих VIII, король Англии. Дороти Тройе, вторая жена лорда Эдмунда Говарда и мачеха Кэтрин. Мария Тюдор, сестра Генриха VIII и жена короля Людовика XIII Французского. Екатерина Арагонская, королева Англии, первая жена Генриха VIII. Анна Болейн, фрейлина Екатерины Арагонской, позже королева Англии и вторая жена Генриха VIII. Принцесса Мария (позже леди Мария), дочь Генриха VIII и Екатерины Арагонской. Кардинал Томас Уолси, главный министр Генриха VIII. Священник из Оксон-Хоата. Маргарет Манди, третья жена лорда Эдмунда Говарда и мачеха Кэтрин; позже придворная дама Кэтрин Говард. Маргарет Ли, леди Арундел, сводная сестра Кэтрин; придворная дама Анны Клевской и Кэтрин Говард. Джойс Ли, сводная сестра Кэтрин. Томас Кранмер, архиепископ Кентерберийский. Сэр Эдвард Бейнтон, придворный, позже камергер королевы Анны Клевской и муж Изабель Ли. Томас Арундел, придворный, муж Маргарет Ли. Томас Кромвель, последний главный секретарь Генриха VIII, главный министр и граф Эссекс. Агнес Тилни, вдовствующая герцогиня Норфолк, вторая жена и вдова Томаса Говарда, 2-го герцога Норфолка, неродная бабка Кэтрин. Анна Йоркская, дочь короля Эдуарда IV и первой жены Томаса Говарда, 3-го герцога Норфолка. Элизабет Стаффорд, вторая жена Томаса Говарда, 3-го герцога Норфолка. Лорд Уильям Говард, сын Томаса Говарда, 2-го герцога Норфолка и Агнес Тилни. Ричард III, король Англии (1452–1485). Генрих VII, король Англии (1457–1509). Джон Скелтон, поэт-лауреат. Генри Говард, граф Суррей, сын и наследник Томаса Говарда, 3-го герцога Норфолка. Мэри Говард, дочь Томаса Говарда, 3-го герцога Норфолка и вдова Генри Фицроя, герцога Ричмонда, побочного сына Генриха VIII; придворная дама Анны Клевской и Кэтрин Говард. Бесс Холланд, любовница Томаса Говарда, 3-го герцога Норфолка. Матушка Эммет, наставница девушек при дворе вдовствующей герцогини Норфолк. Малин Чамбр, жена сэра Филипа Тилни, живущая при дворе вдовствующей герцогини. Джоан Экворт, миссис Балмер, одна из камеристок вдовствующей герцогини. Сэр Филип Тилни, родственник вдовствующей герцогини, позднее церемониймейстер личных покоев Генриха VIII. Дороти Бервик, одна из камеристок вдовствующей герцогини. Дороти (Дотти) Баскервиль, одна из камеристок вдовствующей герцогини. Кэтрин (Кэт) Тилни, племянница вдовствующей герцогини; позже одна из камеристок Кэтрин Говард. Мастер Чембер, наставник Кэтрин. Учитель танцев Кэтрин. Мартин Лютер, основатель протестантской религии. Маргарет Беннет, одна из камеристок вдовствующей герцогини. Маргарет (Мег) Мортон, одна из камеристок вдовствующей герцогини; позже одна из горничных Кэтрин Говард. Марджери, одна из горничных вдовствующей герцогини. Элис Уилкс, одна из камеристок вдовствующей герцогини, позже жена Энтони Рестволда; затем одна из горничных Кэтрин. Эдвард Уолдгрейв, один из джентльменов вдовствующей герцогини. Роберт Дэмпорт, один из джентльменов вдовствующей герцогини. Уильям Эшби, один из джентльменов вдовствующей герцогини. Ричард Фейвер, грум из покоев вдовствующей герцогини. Джон Беннет, джентльмен и грум из покоев вдовствующей герцогини. Эндрю Монсей, церемониймейстер вдовствующей герцогини. Мэри Ласселлс, одна из камеристок вдовствующей герцогини; позже жена Джона Холла. Агнес Говард, малолетняя дочь лорда Уильяма Говарда. Дороти (Долли) Доуби, одна из камеристок вдовствующей герцогини. Мистер Данн, хранитель винного погреба вдовствующей герцогини. Принцесса Елизавета (позже леди Елизавета), дочь Генриха VIII и Анны Болейн. Жанна д’Арк, французская девушка-крестьянка, народная героиня (ум. 1431). Привратник в доме вдовствующей герцогини. Миссис Изабель (Иззи), одна из горничных вдовствующей герцогини. Джейн Сеймур, королева Англии, третья жена Генриха VIII. Генри (Гарри) Мэнокс, учитель музыки Кэтрин. Мистер Барнс, учитель пения Кэтрин. Лорд Томас Говард, младший сын Томаса Говарда, 2-го герцога Норфолка и Агнес Тилни. Леди Маргарет Дуглас, племянница Генриха VIII, дочь его сестры Маргариты Тюдор, королевы шотландцев, от ее второго мужа, Арчибальда Дугласа, графа Ангуса. Эдуард, принц Уэльский, сын Генриха VIII и Джейн Сеймур. Дороти Говард, графиня Дерби, дочь Томаса Говарда, 2-го герцога Норфолка, и Агнес Тилни. Анна Говард, графиня Оксфорд, дочь Томаса Говарда, 2-го герцога Норфолка и Агнес Тилни. Кэтрин Говард, графиня Бриджуотер, дочь Томаса Говарда, 2-го герцога Норфолка, и Агнес Тилни. Элизабет Говард, графиня Уилтшир, мать Анны Болейн. Маргарет Гэмидж, леди Уильям Говард, жена лорда Уильяма Говарда, придворная дама Анны Клевской и Кэтрин Говард. Томас Болейн, граф Уилтшир, отец Анны Болейн. Артур Плантагенет, виконт Лайл, лорд — представитель короля в Кале, дядя Генриха VIII. Генри Бейнтон, сын сэра Эдварда Бейнтона и Изабель Ли. Кардинал Реджинальд Поул, кузен Генриха VIII. Маргарет Поул, графиня Солсбери, кузина Генриха VIII и мать кардинала Реджинальда Поула. Папа Павел III. Отец Генри Мэнокса (имя которого неизвестно). Лорд Беймент, сосед вдовствующей герцогини в Ламбете. Фрэнсис Дерем, церемониймейстер и кузен вдовствующей герцогини. Маргарет Тилни, бабушка Фрэнсиса Дерема. Джон Дерем, отец Фрэнсиса Дерема. Сэр Томас Дерем, старший брат Фрэнсиса Дерема. Мастерица по шелку из Лондона. Портниха из Ламбета. Мистер Роуз, вышивальщик вдовствующей герцогини. Элизабет Сомерсет, леди Бреретон. Уильям Балмер, муж Джоан Балмер (Экворт). Мистер Гастингс, загадочный джентльмен. Миссис Мэнокс, жена Гарри Мэнокса. Анна Клевская, королева Англии, четвертая жена Генриха VIII. Мэри Норрис, дочь сэра Генри Норриса и кузина Кэтрин, фрейлина Анны Клевской. Кэтрин Кэри, дочь Генриха VIII и Мэри Болейн, племянница Анны Болейн и кузина Кэтрин Говард, фрейлина Анны Клевской. Сэр Томас Меннерс, граф Ратленд, камергер двора Анны Клевской. Портной вдовствующей герцогини. Галантерейщик вдовствующей герцогини. Ювелир вдовствующей герцогини. Сэр Томас Хинидж, хранитель королевского стула и главный джентльмен из личных покоев Генриха VIII. Миссис Стонор, наставница девушек при дворе Анны Клевской. Анна Бассет, фрейлина Анны Клевской и Кэтрин Говард. Дороти (Дора) Брей, фрейлина Анны Клевской. Кэтрин Бассет, сестра Анны Бассет. Хонора Гренвилл, леди Лайл, жена Артура Плантагенета, виконта Лайла, мать Анны и Кэтрин Бассет. Леди Люси Сомерсет, дочь Генри Сомерсета, 2-го графа Вустера, фрейлина Анны Клевской и Кэтрин Говард. Маргарет Бофорт, графиня Ричмонд и Дерби, бабушка Генриха VIII. Урсула Стоуртон, фрейлина Анны Клевской. Маргарет Гарниш, фрейлина Анны Клевской. Маргарет Коуплдайк, фрейлина Анны Клевской. Дамаскин Страдлинг, фрейлина Анны Клевской. Миссис Фридсвайд, одна из горничных Анны Клевской; позже одна из горничных Кэтрин Говард. Миссис Лаффкин, одна из горничных Анны Клевской; позже одна из горничных Кэтрин Говард. Кэтрин Уиллоуби, герцогиня Саффолк, придворная дама Анны Клевской и Кэтрин Говард. Мэри Арундел, графиня Сассекс, придворная дама Анны Клевской и Кэтрин Говард. Элеонор Пастон, графиня Ратленд, придворная дама Анны Клевской и Кэтрин Говард. Элизабет Блаунт, леди Клинтон, бывшая любовница Генриха VIII, придворная дама Анны Клевской. Генри Фицрой, герцог Ричмонд, внебрачный сын Генриха VIII. Джейн Паркер, леди Рочфорд, вдова Джорджа Болейна, виконта Рочфорда, придворная дама Анны Клевской и Кэтрин Говард. Джордж Болейн, виконт Рочфорд, брат Анны Болейн. Элизабет Сеймур, сестра Джейн Сеймур и жена сына Томаса Кромвеля Грегори; придворная дама Анны Клевской. Ганс Гольбейн, придворный художник Генриха VIII. Элис Гейдж, леди Браун. Сюзанна Гилман, фламандская художница, главная камеристка Анны Клевской. Матушка Лёве, наставница девушек при дворе Анны Клевской. Фрэнсис Брэндон, маркиза Дорсет, дочь Чарльза Брэндона, герцога Саффолка и сестры Генриха VIII Марии Тюдор. Сэр Уильям Холлс, лорд-мэр Лондона. Уилл Сомерс, шут Генриха VIII. Томас Пастон, джентльмен из личных покоев Генриха VIII. Жена смотрителя парка. Стивен Гардинер, епископ Винчестерский. Сэр Джон Дадли. Бассано из Венеции, музыканты Анны Клевской. Фрэнсис, сын Антуана, герцога Лоррейнского. Шарль де Марильяк, французский посол при дворе Генриха VIII. Сэр Джордж Сифорд, друг вдовствующей герцогини. Джон, лорд Расселл, тайный советник и член парламента. Сэр Энтони Уингфилд, вице-камергер двора Генриха VIII. Эдмунд Боннер, епископ Лондонский, священник Генриха VIII. Сэр Томас Мор, бывший лорд-канцлер Англии. Джон Фишер, епископ Рочестерский. Сэр Александр Калпепер, отец Томаса Калпепера. Роберт Барнс, лютеранин-еретик. Бесс Харвей, фрейлина Кэтрин Говард. Элизабет Фицджеральд, фрейлина Кэтрин Говард. Джейн Чейни, леди Ризли, племянница епископа Гардинера, придворная дама Кэтрин Говард. Миссис Джосслин, портниха Кэтрин. Роберт Рэдклифф, граф Сассекс, дядя Кэтрин. Франсес де Вер, жена Генри Говарда, графа Суррея. Энн, жена Генри Говарда, невестка Кэтрин. Эдмунд Траффорд, муж сестры Кэтрин Мэри. Томас Чосер, сын поэта Джеффри Чосера. Алиса Чосер, герцогиня Саффолк, дочь Томаса Чосера. Эдмунд де ла Поль, герцог Саффолк, приговоренный к смертной казни изменник. Священник из Виндзора. Эдуард IV, король Англии (1442–1483), дед Генриха VIII. Елизавета Вудвилл, супруга Эдуарда IV, бабка Генриха VIII. Мод Грин, леди Парр, мать Анны Парр. Томас, жонглер Генриха VIII. Сэр Уильям Баттс, врач Генриха VIII. Ричард Джонс, директор школы Святого Павла в Лондоне. Уильям Фицуильям, граф Саутгемптон, лорд — хранитель личной печати. Сэр Энтони Браун, главный конюший. Сэр Энтони Кингстон, тайный советник. Юстас Шапюи, императорский посол при дворе Генриха VIII. Смотритель королевских соколов. Две фрейлины леди Марии. Анна Стэнхоуп, графиня Хартфорд, жена Эдварда Сеймура, графа Хартфорда, брата королевы Джейн Сеймур. Томас, лорд Одли, лорд-канцлер Англии. Уильям, лорд Сэндис, капитан Гина. Джон Лонгленд, епископ Линкольнский, исповедник Генриха VIII. Мастер Скатт, портной Кэтрин. Сэр Томас Уайетт, поэт и дипломат. Сэр Джон Уоллоп, дипломат. Сэр Уильям Рочел, лорд-мэр Лондона. Бесс Даррелл, любовница сэра Томаса Уайетта. Элизабет Брук, жена сэра Томаса Уайетта. Элизабет Дарси, жена Джона Ли; невестка Кэтрин и одна из ее камеристок. Генри Уэбб, церемониймейстер Кэтрин. Мистер Моррис, паж Кэтрин. Кэтрин Эстли, няня леди Елизаветы. Яков V, король шотландцев (1512–1542), сын Маргариты Тюдор и племянник Генриха VIII. Роберт Холгейт, епископ Лландаффа, лорд-президент Севера. Сэр Джон Гейдж, констебль лондонского Тауэра и ревизор двора Генриха VIII. Сэр Роберт Тирвитт, главный шериф Линкольна. Джон Тейлор, декан (настоятель главного собора) Линкольна. Джон, лорд Гастингс. Ричард Пейт, архидьякон Линкольна. Мировой судья Линкольна. Винсент Грантэм, мэр Линкольна. Екатерина Суинфорд, возлюбленная, затем жена Джона Гонта, герцога Ланкастера, мать Бофортов и предок Генриха VIII. Эдвард Стэнли, 3-й герцог Дерби. Томас, лорд Бург. Агнес Тирвитт, леди Бург. Джон Хаттофт, секретарь Кэтрин. Мастер Коутс из Ламбета, галантерейщик. Ричард II, король Англии (1367–1400). Уильям, лорд Парр, брат Анны Парр. Мистер Дейн, один из церемониймейстеров Генриха VIII. Мистер Джонс, церемониймейстер Кэтрин Говард. Эдмунд Нивет, сержант-привратник. Эдвард Ли, архиепископ Йоркский. Сэр Роберт Констебл, один из вождей Благодатного паломничества. Эдуард V, король Англии (1470–1483?), и Ричард, герцог Йоркский, сыновья Эдуарда IV, «Принцы в Тауэре». Доктор Джон Чеймберс, врач Генриха VIII. Сэр Томас Сеймур, брат Джейн Сеймур. Сэр Томас Ризли, главный секретарь Генриха VIII. Джейн Эстли (или Эшли), миссис Мьютас, придворная дама Кэтрин Говард. Капитан барки. Генрих V, король Англии (1386–1422). Николас Хит, епископ Рочестерский, податель милостыни Кэтрин Говард. Томас Тирлби, епископ Вестминстерский. Джейн Гилфорд, леди Дадли, жена сэра Джона Дадли. Джоан Чепернаун, леди Денни. Доктор Маллет, исповедник Кэтрин. Палач.
Хронология событий
1491 год — Рождение Генриха VIII. 1509 год — Восшествие на престол Генриха VIII. Брак и коронация Генриха VIII и Екатерины Арагонской. 1510/15 годы — Брак лорда Эдмунда Говарда и Джойс Калпепер, родителейЕкатерины. 1513 год — Битва при Флоддене. 1516 год — Рождение принцессы Марии, дочери Генриха VIII и Екатерины Арагонской. 1520/21 годы — Вероятная дата рождения Екатерины Говард. 1524 год — Смерть деда Екатерины, Томаса Говарда, 2-го герцога Норфолка. 1528 год — Смерть Джойс Калпепер. 1528? год Брак лорда Эдмунда Говарда и Дороти Тройе. 1530 год — Смерть Дороти Тройе. Брак Маргарет Ли и Томаса Арундела. 1531 год — Лорд Эдмунд Говард назначен ревизором Кале. Екатерина Говард отправлена жить в дом своей неродной бабки Агнес Тилни, вдовствующей герцогини Норфолк. 1533 год — Брак Генриха VIII и Анны Болейн (январь). Рождение принцессы Елизаветы, дочери Генриха VIII и Анны Болейн. 1534 год — Парламент издает Акт о главенстве короля над Церковью, благодаря чему Генрих VIII становится верховным главой Церкви Англии, и Акт о престолонаследии, которым дети королевы Анны объявляются законными наследниками короля. 1536 год — Смерть Екатерины Арагонской. Казнь Анны Болейн. Брак Генриха VIII с Джейн Сеймур. Парламент издает новый Акт о престолонаследии, передавая право наследования детям Джейн Сеймур и короля. 1537 год — Рождение принца Эдуарда, сына Генриха VIII и Джейн Сеймур. Смерть Джейн Сеймур (24 октября). 1537/38 год — Любовная связь Екатерины Говард с Генри Мэноксом. 1538 год — Генрих VIII отлучен от Церкви папой (декабрь). 1538/39 год — Любовная связь Екатерины Говард с Фрэнсисом Деремом. 1539 год — Генрих VIII начинает переговоры о браке с Анной Клевской (январь). Генрих VIII подписывает брачный договор (4 октября). Екатерина Говард назначена фрейлиной к Анне Клевской. Анна прибывает на корабле в Англию (27 декабря). 1540 год — Официальный прием Анны Клевской на Блэкхите (3 января). Брак Генриха VIII и Анны Клевской (6 января). Томас Калпепер начинает ухаживать за Екатериной Говард (весна). Генрих VIII начинает ухаживать за Екатериной Говард (апрель). Тайный совет берется за поиски оснований для расторжения брака короля (май). Арест Томаса Кромвеля (10 июня). Парламент приступает к обсуждению законности брака Анны (6 июля). Брак Анны официально аннулирован актом парламента (12 июля). Казнь Кромвеля (28 июля). Брак Генриха VIII и Екатерины Говард (28 июля). Екатерина Говард провозглашена королевой (8 августа). Первое появление слухов о намерении короля взять обратно Анну (октябрь). Генрих VIII и Екатерина Говард совершают тур по стране (август — октябрь). 1541 год — Анна Клевская посещает Генриха VIII и Екатерину Говард в Хэмптон-Корте. Томас Калпепер возобновляет ухаживания за Екатериной Говард (весна). Официальный въезд Екатерины Говард в Лондон (19 марта). Екатерина Говард думает, что беременна (март — апрель). Казнь Маргарет Поул, графини Солсбери (27 мая). Генрих VIII и Екатерина Говард отправляются объезжать северные графства (30 июня). Генрих VIII и Екатерина Говард прибывают в Линкольн (9 августа). Екатерина Говард назначает Фрэнсиса Дерема церемониймейстером своих покоев (27 августа). Генрих VIII и Екатерина Говард прибывают в Йорк (18 сентября). Генрих VIII и Екатерина Говард возвращаются в Виндзор (26 октября). Екатерина Говард помещена под домашний арест в Хэмптон-Корте (2 ноября). Арест Фрэнсиса Дерема (раньше 6 ноября). Двор Екатерины Говард распущен (13 ноября). Екатерина Говард отправлена в аббатство Сион (14 ноября). Томас Калпепер заключен в Тауэр (около 14 ноября). Леди Рочфорд заключена в Тауэр (к 19 ноября). Дерем и Калпепер предстали перед судом в Ратуше и приговорены к смерти (1 декабря). Дерем и Калпепер казнены на Тайберне (10 декабря). Несколько человек, замешанных в преступлениях Екатерины Говард, приговорены к тюремному заключению за недонесение об измене (22 декабря). 1542 год — В парламенте составлен Билль о лишении гражданских прав и состояния против Екатерины Говард (21 января). Получено королевское одобрение Акта о лишении гражданских прав и состояния, осуждающего на смерть Екатерину Говард и Джейн Рочфорд (9 февраля). Казнь Екатерины Говард и леди Рочфорд (13 февраля).Элисон Уэйр Шестая жена Роман о Екатерине Парр
Перевод с английского Евгении Бутенко Серийное оформление Ильи Кучмы Оформление обложки Андрея Саукова
Серия «Великие женщины в истории»
© Е. Л. Бутенко, перевод, 2021 © Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021 Издательство АЗБУКА®
* * *
Посвящается светлой памяти нашего любимого сына Джона Уильяма Джеймса Уэйра (1982–2020) и моей дорогой матери Дорин Этель Каллен (1927–2020)
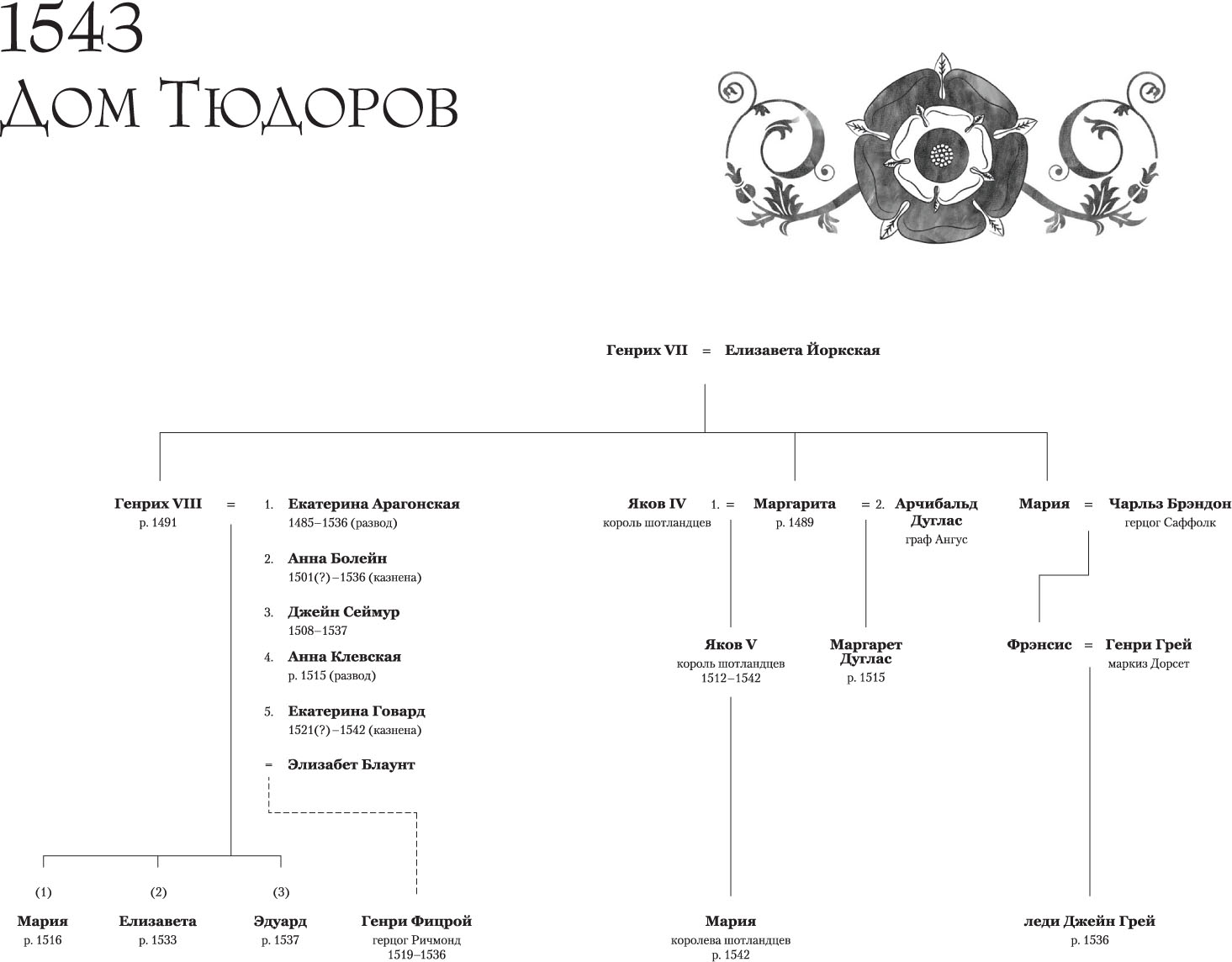

Эта женщина, по моему рассуждению, добродетелью, мудростью и добротой больше всех подходит для его высочества. И я уверен, что его величество никогда не имел супруги более приемлемой для его сердца, чем она.Сэр Томас Ризли
Если говорить о моей несчастной жизни, то сердце мое из мрамора, непокорное, безрассудное.Королева Екатерина Парр
Часть первая «Живая и миловидная»

 Глава 1
1517–1520 годы
Глава 1
1517–1520 годы
Кэтрин было пять, когда смерть бросила свою черную тень на ее жизнь. В это тяжкое время страха и печали ужасная болезнь под названием «потливая лихорадка» опустошала Лондон. Девочка забилась в угол в доме, стоявшем на территории монастыря Черных Братьев, который закрыли от всех посторонних из-за эпидемии, и сжималась от ужаса, слыша колокольный звон городских церквей и чуя запахи травяных снадобий, которые готовила мать на случай, если кто-нибудь в доме заболеет. Хотя она и была мала, но понимала тяжесть ситуации. Занимаясь разными простыми делами на винокурне, Кэти слышала разговоры взрослых на соседней кухне о том, что лихорадка убивает мгновенно и люди ни с того ни с сего падают замертво прямо на улицах. Ей было известно, что даже король покинул Лондон. Как и все, она отлично знала признаки болезни и с тревогой наблюдала за собой: не начнется ли у нее озноб, не закружится ли голова, не появятся ли жажда, головная боль и другие недомогания. Знала и то, что если проживешь с потницей целый день и целую ночь, то поправишься. И это будет ее единственной надеждой.
Мать вернулась со службы у королевы, и Кэтрин очень этому радовалась. Своим спокойствием и уверенностью хозяйка дома внушала всем веру в лучшее, и было не так страшно. Мать научила Кэти и ее четырехлетнего брата Уильяма особой молитве: «Даруй свет моим глазам, о Господь, если я засну мертвым сном». Каждый день они обязательно исповедовались в своих маленьких грехах священнику доктору Мелтону, чтобы всегда находиться в состоянии благости и быть готовыми к встрече с Создателем. Двухлетняя Анна была еще слишком мала, чтобы осмысленно произносить молитвы, но мать позаботилась и о ней: каждый вечер молилась за свою младшую дочь, прижимая ее к пухлому животу. Кэти знала, что скоро у нее появится еще один брат или сестра. Она надеялась, что ужасная потливая лихорадка уйдет до того, как родится ребенок, и что это будет девочка. Но болезнь продолжала свирепствовать даже в ноябре, тогда и заболел отец.
Ей запретили входить в его комнату, чтобы не подцепила заразу, и Кэтрин наблюдала, как мать носится туда-сюда с тазами горячей воды и полотенцами. Она видела, как открыли входную дверь, чтобы впустить врача, и через два дня — поверенного отца. Нос и рот у обоих были закрыты отдушенными гвоздикой льняными повязками. Девочка чувствовала, что на дом опустилась тишина, и понимала: шуметь нельзя.
На следующий день появился любимый дядя Уильям, младший брат отца, и отец Катберт Танстолл, которого дети хорошо знали. Священник был человек незлобивый, умный и мягкий, с гладко выбритым лицом и крючковатым носом. Он не только приходился им родственником, но и был большим другом всем и очень важной персоной, так как служил королю Генриху. Кэтрин обожала его, как и дядю Уильяма, мужчину довольно грузного, с искрящимися глазами и веселым круглым лицом. Они оба очень по-доброму говорили с детьми и уверяли их, что отец в безопасности, что он в руках Божьих и Господь лучше знает, какой исход для него предпочтительнее. Этот урок Кэтрин будет помнить всю жизнь. Однако от нее не укрылась слеза, навернувшаяся на глаза грубоватого в манерах, привычного к военной службе дядюшки.
Трудно было смириться с тем, что Господь знает лучше, когда в тот же вечер мать, храбро подавив всхлипы, сообщила им: отец умер и отправился на Небеса. Дом завесили черными тканями, все надели траур. Услышав громкие удары главного колокола в монастыре Черных Братьев по соседству, Кэтрин поняла: звонят по ее отцу. Дядя Уильям сказал, что прозвучит тридцать четыре удара, по одному за каждый год жизни сэра Томаса Парра.
Дети не присутствовали на похоронах в монастырской капелле Святой Анны; отец хотел, чтобы его тело было погребено именно там, рядом со старшим братом, умершим сразу после рождения. Они смотрели, как мать, светлые волосы которой были спрятаны под похожим на монашеский плат головным убором и черной вуалью, выходит из дверей, опираясь на руку дяди Уильяма. Маленький Уилл плакал, Кэтрин и сама была опасно близка к слезам, пытаясь свыкнуться с тем фактом, что ее отец никогда не проснется и она больше не увидит его. Ей хотелось помнить отца таким, каким он был при жизни.
Человек умный и образованный, сэр Томас занимал важные посты при дворе короля Генриха. Он был близок к королю, как мать была близка к королеве, крестной матери Кэтрин, принимавшей в девочке живое участие, несмотря на то что Кэтрин никогда с ней не встречалась. Но ее родители проводили много времени при дворе, у матери даже имелись там свои покои, и Кэтрин теперь размышляла, вернется ли мать к своим обязанностям.
Для нее не имело значения, что отец был богатым и важным человеком; она будет помнить жизнерадостного мужчину, у которого в уголках глаз появлялись морщинки, когда он смеялся; прекрасного отца, который ценил и любил своих детей. По нему Кэти станет горевать.
— Не плачьте, дети, — мягко сказал доктор Мелтон, выходя с молитвенником в руке из дома вслед за членами семьи. — Ваш отец отправился к Господу. Мы должны радоваться за него и не подвергать сомнению Божью волю.
Кэтрин хотелось бы так легко принять ее, быть как мать, а та стойко сносила утрату. Но стоило ей подумать об отце, и слезы непроизвольно катились у нее из глаз.
Няня Агнес, положив руки на плечи детям, увела их в холл, где в очаге приветливо потрескивал огонь.
— Я расскажу вам историю, — сказала она и принялась за цветистую легенду о Робин Гуде и деве Мариан, потом увлекла детей строительством карточного домика.
За этим делом и застали их вернувшиеся с похорон взрослые. Глаза матери были красны, но Мод улыбалась, когда взяла Кэтрин и Уилла за руки и повела их в зал, где была устроена поминальная трапеза. Из-за лихорадки гостей было немного.
После еды семья вернулась в холл, и дети снова увлеклись игрой, а взрослые сели у камина.
— Не могу поверить, что он умер, — убитым голосом проговорила мать. — Нам выпало провести вместе всего девять лет. Не думала, что останусь вдовой в двадцать пять и буду одна растить детей.
Кэтрин увидела, как дядя Уильям положил ладонь на руку матери и сказал:
— Вы не одна.
— Нет, вы не одна, Мод, — заверил ее отец Катберт. — Мы позаботимся о вас. Этого хотел Томас и потому назначил нас исполнителями своей последней воли.
— Вы не останетесь в нужде, — вставил дядя Уильям. — Уилл будет наследовать отцу. Девочкам оставлено приданое, которое обеспечит им приличных мужей. Может, не самых знатных, но вполне достойные партии.
— Да, и я должна быть благодарна за это, но он ничего не оставил младшему. — Мать вздохнула и похлопала себя по животу. — Если родится мальчик, у него не будет никакого наследства. Если девочка, мне самой придется обеспечивать ей приданое. Томас не мог рассуждать здраво. Болезнь помутила его разум. Без доходов от его службы при дворе у меня станет меньше денег на жизнь, и я должна сохранить наследство Уилла. А хранить-то особо нечего. Мне придется вести очень скромное существование.
— Вы вернетесь на службу к королеве? — поинтересовался отец Катберт.
— Когда родится ребенок, ничего другого мне не останется, — ответила мать. — Я подумывала уехать на север, в Кендал, где жизнь дешевле, но замок там стоит в запустении, и это очень далеко от всех моих друзей.
— Даже не думайте об этом, — твердо заявил дядя Уильям. — Вы должны запереть этот дом и переехать жить ко мне и Мэри в Рай-Хаус.
Кэтрин навострила ушки. Все, слышанное до сих пор о Рай-Хаусе, привело девочку к мысли, что это сказочное место. Там жили ее кузины и кузены, и какое это будет счастье — уехать подальше от пораженного эпидемией Лондона.
Лицо матери просветлело.
— Уильям, не могу выразить, что значит для меня ваша доброта. Я с удовольствием приеду. Это будет хорошо для детей. Там такой здоровый воздух. Но, боюсь, я должна попросить вас еще об одном одолжении.
— Только скажите, — галантно ответил дядя Уильям.
— Мне нужна помощь с финансами, — сказала Мод, — и человек, который будет управлять нашими поместьями на севере, потому что сама я предпочту обустроиться на юге, чтобы обеспечить будущее детям. Отныне я должна посвятить свою жизнь им.
— Вы можете спокойно доверить все это мне, — сказал дядя Уильям.
Мать встала и обняла его:
— Ни у одной женщины не было лучшего деверя.
— А ваши родные не помогут? — поинтересовался отец Катберт.
— Грины? — Мод покачала головой. — Вы знаете, мой отец умер в Тауэре под подозрением в измене. Я осталась последней в роду и единственной его наследницей. Все, что имела, я принесла Томасу. У меня есть родственные связи на севере и в Мидленде, но…
Кэтрин часто слышала разговоры родителей об их родстве с такими знатными семьями, как Воксы, Трокмортоны, Невиллы, Дакры, Тальботы и Танстоллы, семья отца Катберта, и это только некоторые. Родственные связи были источником великой гордости для них всех, но запомнить имена этих людей Кэтрин удавалось с трудом. Она не знала никого из многочисленной родни и подозревала, что у ее матери тоже мало общего с этими людьми.
— Ни к чему думать о них, когда у вас есть я, — сказал дядя Уильям.
— А я помогу вам организовать переезд в Рай-Хаус, — предложил отец Катберт.
— Спасибо вам, мои дорогие друзья, — ответила мать. — Честно говоря, мне очень хочется туда.
В последовавшие за этим дни все они были заняты подготовкой к отъезду. Дом в монастыре Черных Братьев предстояло запереть и оставить на попечении управляющего. Мать попросила Кэтрин и Уилла собрать их любимые вещи, и Кэтрин положила в сундук с обитыми железом углами своих кукол, Часослов с раскрашенными полями, роговую книгу, по которой учила буквы и цифры, волчок, мяч и лютню. Не забыла тетрадки и коробку с ручками. Это было самое важное, ведь мать учила ее писать в изящной итальянской манере, и Кэтрин занималась письмом ежедневно. На самый верх девочка поместила самые дорогие сердцу вещи: красивую крестильную пелену, подаренную ей королевой, в честь которой она получила имя и которая собственноручно вышила на ней в золотом круге инициалы «К. И. П.», что, по словам матери, означало: «Кэтрин. Инфанта. Принцесса», а также девиз: «Plus Oultre» — «Дальше вперед». Это был девиз Испании, откуда королева приехала, но мать полагала, он подходит Екатерине, которая, по ее мнению, превзойдет то, чего от нее ожидали. Королева очень дорожила этой пеленой, сшитой ее матерью. Вероятно, Екатерина высоко ценила свою придворную даму, раз отдала ее дочери такое сокровище. Кроме этого, королева подарила Кэтрин немецкие лакированные бусы, украшенные золотом, которые девочка часто носила на шее. Ей очень хотелось увидеть добрую королеву, и она жаждала наступления того дня, когда подрастет и сможет поехать ко двору.
В декабре, когда они были готовы к отъезду, потница наконец завершила свое убийственное шествие по стране, и люди снова потянулись в Лондон. — Я так рада, что жизнь налаживается, — говорила мать, натягивая перчатки, а потом ее лицо погрустнело. — Но едва ли все вернется в норму. — Кэтрин понимала, что она вспомнила об отце, но знала: мать не позволит себе грустить долго. — Я беспокоилась, как мы отправимся в путь, когда повсюду эта зараза, и готова была отсрочить переезд, если понадобится. Но теперь мы отправляемся! — Она улыбнулась детям, взяла на руки полнощекую малышку Анну и повела их всех через главный вход к ожидавшим на улице конным носилкам. Сидя рядом с матерью, закутанная в меха и с завернутым в войлок разогретым кирпичом под ногами, Кэтрин оглянулась на дом, в котором родилась, и постаралась запомнить каждую деталь его фахверкового фронтона, ромбовидные стекла в окнах со средниками, поблескивавшие под зимним солнцем, щит над дверью с гербом Парров в сине-красных лентах и девиз под ним: «Любовь с преданностью». Жизнь никогда не будет прежней, и тоска по отцу не отпустит Кэтрин, но она уже начинала смотреть в будущее, так как отправлялась в восхитительное путешествие.
Мать не хотела торопиться, поэтому они ехали в Ходдесдон не спеша и остановились на ночлег в гостинице рядом с Энфилдом к северу от Лондона. На следующий день ближе к вечеру прибыли в Рай-Хаус, и Кэтрин, завидев его, разинула рот от восторга. Возвышавшийся над широким рвом и окруженный высокой стеной главный дом поместья был похож на дворец из волшебной сказки с маленькими башенками и зубчатыми стенами. Когда они проехали через гейтхаус, Кэти увидела, что бо́льшую часть пространства за оградой занимает сад, а краснокирпичный главный дом оказался довольно скромным по размеру. Дядя Уильям проводил их в квадратный холл, где тетя Мэри, пухленькая и со щеками, как спелые яблочки, ждала гостей, чтобы приветствовать их и угостить горячим элем с пряниками. Она обняла своего супруга и сноху, потом расцеловала детей. — Входите и усаживайтесь в гостиной, — пригласила их Мэри и провела через одну из двух деревянных дверей, расположенных позади стола на помосте, в комнату с побеленными стенами и ярко-красными занавесками, где поставила на стол угощение. Тут, скромно выстроившись в ряд, ожидали гостей пять маленьких девочек; они все сделали быстрые реверансы и уставились на Кэтрин, ее сестру и брата. — Ты помнишь своих кузин? — спросил дядя Уильям, и Кэтрин кивнула, ведь она видела старших из них на каком-то давнишнем семейном торжестве, хотя мало что помнила. — Они составят вам всем компанию. Девочек представили, назвав по именам: Магдалена, Нан, Элизабет, Мэри и Марджери. Магдалена была на два года старше Кэтрин, а Марджери исполнилось два — ровесница Анны. Все девочки были миловидные блондинки с голубыми глазами. Они немного косо поглядывали на Уилла как единственного мальчика в комнате, но в целом, казалось, радовались появлению новых товарок по играм. Не прошло и часа, как дружба завязалась, и Кэтрин ощутила, что загорающаяся впереди новая веселая жизнь уже затмевает печальную старую.
Зима выдалась мягкая, и старшие дети много времени проводили на улице — играли в мяч, догонялки и прятки в саду или в обширном охотничьем парке, плавали в деревянных лодочках по реке Ли, от которой питался водой замковый ров, или собирали зеленые ветки для изготовления рождественских гирлянд. Им давали пони, учили управляться с ними и позволяли вместе со взрослыми ездить на охоту, в том числе соколиную. Кэтрин нравилось бывать на свежем морозном воздухе; ее завораживал парящий полет соколов, захватывал азарт погони и бодрило ощущение свободы, которое давала быстрая скачка в седле. Она бесстрашно погоняла своего послушного пони, побуждая его мчаться быстрее и совершать рискованные прыжки. Уилл тоже был счастлив. Если кузины поначалу не особенно хотели принимать мальчика в свою компанию, то очень скоро забыли об этом; Уилл стал для них своим. Каждый день с наступлением сумерек дети вваливались на кухню, раскрасневшиеся, со спутанными волосами и в облепленных грязью высоких ботинках, и повар наливал им горячего ягодного эля. Вскоре после того, как Кэтрин и ее родные обосновались в Рай-Хаусе, туда же приехала двенадцатилетняя кузина детей Парров Элизабет Чейни. Несмотря на большую разницу в возрасте, она радостно подключилась к их играм и пыталась по-матерински за ними приглядывать, хотя старания юной воспитательницы были по большей части отвергнуты. Только самые младшие терпели суету вокруг них. Кэтрин сочувствовала Анне, которой не нравилось, что ее наряжают как куклу и водят за ручку, но в то же время была благодарна Элизабет за то, что та отвлекала младшую сестренку. Разумеется, Кэтрин любила ее и проводила бы с ней больше времени, но Анна была еще слишком мала, чтобы участвовать во многих веселых забавах в Рай-Хаусе, и не могла разделить крепнущую дружбу старшей сестры с Магдаленой Парр. Эта девочка, дружелюбная и жизнерадостная, привлекла к себе Кэтрин, и вскоре они стали неразлучны. Так проходили насыщенные событиями зимние дни, но наконец в саду появились первые весенние бутоны.
Дни удлинялись, мать готовилась к родам. Она достала со дна дорожного сундука свивальники и маленькие одежки, которые раньше носили Кэтрин, Уилл и Анна, и отдала их в стирку. Послали за повитухой. Детей прогнали из комнат, когда у матери начались схватки. Элизабет велели отвести их в парк, где они счастливо носились целый день. А когда вернулись, то застали в холле дядю Уильяма с очень хмурым лицом. — С вашей матерью все в порядке, — сказал он, — но, к несчастью, ребенок родился мертвым. Кэтрин разразилась шумными всхлипами, горюя о сестренке, которую никогда не увидит. Тетя Мэри поспешила утешить ее, прижала к своей теплой груди; Анна мигом присоединилась к общему плачу, чтобы о ней не забыли. — Можно нам к маме? — спросил Уилл. — Пусть она сперва отдохнет, дитя, — ответила тетя Мэри. Наконец детей пустили в спальню, и мать протянула к ним руки. — Господь решил забрать к себе вашу сестру, — сказала она дрожащим голосом, когда они все залезли к ней на постель. — Но Он оставил мне вас троих, мои дорогие. А малышка ушла к своему отцу. Мы не должны слишком сильно горевать о них. Они на Небесах, с Господом, куда нам всем нужно стремиться. Мы будем вспоминать их обоих в своих молитвах.
Через две недели мать встала с постели; она часами сидела, затворившись в кабинете с дядей Уильямом и отцом Катбертом, который заглянул в Рай-Хаус перед возвращением в Линкольн, где служил каноником в местном соборе. — Мы составляем план вашего обучения, — сказала мать Кэтрин однажды вечером, когда они все вместе сидели в гостиной. — В какой-то момент мне придется вернуться на службу к королеве, и дядя Уильям согласился, чтобы вы остались здесь и обучались вместе со своими кузинами. Я буду приезжать как можно чаще, чтобы проверить, какие вы делаете успехи. Хотя Кэтрин и была мала, но понимала, что ее мать — женщина умная, с особой страстью занимавшаяся учением. Она умела говорить по-французски и даже на латыни. — Ваша мать придерживается весьма просвещенных взглядов, — сказал дядя Уильям. — Она решила, что вы, девочки, получите такое же образование, как Уилл. Мне этого не понять. Я простой вояка, так что организацию всего этого предоставлю вам, Мод. — Ваша мать следует примеру нашего родственника, сэра Томаса Мора, — обратился отец Катберт к Кэтрин. — Он давал своим дочерям образование на одном уровне с сыновьями. Ученость этих юных леди широко известна. Король и королева пользуются советами сэра Томаса о том, чему и как учить принцессу Марию. — Девочки обладают не меньшими способностями, чем мальчики, — заявила мать. — Они не так слабы и беспомощны, как уверяют нас некоторые. — Именно, они не слабы! — согласился отец Катберт, хотя у дяди Уильяма эти слова вызвали некоторые сомнения. — Я буду широко смотреть на вещи, — с усмешкой проговорил он. — Кто я такой, чтобы не доверять мудрости сэра Томаса Мора и короля? — Ой, да ладно вам! — махнула рукой тетя Мэри и игриво стукнула его. Кэтрин нравились уроки матери, которые та проводила с ней в течение последнего года, когда была отпущена со службы при дворе. Она была хорошим учителем и с удовольствием делилась своими знаниями с детьми. Слушая, что говорили взрослые о новом плане обучения, Кэтрин решила, что ее ждет захватывающе интересное приключение. Дядя Уильям задумчиво смотрел на мать: — Это только начало, Мод. Вы еще молоды, и какой-нибудь джентльмен при дворе может предложить вам брак. Если это случится… — Нет! — отрезала мать, и ее бледные щеки вспыхнули. — Больше я замуж выходить не намерена. Я не могу подвергать опасности наследство Уилла, за которое отвечаю. Нет, Уильям, я собираюсь посвятить свою жизнь детям. Я прослежу, чтобы они получили хорошее образование и нашли себе достойных супругов. Кроме того, у меня есть обязанности перед королевой. — Ну, если передумаете, знайте, что дети всегда будут здесь как дома. — Дядя Уильям улыбнулся. Он сказал матери, что она может использовать для учебных занятий маленькую гостиную позади помоста. Там поставили столы и стулья для всех детей, кроме самых младших, которые должны были ждать, пока им исполнится четыре года, прежде чем приступить к урокам.
Месяцы проходили безмятежно. Они провели в Рай-Хаусе год, полтора года… Каждый день начинался с молитвы. Мать была женщина набожная и хотела внушить своим детям и подопечным глубокую любовь к Господу и послушание Его слову. Она нашла прекрасного духовного наставника в лице домашнего священника дяди Уильяма, доктора Кларка, который преподавал своим ученикам нечто под названием Новое Учение. — Вы знаете, что в Библии содержатся Писания, а это Слово Божье? — спросил он их, и все кивнули. — Сотни лет Писания всегда были на латинском языке, и священники объясняли их нам. Теперь ученые мужи стараются лучше понять латинский и греческий языки, чтобы изучать Библию самостоятельно. Однажды, если Господу будет угодно, мы все сможем читать ее на английском, и именно по этой причине больше, чем по какой бы то ни было еще, вы, дети, должны быть усердны в учебе. Кэтрин нравились истории из Библии, которые рассказывала им мать. Как здорово будет читать их самой! Она старательно занималась латинским языком и так хорошо успевала, что доктор Кларк вдобавок даже немного поучил ее греческому. — У вас способности к языкам, дитя, — сказал он ей, сияя улыбкой. Мать занималась с ней французским, который Кэтрин схватывала на лету, как и Анна, которая, когда подросла, стала приходить на уроки вместе со старшими детьми. Все учились с удовольствием: восемь белокурых и рыжих головок склонялись над книгами в комнате, куда сквозь окна с ажурными решетками лился солнечный свет. Утром они занимались, а после обеда свободно бегали на улице, бесконечно играли в мяч, пятнашки или во что-нибудь понарошку, а зимой лепили снеговиков, устраивали перестрелки снежками, собирали остролист и плющ. Кэтрин была так счастлива в эти восхитительные дни детства, что, когда мать отправилась обратно ко двору, оставив дочку стоять в слезах под аркой гейтхауса и следить за скрывающейся вдали маленькой кавалькадой, то почти не скучала по ней. А вот оставшись весной 1520 года без Уилла, которого благодаря связям матери при дворе в шестилетнем возрасте взяли пажом в свиту его величества, отправлявшегося на встречу с королем Франции, Кэтрин почувствовала себя потерянной. Вернувшись домой в июле, Уилл без умолку рассказывал об увиденных во время поездки чудесах. — Это называли Полем золотой парчи, — говорил он, — потому что все люди оделись в свою лучшую одежду. Там было столько роскоши и блеска, и я никогда не видел такой огромной толпы. Король весь сверкал украшениями! Он очень могущественный человек! Когда я вырасту, Кейт, то буду придворным! — После этой поездки жизнь в Рай-Хаусе уже не так радовала Уилла. Дядя Уильям приезжал в свое поместье чаще, чем мать, и был для детей как любящий отец. Кэтрин знала, что именно благодаря дяде ей так хорошо живется. Когда ей исполнилось восемь, желая показать, как она его любит и выразить благодарность, Кэтрин решила подарить дяде свой Часослов, унаследованный от отца, и вывела на обороте обложки посвящение: «Дядя, взглянув на эти строчки, вспоминайте о той, что написала их в Вашей книге. Ваша любящая племянница Кэтрин Парр». У дяди Уильяма, когда он читал это, на глаза навернулись слезы.
 Глава 2
1523–1524 годы
Глава 2
1523–1524 годы
В апреле, когда мир был свеж и зелен, а среди деревьев на все голоса распевали птицы, Кэтрин посмотрела на себя в полированное серебряное зеркало и решила, что ей нравится то, что она видит. Ей уже почти исполнилось одиннадцать, и она постепенно превращалась в довольно грациозную юную леди, какой и хотела видеть ее мать. Черты лица у нее были приятные, светло-карие глаза — яркие и теплые. Если во внешности Кэтрин и имелся какой-то изъян, так это немного длинноватый и слегка вздернутый нос, как у брата. Она вытянулась сильнее, чем большинство девочек ее возраста, и была худощава, хотя маленькие груди уже начинали проступать под лифом.
Кэтрин наспех расчесала длинные рыжие волосы и торопливо спустилась вниз, чтобы присоединиться к остальным детям в классе. Сегодня утром на уроке итальянского языка им предстояло читать Цицерона и сонеты Петрарки. Цицерон ей нравился, и она соглашалась с ним, что комната без книг — все равно что тело без души. Младшие кузины считали латинянина скучным и говорили Кейт, что, если она будет все время сидеть, уткнувшись носом в книгу, то испортит зрение и ей будет трудно найти себе мужа, но Магдалена и Анна понимали ее. Ни они, ни сама Кэтрин не заботились о поисках мужей. Девочки и без того были счастливы. Как говорил мудрый Цицерон: «Если вы имеете сад и библиотеку, у вас есть все, что нужно». Кэтрин с любовью взглянула на книги, выстроившиеся в ряд наверху буфета. И верно, что может быть ценнее!
Но, прежде чем они доберутся до Петрарки и Цицерона, их ждал урок математики. Идею подкинул отец Катберт. Сам увлеченный этой наукой, добрый священник написал трактат по арифметике и во время своих частых наездов в Рай-Хаус любил проверять, как продвигаются у детей дела с освоением счета. Кэтрин хорошо справлялась с арифметикой и геометрией, ей очень нравилось решать математические задачи.
Однако в учебную комнату этим утром вошел не доктор Кларк, а мать, получившая отпуск от своих обязанностей при дворе, и тетя Мэри, а за ними — Элизабет Чейни, которая к восемнадцати годам приобрела тяжеловатые, породистые черты лица и обладала своеобразным скромным обаянием.
— У вашего доброго учителя разыгралась мигрень, — сообщила мать, когда девочки поднялись из реверансов, а Уильям — из поклона. — Вам придется сегодня мириться с нами, дети. Уилл, доктор Кларк сказал, что тебе нужно закончить эссе о Юлии Цезаре, так что займись этим.
— А юные леди отправятся со мной на винокурню и помогут приготовить про запас кое-какие лекарства, — объявила тетя Мэри.
Кэтрин вздохнула; она бы лучше посидела за книгами. Но мать всегда настаивала, что девочки должны быть обучены ведению домашнего хозяйства к моменту замужества. В определенные дни, когда Уилл занимался верховой ездой, отрабатывал приемы борьбы и приобретал прочие спортивные навыки, необходимые джентльмену, мать с тетей Мэри наставляли своих дочерей в том, как вести счета и из чего складывается семейный бюджет, как управляться со слугами, следить за приготовлением и подачей еды, знакомили с тайнами винокурни, которые включали в себя все: от варки варений до дистилляции ароматических веществ и приготовления лекарственных настоев. Кэтрин предпочла бы вместо этого скакать на лошади с Уиллом или даже практиковаться во дворе в фехтовании под руководством начальника стражи. Как же она завидовала брату и его мужской свободе!
— Ни к чему делать такое кислое лицо, Кэтрин, — сказала мать. — Домашние дела не менее важны для юных леди, чем учеба по книгам, и их нужно уметь выполнять. Какой смысл слоняться по дому с головой, полной высказываний Цицерона, если твой муж не может дождаться обеда! Или ты хочешь, чтобы я отправила тебя прясть пряжу?
Кэтрин заметила озорные искорки в глазах матери, прекрасно знавшей, что ее дочь терпеть не может это занятие. Вероятно, строгая наставница и сама с большей охотой занялась бы чтением. Но обязанности она всегда ставила превыше личных склонностей.
— Но сперва у нас есть для вас хорошие новости, — продолжила мать и взглянула на тетю Мэри.
— Элизабет выйдет замуж за сына лорда Вокса, — сообщила та девочкам.
Элизабет вспыхнула и слегка приосанилась. Лорд Вокс был ее опекуном, и юную пару обручили еще в детстве; это была прекрасная партия, так как со временем Элизабет станет баронессой. Четырнадцатилетний Томас Вокс с виду казался флегматичным, но успел развиться не по возрасту — он уже учился в Кембридже. Время от времени юноша вместе с отцом приезжал в Рай-Хаус, и на Кэтрин производили впечатление его образованность и умение писать стихи. Они с Элизабет подходили друг другу.
Девочки поспешили расцеловать кузину и поздравить ее, но тетя Мэри остановила их, подняв руку, и добавила:
— Свадеб будет две. Магдалена, отец нашел супруга и тебе тоже.
Все девочки ахнули, а Магдалена побледнела. Ей нравилось жить в Рай-Хаусе, и Кэтрин знала, что ее кузина считала брак делом отдаленного будущего.
— Ты потеряла дар речи, дитя? — спросила тетя Мэри.
— Я п-потрясена, — запинаясь, проговорила Магдалена.
— Не хочешь ли узнать, кто счастливый жених? — Мать улыбнулась ей.
— Это Ральф Лейн из Орлингбери в Нортгемптоншире, — сообщила тетя Мэри, не дожидаясь ответа Магдалены. — Ему четырнадцать, он всего на год старше тебя, и ему достанется в наследство прекрасный усадебный дом в двенадцать комнат.
Магдалена бросилась в слезы:
— Матушка, я не хочу ни за кого замуж, даже за богача! Не хочу уезжать из Рай-Хауса, покидать вас и отца.
Тетя Мэри положила руку ей на плечо, желая утешить:
— Это вполне обычное дело — чувствовать такое нежелание, дорогое дитя. Ты юна, и перспектива замужества, вероятно, вызывает немного странные ощущения. Но заботливый отец подобрал тебе хорошую пару, к тому же ты никуда не уедешь прямо сейчас. После свадьбы останешься здесь, пока тебе не исполнится четырнадцать лет. Мы считаем, ты еще слишком молода, чтобы исполнять связанные с браком обязанности, так что в Орлингбери ты отправишься следующей весной. Это даст тебе время свыкнуться с новым положением. И это не край земли, мы будем навещать друг друга.
— Значит, я останусь здесь еще на год? — Магдалена подняла заплаканное лицо.
— Да, мой цыпленочек, останешься. А за это время мы подготовим для тебя отличный гардероб, и ты станешь очаровательной леди.
Магдалена промокнула глаза платком, тихонько всхлипывая. Кэтрин стало жаль сестру и себя тоже, ведь она знала, что будет ужасно скучать по своей подруге, когда та уедет в Нортгемптоншир.
После обеда Магдалена ушла гулять по парку одна, сказав, что ей нужно подумать. Когда она вернулась, Кэтрин и Анна разучивали танцевальные шаги в холле, а Уилл подыгрывал им на лютне. Завидев Магдалену, они остановились, однако та широко улыбнулась и попросила их продолжать. Кэтрин обожала танцы, но в тот день не могла вложить в это занятие ни крупицы души. Играть в шахматы и музицировать она тоже была не в состоянии; ни одно из занятий, доставлявших ей удовольствие на досуге, не отвлекало ее от печальных мыслей. Обычно Кэтрин любила слушать рассказы матери о жизни при дворе, в этом восхитительном, сказочном месте, где она жаждала побывать, но в тот вечер, когда мать завела разговор с тетей Мэри и дядей Уильямом, Кэтрин не могла сосредоточиться. Ее охватило недоброе предчувствие, что в скором времени ей тоже могут подыскать жениха и Магдалена, вероятно, не единственная, кто вот-вот окажется оторванным от рая на земле, каким был Рай-Хаус.
На следующей неделе мать вернулась ко двору, а когда приехала на свадьбы, выглядела очень довольной. Собрав вокруг себя наследников, она обняла Кэтрин и сказала: — Мое дорогое дитя, у меня прекрасные новости! Я нашла тебе мужа, о лучшей партии для тебя и мечтать нельзя. Кэтрин вдруг затошнило. Этого она и боялась. Знала, что рано или поздно услышит роковые слова, но горячо молилась, чтобы новость о замужестве пришла как можно позже. Но нет, она не расплачется, как Магдалена, не перечеркнет материнских надежд и не омрачит ее счастья. — Это замечательная новость, — произнесла Кэтрин, удивившись, что говорит так твердо. — За кого я выйду замуж? — За сына лорда Скрупа из Болтона! — триумфально провозгласила мать. — Только подумайте! Он наследник баронства. Предложение сделал его дед, лорд Дакр, кузен вашего отца. Лорд Скруп — его зять. Генри Скрупу тринадцать, вполне подходящий для тебя возраст, и лорд Дакр считает, что ты для него — хорошая пара. Брак между вами укрепит связи с нашими знатными родственниками на севере. Я уже написала лорду Скрупу. Так как лорд Дакр поддерживает эту идею, он должен согласиться. Кэтрин немного успокоилась. Если ей повезет, лорд Скруп еще может и не дать согласия, несмотря на все восторги матери. Зачем ему женить своего сына и наследника на рыцарской дочери с очень скромным приданым? И ей всего одиннадцать, рановато для брака. Мать наверняка решит, что нужно подождать лет до четырнадцати, прежде чем отправлять ее в дом мужа. Ей, вероятно, еще года три предстоит провести в Рай-Хаусе. — Болтон очень далеко, — сказала Кэтрин. — Мне будет грустно уезжать от вас. — Но это великолепный замок, и, смею надеяться, Генри Скруп будет часто появляться при дворе, так что мы не разлучимся надолго. Я попрошу у королевы место для тебя, когда ты выйдешь замуж. «Это можно вынести, — утешила себя Кэтрин. — И я вынесу». Нужно радоваться, что мать нашла ей такого замечательного супруга. К тому же пока еще ничего не решено.
Май принес с собой цветение и свадьбы, которые состоялись одна за другой в домашней церкви Рай-Хауса; обе церемонии проводил отец Катберт. Элизабет была счастливой невестой, Магдалена — подавленной. Кэтрин, одетая в новое зеленое платье, внимательно следила за обрядом, понимая, что, может быть, скоро ей тоже придется давать брачные обеты, и подметила, что юные женихи выглядели немного ошарашенными, оказавшись у алтаря; вероятно, они предпочли бы в этот момент сидеть за книгами или учиться обращению с мечом. Томас Вокс особенно нервничал. Без сомнения, его тревожила необходимость проявить себя на брачном ложе. Кэтрин неприятно было думать об этом. Она довольно смутно, но все-таки представляла себе, что должно произойти между супругами после свадьбы, и восторга это у нее не вызывало. На самом деле это казалось ей скорее грубым. Потом начался свадебный пир. Дядя Уильям был радушным хозяином и гордился прекрасным столом, который подготовила его жена. На нем стояли здоровенные окорока, пироги, блюда с горохом и недавно вошедшей в обиход спаржей, а также огромный десерт в виде головы греческого бога Гименея, покровителя брачных торжеств. Затем были устроены танцы. Домашние менестрели завели мелодию, и все поднялись из-за столов. Кэтрин схватила за руку Уилла, и они закружились по полу в веселом бранле. Брат с сестрой плясали весь вечер, пока не настало время поднять тосты за новобрачных; кубки наполнили гипокрасом — пряным вином. Элизабет и Томаса увели, и после положенной паузы все гости ввалились в спальню, где красные от смущения молодожены лежали рядом друг с другом в постели, натянув одеяло до подбородка. — Исполни свой долг, мальчик! — проревел лорд Вокс, изрядно набравшийся, и его сын весь сжался. Отец Катберт торопливо благословил супружеское ложе, после чего выгнал всех из спальни. — Оставим их в покое, — увещевал он гостей; кто-то сунул ему в руку полный кубок вина. — Думаю, пора спать, — сказала мать. Кэтрин неохотно ушла; ей жаль было покидать пир, хотя танцы закончились, и гости в основном бражничали. Мать не хотела, чтобы дочь слушала сальные шуточки и пошлые намеки, но не уберегла от этого свое невинное дитя. Когда Кэтрин выходила из зала, щеки у нее пылали. Наверху лестницы она увидела Магдалену: в ночной сорочке и со свечой в руке кузина походила на привидение. — Слава Богу, еще не моя очередь! — прошептала она. — Бедняжке Элизабет приходится терпеть такое, а тут еще эти грязные шутки. По крайней мере, мы с Томасом будем избавлены от такого, когда ляжем в постель. Но до этого пока далеко, хвала Господу! — Да, мы еще целый год проведем вместе, — сказала Кэтрин, и к ее горлу подступил ком. Она понимала: может статься, Магдалена покинет этот дом не первой.
Через неделю после свадеб мать неожиданно появилась в саду, лицо ее было суровым и гневным. — Зайди в дом, Кэтрин! Девочка перестала обрывать головки безжизненных цветов и побежала за ней, удивляясь, чем вызвала недовольство родительницы? Та закрыла за ними дверь учебной комнаты: — Сядь, дитя. Я получила известие от лорда Скрупа, новости неважные. Сердце Кэтрин воспарило. То, что было плохой новостью для матери, могло оказаться очень хорошей для нее. Мод расхаживала по комнате, не в силах справиться с волнением. — Ты недостаточно богата и знатна для его сына, вот в чем суть. Он заставил меня ждать ответа целую вечность, потом сообщил, что с удовольствием заключит помолвку, если я выплачу ему весьма значительное приданое, четверть нужно отдать прямо сейчас, и без всяких гарантий. — Но это возмутительно! — заявила Кэтрин; облегчение мешалось в ней с негодованием и чувством уязвленной гордости. — Это еще не все! — в гневе воскликнула мать. — Он предложилсмехотворную вдовью долю наследства, а потом имел неприкрытую наглость сказать, что в случае твоей смерти до окончательного заключения брака не вернет твое приданое и не будет вступать ни в какие договоры, пока не состоится бракосочетание, что оставляет нас в весьма ненадежном и уязвимом положении. — Если сын хоть чем-то похож на отца, я бы вовсе не хотела выходить за него замуж, — пробурчала Кэтрин. — Лорд Дакр заставил меня поверить, что лорд Скруп с радостью примет этот брак! — кипятилась мать. — Может, он просто пытался быть полезным, — отозвалась Кэтрин. — Как вы поступите? — Придется смирить свою гордость и подумать, как исправить ситуацию. Кэтрин хотела — или ожидала — услышать другой ответ. Было ясно, что лорд Скруп испытывал терпение матери и не хотел иметь Кэтрин своей невесткой. Какой смысл хлестать дохлую лошадь? Однако девочка смолчала. Она знала, что мать лелеет амбициозные мечты о будущем своих детей, и самая дорогая ее сердцу — увидеть их в достойных браках. — Мне придется еще раз хорошенько обдумать это дело, — сказала мать, опускаясь на стул, и похлопала Кэтрин по руке. — А ты пока постарайся забыть обо всем этом. Возвращайся к Цицерону, языкам и прочим любимым занятиям. Ну, теперь беги. Но помни: никому ни слова! Я не хочу, чтобы пошли разговоры, будто мы, Парры, недостаточно хороши для таких, как Скрупы.
В июле мать получила еще одно письмо от лорда Скрупа. Она показала его Кэтрин, когда они сидели на каменной скамье в тени садовой ограды. Легкий ветерок раскачивал головки цветов на клумбах. — Он требует ответа, — промолвила Кэтрин. — Вы разве не написали ему, миледи? — Написала. Сказала, что мне нужно время обдумать его условия. — Видимо, он считает, мы должны с радостью согласиться на них. — Взгляни сюда. — Мать ткнула в письмо указательным пальцем. — Он настаивает, чтобы я выплатила первую часть приданого в августе. — Она горько рассмеялась. — Как будто я могу достать столько денег за такой короткий срок. И даже если бы могла, лорд Скруп позаботился о том, чтобы не иметь никаких обязательств. Он может выйти из соглашения по своему усмотрению и разорить меня. Кэтрин, боюсь, он не намерен довести этот брак до заключения. Кэтрин согласно кивнула, желая, чтобы они вообще похоронили эту идею. Мать встала: — Когда вернусь ко двору, сделаю еще одну попытку. Я снова поговорю с лордом Дакром. Уверена, он имеет влияние на лорда Скрупа. Кэтрин хотелось умолять мать, чтобы та не утруждала себя дальнейшими заботами о деле, которое явно было обречено на провал, но ничего не сказала. Если переговоры о помолвке продвинутся вперед, пусть мать не думает, что ее Кэтрин вовсе не хотела этого брака. Она исполнит свой долг, как подобает любящей дочери, и покажет всему миру, что счастлива принять будущее, с такой заботой обеспеченное ей.
Вскоре по приезде ко двору мать известила Кэтрин, что лорд Дакр отправился на север, но вернется в Лондон через несколько недель. В начале осени девочка получила еще одно письмо. Лорд Дакр планировал задержаться в северных графствах до начала нового года, но посоветовал лорду Скрупу проявить терпение и не торопить мать с ответом. Кэтрин читала это, сидя за партой в пустой классной комнате. Уроки закончились, и остальные дети сразу убежали. Письмо убедило ее, что надежд на воплощение в жизнь материнских планов мало. Только глупец мог бы подумать, что при таких обстоятельствах она может обрести счастье в браке; лорд Скруп явно вынуждал мать отказаться от помолвки. Девочка вздохнула, чувствуя себя виноватой: дело никак не шло на лад, а ее это радовало. Бродя по дому, Кэтрин торжествовала в душе: скоро она освободится от необходимости покинуть любимый Рай-Хаус, причем надолго, если все сложится по ее желанию. В августе ей исполнилось одиннадцать, мысли о юношах и о любви пока не тревожили ее. Она начинала быстро понимать, что браки совершаются по расчету и при этом стремления юных сердец мало принимаются во внимание.
Мать приехала домой на Рождество, когда в печах шипело мясо, над огнем в кухне пыхтели кастрюли с пудингами и дом был наполнен дивными ароматами. Кэтрин со всей веселой компанией только-только вернулась из леса; дети притащили полные охапки зеленых ветвей, а мужчины — йольское полено, которое будет гореть в очаге в холле все праздничные дни. Мод в дорожной накидке стояла у камина и протягивала к огню руки. Она радостно приветствовала детей, заметив, как вырос Уильям и как похорошела восьмилетняя Анна. — А ты, Кэтрин, — сказала мать, обнимая старшую дочь, — ты мила, как всегда. Вечером после ужина все сидели в гостиной и плели венки из остролиста и плюща. Мать обратилась к Кэтрин: — Я получила известие от лорда Дакра. Он разделяет мои тревоги и потолковал с лордом Скрупом — напомнил ему, что я из хорошего рода Гринов, сказал даже, что его требования просто возмутительны и у меня нет никакой возможности согласиться на них. Он предложил, чтобы Генри жил здесь за мой счет и занимался с пользой для себя в нашей школе. — Она вздохнула. Кэтрин догадывалась, что последует дальше. — Однако лорд Скруп непреклонен. Он не согласится ни на какие другие условия и заявил, что у меня было достаточно времени для поисков денег на приданое. Честно говоря, Кэтрин, думаю, я не буду продолжать это дело. Дядя Уильям согласно кивнул: — Незачем отдавать нашу Кэтрин в такую семью. Я бы посоветовал отказаться от этой партии. — Присоединяюсь, — подхватила тетя Мэри. — И я, — встрял Уилл. — Как глава семьи, я не хочу, чтобы моя сестра выходила замуж за Скрупа. Не сомневаюсь, есть рыба и получше. Мать снисходительно улыбнулась ему: — Я уверена, что ты прав, сын мой. В новом году я напишу лорду Скрупу. А теперь мы будем весело встречать Рождество.
Мод не расстроилась, получив отрывистое письмо от лорда Дакра. — Он обижен, что я отвергла его внука. Не стоило мне пытаться перечить тем, кто выше меня! — Тон ее был резок. Кэтрин обиды лорда Дакра ничуть не встревожили. Главное, ей не придется покидать Рай-Хаус. Через несколько недель пришло еще одно письмо с печатью лорда Дакра. Мать прочла его, стоя в холле, а Кэтрин с нетерпением ждала, желая узнать, что в нем. Она молила Бога, чтобы лорд Скруп не изменил своего решения и не предложил более выгодные условия помолвки. В последнее время мать говорила о лорде Дакре и лорде Скрупе исключительно в едком тоне, но теперь смягчилась. — Кажется, твой брак в любом случае не состоялся бы, — сказал она. — На прошлой неделе бедный Генри Скруп покинул этот мир. Весенняя лихорадка унесла мальчика, да упокоит Господь его душу. Кэтрин сильно опечалилась, услышав о судьбе бывшего жениха, которого никогда не видела, — юноши, не дожившего до пятнадцатилетия. Вскоре после этого она испытала глубокую и настоящую боль утраты: Магдалена уехала в Орлингбери. Кэтрин помогала ей паковать вещи и готовиться к отъезду. Это стало для нее серьезным испытанием, тем более что кузина не хотела уезжать и почти непрерывно лила слезы. — Я не могу оставить вас, матушка, — рыдая, говорила она и цеплялась за тетю Мэри. — Прекрати эти глупости, — корила ее та, хотя у самой глаза тоже были на мокром месте. — Нельзя ехать к мужу с таким лицом. Что он подумает, бедолага? — Она обняла Магдалену. — Для юной девушки такие чувства естественны. Я сама так же переживала, когда мне пришлось покинуть дом, чтобы выйти за твоего отца. Но с ним я обрела счастье, какого не знала за всю жизнь до того. Если Господу будет угодно, ты познаешь такую же радость. Тебе нужно надеяться на прекрасное будущее, дитя, и любить своего супруга. Это твой долг, но я надеюсь, замужество принесет тебе и удовольствие тоже. — Она отпустила Магдалену и приподняла ее голову за подбородок. — Ты Парр, дочь моя, и мы будем тобой гордиться, я в этом уверена. Магдалена осушила слезы и почти перестала роптать. Но, когда она крепко обнимала Кэтрин на прощание, самообладание покинуло ее. — Да хранит тебя Господь, дорогая кузина! — всхлипывая, проговорила девушка. — Молюсь, чтобы мы вскоре с тобой увиделись. После отъезда Магдалены Рай-Хаус как будто опустел, несмотря на присутствие в нем четырех шумных и болтливых кузин, Анны и Уилла.
 Глава 3
1525–1528 годы
Глава 3
1525–1528 годы
Снова наступило лето, а Кэтрин продолжала скучать по Магдалене, хотя уже привыкла к ее отсутствию. Они часто обменивались письмами, и, судя по ним, Магдалена постепенно осваивалась с новой жизнью, что и радовало, и расстраивало Кэтрин, ведь это означало, что кузина теперь не нуждалась в ней так, как раньше. В письмах Магдалены проявлялась ее новая опытность, и все чаще встречались упоминания «дорогого Ральфа». Самые последние послания были полны восторгов по поводу ее беременности. И Кэтрин поняла, что больше скучает тот, кого покинули.
В конце июля мать приехала домой и описала восхитительную церемонию возведения шестилетнего Генри Фицроя его отцом-королем в ранг герцога Ричмонда и Сомерсета.
— Королева была очень расстроена, — повествовала мать, пока они сидели в саду и пили компот. — Бедняжка, она обычно скрывает свои чувства, а король не выставляет любовниц напоказ, но так возвысить своего незаконного сына на глазах у всего двора, даровать ему королевские герцогства, — это было унизительно для нее, особенно притом, что сама она не родила ему сына. Он как будто говорил ей: «Смотрите, мадам, у меня есть сыновья».
— Сколько детей она ему родила? — спросила Анна.
— Восемь, по-моему, и только одна девочка выжила. Это страшная трагедия.
— Вот почему король и королева души не чают в принцессе Марии, — заметила тетя Мэри.
— Да, но она девочка, а женщина не может править, — заявил дядя Уильям. — Королю нужен сын, который будет его наследником.
— А королева уже вышла из детородного возраста, — тихо произнесла мать.
Кэтрин понимала безвыходность ситуации.
— И как поступит король?
Мод отодвинула стул в тень дерева.
— При дворе говорят, он готовит Генри Фицроя в короли.
— Но незаконный сын не может быть наследником, — ввернула тетя Мэри.
— Актом парламента любой человек по выбору короля может быть назначен его преемником, — парировал дядя Уильям. — А вот сделать так, чтобы этого мальчика приняли люди, — это другое дело.
— Думаю, он хочет постепенно приучить нас к этой мысли, — проговорила мать. — По словам королевы, его величество назначил к нему большую свиту, почти второй двор. Жаль, что во главе его не стоит ее собственный сын.
На следующий день дядя Уильям был срочно вызван ко двору и ускакал на юг. На той же неделе тетя Мэри торопливо вошла в учебную комнату, где мать занималась с младшими детьми французским, а доктор Кларк — со старшими риторикой.
— Прекрасная новость! — воскликнула она. — Уильяма назначили камергером двора герцога Ричмонда! Герцог станет президентом Совета Севера и поселится в замке Шериф-Хаттон в Йоркшире. Уильям будет возглавлять его двор. Это огромная честь, и кто знает, какие выгоды это принесет! — Тетушка была вне себя от восторга.
Кэтрин понимала: она надеется, что юный Ричмонд в один прекрасный день станет королем — благодарным королем, который наградит тех, кто хорошо служил ему, и невольно сама затрепетала от радости за дядю и свою семью. Это была честь, о какой большинство людей могут только мечтать.
Мать встала и обняла тетю Мэри.
— Он давно заслужил это! — ликуя, провозгласила она.
Юные Парры вскочили с мест и запрыгали от радости.
— Но есть и еще приятные новости, — продолжила тетя Мэри, показывая матери письмо. — Уильям получил место для Уилла при дворе герцога в качестве одного из мальчиков, назначенных к нему в компаньоны.
— Хвала Господу! — воскликнула мать, раскинула руки и снова обняла тетю Мэри, причем с такой страстью, какой Кэтрин никогда в ней не замечала. — Это превосходная новость! Дорогой Уильям, мне никогда не отблагодарить его. Такая прекрасная возможность для Уилла. У него появится много шансов отличиться. Его будущее теперь обеспечено надежнее, чем я могла рассчитывать. — По щекам матери заструились слезы. — Ты слышишь это, мой мальчик?
Она отпустила Мэри и обняла Уилла, который принял ее слова с робкой улыбкой, постепенно осознавая, какое блестящее будущее сулит ему эта новость. Уиллу исполнилось двенадцать, он сильно вытянулся, но оставался пока розовощеким мальчуганом, у которого на уме одни безобидные шалости.
— При дворе герцога ты получишь лучшее образование, какое только доступно за деньги! — восторгалась мать. — Твоими товарищами будут самые высокородные юноши королевства. Не стоит и говорить о том, как важно для тебя будет завести с ними дружбу, особенно с герцогом. Король безмерно любит своего сына. Стань другом Ричмонду, и мир откроется тебе.
Кэтрин не могла думать о том, что теперь и Уилл покинет Рай-Хаус. Она радовалась за брата, но не могла удержаться от легкой зависти. Мгновение — и перед ним открылось блестящее будущее. Кэтрин всегда знала, что амбиции матери в основном концентрировались вокруг сына, наследника, и это вполне естественно. Они с Анной, девочки, значили гораздо меньше в мире. Но ей было понятно: раз будущее Уилла обеспечено, им с сестрой тоже удастся как-нибудь устроиться. Чем в более высоких кругах завязываются связи, тем лучше. Однако она задумалась: как же мать согласует упования на то, что Ричмонд когда-нибудь станет королем, с верностью королеве? Конечно, ей придется лицемерить, ведь невозможно долго скрывать тот факт, что ее сын и деверь занимают видное положение при дворе юного герцога. Хотя мать не была причастна к этим назначениям, и королеве наверняка это известно.
Через несколько дней появились новые поводы для восторгов. Пришло известие, что Магдалена родила здоровую девочку Летицию. А потом они узнали, что герцог Ричмонд должен остановиться в Рай-Хаусе по пути на север. Дядя Уильям написал, что Уилл присоединится к герцогской свите с этого момента. Тут все пришли в неописуемую радость. Никогда еще в поместье не готовились с такой тщательностью к приему гостя. До приезда герцога оставалась всего неделя, работа на кухнях кипела беспрерывно, и мать с тетей Мэри сбивались с ног, стремясь продумать все до мелочей и успеть к сроку. Герцог вез с собой большую свиту. — Слава Богу, сейчас лето, и мы можем разместить людей на ночлег в амбаре, — со вздохом вытирая лоб, проговорила тетя Мэри. — Ну вот, теперь нужно проветрить постельное белье для герцога. И я должна послать кого-то к мяснику, чтобы поторопить его с доставкой продуктов, а то он запаздывает. Вы нашли самые лучшие салфетки, Мод? — Нашла, — отозвалась мать. — И золотую солонку начистила сама. А куда я задевала план рассадки гостей? Всем домашним сшили новую одежду. Кэтрин оказалась счастливой обладательницей алого дамастового платья: ткани такого прекрасного цвета она в жизни не видела. Анна получила розовое, а костюм Уилла был черный, и мальчик от этого выглядел старше своих лет. — Ты не должен затмевать герцога, — сказала мать, — но тебе нужно показать всему свету, что Парры — подходящая компания для принца. — Так она теперь величала Ричмонда. В сознании матери он им и был. К моменту прибытия сына короля, ехавшего в красивых конных носилках, рядом с которыми во главе свиты верхом скакал дядя Уильям, все домашние и слуги собрались у крыльца приветствовать гостя. Когда он спустился на землю, они поклонились и сделали реверансы. Поднявшись, Кэтрин увидела перед собой очень серьезного маленького мальчика с заостренными чертами лица, большим носом и белой кожей. Однако юный герцог недолго сохранял торжественный вид. Когда он здоровался с родными Кэтрин, сама она, снова присев в реверансе, удостоилась его улыбки. Наблюдая за мальчиком, которого усадили на пиру во главе стола, девочка поняла, что это не обычный ребенок, и не потому, что в его жилах текла королевская кровь. Маленький герцог был непослушен, порывист, и наставнику все время приходилось сдерживать его, шепча ему что-то на ухо. Манеры Ричмонда оставляли желать много лучшего, говорил он чересчур громко и много. Он даже чесался, сидя за столом. У матери такое поведение никогда не сошло бы детям безнаказанно. Но вот она, мать, снисходительно улыбается этому ребенку, без сомнения ослепленная его королевским блеском, и с любовью смотрит на Уилла, который, похоже, уже нашел общий язык со своим новым господином, как Мод и надеялась. После пира их рыжие головки мелькали рядом: Уилл показал Ричмонду свою новую лютню, а тот пытался бряцать на ней. Но быстро утратил интерес, а потому Уилл принес свой набор деревянных солдатиков, который гораздо больше понравился гостю. День прошел удачно. Юного герцога привечали на славу, и он пребывал в отличном настроении. Наставнику с трудом удалось убедить его лечь спать. Утром многочисленная свита вновь собралась за гейтхаусом. — Благодарю вас за ваше гостеприимство, леди Парр, — сказал герцог и поклонился тете Мэри. — А мы благодарим вас, милорд, за то, что почтили наш дом своим присутствием, — ответила та. — Прежде чем ваша милость уедет, у меня для вас кое-что есть. — Она кивнула груму, и тот подвел к герцогу пони в алой с золотом попоне. — Это мне? — В мгновение ока новоявленный принц превратился в нетерпеливого мальчишку. — Конечно, — улыбнулась тетя Мэри. — Это подарок вам. Глаза Ричмонда загорелись от удовольствия. — Спасибо вам! Спасибо вам большое! — Он немного помолчал. — Я назову ее Бесс. Это, Кэтрин знала, было имя его матери. Бесси Блаунт приобрела печальную известность после того, как открылось, что она родила королю незаконного сына. — Я поеду на ней, — заявил Ричмонд. — Уберите носилки. — Ваша милость, нам довольно далеко ехать, — заметил дядя Уильям. — Вероятно, будет лучше все-таки воспользоваться носилками. — Я хочу ехать на Бесс! — крикнул мальчик. — А вы не должны мне мешать! Если бы кто-нибудь из детей дяди Уильяма заговорил с ним в таком тоне, ему бы влетело, но то был сын короля, и от его благорасположения многое зависело. — Хорошо, милорд, — натянутым голосом проговорил старый служака. — Пусть будет так, как вам угодно. Ричмонд оседлал лошадку. — Поедем, сэр Уильям, — повелительно сказал герцог, и они тронулись в путь. Кэтрин заметила, что мать смахнула со щеки слезу, когда Уилл, гордо сидевший в седле, помахал им на прощание.
В течение следующего года дядя Уильям и Уилл часто писали из Шериф-Хаттона, и письма эти свидетельствовали, что не все шло гладко при дворе герцога Ричмонда. — Ваш дядя жалуется, что кардинал Уолси стремится контролировать их из Лондона, — покачав головой, сказала мать, дочитав очередное послание. — Уильям почти лишен какого бы то ни было влияния и не имеет возможности патронировать. Кэтрин слышала о могущественном кардинале. Некоторые утверждали, что у него столько же власти, сколько у короля, которому он служит, а монарх слишком сильно полагается на него и фактически позволяет ему править Англией. — Что значит патронировать? — подала голос Анна. — Это когда человек, занимающий высокое положение, добивается милостей для других людей за ответное вознаграждение, — объяснила мать, присаживаясь рядом с дочерью на скамью в учебной комнате. — Дядя рассчитывал, что окажется именно в таком положении, и не зря, так как он нравится юному Ричмонду, но при его дворе всем заправляет кардинал, а не те, кто там служит. Однако Уильяма раздражает не только это. Он не одобряет, что учителя заставляют герцога проводить за уроками слишком много времени. — Мать прервалась и заправила выбившуюся прядь волос под чепец дочери. — Вы знаете своего дядю. Он считает, что мальчикам следует отдавать предпочтение спорту перед книгами и вообще детям нужно позволять бегать на воздухе как можно больше. А учителя держат герцога за партой. — Она вздохнула. — Мне кажется, с ним довольно трудно справляться. Один учитель уже ушел в отставку, а новый не может контролировать своего ученика. Вероятно, мальчику нужно давать больше свободы, чтобы он мог выпустить пар. Кэтрин подумала, что Ричмонду пошло бы на пользу, если бы его отправили в Рай-Хаус, где он мог бы обучаться под чутким руководством матери и многоопытного дяди Уильяма. А вот Уилл в замке Шериф-Хаттон процветал. Он ворчал, что приходится учить латынь и греческий, особенно когда уроки прерывались из-за шалостей герцога, но за ним не так строго следили, как за его юным господином; он чаще мог бывать на воздухе и ездить на соколиную охоту в компании своих высокородных приятелей. Ему исполнилось тринадцать, и письма он писал как настоящий юный джентльмен. — Скоро он войдет в возраст, — сказала однажды вечером мать, когда они носили корзины с яблоками из сада, — и тогда мое дело будет сделано. А до того я должна найти ему жену. В этом она превзошла саму себя. Узнав, что Генри Буршье, граф Эссекс имеет всего одну дочь Энн, которая в один прекрасный день унаследует его титул и земли, мать смело обратилась к нему и описала преимущества брака между Энн и Уиллом, подчеркнув, что ее сын в большом фаворе у герцога Ричмонда. Больше не было произнесено ни слова, как рассказывала мать позже, но две пары глаз встретились, и в них промелькнуло понимание: граф уловил ее намек. Все были уверены, что однажды Ричмонд станет королем. Помогло и то, что мать дружила с семьей графини Эссекс. Помогло — так как Эссексы были в долгах как в шелках — и ее обещание выделить Энн Буршье впечатляющую вдовью долю в наследстве. — Не смею и подумать, сколько мне пришлось занять, — сокрушалась Мод. Даже король по просьбе королевы одалживал ей деньги. Но, несмотря ни на что, она была очень довольна, так как приобрела в жены своему сыну знатную наследницу, а значит, когда придет время, — и титул. Уилл станет милордом графом Эссексом и, отлучаясь от двора, будет жить в роскошном Стенстед-Холле. У матери имелись все основания для радости. Юная пара сочеталась браком в феврале 1527-го, в капелле Стенстед-Холла, прекрасного краснокирпичного дворца рядом с небольшим рыночным городком Бишопс-Стродфорд. По такому случаю все Парры отправились туда из Рай-Хауса; дядя Уильям привез Уилла, получив отпуск у герцога Ричмонда. Кэтрин сшили еще одно новое платье, на этот раз из рыжевато-коричневого шелка, а мать облачилась в роскошный алый бархат. Маленькую невесту, робкую девочку девяти лет, разодели в атлас и меха, но, когда священник благословлял молодоженов, выглядела она так, будто вот-вот расплачется. Уилл, высокий и полный достоинства, исполнил свою роль безупречно, правда Кэтрин видела, что сердце ее брата спокойно. Его не интересовал ни этот брак, ни маленькая девочка. А вот мать так и распирало от гордости. Конечно, Энн еще слишком мала, и укладывать ее в постель с мужем рано, поэтому сваты заранее договорились, что она останется с матерью, пока не повзрослеет достаточно, чтобы стать настоящей женой. Уилл распрощался с ней без малейших сожалений, по крайней мере, никто за ним таковых не приметил. Если он и выказал неохоту к чему-нибудь, так это к возвращению в Шериф-Хаттон. — Я хочу выйти в мир, — сказал он по пути назад в Ходдесдон; ехать было восемнадцать миль. — Ты видишь мир, причем с наилучшей перспективы, — едко отозвалась мать. — Но я хочу стать военным, как дядя Уильям, — возразил Уилл. — И мои учителя говорят, что мне нужно идти в университет. — Если ты намерен податься в солдаты, то у тебя останется гораздо меньше времени на сочинение стихов и музыки, — заметил дядя Уильям. — Но мне это нравится. Неужели нельзя как-то совмещать эти занятия? — Мальчик мой, — сказал дядя Уильям, — ты можешь пойти в университет, а потом, когда станешь старше, послужить в армии. — Он отправится обратно в Шериф-Хаттон! — заявила мать тоном, не терпящим дальнейших возражений.
На следующий год Анне исполнилось тринадцать, и она покинула Рай-Хаус, потому что мать обеспечила ей место фрейлины у королевы. Вообще-то, место предназначалось для Кэтрин, но та пала жертвой кори, когда все уже было согласовано, и, если бы одна из дочерей Мод Парр не приехала ко двору, вместо нее тут же взяли бы кого-нибудь другого, поэтому мать повезла с собой Анну. Кэтрин всегда любила младшую сестру, а после отъезда Магдалены они еще больше сблизились. Анна была очень хорошенькая, с широко расставленными серьезными глазами, высокими скулами, пухлыми губами и золотисто-рыжими волосами; и к тому же неглупа. Она разделяла с Кэтрин любовь к учебе и питала особую склонность к старику Цицерону, а в недавнее время начала переписываться с известными учеными, которые, к немалому удовольствию девочки, отвечали на ее робкие письма. Как же Кэтрин будет скучать по ней! Прикованная к постели и отлученная от всех, чтобы не распространять заразу, она грустила, что не может обнять сестру на прощание. Они были вынуждены удовлетвориться воздушными поцелуями, которые послали друг другу с разных концов комнаты. Когда Анна ушла, Кэтрин уткнулась лицом в подушку и заплакала. И тем не менее она не завидовала сестре, занявшей место фрейлины при дворе. В те дни Кэтрин колебалась, хочет ли вообще попасть туда? Там ее ждали яркие впечатления и, вероятно, преференции, а может быть, для нее нашелся бы и состоятельный супруг, однако письма Анны открыли ей другую картину. Мало радости было в то время при дворе королевы, так как король пылко ухаживал за другой фрейлиной, мистресс Анной Болейн, которую мать, разумеется, осуждала. Кэтрин не хотелось встревать в эту распрю. К тому же ей по-прежнему нравилось жить в Рай-Хаусе. Брак подождет. Замуж она не торопилась.
Часть вторая «Грубая и гадкая»

 Глава 4
1529 год
Глава 4
1529 год
Мать была сильно озабочена. Прошло больше года с того момента, как король решил аннулировать свой брак с доброй королевой. К этому его подталкивала не только печально известная страсть к мистресс Анне Болейн, но и необходимость иметь сына и наследника, вот он и убедил себя, что его брачный союз несостоятелен.
Все королевство сотрясалось от этого скандала. Анну Болейн ненавидели и сурово порицали; симпатии людей были на стороне королевы Екатерины. Мать глубоко переживала за свою милую госпожу и, как могла, эмоционально поддерживала ее, когда находилась при дворе, но обстановка там так раскалилась, говорила она, что лучше оставаться дома.
— Я желаю только одного, чтобы папа высказался в ее пользу, — поделилась мать с Кэтрин во время прогулки по саду в первый теплый весенний день.
— Удивляюсь, почему он этого не делает, — отозвалась та, глядя на пробивавшиеся из-под земли зеленые побеги.
— Потому что боится императора, племянника королевы, который к тому же очень могуществен, и в то же время страшится обидеть короля. Однако его святейшеству не стоит колебаться из-за соображений политического свойства. Он должен рассудить это дело по существу. Я считаю, правда за королевой. Брак законен. Все ученые мужи и духовные лица из ее окружения подтверждают это.
— Но король думает иначе.
Мать покачала головой:
— Ее милость говорит, даже если ангел спустится с Небес, и тот не сумеет поколебать мнение короля. Он с ума сходит по Анне, а та ведет себя при дворе будто королева. Это неправильно. Как подумаю о нашей доброй госпоже, которая сидит взаперти в своих покоях и плачет, мне хочется надавать ему пощечин!
Кэтрин улыбнулась, представив, как мать хлещет по щекам короля. Но, вообще-то, история была невеселая.
Несомненно, дело на том не закончится. В Рай-Хаус регулярно доставляли письма с незнакомыми печатями, и мать чаще обычного писала дяде Уильяму, который по-прежнему находился при герцоге Ричмонде в замке Шериф-Хаттон.
В конце марта мать позвала Кэтрин в свою спальню и попросила сесть на скамью в изножье ее постели. Сама поместилась в кресле с высокой спинкой у огня и взглянула на дочь:
— Кэтрин, тебе шестнадцать, и ты вполне созрела для брака. Тебе будет приятно узнать, что я нашла для тебя мужа. Это прекрасная партия, которая со временем может сделать тебя баронессой. Ты выйдешь за Эдварда, наследника сэра Томаса Бурга из Гейнсборо.
Кэтрин слыхом не слыхивала ни о Гейнсборо, ни о Бургах. Их не упоминали в числе родственников, с которыми были связаны Парры. Но она знала, в чем состоит долг дочери, хотя мысли ее омрачились и ум переполнялся вопросами.
— Это очень хорошая новость, миледи, — выдавила из себя Кэтрин. — Я благодарна вам за заботу обо мне. Каков он, этот Эдвард Бург?
— По общему мнению, многообещающий молодой человек, — лучась улыбкой, ответила мать. — Он на четыре года старше тебя. Его отец рассчитывает получить баронство в Боро. Старый лорд, умерший в прошлом году, пользовался этим титулом, хотя не имел на него права, так как баронство, полученное его предшественниками, давным-давно упразднено. Но, думаю, он был немного не в себе.
Кэтрин едва слушала ее.
— Где это Гейнсборо? — поинтересовалась она.
— В Линкольншире.
— Это далеко отсюда? — Ей нужно убедиться, что оттуда можно будет ездить в гости.
Мать замялась.
— Больше ста тридцати миль на северо-восток или что-то вроде этого, по словам моего вестника.
Это, по меньшей мере, четыре дня пути. Сердце Кэтрин упало. Ей стало тошно от мысли, что она покинет мать, Рай-Хаус и отправится в такую даль.
— Надеюсь, сэр Томас желает этого брака? — Кэтрин не забыла мерзкого лорда Скрупа.
— Конечно, — заверила ее мать. — Он принимал деятельное участие в организации твоей помолвки, и я в долгу перед ним за это. — Она протянула руку и взяла со стола пяльцы. — Тебе ни к чему беспокоиться, дитя. Бурги — старая и уважаемая семья, они много лет честно служили Короне. Сэр Томас тебе понравится, я уверена. Его первой женой была Тирвитт, то есть отдаленная родня нам, но она умерла семь лет назад, упокой Господь ее душу. — Мать перекрестилась. — Она выносила дюжину детей, и я думаю, от тебя будут ожидать, что ты станешь им доброй сестрой.
Это вызвало у Кэтрин сомнения. Двенадцать детей! Да в этом доме, наверное, покоя нет.
Мать, видимо, заметила смятение на лице дочери.
— Не волнуйся, на тебя не ляжет ответственность за них, потому что сэр Томас женился вторично, и, как я слышала, леди Элис — прекрасная мачеха. А сам он часто бывает дома. Он сказал мне, что служил одним из телохранителей короля и был произведен в рыцари на поле при Флоддене в тысяча пятьсот тринадцатом, когда англичане разбили шотландцев, но у него нет желания жить при дворе, он предпочитает быть господином в своих владениях. Ему пришлось много потрудиться, чтобы восстановить семейное благосостояние, после того как его отец привел дела в упадок. — Мать помолчала. — Надеюсь, Кэтрин, ты рада перспективе этого брака. Я бы не стала принуждать тебя к нему.
Не от мысли о замужестве в горле Кэтрин встал ком, а от сознания неизбежности разлуки с матерью, которая теперь пугала ее больше, чем расставание с Рай-Хаусом. Но Мод хотела этого, считала, что супружество для дочери важнее жизни дома. А она всегда желала своим детям только самого лучшего.
— Я счастлива, — наконец проговорила Кэтрин. — Благодарю вас, миледи. Вы оказали мне честь.
Ей предстояло отправиться в Гейнсборо, как только она будет готова, а потому Кэтрин с головой погрузилась в суматоху сборов. Нужно было сшить платья, капоры, залатать обувь. Так как Кэтрин стала слишком высокой для своего пони, мать купила ей верховую лошадь и красные попоны для нее. Однако носилки тоже планировалось взять с собой, ведь не могла же она провести всю поездку в седле, да и мать хотела путешествовать с комфортом. Они тронулись в путь в апреле. Деревья по пути на север встречали их весенним цветом. Первую ночь путницы провели на постоялом дворе в Мелборне, в Кембриджшире. Именно там за обедом ценой в шиллинг, который был подан им в пустой хозяйской гостиной, мать, положив на стол нож, откашлялась и сказала: — Дочь моя, я не исполню своего материнского долга, если не подготовлю тебя к брачному ложу. Кэтрин покраснела. — Думаю, я знаю, чего мне ждать, — пролепетала она, содрогаясь от мысли, что ее благочестивая матушка сейчас заведет речь о таких вещах. — Я видела, как жеребятся кобылы, и знаю, что к ним подводили жеребца. Думаю, примерно так же происходит и у людей. Она не упомянула о том, что Уилл потчевал всех девочек рассказами о шалостях, которые позволяли себе в доме слуги. От него Кэтрин многое узнала. — Да, но люди выше животных, — бодро отозвалась мать. — У нас есть душа и совесть. Брак — это таинство, и к нему нужно относиться почтительно. Долг жены — во всем подчиняться мужу. — О, я буду, буду, — пробормотала Кэтрин, желая как можно скорее перейти к разговору о чем-нибудь менее постыдном. — Сперва может быть немного больно, — не унималась мать, — но это не продлится долго. А потом, я надеюсь, вы обретете наслаждение друг в друге, как заповедал Христос. Щеки Кэтрин пылали. Она не смела задаться вопросом, обретали ли ее родители такое наслаждение. Невозможно было представить, как ее набожная мать, по выражению Уилла, занимается постельным спортом. — Хороший пирог, — быстро проговорила Кэтрин. — В нем очень много мяса. — Да, мне порекомендовали этот постоялый двор, — отозвалась мать. — Твой дядя предлагал несколько мест для ночлега и не ошибся относительно этого. Тут к тому же чисто. Остальные гостиницы не уступали первой, так что поездку мать и дочь провели в комфорте. Они остановились в Питерборо и посетили святилище в большом аббатстве, где хранилась рука святого Освальда. Он был покровителем воинов, поэтому Кэтрин встала на колени и попросила его даровать ей смелость для встречи с уготованной Всевышним судьбой. Каким образом могли помочь в этом мощи давным-давно умершего короля, оставалось для нее загадкой, опровергающей логику, однако Кэтрин мысленно упрекнула себя за то, что осмелилась усомниться в святости угодников Божьих. Через три дня на подъезде к Линкольну путешественницы залюбовались прекрасным собором, который стоял на холме и величественно возвышался над городом. Они поднялись к нему по круто идущей вверх улочке и сделали приношения в святилище святого Хью. Потом прошлись по лавкам в Бейлгейте, где были разложены разные привлекательные товары, и поужинали на постоялом дворе «Белое сердце», там и остались ночевать. Завтра они прибудут в Гейнсборо, до которого отсюда меньше восемнадцати миль. Каким-то окажется этот Эдвард Бург? Легко ли ей будет полюбить его? И полюбит ли он ее? Кэтрин ощущала нарастающий внутри трепет, пару раз ей даже пришлось бороться со слезами при мысли об ожидающей впереди неизвестности и жизни в этих незнакомых и глухих краях. Скоро она простится с матерью и останется одна; вот почему Кэтрин наслаждалась каждым моментом, который они проводили вместе.
На следующий день мать и дочь надели лучшие платья. Кэтрин выбрала зеленое — оно подчеркивало ее стройную фигуру и выгодно оттеняло цвет волос; ей хотелось выглядеть как можно лучше перед супругом. Сегодня она поедет верхом. У Кэтрин была прекрасная посадка наездницы: девушка расправляла плечи и держалась в седле очень элегантно. Всадницы проехали мимо обширных полей, болот и пологих холмов, которые местные жители называли Уолдс. Встречавшиеся им на пути люди были в основном робкие бедняки; они говорили на каком-то непонятном наречии и, казалось, не доверяли чужакам. Как сильно отличалась эта местность от более густонаселенных южных областей Англии, где все выглядели дружелюбнее и жили побогаче! Гейнсборо окружал лес. К внушительному главному дому, выстроенному из красного кирпича и дерева, примыкали сад и парк. Нарядный вид особняка и ухоженный сад свидетельствовали о хозяйском достатке и любви к этому месту. Как только мать и дочь проехали надо рвом и оказались под аркой гейтхауса, грум соскочил с коня и бросился вперед, крича во весь голос, что гости прибыли. Путницы спешились у массивной входной двери и были препровождены в просторный холл, где их с поклоном встретил высокий, крепко сложенный мужчина с пронзительными серыми глазами и ястребиным носом. Тут же находилось еще множество других людей — домашних и слуг, предположила Кэтрин, — но глаза всех были прикованы именно к этому человеку. — Миледи Парр, добро пожаловать! — произнес он чистым и уверенным голосом. — Сэр Томас, как я рада видеть вас и быть здесь, в Гейнсборо, — ответила мать. — Позвольте представить вам мою супругу, — продолжил хозяин, и вперед вышла светловолосая женщина. — Миледи Бург, — сказала мать, делая реверанс. — Миледи Парр, — шепотом ответила хозяйка дома. — А это Кэтрин, — признал будущую невестку сэр Томас, поворачиваясь и окидывая взглядом с ног до головы присевшую в реверансе девушку, потом поднял ее и поцеловал. — Мой сын — очень везучий молодой человек! Эдвард! К ним подошел юноша, и Кэтрин оказалась лицом к лицу со своим будущим супругом: ей улыбался миловидный паренек с открытым лицом, угловатыми скулами и острым носом. Она ответила ему улыбкой. Похоже, с ним будет легко сдружиться, и он не станет подавлять ее властностью. Без сомнения, этот юноша вырос в послушании своему представительному отцу. — Я очень рад видеть вас, мистресс Кэтрин, — с теплотой произнес он, хотя его голос прозвучал по-мальчишески звонко. — А я вас, сэр, — ответила Кэтрин, еще раз делая реверанс. Потом представили братьев и сестер Эдварда, всех одиннадцать — начиная с тех, что были возрастом почти как Кэтрин, и до самых младших. Все дети были прекрасно одеты, хорошо себя вели и имели безупречные манеры. Кэтрин удивилась, неужели они всегда такие чинные? — А это ваш новый дом, Кэтрин, — сказал сэр Томас, обводя широким жестом руки холл с высоким потолком на толстых балках, помостом и красивым эркерным окном. — Позвольте показать вам его. — Через дверь в эркере он провел их в башню и дальше по лестнице в большой покой с кроватью под балдахином и прекрасным видом из окон на простиравшийся вширь и вдаль окрестный пейзаж. — Мы держим эту комнату на случай, если к нам заедет королевская особа, — гордо заявил хозяин. — Король Генрих приезжал сюда в начале своего правления, — сэр Томас понизил голос, — а еще раньше — король Ричард, но мы о нем теперь не упоминаем[153]. Маленькая процессия спустилась по лестнице — Эдвард все время держался рядом с Кэтрин — и вслед за хозяином прошла через большой зал и галерею, увешанную семейными портретами. Позже мать заметила, что сэр Томас, должно быть, человек небедный, раз может позволить себе галерею, так как очень немногие люди располагали средствами, чтобы делать такие пристройки к большим домам. Потом они направились в трехэтажное западное крыло особняка, где находились жилые комнаты с каминами, прекрасными гобеленами и отдельной уборной в каждой. Войдя в одну из спален на первом этаже, Кэтрин ахнула, увидев кровать под пологом, убранную бархатом «в шашечку» и золотой парчой. — Мы сделали эту кровать для короля, о котором лучше не упоминать, — пояснил гостьям сэр Томас и обратился к Кэтрин: — Теперь она ваша с Томасом. Это ваши покои. — Я выбрал ее специально для нас, — сказал Эдвард и взял Кэтрин за руку. Она сразу почувствовала, что ей будет легко полюбить этого доброго и дружелюбного юношу. Оглядев комнату, Кэтрин приметила широкое окно с ажурной решеткой, свежую тростниковую подстилку на полу, стол, накрытый турецким ковром, и кирпичный очаг. Не ускользнули от ее глаз и милые мелочи, добавленные заботливыми хозяевами: цветы в медном горшке на подоконнике, серебряное зеркало на столе и небольшой шкаф, который, как она вскоре обнаружила, был заполнен стопками свежего постельного белья, переложенного душистыми травами. Позже, оказав помощь горничным с раскладыванием вещей, Кэтрин прошла в комнату матери. — Это прекрасный дом, и мне нравится Эдвард. Он был очень приветлив, и, кажется, я ему тоже нравлюсь. — И я так думаю. — Мать улыбнулась. — Это хорошая семья, а сэром Томасом я просто восхищаюсь. Ты будешь в надежных руках. Кэтрин согласилась. И все же что-то не давало ей покоя. Например, леди Бург… Она ведь ни разу не открыла рта, пока сэр Томас показывал им дом. Может, эта женщина была робка или просто не успевала вставить в разговор свое слово? Кэтрин улыбнулась, и тут раздался стук в дверь. Пора было спускаться к ужину.
Свадьба состоялась через несколько дней в старинной приходской церкви Всех Святых. Кэтрин была в атласном, цвета слоновой кости платье с шлейфом и венке из цветов; распущенные волосы струились по ее спине. Братья Эдварда Томас, Уильям и семилетний Генри провожали ее на паперть церкви, где проводилась церемония; юные девочки Бург исполняли роли подружек невесты. Кэтрин больше всех понравились Элеанор и Агнес; она попыталась подружиться с ними, но ничего не вышло. Шесть сестер были очень близки и не допускали в свой круг посторонних; это они дали ей почувствовать сразу. Ни одна из девочек не выражала восторга, когда они одевались в лучшие платья, и на свадьбе сестры мило улыбались, но почти ничего не говорили. Выйдя из церкви под руку со своим юным супругом, Кэтрин почувствовала, что, став женой, обрела какой-то новый статус, и это наполнило ее сердце ликованием. Она вошла в семью, которая тепло приняла ее, и будет жить в прекрасном доме. Господь проявил милость к ней. Единственным облачком на горизонте маячила грядущая разлука с матерью, но они, конечно, будут навещать друг друга. Поездка сюда оказалась длинной, но не ужасающей. В холле Гейнсборо устроили роскошный свадебный пир. Как приятно было Кэтрин занять место во главе стоявшего на помосте стола! Сэр Томас сидел по правую руку от нее, а мать — слева от Эдварда, рядом с леди Бург. Все дети Бургов разместились за длинным столом, приставленным под прямым углом к помосту, а родственники, местные джентри и священники — за другими столами. В зал под звуки фанфар приносили блюдо за блюдом, и едоки в нетерпенииподнимали взоры, желая поскорее увидеть, какие новые угощения будут услаждать их вкус. Кэтрин почти не переживала по поводу брачной ночи. С Эдвардом, она была уверена, ей не грозит ничего ужасного. За последние несколько дней они успели немного познакомиться друг с другом, и Кэтрин обнаружила, что у него чувствительная душа, он благоговеет перед отцом и опасается, что не сможет оправдать ожиданий родителя. Она понимала почему. Сэр Томас казался человеком сердечным и был очень добр к ней и матери, но держал под неусыпным контролем все и вся. Никто в Гейнсборо не мог усомниться в том, кто здесь хозяин. Таких вышколенных детей Кэтрин еще никогда не видела; сэр Томас не потерпел бы ни малейших шалостей и непослушания. Одного его слова или взгляда было достаточно, чтобы дети выполнили желание отца. В учебной комнате, когда юные Бурги, склонив головы, корпели над книгами, тишина стояла поистине монастырская. Мать была под большим впечатлением и решила, что это результат отцовской заботы и достойной всяческих похвал дисциплины, не сознавая при этом, что сама она в совсем иной — уважительной и проникнутой любовью — манере управляла детьми с неменьшим успехом. Кэтрин уже поняла, что сэра Томаса лучше не гневить. У нее было преимущество, потому что он явно симпатизировал ей и подчеркивал свое расположение, как, например, сейчас, когда провозглашал тост в честь юной невестки: — За прекрасную супругу моего сына! Вечерело. В зале уже горели свечи, и Кэтрин сквозь эркерное окно видела, что на улице наступают сумерки. Думать о близящейся церемонии укладывания в постель было неприятно, но это ненадолго, а потом они с Эдвардом останутся одни, и начнется их супружеская жизнь. Она сделала еще глоток вина, наблюдая за выступлением акробатов на свободном пространстве между столами. Эдвард незаметно пожал под скатертью ее лежавшую на коленях руку. Девушка улыбнулась ему. Наконец сэр Томас похлопал Кэтрин по плечу и сказал: — Пора, дочка. Она встала, подозвала Элинор, маленькую горничную, которую дали ей в услужение, и кивнула матери, чтобы та следом за ней покинула зал. С ними вышла и леди Бург, весь вечер нервно наблюдавшая за детьми и слугами. В комнате с кроватью «в шашечку» Кэтрин терпеливо стояла, пока женщины снимали с нее платье и надевали через голову тонкую батистовую ночную рубашку, которую она сама расшила черной нитью по моде, введенной в обиход королевой. Мать научила ее, как это делать. Потом Элинор расчесала ей волосы, а леди Бург, которая вроде бы немного успокоилась, принесла серебряную миску с розовой водой, чтобы умыть невесте лицо и руки, а также тряпицу — почистить зубы. Мать откинула покрывало и простыню, Кэтрин забралась в постель и села прямо, опершись спиной на подушку. Элинор отправили вниз сообщить сэру Томасу, что все готово. Пока они ждали, мать разгладила простыню и рассыпала на постели душистые лепестки, а Кэтрин пыталась унять заколотившееся сердце. Мать ободряюще улыбнулась ей. Наконец появился Эдвард, он заметно нервничал; его сопровождали отец, священник и гости. — Ну, забирайся в постель, мальчик! — скомандовал сэр Томас, слегка подтолкнув сына. Эдвард послушно скользнул под одеяло и лег рядом с Кэтрин. Все столпились вокруг, священник вышел вперед и поднял руку: — Милостивый Господь и Отец Небесный, щедрым даром которого прибавляется человечество, мы молим Тебя: благослови это ложе и этих двоих, чтобы они были плодовиты в обретении потомства и жили вместе долго в любви и согласии, без обмана; чтоб увидели детей своих детей до третьего и четвертого поколения ради славы и чести Твоей через Иисуса Христа, нашего Господа. Аминь. Сэр Томас и леди Бург поднесли Эдварду и Кэтрин по кубку вина со специями, из которых молодые с благодарностью отпили, а потом Элинор и другие горничные бросили в толпу гостей чулки невесты, чтобы узнать, кто следующий произнесет обеты на церковной паперти. Двое, вовсе не случайно задетые чулками, улыбнулись друг другу; все знали, что эти юноша и девушка надеялись пожениться. — Исполни свой долг, мальчик! — наставительно произнес сэр Томас. И вся компания удалилась, сопровождая свой уход свистом, похабными шутками и взрывами хохота; голоса гостей удалились в направлении главного зала, где продолжится пир. Эдвард вскочил с постели и задвинул засов на двери. — Они вернутся ближе к утру, принесут еще вина, чтобы подкрепить нас, и спросят, все ли в порядке. А пока я не хочу, чтобы кто-нибудь сыграл с нами злую шутку. Он задул все свечи, кроме одной, и вернулся на брачное ложе. Кэтрин лежала, размышляя, что первый шаг должен сделать муж. После некоторой паузы Эдвард взял ее за руку: — Вы, верно, устали, Кэтрин? — Немного. А вы? — Немного, — эхом отозвался он; последовала новая пауза. — Мы не обязаны делать это сегодня, если вы хотите подождать. — Я с удовольствием сделаю все, как вы решите, — сказала Кэтрин, понимая, что он нервничает больше ее. Эдвард обнял жену и притянул к себе, потом поцеловал в губы. Это был робкий поцелуй, не страстный. Она ощущала под руками его ребра. Немного же было плоти на ее суженом. Кэтрин ждала, что он еще раз ее поцелует, но Эдвард не потянулся к ней, а вместо этого завозился с чем-то под одеялом, движения его стали ритмичными. Вдруг он взгромоздился на нее и коленом раздвинул ей бедра. — Я попробую сделать это мягко, — выдохнул супруг. Она почувствовала, как что-то твердое тычется у нее между ног, и собралась с духом, ожидая, что он войдет в нее, однако после нескольких отчаянных попыток Эдвард обмяк и скатился на постель. — Простите, — пробормотал он, — наверное, я выпил слишком много вина. Это делает мужчину бесполезным. — Ничего, — сказал Кэтрин, чувствуя, как он унижен. — Мы оба утомлены. У нас вся жизнь впереди. — Благослови вас Бог. Вы лучшая жена, какую только может иметь мужчина. Когда в два часа гости вернулись, стали колотить в дверь и требовать, чтоб их пустили с чашей любви, молодые притворились, будто спят.
Утром Эдвард снова попытался сделать Кэтрин своей женой по-настоящему, но безуспешно. Произошло то же, что и накануне: в решающий момент он сплоховал. — Могу я чем-то помочь? — спросила Кэтрин; она понятия не имела, каким образом можно доставить удовольствие мужчине или заставить его тело функционировать, как положено. — Просто не говорите никому, — попросил ее Эдвард. — У меня похмелье. Вот в чем проблема. Вечером будет лучше, обещаю. Кэтрин потянулась и встала постели. В голове у нее мелькнула мысль: «Сэр Томас будет недоволен, если узнает, что брак не был окончательно заключен», — и она поняла, что отношение сэра Томаса к их с мужем личной жизни уже беспокоит ее. Эдвард встал и надел ночную рубашку. Оба они преклонили колени для молитвы. Потом Кэтрин вызвала Элинор, та помогла ей одеться и причесаться. С того момента, как женщина впервые поднимется с брачного ложа, она должна закрывать голову капором и носить его каждый день. Никогда больше не покажется Кэтрин на людях с распущенными волосами. Их красотой позволено любоваться только мужу. Этот первый капор подарила ей мать. Он был в английском стиле, такие называли гейблами, так как они имели форму фронтона. Гейбл Кэтрин был из черного бархата, с длинными лентами-завязками и черной вуалью. Хорошо, что первый день супружеской жизни новобрачная по обычаю проводила в уединении, а значит, — мысленно радовалась Кэтрин, — она не увидит, как отец будет расспрашивать Эдварда о брачной ночи. — Я заставил его поверить, что все прошло хорошо, — сказал ей супруг, когда пришел обедать в их комнату. Вид у него был пришибленный, и Кэтрин захотелось с жаром уверить его, что ему нечего стыдиться и сегодня у них все получится, но Эдвард сменил тему. — Все шлют вам свои наилучшие пожелания. Некоторые гости уезжают сегодня, другие завтра. Кэтрин вздрогнула, поняв, что среди последних будет и ее мать, которая отправится в путь рано утром. После обеда, когда Эдвард уехал охотиться с несколькими гостями, в дверь постучали. Это была мать. — Я пришла убедиться, что с тобой все хорошо. Эдвард как будто немного расстроен. — Входите, — поманила ее рукой Кэтрин, и они сели у очага. — Дочь? — вопросительно произнесла мать. — Все в порядке? Кэтрин чуть задержалась с ответом: ей не хотелось нарушать свое обещание, нужно хранить их неудачу в тайне, — но наконец бодро ответила: — Все хорошо. — Дитя, ты забываешь, тебе меня не обмануть. Что-то неладно. Ты можете мне сказать? — Нет, не могу, — ответила Кэтрин. — Тут нечего смущаться. — Мать улыбнулась, неправильно поняв ответ дочери. — Я тоже была замужем. Эдвард сделал тебе больно или чем-то обидел? — О нет! — воскликнула Кэтрин. — Я так и думала. Скажи мне кто о нем такое, я бы не поверила. Но он исполнил свой долг по отношению к тебе? Кэтрин не могла лгать матери. Однако и предавать мужа не желала, а потому сидела и молчала. Мать взяла ее за руку: — Я понимаю. Ты не хочешь позорить его. Но, моя дорогая, в этих делах часто все складывается не так, как ожидаешь. Думаю, иногда мужчине и женщине нужно время, чтобы стать единой плотью. Потерпи. Все будет хорошо, вот увидишь. Кэтрин утешилась этим. И хотя она страшилась расставания с матерью, тем не менее, когда пришло время, собралась с духом, как подобает настоящей леди, и крепко обняла ее, не переставая улыбаться. — Я люблю вас, моя дорогая матушка, — шепнула Кэтрин ей на ухо. — Господь да пребудет с вами! Потом встала на колени, чтобы получить материнское благословение. Дав его, Мод забралась в носилки, которые проехали через гейтхаус и скрылись из виду. Эдвард догадывался, что у его юной супруги на душе невесело. Кэтрин надеялась, он не подумает, будто это из-за его неудачи в постели, но пока решила не переживать из-за этого. Чтобы развлечь жену, Эдвард повел ее на чердак, где хранили старую мебель и другие ненужные вещи. Среди всего этого хлама Кэтрин с удивлением заметила кресло, поставленное на заваленный пыльными бумагами стол. — Мой дед часто приходил сюда, — принялся объяснять Эдвард. — Ему было велено оставаться в своей комнате, но он ходил куда хотел и когда вздумает, не обращая внимания на запреты отца. Кэтрин принялась разглядывать бумаги. Они были изрисованы щитами и исписаны каким-то каракулями. При внимательном рассмотрении оказалось, что перед ней прекрасные образцы геральдических знаков, выдававшие в изобразившем их человеке глубокое знание предмета. — Неужели тот, кто нарисовал это, мог быть сумасшедшим? — озадаченно спросила Кэтрин. — О, он был очень странный, — отозвался Эдвард. — Из всего, чем дед занимался, только это имело какой-то смысл, но он был как одержимый, вот почему отец пытался остановить его. И тем не менее дед почти каждую ночь поднимался сюда. Он жег свечи, и мы все боялись, как бы он не устроил пожар. — А разве нельзя было поставить стол в его комнате? — Нет, после того как он забаррикадировал дверь и три дня отказывался выходить из комнаты. — Эдвард помолчал и болезненно поморщился. — Он был лохматый и грязный, когда наконец согласился впустить нас. Отец и мать оба решили — больше никогда. Поверьте мне, Кэтрин, дед был странный. Люди его не интересовали. Он жил в своем собственном мире. Ему дела не было ни до кого, он не понимал, как огорчает родных своими чудачествами. Эдвард снова умолк и принялся бесцельно рыться в старом сундуке, где лежали другие бумаги его деда. — Трудно поверить, что в молодые годы он был при дворе и бился на турнирах за короля. Но потом стал совершать странные поступки, и его отдали под надзор лорда-камергера. Некоторое время дед провел в тюрьме Флит и даже был вынужден брать деньги в долг у короля, чтобы выкупить себя оттуда. Это подорвало семейные финансы, и отцу пришлось много лет выкарабкиваться, чтобы вытащить нас из ямы, куда мы все попали из-за безрассудств деда. В конце концов его объявили сумасшедшим и стали строго ограничивать. Честно говоря, мы все вздохнули с облегчением, когда он умер. Они стали спускаться с чердака. — Некоторые слуги отказываются ходить сюда по вечерам, — продолжил Эдвард, — говорят, будто слышат, как дед возится здесь. Думаю, это крысы или летучие мыши. Кэтрин передернуло. Уж лучше призрак старого сумасброда, чем летучие мыши. Она выдохнула, когда они оказались на первом этаже. Там ее нашла леди Бург и позвала на кухню следить за приготовлением обеда. Через час, исполнив эту обязанность, Кэтрин вышла из дому: ей хотелось побыть на воздухе. «Не прокатиться ли верхом по парку?» — подумала она и, пройдя на конюшню, до которой было совсем недалеко, кликнула конюха. Стоя в дверях, Кэтрин слышала звуки какой-то отчаянной возни на соломе и испугалась: вдруг одной из лошадей плохо? На конюшне была жеребая кобыла, но ей еще рано рожать. Кэтрин побежала по проходу, заглядывая в каждое стойло. Возня вдруг прекратилась. Жеребая кобыла спокойно жевала сено. Пара коней радостно заржали, увидев Кэтрин. В последнем стойле было пусто. «Ах да, сэр Томас утром куда-то уехал», — вспомнила она, наверное, поэтому леди Бург была сегодня более разговорчива. Кэтрин приметила какое-то движение и заглянула в стойло. Глаза ее едва могли совладать с открывшимся им зрелищем; еще меньше был способен на это мозг. Потому что там, на соломе, лежал Эдвард и в полном потрясении таращился на нее, а рядом с ним — конюх, и у обоих шнурки на ширинках были распущены. Эдвард вскочил, оправляя на себе рейтузы. — Кэтрин! Что вы здесь делаете? — Я… Я хотела прокатиться на лошади, — пролепетала она и, охваченная непреодолимым желанием бежать отсюда, быстро пошла назад по проходу. — Подождите! — крикнула ей вслед Эдвард, но девушка уже понеслась бегом; ей нужно было поскорее остаться в одиночестве и попытаться как-то осознать увиденное и осмыслить его значение. Кэтрин устремилась к расположенному за домом парку, промчавшись через сад с такой скоростью, будто ее преследовала стая адских псов. За спиной слышался голос Эдварда, звавший ее, просивший остановиться. Но она бежала и бежала, пока голос мужа не смолк вдали и перед ней не открылся широкий вид на парк. Тогда Кэтрин замедлила бег, остановилась и, тяжело дыша, опустилась на землю под сенью могучего дуба; толстый ствол дерева скрывал ее от любого, кто направился бы сюда со стороны дома. Мужчинам запрещено любить друг друга так, как любят муж и жена: это Кэтрин знала. Ей была известна история разрушения Содома. Однажды она слышала о священнике, которого лишили сана за подобный грех, поскольку Церковь сурово осуждала такие поступки. Но даже и представить не могла, что это коснется ее собственной жизни или что ей будет суждено выйти замуж за человека, склонного к однополой любви. Для чего он женился на ней? За ответом не пришлось ходить далеко. Он выполнил волю отца. Знал ли сэр Томас о тяге своего сына к мужчинам? Надеялся ли, что женитьба направит его на путь истинный, чтобы он мог зачать наследников? Кэтрин резко втянула ноздрями воздух, силясь подавить слезы. То, что она увидела, объясняло неудачи Эдварда в постели. Муж не способен любить ее, потому что не испытывает к ней желания, и она могла оказаться пойманной в ловушку бесплодного брака. Если бы только мать была здесь и дала ей совет. Написать о таком в письме невозможно. Кэтрин подумала, не сбежать ли в Рай-Хаус, но у нее недостанет денег; их хватало только на «мелкие надобности и пустячки», как выражался сэр Томас, выдавая ей весьма скромное, чтобы не сказать скупое, содержание. Кроме того, женщина, путешествующая в одиночку, уязвима, на нее смотрят без уважения. Поедет ли с ней Элинор или посчитает себя обязанной предупредить сэра Томаса о планах своей новой госпожи? Подумав, не объясниться ли с ним самой, она поняла, что не осмелится на это. Кэтрин не могла публично опозорить Эдварда. Но ей самой было так стыдно, она чувствовала себя такой никудышной. Почему муж не хотел ее? Что в ней не так? Эдвард ей очень нравился; сегодня утром она размышляла, не влюбляется ли в него постепенно? И девушка не сомневалась, что приятна ему. Но, должно быть, он любил ее, как брат любит сестру. И наверное, никогда не хотел ее по-мужски. А она теперь связана с ним, и ей придется как-то жить с этим. Сидеть на месте дольше было невозможно. Кэтрин встала и пошла вглубь парка. Может, она ошиблась? Нет, это вряд ли. Бывает ли, что мужчина любит и мужчин, и женщин? Вот единственная надежда для нее. Но им все-таки нужно как-то вступить в брачные отношения, а значит, Эдвард должен поклясться, что больше никогда не ляжет с мужчиной. Она потребует этого. И постарается, что есть сил постарается стереть из памяти увиденное сегодня. Только так можно будет двинуться дальше. Кэтрин услышала приближающийся топот копыт, обернулась и увидела, что к ней скачет Эдвард; она дождалась его. Спускаясь с коня, он выглядел крайне сконфуженным. — Мне так жаль, — виновато сказал ей понурый супруг. — Простите меня. — Он не попытался обнять ее или прикоснуться к ней, а просто стоял, повесив голову. — Не знаю, почему Господь создал меня таким. Я не могу справиться с собой. — Вы должны справиться, — твердо сказала Кэтрин. — Ради благополучия нашего брака вы должны воздерживаться от этого. Скажите, скажите мне честно: вы считаете, что когда-нибудь сможете полюбить меня, сделать мне ребенка? — Я люблю вас, Кэтрин, — заявил он. — А что до остального, я пытаюсь. — Настоящему мужчине не нужно принуждать себя! — крикнула она и разразилась слезами; никогда еще ей не приходилось чувствовать себя такой одинокой. — Я не такой, как другие, — печально произнес Эдвард. — Ваш отец знает? Меня взяли в дом, чтобы сделать вид, будто все хорошо? — Кэтрин была вне себя. Эдвард выглядел испуганным. — Нет. Я не думаю, что он знает. Надеюсь, что нет. Я бы умер от стыда. Я уже умираю от стыда. Прошу вас, простите меня, Кэтрин. Я сделаю, как вы просите, и буду избегать мужской компании. И постараюсь быть для вас настоящим мужем. Я не хочу делать вас несчастной. Он был так полон раскаяния, так уступчив. Она обязана поступить с ним по-доброму. — Вы простите меня? — снова с мольбой в глазах произнес Эдвард. Кэтрин заколебалась. Он согласился на ее требование, и теперь ей нужно достойно сыграть свою роль. — Я вас прощаю, — торжественно изрекла она. — Вы ничего не скажете отцу? — Конечно нет. Пока они шли к дому, Кэтрин задумалась: не был ли страх, что она пожалуется сэру Томасу, главной причиной сговорчивости Эдварда?
Лето выдалось жаркое. Кэтрин проводила послеобеденное время в саду или каталась верхом по парку, как раньше в Рай-Хаусе. По утрам она тенью следовала за леди Бург, которая в своей тихой и нервной манере наставляла ее, как управляться с Гейнсборо-Холлом. Но перенимать ей было особенно нечего, так как мать и тетя Мэри прекрасно научили ее вести хозяйство в большом доме. К счастью, леди Бург не перегружала невестку обязанностями. Казалось, она хотела сохранить контроль над домом за собой, чтобы делать все так, как любил сэр Томас, а потому у Кэтрин оставалось свободное время, которое она посвящала уединению с любимыми книгами. Эдвард часто уезжал с отцом, участвуя в делах поместья. Сэр Томас ожидал этого от сына и ценил его помощь. Он постоянно твердил Эдварду, что когда-нибудь все это достанется ему. Почти каждую ночь Кэтрин проходила одно и то же тягостное испытание. Эдвард старался продержаться достаточно долго, чтобы войти в нее, но неизменно срывался. Она лежала и позволяла ему делать, что нужно, молясь, чтобы они хоть раз соединились. Кэтрин чувствовала, что сэр Томас и леди Бург приглядываются к ней, ища признаки беременности, а скоро и другие люди начнут задаваться вопросами, все ли у них хорошо? Мать писала каждую неделю, интересовалась, нравится ли дочери замужняя жизнь, и сообщала новости из Рай-Хауса. Читая эти послания, Кэтрин заливалась слезами; ей так хотелось вернуться домой. Снова и снова возникало у нее искушение открыть матери правду о своем браке, но она всякий раз удерживалась от этого. Что могла сделать мать? Она только начнет переживать. А какой скандал разразится, если сэру Томасу откроется правда о его сыне или он узнает, что невестка выдала уже известную ему тайну! Дядя Уильям тоже писал племяннице. Он был крайне недоволен, потому что лишился должности вместе с Уиллом, так как кардинал Уолси распустил дорого обходившийся казне двор в Шериф-Хаттоне. Мать сообщила, что дядя вернулся домой мрачный и раздосадованный, ведь ему не удалось приобрести ни богатства, ни влияния благодаря своему посту камергера. Кэтрин удивилась, узнав, что Уилл в конечном итоге пожалел о необходимости покинуть службу у герцога. В письмах он без конца упоминал о своем новом друге, главном конюшем герцога Ричмонда, сэре Эдварде Сеймуре, который был семью годами старше его и, как почувствовала Кэтрин, по мнению брата, являл собой истинный образец для подражания. Сэр Эдвард послужил в войсках во Франции и был произведен в рыцари; его взяли в свиту Уолси, которая сопровождала кардинала во время дипломатической миссии в Париж; еще в юности он познакомился с придворной жизнью, а теперь намеревался стать рыцарем тела короля. Уильям явно восхищался им, как героем, и надеялся, что тоже попадет ко двору благодаря Эдварду Сеймуру, который наверняка замолвит за него словечко перед королем. Однако прошло несколько недель, надежды эти не оправдались, и тогда мать отправила Уилла в Кембридж. «Ему уже шестнадцать, — писала она. — Он образован, хорош собой, очарователен и умеет заводить знакомства. Он не пропадет, я уверена». Как же Кэтрин скучала по брату и сестре! Но они вылетели из гнезда, и она понимала, что, если когда-нибудь вернется в Рай-Хаус, там все будет по-другому.
 Глава 5
1529–1531 годы
Глава 5
1529–1531 годы
Письма матери были полны переживаний по поводу развода короля — его Великого дела, как называли это в народе. Папа прислал из Рима кардинала, чтобы тот разобрал дело вместе с кардиналом Уолси, и судебное заседание устроили в главном зале монастыря Черных Братьев, недалеко от старого дома Парров. Королева пребывала в большом волнении, — писала мать, — потому что король вел себя так, словно вердикт предрешен, и даже планировал коронацию Анны Болейн. Король был уверен, что его святейшество не откажет английскому Защитнику Веры[154] в справедливом решении. Однако Екатерина держалась очень храбро. К счастью, мистресс Анну отослали домой ждать исхода дела.
В следующем послании мать описывала, как королева явилась в суд, встала на колени перед королем и страстно воззвала к нему, моля избавить ее от этого испытания. Он ничего не отвечал, только смотрел в пустоту. Ее милость поднялась и вручила судьбу дела Господней воле, дав итальянскому кардиналу предлог перенести разбирательство в Рим. Король вознегодовал, кардинал Уолси впал в немилость, а мистресс Анна вернулась ко двору, брызжа ядом. Мать сильно тревожилась за королеву Екатерину, находившуюся в глубоком горе. Она добавила, что на Анну все это очень сильно повлияло.
За столом в Гейнсборо-Холле в основном обсуждали те же события. Кэтрин жалела бедную королеву, а вот сэр Томас держался совершенно иного мнения.
— Она должна понять опасения короля по поводу наследования престола и с благодарностью удалиться, — заявил он.
Кэтрин была потрясена этими словами, но она уже знала, что свекра лучше не злить и не портить себе репутацию в его глазах. В конце концов, ей ведь приходилось жить под его крышей.
— Мистресс Анна Болейн, — продолжал сэр Томас, — истинная евангелистка, страстная сторонница реформ, а Церковь, Бог знает, нуждается в переменах. От влияния этой леди на короля может произойти только благо.
«Только скандал», — припечатала про себя Кэтрин, вспоминая бедную благочестивую королеву, которую дерзкая Анна Болейн всеми силами старалась сместить с трона.
Однако сэр Томас разошелся, и все семейство молча внимало тому, как он развивает полюбившуюся ему тему.
— Сегодня приходится покупать себе путь на Небеса, в то время как священники богатеют на продаже индульгенций, — разглагольствовал свекор. — Многие из них развращены и продажны. Покажите мне экономку священника, и я покажу вам его любовницу. И не заставляйте меня начинать с епископов! Они все алчные хапуги в золотых ризах и усыпанных каменьями митрах, обитающие во дворцах, которые ломятся от сокровищ. Они живут как короли. Тогда как наш Господь, примеру которого им должно следовать, был простым плотником.
Сэр Томас помолчал, накладывая себе мяса на тарелку.
— Но больше всего меня злит, что только священникам позволено толковать Писание. А некоторые из них неграмотны или просто глупы. Это всего лишь вопрос времени, но у нас будет Библия на английском, чтобы мы могли читать и толковать ее сами. И все те книги, которые кардинал запретил от имени короля, — о них мы тоже получим возможность составить собственное мнение. Мои друзья при дворе говорят, что мистресс Анна читает их безнаказанно, вот так, и даже показывает королю.
— Не всем дано наслаждаться вседозволенностью мистресс Анны, сэр, — пробормотал Эдвард.
— Будет дано, мальчик мой, будет, когда она вставит свою ногу в стремя, — возразил его отец.
— Но разве это правильно — подвергать сомнениям учение Церкви? — не уступал Эдвард. «Довольно смело сказано», — подумала Кэтрин. — Разве это не ведет к ереси?
Его сестра Агнес тихо ахнула от безрассудной смелости брата.
Сэр Томас сурово посмотрел на сына:
— Что такое ересь, когда католики называют еретиками лютеран, а сам Лютер бросает те же обвинения католикам? Ересь зависит от того, кто указывает пальцем, мальчик.
— Тогда кому судить, кто прав, а кто нет?
— Каждый человек должен следовать голосу совести, как говорит доктор Олгуд.
Доктор Олгуд, их домашний священник, был горячим поборником реформ, и сэр Томас восхищался им. Эти двое всему предпочитали жаркий спор о религии.
— Но что, если закон объявит ваше мнение ересью? — упорствовал Эдвард.
— Бога ради, мальчик! — взревел сэр Томас. — Я здесь закон, и никто не должен мне перечить, тем более сомневаться в моих словах.
Эдвард сдался. Все вдруг деловито занялись едой. Юный Генри подавился мясом, и его пришлось колотить по спине, что дало желанный предлог отвлечься от разгоравшейся ссоры.
Во многом помимо воли, так как она была воспитана богобоязненной и верующей, Кэтрин согласилась, что некоторые замечания сэра Томаса не лишены смысла. Как беднякам попасть на Небо, если доступ туда нужно покупать? Почему епископы живут в роскоши, когда многие люди голодают? И что плохого в том, чтобы читать Библию по-английски? Но тем не менее властители, начиная с короля, запрещают людям делать это. Кэтрин опасалась, как бы ей самой не впасть в ересь. Что до священников, разве они не возвышены своим саном и не обособлены от простых смертных рукоположением? Разве они недостаточно компетентны, чтобы толковать Писание? Ее ведь так учили. Кэтрин задумалась: интересно, а что думает свекор по поводу молитв святым?
Каких мнений держалась леди Бург, Кэтрин понятия не имела. Братья и сестры Эдварда тоже никогда не высказывали своего отношения к взглядам отца. Кэтрин провела в Гейнсборо уже достаточно времени, чтобы понять: никто не смел противиться железной воле сэра Томаса. Он был человек своенравный и имел склонность разражаться ужасными вспышками гнева при малейшем нарушении установленных правил. Дети, очевидно, боялись его и выказывали абсолютное послушание. Их хорошее поведение соизмерялось со страхом перед отцом.
А тот отличался непредсказуемостью: никто не знал, на что и как он отреагирует. Не раз Кэтрин видела, как ее свекор посылал за учителем и требовал, чтобы ему показали тетради детей. Потом хмуро просматривал их; сыновья и дочери стояли рядом, застыв в напряженном ожидании, а учитель заметно дрожал. Если им повезет, они услышат от отца скупое слово похвалы, что будет воспринято как манна небесная. Чаще же он рявкал, что написавший эту чушь болван заслуживает порки, после чего хватался за хлыст и использовал его по назначению. Делал он это часто, даже за самые ничтожные проступки, вроде выхода к завтраку с непричесанными волосами или ерзания на скамье в церкви. Казалось, он следил за всеми беспрерывно и только и ждал, как бы приструнить за что-нибудь.
На Кэтрин сэр Томас пока ни разу не орал. Она старалась не злить свекра, не привлекать к себе лишний раз его внимания и полагала, что он все еще держится о ней хорошего мнения. Однако Кэтрин опасалась, что и она тоже в один прекрасный день может вызвать его неудовольствие и начнет жить в страхе, особенно если ей не удастся выполнить свою обязанность и родить ему внуков. Она не могла сказать сэру Томасу, почему до сих пор не беременна. Вполне возможно, что родители и правда не догадывались о наклонностях Эдварда, а значит, вина падет на нее. Мужчины в таких случаях всегда возлагают вину на женщин.
Уходя из холла в свою комнату, чтобы собраться с духом перед очередным эпизодом постыдной возни с мужем в постели, Кэтрин устало вздохнула. Ей так повезло в детстве: она росла в счастливой и спокойной обстановке дядиного дома, наслаждалась свободой. Жизнь под благосклонным оком дяди Уильяма была совершенно другой. Трудно было привыкнуть к домашней тирании сэра Томаса. А тот вдруг окликнул ее.
— На одно слово, прошу вас, Кэтрин! — раздался его звонкий голос.
Она поспешно вернулась и встала перед свекром, сидевшим в своем высоком кресле на помосте.
— Сэр Томас? — Кэтрин заставила себя улыбнуться.
Он строго посмотрел на нее:
— Я заметил, что почти каждый день после обеда вы катаетесь на лошади.
— Я так привыкла, сэр, — смешавшись ответила Кэтрин.
— Что ж, придется это прекратить. Вы никогда не выносите ребенка, носясь в седле по всей округе.
— Но, сэр, я не жду ребенка, — возмутилась Кэтрин. — В противном случае я, естественно, перестала бы ездить верхом.
Она чувствовала, что все домашние смотрят на нее. Они никогда не посмели бы пререкаться с хозяином дома.
— Но вы должны ждать ребенка! — рявкнул сэр Томас. — И больше никаких катаний на лошадях, пока он не появится на свет.
— Но, сэр…
Тот стукнул кулаком по столу.
— Молчать! — И повернулся к Эдварду. — Потрудитесь добиться послушания мне.
Кэтрин подумала, уж не мстит ли он своему сыну за то, что тот осмелился завести с ним спор о религии.
Эдвард взял ее за руку и повел через дверь в западное крыло дома.
— Исполните свой долг, мальчик! Подарите мне внука! — крикнул им вслед сэр Томас.
Когда они оказались в своей комнате, Кэтрин бросилась на кровать и разрыдалась. Она не знала, как вынесет запрет ездить верхом. Это было одним из ее главных развлечений. Конечно, можно гулять по парку, если сэр Томас не выдумает какую-нибудь причину, почему ей не следует делать и этого, но прогулки не дадут ей захватывающего дух удовольствия от скачки в седле, когда ветер треплет волосы, а лошадь мчится во весь опор. Кэтрин все бы отдала за возможность вернуться в Рай-Хаус, к матери. Никогда еще не испытывала она столь сильной тоски по дому. — Мне так жаль, Кэтрин, правда жаль. — Эдвард сам едва не плакал. — Это все моя вина. — Он притянул ее к себе. Нуждаясь в утешении, Кэтрин прильнула к нему, они начали целоваться, а потом случилось наконец то, чего она больше всего желала.
Лежа в постели, исполненная облегчения, что ей не придется носить на себе позорное клеймо бесплодной жены, и размышляя, могла ли она уже забеременеть, Кэтрин уткнулась в плечо обнимавшего ее одной рукой мужа. — Не знаю, что на меня нашло, — хихикнул он, — но я этому рад. Теперь я могу спокойно смотреть в лицо отцу. — Вы не думаете, что он безумен, как ваш дед? — спросила Кэтрин. — Я не знаю. — Эдвард вздохнул. — Он не безумен в том смысле, как был мой дед. Но в нем будто сидит какой-то бешеный зверь. Кажется, ему нравится держать нас всех в страхе. — Что ж, я ему этого удовольствия не доставлю! — заявила Кэтрин. — Пусть только попробует. Он узнает, что у меня стойкое сердце. — Вы будете ему достойным противником, — сказал Эдвард, прижимая ее к себе. — Но мне жаль, что вам нельзя теперь кататься верхом. — Мне будет легче выносить это, раз теперь у меня, вероятно, есть веская причина не садиться на лошадь. — Молюсь, чтобы вы не ошиблись! — сказал Эдвард и поцеловал ее.
Беременность не наступила. И новых соитий тоже не было. Магия, сработавшая в тот раз, больше не оказывала своего волшебного действия на них. Они вернулись к возне в постели и безуспешным попыткам довести дело до счастливого завершения. Недели шли, приближалась зима. Кэтрин казалось, что люди присматриваются к ней, надеясь увидеть признаки беременности. Может, это только ее воображение. Господи, лишь бы только сэр Томас не начал задавать ей вопросы — это будет для нее равносильно смерти! Но вдруг случилась нечаянная радость! Всех их ждала передышка. В декабре сэра Томаса вызвали ко двору. Наконец — наконец-то! — король решил вернуть к жизни старое баронство Боро и хотел поручить это ему. Кроме того, сэру Томасу предстояло заседать в палате лордов в качестве лорда Боро из Гейнсборо. Сэр Томас ликовал. Исполнились его надежды — свершилось то, ради чего он трудился все эти годы. Свекор ходил по дому надутый как петух и требовал, чтобы все обращались к нему «милорд». — Когда-нибудь ты унаследуешь мой титул, мальчик, — говорил он Эдварду, хлопая его по спине. — Ты станешь пэром королевства, а после тебя — твой наследник. — Он бросил на сына многозначительный взгляд. — Я горжусь вами, сэр, — отозвался Эдвард, игнорируя колкий намек. Все хором облегченно вздохнули, когда новоявленный лорд Боро отбыл в Лондон. — Не ждите меня на Рождество, — сказал он своей леди, когда та подавала ему при отъезде стременной кубок. — Я не знаю, сколько времени будет заседать парламент, и не против поучаствовать в каком-нибудь пире при дворе. Когда он ускакал, атмосфера в доме стала легче. Они прекрасно встретили Рождество. Йольское бревно потрескивало в очаге, гирлянды из зеленых ветвей источали аромат, наполнявший дом ощущением праздника. Вся семья собралась за столом; они пировали, пели, танцевали и веселились. Играли в жмурки, прятки и «драконью пасть»[155], а в день Святого Стефана ездили верхом на охоту, и Кэтрин, делая это, нарушила запрет лорда Боро. Дети смеялись и шалили, как никогда, даже леди Бург участвовала в общем веселье и выглядела гораздо спокойнее. Кульминацией праздничных торжеств стала Двенадцатая ночь. Приготовили традиционный пирог, в который запекли горошину и боб. Все юные участники праздника молились о том, чтобы им достался кусок с сюрпризом и они, став королем и королевой вечера, получили власть над остальными. Вожделенные куски получили брат Эдварда Генри и его сестра Агнес, но главенствовал на пиру Генри. Он затеял игру в фанты и заставлял всех делать глупейшие вещи. Кэтрин пришлось простоять пять минут неподвижно, как статуя, а вся компания пристально следила, не шевельнется ли она. Кэтрин не шелохнулась. Потом настал черед Эдварда, и ему было велено залезть под каждый стол и проползти под ним во всю длину. Исполняя приказание, тот попутно щекотал всем сидевшим ноги, вызывая смех и визг. Затем Генри подозвал управляющего и приказал поцеловать самую красивую женщину в зале. Бедняга смутился; при обычных обстоятельствах женщины из семьи хозяина были для него недосягаемы. Но все сестры Эдварда строили ему глазки, так как он был красивый парень, и даже леди Бург подхихикивала. После довольно продолжительной паузы управляющий подошел к ней позади стола, наклонился и жадно поцеловал в губы. Леди Бург порозовела от волнения, а все покатывались со смеху, пока не заметили лорда Боро. В накидке и сапогах тот стоял в дверях и наблюдал за ними с громовым выражением на лице. — Что это такое, мадам?! — взревел сэр Томас. Управляющий побледнел, а леди Бург стала совсем серой. Муж прошагал к ней и схватил за запястье, поднимая со стула. — Милорд! Прошу вас… — запинаясь, пролепетала она. — Это была всего лишь шутка, сэр! — крикнул Эдвард. — Мы играли в фанты. Генри — царь Горох, и он приказал нашему доброму управляющему поцеловать самую красивую леди в зале. Естественно, он выбрал матушку. В этом нет ничего дурного. «Неужели, — подумала Кэтрин, — лорд Боро ни разу в жизни не видел таких праздничных забав?» Насколько она могла судить по рассказам матери, при дворе развлекались не менее буйно. Он наверняка знал, что это было безобидное дурачество и его жена ни в чем не повинна, но сэр Томас остался верен себе и углядел в происходящем нечто греховное. Продолжая сжимать запястье леди Бург в своей железной руке и не обращая внимания на ее протесты, он вытащил бедняжку из зала. Все слышали затихающие вдали крики и визг. За столом наступила ошалелая тишина. Менестрели прекратили игру. Несколько девочек и Генри плакали. Управляющий с красным лицом поспешил позвать слуг, чтобы убрали со столов. Никто не пытался продолжать пир. Грум лорда Боро распахнул дверь и обратился к Эдварду: — Сэр, хозяин желает, чтобы вы, мистресс Кэтрин и все юные джентльмены и леди безотлагательно явились к нему в главный покой. Дети лорда Боро все как один встали, чтобы исполнить приказание отца, и торопливо, с дурными предчувствиями, затопали к нему. На какой-то безумный момент Кэтрин задумалась: интересно, а как он отреагирует, если она откажется идти вместе со всеми, наверняка ведь грядет очередная омерзительная сцена. Однако она уже достаточно долго прожила в Гейнсборо и понимала: последствия такого поступка будут весьма и весьма неприятными. Войдя в главный покой, Кэтрин ужаснулась, увидев бедную леди Бург стоящей на коленях на молитвенной скамье; по щекам ее лились слезы, а сэр Томас, кипевший от ярости, гнул свой кнут. Дети хором ахнули. — Джентльмены, леди! — пролаял он. — Я вызвал вас сюда, чтобы вы посмотрели, как муж поучает жену, которая опозорила его своим развязным поведением. Смотрите и вынесите из этого моральный урок: вы мальчики, учитесь, как руководить женой, а вы, девочки, запомните, что жена должна быть вне всяких подозрений. Когда он грубо задрал своей жене юбки и поднял кнут, Кэтрин отвернулась, кипя от негодования. Она сама не догадывалась, что способна испытывать такую ярость. Ей потребовалось напрячь все душевные силы, чтобы не кинуться к свекру и не вырвать у него из рук кнут. Но нет, на такое ее не хватило, однако она не станет смотреть, как он бьет свою несчастную жену; этого удовольствия она ему не доставит. Кэтрин опустила глаза, вздрагивая от каждого крика и всхлипа леди Бург. Двенадцать раз этот зверь хлестнул ее по заду, бесстыдно выставленному напоказ перед детьми, в ужасе таращившими на все это глаза. Неужели он не уважает собственную жену? Как, по его представлениям, после такого унижения сможет она проявлять свою материнскую власть над детьми? Наконец экзекуция закончилась. Леди Бург согнула плечи и с плачем оперлась на молитвенную подставку. Лорд Боро твердым шагом вышел из комнаты, а Анна и Маргарет, старшие девочки, поспешили утешить мать и повели ее в постель. — Если мы и научились сегодня чему-нибудь, — буркнула Кэтрин Эдварду, — так это тому, что ваш отец — садист. Эдварда трясло. — Я помню, как он делал это с ней и раньше, когда мы были маленькие. Тогда у него вообще не было никакой причины. — У него и сейчас не было причины! — со злостью возразила Кэтрин, когда следом за подавленными юными Бургами и их матерью они вышли из зала. Эдвард закрыл дверь их комнаты и сел у очага: — Значит, вы не поняли? Мы все знали. Мать и управляющий… Это тянется уже какое-то время. Никто не винит ее. Мы за нее радовались, потому что знаем, как трудно ей жить с нашим отцом. И он тоже знал. Вот почему решил преподать всем урок на ее примере. Он ее не любит, она просто его собственность, и ни один мужчина не должен прикасаться к ней. — Я не знала, — сказала Кэтрин, думая, как хорошо скрывала свою любовную связь леди Бург. — Они на самом деле любовники? — Сомневаюсь. Она такая робкая, что едва ли осмелилась бы рискнуть. — Я бы хотела, чтобы кто-нибудь дал ему отпор! — кипела негодованием Кэтрин. — Понимаю, вас подмывает сделать это, но не надо, прошу! — уговаривал ее Эдвард. — Я не хочу жить под крышей этого дома! — заявила она ему. Он покачал головой: — Я тоже. Но у него есть и другие дома. Для нас было бы хорошо, если бы мы завели свое хозяйство. Это помогло бы нам, вы понимаете… — Вам пойдет на пользу, если вы избавитесь от постоянного контроля и давления со стороны отца, — сказала Кэтрин. — Вы поговорите с ним? — Когда все немного успокоится, я поговорю. — Обещайте мне! — потребовала Кэтрин. — Я не хочу жить здесь ни мгновения дольше, чем это необходимо.
Ответ был — нет. Все еще пребывая в дурном настроении, а это означало, что все в доме жили под грозовой тучей, лорд Боро спросил: с чего бы ему тратить деньги на устройство для сына отдельного хозяйства, когда тот прекрасно может и дальше жить в комфорте под одной крышей со всей семьей. Чего ему не хватает? У Эдварда не хватило храбрости прямо объяснить отцу свое желание жить отдельно от него, но он продолжал просить, из раза в раз получая отказ. — Он думает, это вы меня настраиваете, — сказал Эдвард Кэтрин, когда они гуляли с собаками по парку. — Так и есть! — воскликнула она. — Вы считаете, его удастся уговорить? — До сих пор такого не случалось, — признал Эдвард. Однако он не оставил попыток и всю ту тревожную весну заводил с отцом разговоры о желании жить своим домом так часто, как только осмеливался, правда ничего не добился. — Нужно сменить тактику, — решила Кэтрин.
Она написала матери, рассказала ей все — даже, да простит ее Бог, о проблеме Эдварда, — и умоляла помочь. Сказала, что боится проявлений насилия со стороны лорда Бурга. Он уже сломил дух своей жены, и дети его запуганы. Кэтрин ни за что на свете не хотела расстраивать мать, но сейчас больше, чемкогда-либо, ей была необходима ее спокойная уверенность и сила. Ответ не заставил себя ждать. Я еду навестить тебя. Я сообщила об этом лорду Боро, не упомянув о том, что узнала от тебя. Ничто не заставит меня провести ночь под его крышей, но мое поместье Молтби находится в восемнадцати милях от Гейнсборо, и я остановлюсь там. Если понадобится, вы с Эдвардом можете составить мне компанию, но надеюсь, до этого не дойдет. Скорее бы мать приехала. Они не виделись уже много месяцев. Кэтрин продолжала сильно скучать по ней и считала дни до желанной встречи. Тем временем Кэтрин и Эдвард поехали в Стэллингборо, взяв носилки, так как туда был день пути. Одним из многочисленных друзей лорда Боро в этом графстве был сэр Уильям Аскью, служивший королевским сборщиком налогов. Несмотря на свою непопулярность в связи с занимаемой должностью, сэр Уильям слыл человеком радушным и предложил Эдварду взять с собою Кэтрин, чтобы погостить в его прекрасном поместье. — Мои дети будут рады познакомиться с вами, — сказал он. И они поехали. К счастью, обнаружилось, что более молодые Аскью столь же милы и приветливы, как и их отец. За вкуснейшим обедом сэр Уильям, поддавшись на уговоры гостей, рассказывал о своих поездках ко двору, о короле, хотя в этом отношении проявлял осторожность. Кэтрин даже показалось, что он недолюбливает своего соверена. Из пяти очаровательных детей сэра Уильяма больше всех Кэтрин понравилась девятилетняя Анна, умненькая девочка, которая, казалось, испытывала жажду к знаниям и любила задавать вопросы. Кэтрин искренне захотелось, чтобы Анна Аскью посещала уроки в Гейнсборо. Она наверняка оживила бы там обстановку. Даже лорд Боро был бы впечатлен. И опять Кэтрин невольно соотнесла свои мысли с мнением свекра! Ночевали они в спальне для гостей, и Кэтрин приснился кошмарный сон. Перед глазами у нее все время стояло лицо Анны; рот у девочки был разинут в беззвучном крике, волосы на голове горели. Это было так ужасно, что Кэтрин, вскрикнув, проснулась и резко села в постели. — Что случилось, дорогая? — пробормотал Эдвард, тоже подскочив. — Мне п-приснился ж-жуткий сон, — запинаясь, проговорила она и содрогнулась при воспоминании о нем. — О Господи!.. — О чем он был? — спросил Эдвард, крепко обнимая ее. — И не говорите «ни о чем», потому что вы явно расстроены. Кэтрин рассказала, стыдясь открывать мужу, на что способен ее разум, и почувствовала в темноте, как напряглось его тело. — Во сне она выглядела старше, но это точно была она. Молюсь, чтобы это не был дурной знак. Она такое милое дитя. Только бы с ней не случилось ничего плохого. — Это был всего лишь сон, — утешал ее Эдвард. — Только суеверные дураки видят в снах предзнаменования. Выбросьте это из головы. Хороший совет, но неисполнимый. Аскью наверняка удивились, что не так с их гостьей, когда она при прощании со слезами на глазах крепко обняла Анну. А воспоминания о ночном кошмаре не оставляли ее еще много дней. Кэтрин не могла отделаться от навязчивых мыслей о нем.
Мать приехала в июне. Одетая в дамаст и в дорогих украшениях, она выглядела истинной леди до кончиков ногтей. Лорда Боро приветствовала надменно, как и подобает той, кто служит королеве. Только мать не знала о презрительном отношении хозяина Гейнсборо к королеве Екатерине; кроме того, ему было известно, что та в опале при дворе. Однако повел он себя так, будто потакает матери во всем. Кэтрин проигнорировала эту его лицемерную любезность. Она была поглощена радостью, что снова оказалась в материнских объятиях, и купалась в ее утешительном спокойствии. «Мать все исправит», — думала Кэтрин. Правила вежливости были соблюдены. Лорд Боро устроил великолепный обед в главном зале и даже нанял ансамбль музыкантов из Линкольна, чтобы порадовать гостью. Разговор за столом велся только о приятных вещах — новости о Великом деле короля предусмотрительно не обсуждались — и проблемах управления большим поместьем. Только после того, как унесли недоеденные фрукты и круговую чашу, мать обратилась к лорду Боро и с улыбкой сказала: — Можем мы поговорить приватно? Кэтрин и Эдвард потихоньку переглянулись.
Как мать добилась этого, супруги никогда не узнали, потому что после она сказала: им незачем знать. Однако спустя добрый час они с лордом Боро появились из маленькой гостиной, и лорд сказал Кэтрин и Эдварду довольно любезным тоном, мол, следуя совету леди Парр, он решил, что им нужно обзавестись собственным домом. Незадолго до этого ему предложили занять пост управляющего поместьем Киртон в Линдси вместе с Эдвардом, и в его распоряжении там находится «скромный дом», как он выразился. Кэтрин хотелось кинуться к матери и заключить ее в объятия, но она сдержалась и вместо этого поблагодарила свекра за доброту и щедрость так мило, как только могла. Эдвард уже много месяцев не выглядел таким счастливым, и за это она тоже испытала глубокую благодарность. Если Господу будет угодно, когда они станут жить одни, может, и их брачные отношения наладятся. А быть хозяйкой собственного дома — это просто восхитительно! Кэтрин не сомневалась, что справится. Ей почти восемнадцать, и она многому научилась у матери и леди Бург. — Киртон — прекрасное поместье, — сказал Эдвард. Он был знаком со всем, что принадлежало семье, так как отец привлекал его к управлению поместьями. — Мне там понравится, — оживленно ответила Кэтрин, радуясь своей удаче. — Это далеко отсюда? Ей хотелось знать, сможет ли лорд Боро появляться на ее пороге каждые несколько дней? — В двадцати милях к северу, в Уолдсе, — ответил Эдвард с заговорщицкой улыбкой. — Нам нужно завершить кое-какие формальности, — продолжил лорд Боро, — и внутри дом в плачевном состоянии. Мне придется послать туда столяров и маляров, чтобы отремонтировать и подновить его. Сад тоже нуждается во внимании. Кэтрин, вы с Эдвардом сможете взять отсюда кое-какую мебель, и я дам вам денег на покупку необходимого. Боже, мать прекрасно справилась со своей задачей! Она стояла и благосклонно улыбалась. Кэтрин снова захотелось крепко обнять ее.
Теперь Кэтрин не так сильно расстроили отъезд матери и необходимость жить в Гейнсборо, пока дом в Киртоне ремонтируют, ведь они уедут отсюда, как только все будет готово, отправятся в новую жизнь. Ей было больно покидать леди Бург и детей, но, может, после вмешательства матери лорд Боро станет к ним добрее. Определенно, в течение последних нескольких недель, проведенных в Гейнсборо, он был так же обходителен с Кэтрин, как до свадьбы. Ясным октябрьским днем молодые супруги отправились на север, в Киртон. Нагруженные домашними вещами повозки тянулись следом. Дорога петляла и была изрыта высушенными солнцем колеями; зимой по ним, наверное, не проехать, но, если это удержит лорда Боро подальше от них, тем лучше. Они не жаловались на трудности пути. Сердца их парили, головы у обоих кружились от радостных ожиданий, и оба не разочаровались. Когда Эдвард и Кэтрин поднялись на вершину покатого холма, откуда открывался вид на Уолдс и Киртон, и Кэтрин впервые увидела усадебный дом, то разинула рот от восторга. Здание из светлого камня с зубчатыми стенами, крытое черепицей, имело два крыла с треугольными фронтонами и высокими стрельчатыми окнами. Его окружали зеленые лужайки и большие деревья. Быстро спешившись и кивнув конюху, чтобы присмотрел за лошадьми, они бросились внутрь и стали носиться по дому, как двое возбужденных радостью детей, вскрикивая от удивления при виде того, какие просторные в нем комнаты, и восхищаясь свежевыкрашенными стенами, натертыми полами и огромными каминами. В спальне они обнялись. — Здесь мы начнем все с начала, Кэтрин! — сказал Эдвард и поцеловал жену. — Я обещаю, что теперь стану для вас хорошим мужем. И он выполнил обещание. Вдали от подавляющего влияния отца и тяжелой обстановки Гейнсборо Эдвард стал спокойнее, и они снова сумели познать физическую близость. Кэтрин понадеялась, что в колыбели, которую она, поддавшись оптимизму, захватила с собой из дома свекра, скоро будет лежать наследник Эдварда. Как обрадуется лорд Боро! «Нет, — укорила она себя, — хватит соизмерять свою жизнь с тем, понравится ли это свекру!»
Два раза у нее не наступали месячные, и Кэтрин стала уже надеяться, что Господь в конце концов внял ее молитвам. Небесам известно, она часто взывала к Нему. В Киртоне не было молельни, только молитвенный поставец, так что Кэтрин ездила в приходскую церковь, и люди привыкли видеть ее там стоящей на коленях перед алтарем прямо на выложенном плитками полу. Жители деревни хвалили юную леди за набожность и благие дела. Она провела в этой местности чуть больше года, а они успели всем сердцем принять обоих супругов Бург. Кэтрин преклонила колени в пустом нефе и сосредоточила взгляд на статуе Мадонны с Младенцем, которая стояла в алтаре рядом с Распятием. — Святая Матерь, — тихо проговорила она, — прошу, заступись за меня, чтобы я смогла выносить ребенка. Вдруг ей пришла в голову мысль, что обращение напрямую к Господу может быть более плодотворным. Обязательно ли посредничество Его Матери или одного из святых? Общаться с самим Господом должно быть просто, но нет. Мирянам приходится полагаться на священников и всю церковную иерархию: только духовные лица могли истолковать для них Писание, к тому же оно на латыни и по большей части непонятно простым людям. Такое ощущение, что Церковь специально воздвигла преграды между людьми и Богом, и кто она такая, обыкновенная молодая женщина, чтобы выражать недовольство этим? Но ведь она тоже дитя Божье, и у нее есть душа, требующая защиты; юношеские убеждения Кэтрин расшатывались, и она уже не была уверена, что стоит на верном пути к спасению. В сомнениях вернулась Кэтрин к молитве, осмелившись просить самого Создателя об исполнении своего самого заветного желания и надеясь, что тем не прогневает Его.
Отношения с лордом Боро, поддерживаемые на расстоянии, стали гораздо лучше. Дом в Киртоне оказался тихой гаванью, где царили домашний уют и покой. Если Эдвард так и не мог освоиться окончательно с ролью мужа, Кэтрин не роптала. Они нравились друг другу и стали добрыми друзьями. Такой союз был несравненно лучше, чем тот, в котором томилась и страдала леди Бург. Но венцом их счастья, конечно, стал бы ребенок. Беспокоилась Кэтрин только о матери, которая решила остаться на службе у королевы вместе с Анной даже после того, как ее милость прошлым летом была удалена от двора. Теперь королева Екатерина жила в поместье Мор в Хартфордшире, ранее принадлежавшем кардиналу Уолси. Служили ей, как прежде, но на оставшихся при ней слуг король смотрел с подозрением, и над их головами сгущались тучи. Кэтрин могла только аплодировать матери, которая осталась верна своей госпоже, но тем не менее предпочла бы, чтобы та самоустранилась. Дядя Уильям наверняка мог получить для нее место у леди Анны. Он посодействовал тому, чтобы Эдвард Сеймур обеспечил пост при дворе закончившему учебу Уиллу, и теперь оба они — дядя и брат — были в большом фаворе у короля. Слава Богу, упрямая материнская верность королеве не повлияла на это. Но как знать. Король в последнее время отличался непостоянством, как она слышала, и мог лишить своей милости любого по мимолетному капризу. Ну почему мать и Анна не вернулись в Рай-Хаус! Но, может, не стоит корить свою родительницу, — упрекнула себя Кэтрин; вероятно, та знает, что делает, поступая так, как велит ей совесть. В начале декабря, когда Кэтрин занималась радостными приготовлениями ко второму Рождеству в Киртоне, ей доставили письмо, надписанное элегантным почерком Анны. «Дорогая сестра, у меня тяжелые вести» — так начиналось это послание. Кэтрин читала дальше, не в силах поверить. Мать умерла. Началось все с простуды, но потом болезнь перешла на легкие, и никто, даже личный врач королевы, не смог ее спасти. Она ушла безвозвратно. Ее жизнь в этом мире теперь — закрытая книга. Ей было всего тридцать девять, еще рано умирать. Кэтрин не могла осознать случившегося; реальность смерти самого близкого человека потрясла ее слишком сильно. Она знала, что мать пребывает с Господом и нужно радоваться за нее, но как ей жить теперь, чем заполнить пустое место в сердце, прежде занятое матерью? Кэтрин встала на колени посреди разложенных на полу подарков. — Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас, грешных, ныне и в наш смертный час, — произнесла она. — О Господь, даруй ей вечный покой. Милостивый Отче, услышь наши молитвы и утешь нас. — По щекам ее лились слезы. — О мама! — возопила Кэтрин. В таком положении и застал ее вбежавший в комнату Эдвард.
Немного успокоившись, Кэтрин перечитала письмо Анны. Сестра сообщала: королева Екатерина была очень добра и сказала, что та может оставаться при ней сколько хочет. Ценя это благодеяние, Анна тем не менее призналась, что хотела бы уехать из Мора. Там было очень грустно, и тоска ее увеличилась вдвойне со смертью матери. Она не отказалась бы служить при дворе леди Анны, но чувствовала, что, позволяя себе мечтать об этом, предает королеву и память матери. Бедная Анна! В шестнадцать лет вполне естественно стремиться к радостям жизни. А какие радости могут ждать ее на службе у опальной королевы? Уилл и дядя Уильям присутствовали на погребении. Мать положили рядом с отцом, в капелле Святой Анны монастыря Черных Братьев. Кэтрин провела целый день в церкви, молясь об упокоении ее души. Вскоре после этого дядя Уильям прислал посылку. Внутри Кэтрин нашла крестильную пелену королевы и семнадцать украшений, завещанных ей матерью. Когда блестящие вещицы высыпались из бархатного мешочка, Кэтрин с болью в сердце узнала любимое кольцо матери — с ромбовидным бриллиантом в оправе из черной эмали. Там были еще подвески, пара гранатовых браслетов, а также миниатюра с изображением короля и королевы — красивые вещи, которые рад был бы получить любой, но Кэтрин отдала бы их все за возможность вернуть мать. Дядя Уильям написал, что Мод завещала деньги на основание школ и приданое для самых бедных девушек из числа своих многочисленных родственниц. Это был типичный для нее поступок, она всегда отличалась добротой. Кое-какие украшения мать оставила и своей невестке Энн Буршье, но их передадут ей лишь после того, как будет доведен до окончательного заключения ее брак с Уиллом. Читая это, Кэтрин удивленно вскинула брови. Энн, вероятно, уже исполнилось четырнадцать, и она вполне могла бы разделять ложе с мужем. Но, очевидно, они пока так и не начали жить вместе. Уилл никогда не упоминал о ней в письмах, и у Кэтрин сложилось впечатление, что он вполне доволен жизнью вдали от своей суженой. Брат и самой Кэтрин теперь казался таким же далеким, как Рай-Хаус. Ей очень хотелось бы находиться рядом с ним и дядей в столь горестное время. Это было бы так утешительно. Но на дорогах в ту пору стояла непролазная грязь, и поездка превратилась бы в тяжелое испытание. Сестру Кэтрин тоже жаждала увидеть. Анна сообщила ей в письме, что король решил поучаствовать в ее судьбе и отныне является ее законным опекуном. Это принесет ей пользу, и ему тоже, ведь теперь она может рассчитывать, что король организует для нее достойный брак, хотя сама Анна предпочла бы иметь опекуном дядю Уильяма, не такого страшного, как король. Полученные от сестры известия снова навели Кэтрин на мысль о том, как сильно зависят молодые женщины от соизволений могущественных мужчин. Эдвард был просто чудо. Он не упрекал Кэтрин за то, что она слишком много плачет, в отличие от священника в церкви. Всегда оказывался рядом, когда Кэтрин хотелось поговорить, развлекал ее бесконечными играми в карты или в кости. Трагедия сблизила их, и Кэтрин каждый день благодарила Бога за то, что Он послал ей такого замечательного мужа. Однако все эти огорчения возымели свое действие. Робкая надежда, расцветавшая в ее теле, зачахла от страданий и вышла из нее с тяжелым кровотечением и болью. Эдвард даже не знал, что она ждала ребенка, — Кэтрин не успела ему сказать, — и был потрясен. — У нас будет другой малыш, вот увидите, — утешал он ее, баюкая в объятиях. — Мы сделаем другого. И Эдвард пытался, с обычной старательностью исполнял свой супружеский долг, но ничего не получалось. Очевидно, Господь не предусмотрел для Кэтрин такого утешения. Может, Он злился, что она осмелилась обращаться к Нему напрямую? Или просто знал, что для нее будет лучше? Не стоит ей подвергать сомнениям Его волю.
 Глава 6
1533 год
Глава 6
1533 год
Эдвард очень обрадовался, когда его назначили мировым судьей. Произошло это, разумеется, благодаря влиянию отца, тем не менее он намеревался оправдать оказанное доверие личными заслугами. Ему было двадцать пять, и он постепенно обретал вес в графстве.
На Богоявление, облаченный в новую черную мантию из мягкой шерстяной ткани и шляпу с брошью на полях, Эдвард присутствовал на заседаниях квартальной сессии суда в Линкольне, и на Пасху тоже. За последние годы он возмужал и стал настоящим красавцем, а судейская мантия придавала ему весьма солидный вид. Кэтрин махала рукой вслед мужу, надеясь, что они скоро увидятся вновь. Она будет скучать по нему, ведь он стал ей очень дорог.
Вернулся Эдвард меньше чем через неделю — бледный и в лихорадке, лежа в нанятых одним знакомым судьей носилках. Кэтрин помогла ему войти в дом и лечь в постель. Она сидела рядом с неподвижным супругом и обтирала его горячий лоб влажным полотенцем.
— Не умирай! Прошу, не умирай! — взывала к нему Кэтрин. — Милостивый Боже, спаси его ради меня!
Не теряя времени, Кэтрин вызвала врача из Сканторпа. Ожидая его появления, она приготовила настой из буковицы с полынью и дала выпить Эдварду. Вскоре после этого, когда дыхание больного стало поверхностным и затрудненным и он уже с трудом узнавал ее, Кэтрин поняла, что нужно послать за лордом и леди Боро, и отправила гонца в Гейнсборо на самом быстром скакуне. Потом позвала священника и вернулась к бдению у постели мужа, держа его за руку и желая всем сердцем, чтобы он выжил. Господь не может быть таким жестоким, чтобы забрать у нее еще и Эдварда. Она потеряла мать, нерожденного ребенка, и боль от этих утрат еще не утихла.
Врач приехал, осмотрел больного и покачал головой.
— Необходимо чудо, — сказал он, кладя руку на плечо Кэтрин. — Вы должны приготовиться, мистресс.
Она не чувствовала ничего, кроме страха и изумления. Этого не может быть!
Священник исполнил последние обряды над безучастным ко всему, тяжело дышавшим Эдвардом; лицо больного посерело, губы стали синими. Кэтрин опустилась на колени у его постели и молилась горячо, как никогда в жизни. Когда она наконец перевела взгляд на мужа, тот издал хриплый вздох и затих.
Кэтрин встала, онемев от потрясения. Эмоций не было никаких, только сильнейшее недоумение.
Позже в тот же день в Киртон прибыл лорд Боро с супругой. Он взял на себя заботы о похоронах. На леди Боро было больно смотреть. Ее муж, хотя и сбитый из более прочного материала, тоже с трудом сдерживал свои чувства. Он потерял старшего сына. Это тяжелый удар для любого мужчины.
Священник старался утешить их всех, призывал не подвергать сомнениям Господню волю, но благодарить за подаренную Эдварду жизнь и молиться о переходе души усопшего через Чистилище. Пока он говорил, Кэтрин осознала, что вообще не верит в существование такого места, как Чистилище, и удивилась самой себе.
Стоя рядом с семейством Бург у открытого фамильного склепа в церкви Святой Троицы в Гейнсборо, она думала только о том, что всего две недели назад Эдвард мечтал о поездке в Линкольн и накануне его отъезда они любили друг друга. Месячные наступили, как обычно, значит надежды на ребенка не было. Теперь наследником стал брат Эдварда Томас.
Кэтрин не плакала. Она постаралась исполнить наказ священника и не горевать, потому что сомневаться в мудрости Господа — это грех. Эдвард обрел вечную жизнь, и когда-нибудь они воссоединятся во Христе.
Вернувшись в Гейнсборо в носилках с леди Бург и Элизабет Оуэн, женой Томаса, Кэтрин присоединилась к родне и гостям за поминальной трапезой и почувствовала некоторое утешение от мысли, что, не достигнув еще двадцати одного года, стала довольно обеспеченной вдовой. А значит, обрела независимость и могла распоряжаться своей судьбой самостоятельно. Она надеялась, что лорд Боро сообщит ей о финансовых распоряжениях, которые он сделал на ее счет. Ждать пришлось недолго. Когда участники похорон разъехались, свекор сел рядом с Кэтрин за стол на помосте и сказал:
— Я распорядился о передаче вам вашего приданого. Вы получите поместья Окстед и Оллингтон в Кенте, а также Уэстклифф — в Эссексе. Кроме того, я отписал вам доходы от двух своих имений в Суррее и одного в Кенте. Мой поверенный пришлет вам документы и ключи от домов.
— Благодарю вас, милорд, — сказала Кэтрин, радуясь, что теперь свободна от обязательств по отношению к этому человеку. — Вы проявили большую щедрость.
— Скоро я уеду ко двору, — продолжил лорд Боро. — Вы слышали, что леди Анна объявлена королевой?
Кэтрин в изумлении уставилась на него. В последнее время она была так занята, так погружена в свои проблемы, что новости из мира за пределами Киртона проходили мимо нее.
— Папа даровал развод?
— Полагаю, что да. Король женился на ней тайно. Ходит много слухов о том, когда это случилось, потому что леди Анна явно ждет ребенка. Важно то, что теперь у нас королева, стоящая за реформы, и я, по крайней мере, рад служить ей. Меня назначили ее камергером.
Это очень высокая честь. Без сомнения, король или леди Анна были наслышаны о реформаторском рвении лорда Боро. Несмотря на это, Кэтрин подумала и о несчастной старой королеве, изгнанной от двора и наперекор ее воле лишенной прежнего положения. Как переживала бы мать! Хорошо, что она не увидела этих дней.
— Я рада за вас, милорд, — сказала Кэтрин.
Лорд Боро склонил голову:
— Этот брак может стать ответом на наши молитвы. Будем надеяться, в Англии скоро появится принц, в котором она так нуждается. — Потом он прищурил глаза и спросил: — Когда вы уезжаете?
Вздрогнув, Кэтрин поняла: он рассчитывает, что она покинет Киртон, хотя сама намеревалась пока остаться там и еще не построила никаких альтернативных планов. Вдруг ей стало ясно, что она больше не нужна Бургам. Без детей, которые приковали бы ее якорем к семье, присутствие рядом с ними вдовы покойного сына было избыточным.
— Я пока не думала об этом, — пролепетала Кэтрин. — Когда вы хотите, чтобы я уехала?
— Это не к спеху, но мы хотели бы, чтобы Томас с женой перебрались в Киртон, как только это станет возможно.
— Тогда я постараюсь подготовиться к отъезду как можно скорее, — сказала Кэтрин.
— А я позабочусь о том, чтобы мой поверенный побыстрее управился со всеми вашими делами, — поддержал ее рвение лорд Боро.
Часть третья «Весьма тяжелое и опасное время»

 Глава 7
1533–1534 годы
Глава 7
1533–1534 годы
Вернувшись в Киртон, который показался ей совсем пустым, Кэтрин задумалась: что же ей теперь делать? Дядя Уильям написал, что в Рай-Хаусе ее ждут и всегда будут рады принять. Там жили тетя Мэри и их младшая дочь Марджери, еще не выданная замуж. Но Рай-Хаус уже не тот, каким был в те времена, когда кишел детьми и мать была жива. Кэтрин подумала, не поехать ли ей в какой-нибудь из доставшихся в приданое домов, где она могла бы жить независимо, но ни в Кенте, ни в Эссексе, ни в Суррее она никого не знала, а перспектива прозябать в одиночестве ей не улыбалась. Однако у нее имелись родственники на севере.
Три года назад отца Катберта назначили епископом Дарема, и еще он занял пост президента Совета Северных графств. Время от времени они переписывались; его послания были полны новостей, хотя Кэтрин заметила, что отец Катберт никогда не упоминает о Великом деле короля. Хорошо зная его, она подозревала, что добрый священник пригнул голову и держится подальше от эпицентра событий, не желая участвовать в них или навлекать на себя гнев монарха. Теперь, когда Кэтрин написала отцу Катберту о постигших ее несчастьях, он предложил ей поехать к одной общей для нее и Эдварда дальней родственнице.
Леди Стрикленд три раза овдовела. Она была замужем за сэром Уолтером Стриклендом, Вашим родственником, который умер пять лет назад. Потом вышла за младшего сына прежнего лорда Боро Генри, но тот умер меньше чем через год после свадьбы, а ее третий муж, которого, кажется, звали Дарси, почил в прошлом году. Недавно я видел ее, когда мне случилось поехать в Кендал. Она живет недалеко от замка Сайзерг в Уэстморленде и во время нашего теплого разговора призналась, что ей одиноко. Вы составите отличную компанию друг другу. Если хотите, я напишу ей и предложу, чтобы Вы приехали к ней жить на какое-то время. Сайзерг — отличный дом с прекрасным садом, и леди Стрикленд очень милая женщина. Я уверен, это поможет Вам оправиться.
Чем дольше Кэтрин думала об этом, тем более привлекательной становилась для нее идея отправиться в Сайзерг. Леди Стрикленд, похоже, была идеальной компаньонкой, и в ее обществе печальные воспоминания ослабят хватку. Кэтрин согласилась на предложение отца Катберта и написала ему, а потом очень обрадовалась, получив послание от самой леди Стрикленд, в котором та говорила, что будет счастлива видеть Кэтрин в своем доме и примет ее как родную.
На сердце у Кэтрин полегчало. Она приказала паковать вещи. Печалила ее лишь необходимость оставить безотказную Элинор. Лорд Боро приказал ей отныне служить Элизабет Оуэн.
В тот день, когда к дому подъехали конные носилки, которые увезут ее из Киртона навсегда, Кэтрин обошла дом, в каждой комнате вспоминая Эдварда, и наконец всплакнула о нем. Трудно было оставить его в прошлом и отпустить из своего сердца, но нужно смотреть в будущее.
Поездка заняла целую неделю. Кэтрин и ее эскорт, миновав Йоркшир и Пеннинские холмы, попали в более дикую и малонаселенную местность. Небо широко простиралось у них над головой, а перед глазами открывались восхитительные пейзажи. Замок Сайзерг прочно стоял на плоской равнине в окружении мягко очерченных холмов. Четырехъярусная башня и примыкающее к ней здание были сложены из древних серых камней, сильно выветрившихся. Замок был больше и внушительнее, чем Гейнсборо или Рай-Хаус. Кэтрин затрепетала от радости, увидев, что вокруг него разбит прекрасный сад. Ей будет очень хорошо здесь. Навстречу гостям вышла леди Стрикленд — миловидная женщина лет тридцати пяти, с кудрявыми золотистыми волосами, которые выбивались из-под ее французского капора. На ней было черное платье из добротной материи, а на шее висела камея memento mori[156] с изображением черепа. Однако с виду эта дама вовсе не казалась скорбящей вдовой. — Мистресс Бург, моя дорогая, как приятно видеть вас. Добро пожаловать в Сайзерг! Кэтрин спустилась из носилок и обняла хозяйку замка, а та в ответ поцеловала ее в щеку и провела через крыльцо в холл. Там, выстроившись в ряд, ждали дети. Кэтрин насчитала девятерых: три мальчика и шесть девочек; все они выглядели неуемными и озорными. В них совершенно не чувствовалось сдержанности, присущей детям Бургов. Как только всех детей представили и леди Стрикленд отпустила их играть, они бросились врассыпную, смеясь и толкаясь. Потом хозяйка пригласила Кэтрин сесть вместе с ней за полированный стол; управляющий принес им вина и маленьких пирожных. Кэтрин сразу полюбилась ее новая компаньонка. Эта женщина умела сопереживать, обладала мудростью и остроумием, она была из тех редких натур, которым сразу хочется доверить все свои сердечные тайны. После того как они поели, леди Стрикленд повела Кэтрин в приготовленную для нее спальню, расположенную в башне. — Замок старый. Думаю, ему лет двести. Я управляю им, пока мой старший сын Уолтер не достигнет совершеннолетия — это случится в следующем году, — но мы с ним договорились, что я и дальше буду жить здесь. К счастью, все мои мужья оставили деньги на приданое дочерям, хотя найти подходящую партию непросто, могу вам сказать. Но торопиться некуда. Вот мы и пришли. Она открыла тяжелую дубовую дверь, и Кэтрин вошла в большую светлую комнату с тремя окнами в форме трилистника, устроенными в алькове. Тут стояла дубовая кровать под балдахином с зелеными дамастовыми занавесками, на полу лежал турецкий ковер, а у очага помещалось кресло с высокой спинкой. Явилась горничная с тазом, кувшином для умывания и полотенцем из голландского полотна; все это она поставила на сундук под окном. — Уборная там, — сказала леди Стрикленд, указывая на дверь в углу. — Если вам что-нибудь понадобится, позвоните. На каминной полке стоял маленький ручной колокольчик. — Превосходно, — отозвалась Кэтрин. — Вы очень добры. — Можете жить здесь сколько хотите, — с улыбкой отозвалась леди Стрикленд. — Я буду рада вашему обществу.
Кэтрин жилось замечательно. В часы досуга она читала хозяйские книги, с удовольствием проводила время на винокурне, где для развлечения готовила духи и варенья. Леди Стрикленд — Кэт, как теперь называла ее Кэтрин, — без конца уговаривала гостью остаться у нее. В благодарность та тратила немало времени на обучение дочерей хозяйки, вспоминая заветы матери, считавшей крайне важным давать образование девочкам. У мальчиков — Уолтера, Томаса и Роджера — был учитель, но он противился тому, чтобы их сестры тоже посещали уроки. Кэтрин не одобряла его методы, так как этот наставник принуждал своих учеников к скучной зубрежке, и постаралась сделать так, чтобы в противовес ему девочки — Элизабет, Анна, Мэри и Агнес Стрикленд — занимались с удовольствием. Младшие — Анна Бург и Фрэнсис Дарси — были еще слишком малы для учебы, но всегда принимали участие в общих играх. Это был счастливый дом, он вызывал у Кэтрин пронзительно сладкие воспоминания о Рай-Хаусе. Анна написала ей, что благодаря влиянию дяди Уильяма ее назначили фрейлиной к королеве Анне. Екатерина отпустила ее, дав свое благословение; она, несомненно, понимала, почему родные хотели, чтобы Анна удалилась от нее. В следующем послании подробно описывалась коронация новой королевы и прекрасные платья, которые получили фрейлины. Я сама чувствовала себя королевой. В процессии я видела твоего ужасного лорда Боро, который нес шлейф ее милости. Он был одет в парадное платье и мантию из белой ткани с горностаевым подбоем и выглядел по-королевски, как и она. Отец Катберт тоже присутствовал на коронации, но не так торжествовал. Толпа стояла молча, когда мы проходили, и я ощущал исходившую от людей враждебность. Некоторые отпускали замечания по поводу неуместности девичьего белого платья, когда женщина на шестом месяце беременности. Я видел лорда Боро, который очень кичится собой. При дворе ходят слухи, будто король обругал его за то, что он забрал барку бывшей королевы и сжег ее герб. Кэтрин легко могла представить лорда Боро за этими занятиями. Было ясно, что Анна восхищается новой королевой и стала ярой сторонницей религиозных реформ. Кэтрин не обсуждала это с Кэт, так как та держалась старых взглядов. В часовне Сайзерга с высокими балочными потолками никогда не зазвучит чтение Библии на английском языке, если это будет зависеть от хозяйки замка. Так что лучше не затевать с ней споров о религии. Для Кэт тут и спорить было не о чем, но Кэтрин, глаза которой раскрыл не кто иной, как лорд Боро, начинала задумываться: а правильна ли старая вера? Тем не менее она всегда корила себя за такие кощунственные мысли.
Месяцы пролетали быстро, как бывает всегда, когда человек наслаждается жизнью. Две женщины каждый день катались на лошадях. Иногда охотились с соколами. Однажды летним полднем они поехали в замок Кендал, принадлежавший предкам Кэтрин; он стоял на возвышенности, откуда открывался вид на город. Это была настоящая крепость с башнями на углах и толстыми стенами, заросшими плющом, отчего все здание имело заброшенный вид. Женщины пешком поднялись на холм, потому что Кэтрин хотела зайти внутрь, но ворота оказались запертыми. — Только подумайте, я могла бы родиться здесь или расти, — задумчиво проговорила она. Кендал находился очень далеко от дома, в монастыре Черных Братьев, где теперь хозяйничал Уилл. — Я бы предпочла не заходить внутрь, — сказала Кэт, скривив лицо. — Там, вероятно, все в запустении и страшно. — Тем лучше! — рассмеялась Кэтрин и побежала вниз с холма. Как здорово быть молодой, незамужней, беззаботной и жить так, как тебе нравится, ни от кого не завися. Они отвязали лошадей и поехали в Кендал, где поглазели на разложенные в лавках товары и зашли в приходскую церковь: там были похоронены дед Кэтрин, сэр Уильям Парр, и некоторые другие ее предки. Потом женщины вернулись в Сайзерг, поужинали с детьми и мирно провели вечер за вышиванием и разговорами.
Приближалась зима. С океана дули холодные ветры, окрестные горы заволакивало осенними туманами. Дожди шли каждый день. Кэтрин провела в Сайзерге пять месяцев, когда пришло письмо от отца Катберта. Тот интересовался, не подумывает ли Кэтрин о том, чтобы снова выйти замуж, потому что он знает одного джентльмена, который мог бы ей понравиться. Это был троюродный брат ее отца Джон Невилл, барон Латимер, один из членов Совета Севера. Во время их последней встречи лорд Латимер обмолвился, что ищет себе супругу. Он сказал мне, что ему нужна компаньонка для себя и мать для его детей, так как сам лорд часто бывает в отъезде — на сессиях парламента или на заседаниях Cовета. Ему сорок лет, он родственник Вам и леди Стрикленд. Живет в замке Снейп в Северном округе Йоркшира и происходит из знаменитого дома Невиллов. Это редкая удача, дитя мое. Милорд Латимер — человек честный, и я рад порекомендовать его Вам, если у Вас есть желание выйти замуж. Кэтрин села, молча уставилась на письмо и глубоко задумалась. Она колебалась. Хочется ли ей снова замуж? Ей больше хотелось остаться здесь. Но сколько еще позволительно пользоваться гостеприимством Кэт? Может наступить момент, когда она начнет злоупотреблять им, хотя сейчас в это верилось с трудом. Однако необходимо принять в расчет и другие соображения. К этому моменту Кэтрин уже поняла, что доходов от ее приданого с избытком хватает для одного человека, живущего в гостях у кого-то, но они не позволят ей поддерживать столь же высокий уровень жизни, если она уедет в один из своих домов, полученных в приданое, и начнет самостоятельно вести хозяйство, что ее ничуть не привлекало. Но тут появляется этот лорд — состоятельный барон, который почти в два раза старше ее, и предлагает ей новую жизнь в качестве хозяйки замка, комфорт и уважение до конца дней. Что же ей делать? Просидев в раздумьях довольно долго, Кэтрин решила посоветоваться с Кэт и показала ей письмо отца Катберта. — Я его знаю, — с улыбкой сказала леди Стрикленд. — Хороший человек, заботливый. Это стоящая партия. Мне будет жаль расставаться с вами, Кэтрин, но я не стану помехой столь выгодному браку. Кэтрин задумалась, не рассчитывала ли леди Стрикленд оставить ее в Сайзерге навечно. Несмотря на возникшие сомнения, она верила, что Кэт принимает ее интересы близко к сердцу. — Я не могу решиться, — сказала Кэтрин. — Напишите епископу, что его предложение заинтересовало вас, но вы хотели бы познакомиться с лордом Латимером, прежде чем принимать окончательное решение. Скажите, что я с радостью приму его в Сайзерге как своего гостя. До Снейпа отсюда не больше пятидесяти миль. — Спасибо вам, — поблагодарила Кэтрин. — Это пока наилучший выход. Она написала не только отцу Катберту, но и дяде Уильяму, который прислал восторженный ответ: Невиллы — самая старая, могущественная и знаменитая семья на Севере. Они всегда были благосклонны к Паррам. В наши дни они представляют давнюю традицию службы королю, тогда как мы в ней люди новые. Я призываю Вас серьезно обдумать этот брак. Лорд прибыл в Сайзерг морозным ноябрьским днем. Кэтрин и Кэт встречали его на крыльце. Кэтрин по-прежнему ходила в черном в память об Эдварде, однако платье ее было из бархата, а капор украшен жемчугом. Его светлость приветствовал женщин в грубовато-добродушной манере, при этом невыразительное загорелое лицо гостя расплылось в улыбке. Говорил он с заметным северным акцентом, держался с большим достоинством, которое облекало его фигуру так же хорошо, как и костюм для верховой езды — неброский, но превосходного качества. По распоряжению Кэт слуги приготовили отличный обед из оленины и зайчатины. Во время застольной беседы Кэтрин выяснила, что лорд Латимер — прямодушный йоркширец. В нем не было ни капли притворства; говорил он откровенно, ничего не утаивая и не лукавя. — Я не люблю двор. Мне нравится вести тихую жизнь в Йоркшире, Божьем краю. Занимаюсь здесь своими делами, управляю поместьями и присматриваю за арендаторами. У меня нет интереса к этим новым религиозным идеям. Господа я почитаю так, как делали мои предки. С меня этого довольно. Он как будто выкладывал карты на стол. Вот я какой. Берите меня или оставьте в покое. — Я никогда не бывала при дворе, — призналась Кэтрин, — но мои родные служат там. А я вполне довольна жизнью в деревне. — Ничто не доставляет ей большей радости, чем езда на лошади, — вставила леди Стрикленд, подавая знак слуге, чтобы тот принес еще вина. Лорд Латимер улыбнулся: — Такая женщина мне по душе! Я бывал при дворе. Служил королю в качестве одного из членов его личной стражи. Чтобы туда попасть, нужно быть таким же высоким, как я. Когда мне было двадцать, я служил в армии и участвовал во взятии королем Турне. После этого он возвел меня в рыцари. Он человек прямой, король Хэл[157], и я любил его, но, когда началось его Великое дело о расторжении брака, решил, что мне лучше в Йоркшире. С тех пор я редко появлялся при дворе. Не хотел в этом участвовать. Когда меня попросили подписать петицию к папе с просьбой дать королю развод, я просто сделал это. — Вероятно, разумнее всего было поступить именно так, — заметила Кэт. — И безопаснее. — Лорд Латимер положил себе еще оленины. — Я не одобряю лютеранство и евангелизм, но видел много суеверных глупостей. Вы слышали когда-нибудь о Святой Деве Леоминстера? Нет? Ну так вот, кардинал Уолси поручил мне разобраться с этим делом. Женщина жила в крошечной каморке на чердаке над алтарем в приорате Леоминстера. Она провела там много лет, потому что настоятель был убежден, будто ее послал к ним сам Господь. Люди говорили, она такая святая, что ей не нужно ни есть, ни пить. Питалась она только пищей ангелов, как сама называла это, — облатками, которые используют на мессах. И мы получали сообщения, будто они сами летят к ней наверх из алтаря во время службы. Старый кардинал, да упокоит Господь его душу, решил выяснить, действительно ли она святая. Он приказал обыскать ее каморку на чердаке. И что, вы думаете, мы там нашли? — Лорд Латимер перевел взгляд с Кэт на Кэтрин. — Кости от мяса под постелью и нить, достаточно длинную, чтобы спустить ее до алтаря, просунутую под неприколоченную доску в полу. — Что теперь с этой женщиной? — спросила Кэтрин. — Ей велели покинуть монастырь. Оказалось, что настоятель держал ее там как свою любовницу. Их обоих осудили на публичное покаяние. — Я часто задумываюсь, правду ли говорят люди о чудесах, которые будто бы случаются в святилищах, — сказала Кэтрин. — О, я уверен, по большей части это правда, — ответил лорд Латимер. — Если одно чудо оказалось фальшивым, это не значит, что все другие тоже обман. Потому старик Уолси и хотел вырвать эту заразу с корнем. Подали большой пирог с яблоками. Лорд Латимер превозносил его вкус до небес. Закончив обед, они втроем сели у камина и продолжили беседу. Наступали сумерки. Кэтрин почувствовала, что проникается симпатией к гостю. Он не был красавцем, но в лице его читалась доброта, а в нем самом ощущалась цельность натуры. Наконец Кэт поднялась. — Пойду распоряжусь насчет ужина. А вы пока налейте себе еще вина. — Она указала на бутыль, стоявшую на приступке у камина. Кэтрин подозревала, что хозяйка намеренно оставляет их наедине. Сидела молча и ждала, что скажет лорд Латимер. В конец концов они оба понимали, ради чего он приехал. — Епископ Танстолл сообщил вам, что я дважды вдовец? — Да. — Кэтрин улыбнулась. — Моей первой женой была сестра графа Оксфорда. Она родила мне двоих детей — Джона, моего наследника, ему тринадцать, и Маргарет, ей восемь. Миледи умерла шесть лет назад, и я не могу сказать, что не тосковал по ней. Моя вторая жена была хорошая женщина, но она скончалась, не прошло и двух лет с нашей свадьбы. Последние три года я живу один, и моим детям нужна мать. Но это не единственная причина, почему я хочу жениться. Я одинок. Мне нужна подруга и спутница жизни. Слова епископа Танстолла, когда он пел вам хвалы, понравились мне, и теперь, поговорив с вами, я вижу, что вы спокойны и рассудительны, манеры у вас приятные, и вы не из трусливых. Вы выйдете за меня замуж, мистресс Бург? Предложение не застало Кэтрин врасплох, хотя и прозвучало внезапно. Ответ был у нее наготове. Мысленно извинившись перед тенью Эдварда, который умер всего шесть месяцев назад, она улыбнулась своему ухажеру: — Как только закончится траур, милорд, я с радостью приму ваше предложение. В качестве ответа лорд Латимер встал, поднял Кэтрин на ноги и поцеловал, чем изрядно ее напугал. Это был поцелуй мужчины, и от неожиданности она растерялась, осознав за какие-то мгновения, как молод, неопытен — и не склонен к физической близости с ней — был Эдвард. Лорд Латимер отстранился и взял ее за руки. Некоторое время они стояли, глядя друг на друга. — У нас будет хороший брак, — сказал он.
 Глава 8
1534–1535 годы
Глава 8
1534–1535 годы
Кэтрин настояла, чтобы они подождали, пока пройдет год траура, прежде чем устраивать свадьбу. Церемонию решили провести в Снейпе, и Кэт очень сердечно упросила Кэтрин до тех пор пожить у нее.
— Я буду по вам скучать. Мне так приятно ваше общество.
У Кэтрин отлегло от сердца: значит,она не в тягость хозяйке и не засиделась в доме нежеланной более гостьей. Остаться в Сайзерге еще на какое-то время — для нее большая радость. Есть места гораздо хуже, где можно было бы провести время траура.
Когда наступила весна, Кэтрин убрала свои черные платья, эти осязаемые напоминания об Эдварде, и с удовольствием снова стала носить цветные. Ее переписка с лордом Латимером не прекращалась, и теперь она сообщила ему, что будет счастлива, если он начнет подготовку к свадьбе. Ей самой нужно было лишь заказать подвенечное платье у портного Кэт. Кэтрин выбрала свой любимый малиновый цвет и легкую серебрящуюся ткань.
Кэт собиралась ехать в Снейп и помогать Кэтрин во время свадьбы. В Сайзерг была вызвана опытная тетушка — присматривать за детьми в отсутствие хозяйки. В начале июня женщины отправились в пятидесятимильную поездку через Пеннинские холмы в замок Снейп. По дороге они любовались замечательными видами гористого Лейкленда, вересковыми пустошами и горными долинами Йоркшира, потом ехали через Ричмондшир. В дороге Кэтрин вспоминала прошлое и перелистывала в памяти главы своей жизни: монастырь Черных Братьев, Рай-Хаус, Гейнсборо, Киртон и Сайзерг. Теперь она открывала новую, а ведь ей нет еще и двадцати двух лет.
Ее глаза широко раскрылись, когда она увидела впереди замок Снейп, приютившийся среди зеленой долины. Кэтрин не ожидала, что тот окажется таким впечатляющим и величественным. Он был больше всех прочих домов, где ей довелось жить, даже Сайзерга; его зубчатые стены были сложены из такого же серого камня, но, вероятно, возрастом он уступал замку Кэт. У Невиллов имелись средства, и в давние времена они строили мощные крепости для защиты своих владений и контроля над севером страны. Тем не менее Снейп выглядел прочным и уютным домом, а не цитаделью. Это было тихое место; ощущение царящего здесь покоя усиливалось видом мирно пасущихся на полях овец.
Лорд Латимер тепло приветствовал их и по старинному обычаю поцеловал Кэтрин в губы.
— Добро пожаловать, мистресс Бург! Я очень рад видеть вас, и вас, леди Стрикленд! Позвольте представить вам моих детей. Это Джон, хотя мы зовем его Джек. — Он подтолкнул вперед хмурого мальчика с копной непокорных черных волос, который изобразил вялый намек на поклон и не улыбнулся.
Кэтрин постаралась отнестись к нему снисходительно. Наверняка это нелегко, когда в твою жизнь вторгается новая мачеха, особенно если мальчик любил свою мать.
Кэтрин повернулась к его сестре Маргарет, чудной девочке с пушистыми золотистыми кудряшками и ангельским личиком. Маргарет едва не приплясывала от восторга от встречи с ней и порывисто обхватила гостью руками, когда та наклонилась ее поцеловать. Этого ребенка будет легко полюбить.
Лорд Латимер показал им замок. Слушая его бесхитростные речи и вновь ощущая спокойную силу и уверенность этого человека, Кэтрин почувствовала симпатию к нему, как раньше, и испытала благодарность к отцу Катберту за то, что тот нашел ей такого прекрасного мужа. Скоро она станет баронессой Латимер, аристократкой. «И это хорошо», — рассуждала про себя Кэтрин. Мать гордилась бы ею.
Хозяин замка указал на несколько разноцветных плиток, вмазанных в оштукатуренную стену над арочным дверным проемом:
— Они очень старые. Садовник случайно наткнулся на них, копая землю. Там ими выложен целый пол, но большая часть битые. Мы спасли эти и прилепили их туда. Еще там было несколько старых горшков и статуя. Наш священник полагает, что они, вероятно, сохранились со времен римлян. Насколько я могу судить, он, скорее всего, прав. — Лорд Латимер повел их наверх по изогнутой лестнице. — На этом месте люди жили, наверное, много столетий. Мы, Невиллы, получили Снейп по браку.
Они поднялись на верхний ярус башни. Кэтрин осматривалась и думала, что все здесь нуждается в женской руке. Она переглянулась с Кэт, заметив слой пыли на буфете. Но в целом это был прекрасный дом, и его можно вернуть к жизни, не прикладывая чрезмерных усилий. Когда лорд Латимер подвел Кэтрин к окну комнаты, расположенной в башне, она выглянула наружу и увидела лесистый охотничий парк и великолепный пейзаж, тянувшийся вширь и вдаль на многие мили. Место было замечательное. У нее руки зачесались поскорее взяться за дело и привести дом в надлежащий вид.
Когда они вернулись в главную гостиную и слуги принесли пышный мясной пирог и большой кусок жареного мяса, лорд Латимер попросил, чтобы Кэтрин села за столом напротив него, как будущая хозяйка дома.
— Я рад видеть вас здесь, любимая, — сказал он, — и прошу вас, зовите меня Джоном.
Кэтрин и Джон обвенчались на следующий день в часовне замка. Церемония была простая, на ней присутствовали только двое детей, несколько местных джентри и домашние слуги. Платье невесты переливалось в лучах солнца, бившего в высокие окна. После долгих и настойчивых просьб Маргарет позволили исполнять роль подружки невесты, а Джек оставался безучастно-молчаливым и угрюмым. Когда священник произнес последнее благословение, Джон поцеловал Кэтрин, и снова их обоих охватила дрожь. Держа руку жены высоко, хозяин дома спустился вместе с ней в холл под общие аплодисменты, а слуги быстро принесли блюда с едой на столы, накрытые для свадебного пира, который продолжался до вечера. Потом гости разошлись по домам. Джон ясно дал понять, что церемонии укладывания молодых в постель не будет. Когда они наконец остались одни в огромной спальне, он налил им обоим вина, сел вместе с Кэтрин у камина и принялся вспоминать прошедший день. — Редкостное зрелище являли вы в своем прекрасном платье, — сделал муж комплимент Кэтрин. — Ну что, жена, допивайте свое вино, пора в постель. — Он встал и протянул ей руку. С Джоном все было совершенно иначе. Никакого замешательства, никаких отчаянных попыток обрести твердость, никаких проб и ошибок. Он был полон желания и не терял времени. Позже той же ночью они слились в объятиях более неторопливо, и Кэтрин уснула, думая, что после этого наверняка забеременеет. Утром муж снова предъявил свои права на нее. Им было легко друг с другом, и оба испытывали наслаждение, становясь единым телом. «Вот таким должен быть брак», — подумала Кэтрин и пожалела бедного Эдварда, который просто не был создан для этого. Ей доставляло большое удовольствие слышать обращение к себе «миледи» или «миледи Латимер». Приятно было иметь титул и жить в замке с мужем, который обладал положением в обществе и позволял ей свободно распоряжаться в доме. А там многое нужно было сделать. Начала Кэтрин с того, что уволила управляющего за леность, а на его место назначила Уолтера Роулинсона, эконома Джона, человека преданного и неутомимого. С помощью нового управляющего и его жены Бесс Кэтрин быстро привела в чувство слуг, которые, как она и боялась, распустились в отсутствие хозяйки. Приступили к спешной уборке: все взялись вытирать пыль, мести, мыть, скрести, натирать полы, полировать посуду, выколачивать ковры. Кэтрин сама надела передник и трудилась вместе со всеми; так же поступила и малышка Маргарет, которой очень хотелось быть помощницей. Скоро все в замке заблестело, по дому носились запахи воска, сухих трав и свежих цветов из сада, на кухне царила безупречная чистота. Джона впечатлили достигнутые успехи. — Никогда не видел этот старый дом в таком прекрасном состоянии. Вы чудо, Кейт. И вы тоже, леди Стрикленд. Я очень благодарен вам за помощь. — Я многому научилась от Кэт в деле управления домашним хозяйством, — с улыбкой сказала Кэтрин. — Вы видели Сайзерг и как там все исправно устроено. Я взяла пример с него. Кэтрин побаивалась, что окажется в изоляции в Снейпе и ее существование здесь будет слишком тихим, а потому изрядно удивилась, обнаружив себя в центре бурной общественной жизни. У нее имелись родственники, до которых легко было добраться верхом, сами они тоже приезжали в гости и приглашали к себе. Джон был дружен с большинством местных джентри, которые время от времени заглядывали в Снейп и принимали у себя. Часто устраивались пиры и выезды на охоту, а прекрасные широкие долины Йоркшира давали Кэтрин массу возможностей для удовлетворения страсти к верховой езде. В десяти милях от Снейпа находился городок Рипон, и Кэтрин регулярно наведывалась туда за покупками, а также молилась в древнем соборе. Иногда Джон брал ее с собой в Йорк, до которого был день пути, и они останавливались там в его доме. Кэтрин нравился этот город с его старым кафедральным собором, деловой суетой и величественными общественными зданиями; ей приятно было внимание и уважение со стороны знатных горожан. Она с удовольствием свела бы знакомство с многочисленными братьями и сестрами Джона, но все они имели свои семьи и жили в отдаленных частях королевства. У Кэтрин создалось впечатление, что Латимеры не слишком дружная семья и между ними существовали какие-то распри, но совать нос в эти дела ей не хотелось. Однако сам Джон часто упоминал о своем брате Мармадьюке, жившем в Эссексе, и было ясно, что они привязаны друг к другу. С позволения Джона Кэтрин занялась образованием Маргарет, желая развить в своей приемной дочери любовь к учению и присмотреть за тем, как она соблюдает религиозные обряды. В то время как упрямый Джек страдал за уроками, которые давал ему учитель, мужчина со строгим лицом, не упускавший случая вколотить в своего подопечного очередную порцию знаний, Маргарет расцветала за партой; одно удовольствие было наблюдать за ее успехами в учебе. Это была счастливая, старательная девочка, ее солнечная натура принимала все хорошее в жизни. Сговорчивая и услужливая, она получала удовольствие от всего. Скоро стало ясно, что Маргарет полюбила мачеху до обожания, так как она буквально ходила за ней хвостом. Джек же отличался от сестры во всем. Он был угрюм, обидчив, лжив и подвержен вспышкам неистового гнева. Кэтрин никогда еще не приходилось иметь дела с таким трудным ребенком, хотя, честно говоря, в четырнадцать лет этот юноша уже входил в пору мужественности. Никогда нельзя было понять, в каких вы с ним отношениях в данный момент. Он решительно отвергал все попытки Кэтрин управлять им или как-то позаботиться о нем. Она приписывала эту строптивость тому, что мальчик в детстве остался без матери, и понимала: он считает ее незваной гостьей. К тому же ей казалось, что Джек видит: ее любимица — Маргарет. Да, его сестру очень легко было принять в свое сердце. Джека Кэтрин тоже одарила бы любовью, если бы он ей это позволил. Сдаваться она не собиралась.
Они с Джоном были женаты пять месяцев, когда он предложил ей поехать с ним в Лондон. — Мне нужно показаться в парламенте. Это будет разумно. До Снейпа дошли вести, что король порвал с папой и объявлен верховным главой Церкви Англии во Христе. Джон не одобрил это и очень расстроился, услышав разговоры, что, когда потребуется, все должны будут дать клятву, признавая новый титул короля и маленькую принцессу Елизавету, не оказавшуюся долгожданным принцем, — его наследницей. — Это неправильно, — прорычал Джон, выезжая вместе с Кэтрин осматривать фермы. — Только папа может быть главой Церкви, как заповедал наш Господь. — Но вы дадите клятву? — настойчиво спросила Кэтрин. — Это будет самым мудрым шагом. Джон похлопал ее по руке: — Я не дурак, и я дам клятву. — Господь увидит, что у вас на сердце, — поддержала она мужа. Кэтрин знала, что Джон сдержит слово. У него были основательные причины для стремления сохранить хорошее отношение к себе короля. Это выяснилось случайно. Однажды она нашла в замковой библиотеке печатную книгу под названием «Замок удовольствий», написанную неким Уильямом Невиллом. Радуясь любой попадавшей в руки книге, Кэтрин прочла и эту. В ней была странная сказка в стихах о человеке по имени Желание, которого Морфей, бог сновидений, отвел в удивительный замок, где в прекраснейшем саду он встретился с дамой по имени Красота и признался ей в любви. Очнувшись от этого идиллического сна, он стал сетовать на непостоянство человеческих отношений. В тот вечер Кэтрин спросила мужа, читал ли он эту книгу. — Эту! — буркнул он. — Нет, я ее не читал. У меня нет времени на такие глупости. Ее написал мой брат Уильям, и что это принесло ему? У него голова забита всевозможными фантазиями. — Джон замялся. — Кейт, я должен вам кое-что рассказать. В позапрошлом году Уильяма обвинили в измене. Кэтрин ахнула. — За что? — На него донесли, будто он советовался с тремя колдунами, которые предсказали смерть короля и мою. — Джон пожал плечами, выражая тем свое отношение к абсурдности этих обвинений. — Бог знает, что за безумие на него нашло. Я могу понять его желание получить после меня наследство, хотя мне горько думать, что он готов убить меня ради этого. Замышлять братоубийство — негодное дело, но иметь умысел на смерть короля — это уже сумасшествие. — Он покачал головой. — Но, может быть, Уильям и правда помешался, потому как выяснилось, что он хотел стать графом Уориком[158], зачем — этого мне никогда не постичь. Потом, будто этого мало, чтобы заслужить виселицу, он занялся колдовством. Даже пытался сделать себе накидку-невидимку. Это подтвердил его духовник. Меня самого допрашивали в Тайном совете, хотя я слыхом не слыхивал о делах брата. Наших братьев Джорджа и Кристофера тоже вызывали. Не то чтобы я сильно переживал за них — можете представить, после смерти отца они потащили меня в суд! Заявили, будто я присвоил собственность, по праву принадлежавшую им. Но это неправда, хотя какая разница! Вот какова братская любовь. — Джон встал и налил себе кубок вина. — В любом случае, провидением Господа, я не попал под подозрение и Уильяма отпустили, так как ни одно из обвинений против него не смогли доказать и решили, что он стал жертвой оговора. Но я не уверен. Уильям достаточно глуп, чтобы сделать то, в чем его обвиняли. Разумеется, все это уничтожило его. Он обеднел, оплачивая счета адвокатов, а ведь у него есть семья, которую нужно содержать. — Джон раздраженно вздохнул. — Почему вы не рассказывали мне об этом раньше? Он искоса глянул на жену: — Я думал, это может вас отпугнуть. Простите, я должен был быть честен с вами. — Мгновение он смотрел на Кэтрин. — Это что-то изменило бы? Она покачала головой: — Вовсе нет. Ее тронуло, что Джон, судя по выражению лица, испытал благодарность к ней.
Поездка в Лондон оказалась долгой, и Кэтрин вздохнула с облегчением, когда они наконец добрались до дома Джона на Чартерхаус-сквер. Она устала от постоялых дворов и монастырских гостевых домов, от тряски на ухабистых дорогах в носилках, куда сквозь щелки между кожаными шторками задувал холодный ветер. По крайней мере, дети были избавлены от таких лишений; их отправили в Сайзерг к Кэт. А Кэтрин и Джон по пути заехали в Рай-Хаус, где их гостеприимно встретила тетя Мэри. После Сайзерга и Снейпа дом показался Кэтрин маленьким, но было приятно вернуться сюда, несмотря на жгучие воспоминания о минувших годах счастливого детства, которые больше не вернутся. Резиденция Джона в Лондоне располагалась недалеко от церкви Святого Жиля у ворот Крипплгейт, за старой городской стеной и барбиканом. Два года назад Джон арендовал дом у аббата из Першора. Это было красивое здание, составлявшее часть выстроенных квадратом строений, обрамлявших большой и ухоженный луг. На другой его стороне располагался Чартерхаус, Лондонский картезианский монастырь. — Под этим лугом — ямы, в которых хоронили умерших во время чумы, — сказал Джон. — Я предпочла бы не знать об этом, — скривившись, ответила Кэтрин. — Не беспокойтесь, тела захоронены глубоко, и опасности распространения заразы нет. Нескольких слуг послали вперед со строгими указаниями от Кэтрин подготовить дом в соответствии с высокими стандартами, которые теперь преобладали в Снейпе. Обходя свои владения, Кэтрин с удовольствием отмечала, что ее повеления выполнены. Она любовалась приемными залами, отделанными деревянными панелями с орнаментом в виде складчатой ткани, красивой столовой с видом на площадь и просторной кухней, которая могла похвастаться камином шириной около восьми футов. Приподняв юбки, Кэтрин спустилась в сводчатый кирпичный погреб, где хранились бочки с вином. — На дома здесь большой спрос, — сказал Джон, когда они сели за обед, состоявший из куропаток и свинины. — Многие придворные чины живут по соседству. Рядом с нами — господин Леланд, королевский антиквар. До дворца Уайтхолл отсюда меньше часа пешего хода. — Очень милый дом, — с энтузиазмом поддержала мужа Кэтрин, — и недалеко от дома Уилла в монастыре Черных Братьев. Нужно повидаться с ним, как только он сможет освободиться от своих обязанностей при дворе. И я бы хотела пригласить его и дядю Уильяма на обед. — Приглашайте кого хотите, любимая, — сказал Джон. Приятно было снова оказаться среди лондонской суеты, которую Кэтрин помнила с детства. Даже шум и запахи не могли испортить ей удовольствия от города. Когда Джон отправлялся в парламент или ко двору, Кэтрин бродила по улицам и рынкам, заглядывала в лавки ювелиров на Чипсайде или обходила собор Святого Павла, восхищаясь скульптурами и присматривая товары по сниженным ценам в лавках, выстроившихся вдоль стены нефа. Дома она тоже была счастлива, наслаждалась прекрасной обстановкой и любила налить себе вина после обеда и выпить его, сидя за хорошей книгой в уютной комнате, которую выбрала своей гостиной. Джон был не так доволен. Пока Кэтрин слушала его сетования на министров короля и их политику, на невозможность получить аудиенцию у его величества и общую состязательность придворной жизни, у нее создалось впечатление, что ее супруг обладает весьма незначительным влиянием при дворе и имеет очень мало добрых знакомых в Уайтхолле. Единственным, кто проявлял дружеские чувства к Джону, был йоркширец, сэр Уильям Фицуильям, дальний родственник Невиллов. Если Джон рассчитывал снискать расположение короля и получить какие-то преференции, сэр Уильям мог стать в этом деле хорошим союзником, так как был близок к его величеству и сэру Томасу Кромвелю, который уже довольно давно сменил кардинала Уолси на посту главного министра и обладал неограниченной властью. Время шло, а надежды Джона не исполнялись, и Кэтрин увидела своего мужа в новом свете. Она поняла, что он нерешителен, а его суждения недостаточно обоснованны для человека, желающего занять высокий пост. Стремясь любыми способами избегать конфронтации, Джон шел на компромиссы, которые не удовлетворяли никого и меньше всего шли на пользу ему самому. Однажды к ним на ужин пришел дядя Уильям. Кэтрин была счастлива видеть его после долгих лет разлуки. Она поделилась с дядюшкой своими тревогами за Джона, пока тот показывал Уиллу погреб. Как же приятно было видеть их обоих! Дядя Уильям выглядел как прежде, а Уилл, которому исполнился двадцать один год, превратился в высокого широкоплечего мужчину с рыжей бородкой. Придворный костюм смотрелся на нем весьма элегантно, и Кэтрин подумала: наверное, ее брат пользуется успехом у женщин. Кстати, он ни разу не обмолвился о своей жене, из чего она сделала вывод, что они до сих пор не живут вместе. «Все это довольно странно», — размышляла Кэтрин. Но больше ее беспокоил Джон. — Я догадывался об этой проблеме, — сказал дядя Уильям, макая белый хлебец в соус. — Несколько раз я виделся с ним и разговаривал, спрашивал, как у него идут дела, но мне показалось, он сам не знает в точности, чего хочет. — Он хочет быть в милости у короля после истории с его братом. — Кэтрин знала, как Джон переживает, не навлек ли на себя монаршее неудовольствие. — Да, но для этого нужно горячо поддерживать идею верховенства короля, а также демонстрировать безусловную преданность и послушание его величеству. Если Джон претендует на пост при дворе или на государственной службе, он должен проявить способности к лидерству. У него много хороших качеств, но, боюсь, именно этого в нем нет. Скажите, он в Лондоне, потому что хочет здесь быть или просто думает, что так нужно? У меня создалось сильное впечатление, что он предпочел бы находиться у себя на Севере, управлять своими поместьями и держаться подальше от двора. Думаю, в его постоянных жалобах отражается невольное осознание того, что это чужая и враждебная для него среда обитания. Мой совет такой: дождаться, когда король закроет сессию парламента, а потом ехать домой и наслаждаться жизнью. Смею предположить, что его величество давно уже позабыл об Уильяме Невилле. Это был разумный совет, но, когда дядя Уильям попытался тактично внушить ту же мысль Джону, тот покачал головой: — Мне нужно знать, в каких мы отношениях с королем. Кэтрин положила ладонь на его руку: — Вам не нужно беспокоиться об этом, супруг мой. Ее слова ничего не изменили. Когда Джон не заседал в парламенте, он являлся ко двору и ждал там в толпе просителей, вытягивавших шеи, чтобы поймать взгляд короля, когда тот утром с процессией шел на мессу, и в конце концов получил уверение, которого ждал. — Король улыбнулся мне! — возгласил Джон, влетая в дом. — Он повернул голову, посмотрел прямо на меня и улыбнулся. Кэтрин ожидала продолжения — рассказа, что Джон получил аудиенцию и какую-нибудь большую милость, но нет, это было все. Он удостоился улыбки, ничего не стоившей королю. И тем не менее Джону этого хватило. Он был счастлив. Он мог вернуться домой и жить дальше своей жизнью, зная, что соверен благосклонно улыбнулся ему и не держит на него зла из-за опасной глупости его брата. Теперь он в безопасности. Кэтрин выросла в семье, члены которой были движимы амбициями, и ее удивляло отсутствие таковых у супруга. Но все же он был хорошим человеком, владыкой в своем королевстве, и относился к ней по-доброму. Могло ведь получиться и гораздо хуже. И она понимала, почему улыбки короля ему достаточно, чего никогда не смогли бы осмыслить дядя Уильям и Уилл. Вскоре после того, как они покинули Лондон, Кэтрин получила письмо от отца Катберта. Я надеялся встретиться с Вами в Лондоне, но, боюсь, обидел его величество сомнениями в королевском верховенстве над Церковью, и он приказал мне оставаться на Севере. Не беспокойтесь. Я попытался искупить свою вину, выказав готовность объяснить вдовствующей принцессе основания, по которым был аннулирован ее брак с королем, и я дам клятву, признавая верховенство, если меня попросят. Пока ничего не слышно о том, чтобы меня лишили епископства и прочих моих должностей. Но не волнуйтесь за меня, дитя мое. Я выразил открыто свое мнение для облегчения совести и надеюсь, король понимает, что в сердце своем я верен ему. «Да, — подумала Кэтрин, — но нельзя служить двум господам». Людям приходится делать выбор между королем и папой. Для некоторых это становилось ужасной моральной дилеммой, ставившей под угрозу спасение души. Для других, вроде Джона, дяди Уильяма, Уилла и отца Катберта, здесь было больше прагматизма. Саму Кэтрин, так как она женщина, едва ли попросят давать клятву, но она сделает это, если потребуется. Она слышала слишком многое о необходимости реформ в Церкви, чтобы принимать ее догматы беспрекословно, как делала в детстве и юности. Кэтрин чувствовала себя сидящей на заборе: она была не в силах отринуть веру, которую воспитала в ней мать, и в то же время ее завораживали новые идеи, о которых она слышала на каждом шагу. Достаточно было взять любую брошюрку с лотков книгопродавцев у собора Святого Павла, да и Джон каждый день приходил домой и с ворчанием рассказывал о последних возмущениях против старой религии. — Некоторые люди ратуют за то, чтобы статуи святых убрали из церквей, называя их резными истуканами, изображениями ложных идолов, — вещал он. — А кое-кто даже поклонение Распятию считает идолопоклонством. Вот что случается, когда люди сами читают Писание. Все королева Анна виновата. Она поощряет это, несмотря на запрет. И никто не смеет ей перечить. Король у нее под каблуком. Втайне Кэтрин очень хотелось подискутировать о религии с королевой Анной. Она подозревала, что у них может найтись много общего в этих вопросах. Джон пришел бы в ужас, обмолвись Кэтрин хотя бы словом о своих мыслях! — Скоро мы окажемся далеко от всего этого, — утешала она мужа. — Да, но эта зараза будет распространяться, пока не охватит все королевство, — со вздохом отвечал тот. — Влияние двора не дотянется так далеко на Север, — говорила Кэтрин. — То, что происходит в Лондоне, не всегда сказывается на стране в целом. И влияние королевы может ослабнуть, если она не родит королю сына. — Ш-ш-ш! — Джон испугался. — Это изменнические речи! — Он нервно огляделся. — Надеюсь, никто из слуг не слышал. — Тут никого нет, — промолвила Кэтрин, надеясь, что это правда, и жалея о сказанном. Честно говоря, ее утомил Лондон или скорее пребывание в Лондоне с Джоном. Он напоминал вылезшую из воды утку. Кэтрин ловила себя на том, что ждет не дождется возвращения в спокойный Йоркшир.
Оказавшись в Снейпе, Кэтрин решила снова попытать счастья с Джеком. Она написала Кэт, попросила у нее совета, и подруга настоятельно рекомендовала ей не уклоняться от проблемы. Кэтрин поняла, что настало время вплотную заняться образованием пасынка, развить его нравственно и исправить недостатки в характере. Отец и учитель, она знала, наказывали мальчика битьем, а потому защищала его при всякой возможности. — Джек, посмотри на меня! — сказала Кэтрин, застав его валявшимся в стогу сена, когда он должен был писать эссе, и потащив парнишку обратно в замок. — Ты должен взяться за учебу. Образование — ключ к успеху и полноценной жизни. У тебя было много времени после обеда, чтобы написать эссе. Ты мог уже покончить с этим и был бы свободен. — Она вздохнула, видя, что ее слова не возымели никакого действия. — Ну? — Я собирался сделать это вечером, — буркнул Джек. — Я уже написал кое-что. — Покажи, я хочу взглянуть, — сказала Кэтрин. — Вы не можете проверять меня! — вспыхнул он. — Не можете заставлять! Вы мне не мать! «Терпение», — приказала себе Кэтрин. — Нет, и не рассчитываю занять ее место, но я переживаю за тебя, так как мы живем под одной крышей. Нам обоим будет лучше, если мы попытаемся не ссориться. Джек только пожал плечами. — Ты ведь ничего не написал, верно? — прямо спросила Кэтрин, когда они вошли в замок. Он не смотрел ей в глаза. — Иди и выполни свой урок. Ты же не хочешь, чтобы тебя снова наказали. И, Джек, перестань обманывать. Это неумно, правда всегда открывается. — Трахни себя в зад! — крикнул он, схватил вазу с цветами, которые собрала Кэтрин, и швырнул ее на каменный пол; она разбилась, мелкие осколки разлетелись во все стороны, а Кэтрин уставилась на них, шокированная руганью Джека и его грубой выходкой. — Что случилось? — спросил Джон, вбегая в холл. — Ничего, — ответила она. — Джек рассказывал мне о своем эссе, и я случайно опрокинула вазу. Такая глупость! — Я позову слугу, — сказал Джон и быстро вышел. Джек таращился на свою мачеху, щеки его пылали. — Не смей больше делать ничего подобного или ругаться на меня! — прошипела Кэтрин. — Да, — пробормотал он. — Простите. Кэтрин остановилась на этом.
Вечером Джон присоединился к жене в ее гостиной за вечерней кружкой горячего ягодного эля. — Вы действительно сами опрокинули вазу? — Да, а что? — Ответ ее прозвучал фальшиво, впрочем, он и был ложью. — Вам меня не обмануть, Кейт, я знаю своего сына. Он не желает делать то, что его заставляют, и я сомневаюсь, что он стал бы обсуждать это с вами. Полагаю, вы выговаривали ему за леность, а он в ответ разбил вазу. Я прав? — Простите, я просто хотела защитить его и показать, что забочусь о нем, — призналась Кэтрин. Джон хмыкнул и откинул голову на спинку кресла. — Он доставляет мне много тревог, этот мальчик. Я не знаю, что с ним делать. Он обидчив, все воспринимает неправильно, отвергает все мои похвалы и, кажется, испытывает удовольствие от непослушания. Он считает, что грешить — это святое дело, и, если я его укоряю, говорит, что его друзьям сходят с рук вещи и похуже. Он срывается, не думая. Наказания, похоже, на него не действуют. — Думаю, выход в том, чтобы обращаться с ним по-доброму, и я намерена поступать именно так. Может, он никогда меня не полюбит, но я добьюсь того, что он будет меня уважать. — Ну желаю удачи! — сказал Джон, и слова его прозвучали так, будто он уже поставил крест на своем сыне. — Ему всего четырнадцать, он еще достаточно юн, чтобы я успела сформировать его и внушить ему чувство ответственности. Ее мягкий подход, кажется, начал приносить плоды. Она предпочитала пряник кнуту. Постоянно побуждала обоих детей любить учебу и достигать успехов в ней. Если ей приходилось делать им замечания, это всегда происходило с глазу на глаз. Кэтрин уважала достоинство детей, никогда не поднимала на них руку и упорно продолжила защищать Джека от дурных сторон его характера, даже когда застала за совсем негодным делом: прижав испуганную горничную к стене, он пытался ее поцеловать. Кэтрин схватила его за руку, утащила в комнату и сделала строгое внушение о том, как джентльмен должен относиться к женщинам. Она сознавала, что этот юноша потенциально склонен к проявлениям насилия, и размышляла: не пытается ли утихомирить пасынка, потому что сама его боится? Однако методы Кэтрин, казалось, работали. Чего бы ей это ни стоило, а она подвигла Джека к тому, что он стал вести себя лучше. Все заметили произошедшие в нем перемены. Джон удивлялся и был ей очень благодарен.
На Рождество они отмечали помолвку Маргарет с Ральфом Биго. Джон ликовал, что ему удалось заполучить для дочери сына ближайшего соседа, сэра Фрэнсиса Биго. Это стоило больше, чем он мог себе позволить, но жертва была принесена с большим удовольствием. Маргарет в обычной для себя оживленной манере изобразила, что рада. Ей было девять, и едва ли она полностью осознавала, что такое брак. Свадьба состоится не раньше чем через пять лет, а для ребенка в ее возрасте это целая вечность. Кэтрин тоже радовалась помолвке и решила позаботиться о том, чтобы, когда придет время, Маргарет была хорошо подготовлена к замужней жизни, как мать подготовила ее саму. Сэр Фрэнсис был могущественным заступником религиозных реформ. Кэтрин начала воспринимать это как необходимейшее качество. Люди вроде него могли изменить общество в целом. В начале нового 1535 года пришла новость о еще одной грядущей свадьбе, а весной Кэтрин и Джон отправились в Торнтон-Бридж, к востоку от Рипона, чтобы присутствовать на четвертой свадьбе Кэт: она выходила замуж за Уильяма Ниветта, который сразу понравился Кэтрин. У нее потеплело на сердце, когда она увидела свою подругу счастливой невестой. Торнтон-Бридж находился недалеко, и они будут навещать друг друга. В том году Кэт и Уильям три раза приезжали в Снейп, а Кэтрин и Джон праздновали с ними Рождество в Торнтон-Бридж-Холле. Кое в чем этот год оказался мрачным: король казнил сэра Томаса Мора, епископа Фишера из Рочестера и других людей, не принявших его брака и его реформ. Но в Снейпе жизнь текла счастливо, с редкими облачками на горизонте. Кэтрин молилась, чтобы так продолжалось и дальше.
 Глава 9
1536–1537 годы
Глава 9
1536–1537 годы
После Богоявления они снова поехали в Лондон, так как парламент собрался на очередную сессию и Джон чувствовал себя обязанным присутствовать. Он часто возвращался домой вечерами в мрачном настроении и ворчал, что королева Анна оказывает пагубное влияние на короля, что его главенство над Церковью незаконно, так же как планы закрыть все мелкие монастыри в стране.
— Он объявил себя верховным главой, потому что хочет наложить руки на богатства Церкви, — горячился Джон. — Люди не поддержат это, вот увидите. Никто не желает смотреть, как топчут веру, в которой их взрастили, или закрывают монастыри.
— Ш-ш-ш! — шикнула на него Кэтрин, отчаянно жестикулируя. — Ваши слова могут посчитать изменой!
Джон умолк, сердито сверкая глазами.
— Я просто хочу, — сказал он, понижая голос, — чтобы мы могли вернуться к прежней жизни и король забыл о своих нелепых затеях. Это все вина той потаскухи.
— Вы не должны так ее называть.
— Она соблазнила его колдовством, заморочила ему голову опасными идеями и расколола королевство. О ней шепчутся при дворе. Говорят, чего другого ждать от такой особы?
— Не стоит говорить о ней неуважительно. Кто-нибудь услышит и донесет на вас.
— Значит, мы все должны молчать, а ей сойдут с рук эти так называемые реформы?
Кэтрин встала и обняла мужа, почувствовав, как напряжены его плечи.
— Мы ничего не можем с этим поделать, — тихо сказала она ему на ухо, — так зачем тратить время на тревоги и беспокойства? Нужно привыкнуть к переменам.
— Вам не приходится сидеть в парламенте и держать рот на замке вопреки велениям сердца, — возразил Джон. — Иногда я думаю, что лучше было бы держаться подальше от королевского дома. Добрые люди из моего графства поручили мне представлять их интересы. Йоркширцы предпочли бы сохранить свою старую веру, и это правильно, но я ничего не могу для них сделать.
На это простого ответа не было, и Кэтрин тоже находила, что ей трудно молчать.
Как-то раз в марте Джон опять вернулся домой сильно не в духе. — Они приняли Десять статей, — мрачно сообщил он. — Это план короля относительно Церкви Англии. Не могу поверить, что это случилось. — Сядьте, муж мой, — сказала ему Кэтрин, наклоняясь поворошить угли в очаге. — Объясните, что это значит. — Король хочет очистить Церковь, — фыркнул Джон. — Он желает избавиться от суеверий, как ему угодно выражаться. Отменяются празднования дней святых, паломничества и молитвы перед статуями. Его величество милостиво согласился сохранить мессы и доктрину о Реальном Присутствии[159], кроме того, нас, как прежде, будут судить по вере и по добрым делам. Все-таки он не принял доктрину Мартина Лютера, что мы можем достичь Небес одной только верой. — Значит, в сердце своем король остается католиком, — задумчиво проговорила Кэтрин. — Полагаю, мы должны быть благодарны ему за эти маленькие попустительства, — проворчал Джон. — Однако инспектирование монастырей уже началось. Объясняется это необходимостью оценить моральное состояние братии и финансовую устойчивость обителей, но, помяните мои слова, Кромвель использует собранные сведения как предлог, чтобы закрыть их все. Кэтрин, с меня довольно. Когда парламент будет распущен на лето, мы вернемся домой. Совет Севера нуждается во мне. Кэтрин предпочла бы остаться в Лондоне, чтобы быть в курсе захватывающих событий, которые происходили в парламенте, но ее место рядом с мужем, и она поедет с ним домой без всяких возражений, потому что не хочет давать ему ни малейшего повода подозревать, будто ее взгляды на жизнь все больше отклоняются в сторону от его взглядов.
В мае они вернулись в Снейп, где их ждали письма от Анны, Уилла и дяди Уильяма. — О милосердное Небо! Королеву казнили! — воскликнула Кэтрин, в ужасе глядя на Джона. — Что? Она пробежала глазами письмо дяди Уильяма. — Ее обвинили в прелюбодеянии с пятью мужчинами — один из них — ее родной брат — и в злом умысле на убийство короля. Я… Я ничего не понимаю. Джон прочел письмо. — Я слышал кое-что при дворе и в парламенте. Некоторые говорили, что у нее дурная репутация, другие — что она весьма вольно дарит свои милости. Но я посчитал это сплетнями. О ней много злословили. Может быть, паписты воспользовались случаем избавиться от нее, и хорошо. Кэтрин никогда о таком не слышала, чтобы королеве Англии отрубили голову. Вот ужас! Разве можно в такое поверить? Она распечатала письмо Анны. Оно было очень грустным. Анна любила королеву и разделяла ее реформаторское рвение, а теперь, подумала Кэтрин, потеряет место при дворе. Но нет. Оказалось, Анне по секрету сообщили: она останется и будет служить новой королеве. Мы все знаем, кто это, потому что король уже какое-то время ухаживает за мистресс Джейн Сеймур, которая служила в качестве фрейлины вместе со мной. Если слухи не врут, она служила и королю так же усердно, как королеве. Она набожная католичка, и я боюсь, что реформы будут остановлены. Я уверена, это консерваторы при дворе выдумали обвинения против королевы, чтобы поставить вместо нее Джейн Сеймур. Сожги это письмо, дорогая сестра, как только прочтешь его. С тяжелым сердцем Кэтрин показала его Джону, после чего бросила в огонь. Послание Уилла отправилось туда же, так как и он выражал в нем огорчение по поводу того, какой жестокий удар нанесло делу реформаторов падение Анны Болейн. Новость о смерти королевы и поспешной женитьбе короля на Джейн Сеймур была главной темой разговоров во всех домах знати, где появлялась Кэтрин. Она слышала, как люди сплетничают об этом на рынке в Рипоне, и даже краем уха уловила в соборе спор священников о том, надуманны ли обвинения против бывшей королевы. Джон не сомневался, что тут не обошлось без вмешательства Господа. — Теперь у нас королева-католичка, благослови ее Бог! Почти все соглашались с ним. Он был прав. На Севере мало кто поддерживал новые порядки.
В Лондон они вновь отправились в июне, чтобы Джон мог присутствовать в парламенте. Он надеялся, что в результате последних событий реформы недавнего времени отметены в сторону, однако его радостного настроения хватило ненадолго. — Ничего не изменилось, — буркнул Джон, войдя в дом и бросив шапку на скамью в холле. — Они упорствуют в своих безбожных начинаниях, невзирая на последствия. Кэтрин налила мужу вина и протянула ему кубок: — Вероятно, королева Джейн не пользуется таким влиянием, как королева Анна. — Уверен, вы правы. Говорят, король выбрал ее, потому что она полная противоположность Анне. По общему мнению, Джейн Сеймур — маленькая мышка. От нее не услышишь ничего, кроме «да, Генрих» и «нет, Генрих», что бы ни сказал его величество. Кэтрин задумалась. Два дня назад к ним приходил Уилл. Он обмолвился, что, когда амбициозные Сеймуры объединилась с Кромвелем и другими ради свержения Анны, Джейн участвовала в заговоре. Насколько серьезно она была в него вовлечена, никто не мог судить с уверенностью. И это вызвало у Кэтрин сомнения: что же на самом деле кроется за неприметной наружностью новой королевы? Вероятно, Джейн Сеймур играет вдолгую. Ее должны волновать религиозные вопросы, ведь она слыла очень набожной. Может быть, она понимала: когда у нее на руках будет сын, тогда и позиции ее укрепятся, а значит, появится возможность влиять на короля. Кэтрин про себя вздохнула, вешая накидку Джона на крючок у двери. Они женаты уже два года, а никаких признаков беременности не наблюдалось, и вовсе не от недостатка супружеской близости. Джон оставался все таким же пылким любовником. В отличие от короля, наследник у него был, но общие дети, конечно, стали бы венцом их счастья. Они никогда не обсуждали это, и Кэтрин часто задумывалась, не испытывает ли ее муж внутреннего разочарования оттого, что жена никак не подарит ему ребенка. Она принялась массировать плечи сидевшему на стуле супругу, чтобы помочь ему расслабиться. — Король женат всего несколько недель. Пусть пройдет какое-то время. Однако Джон никак не мог отвлечься от своих печальных мыслей. — С меня довольно, — сказал он. — Меня тошнит от этих лордов, жалко лепечущих, как прекрасны реформы короля, и от себя самого, не смеющего рта раскрыть. Думаю, нам лучше уехать домой. Акт о престолонаследии издан, трон передан детям королевы Джейн. Дочь покойной королевы объявлена незаконнорожденной, как и леди Мария. Кэтрин мысленно пожалела бедняжку Елизавету, которой было… Сколько? Года два? Несчастная малышка сурово наказана за грехи своей матери. — Да, нам лучше поехать домой, — согласилась Кэтрин. Ей вдруг захотелось оказаться как можно дальше от двора.
Север кипел от недовольства, и это было очевидно всякому. На постоялых дворах и в домах, где останавливались Кэтрин и Джон по пути назад, люди были обозлены. У церквей и на рынках собирались стихийные сходки, подстрекатели пламенными речами разжигали в людях негодование. Каждый встречный имел свое мнение. Как и Джон, многие надеялись, что теперь все будет как в те времена, когда король еще не порвал с Римом. Перемены нанесли удар по самым основам повседневной жизни англичан. Дошло до того, что никто не знал, можно ли и дальше молиться святым, совершать паломничества или даже дозволено ли им принимать причастие. — Нам нужна определенность, — заявил Джон, сев во главе семейного стола в Снейпе в первый вечер по возвращении домой. — Король нарушил естественный порядок вещей. Люди тревожатся о безопасности своих душ. У Кэтрин не было ответа. Она не думала, что король рискнет потерять лицо, вернувшись под пастырский надзор Рима, и втайне поддерживала его решимость избавить английскую Церковь от суеверных практик и злоупотреблений. Зачем просить святых о заступничестве, если можно обратиться к самому Господу? Об исчезновении из церквей статуй святых Кэтрин тоже не сожалела. Господь приказал: «Не сотвори себе кумира», — так что в этом отношении она была заодно с королем. Однако в большинстве окрестных церквей священники и паства не хотели расставаться с дорогими их сердцам статуями. Ропот недовольных становился все громче. Джон слышал его всякий раз, встречаясь со своими соседями и арендаторами. — Они все верные подданные, — говорил он дома. — Никто не желает свержения короля. Люди хотят лишь восстановления старой веры, сохранения монастырей и устранения негодных министров вроде Кромвеля. Без его пагубного влияния король скорее прислушался бы к своему народу. Но эти реформисты, они кормят его ложью… — И он, сердитый, пошел умыться перед обедом. А вот Кэтрин принятые королем меры казались мудрыми и необходимыми. Она не могла представить себе ни одного правителя, который с радостью выслушивал бы критику своих решений, подсказанных учеными и совестливыми людьми. Неудивительно, что говорили, будто его милость стал в последнее время чрезмерно обидчивым и раздражительным, особенно если учесть, что он горевал о своем юном сыне, бедном герцоге Ричмонде, который, как сообщил ей Уилл, вконце июля внезапно умер. По общему мнению, король был человеком умным, хорошо образованным и искушенным в вопросах теологии. Кэтрин не сомневалась, что он обладает нужными знаниями для принятия верных решений по вопросам религии. Однако свои мысли она держала при себе.
Как-то раз, ближе к концу сентября, Джон вернулся из Рипона в большом возбуждении. — Распускают не одни только монастыри, — сказал он Кэтрин. — Церкви тоже планируют позакрывать. Мои друзья из городского совета слышали, что королевские порученцы объедут с инспекцией все церкви на Севере. Ей-богу! — Джон стукнул кулаком по столу. — Этот король — антихрист! Он покончит с религией и отправит нас всех в ад! — Вы точно знаете, какова цель приезда этих посланцев короля? — спросила Кэтрин, находя сообщение мужа невероятным. — Может быть, они едут проверить, соблюдаются ли в церквях новые законы. — Да, ровно так же, как они сделали в монастырях, — набросился на нее Джон. — А теперь закрывают их один за другим. Только самые мелкие обители, так нам сказали, но, помяните мое слово, в конце концов их уничтожат все до единой. И король присвоит себе церковные богатства. Кэтрин не показала мужу письмо Уилла, в котором тот говорил про опасения его милости, что монастыри — это рассадники папизма. Она понятия не имела, обоснованны ли эти страхи, а вот то, что монахи привержены старому порядку, не подлежало сомнению. Джон расхаживал взад-вперед, топая каблуками по плитам пола. — Когда монастыри закроют, мы увидим на улицах монахов и монахинь. Кто станет поддерживать бедняков, лечить больных, содержать школы? Кто сохранит книжное знание, которое вам так дорого? Кейт, это нужно остановить! Здешние люди желают прекращения реформ. В воздухе носятся разговоры о восстании. — А кто возьмется останавливать все это? — спросила Кэтрин. — Вы хотите подняться против короля? И рискнете подвергнуться аресту за измену? Вспомните о том, что делают с изменниками, Джон! Подумайте о детях, которых могут лишить наследства. И обо мне! — Она вдруг заметила, что в мольбе заламывает руки. Муж молчал. Он стоял к ней спиной, и Кэтрин не могла прочесть выражения его лица. — Подумайте о ваших арендаторах и обо всех, кто от вас зависит, Джон. Вы для них хороший хозяин. Лучшего они никогда не найдут. Прошу вас, проявите рассудительность, прежде чем решиться на какой-нибудь отчаянный поступок. Вы и правда считаете, что слеплены из того же теста, что и мученики? Джон повернулся к ней, хмурясь, и спросил: — Вам безразлична ваша вера, Кейт? Вы будете спокойно смотреть, как ее попирают и предписывают нам новые порядки? Вопрос мужа ошеломил Кэтрин. Посмеет ли она сказать ему, что разделяет подходы короля к вопросам религии? — Конечно нет, — сказала она. — Вера для меня — все, но и вы тоже, и мне бы не хотелось, чтобы вы рисковали, особенно когда нам неизвестно доподлинно, правдивы ли эти слухи насчет посланцев короля. Нет, Джон, люди должны обратиться с прошением к его величеству и взывать, чтобы он, в своей отеческой милости, прислушался к их тревогам. — Когда это Генрих Тюдор прислушивался к кому-нибудь? — бросил ей в ответ Джон. — Он не отступится от своих эгоистических планов, а остальные пусть выкарабкиваются, как могут! Кэтрин оставила этот спор и пошла сказать повару, что пора подавать обед. Атмосфера за столом была напряженная. Джон напоминал разъяренного быка, готового броситься на первого встречного. Джек сидел молча, и даже Маргарет, обычно разговорчивая, притихла. Кэтрин попыталась завести разговор, но никто не поддержал ее. Когда настал момент подняться из-за стола, она с радостью скрылась в своей комнате. Джон не пошел за ней. Никогда еще он не бывал в таком дурном расположении духа.
В начале второй недели октября к ним заехал близкий друг Джона, лорд Редмэйн из замка Хэрвуд, расположенного милях в тридцати к югу от Снейпа. — Приветствую! — сказал он. — Я еду в замок Миддлхэм и в другие места, чтобы поднять тревогу. Вы знаете, что в Линкольншире началось восстание? Кэтрин и Джон изумленно уставились на него. — Боже правый, как это вы не слышали колокольного звона оттуда?! — продолжил лорд Редмэйн. — Все началось в Лауте. Один викарий призвал паству к восстановлению старой религии и убедил начать протесты. Его послушались, и скоро все окрестные городки бунтовали. Королю отправили петицию. Расплата наступила быстро. Не прошло и десяти минут, по крайней мере так казалось, как в Линкольншир вступила королевская армия под предводительством герцога Саффолка. За пару недель восстание было подавлено. Джон недовольно присвистнул. Кэтрин не смела взглянуть на него, понимала, что прочтет на его лице не высказанное вслух: «Я же вам говорил». — Видите, Кэтрин, чем оборачивается отправка петиций королю! — воскликнул Джон. Лорд Редмэйн с любопытством взглянул на нее, но ничего не сказал. Они угостили его вином, и он отправился дальше. — Слушайтесь меня впредь, — более мягким тоном произнес Джон, когда супруги вошли в дом с крыльца. Кэтрин кивнула: — Вы были правы. — Ей хотелось, чтобы отношения между ними наладились. Уилл вместе с войском герцога Саффолка пришел на Север и прислал Кэтрин письмо с рассказом о произошедшем: Мы разбили бунтовщиков. Они плохо подготовились. Я был в Лауте и Хорнкасле, производил надзор за повешениями. Смерть собрала обильный урожай заблудших душ. Думаю, люди теперь подумают дважды, прежде чем восставать против короля. Три дня спустя их среди ночи разбудил Уолтер Роулинсон, управляющий Джона. — Прошу прощения, милорд, но прибыл аббат из Жерво и просит встречи с вами. — Какого черта ему понадобилось?! — проворчал Джон, вставая и надевая ночной халат. — Он говорит, это срочно, милорд. Когда мужчины спустились вниз, Кэтрин выскочила из постели и тоже быстро накинула халат. Ей нужно знать, что происходит. Она бросилась вслед за мужем и застала его в холле, в обществе высокого монаха в накидке с капюшоном. — Милорд, я молю вас дать мне убежище, — слегка задыхаясь, говорил монах. — У ворот аббатства Жерво собрались сотни вооруженных людей. Они пришли час назад и потребовали, чтобы мы вместе с ними встали на защиту старой религии и монастырей. Некоторые мои монахи загорелись идеей, так как боятся закрытия обители, хотя до этого пока не дошло. Но мне отвратительно ослушание королю. Я запер ворота гейтхауса и убежал через потайную дверь рядом с конюшнями. Я летел сюда как ветер. Да простит меня Господь, я оставил своих братьев, и это будет выглядеть так, будто я их бросил, но мне нужно было найти подмогу. Бунтовщики настроены решительно. Боюсь, они станут искать меня. — Не бойтесь, отец аббат, — без колебаний ответил ему Джон. — У меня есть мыза недалеко отсюда. Она стоит на отшибе, так что никто не вздумает соваться туда. Мой управляющий проводит вас. Вам нужно взять с собой еды. — Я позабочусь об этом, — сказала Кэтрин и торопливо ушла на кухню, где сложила в корзину холодное мясо, несколько кусков пирога с голубятиной, яблоки, хлеб, сыр и вино. Они поступали правильно. Насилием и угрозами не решить никаких проблем. Давая убежище человеку, который боялся, что его принудят к восстанию против короля, они могли заслужить только королевское одобрение. Аббат с благодарностью взял корзину: — Благослови вас Господь, миледи, и вас, милорд. Я не забуду вашей доброты. По крайней мере, если они явятся сюда, вы будете готовы. Уолтер и аббат оседлали коней и ускакали в ночь. Кэтрин и Джон смотрели им вслед. — Что мы будем делать, если они придут? — спросила Кэтрин; появление бунтовщиков казалось ей неизбежным. — Мы тоже запрем перед ними двери, — мрачно ответил Джон. — Это одно из преимуществ жизни в замке. Больше Кэтрин заснуть не удалось. Она лежала в постели и напряженно прислушивалась, не раздадутся ли стук копыт или голоса. Но было тихо. На следующий день она занималась своими обычными делами, то и дело поглядывая в окно и чутким слухом стараясь уловить любые тревожные звуки. В полдень, когда они только-только закончили обедать, появился молодой монах. — Милорд, миледи, — сказал он, сильно картавя на йоркширский манер, — прошу прощения за беспокойство, но не показывался ли у вас наш аббат? Нам нужно, чтобы он вернулся в обитель. Бунтовщики грозят, что сожгут ее, если он не явится, и настроены весьма воинственно. Они требуют от него клятвы, что он поддержит их. Прошу вас, помогите, милорд! Джон сперва заколебался, но потом быстро проговорил: — Думаю, я знаю, где укрылся ваш аббат, — объяснил монаху дорогу и отправил его туда. — Пусть он убедит своего аббата вернуться, — сказал Джон, обращаясь к Кэтрин. — Господу известно, я так же горячо желаю восстановления старых порядков, как и эти бунтари, но восставать против короля — чистая глупость. Посмотрите, что случилось с Линкольнширом. — Только бы они не явились сюда, — нервно проговорила Кэтрин.
Больше супруги ничего не слышали ни про аббата, ни про сожжение монастыря Жерво, а потому решили, что настоятель вернулся в обитель и дал клятву. Три дня прошли без всяких происшествий. Джон отправился по делам в Рипон и взял с собой Кэтрин. В рыночной толчее она невольно прислушивалась к разговорам и заметила некое общее волнение. Люди говорили кто возбужденно, кто с опаской, и именно там она впервые услышала имя — Роберт Аск, причем оно было на устах у многих. Встретившись с Джоном на постоялом дворе, где они оставили лошадей, Кэтрин спросила мужа, слышал ли он об этом человеке. — Слишком много раз сегодня, — ответил тот. — Кажется, он поднимает весь Йоркшир на борьбу за старую веру. Но протест будет мирный. Они называют это Благодатным паломничеством. — Как бы они его ни называли, это восстание, — сказала Кэтрин, садясь на лошадь и выезжая вслед за Джоном со двора. — Да, именно так отнесется к этому король. — И тот сброд у Жерво вовсе не был настроен протестовать мирно. Тоже мне паломничество! Когда они вернулись в Снейп, их ждал Уолтер. — Милорд, пришло известие из Жерво. Аббат вернулся, а эти сволочи избили его и заставили принести клятву. — По крайней мере, он сможет сказать королю, что у него не было выбора, — заметил Джон и перекрестился. — Милорд, — продолжил Уолтер, — вскоре после этого сюда прибыли несколько джентльменов. Все они ранены и просят убежища. Я не посмел отказать им, потому как один из них сказался вашим знакомым, миледи, и добавил, что он королевский сборщик налогов. — Полагаю, это сэр Уильям Аскью, — сказала Кэтрин, вспоминая свой визит в Стэллингборо шесть лет назад, когда ей привиделся ночной кошмар. — Джон, вы помните, я вам рассказывала, что он друг лорда Боро, и у него была чудесная дочь. — Она повернулась к Уолтеру. — Что случилось с этими джентльменами? — Думаю, они сами вам расскажут, миледи. Это и правда оказался сэр Уильям, с ним были трое его помощников. Кэтрин тепло приветствовала его и представила Джону, который велел подать вина, заметив: — Судя по вашему виду, вам всем это необходимо. И верно: одежда у них была испачкана кровью, заляпана грязью, у всех ссадины, у кого где, и синяки под глазами. Один лишился зуба, у другого был сломан нос. Кэтрин послала Маргарет за горячей водой и полотенцами и приказала двум своим горничным промыть мужчинам раны. Когда это было исполнено, гости начали рассказ. — На нас напали, когда мы отправились выполнять свои обязанности, — сообщил сэр Уильям. — Эти негодяи сказали, что не станут платить налоги и тем поддерживать религиозную политику короля. Они избили нас, похитили собранные к тому моменту деньги и сбежали. Нас запросто могли убить. Милорд, прошу у вас прощения за то, что мы явились сюда, но я с большой приязнью вспоминаю леди Латимер и, боюсь, взял на себя смелость полагаться на это. — Мы вам очень рады, сэр Уильям, — с улыбкой ответил Джон, подливая гостю вина. — Приятно видеть вас даже при таких обстоятельствах, — поддержала мужа Кэтрин. — Как ваша семья? По лицу сэра Уильяма пробежала тень. — Наша старшая дочь Марта не так давно умерла, упокой Господь ее душу. Это был тяжелый удар. Она должна была выйти замуж за одного местного джентльмена, сэра Томаса Кайма. Теперь его супругой станет ее сестра Анна. — Он нахмурился. — Ей только что исполнилось пятнадцать. — Она рада, что займет место Марты? — спросила Кэтрин, ощущая, что тут что-то неладно. Последовала пауза. — Анна понимает, что этот брак поможет мне финансово, так как приданое Марты невозвратное. Но мне пришлось ее уговаривать. Кэтрин подумала: «Интересно, какую форму приняли эти уговоры?» — Но теперь она согласна? — Да, миледи. Думаю, что так. — Сэр Уильям, вы бывали при дворе в последнее время? — спросил Джон. — Я был в числе присяжных во время суда над королевой Анной. — Что вы думаете по поводу доказательств? — поинтересовалась Кэтрин, стремясь получить побольше информации. — Нет сомнений, что по ней плачет ад, — ответил сэр Уильям. — Дело против нее было разобрано в деталях, со всем тщанием. Кэтрин все равно не могла понять, почему королева, так горячо поддерживавшая реформы и с достойной удивления легкостью добивавшаяся своих целей, вела столь беспорядочную личную жизнь. Одно противоречило другому. — Королева Джейн — очень милосердная леди, — продолжил сэр Уильям. — Такой контраст с той, прежней. Леди Мария выразила схожее мнение, когда я заезжал к ней летом. «Раз сэр Уильям в хороших отношениях с леди Марией и почитает королеву Джейн, значит он держится католической веры», — заключила Кэтрин. — Вы слышали о Роберте Аске? — спросил сэр Уильям, обращаясь к Джону. — Да, больше, чем мне хотелось бы, — ответил тот, мрачно поджав губы. — Он мой родственник, хотя я с ним никогда не встречался, а теперь и вовсе постараюсь держаться от него подальше. Этот человек — глупец, к тому же опасный. — Проблема в том, что он благочестивый глупец, а такие хуже всех, — заметил Джон. — Он не понимает, что, хотя сам движим принципами, открывает шлюзы мятежникам всех мастей. — Вы поступите правильно, если не станете примыкать ни к кому, — сказал сэр Уильям, а его помощники согласно закивали. Потом он встал. — Мы должны поблагодарить вас за доброту и отправиться дальше. — Останьтесь у нас на ночь и отдохните, — предложила Кэтрин. — Благодарю вас, дорогая леди, но я хочу вернуться в Линкольншир до того, как там вспыхнет восстание.
От соседа из замка Рипли, сэра Уильяма Инглби, Джон вернулся весьма озабоченный. — Инглби, может, еще и молод, но хорошо информирован. Он сказал, что два дня назад Роберт Аск вступил в Йорк во главе десяти тысяч человек и после мессы в соборе заставил всех принести составленную им клятву — Клятву достойных людей, как он ее назвал, и все дружно поклялись. Она обязывает защищать Католическую церковь, охранять короля и его наследников, изгонять дурных советников и радеть о восстановлении истинной религии и монастырей. Кейт, это путь к гражданской войне. Они собираются идти маршем на Лондон под знаменем с Пятью ранами Христа. — Джон начал расхаживать по комнате. — Бог знает, я против отмены старой веры, но это восстание, не меньше, и я не уверен, что мне следует его поддержать. Кэтрин задрожала. Она никогда не решилась бы высказать мужу свои личные взгляды на это дело; в конце концов, жена должна слушаться супруга и быть преданной ему. Более того, она любила Джона и хотела, чтобы он остался целым и невредимым, а значит, нужно убедить его не примыкать к мятежникам, не участвовать в их изменнической авантюре, способной нанести удар по делу реформ. — Не вмешивайтесь в это, муж мой, — сказала Кэтрин. — Вспомните, как жестоко было подавлено восстание в Линкольншире. Эти люди подвергают опасности свои жизни и могут лишиться всех средств к существованию. Было видно, что Джон колеблется. — Верно, Кейт, но речь идет о спасении наших душ и сохранении привычного образа жизни. Кэтрин разгорячилась: — Заботьтесь о безопасности своей души, и пусть эти глупцы разрушают собственные жизни! Молю вас, Джон, не впутывайтесь в это дело! Вы можете потерять все, и где тогда окажемся я и дети? — Мне могут не оставить выбора, Кейт, — пробормотал он и одним глотком осушил кубок вина. — Инглби говорит, что паломники, как они себя называют, являются в дома джентльменов и, застав их врасплох, как аббата из Жерво, требуют присоединиться к ним. — Если они покажутся здесь, им придется иметь дело со мной! — заявила Кэтрин с уверенностью, которой вовсе не ощущала, понимая, однако, что из них двоих внутренней силы, пожалуй, больше у нее. Страшнее всего, что, если мятежники придут к ним, Джон, скорее всего, сдастся, так как он поддерживал их идейно. Вопрос состоял в том, окажется ли для него долг чести более важным, чем жена, дети, титул, собственность и даже жизнь. Однажды он говорил, что спасение души для него важнее всех благ земных, но насколько сильно в нем это убеждение? Кэтрин молилась, чтобы его основательность не подверглась проверке на прочность.
Через несколько дней, когда земля покрылась ковром из пожелтевших листьев и с востока задул холодный ветер, мятежники явились в Снейп. Тут не было ни гейтхауса, ни рва, чтобы остановить их. К дому подошла разношерстная шайка человек в пятнадцать: большинство, судя по одежде, работники с ферм, двое с виду напоминали писарей; на рукавах у каждого — эмблема с вышитым знаком Пяти ран Христа, и все вооружены — кто кинжалом, кто копьем, кто вилами. Кэтрин заметила их из окна своего маленького кабинета, потом раздался стук железного молотка в дубовую входную дверь, послышались шаги Уолтера, который торопливо пошел открывать, и она поспешила за ним в холл. Джон уже был там. По его лицу было ясно, что он опознал незваных гостей. — Это банда мятежников, — сказал Джон. — Открыть? — Уолтер мрачно глянул на него. — Окликните их и спросите, что им нужно. — Скажите, что милорда нет, — встряла Кэтрин; сердце у нее бешено колотилось. — Не пускайте их внутрь. Неизвестно, что они сделают. Они угрожали расправой аббату, помните?! — Она задрожала. — Тише, любимая, — сказал Джон. — Просто спросите их, чего они хотят, Уолтер. В дверь снова постучали, на этот раз более настойчиво. — Кто вы и чего хотите? — громко произнес Уолтер. — Мы паломники во имя Господа и хотим поговорить с лордом Латимером. — Его светлости нет дома! — визгливо крикнула Кэтрин. — Он уехал в Лондон. — У нас другие сведения, — раздался в ответ мужской голос. — Да! Да! — загорланили другие. — Пусть покажется! В этот момент внизу лестницы появились бледные Джек и Маргарет. — Что происходит? — спросил Джек. — Я боюсь! — воскликнула Маргарет и прильнула к Кэтрин в поисках защиты. — Это мятежники. Они хотят, чтобы ваш отец присоединился к ним, — тихо объяснила Кэтрин и приложила палец к губам. — Я сказала, что он в Лондоне. Джек посмотрел на нее с оттенком уважения. Посыпались удары в дверь. — Откройте! Покажитесь, лорд Латимер! — Уходите! — Кэтрин придала голосу властности. Она — леди Латимер и не позволит запугивать себя жалкой кучке мужланов! — Мы не уйдем, пока его светлость не выйдет и не присоединится к нам в нашем правом деле. Он старой веры, как мы, и должен нас поддержать. Нам нужны вожаки вроде него. — Болваны! — крикнула Кэтрин. — Король не потерпит вашего бунтарства. У вас нет никаких шансов на победу. Вы погибнете сами и нас всех погубите. А теперь перестаньте запугивать женщин и детей и уходите. — Мы знаем, что его светлость здесь! — заорал какой-то мужчина. — Неужели он такой трус, что прячется за женской юбкой? Рука Джона потянулась к кинжалу. — Не открывайте дверь, отец! — заверещала Маргарет, чем вызвала новый град ударов в дверь. Кэтрин зажала девочке рот, но было поздно. — Теперь мы знаем, что вы там! Откройте дверь, милорд, или мы подожжем дом со всех сторон! — Вы можете пройти через служебное крыло и воспользоваться боковой дверью, сэр, — понизив голос, сказал Уолтер. — И позволить им сжечь дом? Нет, я должен встретиться с ними, — ответил Джон. — Открывайте дверь. — Нет! — в один голос вскрикнули Кэтрин и Маргарет, а несколько слуг, собравшихся в холле посмотреть, что за шум, ретировались на кухню. Джек тоже явно хотел скрыться. — Джек, забери Маргарет наверх, и оставайтесь там! — приказал Джон, и тот утащил плачущую сестру прочь. — Все будет хорошо, — крикнула ей вслед Кэтрин, а потом упрекнула себя за то, что обманула ребенка, ведь ничего хорошего, разумеется, не предвиделось. Но им всем важно сохранять самообладание. По кивку Джона Уолтер отворил дверь. — Быстро же вы вернулись из Лондона! — сострил один из бунтарей. Джон расправил плечи и сурово глянул на него: — Если бы ваша жена, приводя разумные доводы, умоляла вас не откликаться, вы поступили бы так же, мой добрый друг. — На кону стоит бессмертие наших душ, милорд! — возразил мужчина с копной черных волос, самый крикливый из всех, наверное главарь. — Какие разумные доводы можно привести против их спасения? Мы восстали за святое дело… — И пользуетесь нечестивыми методами, запугиваете людей! — брякнул Джон. — В таких случаях говорят: цель оправдывает средства, — вмешался в разговор один из писарей. — Я не стану препираться с вами, милорд Латимер, — сказал черноволосый. — Вы пойдете с нами. Мастеру Аску нужны такие вожаки, как вы. Другие лорды уже присоединились к нам — Дарси, Констебли, Перси и Невиллы в наших рядах, большинство из них вам родня, я полагаю. — Нет! — отрезал Джон. — Я не пойду с вами. — Похоже, у вас нет выбора, — ответил ему вожак шайки и переложил из руки в руку кинжал, а потом с головы до ног окинул взглядом Кэтрин, стоявшую на крыльце позади мужа. Она обмерла, поняв, что у него на уме. — Если вы будете упираться, мы можем прибегнуть к кое-каким методам убеждения. Или вы присоединитесь к нам. Выбирайте сами. Джон, должно быть, тоже заметил похотливый взгляд негодяя, брошенный на Кэтрин. — Нет нужды убеждать меня. Я пойду. Дайте мне только собрать кое-какие вещи. Уолтер, прикажите, чтобы оседлали моего коня и положили в седельные сумки провизии. Кэтрин силилась сдержать слезы. Нельзя допустить, чтобы ее считали слабой женщиной, но она очень боялась за Джона, которого тащили Бог знает куда и принуждали ввязываться в опасное дело. Он повернулся к ней: — Если со мной что-нибудь случится, помните, я умер за веру. Но говорите всем, кто бы ни спросил, что я не по своей воле был вовлечен в этот мятеж, а был заставлен угрозами, против своего желания и вопреки голосу разума. — Нельзя ли побыстрее? — буркнул черноволосый. Джон пошел наверх. Паломники даже отправили вместе с ним одного из своих — проследить, как бы он не сбежал. Кэтрин с каменным лицом ждала на крыльце, твердо решив сохранить достоинство. Внутри у нее все клокотало и царило полное смятение; она была убеждена, что ничего хорошего из этого не выйдет. Наконец Джон спустился, взял ее руку, поцеловал и сказал: — Следите за Снейпом и детьми ради меня. Да благословит и укрепит вас Господь! — И вас тоже, — отозвалась Кэтрин и прильнула к нему на прощание. — Возвращайтесь ко мне поскорее. И прошу вас, не рискуйте. Она чувствовала, что в этом может на него полагаться: Джон частенько неодобрительно отзывался о молодых людях, склонных к геройству. Позвав детей вниз, Кэтрин стояла вместе с ними на крыльце и смотрела, как ее супруг уезжает вместе с мятежниками. Она пыталась унять разбушевавшиеся в сердце ужасные предчувствия и сжимала кулаки, чтобы сохранить контроль над эмоциями. Увидит ли она еще когда-нибудь своего Джона? Рядом с ней неудержимо рыдала Маргарет. Через несколько часов гонец доставил письмо из Торнтон-Бриджа, и Кэтрин заплакала. Кэт умерла. Уильям был безутешен, а как же иначе, если он потерял супругу, прожив с ней всего одиннадцать месяцев. Девушка, помолвленная с сыном Кэт Уолтером, повесилась, никто не знал почему, и вся радость от нового брака обернулась глубокой печалью. Бедняжка Кэт не смогла бороться с лихорадкой и умерла. Кэтрин просто не верилось. Она встала на колени в часовне и молилась так, как давно уже этого не делала. Церковь учила, что самоубийцы совершают смертный грех и никогда не попадут на Небо, но Кэтрин нравилось думать, что милостивый Господь навечно соединит двух этих несчастных женщин.
Ужасно было не знать, где Джон и что происходит. Через несколько дней Кэтрин отважилась поехать в Рипон, вдруг удастся что-нибудь разузнать там. Но никто не мог ей ничего сказать. Она написала отцу Катберту, сообщила ему о случившемся и попросила держать ухо востро, не появятся ли какие-нибудь известия о Джоне. Ответ привезли только через неделю, но и в нем не было никаких сведений, потому что отец Катберт затворился в своем замке Норем далеко на севере из страха, что мятежники заставят и его присоединиться к ним. Отец Катберт писал: Король посылал меня на юг, но я рискнул вызвать его неудовольствие и принял решение остаться здесь. Он явно не представляет, какова ситуация в Дареме и Йоркшире. Кэтрин начала уже терять рассудок от беспокойства, когда — наконец-то! — получила письмо от Джона. Его отвезли в замок Понтефракт, который Роберт Аск и лорд Дарси сделали своей штаб-квартирой. Последний, в отличие от Джона, очевидно, не испытывал сомнений по поводу участия в мятеже. Под его орлиным взором Джон и его братья, которых паломники тоже забрали с собой, принесли Клятву достойных людей. От меня требуют, чтобы я стал одним из вожаков их восстания. У меня не было выбора, так как в случае отказа они грозили убить меня. Я открыто заявил, что не поддерживал и не поднимал этого мятежа. Я хочу, чтобы все знали: меня принудили к участию в нем. Дальше он сообщал, что в Понтефракте собралось порядка сорока тысяч мятежников и ему поручили возглавить людей из Ричмондшира и Дарема. Мы должны идти в Лондон, чтобы подать прошение королю. Предводители мятежников рассчитывают, что его величество прогонит своих дурных советников и откажется от реформ. Бедные, наивные глупцы! Но я молюсь, чтобы нам удалось добиться своих целей, потому как неудача будет фатальной. Да смилостивится Господь над всеми нами! «Эти люди безумны или глупы? — мысленно задавалась вопросом Кэтрин. — Они что, не знают короля? Неужели и правда собрались бороться с человеком, который не покорился папе и основал собственную Церковь? С тем, кто отправил на плаху сэра Томаса Мора и праведного епископа Фишера за отказ дать клятву о признании его верховным главой созданной им Церкви? Этот монарх явно не проявит снисхождения к тем, кто противится его желаниям. Они, должно быть, просто потеряли разум».
Через неделю Кэтрин получила тревожное письмо от дяди Уильяма: При дворе известно, что Ваш супруг примкнул к мятежникам. О нем и других лордах, которые с ним заодно, говорят как об изменниках. Его королевское величество намерен мстить; он говорит, что не позволит подданным диктовать ему условия. Он послал на Север герцога Норфолка с армией. Уилл там. Сопротивление будет сломлено. Худший ночной кошмар Кэтрин обращался в реальность. Она не могла унять дрожи. У нее не было сомнений, что Джона сочтут предателем и его ждет участь обвиненных в измене. Кэтрин никогда не видела, как казнят изменников — ее вообще тошнило от казней, — а вот Уилл видел и, хотя не вдавался в кровавые подробности, сказал достаточно, чтобы она смогла с содроганием представить ощущение удушья, которое возникает у человека, повешенного, но вынутого из петли полумертвым; мучительную боль, когда нож врезается в живот, внутренности вываливаются из тела и, если это мужчина… Боже правый, только бы этого не случилось с Джоном, милым Джоном, который был таким хорошим мужем и отцом и вовсе не собирался никого предавать. Кэтрин бродила по замку как призрак, страшась прибытия вестника или, хуже того, вооруженных людей. Если мертвые могли возвращаться в мир живых, ее дух когда-нибудь вернется в эти комнаты и будет блуждать по залам, заламывая руки, как делала сейчас она. Неужели ее тоже арестуют, посчитав сообщницей? Уолтер заявит о ее невиновности, но поверят ли ему? Только этой мыслью о заступничестве управляющего Кэтрин и утешалась, чтобы сохранять видимость спокойствия ради Маргарет, которая сильно скучала по отцу и беспокоилась за него. Джек вернулся в свое привычное состояние обиженного недовольства всем и вся, но Кэтрин понимала, что причина этого — тревога. Джеку было шестнадцать, почти мужчина. Слава Богу, мятежники не забрали с собой и его! Кэтрин кипела ненавистью к паломникам и к вере, которую они защищали. Разве Христос одобрил бы их поведение — угрозы, отказ понять, что Его путь — это не путь насилия? Предполагалось, что протест будет мирным, но пока происходившее меньше всего напоминало ненасильственное сопротивление. Кэтрин все сильнее проникалась убеждением о необходимости реформирования религии. К чему защищать старый порядок, прогнивший до самого основания? Начало было положено, и прекрасно. Зачем переводить часы назад? Она искала убежища в молитвах и своем Часослове. Господь, наверное, устал от ее назойливых просьб. Как бы ей хотелось самой читать Библию на английском. Ее знания латыни хватало для понимания службы в церкви, но как же все эти бедные безграмотные люди, для которых слова священника на мессе — это просто набор звуков, не имеющих никакого смысла? Для них религия действительно была тайной! И тем не менее мятежники стремились отстоять свое право на невежество. Это непостижимо!
Когда пришло еще одно письмо от Джона, у Кэтрин едва не подкосились колени от облегчения. Больше всего муж хотел знать, в порядке ли она и дети. Сам он здоров. Мятежники поручили ему вести переговоры с герцогом Норфолком в Донкастере. Я с ним немного знаком и считал его солдафоном, почти начисто лишенным сострадания, но он понял, что я действовал против своей воли, так как по завершении переговоров с глазу на глаз сказал, что заступится за меня перед королем. По правде, я плохо представлял интересы мятежников, поскольку слишком хорошо понимал, что армия герцога стоит лагерем под Понтефрактом. Однако герцог был настроен миролюбиво. Обещал, что король рассмотрит требования паломников и независимо от того, будут они выполнены или нет, мы все получим прощение, так как его величество знает, что наша тревога идет от сердца, и хочет избежать кровопролития. Таким образом мы заключили соглашение, и мастер Аск велел всем расходиться по домам. Скоро я буду с вами. А до тех пор да хранит вас Господь! Письмо не принесло Кэтрин успокоения. Его содержание слишком сильно расходилось с тем, что сообщил ей дядя Уильям. Возможно ли, что король изменил мнение? Или просто понял, что мятежники превосходят числом всю его прекрасную армию? Ей хотелось верить, что Джон получит прощение, но что-то подсказывало: слишком легко оно было обещано. 1 ноября Кэтрин сидела за столом у окна и просматривала принесенные Уолтером счета, когда услышала стук конских копыт. Встав, она увидела Джона и его оруженосца, скакавших к дому. Кэтрин слетела вниз по лестнице, зовя Джека и Маргарет, распахнула дверь и бросилась обнимать мужа, свесившегося с седла. — О муж мой, как я рада вас видеть! Маргарет приплясывала вокруг отца, ожидая поцелуя. Даже Джек улыбался. Они ввели Джона в дом и усадили за стол на козлах. Кэтрин сняла с мужа накидку и шапку, приказала подать вина со специями. Джон пил его и рассказывал о событиях, произошедших с того момента, как его забрали мятежники. Через какое-то время Маргарет наскучили разговоры о клятвах и перемириях, и она убежала играть. Джек, жадно внимавший отцу, обратился к нему: — Если вам снова придется идти к мятежникам, сэр, я хочу быть с вами. — В его глазах горела огнем жажда битвы. — Нет! — отрезал Джон. — Я не допущу, чтобы мой сын рисковал своим будущим, восставая против короля. — Но паломники не восстают против короля, только против его дурных министров и затеянных ими реформ. Вы сказали, что король готов прислушаться к их просьбам. Он обещал простить вас. Джон замялся. — А это означает, что паломникам больше незачем будет собираться, — быстро проговорила Кэтрин. — Но если они соберутся, я хочу пойти с вами, отец! — Джек начинал сердиться; щеки его пылали. — Я сказал нет! — рявкнул Джон. — И покончим с этим. — Я пойду. Я убегу из дому! Не хочу, чтобы со мной обращались как с маленьким! — вспылил Джек. — Тогда перестань вести себя как маленький! — крикнул Джон вслед затопавшему прочь сыну. — Он успокоится, — вздохнув, произнесла Кэтрин. — Джек очень переживал, пока вас не было. — Внутренне она обрадовалась, что они, оставшись одни, могут говорить открыто, и наполнила кубки себе и мужу. — Удивительно, что вы так быстро получили прощение, — осмелилась заметить Кэтрин. — Если оно станет реальностью, в чем я сильно сомневаюсь, — отозвался Джон, и у его жены похолодела кровь. — Герцог не мог ни повернуть войска назад, ни сражаться с нами: у него не было кавалерии, а мы собрали весь цвет Севера. Норфолк, вероятно, понимал, что слабость его войска всем очевидна, потому и предложил всем прощение, чтобы люди разошлись. Кейт, они просто выгадывают время. Это еще не конец. Расплата неминуема. Надеюсь, герцог заступится за меня, как и обещал. Не хотелось бы, чтобы король считал меня виновным в измене. Но никуда не деться от того факта, что я присоединился к паломникам, вел переговоры с их стороны и фактически противостоял своему соверену. Ровно так же думала и Кэтрин. Ее злило, что Норфолк так бойко пообещал всем прощение, вероятно, чтобы нанести удар в другой раз. Это дало королю время собрать более крупные силы. К удивлению Кэтрин, прощение Джона, подписанное и с монаршей печатью, доставили меньше чем через две недели. Правда, формулировка звучала зловеще. — Он обвиняет меня в содействии краху королевства и успеху наших давних врагов шотландцев, которые могли воспользоваться мятежом, чтобы напасть на английские границы, — читал Джон. — Судя по этим словам, король глубоко оскорблен. И он предупреждает, что впредь с любыми мятежами будет разбираться самолично, приведет армию для подавления злостных бунтовщиков и повергнет их в величайшее смятение. — О Джон, вы должны проявлять осторожность! — воскликнула Кэтрин. — Думаете, я не дорожу своей шкурой? — отозвался он и обнял ее.
Джон не пробыл дома и трех недель, когда получил письмо от Роберта Аска, в котором тот настоятельно призывал его вместе с лидерами паломников участвовать в совещании в Йорке. Они получили ответ от короля, и он требует обсуждения. — Не ездите! — взмолилась Кэтрин. — Не вмешивайтесь в это дело снова. В прошлый раз вам повезло получить прощение. Но теперь все может обернуться иначе. Лицо Джона посерело. — Выбора нет, — сказал он. — Меня предупредили: если я их брошу, последуют ответные меры. — Ответные меры последуют, если вы этого не сделаете! — бросила ему Кэтрин. — Это не новое восстание, любимая, просто совещание. Я бы хотел услышать, что думает король. Своего врага нужно знать в лицо! Не обращая внимания на протесты Кэтрин, Джон уехал, оставив ее раздираемой дурными предчувствиями. Каждый день она часами простаивала на коленях, молясь о возвращении мужа или получении новостей о нем. Когда прибыл отправленный Джоном гонец, Кэтрин выхватила у него пакет и тут же вскрыла его. Сердце у нее замирало, когда она читала послание супруга. Похоже, король сильно сожалел о том, что даровал прощение паломникам. Он прислал своих людей передать им, что считает удивительной неблагодарностью то, что они, будучи его подданными и долгое время пользуясь его отзывчивостью и готовностью выслушивать прошения от всех людей и возмещать ущерб жалобщикам, попытались устроить восстание, вместо того чтобы обратиться к нему с просьбой. Его величество подвергает сомнению наше здравомыслие и поражен проявленной к нему этим бунтом неблагодарностью, особенно со стороны людей благородных вроде меня, — писал Джон так, словно король выражал недовольство лично им. — Он дивится на своих дворян, которые терпят проходимца вроде мастера Аска и посвящают его в наши дела. По его мнению, с которым согласны близкие к нему лорды при дворе, мы опорочили свою честь собственной глупостью. — (Кэтрин легко могла представить себе реакцию Джона на эти слова.) — Тут все в большом смятении и не знают, как на это отвечать. На следующей неделе состоится новое совещание в Понтефракте. До тех пор я останусь в Йорке. — Нет! — вслух произнесла Кэтрин. — Возвращайтесь домой! — С вами все в порядке, миледи? — спросила Бесс, жена Уолтера, которая вошла в холл с парой кроликов на ужин. Кэтрин мысленно встряхнула себя. Нельзя демонстрировать слабость на глазах у слуг. — Все прекрасно, — с улыбкой сказала она.
Джона Кэтрин не видела почти до самых Йолетид. Между тем в своих письмах он обнадеживал ее: кажется, появилась надежда, что все уладится, и пусть она не переживает. Кэтрин, конечно, переживала. Он приехал домой в тот момент, когда слуги и дети украшали холл зелеными ветвями, а по замку разливались ароматы рождественских пряностей, жареного мяса и фруктовых пудингов. — Папа! — крикнула Маргарет, подбежала к нему, раскинув руки, и обняла. — Джон! — Кэтрин бросила плести венок и тоже поспешила навстречу мужу. — Скажите мне, все хорошо? Тот улыбнулся ей: — Король согласился на наши условия! — О Боже мой… — У нее не было слов. Такого она ожидала меньше всего. — Расскажите мне. Кэтрин оторвала Маргарет от Джона, и они с мужем ушли в кабинет, где он занимался делами поместья, подальше от царившего в холле гомона. — Ну? — спросила Кэтрин, которой не терпелось услышать новости. — О, простите меня, я должна была послать за каким-нибудь угощением для вас. — Это подождет. — Он положил ладонь на ее руки. — Когда мы встретились в Понтефракте, мастер Аск предложил нам составить список того, чем мы недовольны. Туда попало все, как вы понимаете: необходимость возвращения к Риму, сохранение монастырей, объявление законной наследницей леди Марии, освобождение духовенства от непосильных налогов, увольнение и наказание Кромвеля и его сообщников, которые попрали законы королевства и поддерживали еретиков. И еще мы попросили, чтобы парламент заседал в Йорке и королеву короновали там же. Я высказал мнение, что ни одно из этих требований не обрадует короля и он разгневается, однако Аск все равно отправил список герцогу Норфолку. Мне казалось, что мы играем в кости с судьбой, а потому я хотел узнать, как могут расценить наши действия в моральном отношении и с точки зрения закона. Мне было известно, что архиепископ Ли в Йорке, а он абсолютно преданный королю человек. Мы пригласили его на свое совещание, но он не приехал. Я предложил спросить у него, существуют ли условия, при которых подданные могут законно восставать против своего короля, и мастер Аск сказал, чтобы я ехал к нему в церковь на следующее утро и задал этот вопрос. Я и поехал. — О Джон! — выдохнула Кэтрин. — Неужели? — Мне хотелось получить ответ, — честно ответил он. — Но вас могли обвинить в подстрекательстве к измене! — Это теперь дело прошлое, любимая. Когда я приехал, архиепископ не стал разговаривать со мной, и я оставил ему записку с объяснением, зачем приезжал. Но, читая проповедь с кафедры, он заявил, что никакой верный подданный не возьмет в руки оружия без позволения короля. Некоторые паломники, находившиеся в церкви вместе со мной, закричали на него, так что другие священники поскорее увели архиепископа в ризницу и заперли дверь. Кэтрин ужаснулась. Когда новость об этом дойдет до короля… Джон погладил ее по щеке: — Не нужно так беспокоиться, любимая, еще рано. На этой неделе герцог Норфолк вызвал нас в Донкастер и сказал, что король поручил ему издать новое прощение и сообщить нам, что парламент будет заседать в Йорке, где рассмотрит наши требования, и коронация королевы пройдет там же на Троицу. Я ездил с мастером Аском получать общее прощение от герцога, и мы выразили ему благодарность от лица всех паломников. Потом Норфолк велел нам разъезжаться по домам, а мастера Аска попросил отправиться на юг, в Лондон, так как король пригласил его провести Рождество при дворе в качестве гостя. Кэтрин старалась выглядеть довольной, но на сердце у нее было неспокойно. Король вовсе не согласился выполнить просьбы паломников, он сказал только, что их рассмотрит парламент. Изобразив, будто дает оппонентам то, о чем они просили, король хитро вынудил мятежников распустить свое войско. «Ох, как же доверчив мой Джон!» — вздохнула про себя Кэтрин. — Опасность миновала, — сказал он, — и мы можем спокойно жить дальше. Время, проведенное с паломниками, было очень тяжелым и опасным, но оно осталось в прошлом, и я благодарю за это Бога. Кэтрин хотелось бы в это верить. Джон всех их поставил на грань катастрофы, когда поехал бросать вызов архиепископу. Оставив мужа переодеваться из дорожного костюма в домашнее платье, Кэтрин пошла распорядиться насчет еды. Она пыталась подавить внутреннюю тревогу, велела себе собраться и ради детей не подавать виду, ведь их ждало Рождество. В продолжение праздников, которые они отмечали очень бурно, так как Джон сказал, что у них есть повод хорошенько повеселиться, Кэтрин не оставляли мрачные мысли. Она не могла отделаться от страхов и избавиться от стоявших перед глазами картин того, как Джона разделывают на эшафоте или ее саму, убитую горем, вместе с детьми вышвыривают из Снейпа, а на их будущее ложится пятно вечного позора из-за проступка ее мужа. Джону нужно как-то отмежеваться от мятежников, иначе люди начнут думать, будто он действовал с ними заодно, не по принуждению. Может, дядю Уильяма или Уилла, который ходил против бунтовщиков с армией, удастся убедить, чтобы они выгородили Джона перед королем? У его милости нет причин сомневаться в их преданности. Оба всем сердцем приняли недавние реформы, дядеУильяму даже поручили надзор за роспуском монастырей в Нортгемптоншире. Но, вероятно, лучше всего будет, если Джон обратится к королю лично. Крайне важно дать понять его величеству, что он действовал не по собственной прихоти. В Двенадцатую ночь, когда Джон размяк от вина и они наконец улеглись в постель, Кэтрин повернулась к нему, и вдруг из ее глаз хлынули слезы. Все скопившиеся в душе страхи изливались наружу вместе с ними. Джон не рассердился. — Я понимаю, Кейт, — сказал он, обнимая ее. — Вы говорите разумно. Я отправлюсь в Лондон и помирюсь с королем.
Он уехал в январе. Кэтрин много дней в тревоге ждала вестей. Через две недели она получила письмо. Джон находится в Стамфорде, возвращаясь в Йоркшир, и заедет по делам в Малтон, прежде чем появится дома. Скоро он будет с ней. «Быстро же он обернулся», — подумала Кэтрин, садясь в холле на скамью с высокой спинкой, чтобы прочесть остальное. С королем Джон не виделся. Он добрался до Хартфордшира, где его нашел королевский вестник и передал, что ему приказано ехать на север и послужить его величеству в Шотландских марках[160], так как имелись опасения, что шотландцы извлекут для себя пользу из недавней смуты в королевстве и вторгнутся в Англию. Он обязан сделать доклад лорду-смотрителю марок как можно скорее. Это хорошая новость. Значит, его милость все еще доверяет мне. Когда я остановился на постоялом дворе в Стамфорде, то получил письмо от сэра Уильяма Фицуильяма. Он поговорил обо мне с королем и убедил его, что я примкнул к паломникам не по своей воле. «Да благословит Господь сэра Уильяма Фицуильяма!» — подумала Кэтрин, вставая, чтобы снова взяться за дневную работу. Может быть, на этом их злоключения, связанные с мятежом, закончатся?
 Глава 10
1537 год
Глава 10
1537 год
Обед завершился, и дети скрылись в своих комнатах. Кэтрин взяла в руки книгу и уютно устроилась в кресле, намереваясь урвать сладкое мгновение покоя и насладиться чтением. На улице завывал ветер, и сидеть в теплой гостиной рядом с потрескивавшим в очаге огнем было очень приятно.
Она не провела так и десяти минут, когда услышала на дворе крики. Вскочив и выглянув в окно, Кэтрин задержала дыхание, увидев толпу человек в двадцать, которая собралась у замка. Судя по виду этих людей, они были сильно раздражены.
— Выходи, предатель! — кричали они. — Изменник! Продажная шкура! Покажись! — Некоторые при этом потрясали кулаками, другие размахивали оружием, вилами или косами.
Задрожав от страха, Кэтрин спустилась в холл, где увидела Джека и Маргарет: они уже сбежали вниз по лестнице.
— Возвращайтесь наверх и оставайтесь там! — велела детям Кэтрин самым строгим тоном, какой ей удалось придать своему голосу.
— Мачеха, в отсутствие отца хозяин здесь я. Я с ними разберусь, — сказал Джек, однако, несмотря на внешнюю браваду, голос у него дрожал.
— Твой отец никогда не простит мне, если я допущу это, — сказала Кэтрин, но Джек не сдвинулся с места, а шум за дверью все усиливался.
Слуги столпились в холле; одни храбрились, другие явно были напуганы, и все они смотрели на нее в ожидании приказаний. Кэтрин охватил такой ужас, что она едва могла говорить, но Господь, сотворив чудо, придал ей смелости.
— Откройте дверь! — велела она Уолтеру, и тот уставился на нее. — Откройте, пожалуйста, — повторила Кэтрин.
— Да, делайте, как говорит миледи! — приказал Джек.
Заскрипел засов, и Кэтрин оказалась лицом к лицу с разъяренной, бурлящей толпой. Она с ужасом поняла, что знает некоторых людей — встречалась с ними на рынке или они прислуживали ей в соседских домах.
— Почему вы нападаете на женщин и детей? — крикнула Кэтрин, перекрывая голосом гомон стоявших за дверью людей.
— Нам нужны не вы, леди, а лорд Латимер, предатель! — прорычал крупный мужчина с копной рыжих волос.
— Его здесь нет. И почему вы называете его предателем?
— Мы паломники. Он предал нас.
— Да! — крикнул другой мужчина. — Мы знаем, что он ездил в Лондон с поджатым хвостом, хотел подмазаться к королю.
— У лорда Латимера были важные дела в Лондоне, — громко заявила Кэтрин. — Король исполнил ваши требования. Как мог милорд предать вас?
Все заговорили разом на повышенных тонах. Кто-то сказал им, что Джон очень хотел вернуть себе милость короля.
— Прошу вас, уходите, — обратилась к ним Кэтрин. — Его здесь нет. Я не знаю, где он. Когда милорд вернется, я передам ему, что вас тревожит, и, уверена, он разрешит ваши сомнения.
— Да, уходите! — поддержал ее Джек. — Не к лицу вам являться сюда и пугать всех.
— Нам сказали, что его светлость здесь! — рявкнул Рыжий.
— Но его нет, уверяю вас, — заявила Кэтрин, молясь, чтобы они ушли. — Если вам так нужно, можете войти и проверить.
Она не рассчитывала, что толпа проявит такую наглость, однако стоило ей произнести последнюю фразу, как незваные гости ринулись в замок, едва не сбив ее с ног и игнорируя яростные протесты Джека.
— Закрой рот, мальчик, — бросил ему один. — Ты бы лучше пригнул голову и стыдился за своего отца.
— Это вам нужно стыдиться, — возразил Джек, но его утихомирили ударом по лицу.
Из рассеченной губы потекла кровь. Кэтрин бросилась к пасынку, тот отмахнулся от нее. Бунтовщики, перевернув скамьи и стулья в холле, порывшись в сундуках, кинулись в другие части замка. Они не просто искали Джона, но, похоже, намеревались осуществить возмездие и разнести все в доме. Кэтрин слышала доносившийся из кухни звон битой посуды. Милосердный Боже, до чего они дойдут?!
Маргарет, должно быть, напугана до ужаса. Дрожа от гнева и страха, Кэтрин взлетела вверх по лестнице и нашла падчерицу в ее спальне: девочка забилась под стол, опустила до пола скатерть и тихо плакала. Когда Кэтрин приподняла ткань, Маргарет испуганно глянула на нее широко раскрытыми глазами.
— Оставайся здесь! — скомандовала Кэтрин. — Они тебя не тронут, я не позволю. Они ищут твоего отца. Слава Богу, его здесь нет!
Она вышла из комнаты, закрыла дверь и с каменным лицом наблюдала, как паломники растекаются по спальням, быстро и шумно обшаривают их и выходят с полными охапками вещей: сорванных со стен добротных завес, серебряной дарохранительницей и другими сокровищами, которые Латимеры хранили и передавали из поколения в поколение. Кэтрин возблагодарила Небо, что ее украшения лежат в потайном отделении свадебного сундука. Грабители ни за что не догадаются, что у него двойное дно.
Но вот бандиты ввалились в комнату Маргарет. Было слышно, как они шумят там. Лишь бы девочка не пикнула. О, какое облегчение! Они выходят. Но один прихватил с собой куклу Маргарет. Кэтрин разозлилась. Игрушка была очень красивая, куплена в Йорке.
— Вы же не станете красть у ребенка? — с вызовом бросила она ворюге. — Представьте, что кто-то забрал бы игрушку у вашей дочери. Как бы вы отнеслись к этому?
Мужчина, придурковатый на вид и толстый как бочка, нагло взглянул на нее, будто взвешивал в уме, стоит ли препираться с ней. Кэтрин понимала, что не в ее положении затевать споры.
— Прошу вас, — сказала она, смягчив голос, — моя падчерица и без того сильно расстроена. — Кэтрин протянула руку за куклой, и, к ее большому удивлению, мужчина отдал трофей.
— Я не чудовище. Паломники — честные люди.
Кэтрин хотела сказать, что честные люди не грабят дома, но удержалась. Вместо этого она положила куклу на кровать и возблагодарила Господа, что Маргарет осталась незамеченной. А потом увидела, как один из пилигримов схватил золотую солонку, и разъярилась. Это была одна из наградных вещей: король Генрих VII подарил ее отцу Джона в благодарность за верную службу. В холле валялась сломанная мебель, старинное стекло с фамильным гербом в одном из окон было разбито. Такой разнузданный вандализм шокировал Кэтрин.
— Ну что, вы удостоверились, что милорда здесь нет? — спросила она Рыжего самым язвительным тоном, какой только могла изобразить. — Обязательно было устраивать в доме погром во время поисков?
Рыжий сердито глянул на нее:
— Предатели получают по заслугам.
— Мой отец не предатель! — прошипел Джек.
Кэтрин взглядом заставила его умолкнуть.
— А теперь, прошу вас, уходите, — сказала она мятежникам.
— Нет, пока мы не застанем лорда Латимера, — ответил ей Рыжий. — Нам приказано дождаться его здесь. За ним посылали и предупреждали его в весьма ясных выражениях, что мы разрушим замок, если он не вернется немедленно.
От испуга Кэтрин едва могла говорить.
— Вы этого не сделаете! Я не позволю шайке воров жить под моей крышей. Уходите сейчас же!
— У вас нет выбора, леди, — сказал тощий как скелет, мрачный с виду субъект, который, похоже, был правой рукой Рыжего. — Мы намерены взять вас и детей его светлости в заложники, пока он не вернется в наши ряды.
Возмущение и страх наполнили ее. Сердце колотилось, и она была близка к обмороку.
— К чему все это?! Король выполнил ваши требования. Чего еще вы хотите?
— Леди, вы и правда думаете, что король сдержит свое слово? Сдается мне, нас надули, дав пустые обещания. Куда ни поедешь, везде неспокойно. Люди в тревоге, и они обозлены. Нам нужны наши вожаки, и лорду Латимеру не следует забывать данную клятву.
— Мы, паломники, не причиняем вреда женщинам и детям, — сказал Рыжий. — Наше дело святое, и мы люди набожные. Мы постараемся доставлять вам как можно меньше беспокойства. Вы можете свободно заниматься своими делами, пока остаетесь в замке.
Кэтрин негодовала. Как они смеют указывать ей, что она может, а чего не может делать в своем собственном доме!
— Пока вы его не разрушили! — съязвила Кэтрин. — Вот как вы не вредите женщинам и детям!
— Это будет зависеть от лорда Латимера, — сказал Скелет. — Если он тревожится за вас…
— Мы будем спать здесь, на тростниковой подстилке, укрываясь накидками, — перебил его Рыжий, — так как я не надеюсь, что миледи предложит нам лучшие спальни. Мэттью, ты проверил съестные припасы?
— Да, мастер, — отозвался тщедушный юнец с кривыми зубами. — Там всего вдоволь.
— Этих припасов нам должно хватить на всю зиму, — запротестовала Кэтрин.
— Что ж, леди, придется вам затянуть пояса, как делают бедняки, — глумливо бросил Скелет.
Было ясно, что ей с ними не совладать. Что она могла поделать?
— Пойдем, Джек, — сказала Кэтрин и отправилась наверх.
— Слушай внимательно, — тихо проговорила она, затащив его в свою спальню. — Я знаю, ты злишься, но не провоцируй их. Подумай обо мне и Маргарет. Кто знает, будут ли эти мятежники и дальше вести себя прилично? До сих пор они не проявили особого благочестия. Мы с твоей сестрой, будучи женщинами, особенно уязвимы. — Ее передернуло от мысли о том, что могут сделать с ней. — Обещай, что будешь молчать и как можно реже показываться им на глаза. Я тоже постараюсь не выходить из комнаты и послежу, чтобы Маргарет поступала так же, держа дверь на запоре.
Джек нахмурился:
— Я собирался ускользнуть потихоньку и привести отца.
— Нет! От этого нам всем станет только хуже. Обещай мне, прошу.
— Хорошо. — Он недовольно пожал плечами и, крадучись, ушел.
Кэтрин решила не покидать своей спальни, но не могла найти успокоения. Наступали сумерки, приближалось время ужина. Ей нужно пойти и дать распоряжения кухонным слугам, которые иначе не будут знать, что им делать. В конце концов, разве она не хозяйка в своем доме? Тихо открыв дверь, Кэтрин прошла на лестничную площадку. Оттуда она увидела, что бунтовщики вернули на места опрокинутые скамьи и стулья, а обломки мебели сгребли в угол. Они сидели, собравшись группками и закутавшись в накидки от холода, так как в разбитое окно дул холодный ветер. — Ради Бога, заткните его каким-нибудь тряпьем! — рыкнул на них Рыжий. Он устроился за столом на козлах вместе со Скелетом и двумя другими мужчинами. Один из его приятелей как будто писал письмо — пером Кэтрин и ее чернилами, как вам это нравится! — И приведите юного Мэттью. Пусть отнесет это лорду Латимеру. — Что вы ему написали? — поинтересовался Скелет. — Я попросил его вернуться домой безотлагательно и сообщил, что мы взяли в заложники его жену и детей на случай, если он снова решит, как заяц, сбежать в Лондон. Я напомнил ему, в чем состоит его долг. Мэттью объяснит остальное, да, приятель? Внуши ему страх Господень! Все засмеялись, так как невозможно было представить, чтобы этот худосочный парнишка мог напугать кого-то. Хохот смолк, как только они увидели спускавшуюся по лестнице Кэтрин. Она молча прошла мимо, кипя от негодования, и отправилась на кухню. Еще больше взъярилась хозяйка, увидев, какой разгром устроили бунтовщики повсюду в замке. Много времени потребуется, чтобы привести его в порядок. Она готова была расплакаться, но сдержалась: нельзя допустить, чтобы ее посчитали слабой женщиной.
Прошло пять дней, шесть, семь, от Джона не было ни слуху ни духу. В доме установился определенный, хотя и не слишком приятный порядок: Кэтрин, как могла, старалась избегать незваных гостей и следила, чтобы они получали только скудное пропитание. Она больше не боялась их: если бы они намеревались обратить свое внимание на нее или Маргарет, то уже наверняка сделали бы это, — но ее глубоко возмущало их присутствие в доме, и ей хотелось, чтобы они убрались восвояси. В холле воняло, как в коровнике. Эти мужики редко мылись и не считали зазорным справлять малую нужду в камин или просто в углу. Уолтер то и дело предлагал выпроводить незваных гостей, но их было слишком много, так что Кэтрин попросила его не ссориться с ними. Управляющего это совсем не обрадовало, но она убедила его, что лучше не рисковать. Бунтовщики день ото дня становились задиристее и злее, так как Джон все не объявлялся. Со своего наблюдательного пункта на лестничной площадке Кэтрин подслушивала их разговоры, держась в тени и мигом ускользая, стоило кому-нибудь двинуться в направлении лестницы. — Вероятно, Мэттью разминулся с ним на дороге, — высказал предположение один из паломников. — Он мог поехать другим путем. — Все, кто сюда приезжает, пользуются Великой Северной дорогой. — Это был Скелет. — А что, если его светлость заболел и отсиживается на каком-нибудь постоялом дворе? — Тогда Мэттью наверняка прислал бы нам весточку, — буркнул Рыжий. — Я даю ему время до завтра. Кэтрин затаила дыхание. Где же Джон?
В тот же день ей доставили письмо. — Это от лорда Латимера? — грубо спросил Рыжий и выхватил пакет у вестника, прежде чем Кэтрин успела подойти. — Да, — сухо сказала она, узнав почерк и печать мужа. Рыжий передал ей письмо: — Так вы лучше вскройте его сами и скажите нам, что там. Отшатнувшись от главаря, распространявшего кислый запах, Кэтрин взяла письмо, сломала печать и прочла его. — Милорд находится в Малтоне, как и планировал. Он сообщает, что все хорошо, он скоро закончит свои дела и будет дома. — Ни слова о Мэттью? — Нет. Можете сами прочесть. Рыжий покачал головой: — Я не умею читать. Похоже, Мэттью упустил его, вот олух. — Простите, — сказала Кэтрин и пошла наверх. Она взяла себе за правило как можно меньше говорить с бунтовщиками. Но то, что она услышала у себя за спиной, заставило ее остановиться. — Надменная сучка, а? — Нужно ее хорошенько приласкать. — Не, не стоит. Эти высокородные леди никуда не годятся в постели. Не получают удовольствия, как нормальные бабы. От шлюхи я бы не отказался! Раздался взрыв грубого хохота. У Кэтрин запылали щеки от негодования. Как эти люди смеют так оскорблять ее?! Какие же они невежды! Для таких мужчин супружеский акт ничем не лучше барахтанья с девкой в стогу сена. Она уже собиралась скрыться в своей комнате, не желая больше слушать эти речи, но тут раздался голос Рыжего, и в его тоне не было намека на шутливость. — Вы забыли, зачем мы здесь! — Он стукнул кулаком по столу. — Я пошлю к лорду Латимеру в Малтон сказать, чтобы он вернулся немедленно и исполнил свой долг, а иначе мы убьем его жену и детей. Кэтрин ахнула и обмерла от страха. Но наверняка это только слова. Они не осмелятся зайти так далеко… Внезапно в холле наступила тишина. — Он поймет, что это не пустая угроза. — Голос Рыжего был твердым как сталь. — Он явится. Что ей делать? Кэтрин дрожала от страха. Нужно передать весточку Джону, причем быстро. Она перебирала в голове слуг: кто из них подходит для такого задания? Потом до нее дошло: лучше всех справится Джек. Он всю неделю безвылазно сидел в своей комнате, хандрил и ныл, что с ним обращаются как с ребенком. Его, конечно, не хватятся. Она будет, как и раньше, отправлять ему еду. Кэтрин тихонько постучала в дверь пасынка. Джек сидел у камина и обстругивал древко для стрелы. Он недовольно глянул на нее, но выражение его лица смягчилось, когда она сказала, чего хочет. — Нужно внушить вашему отцу, что он должен приехать домой. Эти люди ни перед чем не остановятся. — Я поеду, — вскочив со стула, сразу согласился Джек. — Я знала, что ты не откажешься, но мы должны придумать, как тайком вывести тебя из дому, — прошептала Кэтрин. — Проще простого. Глядите. — Он подвел ее к окну с видом на огород и конюшни и указал на маленькую дверь в кирпичной стене. — Эти дураки не догадались проверить, есть ли тут боковые ворота. Никто их не охраняет. Я могу улизнуть через них. Попрошу одного из грумов сесть на моего коня и встретить меня в миле отсюда на дороге. Как просто. Слишком просто. — Нам придется как-то отвести тебя на кухню, чтобы никто ничего не заподозрил. Для этого нужно было спуститься по лестнице и пересечь холл на виду у Рыжего и его сообщников. — Вы идите в свою комнату, — сказал Джек. — Я немного подожду и сойду вниз. Мне ни к чему объясняться с этой швалью. Если они спросят, скажу, что иду взять книгу. — Очень хорошо. — Кэтрин по-прежнему дрожала. — Храни тебя Господь, Джек!
Кэтрин ждала за неплотно притворенной дверью, вся в напряжении, вдруг возникнет ссора. Только бы Джеку удалось выбраться из замка. Это необходимо для них всех. Никакого шума не было слышно. Через пару часов Кэтрин начала успокаиваться и верить, что побег удался. Джек был хорошим наездником, к тому же любой джентльмен мог развить бо́льшую скорость на своем скакуне, чем батрак на лошади с фермы. Сколько отсюда до Малтона? Миль сорок? Самое большее три дня на поездку туда и обратно. Бунтовщики, очевидно, не заметили исчезновения Джека. Кэтрин занималась своими обычными делами, настороженно прислушиваясь ко всем звукам, доносившимся снаружи. Боже, только бы Джон поскорее вернулся домой! Прошло два дня. На утро третьего послышался топот коней и возгласы приближающихся всадников. Кэтрин подлетела к окну спальни и увидела Джона, который подъезжал к дому, сдерживая коня, а следом за ним скакали Джек и слуга. Джон выглядел потрепанным и усталым. Кэтрин сбежала вниз и собиралась распахнуть входную дверь, но Рыжий и Скелет преградили ей путь. — Мы еще не закончили наше дело с его светлостью. Это нужно решить прежде всего, — сказали они и открыли дверь. Джон вошел, лицо его вспыхнуло от гнева. — Что все это значит? — строго спросил он. — Зачем вы здесь и почему захватили мой замок? Отчего моему сыну пришлось ехать за мной и срочно вызывать меня домой? Кэтрин никогда еще не видела его в таком великолепии, таким полным достоинства аристократом. Даже бунтари онемели и глядели на него с благоговейным страхом. — Ну? — рявкнул Джон. Первым пришел в себя и обрел голос Рыжий: — Нам сказали, что ваша светлость отвернулись от нас и поехали в Лондон искать милости короля. Мы разозлились на вас, ведь вы дали клятву. — И поэтому решили явиться сюда и терроризировать мою жену и детей! Тупицы! Я не обязан объясняться с низкими людьми, но вижу, что мне придется сделать это. У меня в Лондоне есть деловые интересы, которыми я не мог пренебречь. Я хранил верность клятве и поддерживал вас, как мог, потому что разделяю ваши тревоги и вашу любовь к истинной вере. Король обещал рассмотреть ваши жалобы. Мои друзья при дворе полагают, он сдержит свое слово. Но он не обрадуется, узнав, что я, получив задание помогать охране наших приграничных земель от шотландцев, вынужден был вернуться домой, чтобы разбираться с вашими угрозами, которые не принесут нашему делу никакой пользы. Так какие у вас ко мне претензии? Что привело вас сюда, — он сморщил нос, — заставило разбить здесь лагерь, кормиться моими припасами и запугивать моих родных? Так ли следует обращаться со своим товарищем-паломником? Так должны вести себя паломники? По лицам бунтарей Кэтрин видела, что они колеблются, соображают, не просчитались ли фатально. — Похоже, нас ввели в заблуждение, — наконец проговорил Рыжий. — И весьма сильно! — воскликнул Джон. — А теперь, будьте добры, покиньте мой дом. Кэтрин задержала дыхание. Мужчины переглядывались. — Пошли, ребята, — сказал Рыжий и без дальнейших пререканий переступил порог. Остальные последовали за своим вожаком, робкие как овцы. Кэтрин заперла за ними дверь и облегченно выдохнула. Джон обнял ее: — Боже мой, Кэтрин, я не знал, что увижу здесь! Сожженный дотла Снейп, тебя и Маргарет… — Голос его дрогнул. — Благодаря храбрости Джека вы успели приехать вовремя, — сказала она, радуясь, что муж вернулся и бунтовщики убрались из дома. Джек вскочил на одну из скамей в холле и выглянул в окно: — Они ушли. Тут и Маргарет, приплясывая, сбежала по лестнице встретить отца. Прежняя веселость вернулась к ней. Кэтрин провела Джона по разгромленным комнатам. Он ужаснулся, видя, какой ущерб причинен дому. — Скоты! Черти! Не волнуйтесь, Кейт, мы наймем каменщиков, столяров и все исправим. — Джон собрал слуг и приказал им вычистить и освежить холл. — Мы с миледи будем обедать в гостиной. Приятно было снова сидеть за столом с Джоном и детьми. — Вы явились очень вовремя, — с умилением проговорила Кэтрин. — Я спешил, как только мог. Мы ночевали в руинах старого особняка, где я любил предаваться шалостям в детстве. Было жутко холодно, и я сильно беспокоился за вас. Джек рассказал об угрозах этих негодяев. С их посланцем я не встретился, в противном случае приехал бы раньше. — Это правда, что при дворе полагают, король выполнит требования мятежников? — спросила Кэтрин. Джон печально улыбнулся ей: — Нет, это не так. И разумеется, этим дуракам ни к чему знать, что я не добрался до Лондона. Получив задание, я написал сэру Уильяму Фицуильяму, что готов выполнить поручение короля, спросил, как он думает, сердится ли на меня его величество, и добавил, что если ему будет угодно, чтобы я жил на юге, то оставлю северный край. Я сообщил ему, что здесь мне почти не на кого положиться и дома мои недостаточно крепки, чтобы выдержать натиск мятежников. Сердце Кэтрин радостно затрепетало при мысли о возможности навсегда перебраться в Лондон, а Джон с тревогой посмотрел на нее: — Вы, наверное, были шокированы. — Я была очень храброй, — встряла Маргарет. — Конечно, милая. А Джек — просто герой. У тебя, наверное, все болит от долгой скачки в седле, мальчик мой. Джек вспыхнул: — Со мной все в порядке. — Не стану отрицать, я испугалась, — сказала Кэтрин, понимая, что Джон ужаснулся бы, если бы она заявила ему, что отныне всегда будет опасаться папистов и ее реформистские взгляды сильно укрепились за последние несколько дней. — Я предпочел бы не ездить на границу, — сказал Джон. — По мне, так лучше отправиться в Лондон. Нужно узнать, в каких мы отношениях с королем. Я хотел бы увидеться с ним и заверить его, что не совершал измены по доброй воле. — Не волнуйтесь! — убеждала его Кэтрин. — Сегодняшние ваши действия — достаточное доказательство вашей преданности. — Да, может быть, вы и правы, любимая. Джон уехал в северные марки следующим утром еще до восхода солнца, закутанный в накидку для защиты от леденящего холода. — Берегите себя, ради меня! — воскликнула провожавшая его в предутреннем сумраке Кэтрин. Она молилась, чтобы он не встретился на пути с другими бандами мятежников. Он придержал коня. — Ну что ж, любимая, прощайте пока что. Да хранит вас Господь! — И вас! — горячо откликнулась она.
Прошло совсем немного времени, и к Кэтрин заехал лорд Редмэйн. — Биго восстал против короля, — сказал он, как только уселся у огня, и ему подали вина. — Сэр Фрэнсис? — Да, он самый. — Но он же был против Благодатного паломничества. — Теперь нет, миледи. Мне известно из достоверных источников, что он посмел публично заявить: никто не должен поддерживать верховенство короля над Церковью и король, мол, изменит своему слову. Он открыто поддержал мятеж и вооружает своих арендаторов. — Неужели это никогда не кончится?! — воскликнула Кэтрин и поведала гостю о том, как бунтовщики захватили их замок. — Их следовало бы повесить, — заявил лорд Редмэйн, — или, по крайней мере, высечь. — Не могу поверить, что сэр Фрэнсис Биго пошел на такое. Его сын помолвлен с моей падчерицей. Он казался таким честным человеком. — Думаю, теперь вы можете забыть о помолвке, — мрачно заключил лорд Редмэйн. Он остался обедать, после чего уехал в Миддлхэм предупредить о восстании своего друга, королевского констебля. И Кэтрин снова охватила тревога.
Дурные вести распространялись быстро. В конце февраля у замка остановились и попросились на ночлег несколько путников. Они сообщили, что герцог Норфолк снова явился на север во главе огромной армии, но дядя и брат Кэтрин не участвовали в кампании, как она узнала позже. На этот раз и речи не было ни о каких уступках. Объявили военное положение, был введен комендантский час. Мятежников Биго и все прочих, чья лояльность Короне вызывала сомнения, быстро изловили и перевешали. Роберта Аска и лорда Дарси схватили, несмотря на то что, по слухам, они осуждали Биго. Как доверчивые дети, эти двое продолжали считать, что король исполнит свои обещания. Но прошел март, а парламент в Йорке так и не собрался, и никакой коронации не предвиделось. Вместо этого его величество, похоже, вознамерился учинить расправу надо всеми, кто противостоял ему. Всю весну не прекращались убийства и казни. Гниющие тела болтались на деревьях и виселицах по всему Йоркширу. Кэтрин перестала брать с собою в Рипон Маргарет, опасаясь того, что может попасться им на глаза. Каждый день она благодарила Господа за то, что Джон далеко отсюда, на границе, но испытала очень неприятные чувства, когда Анна, служившая при дворе, написала ей, что его брата Мармадьюка заключили в Тауэр за содействие паломникам, а дядя Уильям сообщил, что Тайный совет подозревает Уолтера Роулинсона в причастности к мятежу. К счастью, другие братья Джона избежали ареста, но он огорчится, когда узнает о Мармадьюке. Что же касается Уолтера… — Это глупость! — вслух произнесла Кэтрин и быстро написала ответ дяде, заявляя, что ей доподлинно известно: Уолтер ни в чем не виновен; она может поклясться за него своей жизнью. В мае Джон вернулся домой. Герцог Норфолк, который двигался через северные графства, совершая свое ужасное возмездие, вызвал его в Дарем. — Зач-чем? — запинаясь, проговорила Кэтрин. — Помогать в усмирении мятежников или для наказания? — Я не знаю, — ответил Джон, и лицо его пересекли суровые морщины. — Но я должен ехать. Я решил сперва заглянуть к вам, чтобы предупредить. Кэтрин была и тронута, ведь Джону пришлось сделать приличный крюк, и в то же время испугалась, потому что ее супруг явно считал, что этот вызов предвещает недоброе. Она хотела молить мужа, чтобы он никуда не ездил, сбежал в Шотландию или Ирландию, уехал за море — куда угодно, лишь бы спастись, но это означало бы, что Джон признает свою вину. — Мне это не нравится, — сказала она. — Позвольте, я поеду с вами. — Это не женское дело, Кейт. — Все, что касается моего мужа, — мое дело. — Ни к чему было добавлять, что, если Джона признают изменником, его поместья конфискуют, а она и дети останутся без пенни в кармане. Слова эти, не сказанные вслух, висели в воздухе между ними. — Хорошо, — кивнул Джон. — Я буду рад вашему обществу. Он не стал спорить, и Кэтрин подозревала, что муж на самом деле желал ее присутствия рядом. — Уолтер и его жена позаботятся о детях, — сказала она, сожалея, что Кэт теперь не с ними, уж она-то с радостью приняла бы у себя Джека и Маргарет.
Дарем производил сильное впечатление своим мощным замком и возвышавшимся над ним собором, выстроенным на скале. Именно здесь отец Катберт властвовал как принц-епископ. Кэтрин многое бы отдала за то, чтобы увидеться с ним, но он находился далеко, в Шериф-Хаттоне, участвовал в работе Совета Севера. Въехав в город, они были потрясены видом и вонью болтавшихся на виселицах гниющих трупов, которые были оставлены в назидание всем, кто впредь задумает восставать против своего соверена. Прижимая платок к носу и устремив взгляд на камни мостовой, Кэтрин сидела на лошади, которую под уздцы вел по улицам Джон, стараясь держаться как можно дальше от мертвых тел. Они нашли комнату в гостинице, оставили лошадей на конюшне и заказали себе еды, но у обоих не было аппетита. Кэтрин молилась, чтобы их страхи оказались напрасными и, побеседовав с герцогом Норфолком, они вернулись сюда и на радостях выпили по кубку вина. После обеда, как было приказано, они явились в замок на встречу с герцогом и были препровождены в огромный холл. В одном конце его стоял стол, за которым сидели трое мужчин. Двое были в черных платьях писцов; между ними — Норфолк. Подбитая мехом накидка, атласный дублет и отличные кожаные башмаки выдавали в нем аристократа. Джон поклонился, а Кэтрин сделала реверанс. Герцог вскинул брови, увидев ее. У него было угрюмое лицо с сильно выступающим носом, тонкими губами и усталыми от жизни глазами под тяжелыми веками. — Милорд Латимер, — грубым голосом произнес он, — и ваша добрая супруга, я полагаю. — Ваша милость, я привел с собой жену, так как она может рассказать вам, что нам пришлось пережить из-за мятежников. Герцог указал им на два стула: — Прошу садиться. Ну, миледи? — Ваша милость, — начала Кэтрин, решив показать себя храброй и верной подданной, — когда милорд уехал по заданию короля, банда бунтовщиков пришла к нашему замку и захватила его. Она пересказала всю ужасающую историю, подчеркнув, что Джона изначально заставили примкнуть к мятежникам, и не забыла упомянуть, как сама была напугана угрозами пилигримов убить ее и детей, если лорд Латимер откажется поддерживать мятеж. Норфолк слушал; его бесстрастное лицо ничего не выражало. — И они безропотно ушли по вашему требованию? — спросил он Джона. — Да, ваша милость. Но с тех пор принялись распускать слухи, будто мой управляющий Уолтер Роулинсон по своей воле вступил в их ряды, что есть неприкрытая ложь. Я знаю его самого и его семью всю жизнь, и среди них нет ни единой предательской души. Норфолк кивнул. — Уолтер был очень зол, когда мятежники ворвались в замок, — добавила Кэтрин. Герцог перебрал на столе несколько бумаг и взял одно письмо: — Я выслушал вас обоих внимательно, но мне кое-что доносили о вас, Латимер. Его величество и мастер Кромвель желают, чтобы я установил, являлись ли вы пленником бунтовщиков в прошлом году или присоединились к ним по своей воле. — Его заставили! Я свидетель, — встряла Кэтрин. Джон положил руку на ее плечо и сказал, обращаясь к герцогу: — Моя жена говорит правду. Я не собирался поддерживать их. Прежде всего, я верен королю, милость которого много для меня значит. — И тем не менее, — Норфолк сложил пальцы домиком перед лицом, — вы держитесь старых обычаев в религии. Джон заколебался. — Я принес клятву, что принимаю верховенство короля над Церковью. Герцог наклонился вперед: — Послушайте, мы с вами в этом деле заодно. Мне тоже по сердцу старые обычаи. По-моему, есть люди, которые хотят зайти слишком далеко, как наш друг мастер Кромвель. Не думайте, что я не сочувствую этим беднягам, которых вынужден карать. Но наш долг — не подвергать сомнениям веления короля. Мы должны быть послушными подданными. Я не одобряю всю эту книжную ученость, из-за которой люди начинают оспаривать Священное Писание, но это другое дело. Вопрос в том, как поступить с вами? — Я прошу только об одном: чтобы была подтверждена моя непоколебимая преданность его величеству и установленным им законам, — заявил Джон. — Хорошо. Знайте, король велел мне попросить вас, чтобы вы осудили этого негодяя Аска и уповали на милосердие его величества. — Осудить? — эхом отозвался Джон. — Разве его еще не приговорили? — Публичное осуждение вами главаря мятежников поможет настроить ум короля на нужный лад. «Сделайте это, — про себя молилась Кэтрин, — сделайте. Аск поймет, что вы действовали по принуждению, а ему самому теперь уже ничто не поможет». Джон не замедлил с ответом: — Да, я вынесу ему осуждение. Он незаконно восстал против короля и толкал подданных его величества бунтовать против своего соверена. — Запишите это, — велел герцог писцу. Когда тот закончил, Джон скрепил документ своей подписью. — А теперь, милорд, — продолжил Норфолк, — вам следует отправиться в Лондон и лично объясниться с королем. Я почти не сомневаюсь, что он отнесется к вам милостиво, так как я сообщу мастеру Кромвелю, что не смог обнаружить никаких свидетельств против вас, что вы действовали по принуждению и никакому человеку не грозила в большей степени опасность расстаться с жизнью, чем вам. — Его вытянутое лицо наконец расплылось в улыбке. — Благодарю вас, ваша милость! — воскликнул Джон, вставая и низко кланяясь. — Благодарю вас, — подхватила Кэтрин и присела в низком реверансе.
Как только они вышли, она взяла мужа под руку, сжала ее и сказала: — Он не такой уж солдафон, каким выглядит. У него есть еще в сердце крупицы доброты. Он вам поверил. — Скорее уж он поверил вам. Но мы пока еще не выбрались из чащи, любимая. Мне предстоит встретиться с королем. — Не думаю, что у вас возникнут какие-нибудь сложности, — успокоила его Кэтрин. — У нас есть друзья при дворе, которые нам помогут. Важно как можно скорее добраться до Лондона. — Мы можем отправиться туда прямиком отсюда, — сказал Джон. — В йоркском доме у нас есть одежда на смену; мы ее возьмем. А в Снейп я пошлю грума с известием о наших планах. — Я уверена, они справятся без нас какое-то время, — поддержала его Кэтрин; ей хотелось уехать в Лондон. По пути на юг она размышляла о том, как облегчить Джону путь к примирению с королем. Отчет Норфолка, можно надеяться, смягчит его величество. Уилл находился на Севере, а дядя Уильям уже вернулся ко двору и был в фаворе; он, конечно, сможет заступиться за Джона. Сэр Уильям Фицуильям тоже, вероятно, пожелает вмешаться. Когда они приблизились к барбикану у Бутхэм-Бар, северных ворот Йорка, стражник поднял руку: — Что вы здесь делаете, лорд Латимер? В его тоне звучала враждебность. Вероятно, он был сторонником паломников и, естественно, видел в Джоне предателя. Кэтрин почувствовала, что ее супруг сдерживает ярость. — Я еду в Лондон по поручению милорда Норфолка. Мы сегодня заночуем здесь, в моем доме. Стражник хмыкнул и пропустил их. Кэтрин стало дурно при виде тел, болтавшихся на деревьях и здесь тоже. — Боже мой! — пробормотал Джон, когда они повернули на Стоунгейт. — Это Джонас, торговец книгами. А там звонарь из церкви Святой Троицы. Оба они добрые люди. И так напрасно прервалась их жизнь. Те же мрачные зрелища встречались им и в других местах по Великой Северной дороге. От них было никуда не деться. Кэтрин вздохнула с облегчением, когда, миновав Линкольншир, они поехали через графства, не затронутые мятежом. В Питерборо они ненадолго задержались, чтобы Кэтрин посетила аббатство, где похоронили Екатерину Арагонскую, и почтила память королевы. Встав на колени у гробницы, она с горечью вспомнила, как умирала в одиночестве эта несчастная женщина, изгнанная от двора, вдали от мужа и обожаемой дочери. С болью в сердце Кэтрин прочла эпитафию, в которой Екатерина была названа вдовствующей принцессой. Даже посмертно ее не решились именовать королевой. Покинув аббатство, чтобы присоединиться к Джону, ожидавшему ее на лужайке снаружи, Кэтрин услышала разговор монахов о том, что королева Джейн беременна. Это был луч света в мире, помраченном распрями и трагедиями. Кэтрин мысленно помолилась о том, чтобы родился принц. Может быть, король на радостях станет добрым отцом и для своих подданных.
По мере приближения к Лондону Кэтрин начала ощущать внутренний трепет. Вдруг Джона завлекают в ловушку или за ним следят? Она слышала разговоры о том, что у Кромвеля целая армия шпионов, и решила на всякий случай держаться настороже. Когда они въезжали в город у барбикана, Кэтрин задержала дыхание, но их не остановили. Никто не отвечал на просьбы Джона об аудиенции у короля, но он упорно ходил ко двору и блуждал по галереям среди толп других просителей в надежде поймать на себе взгляд его величества, проходящего мимо в процессии, однако все было напрасно. Дядя Уильям уехал по делам в свои поместья, а сэра Уильяма Фицуильяма Джон нигде не мог отыскать. Его тревожило это исчезновение, и он день ото дня все глубже погружался в уныние. Большинство людей, с которыми ему удалось переговорить, убеждали его ехать домой или за границу ради безопасности. Они провели на Чартерхаус-сквер тревожный месяц, когда Джон начал серьезно обдумывать эти предложения. Потом вдруг, к удивлению их обоих, доложили о приезде Уилла. Как же приятно было снова увидеть его! — Но я думала, ты на Севере! — изумленно воскликнула Кэтрин, обнимая брата. — Я вернулся два дня назад, сестрица, — ответил он; стол перед ним уставляли напитками и сластями. — Мне придется вернуться туда, чтобы заседать в комиссиях, которые разбирают дела мятежников. А пока я наслаждаюсь отпуском. — Ты останешься обедать? — не рассчитывая на отказ, спросила Кэтрин. — Ничто не доставит мне большего удовольствия. Честно говоря, я не думал, что найду вас здесь. Кэтрин поежилась: — Мы уже собирались уехать. Ты, наверное, слышал, что Джона подозревают в измене. Улыбка сошла с лица Уилла. — Об этом упоминали некоторые бунтовщики, которых мы арестовали. — Они считают, что он их предал, — объяснила Кэтрин. — А мне говорили, будто король недоволен им. Он тоже может считать Джона изменником. Вот почему я поторопился приехать сюда сразу после казни мастера Аска и сэра Роберта Констебла. Мастер Кромвель поручил мне засвидетельствовать ее, так что я у него на хорошем счету и, вероятно, могу помочь вам. По пути на юг я заезжал в Рай-Хаус и предупредил дядю Уильяма. Он сейчас едет в Лондон. — Уилл взял Кэтрин за руку, глаза его были полны сочувствия. — Поверь мне, сестрица, мы с ним несколько раз смиренно просили короля за Джона, и другие люди тоже высказывались в его пользу. Я постараюсь завтра увидеться с мастером Кромвелем. В конце этой недели при дворе появится сэр Уильям Фицуильям. Он наверняка возьмется вам помочь. Все это звучало ободряюще. — Его милость герцог Норфолк обещал сообщить его величеству, что Джон не совершал никаких преступлений, — сказала Кэтрин. — А я надеюсь вскоре увидеть короля и объясниться с ним, — добавил Джон. — Тогда вам не о чем беспокоиться, я уверен. — Уилл улыбнулся. Кэтрин видела, что Джон стал заметно спокойнее, и, отставив в сторону страхи, решила наслаждаться обедом. За едой они говорили о семейных делах. Кэтрин посчитала еще более странным, чем обычно, что Уилл не упоминал о своей жене. Насколько она знала, они до сих пор не начали жить вместе. Прошло уже десять лет со дня их свадьбы, и Энн Буршье было уже, наверное, лет двадцать, более чем достаточно для того, чтобы разделять ложе с мужем. — Как Энн? — робко спросила она. — Полагаю, хорошо. Я не видел ее уже целую вечность, — ответил Уилл. Похоже, эта тема его не слишком интересовала. — Ты никогда не говоришь о ней, — мягко заметила Кэтрин, погладив брата по руке. — Она твоя жена. — Скажи об этом ей, — резко отозвался он; в голосе его звучала горечь. — Она кидается в слезы всякий раз, как кто-нибудь говорит ей, что нам пора уже жить вместе. Отец давит на нее, но она знает, как подольститься к нему и увильнуть. Я сказал, что даю ей время до следующего года, когда покончу с делами на Севере. Если она продолжит упираться, я обращусь за аннулированием брака. Мужчине нужен наследник. Мне двадцать четыре, и я не хочу тратить время понапрасну. — Очень грустно слышать это, — сказала Кэтрин. — Что с ней не так? Ты пытался уговорить ее по-доброму? — Пытался! Цветы, подарки и нежные слова… Все это я испробовал. И начинаю склоняться к мысли, что ей в принципе неприятны мужчины или супружеские обязанности. — Поезжай к ней еще раз, Уилл. Поговори, будь терпеливым и спроси, почему она отказывается. Скажи, что хочешь ей помочь. Действуй мягко. Уилл горестно улыбнулся: — Хорошо, Кейт. Я воспользуюсь твоим советом. — От моей жены так просто не отвяжешься, — усмехнулся Джон. Они все засмеялись. За разговором выяснилось, что Уилл знает, как не увязнуть в трясине интриг, которую являл собой двор. Казалось, у него там много друзей, и это не вызывало удивления, учитывая его обаяние и благожелательность. Покрой и качество платья, а также то, как он ценил хорошую пищу и вино, говорили, что Уилл Парр — человек с отменным вкусом. Брат отличался утонченностью и в культурном смысле, среди его друзей числились сэр Томас Уайетт и сын Норфолка, граф Суррей; оба — известные поэты. — Вы должны пригласить их на ужин, — сказал Уилл. — Могу вас заверить, это будет очень приятная компания. С Сурреем никогда не соскучишься, а Уайетт теперь повеселел, так как прошлогодние события остались позади. — Прошлогодние? — Кэтрин и Джон переглянулись, ничего не понимая. — Падение королевы. Он любил ее, знаете ли. Когда-то даже соперничал за нее с королем. И не забыл. Когда это случилось, Уайетт стал сам несвой. Его тоже посадили в Тауэр, но вот что странно: Кромвель сразу написал отцу Уайетта, что его сына отпустят, так и случилось. То же самое произошло с сэром Ричардом Пейджем. А других мужчин казнили. Мне кажется, их арестовали и освободили, чтобы убедить всех в виновности остальных подозреваемых. Кэтрин давно уже размышляла об этом. — Но они были виновны? — Кое-кто считает, что и они, и королева ни в чем не повинны. — Неужели король мог послать на смерть семерых заведомо невиновных людей? — изумленно спросил Джон. — Уайетт имеет на этот счет свою теорию. Не забывайте, он дружен с Кромвелем. Он считает, что король верил в их виновность. Я хочу сказать только, что мастер Кромвель — умный и решительный человек. К тому же безжалостный. У Кэтрин по спине пробежал холодок. Неужели министр может быть таким дерзким, беспринципным и жестоким?! Ее вдруг поразила мысль о том, каким опасным местом может быть двор. — Но почему? Уилл отложил нож и отхлебнул из своего кубка. — Королева хотела раздавить Кромвеля, а он опередил ее и заодно избавился от тех, кто ее в этом поддерживал. — Джейн Сеймур следует быть крайне осторожной, если в наши дни такое случается с королевами. Уилл нахмурился: — Думаю, она участвовала в заговоре против королевы. Ей это принесло самые большие выгоды. А теперь она ждет ребенка, и никто, даже наш приятель Кромвель, не может ее тронуть, особенно если она родит королю сына. — Слыша все это, я радуюсь, что не состою при дворе, — сказала Кэтрин. — Есть ли там хотя бы один честный и принципиальный человек? — Чем выше человек поднимается, тем меньше в нем остается этих добродетелей, — заметил Джон.
С королем Джон так и не встретился, зато получил от него прощение, благодаря объединенным усилиям трех Уильямов. Однако обошлось это недешево. — Я прощен, но, кажется, остаюсь под подозрением, и боюсь, это навсегда, — проворчал он, показав Кэтрин документ, подписанный королем и скрепленный королевской печатью. — Почему? — недоуменно спросила она. — Прощение есть прощение, разве не так? — Меня вызвал к себе мастер Кромвель, — проговорил Джон, тяжелыми шагами меряя гостиную. — Меня уволили из Совета Севера. И я обязан выплачивать Кромвелю ежегодное вознаграждение за его роль в получении прощения. Так он сказал. Это вымогательство, чистое и неприкрытое, и мне придется продать часть своей собственности, чтобы расплатиться с ним. Для начала я сдам в аренду этот дом. Кейт, похоже, мне теперь весь остаток дней придется жить с оглядкой. За мной будут следить, уж в этом можно не сомневаться. И я буду вечно присматриваться к своим друзьям и слугам, думая, кого из них подослали шпионить за мной. Кэтрин подошла к мужу, обняла и прижалась щекой к его щеке: — Думайте о хорошем, Джон. У вас останутся Снейп и другие поместья. Вы живы и свободны от страха суда и расправы! Это важнее всего. А вести нормальную честную жизнь, какую вы вели до сих пор, будет совсем нетрудно. Скоро любой соглядатай убедится, что следить за вами ни к чему, а мастер Кромвель решит, что тратить деньги на слежку за вами не имеет смысла и не стоит затрат. Если он и правда намерен установить за вами надзор. — О, в этом я уверен. Он такой скользкий тип, выскочка и шантажист. — Забудьте о нем. Давайте снова жить своей жизнью.
«Это было несправедливо, незаконно и просто неправильно», — про себя злилась Кэтрин, хотя ради Джона держала на лице улыбку. Но утром, когда она сидела в спальне, а горничная расчесывала ей волосы, принесли отчаянное письмо от жены сэра Томаса Бурга Элизабет, и Кэтрин рассудила, что случаются вещи и похуже вымогательства. Элизабет родила Томасу сына и наследника, но ужасный лорд Бург, взглянув на желтоватое личико младенца, заявил, что тот не может быть одной с ним крови. Только молодая мать встала с родильного ложа, как свекор выгнал ее из дому, в гневе обозвав бедняжку шлюхой и блудливой девкой. Тщетно пытался муж защитить жену; отец его был неумолим. Прошу вас, помогите мне, дорогая сестра, — писала Элизабет. — Я живу в монастыре, который скоро закроют. Кэтрин решила послать ей немного денег. Прежде чем лечь в постель, она нацарапала несколько утешительных фраз, добавив с озорной гримаской: «Я советую вам обратиться к мастеру Кромвелю». Если Элизабет воспользуется ее рекомендацией, лорду Боро придется давать объяснения!
Сдав дом на Чартерхаус-сквер лорду Расселлу, Джон и Кэтрин покинули Лондон и остановились у его брата Уильяма в поместье Вайк недалеко от Першора в Вустершире, так как Джон не хотел возвращаться в Снейп, пока на Севере не утихнут последние отголоски мятежа и не завершатся акты возмездия за него. Однако в Вайке он чувствовал себя неуютно, так как Уильям был по-прежнему странен и непредсказуем, поэтому вскоре они перебрались в поместье Стоу-Девять-Церквей недалеко от Нортгемптона, которое Джон унаследовал после смерти одной из своих двоюродных бабок Невилл. Через довольно непродолжительное время Уолтер привез к ним детей. Кэтрин с удовольствием обустраивала дом в Стоу. Ей нравились покатые холмы Нортгемптоншира, окружавшие деревню, коттеджи из мягкого камня и церковь с высокой квадратной башней, которая, по словам местных жителей, была построена еще до того, как Вильгельм Завоеватель вторгся в Англию. Климат здесь был мягче, чем в Йоркшире. Но самое приятное то, что от Стоу до Бертон-Латимера, другого имения Джона, меньше дня пути, а оно находилось в непосредственной близости от Орлингбери-Холла, где жила кузина Кэтрин, Магдалена Парр, леди Лейн, и Харроудена, резиденции Элизабет Чейни, леди Во. Как-то раз погожим сентябрьским днем Кэтрин с Маргарет поехали в Бертон и остались там на неделю, совершая внезапные наезды к Магдалене и Элизабет. Встречали их с радостью, и они проводили время в долгих разговорах на тему религиозных реформ. Хорошо, что у Кэтрин имелись приятели в этих краях, поскольку Джон часто бывал в разъездах по заданиям короля. Каждый раз он считал, что его проверяют. Часто ему приходилось отправляться в приграничные области на военную службу, исполнять обязанности мирового судьи и различные поручения, а также председательствовать на квартальных выездных сессиях суда. Время от времени он заезжал в Снейп, уделяя внимание делам поместья, и заглядывал в Йорк, чтобы проверить, как содержится его дом в отсутствие хозяев. Довольно скоро Кэтрин пришла к выводу, что ей больше нравится жить в Стоу; со Снейпом у нее теперь было связано слишком много неприятных воспоминаний. Захват замка мятежниками подействовал на нее сильнее, чем она предполагала. По правде говоря, Кэтрин до сих пор опасалась, как бы они не устроили еще какой-нибудь акт возмездия, потому что дважды сопровождала Джона в Йорк, когда от него требовалось вершить правосудие над бунтовщиками, до сих пор избегавшими поимки, и общая обстановка в городе казалась ей враждебной. Она чувствовала себя гораздо спокойнее в Нортгемптоншире. Там Кэтрин и находилась в октябре, когда получила письмо от сестры с известием, что королева родила принца, которого нарекли Эдуардом в честь Эдуарда Исповедника. «В Лондоне, — писала Анна, — по такому случаю устроили торжества с праздничными кострами, процессиями, бесплатным вином и уличными гуляньями». Все сходили с ума от радости, и она, Анна, присутствовала на крестинах! Джона дома не было, но Кэтрин тоже решила отметить это событие. По ее распоряжению повара пекли и жарили весь день; она купила много эля у местного хозяина постоялого двора и пригласила менестрелей. Ближе к вечеру Кэтрин открыла свой холл для деревенских жителей и пригласила их отужинать с ней на славу и выпить за принца. Когда все наелись, начались танцы. Уолтер вывел ее первой, а Джек с Маргарет вышли следом. Давно уже Кэтрин так не веселилась. Венцом ее радости стала новость о том, что Уилла произвели в рыцари. Милорд Норфолк и мастер Кромвель отрекомендовали меня его величеству, — сообщал он. — И благодаря отзывам дяди Уильяма король назначил меня джентльменом своих личных покоев. Это была отличная новость. Джентльмены личных покоев проводят все дни, прислуживая королю. Они его ближайшие друзья и помощники; ухо его величества в их распоряжении. Это самое лучше положение для того, чтобы оказывать покровительство. Уилл наверняка разбогатеет, получая подарки и взятки от питающих надежды просителей. Подобная деятельность достойна порицания, но так устроена жизнь при дворе. Главное, как высоко поднялся ее близкий родственник и в каком фаворе он находился у короля. Вот если бы и Джон сподобился такой чести.
Деревья стояли уже почти голые, и осенние ветры налетали с холмов, когда из Хэмптон-Корта доставили очередное письмо Анны. Королева Джейн умерла вскоре после родов. Анна вместе с другими дамами и фрейлинами проводила беспрерывные бдения у одра почившей госпожи и следовала за ее гробом в траурной процессии по пути в Виндзор, где ее похоронили. Кэтрин помолилась о душе королевы, думая о несчастном младенце, оставшемся без матери в своей огромной детской комнате во дворце Хэмптон-Корт. Анна была очень расстроена. Она служила трем королевам и теперь осталась без места. Дядя Уильям сказал, что ей будут рады в Рай-Хаусе, однако Анна не хотела туда ехать. Я привыкла жить при дворе и не хочу прозябать в глуши. Но при дворе не будет места для дам, раз теперь тут нет королевы. Кэтрин сразу написала ответ и пригласила Анну приехать в Стоу и пожить здесь, пока она не определится со своим будущим. Сестра с готовностью приняла предложение. Видеть ее снова было просто восхитительно, равно как и наблюдать за близостью Анны с Магдаленой и Элизабет. Они очень весело провели несколько недель, совершая визиты, выезжая на охоту, обсуждая религию и готовясь к Рождеству. Однажды, когда женщины сидели вместе за столом в гостиной и нашпиговывали апельсины гвоздикой, Анна призналась, что главная причина, почему она не хотела покидать двор, — то, что у нее там есть поклонник. — Я знала, что ты не открываешь мне всего, — поддразнила ее Кэтрин. — Больше я не в силах таиться, — сказала Анна. — Дядя Уильям знает об этом и ведет переговоры с тем джентльменом. — Голос ее выдавал нетерпение, ей хотелось выйти замуж за этого человека. — Так кто же он? — Кэтрин едва могла сдержаться. Анна явно не решалась открыться. — Обещай, что никому не скажешь. Это Уильям Герберт, эсквайр тела короля. Он внук старого графа Пембрука, который участвовал в Войне двух роз. — И унаследует титул? — возбужденно спросила Кэтрин. Ее сестра — графиня? Это станет ярким пером на фамильной шляпе. Анна замялась. — Он на это надеется. Хотя его отец — незаконный сын старого графа, сам он в фаворе при дворе и может ожидать блестящего будущего. — Его деда казнили за измену? — Да. Вот почему графство временно упразднено. Но король может восстановить его. У Кэтрин возникли сомнения. Бастард не может наследовать титул. Ожидания Анны основывались на призрачных надеждах. Однако она ничего не сказала. Дядя Уильям, очевидно, одобрял выбор ее сестры, а он человек практичный. Кэтрин не хотелось, чтобы Анна уезжала. В своей сестре она нашла пылкий дух: та была еще более горячей сторонницей религиозных реформ, чем сама Кэтрин и ее друзья. Джон хорошо ладил с ней, а Маргарет так и вилась вокруг нее; Кэтрин даже немного заревновала. Рождество они провели прекрасно. Давно уже в доме не было такого веселья.
 Глава 11
1538–1539 годы
Глава 11
1538–1539 годы
Совет, данный Кэтрин Уиллу, принес плоды. Он совершил попытку поухаживать за Энн, изобразив из себя нетерпеливого поклонника, а не мужа, желавшего получить свое. Постепенно Уилл завоевал ее сердце, и супруги начали жить вместе в апартаментах при дворе, которые ему предоставили в связи с назначением в личные покои короля. Они состояли всего из двух комнат и уборной, тем не менее такие апартаменты в королевских дворцах были самыми желанными для придворных, так как располагались ближе всего к месту обитания его величества. Энн должна радоваться, что оказалась при дворе и в таких престижных условиях. Все у них будет хорошо, Кэтрин не сомневалась.
Однако не прошло и месяца, как она получила письмо от раздосадованного Уилла и, расстроенная, показала его Анне, поясняя:
— Энн не хочет жить при дворе. Она заявила, что ей там не нравится, и переехала в дом у монастыря Черных Братьев. Как это выглядело в глазах короля и придворных?
Анна нахмурилась:
— Я встречалась с ней дважды. Она деревенская клуша и нытик. Полагаю, родители баловали ее как своего единственного ребенка, исполняли каждый каприз доченьки, но пренебрегли ее образованием. Она не умеет ни танцевать, ни петь, ни играть на музыкальных инструментах. Неудивительно, что ей захотелось обратно в деревню. — Анна положила письмо на стол. — Честно говоря, эта девица — неподходящая жена для Уилла. Мужчине, который пробивает себе дорогу в жизни, нужна сподвижница, а не камень на шее.
— Я бы ее хорошенько встряхнула, — пробормотала Кэтрин. — Ей достался такой прекрасный муж, красивый и готовый ее ублажать. Могло быть и много хуже.
Они вместе написали письмо Энн, прося ее постараться ради Уилла и обещая помочь всем, чем могут. Ответа не последовало.
Анна оставалась в Стоу до февраля, когда вся компания отправилась за девяносто с чем-то миль в Хартфордшир на ее свадьбу с Уильямом Гербертом. Эвас-Гарольд — глухая деревушка, расположенная в холмистой местности, однако стоявший на возвышенности замок, резиденция Гербертов, больше походил на крепость, чем на жилой дом аристократов. Тем не менее леди Герберт, мать Уильяма, постаралась сделать его уютным для гостей, прибывших в день накануне свадьбы. Джона и Кэтрин проводили в просторный покой с толстыми каменными стенами, завешенными яркими гобеленами, в котором стояла застланная белоснежным бельем дубовая кровать под балдахином. В очаге потрескивал жаркий огонь, разгонявший холод, которым тянуло от узких окон. Поездка была долгая, поэтому Кэтрин была рада ненадолго прилечь и отдохнуть. Джон присоединился к ней, и вскоре они занялись любовью. Как обычно, Кэтрин задумалась, почему за четыре года замужества ее чрево так и не наполнилось. Похоже, Господь не уготовил для нее радости материнства. Она лежала головой на сгибе руки Джона, а он накрыл их обоих одеялом. — Жаль, что я не подарила вам сына, — прошептала Кэтрин. Тот поцеловал ее в макушку: — Ничего, любимая. Ни у одного мужчины не было такой прекрасной и смелой жены. Поглядите, как вы управились с мятежниками! К тому же у меня есть сын, хотя ему нужно преподать несколько важных уроков. Бог знает, как он будет заботиться о Маргарет, когда меня не станет. Кэтрин напряглась. — Вам всего сорок пять! — Увы, дорогая, но мужчину Господь может призвать к себе в любой момент. Лучше быть готовым. Я думаю, не купить ли монастырских земель, чтобы в свое время передать их Маргарет в качестве источника дохода. Рядом с Йорком продаются несколько поместий, в Хамертоне и Нан-Монктоне. Я справлюсь о них, когда мы вернемся в Стоу. — Значит, вы снова поедете в Йорк. Джон так часто был вдали от дома. — Там теперь спокойнее. Вы должны поехать со мной. Она улыбнулась ему: — Знаете, думаю, я поеду.
Вечером они познакомились с Уильямом Гербертом. Высокий, стройный мужчина лет тридцати пяти, он заполнил собой всю комнату. У него были коротко подстриженные черные волосы; вероятно, поэтому один из гостей назвал его Черный Уилл Герберт. За ужином сэр Роджер, говорливый местный священник, здоровый аппетит и округлый живот которого напомнили Кэтрин Брата Тука, развил эту тему. — Он хороший парень, но вспыльчивый. Вообще он ужасный задира, и ничто ему не по сердцу больше доброй драки. — Священник доверительно потянулся вперед, и Кэтрин заинтересовалась: что же последует дальше? — Вы слышали об истории, случившейся в Бристоле? Кэтрин и Джон непонимающе переглянулись. Сэр Роджер склонился к ним ближе. Они почувствовали его несвежее дыхание. — Там произошла стычка между несколькими караульщиками и уэльсцами мистера Герберта. Он убил одного торговца и был вынужден уехать во Францию во избежание королевского суда. Поступил на службу к французскому королю и заработал хорошую репутацию как солдат. Король Гарри послушал отзывы короля французов и принял его назад с распростертыми объятиями. Черный Уилл никогда не оглядывался на прошлое. С тех пор он при дворе, получил много наград и знаков отличия. Кэтрин ужаснулась. И это человек, за которого ее любимая сестра — ее утонченная, образованная и кроткая сестра — выходит замуж? Он же не лучше любого головореза, несмотря на благородную кровь. Но вот она — Анна, сидит в центре главного стола и любовно улыбается ему, а дядя Уильям хлопает его по спине в ответ на какую-то шутку. Кэтрин покосилась на Джона, но тот завел разговор с дамой слева от себя. Она улыбнулась через стол священнику, повернулась к сидевшему справа Уиллу и тихо спросила: — Ты слышал? — Все это — давняя история, — улыбнулся он. — Мне нравится Герберт. Он будет хорошим мужем для Анны. — Но как же его характер? — Вспыльчив, но отходчив. Я посоветовал ей не загружать этим голову. У нее, кажется, нет никаких сомнений. Она без ума от него. Кэтрин посмотрела на них обоих и нехотя признала наличие в Герберте какой-то особой привлекательности: волосы цвета воронова крыла, подтянутость… К тому же он явно очарован Анной. Это было очевидно: такими глазами смотрят только влюбленные. Джон, которому Кэтрин задала тот же вопрос ночью в постели, только отмахнулся, не придав значения ее беспокойству, подходящий ли супруг для Анны Герберт. — Спите. Он разумный человек, и они любят друг друга. Исправившиеся повесы становятся лучшими мужьями. — И вскоре Джон захрапел. На следующий день до начала свадебной церемонии все собрались в холле замка, чтобы присутствовать при подписании брачного контракта. Кэтрин заметила, что Герберт воспользовался печатью, и изумилась, поняв, что он неграмотный. Как вынесет Анна, образованная и начитанная, замужество с ним? Однако Анна улыбалась и светилась от счастья, одетая в розовое свадебное платье из серебрящейся тафты, с распущенными волосами и в венке из цветов. Ну что ж, если ее ничто не тревожит — а в двадцать два года она уже могла расставить жизненные приоритеты, — то и Кэтрин не о чем переживать. Нужно радоваться, что сестра так счастлива. Свадьба прошла прекрасно. Кэтрин радовалась, что повидалась с приехавшим из Йорка Уиллом, дядей Уильямом и тетей Мэри. Там была и Магдалена Лейн, и еще несколько кузин с Севера, помимо кучи родственников Гербертов. Особенное веселье наступило, когда со столов убрали остатки свадебного пира. Вино лилось рекой, и все с удовольствием принялись играть в жмурки и прятки. Кэтрин снова почувствовала себя девочкой.
Пусть Джон и не вернул себе расположение короля, но, по крайней мере, благодаря упорному труду и усердию в исполнении многочисленных обязанностей, которые на него навалили, сумел скопить немного денег и в начале 1539 года снова взял в аренду дом на Чартерхаус-сквер. Хотя время от времени ему приходилось ездить на Север, различные поручения и работа в парламенте часто приводили его в Лондон, и Кэтрин всегда пользовалась возможностью сопровождать его. Той весной и в начале лета он заседал в палате лордов почти каждый день, но однажды утром, уже собравшись уходить, вдруг бросил шапку на скамью и сел. — Джон? — окликнула его Кэтрин. Что-то случилось. Она уже давно подозревала неладное. — Сегодня я не пойду в парламент. — Но разве вы не должны быть там? — Едва ли я могу представлять точку зрения людей своего графства, голосуя за издание билля о посмертном лишении лорда Дарси гражданских прав и состояния. Я уважал его как принципиального человека. — Ваше отсутствие заметят, — посчитала своим долгом заметить Кэтрин. — И пускай! — Никогда еще муж не говорил с ней так резко. — Я достаточно долго играл по их правилам. Я буду у себя в кабинете. Если кто-нибудь спросит меня, я болен. — Он встал и тяжелой поступью удалился. Через два часа раздался стук во входную дверь. Кэтрин обмерла. Должно быть, это люди лорда Кромвеля пришли за Джоном. Но нет. Управляющий ввел в комнату девушку необыкновенной красоты с живым, решительным выражением на знакомом лице. Кэтрин потребовалось мгновение, чтобы узнать ее. — Мистресс Анна Аскью! — воскликнула она. — Как приятно видеть вас. И как же вы выросли! — Леди Латимер, я так рада встрече с вами. Простите, что явилась без предупреждения, но мне нужна помощь, и я подумала, вы сможете дать мне совет. — Конечно, — сказала Кэтрин, удивляясь про себя, о чем же пойдет речь? — Садитесь. Что вы делаете в Лондоне? Ваш супруг с вами? — Нет. Я ушла от него. — Ушли? — Кэтрин была шокирована. Ни одна женщина не бросит своего супруга без очень весомых оснований. Начать с того, что все ее имущество принадлежало ему, и у нее не будет никаких средств к существованию. — Мы с ним не поладили, — сказала гостья, и это звучало неубедительно, поскольку многие пары не находят общего языка. — Леди Латимер, я хорошо помню, что когда много лет назад вы приезжали к нам, то говорили со мной, и я поняла: у вас широкие взгляды и вы терпимы. — Вы были очень проницательны для столь юного создания. — Кэтрин улыбнулась с легкой опаской: уж не собралась ли Анна признаться ей, что сбежала с любовником? — Я просто знала. Вы были так милы и добры. И теперь мне нужна ваша доброта. Понимаете, я приняла новую веру, я — протестантка. Кэтрин задержала дыхание. Неужели Анна не знала, насколько опасно числиться среди протестантов, как называли себя теперь последователи Мартина Лютера. В Англии это считалось ересью и было вне закона. Тех, кто не хотел отрекаться от своих убеждений, сжигали на кострах. Вот почему сама Кэтрин удерживалась от открытого принятия протестантских взглядов, хотя они ее привлекали, и почему она уверила себя, что единственное ее желание — видеть Церковь реформированной. Содрогнувшись от ужаса, она вспомнила свой ночной кошмар, который приснился ей в доме отца Анны. — Дорогая моя девочка, вы должны быть осторожны, — предупредила Кэтрин Анну. — Вы же понимаете, мои слуги могли слышать ваши слова или сама я могла бы посчитать себя обязанной донести на вас властям. Я никогда этого не сделаю, разумеется, но вам нужно проявлять большую осмотрительность. — Ужасная мысль пришла ей в голову. — Вдруг люди подумают, что у нас тут тайное молитвенное собрание? Я тоже могу оказаться под угрозой. — Я не навлеку на вас беду, — спохватилась Анна. — Но Слово Божье должно быть известно Его воинам, и Споручницы должны перепоясать чресла. Несколько лет назад старый священник в Линкольншире дал мне экземпляр перевода Нового Завета на английский Уильяма Тиндейла. — Эта книга запрещена, — сказала Кэтрин, встревоженная тем, что слышит, и подумала: нужно попросить Анну уйти. — Я перечитывала его снова и снова, — говорила меж тем гостья, — и многое запомнила наизусть. Теперь я точно знаю: доктрина католиков о пресуществлении ложна. — Это ересь, — заметила Кэтрин, начав уже всерьез беспокоиться. — За такие слова людей сжигают на кострах. — Но послушайте! — Анна явно не замечала опасности. — Как могут хлеб и вино превратиться в настоящие плоть и кровь нашего Господа во время мессы? — Потому что, когда просфору, Тело Христово, кладут на алтарь, происходит чудо, — отчеканила Кэтрин, мысленно задаваясь вопросом: а сама-то она еще верит в это? — Нет никакого чуда! — Глаза Анны сияли. — Хлеб и вино — просто символы жертвы Христа. Остальное — папистские предрассудки. — Многие набожные люди верят в Реальное Присутствие, — произнесла Кэтрин. — Тогда позвольте спросить вас кое о чем! — воскликнула Анна. — Что, если кусочек освященного хлеба упадет на пол и его съест мышь? Вкушает ли мышь от благословенного Тела Христова? Спасена ли она? Кэтрин встречала этот вопрос в теологических книгах. Он был популярен в дни реформ. — Святой Бонавентура учит нас, что хлеб остается Телом Христовым только до тех пор, пока его используют как причастие. — Это чистый софизм! — возразила Анна. — Прежде всего, сколько ни возлагай хлеб и вино на алтарь, они все равно не станут Телом Христовым. — Прошу вас, говорите тише! — резко бросила Кэтрин. — Вы не должны произносить такие вещи открыто, особенно в моем доме. — Но я делаю это, леди Латимер! Я открыто обсуждала эти вопросы в церквях и на рынках в Линкольншире. Церковникам это не нравится, и меня выставили, но они не нападали на меня. — Значит, вам повезло. Скажите, для чего молодой женщине вроде вас заниматься этим? Вам сколько? Семнадцать? Восемнадцать? — Да, но я призвана распространять истину. — Анна говорила с такой убежденностью, жаром и догматизмом юности, что Кэтрин поняла: ее не переубедить. — Так зачем вы здесь? — Муж выгнал меня из дому. Он католик и поддерживал недавний мятеж. Симпатии Кэтрин склонились на сторону Томаса Кайма. Она тоже не желала иметь в доме человека, которого могут обвинить в ереси. — Он никогда не любил меня, — развивала свою мысль Анна. — Бил, если я с ним спорила. Сказал, что я плохо влияю на наших детей. — У вас есть дети? — Да, двое. — Голос Анны стал задумчивым. — Я скучаю по ним, но не могу жить во лжи. Я уже думала о разводе. Хочу быть свободной и проповедовать Евангелие. У Кэтрин голова пошла кругом. Развод? Это было нечто неслыханное и доступное одним богачам, потому что его давал только парламент. А что до проповеди Евангелия — это дело священников. Церковь быстро прочитает отходную над любым мирянином (особенно женщиной), замахнувшимся на то, чтобы опровергнуть ее учения. Однако внутренним чутьем Кэтрин понимала, что спорить с Анной бессмысленно, как и удерживать девушку от прямого пути к самоуничтожению. — И как же вы добрались до Лондона? — спросила Кэтрин, решив не раззадоривать гостью насмешками над ее огульными утверждениями. — Единомышленники дали мне денег на дорогу и помогли, — ответила Анна. — Я хотела попасть сюда. В Лондоне много протестантов, и я могу больше сделать как проповедница. У меня есть связи при дворе, вы знаете. Мой родной брат — королевский виночерпий, а сводный служит в личных покоях. Я планирую распространять Евангелие при дворе. Кэтрин начала всерьез думать, что сидевшая перед нею женщина — сумасшедшая. Именно это она скажет, ради них обеих, если кто-нибудь спросит ее об Анне. — И вы думаете, что я могу вам помочь? — неохотно проговорила она. — Можно мне остаться здесь? — спросила Анна. Вот так запросто. Кэтрин отшатнулась, понадеявшись, что не слишком заметно. — Боюсь, это невозможно. У нас сейчас гости, и мы скоро уезжаем в Нортгемптоншир на сбор урожая. — Только последнее было правдой. — Ох! — Анна выглядела удрученной. Кажется, она сама не понимала, о какой большой услуге просит и насколько невероятны сказанные ею вещи. Кэтрин решила, что не поддастся чувству вины. Анна свалилась на нее как снег на голову со своими проблемами. Однако она не могла допустить, чтобы девушка провела ночь на улице и стала жертвой лондонских сводней и грабителей. — Послушайте, Анна, я дам вам немного денег. Используйте их, чтобы вернуться к отцу. Улицы Лондона не вымощены золотом и не кишат протестантами. Если вы начнете проповедовать здесь, то попадете в беду. — Мне не нужны деньги, миледи. И я намерена остаться в Лондоне. — Тогда, боюсь, я ничем не могу вам помочь, — сказала Кэтрин, вставая. — Желаю вам хорошего дня.
Когда Анна ушла, Кэтрин опустилась в кресло и облегченно вздохнула, радуясь избавлению от нее. Что случилось с этими людьми — лордом Боро, Робертом Аском, Анной Аскью? Почему они считают себя абсолютно во всем правыми? Куда подевалась их способность понимать другие точки зрения? Нужно сохранять открытость новым идеям и взглядам. Многое представлялось Кэтрин разумным в доводах протестантов, но Анне меньше всего пристало быть защитницей этих идей. Своим узким взглядом на вещи и полным непониманием производимого ее словами эффекта она гарантированно обеспечит себе отвращение со стороны людей. Кэтрин встала и пошла на винокурню готовить на зиму для Джона желе из айвы, он его очень любил. Ей было никак не отделаться от страха, который внушил ей визит Анны. Образы из давнего ночного кошмара преследовали ее. Слышал ли кто-нибудь их разговор? Не сболтнула ли она сама чего-нибудь лишнего? Кэтрин даже подумала, что стоит созвать слуг и сообщить им: она только что избавилась от незваной гостьи, которая немного не в себе, и любые странности, которые они могли слышать, им следует считать бредом сумасшедшей. Нет. Чем меньше слов, тем легче исправить дело. Эти мудрые слова часто повторяла ее мать. Она ничего не скажет даже Джону.
Сестра Кэтрин Анна расцвела. Уильям Герберт оказался превосходным супругом. Когда у них родился первенец, которого в честь короля назвали Генри, Кэтрин и Джон отправились навестить Анну во дворец Уайтхолл, где супруги жили в тесных, но вожделенных комнатах для придворных с видом на Темзу. Они повосхищались ребенком, маленьким крепышом, очень похожим на отца, и подарили ему серебряную погремушку, которую Кэтрин заказала у ювелира на Чипсайде. Когда Генри наконец перестал голосить и заснул в своей колыбельке, а мужчины удалились в другую комнату поднять праздничный тост, Анна села в постели и повернулась к Кэтрин. — Ты знаешь, что король собрался снова жениться? — Нет! Вот так сюрприз! Прошло два года после смерти королевы Джейн, и Кэтрин, как большинство людей, считала, что его милость теперь, имея сына, не рискнет вновь пуститься в опасное плавание по штормовым морям супружества. — О его намерении объявили на этой неделе. Он женится на германской принцессе, которую зовут Анна Клевская. И я буду придворной дамой! — Это прекрасная новость. — Кэтрин улыбнулась. — Но как же юный Генри? Лицо Анны помрачнело. — Мы не можем держать младенца здесь, это ясно. Пока не узнала о назначении, я собиралась жить с ним в Эвасе, но теперь придется отправить его туда с кормилицей. Миледи Саффолк порекомендовала хорошую, чистую женщину. Я этого не хочу, но так будет лучше для Генри. Кэтрин подумала, что лучше всего для Генри — быть вскормленным родной матерью, и задалась вопросом: а как она сама поступила бы на месте Анны? Однако с горечью заключила, что ей, видно, никогда не бывать на месте сестры, а потому и судить ее не стоит. — Ты будешь скучать по нему, — сказала Кэтрин. — Знаю, и очень сильно. Но, получив новые преференции, я смогу обеспечить ему более достойную жизнь, — отрывисто проговорила Анна. Видя, как расстроена сестра, Кэтрин решила отвлечь ее от печальных мыслей рассказом о визите Анны Аскью. — Я слышала о ней, — ответила та. — Она открыто проповедует, и ей выговаривали за это, но она не смутилась и гнет свое. — Боюсь, это добром не кончится, — сказала Кэтрин. — Не связывайся с ней, она опасна. — Я не настолько глупа. — Анна скорчила гримаску. — Мне ни к чему, чтобы меня поджарили! — Она склонилась над колыбелью, чтобы взглянуть на сына. — Сменим тему, я заметила, что Уилл несчастен. — Знаю. С того момента, как они стали жить с Энн, он утратил свое обычное благодушие. — Она странная девушка, — заметила Анна. — Уилл привел ее сюда посмотреть на ребенка, а она почти ни слова не сказала. Ее назначили камеристкой в личные покои новой королевы, но она ненавидит двор. Король устраивает банкет ближе к концу месяца, и все дамы королевы приглашены, но Энн заявила, что не хочет идти. Она понятия не имеет, какую честь ей оказывают! — Она должна пойти, — сказала Кэтрин, не веря своим ушам. — Пусть Уилл заставит ее. Но я беспокоюсь о нем. Анна сделала глоток укрепляющего напитка. — Кажется, Энн не испытывает к нему никаких чувств, между ними не пробегают искры. — Бедный Уилл. Он заслуживает много лучшего. Кэтрин угнетал несчастный вид брата. Когда вскоре после этого он привел Энн на ужин в их дом на Чартерхаус-сквер, она приготовилась к тому, что вечер пройдет напряженно, но Уилл принес добрые вести. — Я захватил с собой хорошего вина, сегодня вечером мы празднуем! — объявил он, ставя на стол в холле серебряную бутыль. — Меня возведут в дворянство, я стану бароном Парром! В признание заслуг перед королем при подавлении недавнего бунта. Раскинув руки, Кэтрин обняла брата, Джон одобрительно похлопал его по спине, а Энн безучастно стояла рядом и вовсе не разделяла общей радости. Что не так с этой девушкой? Кэтрин охватил гнев. Оторвавшись от Уилла, она повернулась к своей невестке и спросила: — Разве это не прекрасная новость? — Конечно, — ответила та. — Это шаг наверх. Но когда мой отец умрет, он будет графом. Грубить гостям, находящимся под крышей твоего дома, — это нарушение всех правил вежливости. Однако у них есть и обратное действие: умаляя достижения Уилла в доме сестры, Энн унижала его. Кэтрин не сумела сдержаться. Она не допустит, чтобы триумф ее брата так портили. — Гораздо похвальнее заслужить почести, чем унаследовать их! То, что вы делаете в этой жизни, важнее того, кто вы есть. Бледное лицо Энн вспыхнуло, но она ничего не сказала. Кэтрин снова повернулась к Уиллу и сжала его руку: — Я рада за тебя, братец. Ты заслужил это отличие. Ну, пойдемте в гостиную? Ужин скоро подадут. Трапеза прошла напряженно. Энн не проронила почти ни слова. Даже Джон, который обычно не обращал внимания на настроение женщин, заметил, как отчужденно она вела себя. — Энн, вам понравилось на королевском банкете? — спросил он, зная, что девушка не хотела там присутствовать. — Там было довольно хорошо, — ответила та, возясь с куском жареного мяса, к которому едва притронулась. — Но мне не нравится при дворе. Я предпочитаю жизнь в деревне. — Ну, мы поедем в деревню на Рождество, — покорно произнес Уилл. Кэтрин догадывалась, что он предпочел бы остаться на пышные торжества при дворе. — Вы можете провести Рождество здесь, с нами, — с улыбкой сказала она ему. — Да, мы будем вам очень рады, — поддержал жену Джон. — Благодарю вас, но мы поедем в деревню, — холодно ответила Энн. — Ты этого хочешь, Уилл? — спросила Кэтрин. Он кивнул: — Это порадует Энн. Больше она ничего не могла сделать. Люди сами выбирают, каким путем им идти в ад.
 Глава 12
1540 год
Глава 12
1540 год
После свадьбы короля, состоявшейся в январе, Кэтрин неожиданно для себя стала все чаще бывать при дворе. Анна и Уилл то и дело приглашали ее туда. Она отправлялась либо вниз по течению — в Гринвич, либо вверх — в Уайтхолл, а иногда, с приближением весны, уезжала еще дальше от дома — в Хэмптон-Корт.
Кэтрин считала, что живет в роскоши? Ее богатство было ничто в сравнении с великолепием королевских резиденций: огромные залы, блеск золоченого декора, прекрасные гобелены, дорогая мебель и увеселительные сады, полные душистых цветов и чудесных аллей. Кэтрин обожала цветы, и они с Анной провели немало счастливых часов на прогулках, распознавая растения и отщипывая от самых диковинных кусочки побегов для маленького сада Кэтрин, разбитого у дома на Чартерхаус-сквер. Повсюду они встречали придворных, которые предавались отдыху на досуге. А тут было чем себя потешить: теннисные корты, аллеи для игры в шары, мишени для стрельбы из лука, турнирные площадки и пруды, где можно удить рыбу, — все для удовольствия и развлечения приближенных короля. Не раз Кэтрин проводила послеполуденные часы, состязаясь с Уиллом в стрельбе из лука. В Хэмптон-Корте они охотились с соколами в огромном парке или катались на лодке по Темзе, добираясь до заброшенного аббатства Сион.
Кэтрин считала, что хорошо одевается, но ее наряды не могли соперничать с дорогими бархатными и дамастовыми костюмами придворных, их роскошными мехами и броскими украшениями. Она вдруг начала придирчиво осматривать свой гардероб и строить планы по его обновлению. Это было необходимо, чтобы не выглядеть в королевских дворцах белой вороной.
Уилл познакомил ее с несколькими своими приятелями, юными джентльменами, столь же остро желавшими продвижения по службе, как он сам, а сестра представила некоторым леди, служившим королеве. Даже юная и весьма миловидная герцогиня Саффолк снизошла до дружеского внимания к Кэтрин. Это была элегантная женщина с широко расставленными глазами и вздернутым носом. Наполовину испанка, она выделялась своей яркой южной красотой: ее мать была любимой придворной дамой Екатерины Арагонской.
Анна восхищалась герцогиней Саффолк, которая намного уступала в возрасте своему мужу, и без умолку рассказывала о ней Кэтрин. Сперва герцогиня была помолвлена с сыном герцога, но, когда умерла первая жена Саффолка, сестра короля Мария, он сам женился на Кэтрин Уиллоуби, как звалась тогда нынешняя герцогиня. Ей было всего четырнадцать. Теперь, в двадцать один год, она превратилась в энергичную леди, жизнерадостную и остроумную. Под броской наружностью Кэтрин различала образованную и набожную натуру, совершенно лишенную ханжества или напускной серьезности. Любому человеку хватало десяти минут в обществе герцогини Саффолк, чтобы подпасть под обаяние ее жизнелюбия.
В сочувственном отношении к реформам Кэтрин рискнула признаться одной только Анне.
— Вот мы и сделаем из вас проповедницу! — отшутилась та.
Они были одни в ее комнате, но Кэтрин все равно вздрогнула.
— Ш-ш-ш!
Анна пожала плечами:
— Никто нас не услышит. Тут очень толстые стены. Ты знаешь, что миледи Саффолк разделяет нашу увлеченность реформами?
— Я задавалась этим вопросом.
Теперь уже на шепот перешла Анна.
— Думаю, ей нравится новая религия.
— Тогда пусть лучше поостережется, — заметила Кэтрин, вовсе не удивленная откровением сестры.
Однажды во время прогулки по саду Кэтрин встретилась с королем. Он приближался к ней по дорожке, тяжело опираясь на палку, в окружении смеющихся придворных, которые, казалось, подхватывали и обсуждали каждое его слово. Кэтрин видела портреты короля и знала, что он крупный мужчина с широкой грудью и величественной наружностью, но оказалась неготовой к реальности. Король был очень толстым — в его дублет с легкостью поместились бы двое мужчин — и выглядел старым. В рыжих волосах проглядывала седина, и он сильно хромал при ходьбе. Кэтрин заметила повязки из бинтов под его белыми рейтузами. К счастью, она увидела короля раньше, чем он ее, а потому успела собраться и изобразить на лице благоговейный восторг, приседая вместе с Анной в глубоком реверансе. — Миссис Герберт! — воскликнул король. — Какое милое зрелище и украшение для этого прекрасного сада! А кто эта леди с вами? Когда он сделал Кэтрин знак подняться, она внутренне трепетала. — Ваше величество, позвольте представить вам мою сестру, леди Латимер. Король наверняка вспомнит, кто ее муж. От этой мысли Кэтрин задрожала. Он окинул ее оценивающим взглядом пронзительных голубых глаз: — Латимер… э-э-э? Ваш муж сослужил нам хорошую службу на Севере, мадам, и, насколько мне известно, вы тоже дали достойный отпор мятежникам! Добро пожаловать, мы вам рады. — Он отвесил ей изысканный легкий поклон. — Ваше величество очень добры, — ответила Кэтрин, переполненная благодарностью оттого, что услышала из уст короля похвалу Джону. — Я оставлю вас, леди, чтобы наилучшим образом использовать эту не по сезону прекрасную погоду, — сказал он и пошел дальше, а Кэтрин с Анной снова присели в реверансах. — Можешь вздохнуть свободно, — сказала Анна, когда король удалился из пределов слышимости. — Да! — отозвалась Кэтрин. — Скорее бы передать Джону слова короля. Для него это будет невероятным утешением. Они присели на тенистую скамью у реки. Рядом никого не было, но Кэтрин все равно понизила голос: — Его величество нездоров. Как жаль его, и он мне понравился. — Люди любят короля, — сказала Анна. — Все благодаря его обаянию и дружелюбию — он находит общий язык со всеми. Это заставляет забывать, на что он способен. И все же иногда я думаю, что, если бы жизнь была к нему добрее, если бы у него раньше родился наследник, если бы папа не отказал ему в разводе, если бы Анна Болейн не изменила ему и если бы люди не восстали против него… ну, думаю, тогда он был бы другим человеком. Ветер бросил на лицо Кэтрин выбившуюся из-под капора прядь волос. Она заправила ее обратно. — Я восхищаюсь тем, что он реформирует Церковь. Порвать с Римом — это был смелый поступок. — Но и правильный. Папство разлагается и поощряет суеверия. — Верно. Я полностью за реформы, но иногда мне кажется, что от реформаторства до протестантизма — всего один маленький шаг. Но шаг этот очень важен с точки зрения закона. Анна встретилась с ней взглядом: — Я его сделала. Кэтрин с разинутым ртом уставилась на сестру. Та улыбнулась ей: — Да, сделала. И Герберт тоже. — Называть мужа по фамилии — это было желание самой Анны. — И Уилл. Но, дорогая сестра, никому ни слова. Кэтрин уже знала, что Уилл — ярый реформист, как и дядя Уильям, и давно размышляла, не собираются ли они стать последователями идей Лютера. — Мои уста запечатаны, — сказала она. — Думаю, ты тоже хочешь сделать этот шаг, — продолжила Анна, искательно вглядываясь в лицо сестры. Кэтрин понизила голос: — В сердце своем, думаю, я уже сделала его. Знаю, это опасный шаг, и Джон ужаснется, но я давно чувствую влечение к этому. Анна пожала ее руку: — Я так рада за тебя, сестрица. Настали печальные времена, когда люди не могут следовать голосу своей совести, но Богу известны тайны наших сердец. Только по вере будут судить нас. Однажды, надеюсь, мы получим свободу молиться открыто.
Широкая улыбка осветила лицо Джона, когда Кэтрин передала ему слова короля. Казалось, будто солнце вышло из-за туч. — Все эти прошения,ожидание в галереях дворца, отчаянные попытки получить заверение в добром отношении ни к чему не привели, а вы случайно сталкиваетесь с ним и немедленно получаете все это, — скороговоркой произнес он. — Кейт, вы чудо! — Рада, что оказалась вам полезной, — ответила она, а Джон заключил ее в объятия и поцеловал. — Мм… это приятно. Теперь вы можете успокоиться и получать удовольствие от жизни. Нам есть за что благодарить Всевышнего. — Вот именно! — согласился он. — Но больше всего я благодарен Господу за вас!
Трудно было исповедовать новую веру втайне. Кэтрин приходилось на людях следовать прежним религиозным обрядам, так как она сильно боялась репрессий, если выдаст свои истинные убеждения. На мессах, когда брала хлеб и вино, думала о них как о символах жертвы Христовой, а не о Его Реальном Присутствии в них. Много времени проводила в уединенных молитвах, в одиночестве читала книги о Божественных предметах, полагая, что путь к спасению лежит через установление молитвенных отношений с Господом. Ей нравилась идея о возможности сближения с Ним без посредничества священника, и она была навечно благодарна королю за распоряжение иметь в каждой церкви экземпляр Библии в переводе на английский, чтобы все могли читать Писание. Кэтрин купила себе эту книгу у торговца во дворе собора Святого Павла и очень дорожила ею. Иметь собственную копию Слова Божьего — разве это не чудо! Джон тоже приобрел Новый Завет, так как теперь даже он полагал, что всем следует читать Писание. Головокружительное ощущение — самой толковать Библию, вместо того чтобы слепо принимать на веру учения Церкви Рима. Писания были ключом к общению с Богом и достижению Небес, и в них можно найти ориентиры, по которым измеряются все правила морали. Кэтрин хотелось бы убрать статуи святых, которые Джон расставил в доме, но она не осмеливалась. С некоторых пор Кэтрин перестала искать заступничества у Девы Марии и святых. В каком месте Библии советуют так поступать? Да, это было трудно — держаться своей веры и хранить молчание. Но поступать иначе — слишком опасно, и Кэтрин слеплена не из того теста, что святые мученики. Однако она была счастлива и чувствовала, что духовные искания привели ее на верный путь.
Март снова обдал холодом. Однажды вечером в доме на Чартерхаус-сквер появился Уилл. — Мой тесть умер, упокой Господь его душу, — объявил он. — Упал с коня и сломал себе шею. Я теперь граф Эссекс в праве Энн. Она очень расстроена. Хочет поехать домой, в Стенстед-Холл, который отныне принадлежит нам, но мне необходимо остаться при дворе, пока король не утвердит мой графский титул. — Ты прав, — согласилась Кэтрин. — Энн должна это понимать. — Я сказал ей, что мы поедем, как только я получу известия от короля. Это простая формальность, и, думаю, мне не придется ждать долго.
Однако ему пришлось. К середине апреля король все еще не объявил о своем решении. Энн топнула ногой и настояла, чтобы они уехали в Эссекс. Кэтрин поспешила ко двору, чтобы попытаться отговорить ее. Невестку она нашла в их с Уиллом комнате; та писала письмо корявым, неотработанным почерком. При появлении Кэтрин Энн тут же подскочила и перевернула лист оборотной стороной наверх; при этом вид у нее был такой, словно ее застали врасплох за каким-то постыдным делом. Однако Кэтрин, занятая мыслями о цели своего визита, в тот момент не заострила на этом внимания. — Добрый день, Энн. — Она улыбнулась. — Я узнала от Уилла, что вы надеетесь отправиться в Стенстед-Холл. — Мы едем в Стенстед-Холл, — заявила Энн тоном, не терпящим возражений. — Можно мне присесть? — спросила гостья. — Да, конечно, — недовольно буркнула Энн. Кэтрин села. — Энн, я знаю, вы не любите двор и хотите уехать отсюда, но крайне важно, чтобы вы остались, пока графский титул Уилла не будет подтвержден. Я уверена, это не заставит долго ждать… Тут в комнату влетел Уилл, и Кэтрин быстро перевела на него взгляд. — Ей-богу! — сердито воскликнул он. — Я бы убил этого негодяя Кромвеля! — Уилл был вне себя, почти в слезах; Кэтрин это удивило, так как брат ее никогда не плакал. — Почему? Что он сделал? — хором спросили женщины. — Он украл мое графство, которое принадлежит мне по всем законам о наследовании! — Как он мог! Это невероятно! — взвизгнула Энн; Кэтрин никогда еще не видела ее такой взволнованной. — Оно мое по праву! — Больше нет, — огрызнулся Уилл. — Его величество объявил графство несуществующим и создал его заново для Кромвеля — просто потому, что тот захотел получить его. Только представьте, этот выскочка, сын кузнеца, этот паршивый пес теперь владеет одним из старейших и лучших графств в Англии! Даже думать об этом невыносимо. — Уилл расхаживал взад-вперед и бил кулаком одной руки по ладони другой. — Это ужасно! — выдохнула Кэтрин, вспоминая, как Кромвель вымогал у Джона деньги в течение последних пяти лет просто потому, что имел власть это делать. Подумать только! Дверь вновь отворилась, и появился дядя Уильям. — Я услышал новость, потому и пришел, — мрачно произнес он. — Мой мальчик, это возмутительно! На этот раз Кромвель зашел слишком далеко… — Простите меня, дядюшка, но я сейчас же пойду и заявлю протест королю в самых решительных выражениях, какие только возможны, — перебил его Уилл, хватая шапку с пером, которую до того бросил на стул. — Погодите! — Дядя Уильям поднял руку. — Я собирался сказать: по-моему, это странно, что его величество возвысил Кромвеля в такое время. Ходят разговоры, что Кромвелю скоро конец. Он сброшен со счетов после того, как организовал брак с принцессой Клеве, а королю пришлась не по вкусу эта леди. Это лишь дело времени, но Кромвеля ждет та же участь, что и многих его предшественников. — Но зачем король отдал ему графство? — спросил Уилл, которого слова дяди явно не убедили. — Известно, что его величество часто оказывает милости тем, кого намерен уничтожить. А у Кромвеля много врагов, которые, без сомнения, вливают яд в уши короля. Норфолку, например, очень понравилось бы увидеть падение министра, и епископу Винчестерскому Гардинеру, который ненавидит реформы. Так что, Уилл, я советую вам не торопиться. — Но графство — мое! — в слезах крикнула Энн. — Тише, девушка, — урезонил ее дядя Уильям. — Нам нужно играть вдолгую. — Это несправедливо, — пробормотал Уилл, уже с меньшей горячностью. Кэтрин понимала, что он последует дядиному совету. — Значит, вы останетесь при дворе? — спросила она, вставая и готовясь уйти. — Мы должны, — категорично заявил Уилл, и Энн, открывшая было рот, чтобы возразить, смолчала.
Торопливо шагая по галереям Уайтхолла к пристани, где ждали пассажиров лодочники, Кэтрин дрожала от возмущения: как смел Кромвель покуситься на графство Уилла! Она заново прокручивала в голове слова дяди Уильяма. Анна говорила ей, что король редко посещает супругу, несмотря на то что королева очень милая леди и добрая госпожа. По ее словам, при дворе ходят слухи, будто брак его величества так и остался не заключенным окончательно. Все сходилось одно к одному. Сев в лодку, Кэтрин, пока ее везли по реке ниже Стрэнда, как обычно, залюбовалась великолепными домами знати, выстроившимися вдоль берега. У замка Байнард, старого королевского дворца, поднимавшегося прямо из воды, она сошла на пристань. Отсюда до Чартерхаус-сквер легко добраться пешком. Проходя мимо собора Святого Павла, Кэтрин остановилась у лавок торговцев книгами, как делала часто. Там продавали трактат против папства, который она одобряла, и книгу сэра Томаса Мэлори «Morte d’Arthur»[161], которая, по ее мнению, понравилась бы Маргарет и даже Джеку. Кэтрин купила обе и пошла своей дорогой, продолжая размышлять о постигших Уилла неприятностях. С ним обошлись крайне несправедливо, и она переживала за брата. Ей уже стало понятно, что двор разделен на фракции, которые стремятся контролировать короля. Реформаторов возглавляли Кромвель, архиепископ Кранмер и брат королевы Джейн, старый друг Уилла Эдвард Сеймур, граф Хартфорд; их поддерживали Уилл и дядя Уильям в числе многих прочих. Католиками верховодили Норфолк и востроглазый Стивен Гардинер, епископ Винчестерский, желавший возвращения старой веры. Удастся ли католикам свалить Кромвеля? Нечасто Кэтрин испытывала к ним симпатии, но на их успех в последнем деле горячо надеялась!
Неделя шла за неделей, ничего не происходило. Уилл на стену лез от злости и досады. А потом, где-то на второй неделе июня, по двору и всему Сити разнеслась весть: Кромвель арестован за измену и ересь! Кромвель посажен в Тауэр! Люди считали невероятным падение такого могущественного вельможи. Он был правой рукой короля, но зарвался и стал попирать права других людей, что Кэтрин было прекрасно известно на собственном опыте. Джон ликовал: — Значит, мне больше не придется платить ему за «защиту»! Слава Богу, мы избавились от этого ублюдка! Уилл горячо надеялся, что ситуация с графством Эссекс теперь прояснится, и, не теряя времени, подал прошение королю. — Он сказал, что не может думать ни о чем, пока не завершится судебный процесс над Кромвелем, — сообщил брат Кэтрин, когда та в очередной раз навестила его при дворе. — Наберитесь терпения, мальчик мой, — посоветовал дядя Уильям. — Раскрытие всех темных дел Кромвеля — грандиозная задача, и единственный, кто мог бы эффективно с этим справиться, как ни противно мне это говорить, — сам Кромвель. — Ну, он может заняться этим и из ада! — прорычал Уилл.
Следующей новостью, всполошившей всю Англию, стало известие о разводе короля с королевой. Кэтрин всего один раз видела Анну Клевскую, издалека, на турнире в Майский день. Их величества наблюдали за поединками из эркерного окна над воротами Гольбейна в Уайтхолле, а Кэтрин и Джону повезло занять места на устроенных вдоль улицы трибунах. Королева выглядела величественно, но, кажется, не была красавицей. Кэтрин пожалела ее. Как ужасно, когда всего через шесть месяцев после свадьбы супруг публично отказывается от тебя! Развод состоялся за считаные недели — намного быстрее, чем с королевой Екатериной: на то, чтобы отделаться от первой супруги, у короля ушли годы. При дворе шептались, мол, королева Анна проявила невероятную сговорчивость и втайне радовалась, что стала свободной женщиной. Конечно, она много выгадала на этом, так как король в благодарность осыпал ее богатствами и снабдил прекрасными домами. Только успели затихнуть сплетни о разводе, как было объявлено, что его величество женился вновь. Невестой оказалась племянница Норфолка, Екатерина Говард. Она служила вместе с Анной при дворе бывшей королевы, и Анна говорила сестре, что эта девушка мила и добра, но не слишком умна — к тому же она на тридцать лет моложе своего жениха. — Сколько еще жен будет у короля? — удивлялась Кэтрин. — Пока что пять! Она стояла у стола в гостиной дома на Чартерхаус-сквер и составляла букет в вазе. Августовский день был жарким, так что Кэтрин сняла капор и нарукавники. — Может, ему нужны еще наследники, — заметил Джон, высунувшись из-за карты землевладений, которую изучал. Кэтрин посмотрела на него, молясь про себя, чтобы это не был завуалированный упрек, но взгляд мужа вовсе не показался ей осуждающим. Он отложил карту. — Это, скорее, хорошая новость. Католики снова в седле. Для Кэтрин это вовсе не было хорошей новостью, но для ее супруга — безусловно. Никто не требовал с него денег, положенных к выплате в середине лета: Кромвель отправился к праотцам, зарубленный тремя ударами топора в день свадьбы короля, и они освободились от вымогательства. Однако его величество по-прежнему заваливал Джона работой. — Кромвель мертв, в постели короля — королева-католичка, — сказал Джон, встав и налив два кубка вина, — так что мы можем надеяться на возвращение к старым порядкам. — Реформисты воспротивятся этому, — заметила Кэтрин. — Самое время католикам сказать свое слово, — ответил ей супруг. — Нами пренебрегали слишком долго!
 Глава 13
1541–1542 годы
Глава 13
1541–1542 годы
Энн бросила меня, — дрожащим от гнева голосом произнес Уилл, широким шагом войдя в холл дома на Чартерхаус-сквер благоуханным июньским вечером.
— Что?! — воскликнула Кэтрин. — Сядь и расскажи, что случилось.
— Как она могла вас бросить? — озадаченно спросил Джон.
В его книге жизни жены не совершали таких поступков.
— Сбежала со своим любовником — каким-то негодяем по имени Джон Люнгфилд, который был настоятелем приората Тандридж, пока его не разогнали.
Кэтрин посмотрела на Джона, качая головой. Если уж мужчины из святых орденов вели себя так, неудивительно, что король закрыл монастыри.
Уилл, не снимая накидки, тяжело опустился в кресло у очага.
— В каком-то смысле для меня это облегчение. Она никогда не была мне настоящей женой. Но я злюсь, что она покрыла меня позором. Не знаю, сколько времени это продолжалось.
Кэтрин могла бы побиться об заклад, что прошлой весной роман уже завязался, не зря ведь Энн тогда спрятала от нее письмо, которое писала.
— Стыдиться нужно ей, — сказала она.
— У них есть по четырнадцать фунтов в год на жизнь, — фыркнул Уилл. — Посмотрим, долго ли при этом протянется сладкий сон любви.
— И ты ничего не знал? — спросила Кэтрин.
— Оглядываясь назад, я понимаю, что были кое-какие признаки, но меня они не особенно заинтересовали. Она открылась мне сама, довольно бесстыдно. Ну и скатертью дорога, скажу я! Теперь я могу наслаждаться жизнью без этого жернова на шее.
— Аминь, — сказала Кэтрин. — Мне она никогда не нравилась.
— Вы обратитесь за аннулированием брака? — поинтересовался Джон, вставая и приказывая подать вина.
— Это может подождать. Я не спешу жениться снова, — ответил Уилл.
Вскоре они подкрепились добрым рейнским вином, и настроение Уилла улучшилось.
— Пусть этот проходимец получит от нее все радости, — пьяно проговорил он. — Она раскроет ему объятия.
Когда через пару недель Кэтрин приехала ко двору повидаться с Гербертами, Анна сказала ей, что Уилл ухаживает за Дороти Брей, одной из фрейлин королевы. — Он темная лошадка, — заметила Кэтрин, — мне об этом даже не заикнулся. — Это вызывает скандал, — проворчала Анна; сестры быстро шли по саду, так как, заболтавшись с Кэтрин, Анна опаздывала к королеве, которую должна была сопровождать у мишеней для стрельбы из лука. — Им, похоже, все равно, что думают люди. Вон она. — Анна указала на темноволосую женщину с красивыми, точеными чертами лица, стоявшую с краю группы окружавших рыжеволосую маленькую королеву юных дам, среди которых особенно выделялась оживленная герцогиня Саффолк. Во внешности Дороти была некая знойная томность, так привлекающая мужчин. Такое впечатление производила и королева. — Ваше величество, прошу прощения за опоздание, — проговорила запыхавшаяся Анна, приседая в глубоком реверансе и утягивая за собою Кэтрин. — Приехала моя сестра, леди Латимер, из-за чего я и задержалась. Королева мило улыбнулась. Она и правда была хороша собой и выглядела очень юной. У Кэтрин сжалось сердце: нелегко, наверное, быть замужем за ожиревшим, стареющим королем. — Ничего, дорогая Анна, — сказала королева. — Леди Латимер, очень приятно видеть вас. — Она протянула руку для поцелуя. — Теперь вы можете пострелять вместе с нами. — О, ваше величество, но я не слишком хорошо стреляю из лука, — запротестовала Кэтрин. — Я тоже! — Королева с улыбкой протянула ей лук и несколько стрел. Кэтрин нервно, ведь все наблюдали за ней, вложила стрелу в лук, встала перед мишенью и прицелилась. Вуш-ш! Стрела пролетела по воздуху и вонзилась прямо в яблочко. Не веря своим глазам, Кэтрин уставилась на мишень. Все зааплодировали. — Вы не слишком хорошо стреляете из лука? — Королева засмеялась. — А я-то едва не поверила вам. — Мне раньше никогда такое не удавалось! — воскликнула Кэтрин. — Браво, миледи Латимер! — раздался у нее за спиной знакомый голос. Внезапно сообразив, почему королева и другие дамы приседают в реверансах, Кэтрин обернулась и торопливо последовала их примеру. Король и его джентльмены в восхищении смотрели на мишень. — В вас есть скрытые таланты, миледи. — Король улыбнулся ей. — Правда, любовь моя? — Он взял руку королевы и преданно поцеловал ее, а та встала на цыпочки и чмокнула его в щеку. — Это была чистая удача, ваше величество, — сказала Кэтрин. — Но я слышала, сир, что вы прекрасный стрелок из лука. Король расцвел: — Я вам покажу. — Он взял у нее лук и прицелился. Стрела почти невидимкой чиркнула по воздуху и расщепила древко той, что пустила Кэтрин, надвое. Дамы захлопали в ладоши, а король покраснел от удовольствия. — Есть еще удаль в старом льве, — усмехаясь, сказал он своим джентльменам. — И королева может ручаться за это! Та очень мило порозовела. Может быть, эта молодая женщина видела в нем то, что привлекало и саму Кэтрин: властную уверенность, галантную обходительность и преданность в любви. Многие жены довольствуются гораздо меньшим. Король немного побыл с ними, рассказал о поездке на Север, которую скоро предпримет двор. — Это даст нам возможность привести к покорности тех, кто недавно восставал против нас, — сказал он, обхватив жену за талию; руки у него сами так и тянулись к ней. Кэтрин опустила глаза, вспомнив о роли Джона в событиях четырехлетней давности. Когда король ушел, простившись с королевой сердечным поцелуем, Кэтрин испытала облегчение.
Двор отправился на Север, а Кэтрин с Джоном поехали в Стоу. Той осенью после непродолжительной болезни внезапно скончался супруг Магдалены Лейн, и Кэтрин провела много времени в Орлингбери, утешая свою кузину и взяв на себя заботы о десяти потрясенных горем детях. Видя Магдалену, одетую в черное и погруженную в печаль, Кэтрин поняла, как отдалились они друг от друга с тех давних вольных дней в Рай-Хаусе. Ей самой в следующем году стукнет тридцать — довольно зрелый возраст. Это казалось невозможным. Но Магдалена, по крайней мере, имела утешение в детях — троих мальчиках и семи девочках, которые разнились по возрасту от Летиции, которой было шестнадцать, до младенца в колыбели. К тому же она осталась хорошо обеспеченной. Когда визит подошел к концу, Кэтрин сознавала, что может спокойно оставить управление поместьем в умелых руках Летиции, пока ее мать скорбит по мужу. Магдалена хорошо обучила своих дочерей всему необходимому. По пути домой Кэтрин снова задумалась, почему Господь посчитал уместным послать ее кузине обилие детей, а ее саму не благословил ни одним ребенком? Чем она прогневала Его, за что Он лишает ее этого драгоценного дара? Она была хорошей женой двоим мужьям, вела добродетельную жизнь и была безупречна в своей преданности Ему. Но они с Джоном женаты уже семь лет, и никаких намеков на появление у них сына или дочери, а она ведь не молодеет. Может, у нее какой-нибудь неизвестный недуг, который препятствует зачатию? Оставалось только благодарить Господа за то, что муж ни разу не попрекнул ее бездетностью. По крайней мере, у нее есть Маргарет. Девочка была дорога Кэтрин, как родная дочь. И с Джеком отношения наладились. Дети росли быстро: ему уже двадцать, а Маргарет — пятнадцать. Пора было подтолкнуть Джона — пусть подумает о помолвках, но Кэтрин не спешила с этим; она пока не хотела расставаться с падчерицей.
В ноябре Кэтрин обрадовало известие о назначении Уилла капитаном джентльменов-пенсионеров, элитной личной стражи короля, к которой когда-то принадлежал и Джон. Она поехала в Хэмптон-Корт, чтобы посмотреть, как брат марширует во главе своего отряда по галерее, ведущей к апартаментам короля. Уилл выглядел очень представительным, нес в руках секиру и был одет в дублет винного цвета, на котором красовался золотой медальон — знак различия. По заказу нового капитана королевской стражи придворный художник, мастер Гольбейн, взялся написать его портрет, для которого Уилл обязательно наденет свой служебный медальон. Стоя вместе с дядей Уильямом среди собравшейся по бокам галереи толпы, Кэтрин ощущала большую гордость за брата. Дороти Брей тоже была там. Когда Уилл проходил мимо, они обменялись взглядами, и это не укрылось от Кэтрин. Она порадовалась, что ее брат нашел любовь. Позже Уилл сказал, что в тот день король не выходил из личных покоев. Джентльмены-пенсионеры несли стражу в пустом приемном зале. Кэтрин узнала почему, только когда Анна догнала ее по пути к причалу, куда она направлялась, чтобы сесть в лодку. — Кейт! Королева арестована. — Анна запыхалась, глаза у нее были дикие. — Она заперта в своих покоях, и всех ее дам допрашивают. Я уже сказала Совету, что ничего не знаю. Кэтрин резко обернулась: — За что ее арестовали? — Ее обвиняют в недостойном поведении до брака. — Но это не преступление. Анна понизила голос: — Нет, но я думаю, реформисты, которые арестовали ее, — те самые советники, что допрашивали меня, — хотят уничтожить ее, а вместе с ней католиков, и исходят из посылки, будто есть нечто большее. — О чем ты? — Шепот Кэтрин был едва слышен на ветру. — Боюсь, они рассчитывают найти доказательства ее недостойного поведения и после брака тоже. — Но это же измена! Анна вздрогнула: — Да. А наказание — смерть. Так было и с Анной Болейн. Кэтрин стояла и придерживала рукой капор, который рвал с головы ветер. — Не могу поверить, что королева пошла бы на такой глупый риск, имея перед глазами пример Анны. — Может быть, как и Анна, она отчаянно хотела подарить королю сына. — Сестра наклонилась и зашептала Кэтрин на ухо, хотя рядом никого не было, а лодочники находились в нескольких ярдах от них: — Говорят, король слаб в постели. Кэтрин могла поверить в это, учитывая его вес и нездоровье. — Но он обожает ее, это очевидно. Он ни за что не бросил бы ее. Анна мрачно глядела на нее: — Кейт, я служила всем пяти женам короля и знаю его достаточно хорошо, чтобы сказать: он горд собой и своим королевским достоинством настолько, что это пересиливает в нем любовь к кому бы то ни было. Он не потерпит неверности. Однако он сильно опечален и затворился в своих покоях. Я виделась с Уиллом, перед тем как прибежала сюда, и он сказал, что его величество совершено раздавлен. — Какая ужасная ситуация! — произнесла Кэтрин, думая о перепуганной молодой женщине, запертой в золотой клетке. — Королева, должно быть, в ужасе. — С момента ареста она неумолчно плачет и стенает. — Анна помолчала, затем снова понизила голос и добавила: — Мне жаль ее, и я бы никогда не пожелала ей горя, но в результате католическая партия может лишиться власти навсегда. В таком случае реформисты имеют шанс снова войти в силу, а это хорошая новость. — Но не для королевы, — заметила Кэтрин. — И все же, по примеру Цицерона, можно задаться вопросом: что есть высшее благо? — Святой Фома Аквинский говорил, что высшее благо — жить благочестиво в единении с Господом. И с этим не поспоришь. Но я не сделаю и не скажу ничего такого, что повредило бы королеве. Я не возьму такого груза на свою совесть. — Я тоже. Что мне делать? Ехать домой? — Да, — посоветовала Анна. — Я бы отправилась с тобой, но не смею, чтобы из этого не вышло чего-нибудь дурного. Сестры поцеловались на прощание, и Кэтрин села в лодку. Мысли ее полнились опасениями, что дело реформ может набрать силу за счет пролития крови одной беспечной молодой женщины.
Посреди зимы королеву отправили в аббатство Сион. Свидетельства супружеской измены были найдены, что не удивило Кэтрин. Истинные или ложные — это другое дело. Анна слышала, что ее падшая госпожа все отрицала. Кэтрин и Джон долго обсуждали, что будет с королевой, пока однажды вечером к ним не приехал дядя Уильям с сообщением, что в новом году парламент лишит ее гражданских прав и состояния. Кэтрин, Джон, Анна и Герберт сидели за столом в гостиной, перед ними стояли остатки ужина. — Суда не будет, — сказал дядя Уильям. — Парламент составит билль о лишении гражданских прав и рассмотрит свидетельства против нее. Потом билль пройдет три чтения. Если лорды и члены палаты общин проголосуют «за» три раза, он станет актом, облеченным силой закона. — И что это будет значить для королевы? — спросила Кэтрин. — Тех, кого лишили прав за измену, осуждают на лишение жизни и собственности в пользу Короны. Она умрет, бедняжка. Некоторое время все сидели молча. — Да утешит ее Господь, — произнес наконец Джон и перекрестился. — Что она посеяла, то и пожнет из-за своей глупости. «И решительности своих врагов», — добавила бы Кэтрин, но понимала, что нужно проявлять осмотрительность. Она стыдилась того, что люди, объявившие себя защитниками реформ, затеяли травлю наивной девушки и готовы были добиваться ее смерти. Анна боролась со слезами. Когда двор королевы распустили, она потеряла должность, но осталась жить во дворце, деля комнату с мужем. Ей доверили хранить драгоценности королевы, и Анна принесла их в дом на Чартерхаус-сквер. Запертые в ларец, они были помещены под доски пола в спальне Латимеров. А перед тем сестры открыли ларец и вскрикнули от восторга при виде сверкавших и переливавшихся под крышкой украшений. Анна прослезилась и сказала: — Я знаю, она никогда больше их не наденет. Ей не позволили взять с собой в Сион ничего, только капоры с жемчужной каймой и простые черные платья. Кэтрин не могла выбросить из головы образ милой маленькой королевы. Она представляла себе, какие душевные страдания испытывает эта совсем еще молодая женщина, отрешенная от мира и не ведающая своей судьбы. Анну допрашивали несколько раз. К счастью, она ничего не знала. Глядя на свою сестру через стол, Кэтрин благодарила Господа, что для той все это закончилось без последствий. Другим повезло меньше. Нескольких фрейлин и камеристок арестовали, а многих Говардов и близких к ним людей заточили в Тауэр. Норфолку, этому хитрому старому лису, удалось остаться на свободе, но он потерял милость короля, и консерваторы сдали свои позиции при дворе. У Кэтрин же, хотя она и радовалась укреплению власти реформистов, сердце обливалось кровью от жалости к королеве. — Ты видел короля? — спросила она брата. — Он не выходит из своих покоев, — ответил Уилл. — Мало кто имеет доступ к нему. Мы, джентльмены, проводим время в его личных покоях за картами или игрой в кости. — Скоро ему придется взять себя в руки, — хмуро заметил дядя Уильям. — Дела государства не могут ждать. — Он же уединялся после смерти королевы Джейн, — припомнила Анна. — Но пережил это. — Молюсь только, чтобы он проявил милосердие, — сказала Кэтрин. Однако все говорило за обратное. На следующей неделе казнили любовников королевы. Некоторые из слуг Кэтрин ходили посмотреть на это и вернулись потрясенные кровавым зрелищем до того, что некоторых тошнило. Когда Кэтрин приходилось проплывать в лодке под Лондонским мостом во время частых поездок по Темзе, она всегда опускала глаза из страха, что увидит насаженные на пики, гниющие головы этих двоих несчастных. По ее настоянию на Рождество они с Джоном отправились в Стоу, где было уныло, потому что дети находились в Снейпе. Однако в январе Джону пришлось вернуться в Лондон, чтобы присутствовать на новой сессии парламента. Анна с Гербертом уехали в Эвас, Уилл составил им компанию, так как при дворе никаких празднований не было.
Джон переживал, поскольку парламент рассматривал вопрос о лишении королевы гражданских прав. — Радикалы склонны принять билль, — кипел от гнева он, возвращаясь домой с мрачным лицом, расстроенный тем, что католическая партия утратила свои позиции. — Они даже приказали изготовить печать с подписью короля, чтобы избавить его величество от печальной необходимости лично давать согласие на казнь королевы. — Может быть, он помилует ее, — с надеждой проговорила Кэтрин. Джон как будто задумался. — В парламенте ходят слухи, что он собирается заключить ее в тюрьму до конца дней. — Вы думаете, это случится? — Нет, если к решению этого вопроса будут причастны реформисты! Казалось, инициатива находилась у них; изначально именно они затеяли весь этот процесс. Однажды Джон вернулся домой с каменным лицом и сообщил жене, что билль о лишении прав и состояния был принят. — Значит, она умрет, — прошептала Кэтрин. — Боюсь, что да. — В каком ужасном мире мы живем. — Кэтрин взяла накидку, руки у нее тряслись. Она и раньше слышала о казненных людях — сэр Томас Мор, Анна Болейн и Роберт Аск, это лишь некоторые, — но их трагедии не повлияли на нее так сильно, как эта. Осудить молодую женщину на жестокую смерть — это ужасно. И в конечном итоге в ответе за это король. Он мог остановить процесс, а вместо этого хранил молчание, погрязнув в печали и переживаниях из-за удара, нанесенного его мужской гордости. Мнение Кэтрин о нем сильно пошатнулось, и это еще мягко сказано. Как она могла счесть его добрым и обходительным человеком?! Поведение короля доказывало, что все его очарование поверхностно, одна наружность! В день казни, которая должна была состояться частным порядком в Тауэре, Кэтрин осталась дома и молилась за королеву, содрогаясь от мысли о происходящем всего в паре миль от ее дома. Дядя Уильям говорил, что, когда обезглавили Анну Болейн, с пристани у Тауэра ударила пушка, но на этот раз Кэтрин ничего похожего на пушечный залп не услышала. Екатерина Говард не удостоилась даже такой чести. Ее стерли с лица земли по-тихому.
Через две недели Анна приехала на Чартерхаус-сквер и объявила, что снова ждет ребенка. Подавляя зависть, Кэтрин обняла ее и воскликнула: — Поздравляю! Я так рада за вас обоих. — Герберт очень доволен! — сказала Анна. — Приезжай ко двору, мы это хорошенько отметим. Король вышел из уединения и собирается устроить три банкета: один для лордов своего Совета, другой — для законников и третий — для дам. Я могу обеспечить тебе место, если ты хочешь сопровождать меня. — Он устраивает банкеты вскоре после казни своей жены?! — ужаснулась Кэтрин. — И ему не стыдно! — Я знаю, знаю! Но не забывай, он пострадавшая сторона в этой трагедии. Вот как смотрят на это при дворе. И, по словам Уилла, его милость завел себе новые правила жизни. Он хочет оставить прошлое позади. Я видела его на днях; он шел по галерее с мастером Гольбейном. Очень постарел, поседел и, могу поклясться, еще прибавил в весе. Кэтрин, нам не следует забывать, что его глубоко потрясла трагедия королевы. Прояви милосердие, не думай о нем плохо. — С чего это ты вдруг прониклись таким сочувствием к нему?! — накинулась на сестру Кэтрин. — Я знаю его, Кейт. Знаю, что он может быть жестоким и не всегда хорошо обращался со своими женами. Но он обожал покойную королеву. Я много раз наблюдала их вместе, и он не мог удержаться от ласк. На этот раз он ни в чем не виноват. — Значит, не его вина, что она сейчас лежит в капелле Тауэра с отрубленной головой? — едко проговорила Кэтрин. — Она была виновна в измене. — Была ли? Уилл видел подписанные ею и Томасом Калпепером показания. Оба отрицали, что совершили прелюбодеяние. — Кэтрин, они тайно встречались в ее уборной! Дядя Уильям рассказал мне об этом. Даже если они не дошли до самого любовного акта, намерение налицо. А это измена. — Анна, я не стану спорить с тобой. — Кэтрин вдруг заметила, что в холле очень зябко, и прошла в гостиную. — Но я не хочу идти на банкет. — Какой банкет? — заинтересовался Джон, отрываясь от просмотра счетов, которыми был завален весь стол перед ним. — Привет, Анна. Та, не теряя времени, рассказала ему о банкетах. — Вы должны пойти, Кейт, — принялся убеждать ее Джон. — Развеетесь, к тому же выказать поддержку королю в такое время — это разумно. Кэтрин уставилась на него: — Вы приказываете мне идти? Муж никогда не давил на нее и всегда позволял ей самостоятельно принимать решения. — Нет, просто я считаю, что это было бы мудрым шагом. Иногда нам приходится забывать о своих более тонких чувствах ради того, что может оказаться выгодным. Мне это хорошо известно. С этим не поспоришь. Кэтрин сдалась, и по настоянию Анны они занялись выбором наряда, наилучшим образом подходящего к случаю. Кэтрин радовалась, что скопила приличную сумму на роскошное платье из зеленого бархата с жемчужной каймой и алый дамастовый киртл. Она долго не решалась на такую трату, но сказала себе, что это разумное вложение средств. Демонстрация роскоши много значила при дворе. И ее драгоценности будут прекрасно смотреться с этим платьем. Дворец весь сиял в свете свечей; столы в сторожевом покое были уставлены соблазнительными сластями, искусно приготовленными и изысканно поданными французским поваром короля и его помощниками. Сразу по прибытии ливрейный слуга подал им по кубку вина. Зал был полон дам в великолепных платьях; их украшения мерцали при свечах, в воздухе носился говор возбужденных женских голосов. — Его величество лично распорядился, какие комнаты будут предоставлены дамам, остающимся при дворе на ночь, и сам их осмотрел, — сказала Анна. — Скоро он будет здесь. Тут как по команде зазвучали фанфары, и появился он — вошел в зал и стал приветствовать гостей. Король был здесь единственным мужчиной, помимо стражи и слуг, и дамы столпились вокруг него, как пчелы у плошки с медом, а он весело здоровался с каждой и говорил так по-дружески, будто пришел сюда ради встречи с ней одной. «У него в этом большой опыт», — подметила Кэтрин. Так король кружит людям головы и заставляет их забыть, на что он способен. Как же он, вероятно, наслаждался этим женским подхалимством; каким бальзамом лилась их лесть на его уязвленную гордость после того, как жена наставила ему рога. Кэтрин стояла с Анной и ее подругами у камина и наблюдала за движением короля по залу, а оно сопровождалось хохотом и весельем; ряды дам расступались перед ним, давая дорогу, как воды Красного моря перед Моисеем. — Это устроили, чтобы он мог выбрать себе новую невесту? — наклонившись к уху сестры, спросила Кэтрин. — Боже, нет! Король любит развлекать дам. Он делал это уже не раз. Ему нравится женское общество. — Анна понизила голос. — Но я сомневаюсь, что хоть кто-то из этих леди торопится выйти за него, особенно теперь, когда был издан этот новый закон. Джон рассказывал Кэтрин о последнем Акте о лишении прав и состояния против королевы, в нем было прописано требование, что впредь всякая женщина, на которой решит жениться король, обязана объявлять, под страхом смерти, о любых своих неблаговидных поступках в прошлом. Кэтрин окинула взглядом окружавших ее женщин, вспоминая рассказы Анны о некоторых из них, и пробормотала: — Полагаю, это сильно урезает возможности выбора. Анна улыбнулась: — Немногие в наши дни стали бы домогаться такой чести. Вот ты пошла бы за него, если бы была свободна? — Нет, даже за все сокровища из королевской казны, — ответила Кэтрин, понизив голос. — Нужно быть полной дурой, чтобы выйти замуж за человека, который или бросает, или убивает своих жен. Для этого нужны железные нервы! — Она опасливо огляделась, понимая, что ее слова можно расценить как подстрекательские, даже изменнические, но другие дамы оживленно болтали друг с другом, а глаза всех были прикованы к королю. К ним присоединилась герцогиня Саффолк. — Берегитесь, сюда идет его величество, — пробормотала она. — Изобразите, что заняты беседой. Кэтрин подавила улыбку и спросила: — Чем займется ваша милость в отсутствие королевы, которой нужны ваши услуги? — О, полагаю, отправлюсь домой и нарожаю кучу детей. — Герцогиня усмехнулась. — Ну, этого хотел бы от меня милорд, но я уже произвела на свет необходимого наследника и запасного тоже, так что не мечтаю снова превратиться в племенную кобылу. Анна погладила свой живот. — У меня нет выбора! — Она засмеялась. — Этот маленький постреленок родится летом. — И ваша детская не будет пустовать. — Кэтрин улыбнулась. — Что весьма похвально! — добавила герцогиня. — К слову о детях, я полагаю, король женится еще раз. Будущее его династии зависит от жизни одного маленького ребенка. — Она склонилась к ним, приглушая голос: — Могу сказать только одно: я от души рада, что уже замужем! Глаза Анны расширились. — Он проявлял интерес к вам? — В прошлом, до того… — Последовала пауза, и глаза герцогини заискрились. — Я слышала, леди Анна по совету посла Клеве переехала поближе к Лондону, чтобы быть готовой, если ее вызовет к себе король. Герцог Клеве, ее брат, давит на короля, чтобы тот взял его сестру обратно. — Этого не случится никогда, — сказала Анна. — Его величество сейчас прекрасно с ней ладит, но я не думаю, что он хоть когда-нибудь смотрел на нее, как мужчина смотрит на женщину. — Его задача — не смотреть на нее, а получить наследников! — твердо проговорила герцогиня. — Он — король! Для него спать с женой — государственное дело. — Со всем уважением к вам, ваша милость, но лучше говорите потише, — пробормотала Кэтрин. — Король приближается. Тот закончил разговор с собравшимися кружком дамами и уже возвышался над ними всей своей массивной фигурой, хотя при этом тяжело опирался на палку, и просил подняться из реверансов. — Надеюсь, вам нравится наш маленький банкет, миледи, — сказал король. — Хотите еще вина? — Он дал знак слуге, который торопливо подошел и наполнил их кубки. — Мы прекрасно проводим вечер, ваше величество, — сказала герцогиня. — Еда отменная, сир, — добавила Анна. Кэтрин смотрела на короля, продолжая мысленно изумляться, как он мог послать свою юную супругу на смерть. Но, разумеется, это не он! Это сделали за него с помощью той деревянной печати. Но ведь он должен был одобрить ее использование. — Вам все нравится, леди Латимер? — Король заметил ее молчание. Его пронзительные голубые глаза впились в нее. Они излучали теплоту, но Кэтрин представила, как они заледенеют, стоит ей чем-то не угодить ему. Заставив себя улыбнуться, она ответила: — Очень, сир. Признаюсь, я ошеломлена всем этим. Я впервые на придворном банкете. Король, казалось, смягчился. — Надеюсь, он не станет последним, мадам. — И обратился к Анне: — Сдается мне, вы скоро уедете в деревню, миссис Герберт. — Да, сир. Мы надеемся, у Генри появится братик. Если родится мальчик, мы назовем его Эдвардом в честь принца. От этих слов король расцвел. — Желаю вам такого же прекрасного сынишку, как он. — Как дела у принца, сир? — спросила леди Саффолк. — Ему уже четыре года, и он чувствует себя отлично, — ответил король, и лицо его оживилось. — Уже знает буквы и больше всего любит смотреть поединки. — Я вижу, он уже подражает своему отцу, — заметила герцогиня. Кэтрин могла только посочувствовать малышу, лишившемуся очередной мачехи. Однако с лица ее не сходила улыбка. — Похоже, он очень способный ребенок, сир. — Он — принц, который будет радостью для Англии, — важно изрек король. — А теперь, леди, я должен покинуть вас и поговорить с другими моими гостями. Кстати, леди Латимер, у вас прекрасное платье. — Он поклонился, захромал прочь от них и присоединился к другой группе жеманно улыбавшихся женщин. — Бедный малыш Эдуард, — сказала герцогиня. — Неудивительно, что он чудо. Воспитатели приучают его подражать отцу. Это тяжело для ребенка. — Хотя нетрудно заметить, что король души в нем не чает, — сказала Анна. — Он его редко видит. Но гордится им, это правда. Они продолжали беседу, пока фанфары не зазвучали вновь. Его величество попрощался со всеми и ушел. Это был сигнал, что пора расходиться. Слуги принялись убирать со столов, а Кэтрин наблюдала, как король шествует по галерее. Вероятно, ему очень хотелось присесть и передохнуть. Ослепительный, всесильный и жестокий, он оставался простым смертным, к тому же измученным болезнью.
Уилл по-прежнему был увлечен Дороти Брей. Кэтрин пригласила их обоих на обед в свой дом на Чартерхаус-сквер и незаметно для себя прониклась симпатией к Дороти, которая обращала очень мало внимания на то, что о ней говорят, но была именно той женщиной, в какой Уилл сейчас нуждался. Очевидно, брат пережил измену жены. Сама Кэтрин редко вспоминала об Энн Буршье. Без сомнения, та продолжала жить в грехе и бедности со своим приором. Поэтому Кэтрин удивилась, когда однажды днем в июне Уилл явился на Чартерхаус-сквер в весьма дурном расположении духа. — В чем дело? — спросила она, вставая, хотя собиралась прилечь после сытного обеда. Он скинул с плеч мокрую накидку и бросил ее на стул. На улице лило как из ведра. — В Энн! — взорвался Уилл. — Она родила сына от этого ублюдка, и знаешь что? По закону он — мой! Я уже посоветовался кое с кем на этот счет. Она может заставить меня содержать его. — Уилл, успокойся. — Кэтрин была потрясена и никак не могла собраться с мыслями. — Уже год, как она покинула тебя; ребенок никак не может быть твоим. — Я не признаю его! — крикнул Уилл. Кэтрин взяла его за руку и подвела к скамье. — Послушай, никакой суд не принудит тебя к этому. Последний год она прожила с монахом, одно это — уже достаточная причина для скандала. Мы можем это подтвердить. Как и другие люди. Уилл тяжело дышал. — Она легко может заявить, что мы встречались и совокуплялись. И это будет мое слово против ее слова. — Энн и правда сказала, что рассчитывает на твою поддержку? Уилл фыркнул: — Этот ублюдок Люнгфилд написал мне. Он, видите ли, думает, мне нужно знать о ребенке. Они нарекут его моим именем. Моим именем! — Что посоветовал тебе адвокат? — Нанести превентивный удар. Я обращусь в суд за официальным дозволением на раздельное проживание в связи с ее бегством и изменой. — Это вполне разумно. Я уверена, тебе его дадут. — Пока мы говорим, адвокат уже составляет бумаги. Но если эта потаскуха скажет, что наш брак никогда не был состоятельным, и потребует его расторжения, я могу потерять графство Эссекс. — Едва ли это случится, Уилл, — сказала Кэтрин. — Ты не стремишься к разводу. Это полноценный брак, и графство должно перейти к тебе как еесупругу. — Надеюсь, ты права. — Он вздохнул и уткнулся лицом в ладони. — Прости, Кейт. Я не должен был нагружать тебя своими проблемами. — Тебе нужно было поговорить с кем-нибудь, так почему не со мной? И я всегда рада видеть тебя, даже если ты просто придешь и немного покричишь. Джон только что уехал на Север. Его снова вызвали на военную службу в приграничье. Лишь бы там было не так сыро, как здесь. Для него это будет весьма неприятно. В любом случае я рада, что ты пришел, так как получила печальные вести от Анны. Она потеряла ребенка. — О нет! — воскликнул потрясенный Уилл. — Это и правда печально. А тут еще я жалуюсь на свои беды. — У меня сердце надрывается, — сказала Кэтрин, роняя всегда готовые пролиться слезы. — Но у нее есть хотя бы один сын в утешение. Уилл обнял ее: — Жизнь у Анны сложилась лучше, чем у нас, Кейт. Кэтрин сморщилась. — Не надо об этом. Я бы многое отдала за то, чтобы иметь ребенка, но Господу угодно лишить меня этого благословения. — Ты пока не одолела перевал, — напомнил ей Уилл. — У тебя еще много времени. — Я неустанно твержу себе это. Ну ладно, хватит о грустном. Ты останешься на ужин?
Дожди шли беспрерывно. Кэтрин скучала по Джону, но в его отсутствие ей легче было практиковать свою религию и не соблюдать католические обряды. Он писал, что здоров, а это было чудом, учитывая, в каких условиях ему приходилось нести службу — по большей части на холоде и в сырости. Домой Джон собирался вернуться в августе, закончив все дела. Кэтрин казалось, что его отлучка длится нестерпимо долго. Она постоянно беспокоилась, что ее мужа все время испытывает на прочность дурная погода. Повсюду, даже на лондонских рынках, не хватало продуктов. Урожай погиб. К сентябрю дожди сменились не по сезону холодным ветрами; ощущение было, что наступила зима. Некоторое время от Джона не приходило никаких вестей. Кэтрин со дня на день ждала его возвращения и начала тревожиться. Он уже должен быть дома. Когда Джон наконец появился на пороге, а произошло это в конце первой недели сентября, Кэтрин готова была расплакаться от облегчения и умилялась, пока не увидела лицо мужа — серое, постаревшее, изможденное. Джон был сам на себя не похож. — Где вы были?! — воскликнула она, взяв его за плечи и заглядывая ему в глаза. — Я ужасно беспокоилась. — Дороги залило, любимая, — устало ответил он, — и я не мог отправить вам письмо. Его доставили бы после моего приезда. — Джон закашлялся. — Вы больны! — в ужасе проговорила Кэтрин. — Сядьте у огня. Я приготовлю вам поссет. Когда она вернулась с дымившимся в кружке напитком, Джон опять зашелся кашлем. Он с благодарностью принял у нее питье и стал потихоньку его прихлебывать, но отказался от маленьких пирожных, которые Кэтрин приготовила, надеясь на его возвращение. — Я не голоден, любимая, а вот поссет — это то, что мне нужно. Ей-богу, там на границе стоял леденящий холод. — Здесь тоже было нежарко. Как хорошо, что вы дома! — Да, хорошо быть дома, Кейт, — слабым голосом проговорил Джон, что вполне соответствовало его изнуренному виду. — Давно вы кашляете? — с тревогой спросила Кэтрин. — Я немного кашлял по пути на Север. Потом стало хуже. — Должно быть, виновата погода. Никому не пойдет на пользу все время торчать под дождем и на ветру. Несколько дней в тепле сотворят с вами чудо. — Да, любимая, — сказал Джон, сделал глоток поссета и поставил кружку на пол у очага. — Как дела здесь? — Уиллу дали разрешение жить отдельно от жены, Джек и Маргарет в порядке. Они скоро будут дома, пошли за покупками на Чипсайд, и мальчик Анны растет хорошо. Самой ей наскучило в Эвасе. — Овцы — не такая стимулирующая компания, как придворные, — усмехнулся Джон. — Вы заезжали в Снейп? — Да. Уолтер шлет вам поклон. — Он зевнул. — Хотите отдохнуть перед ужином? — спросила Кэтрин и вдруг заметила, что Джон уже спит. Она нежно приподняла голову мужа и подложила под нее подушку. Грустно было видеть его совсем разбитым. Как глупо, что он пустился в путь больным, но, вероятно, ему так же сильно хотелось вернуться домой, как ей самой — дождаться его возвращения. Ну что ж, теперь он в самом лучшем месте. Она будет ухаживать за ним и поднимет его на ноги. Для начала приготовит лекарство от кашля. Кэтрин оставила мужа дремать в кресле и пошла на винокурню. Через некоторое время она услышала, что вернулись Джек с Маргарет, и поспешила встретить их, предупредив, чтобы они отложили встречу с отцом, пока он не проснется.
Лекарство из трав ничуть не помогло. Джон продолжал кашлять и через три дня; самочувствие его не улучшалось. Утро он проводил в постели и ел очень мало. — Пожалуйста, съешьте немного супа, ради меня, — упрашивала его Кэтрин. — Перестаньте суетиться, женщина, — ворчал он, но проглатывал несколько ложек. Маргарет сильно расстроилась, увидев отца таким больным. — Нужно дать ему время, — попыталась утешить ее Кэтрин. — Через неделю ему станет лучше. — Чтобы как-то отвлечь свою падчерицу, она заказала им обеим новые платья, себе — алое, а Маргарет — желтое. В семнадцать лет та выглядела уже вполне женщиной, красивой и очень стройной, но при этом не утратила жизнерадостности. Она обожала отца и с удовольствием часами читала ему книги, пока он сидел в кресле у очага. Джек, казалось, не так сильно переживал. Он стал вести себя лучше и помогал управлять поместьями Латимеров в Мидленде, поэтому нечасто бывал в Лондоне. Как и прежде, он мало считался с окружающими, и Кэтрин подозревала, что юноше не терпится вставить ноги в отцовские башмаки. Они несколько раз обсуждали с Джеком, не обосноваться ли ему в Снейпе, чтобы управлять северными владениями, но в конец концов он отверг эту идею. «Нет, — думала Кэтрин, — парень хочет быть здесь, когда настанет момент. Ну так он не настанет. Я вы́хожу вашего отца, чего бы мне это ни стоило!» Однако недели шли, и Кэтрин начала терять уверенность; она даже поймала себя на том, что стала более осмотрительной в общении с Джеком, понимая, что вскоре тот может стать здесь хозяином. Нет! Кэтрин отбросила эту мысль, но тем не менее нужно было смотреть правде в глаза: Джон сдавал. Наступила зима с жестокими морозами; кашель его становился все более резким, и больной начал терять в весе. Кэтрин тревожили землистый цвет лица и обильное ночное потоотделение. Это был не просто кашель, который обычно проходит под воздействием лекарств и отдыха, а нечто другое, — с ужасом поняла Кэтрин, — и гораздо более зловещее. За врачом послал сам Джон. — Я знаю, лучше мне не станет, любимая, — сказал он, с трудом поднявшись с постели однажды снежным декабрьским утром. — Не вставайте, вам нужен покой, — уговаривала мужа Кэтрин. — Если я лягу, то уже не поднимусь, — пробормотал Джон, с невероятными усилиями натягивая на себя рейтузы. — Не говорите так, — молила она. Джон проигнорировал ее просьбу. — Вы будете хорошо обеспечены, когда я уйду, любимая, и Маргарет тоже. Я составил завещание. — Мы вас никуда не отпустим, — живо проговорила Кэтрин.
Доктор в длинной черной мантии и шапочке поднес мензурку к лившемуся из окна тусклому свету. — Хм, — промычал он. «Он не знает, чем болен Джон», — подумала Кэтрин, раздраженная тем, что врач все хмыкает и мямлит. Приложив ухо к груди больного, потом снова пощупав его пульс, доктор спросил: — Есть у вас боли в груди? — Да, — ответил Джон. — А кровь выхаркиваете при кашле? — Нет. — Это хорошо. Что ж, я пущу вам кровь, чтобы привести в равновесие гуморы тела. И вам станет лучше. Кэтрин с сомнением относилась к кровопусканию — Джон и без того был плох, — но доверилась мудрости доктора, и больному поставили пиявок, которые занялись своим делом. Визиты Кэтрин ко двору прекратились. Вся ее жизнь умещалась в пространстве четырех стен этого дома. А надежды сосредоточились на Джоне. Она любила его. Это чувство никогда не превращалось в страсть, но Кэтрин получала удовольствие от непринужденных отношений с мужем, и он относился к ней как к равной, что было приятно. Если она его потеряет, то окажется брошенной на волю волн, эмоционально и физически, так как не видела себя желанной в доме Джека. Между ней и пасынком установилось перемирие, не больше, и Кэтрин знала, что его уважение к ней идет не от сердца. Что касается Маргарет, лучше было не думать о том, какое тяжелое впечатление произведет на нее смерть Джона. Снег шел каждый день, земля под ногами то покрывалась коркой льда, то расползалась в грязь. Суровая зима давала знать о себе: слуги, отправляясь за провизией и другими нужными вещами, сообщали Кэтрин, что дров достать почти невозможно, а те немногие продукты, которые были на прилавках, отдавали по грабительским ценам, особенно рыба на рынке Биллинсгейт. Уилл и дядя Уильям регулярно навещали Кэтрин, приносили новости из мира, который теперь казался таким далеким. Король шотландцев умер от разрыва сердца, после того как был разбит англичанами в битве при Солуэй-Мосс. — В Шотландии хаос, — рассказывал дядя Уильям, с тревогой глядя на Джона. Кэтрин сообщила ему, что с момента визита врача прошло уже две недели, и никаких улучшений в состоянии больного не произошло. — У короля Якова осталась одна дочь, родившаяся за неделю до его смерти. Шотландцами теперь правит маленькая королева по имени Мария. — Король Генрих торжествует, — вступил в разговор Уилл. — Теперь шотландцы не представляют угрозы для Англии. Их аристократы будут заняты борьбой за власть, им не до войны с нами. Королеве-регенту придется потрудиться, чтобы держать их в узде. — Я бы тоже сражался при Солуэй-Мосс, если бы находился в марках, — сказал Джон. — Слава Богу, обошлись без вас! — отозвалась Кэтрин. — Но было бы хорошо оказаться там в момент победы. — Что ж, теперь нам нескоро придется повоевать, если только мы не навалимся на французов, — сказал дядя Уильям.
Целую ночь кашель Джона не давал Кэтрин уснуть, а утром она увидела на его подушке кровь. Всего несколько капель, но этого хватило, чтобы она встревожилась и настояла на новом визите врача. Когда доктор осмотрел Джона, лицо его стало мрачным. — Боюсь, это чахотка. — Она меня прикончит, — пробормотал Джон. Кэтрин взяла руку мужа и пожала ее. Она дрожала, сознавая значение только что сказанного. Джон умирал. Никакое лечение не спасет его. — Вам нужен покой, милорд, — сказал врач. — Берегите силы. Хорошо питайтесь. — Он почти ничего не ест, — пожаловалась Кэтрин. — Тогда ему нужно обильное питье. Находитесь в тепле, сэр, и делайте упражнения, какие можете. Ходите по комнате, но на улицу — ни-ни, пока там холодно. — Сколько мне осталось? — спросил Джон. Наступила жуткая тишина. — Недолго, — ответил врач. — Мне очень жаль. Кэтрин поборола слезы и, подойдя к Джону, обняла его, стараясь утешить. — Мадам, я бы посоветовал вам не приближаться к своему супругу, — предупредил ее доктор. — Эта болезнь заразна. Вам лучше находиться в другой комнате. — Нет! — крикнула она. Какая жестокость — лишать их близости, в которой оба они сейчас так нуждались! — Ради вашего же блага, — не отступался врач. — Да, Кейт, — сказал Джон неожиданно сильным голосом. — Нужно, чтобы вы остались здесь, когда я уйду. Что на это ответишь? — Я хотела утешить вас, — сказала Кэтрин. — Меня больше утешит сознание, что о Маргарет будет кому позаботиться. Кэтрин огорчала необходимость держать дистанцию. Если она или Маргарет садились почитать Джону, то располагались в нескольких футах от него. Прачке приходилось кипятить постельное белье, а тряпицы, которые муж использовал в качестве носовых платков, Кэтрин сама бросала в огонь. Рождество прошло мрачно. Кэтрин отправилась в церковь, но не могла молиться: ум ее был слишком растревожен. Джек держался отстраненно; она не могла понять, онемел он от горя или сознательно отгораживается от нее. Маргарет, предполагавшая худшее, ходила по дому бледная и с красными глазами. Дядя Уильям и Уилл пришли к ним на рождественский обед. Кэтрин с Маргарет насобирали, сколько смогли, зеленых ветвей для украшения дома, хотя в Лондоне их почти невозможно было найти, но они постарались, понимая, что это будет последнее Рождество Джона. На столе появились большой кусок мяса и рождественский пирог. Хозяин дома, пересилив себя, сел во главе стола, поодаль от всех, и попросил Джека нарезать мясо, но задержаться с гостями надолго не смог — поел совсем немного и ушел отдыхать. Дядя Уильям покачал седой головой. За последние месяцы он тоже заметно сдал. — Вам нужно приготовиться. Ему осталось недолго. Маргарет едва не расплакалась. Дядя Уильям заметил это и сменил тему: — На днях я видел принца. Ему уже пять, он милый мальчик с прекрасными манерами. Его научили хорошо вести себя. — Он светловолосый, как мать, но чертами похож на отца и очень развит для своих лет, — добавил Уилл. — Король хочет женить его на королеве шотландцев и объединить оба королевства под началом Англии. — Шотландцам это придется не по нутру, — заметил Джек, накалывая на нож кусок мяса. Дядя Уильям поднес салфетку к губам. — А что им остается, когда его величество заключил новый союз с императором и планирует вторгнуться во Францию, а она в альянсе с Шотландией. Французы будут вынуждены бросить все ресурсы на то, чтобы противостоять объединенным силам Англии и Империи. Они не смогут прийти на помощь шотландцам. Разговор гостей не проникал в сознание Кэтрин. Наконец она встала и пошла проверить, как там Джон. Он спал, лоб его покрылся каплями пота. На подушке появились новые пятна крови. Она долго смотрела на мужа, впитывая в себя милый образ, так как понимала — скоро ей уже не придется видеть его лицо, — и чувствовала себя совершенно беспомощной. Неужели никто не может ничего сделать? Неужели Господь и правда решил разлучить их? Как она будет жить без своего Джона?
 Глава 14
1543 год
Глава 14
1543 год
На третьей неделе января Уилл упросил Кэтрин навестить его при дворе. Ее первым побуждением было сказать, что она не может оставить Джона, но тот сам настоял, чтобы Кэтрин поехала.
— Не лишайте себя радостей жизни, любимая, вы этого не заслужили, — сказал он. Теперь Джон все дни проводил, сидя у очага, закутанный в меха. Посещать заседания парламента, возобновившиеся неделю назад, он был не в состоянии, а ел совсем мало: на таком рационе могла бы продержаться разве что пташка Божья. — Поезжайте. Со мною все будет хорошо. Маргарет не даст мне скучать.
Она перечитала отцу уже почти все книги, какие были в доме.
— По пути домой я куплю вам еще каких-нибудь книг, — пообещала Кэтрин.
Ей было стыдно, что она радуется передышке и с нетерпением ждет поездки ко двору. Уже много недель Кэтрин провела в заточении в этом печальном доме. Небольшой перерыв пойдет ей на пользу. Это ведь не проявление эгоизма с ее стороны, верно?
Сидя в лодке, направлявшейся в Уайтхолл, Кэтрин ощутила, что свыклась с мыслью о скорой кончине Джона. Она постоянно молилась за него: да облегчатся его страдания и пусть уход в мир иной будет для него легким!
Ее беспокоило собственное будущее. Ей тридцать лет — еще полна жизни. Можно, конечно, переехать в одно из поместий, полученных в приданое, но она там будет чужой. В том, что доходы позволят ей снять дом в Лондоне, Кэтрин сомневалась. И надо еще подумать о Маргарет…
Лодка приближалась к Гринвичу. Вот он — вытянулся вдоль берега на фоне покатых холмов охотничьего парка. Она сошла на пристань у лестницы, расплатилась с лодочником и сказала караульным у гейтхауса, что приехала к лорду Парру.
Окна комнаты Уилла выходили на мощеный двор, который, как обычно, был заполнен людьми. Брат открыл дверь, и Кэтрин сразу заметила, что он не один. Двое мужчин, сидевшие у маленького очага, встали, чтобы приветствовать ее. Одного она узнала: это был мрачный, всегда одетый в черное Эдвард Сеймур, граф Хартфорд, брат покойной королевы Джейн и дядя принца. Он слегка поклонился:
— К вашим услугам, мадам.
Кэтрин повернулась ко второму мужчине и едва не ахнула, потому что тот был поразительно красив — высокий, статный, мускулистый, с тяжелыми веками, блестящими глазами, коротко подстриженными рыжими волосами и пышной бородой.
— Кейт, позволь представить тебе брата лорда Хартфорда, сэра Томаса Сеймура, — сказал Уилл. — Он недавно вернулся из посольства в Нюрнберг.
Кэтрин почувствовала, что заливается краской, как неопытная девушка.
— Очень приятно познакомиться с вами, сэр Томас.
— Я тоже чрезвычайно рад, — сказал тот, поднося к губам и целуя ее руку.
Когда он делал это, глаза их встретились, и они как будто признали друг друга. У Кэтрин перехватило дыхание, она не могла отвести глаз от сэра Томаса.
Он был придворным до кончиков ногтей и в желто-алом наряде резко контрастировал с братом.
— Как Джон? — поинтересовался Уилл. — Супруг леди Латимер очень болен, — объяснил он братьям Сеймур.
— Слабеет с каждым днем, — ответила Кэтрин.
— Я буду молиться за него, — сухо проговорил Хартфорд.
— Могу я чем-то помочь? — спросил сэр Томас.
Глаза его излучали тепло, и Кэтрин немного разволновалась.
— Нет, но спасибо вам за предложение. — Она почувствовала, что должна добавить что-нибудь еще, дабы описать тяжесть болезни Джона, но в присутствии этого очаровательного мужчины ей вдруг стало трудно подбирать слова.
К разочарованию Кэтрин, братья Сеймур вскоре распрощались и ушли, чтобы она могла поговорить с Уиллом наедине. Брат и сестра устроились у очага. Уилл протянул ей стакан теплого ягодного эля, заранее принесенного с дворцовой кухни. Она сообщила ему, что силы покидают Джона, а он сказал, как ему горько слышать это.
— Я скучаю по Анне, — добавила Кэтрин. — Она сейчас была бы для меня хорошей опорой. Джек бесполезен. Он самоустраняется, и мне самой приходится управляться с домом и врачами. Маргарет хорошо заботится о Джоне, но то и дело плачет. Боюсь, мне просто необходим этот короткий отдых.
— Тебе здесь всегда рады, — заверил ее Уилл.
— Мне понравился сэр Томас Сеймур, — сказала Кэтрин.
— Сэр Томас нравится всем женщинам! А самому сэру Томасу нравится только сэр Томас. Он очень себялюбив.
— Со мной он, кажется, был весьма обходителен.
— Кейт, ты общалась с ним всего пять минут! Я же почти каждый день служу вместе с ним в личных покоях. Он может быть очаровательным и именно поэтому так популярен. Король тоже его любит. Но будь осторожна. Он дерзок, умен и либерален во взглядах, но при этом горяч и немного пустоват. Часто действует не размышляя и сгорает от жгучей зависти к брату. Между ними нет любви. Тома гнетет, что он четвертый сын своего отца, а не первый.
— Он женат?
Уилл пристально взглянул на сестру:
— Нет. Ему тридцать пять, и пока ни одна женщина не сумела заманить его в силок. Поговаривали о его браке с дочерью Норфолка, герцогиней Ричмонд, но из этого ничего не вышло. Я слышал, однажды он завел себе любовницу и разрушил ее репутацию, но это было давно. Он амбициозен и будет искать себе невесту на самом верху.
На мгновение Кэтрин задумалась о том времени, когда станет вдовой, которая может кое-что предложить в материальном смысле, и изумилась самой себе. Как может она размышлять о новом браке, когда ее дорогой Джон еще жив?
Покинув комнату Уилла и выйдя во двор, Кэтрин, к своему удивлению, обнаружила, что сэр Томас ждет ее.
— Миледи Латимер, — сказал он и картинно поклонился. — Мне показалось, что я не выразил в достаточной мере свою тревогу по поводу состояния вашего несчастного супруга.
Кэтрин крайне удивилась.
— Вы очень добры, — пролепетала она, ощущая, как близко к ней стоит сэр Томас; ее обдало запахом новой кожи, исходившим от его башмаков.
— Вы прогуляетесь со мной? — спросил Сеймур.
— Мне нужно домой, — сказала она, горячо желая остаться, но зная, что леди не следует выказывать нетерпения в таких ситуациях.
— Разумеется. Но не прогуляться ли нам сперва по саду?
Кэтрин была не в силах отказать.
— Хорошо, проводите меня до пристани.
Сэр Томас предложил ей руку. Кэтрин оперлась на нее и затрепетала от первого же прикосновения. Ни один мужчина до сих пор не вызывал в ней таких ощущений.
Пока они шли по дорожкам между цветочными клумбами, обнесенными решетчатыми оградками с бело-зелеными полосатыми столбами на каждом углу, Кэтрин рассказала своему спутнику о болезни Джона.
— Каждое утро я испытываю тошнотворный страх, что наступивший день может стать последним, — призналась она, думая, как же ей легко разговаривать с этим красавцем, хотя они едва знакомы. — Вот почему мне нужно побыстрее вернуться домой.
— Очень жаль, но я все понимаю, — сказал сэр Томас. — Надеюсь, мне еще посчастливится провести время в вашем обществе, леди Латимер.
— Не знаю, когда это случится, — ответила она, предвидя смерть мужа, траур и уединение.
— Я всегда к вашим услугам.
Они дошли до пристани, где сэр Томас поцеловал ей руку и раскланялся.
Сидя в лодке, Кэтрин куталась в накидку и смотрела, как его высокая элегантная фигура тает вдалеке; разум ее был в смятении, а сердце стучало.
На следующее утро она пошла проведать Джона; тот лежал на кровати под балдахином, бледный как полотно. — Пожалуй, я не буду вставать, любимая, — слабым голосом проговорил он, хрипя и закашливаясь. Кэтрин помогла ему сесть, взбила подушки и заметила, как Джон исхудал. — Послать за врачом? — Нет, Кейт. Он ничем не поможет. Я просто немного подремлю. Оставив его, она занялась письмами, но то и дело вставала из-за стола и проверяла, как там Джон. Глядя на осунувшееся лицо спящего мужа, Кэтрин чувствовала себя виноватой в том, что увлеклась Томасом Сеймуром, и решила не думать о нем. Муж заслуживал безраздельного внимания с ее стороны. В половине двенадцатого она принесла блюдо с приготовленной поваром рыбой в белом соусе. Джон съел шесть ложек, потом устало опустил руку. Кэтрин скормила ему еще четыре. — Вот и хорошо. — Она улыбнулась, вытерла ему рот салфеткой и подошла к резному буфету, чтобы налить мужу немного эля, но, когда вернулась к постели, тот уже спал. Они с Маргарет пообедали в гостиной, после чего падчерица сказала, что посидит с отцом и почитает про себя. Кэтрин воспользовалась этим, чтобы немного покемарить. Ее разбудил громкий стук во входную дверь. За окном почти стемнело. Должно быть, она проспала несколько часов. Ничего не понимая со сна, Кэтрин пригладила волосы и надела капор, успев немного привести себя в порядок как раз к тому моменту, когда Грегори, их лондонский управляющий, объявил о прибытии сэра Томаса Сеймура. Остатки сна мигом слетели с Кэтрин. Боже, какое нахальство преследовать ее вот так! В холле уже громыхал раскатистый голос незваного гостя, а потом он широким шагом вошел в гостиную, наполнив ее своим великолепием. — Сэр Томас, вот так сюрприз! — приветствовала его Кэтрин. — Леди Латимер, простите за вторжение, но я не мог не прийти. Один мой друг из личных покоев короля посоветовал лекарство для вашего супруга. — Сеймур протянул ей маленький пузырек. — Он клянется, что это прекрасное средство от кашля. Кэтрин взяла бутылочку, заглядывая ему в глаза, и прочла в них все без ошибки. — Благодарю вас, сэр Томас. Вы очень добры. Она предложила ему сесть, велела подать вина и пирожных, затем быстро сходила взглянуть на Джона, вернулась к своему гостю и сказала: — Я дам ему ваше лекарство позже. Он сейчас спит. Они завели разговор. Беседа текла непринужденно. Сэр Томас рассказал ей о своем детстве и семейном доме Вулфхолл в Уилтшире, о покойном отце и любимой матери, о многочисленных братьях и сестрах. — Мы все ликовали, когда Джейн вышла за короля, и с тех пор никогда не оглядывались назад. Это стало началом возвышения нашей семьи. Кэтрин заметила, что сэр Томас имеет склонность к хвастовству. Тот уже успел сообщить ей, что пользуется заслуженной славой как турнирный боец. Послушать его, так он один из самых обходительных кавалеров при дворе. Но Томас Сеймур действительно был добродушен и весел, в этом ему не откажешь, к тому же искренне интересовался Кэтрин. Она поведала ему о своей жизни, безмятежном детстве в Рай-Хаусе, браках и Благодатном паломничестве. Брови сэра Томаса изогнулись от изумленного восхищения, когда Кэтрин рассказала, как ей удалось справиться с мятежниками. — Удивительно, что этот опыт не сделал вас горячей сторонницей реформ, — с улыбкой проговорил он. — Ну, я склоняюсь в эту сторону, — призналась Кэтрин. — Я тоже. Вы наверняка уже наслышаны, что Сеймуры — убежденные евангелисты, особенно мой брат. — В его голосе слышалась легкая насмешка, когда он произносил последние слова. — У Мартина Лютера ничего на него нет! И Нэд, конечно, не одобряет ересь, — быстро добавил сэр Томас. По ходу разговора Кэтрин больше узнала о нем: открыла для себя, что он хорошо образован и обеспечен, так как ему досталось немало наград и преференций. При дворе Томас находился с юности и позже служил в многочисленных дипломатических посольствах за границей, но его настоящей страстью стало море. Он был воистину человеком действия, которому трудно усидеть в четырех стенах; переходил Канал с королевским флотом и патрулировал его на случай, если французы отважатся совершить рейд к берегам Англии. Кэтрин чувствовала, что нападение обрадовало бы сэра Томаса. Да, он был лихой и на словах, и на деле, но казался также честным, умным и добрым, к тому же писал стихи. «Плохие стихи», — со смешком добавил сэр Томас. — Странно, что я не видела вас при дворе, — сказала Кэтрин. — Последние пять лет бо́льшую часть времени я находился при других дворах — во Франции и Империи. Но пару лет назад принимал участие в турнирах в Уайтхолле. Вы были там? Кэтрин вспомнила, как сидела на трибуне с Джоном, и с болью подумала, что тогда ее мужа еще не скрутила болезнь. — Да. — Я был защитником в белом бархате. — Конечно! — Она тогда подумала, как великолепен этот рыцарь, но забрало у него было опущено, и узнать, кто это, не представлялось возможным. — Ваша сторона выиграла. — Естественно! — Сэр Томас не упускал случая похвалиться. — Расскажите о вашей работе за границей, — обратилась к нему Кэтрин. — С чего же начать? — весело отозвался он, шаря по ней глазами. — Некоторое время я провел в Вене, хотя сомневаюсь, что вам будет интересно слушать о том, как венгры защищались от турок! Потом отправился назад через Нюрнберг, по пути рекрутировал наемников для короля, но в конце концов пришлось распустить этих солдат удачи, так как его величество посчитал плату за их услуги непомерной. — Томас скривился. — Нюрнберг — красивый город. Я провел там Рождество. — Наверное, скоро вас ждет новое задание, — сказала Кэтрин, с ужасом понимая, что ее печалит перспектива отъезда сэра Томаса. — Король всегда находит способы, как удержать меня от проказ! В дверь постучали. Это был повар Адам. — Мадам, не пора ли сервировать ужин? — О Боже, уже так поздно?! — воскликнула она, понимая, что просидела наедине с сэром Томасом Сеймуром гораздо дольше, чем ей казалось, и все это время не вспоминала о Джоне. Кэтрин охватило чувство вины. Однако последние пару часов жизнь, казалось, била в ней ключом; такого не случалось уже много лет, а может, и всю жизнь. Кэтрин встала: — Я должна идти к мужу. Сэр Томас, не окажете ли вы мне честь, оставшись на ужин? Она украдкой взглянула на ожидавшего распоряжений Адама — не заметит ли в нем намека на неодобрение? Но лицо повара оставалось бесстрастным. — Благодарю вас, — ответил Томас. — Это будет для меня большой честью. — Трапеза вас ждет не слишком обильная, — предупредила она, — но отлично приготовленная, — и улыбнулась Адаму. — Нехватка продуктов сказывается на всех. Даже лорд-мэр ограничивает себя одним блюдом за столом. — Я буду благодарен даже за самую малость. — Сэр Томас улыбнулся. Когда Кэтрин тихонько вошла в спальню к Джону, тот спал. Он выглядел совсем больным. В сердце своем она уже изменила ему, но Джон об этом никогда не узнает. А ей нужно думать о будущем. Она любила мужа, только он покидал ее. Кэтрин от всей души желала, чтобы было иначе. Завести любовника — такого у нее никогда и в мыслях не было! Ужинали в гостиной с Джеком и Маргарет. По окнам стучали градины, в голове у Кэтрин проносились беспокойные мысли. Между ней и Томасом возникло ощутимое взаимное влечение. Она не могла оторвать от него глаз, он был так красив и совсем очаровал ее остроумием, теплотой и физической притягательностью. Каково это — делить ложе с таким мужчиной? Кэтрин часто ловила на себе взгляды сэра Томаса. Был ли его интерес к ней чисто любовным? В это она легко могла поверить. Том Сеймур всегда находился в компании женщин; вероятно, только их веселого общества он и искал. Не будоражит ли его фантазию мысль соблазнить ее? Он мог решить, будто она жаждет чувственных удовольствий, раз муж больше не способен дать их ей. Или предвкушает, что скоро она станет богатой вдовой? Если так, он будет разочарован. Джон оставит ей приличное содержание, но она при этом не станет желанной добычей для охотника за состоянием. И все же почему-то Кэтрин не могла поверить, что Томас просто гоняется за деньгами. Будь она свободна, они составили бы хорошую пару. Он всего на пять лет старше; они одного происхождения; оба попали ко двору, и между ними возникло это сильное взаимное притяжение. Кэтрин не сомневалась, что Томас чувствует то же самое. Любовь ли это, такая, о которой пишут поэты и которая заставила короля Генриха перевернуть мир с ног на голову, чтобы получить Анну Болейн? Кэтрин осадила себя: глупо мечтать о любви и браке, когда она почти не знала этого человека, и вообще неправильно, когда ее муж еще жив. Она изгнала фривольные мысли из своего ума и включилась в беседу. Уходя, Томас поцеловал ей руку и спросил: — Могу я зайти снова? Кэтрин засомневалась: что подумают дети и слуги? — Если милорду не станет хуже, я, вероятно, приеду ко двору повидаться с братом в эту субботу после полудня. Приходите в его покои часа в три, мы с удовольствием примем вас. Если меня не будет, значит моему супругу плохо. Она была уверена, что дала правильный ответ — не слишком поспешный, осмотрительный, но любезный. И если Уилл будет присутствовать при их следующей встрече, приличий никто не нарушит. — Я приду, — сказал Томас и скрылся, заметаемый снегом.
В последовавшие за этим дни Кэтрин мучилась мыслями о том, следует ли ей поощрять авансы сэра Томаса. Ангел за одним плечом подсказывал ей — не стоит, а дьявол из-за другого нашептывал — вреда от этого не будет. Совесть говорила ей, что ставить личные склонности выше морального долга — неправильно. О Боже, неужели Джон стал для нее моральным долгом?! Нет, она любила его, разве что никогда не желала так, как Томаса. Кэтрин поехала ко двору, сказав себе, мол, нет причин, почему она должна отложить встречу с братом. Маргарет составляла компанию Джону. Томас явился в покои Уилла раньше ее. Он быстро встал и поклонился, пока брат приветствовал сестру. Завязался оживленный разговор, и Уилл не скупился на вино. К ним присоединилась Дороти Брей, и вскоре они очень развеселились. Все это время Томас не сводил с Кэтрин жадных глаз и постоянно интересовался ее мнением по разным вопросам. Было ясно, что он увлечен ею самой и покорен ее скромным очарованием. Когда Томас отлучился в уборную, Уилл повернулся к ней; лицо его раскраснелось от выпивки. — Ты ему нравишься, Кейт. Это мудро — подружиться с Сеймурами. Когда принц станет королем, они будут в силе. Ты не могла сделать лучшего выбора. — Уилл! — хором воскликнули Кэтрин и Дороти. Дороти слегка шлепнула его: — Ты неисправим! Одним махом совершил измену Короне и поощрил супружескую. Тот покраснел еще сильнее: — Прости. Я не хотел, чтобы это так прозвучало. Но, Кейт, если ты правильно разыграешь свои карты… — Ей не нужно разыгрывать никакие карты! Он без ума от нее. Но ничего не может сказать, потому что ее муж еще жив. — А что он мог бы сказать? — спросила Кэтрин. — Мы знакомы совсем недавно. — Многие браки совершаются и после более краткого знакомства, — сказал ей Уилл. — Не думаю, что он задумывается о браке. Уилл улыбнулся: — О, по-моему, еще как задумывается. Появился Томас, и они умолкли. — Я что-то не то сказал? — пошутил он.
Кэтрин ушла раньше его. Ей не хотелось, но было глупо демонстрировать нетерпение. Она прошла через заиндевелый дворцовый сад, лелея в душе свое тайное счастье. Уилл считал, что у Томаса серьезные намерения, и ей этого хватало. Она подождет. Джон будет стоять для нее на первом месте, пока нуждается в ней. Замечтавшись, Кэтрин потерялась среди живых изгородей и кирпичных оград, свернула где-то не в том месте. Нашла дырку среди ровно подстриженных кустов, протиснулась сквозь нее и оказалась в прекрасном садике, где растения были высажены в форме бесконечного узла. Садик напоминал монастырский двор, потому что по его бокам имелись крытые галереи. Над аккуратными клумбами стояли на полосатых тумбах, как часовые, золоченые геральдические животные. В дальнем углу находилась небольшая квадратная каменная беседка. В ней кто-то сидел. Кэтрин слышала всхлипывания. Ей не следовало находиться здесь и вторгаться в столь интимный момент. Она повернулась к дырке в живой изгороди. Наклонившись, чтобы пролезть в нее, наступила на сучок. Раздался хруст. Человек, сидевший в беседке, встал и вышел из нее. Эту мощную фигуру Кэтрин узнала бы где угодно. — Миледи Латимер? — сказал король; он выглядел ошарашенным, а она чувствовала себя так же. — Ваше величество, простите меня! Я заблудилась, а тут эта дыра в изгороди… — Кэтрин запоздало присела в реверансе, вся дрожа. — Прошу прощения за вторжение. — Ничего, — хрипло ответил он. — Я молился, чтобы кто-нибудь скрасил мою печаль, а тут вы. Счастливое совпадение. Встаньте, прошу вас. У Кэтрин от облегчения ослабли колени, и она едва не упала, но успела вовремя поймать равновесие. — Я рада, что случайно оказалась полезной. А теперь оставлю вашу милость в покое. — Нет, не уходите, — попросил король. Когда Кэтрин осмелилась взглянуть в его лицо, то увидела на нем суровые следы возраста и горя. Он выглядел еще более старым, чем в момент их последней встречи на пиру, устроенном им для дам. — Останьтесь ненадолго и утешьте одинокого старого человека. Она считала этого человека жестоким, а его очарование — напускным. Теперь же, видя Генриха таким сломленным и разбитым, могла испытывать только сострадание к нему и удивление, что он до сих пор оплакивает свою маленькую королеву. — Чем я могу помочь, сир? — спросила она. — Вы можете ненадолго составить мне компанию, — сказал король и, к изумлению Кэтрин, взял ее за руку и повел к беседке. Там вдоль стен тянулись плюшевые скамьи, а в центре находился стол, на котором стояли серебряный кувшин и винный бокал венецианской работы. Между скамьями была установлена небольшая жаровня. — Садитесь, прошу вас, — предложил король и сам тяжело уселся напротив. — Я люблю приходить сюда на досуге и проводить немного времени в уединении, потому что редко бываю один. Хотите вина? Кэтрин неохотно взяла бокал, понимая, что уже и так много выпила. Но это смутное чувство было задвинуто на задний план сознания из-за неожиданной встречи с королем. — Надеюсь, вы в добром здравии, миледи. Я скучаю по вашей сестре, не видя ее при дворе, но ваш брат — отличный компаньон, и ваш дядя — один из лучших людей, каких я встречал. Кэтрин улыбнулась: — Я здорова, сир, но милорд недолго останется с нами. Вот почему я редко бываю при дворе. — Мне очень жаль, — печально произнес король. — Смерть забирает всех, кого мы ценим. Если любишь, тем привечаешь боль. — По-моему, лучше испытать боль, чем не познать любви, — сказала Кэтрин. Король глубоко вдохнул и унизанной кольцами могучей рукой смахнул с глаз слезу. — Сегодня год, а я не могу забыть ее. — Время излечит вас, сир. — Простите меня. Иногда я думаю, что сойду с ума. Часть меня ненавидит ее за предательство, а другая отчаянно желает, чтобы она снова была со мной. Простите, мадам, мне не следовало обременять вас своими печалями. — Он попытался улыбнуться. — Ничего, сир, мне это нетрудно, — заверила его Кэтрин, думая, что все происходящее совершенно нереально. А потом, возможно из-за выпитого вина, она сделала нечто сверхъестественное — потянулась и положила ладонь на его руку. — Вам станет легче. Пусть пройдет еще немного времени. Король не убрал свою руку, а молча сидел и смотрел на Кэтрин пронзительными голубыми глазами. — Вы добрая женщина, леди Латимер, и очень миловидная. Будь я на десяток лет моложе, то стал бы ухлестывать за вами. Но что вы теперь во мне разглядите? — Он грустно улыбнулся ей. — Я вижу очень печального человека, которому нужно взбодриться, — ответила она, убирая руку. — И вы возьметесь за это? — спросил король, беря ее снова. — Я думаю, сир, вы достаточно сильны духом, чтобы сделать это самостоятельно. Наверное, человек становится очень одиноким, когда ему приходится принимать невозможные решения, которые, и он это знает, плохо скажутся на нем самом. Вашей милости нужно утешать себя тем, что вы сделали то, что считали правильным. Король вздохнул: — Она совершила измену и поставила под угрозу наследование престола. Но хуже всего, что она предала меня. Но я не казнил бы ее, если бы это было в моей власти. Меня убедили, что она должна умереть, сказали, что я не могу проявлять снисхождение, когда других осуждали на смерть за меньшие преступления; что я не должен позволять личным чувствам влиять на мою волю; что это будет проявлением слабости, а король всегда должен быть сильным. И я не дрогнул. Однако это не мешает мне испытывать сожаления. Кэтрин оторопела. Она-то считала его человеком, который никогда ни о чем не жалеет, тем более не выказывает своих чувств. То, что Кэтрин сидела здесь и выслушивала его исповедь, было невероятным. Еще невероятнее было то, что она начала смотреть на ситуацию с его точки зрения. — Мне очень жаль, что ваша милость оказались перед ужасной дилеммой, созданной не вами. Я видела вас с королевой. Легко было заметить, как сильно вы любили ее. Предав эту любовь, она поступила очень дурно. В такое невозможно поверить. — Мой шут говорит, она сама напросилась. — Ваш шут? Король улыбнулся: — Да, Уилл Сомерс. Ему известны все тайны моего сердца. Он не церемонится со мной. Опускает меня на землю. Шутам, Кэтрин знала, сходило с рук многое, за что на других обрушился бы монарший гнев. — Мне не нравится быть вдовцом, леди Латимер, — продолжил король. — По-моему, для мужчины супружество — естественное состояние. Господу было угодно, чтобы мои браки складывались неудачно, но винить в этом можно и других, разумеется. Тем не менее я убежден, что однажды обрету истинное счастье с леди, которая полюбит меня и не замыслит предать. Вроде моей Джейн. — Лицо короля затуманилось грустью. — И я выберу ее сам, не возьму кого-то, подставленного на моем пути фракциями, которые сеют раздоры при моем дворе. Вспоминая слова леди Саффолк о том, что женщины не выстроятся в очередь, чтобы стать королевой, Кэтрин весьма осторожно подбирала слова: — Ваша милость заслуживает такой редкой супруги. Молюсь, чтобы вы нашли ее. — Это будет нелегко. — Он мрачно улыбнулся ей. — Я не возьму в жены никого, кто не поддерживает мою религиозную политику, ни убежденную католичку, ни женщину, которая слишком склонилась к ереси. — При этих словах короля сердце Кэтрин на миг замерло. — Но, — продолжил он, — я не против хорошего теологического спора, хотя немногие женщины достаточно образованны для того, чтобы принять в нем участие, а некоторые слишком упрямы. Он помолчал, слегка хмурясь. Кэтрин подозревала, что король, должно быть, вспомнил свою первую королеву Анну, и сомневалась, что какая-нибудь из следующих его жен была способна дискутировать по вопросам религии или имела склонность к подобным дебатам. Учитывая заданные королем параметры, он искал какое-то чудо. — Божественные вопросы интересуют вас, леди Латимер? — спросил его величество. Кэтрин обмерла. Но, может быть, вопрос был сделан ей просто из вежливости? Она проявляла крайнюю осторожность. Король никоим образом не мог узнать ее великой тайны. — Я люблю дружеские споры. — И вы любите обсуждать религиозную доктрину? Имел ли он причины испытывать ее? Боже, только бы он не подумал… — Да, когда хочу, чтобы мне объяснили какое-нибудь положение, — ответила Кэтрин, напрягая все силы своего отуманенного вином ума. — Я великая защитница реформ вашего величества. Меня восхитил ваш разрыв с папой. Епископ Рима преследует истинных христиан больше, чем фараон — гонитель детей Израиля. Король смотрел на нее в искреннем восхищении: — Ей-богу, миледи, вы попали в самую точку! Кэтрин расслабилась. Теперь он не будет сомневаться в ней. Ее вдруг пробрал холод, и она поежилась. Уже наступили сумерки, пора домой. — Ваша милость, позвольте мне уйти, я должна вернуться к мужу. — Конечно, — сказал он, неуклюже поднимаясь на ноги; Кэтрин тоже поспешно встала. — Такая преданность со стороны жены достойна всяческих похвал. — Король поднес руку Кэтрин к своим губам и поцеловал ее. — Разговор с вами стал для меня лекарством. Надеюсь, вскоре мне еще раз выпадет такое счастье. — Его голубые глаза внезапно потеплели. — Это будет большим удовольствием для меня, сир. Я рада, что смогла вам помочь. Король подсказал ей, как добраться до пристани; она проскользнула сквозь изгородь и поспешила к лодке. Сидя в ней и стуча зубами от холода, Кэтрин, пока ее везли к спуску у монастыря Черных Братьев, размышляла о том, какой удивительный выдался вечер. Сперва растущий интерес к ней Томаса, а потом эта замечательная встреча скоролем. Сердце ее стучало, мысли роились в голове. Томас хотел ее настолько, что готов был жениться на ней! Между ними расцветала любовь; ей даже не нужно сомневаться в этом. И король выказал исключительное благоволение к ней, которое сулило славное будущее. Кэтрин чувствовала: если после смерти Джона дела пойдут плохо, в лице короля она будет иметь друга и защитника.
 Глава 15
1543 год
Глава 15
1543 год
Она теряла Джона. Он лежал безучастный ко всему и не хотел никого подпускать к себе, кроме нее, поэтому именно Кэтрин выполняла все интимные процедуры, которые поддерживали его в чистоте и комфорте, кормила вкусными пюре с ложки и подносила кружку к его растрескавшимся губам. Он больше не мог концентрироваться на книгах, которые читала ему Маргарет, а только невидящим взором смотрел в окно. Хотя в его кашле была жизнь. Он сотрясал тщедушное тело больного и заставлял конвульсивно содрогаться.
— Он скоро умрет? — нервно прошептала Маргарет, встретившись с Кэтрин на лестничной площадке у спальни Джона.
— Думаю, да. — Кэтрин обняла ее. — Ты должна радоваться за него. Он отправляется к Господу. А я останусь здесь и буду заботиться о тебе.
— Миледи! — донесся снизу голос управляющего. — Сэр Томас Сеймур пришел повидаться с вами.
— Пожалуйста, посиди с отцом еще немного, — попросила она Маргарет, хотя собиралась сама заняться этим.
Не сняв передника, Кэтрин торопливо спустилась вниз и увидела ожидавшего в холле Томаса; он снимал с головы шляпу с крупным эффектным пером.
— Сэр Томас, добро пожаловать. Боюсь, вы застали меня врасплох.
— Это не беда, — сказал он, целуя руку Кэтрин и задерживая рядом с ней губы на несколько головокружительных мгновений дольше, чем полагалось. — Я только хотел увидеть вас и удостовериться, что вы здоровы.
— Я здорова, благодарю вас, но мой муж — нет. Боюсь, он не переживет эту неделю. — На глаза навернулись слезы, но Кэтрин подавила их.
Томас взял ее руку:
— Мне очень жаль. — Его громкий голос на этот раз прозвучал нежно. — Не стоило вторгаться к вам вот так, но, если я могу что-нибудь сделать, только скажите.
Кэтрин посмотрела ему в глаза, исполненные доброты, и поняла, что любит его и никогда не полюбит так никого другого. Теперь она знала, что любовь может быть внезапной и всепоглощающей и от этого не становится меньше. Ей хотелось оказаться в объятиях Томаса, прижаться щекой к его жесткой кожаной куртке и получить утешение. Надоело демонстрировать силу ради тех, кто зависел от нее.
— Не хотите ли присесть? — спросил Томас.
— Мне нужно вернуться к милорду, — без особой охоты ответила Кэтрин.
— Я хочу кое-что сказать вам. Это не займет много времени.
Кэтрин почувствовала, как к ее щекам прихлынул жар. Что он собирался сообщить ей?
— Пройдемте, — сказала она, направляясь в гостиную и надеясь, что Томас не почувствовал охватившего ее волнения. Что за порочная женщина — испытывать такие чувства, когда наверху ее супруг лежит при смерти!
Кэтрин резко развернулась, намереваясь попросить своего гостя уйти, но столкнулась с ним и вдруг оказалась в его руках, и он поцеловал ее, и все соображения морального толка вылетели в окно вместе с общественными условностями.
— Моя дорогая леди! — пробормотал Томас, наконец отрываясь от ее губ. — О миледи! Я знаю, вы чувствуете то же самое!
Она не могла говорить. Это происходило с ней, солидной, верной долгу Кэтрин Парр, которая никогда не позволяла себе засматриваться на других мужчин, кроме мужа.
— Я понял! — Томас глядел на нее сверху вниз ликующим взором. — Понял, как только увидел вас, что вы особенная и я хочу вас.
— Я тоже это поняла, — выдохнула Кэтрин. — С тех пор я не перестаю думать о вас. Но, Томас, это нехорошо. Я не могу предать милорда. — Она замолчала.
— Он умирает, — сказал Томас, беря ее за руку. — И вы скоро станете вдовой.
— Я пока еще не вдова.
— Мне нужно от вас только понимание, — с мольбой в голосе произнес он. — Я пока ни о чем не прошу вас официально, но если я могу надеяться…
На мгновение Кэтрин заколебалась. Как она могла устоять перед ним? Томас предлагал ей то, чего она желала, и гарантировал счастливое будущее.
— Да, вы можете надеяться, — сказала Кэтрин, удивляясь, как можно ощущать такую радость в момент великой скорби.
В середине февраля в дом прибыл гонец в королевской ливрее. — Это от его величества короля. Мне велено передать леди Латимер, — услышала Кэтрин его слова, поспешно спускаясь вниз из спальни Джона, откуда она увидела, как посыльный вошел в дом. В руках у гостя был тяжелый сверток, обмотанный снаружи шелком, который ценен сам по себе. Что в нем и почему это доставили ей? Кэтрин пришлось помочь управляющему: вместе они дотащили посылку до стола в холле. Когда она развернула несколько слоев ткани, то ахнула. Внутри обнаружилась очень красивая одежда: четыре великолепных платья из мягкого бархата и дамаста во французском, венецианском и голландском стилях, а также рукава, нижние юбки из клеёного холста и даже щедрый отрез тончайшего полотна на сорочки. Онемев от изумления, Кэтрин перебрала вещи одну за другой, а Маргарет приплясывала вокруг и восклицала: «О, смотрите!» и «Как замечательно!». В конце концов Кэтрин пришлось сесть. Она окидывала взглядом разложенные на столе наряды и пыталась собраться с мыслями. Никакой джентльмен не стал бы посылать леди такие подарки, если бы не имел в отношении ее самых серьезных намерений или не хотел соблазнить ее. И никакая леди не приняла бы их, если ценила свою честь. Но потом Кэтрин увидела письмо, упавшее на пол. Наклонилась поднять его, потом сломала печать с английскими львами и лилиями. Король написал:
Миледи Латимер, прошу Вас принять эти знаки моей благодарности Вам за доброту ко мне. Я в большом долгу перед Вами. Этот мир теперь кажется мне более приятным местом, раз в нем есть женщина, исполненная таких прекрасных качеств, как Вы. Я надеюсь, что мы очень скоро снова встретимся с Вами. Вы знаете, где меня найти. Ваш брат может сообщить мне, когда Вы приедете, и, если Вы хотите, можете присутствовать. Ваш покорный слуга. Генрих R.[162]
У Кэтрин перехватило дыхание. Это писал не мужчина, имевший намерение соблазнить. И упоминание о присутствии Уилла было прозрачным намеком. Давным-давно Анна рассказывала о чем-то подобном. Да, Кэтрин вспомнила. Сестра говорила, что, когда король ухаживал за Джейн Сеймур, их встречи проходили в присутствии родственников, чтобы не бросать тень на репутацию девушки. Боже милостивый! Неужели он серьезно задумал ухаживать за ней, имея в виду перспективу брака? Сердце ее принадлежало Томасу, уже было отдано ему, и между ними возникло такое взаимопонимание. И у нее ведь есть муж, который лежит при смерти! Это невероятно, такого просто не может быть! Ей нравился король, но выйти за него замуж? Нет. Она не сможет, никогда. Он слишком старый, слишком толстый, слишком нездоровый и устрашающе властный. Представить себе, что она ложится с ним в постель, просто невозможно. И он уже пять раз был женат. Двум своим женам отрубил головы, с двумя другими развелся, а одну потерял после родов, не говоря уже обо всех страданиях, которые выпали на долю этих пяти несчастных женщин. Может быть, кое-кто из них и получил по заслугам, но Кэтрин уже достаточно много знала о политических интригах при дворе, чтобы понимать: там имелись фракции, которые стремились свергать неугодных им королев и ставить на их место новых. Сама она уже была уязвима из-за своих тайных убеждений и тайной любви. Как Кэтрин сможет держать в секрете то и другое во дворцах, где ничего не утаишь и где сами стены имеют уши? Кэтрин не могла дольше сидеть на месте, так она была взволнована. Встав, провела пальцами по великолепным платьям — нарядам, достойным королевы. Посмеет ли она вернуть их? Нет, не посмеет. Это будет смертельной обидой, намеком, что мотивы короля не совсем пристойны. С помощью Маргарет Кэтрин отнесла одежду в свою спальню и аккуратно убрала в сундук, стоявший в изножье ее постели. Она не сможет надеть их, когда Джон так болен, а скоро вообще облачится в траур. Если когда-нибудь настанет такое время, что ей понадобится платье для визита ко двору… Но Кэтрин понимала, что это будет закодированное послание королю — знак согласия. Эти платья предназначены для того, чтобы их носила при дворе женщина, намеченная в королевы. Она не ответит на авансы его милости. Не станет встречаться с ним вновь, а будет вести себя так, будто этот подарок всего лишь знак благодарности. Однако через неделю появился Уилл, запыхавшийся и сильно взволнованный: — Кейт, король спрашивал о тебе! Я должен привести тебя в королевскую библиотеку после обеда. Поторопись, надень свое лучшее платье. — Уилл! — в ужасе воскликнула она. — Остановись. — Нет, Кейт, это ты остановись! — Они уставились друг на друга. Впервые с детских лет брат и сестра повысили голос один на другого. — Король интересуется тобой. Не знаю, как это вышло, но он превозносит тебя до небес. Я не видел его таким оживленным с тех пор, как он был с покойной королевой. Ты должна выгадать на этом. — Как ты можешь проявлять такое корыстолюбие?! Он выказал мне милость, вот и все. Я по ошибке зашла в его сад. Мы поговорили. Он прислал мне подарки в знак уважения. — Кэтрин показала Уиллу письмо. — Ей-богу! — крикнул тот. — Я полагаю, у него серьезные намерения. — Но он меня почти не знает. — Он наслышан о тебе от меня и дяди Уильяма. И когда чего-то хочет, то доходит до конца. Мнение о Кэтрин Говард он сформировал молниеносно. — Уилл, остановись! Послушай, — взмолилась Кэтрин. — Я не хочу за него замуж. Я не хочу быть его любовницей. — Она помолчала, совещаясь с собой, сказать ли брату правду, и понимая, что хотела бы объявить о ней всему миру, потом набрала в грудь воздуха и выдала: — Я люблю сэра Томаса Сеймура, мы объяснились с ним и решили, что поженимся в будущем. — Что? — Уилл опустился на скамью, качая головой. — Том Сеймур? Он темная лошадка! А ты? Ты молчала об этом. — Это оттого, что Джон, которого я люблю и уважаю, еще жив. Но мое сердце твердо. Ты поощрял меня, помнишь? «Это мудро — подружиться с Сеймурами». И должен принять мое решение. Уилл смотрел на нее как на помешанную: — Кейт, послушай меня. Союз с Сеймурами действительно был бы выгодным, но это же король! Ты можешь стать королевой. Только подумай о преимуществах, которые это принесет нашей семье и делу реформ! — Нет! — ответила Кэтрин. — Даже думать об этом не стану. — Ты сумасшедшая! — сказал он и снова покачал головой. — Нет. Я не хочу быть королевой. Нам и так неплохо. Я знаю, король пока не даровал тебе графство Эссекс, но уверена, со временем он это сделает. — Сомневаюсь, если ты ему откажешь, — с горечью проговорил Уилл. — Что я скажу ему? Он ждет тебя в два часа. Кэтрин встала: — Я поеду, не бойся. Буду очаровательна и остроумна. Но ясно дам ему понять, что это только дружба — не более. Что иное это может быть, если мой муж еще жив?
Она оделась очень тщательно — в черное дамастовое платье с алой нижней юбкой, одной из присланных королем, и новый французский капор с гранатовой каймой. С Уиллом они и словом не обмолвились, когда сели в лодку, укутанные в меха, — кончался февраль, и было холодно. Во дворце Уилл провел ее в апартаменты короля через огромный сторожевой покой и приемный зал, где поклонился пустому трону, а оттуда — в расположенные за ним личные покои. Когда они проходили, стражники подняли алебарды. Один весело приветствовал Уилла. У Кэтрин в голове сохранился смутный образ личных покоев как большой комнаты. На самом деле они состояли из множества отдельных маленьких кабинетов. — Король ценит приватность, — объяснил Уилл, нарушая молчание, — и любит находиться в тепле. Он провел Кэтрин через дверь, которая вела в более просторную комнату с позолоченным реечным потолком, обставленную столами, кафедрами и стеллажами с книгами. Король, великолепный в зеленом бархатном костюме и без шляпы — его седеющие волосы были коротко обстрижены, — сидел за столом в дальнем конце библиотеки, перед ним лежал раскрытый том, на полях которого он делал какие-то пометки. Сунув перо в чернильницу, его величество встал, чтобы приветствовать гостью. — Миледи Латимер! — Король, хромая, подошел к ней, протягивая вперед руки, а Кэтрин присела в глубоком реверансе. Когда он попросил ее подняться, она заметила, что Уилл удалился. — Ваше величество, это большая честь, — сказала Кэтрин. — Ваш визит — честь для меня, — отозвался король. — Мне очень хотелось еще раз встретиться с вами, и я решил, что лучше повидаться в более теплом месте. Это моя библиотека. Кэтрин никогда еще не видела такого количества книг. — Сир, — произнесла она, слегка задыхаясь от волнения, — мне следует поблагодарить вас за прекрасные подарки. Кажется, это слишком большая награда за столь незначительную услугу. — Вовсе нет, — сказал он, лучисто улыбаясь ей. — Вы помогли мне перейти пропасть. Более ценного дара быть не может, и я никогда не смогу в достаточной мере отблагодарить вас за него. А теперь… — Он махнул рукой в сторону стола. — Я знаю, вы любите чтение, и подумал, вам захочется увидеть некоторые из моих сокровищ. Следующие полчаса король показывал ей изысканно иллюстрированные манускрипты и печатные книги, многие были доставлены из Франции и Италии. Все переплетены в бархат или золоченую кожу и украшены королевскими гербами. На полях многих имелись пометы, сделанные рукой короля, что показывало, как глубоко он размышлял над содержанием этих фолиантов. — Вот «Хроники» Фруассара, — сказал король, беря в руки объемистый том. — Они достались мне в наследство от бабки. Библиотека оказалась настоящей сокровищницей. Забыв о своем нежелании приходить сюда, Кэтрин жадно перелистывала книги, которые давал ей король: Библии и молитвенники, труды Отцов Церкви и классических авторов Греции и Рима, рыцарские и любовные романы. — Вы слышали об Аристотеле? — азартно спросил король. — Да, сир, но я предпочитаю Цицерона, — ответила Кэтрин, беря в руки одну из своих любимых книг. — Ах! Этот великий республиканец! У него многим можно восхищаться. Но Аристотель не превзойден как философ. Он был истинным эрудитом. — Склоняюсь перед мудростью вашего величества. — А меня впечатляет широта ваших познаний, — сказал он и, повернувшись к гостье, окинул ее оценивающим взглядом. — Моя мать была убеждена, что мне необходимо получить хорошее образование, — объяснила Кэтрин. — Она не разделяла старомодного мнения, будто грамотные женщины тратят свое умение писать на любовные письма. — Ваша мать была мудрой женщиной, — заметил король. — Я всегда восхищался ею. Обеим своим дочерям я дал образование и ни разу не пожалел об этом. Чувствуя себя с ним свободнее и испытывая облегчение оттого, что он не пытается выказать к ней нечто большее, чем дружеские чувства, Кэтрин подошла к большому столу у стены, на который были небрежно свалены стопки рукописей. — Что это, сир? — Это привезли из монастырей. Я хочу сохранить наши древние учения. Кэтрин слышала, что многие рукописи были уничтожены, а потому теперь усомнилась: правда ли это? — Уже все монастыри закрыты, сир? — осмелилась спросить она. — Да, все. Их земли переданы тем, кто поддерживает мои реформы. Роспуск монастырей одобряли многие. — Он вздохнул. — Но есть и такие, кто хотел бы подтолкнуть меня к еще более решительным шагам. Я не потерплю лютеранства в своем королевстве. Моей является и всегда будет Католическая церковь. Евангелисты хотят слушать мессы на английском, но я намерен оставить богослужения на латыни. Они также считают, что я должен позволить священникам вступать в брак, но я этого не потерплю. И те, кто отвергает Реальное Присутствие Христа в евхаристии, — чистые еретики. Кэтрин пробрала боязливая дрожь, хотя она не думала, что у короля были причины подозревать ее. Странно, что он как будто хотел вернуться к римским обрядам. Вместе со всеми убежденными реформаторами Кэтрин молилась, чтобы король вел более радикальную политику. Она решила не отвечать кротким «да» на все его замечания. Это ей не по нраву, и пусть он знает. Однако Кэтрин дипломатично принялась оспаривать только наименее противоречивые из затронутых королем вопросов. — Сир, могу я спросить, почему священники должны хранить целомудрие? Я всегда считала это неестественным для людей — лишать себя отрадных сторон брака. К тому же женатый священник, вероятно, способен лучше понять заботы своих прихожан. Глаза короля загорелись. Это был его конек. — Миледи, они подражают нашему Господу, который не был женат и говорил, что они по своей воле отвергают брак ради Царствия Небесного и сосредоточиваются на Боге нераздельным сердцем. Никто не заставляет их принимать сан. Они идут на это добровольно. — Но гораздо больше людей могли бы откликнуться на зов, если бы от них не требовалось отрицание плоти. — Это так, миледи. Но в таком случае можно оспорить истинность их призвания свыше. Они продолжили беседу, и Кэтрин поняла, что ей приятно общество короля. Ее немного раздражало, что он всегда должен настоять на своем, но это естественно, решила она. Генрих не только был королем, с которым всегда и все считаются; широта его знаний поражала. Он намного превосходил ее ученостью. Наступали сумерки. Кэтрин следила за богато украшенными часами, стоявшими на столе у короля. — Вам нужно идти, миледи? — Мне жаль прерывать такой приятный визит, сир, но я не хочу оставлять надолго своего супруга. Не думаю, что ему осталось много времени в этом мире. Король напряженно поднялся на ноги: — Тогда вы должны вернуться к нему. А я буду надеяться на новую встречу в ближайшие дни. — Он взял руку Кэтрин и поцеловал. В глазах его была теплота, которая встревожила ее. Кэтрин сделала реверанс и покинула библиотеку, потом быстро пошла в комнату Уилла. Ей нужно было с кем-нибудь поговорить. Брат с разинутым ртом уставился на нее, когда она ввалилась к нему. — Я больше не должна видеться с ним, — заявила Кэтрин. — Сделав это, я поощрю его и подам ему надежду там, где не может быть никаких надежд. — Он повел себя недостойно по отношению к тебе? — спросил Уилл. — Вовсе нет. Он был дружелюбен, мягок и заинтересован. Но он желает снова видеть меня, а я не хочу, чтобы он увлекался мной. К ее досаде, Уилл выглядел довольным. — Кейт, подумай, он делает все честь по чести. Его намерения серьезны. Он хочет сделать тебя королевой! Не успела она накинуться на брата, как за спиной у нее прогремел голос: — Что? — Сэр Томас! — Кэтрин уставилась на него, стоявшего за открытой дверью. — Это правда? — требовательно спросил он, сверкая глазами. — Король ухаживает за вами? — Боюсь, что да, — сказала Кэтрин, думая, как странно, что Томас появился именно в этот момент. — А я пытаюсь объяснить своему брату, что не заинтересована в этом. — Она говорит, что у нее с вами какая-то договоренность, — прорычал Уилл. Томас швырнул на стол колоду карт, которую держал в руке: — Именно так, хотя мы не станем обсуждать это в подробностях, пока лорда Латимера не призовут к ответу. — Вы, конечно, не встанете на пути ее брака с королем, — вспыхнул Уилл. Сеймур пожал плечами: — Если она скажет, что хочет этого, я перестану докучать ей своим вниманием. Вдова вольна сама делать выбор. А миледи ясно дала понять, каков ее выбор, так что, полагаю, вы отнесетесь к нему с уважением. Уилл готов был взорваться. — Речь идет не об одних только желаниях Кэтрин. Это повлияет на всю нашу семью. — Значит, я должна стать ступенькой лестницы на твоем пути к преференциям? — спросила Кэтрин. — Ты и без меня прекрасно справляешься. Уже добрался до личных покоев; ухо короля в твоем распоряжении. Ты на пути к получению графства. Чего тебе еще? А что касается остальных членов нашей семьи, они, кажется, довольны своей участью. — Дядя Уильям считает, тебе следует выйти за короля. — Еще бы он думал иначе, но меня это касается ближе всего. Я буду сама решать, как жить дальше, и свяжу свою судьбу с сэром Томасом. — Кэтрин протянула к нему руку, и тот крепко взялся за нее. — А теперь мне действительно пора идти. Я нужна Джону. — Я провожу вас до лодки, — предложил Томас, не отпуская ее руку. — Прощай, братец, — сказала Кэтрин. — Надеюсь, при нашей следующей встрече ты будешь больше склонен проявить понимание. А вы, Томас, знайте: я никогда не отступлюсь от своих чувств к вам.
По дороге к Чартерхаус-сквер, Кэтрин углубилась в мысли о том, что сказал ей сэр Томас, когда они торопливо шли через освещенный факелами сад. Он намерен жениться на ней. Он любит ее. Сердце Кэтрин пело. Тут она увидела, что дверь дома открыта, а на крыльце стоит управляющий с фонарем в руках. — Миледи! — окликнул ее он. — Слава Богу, вы приехали! Милорду совсем плохо. Я взял на себя смелость позвать священника из церкви Святой Анны. Кэтрин взлетела вверх по лестнице. Священник был там, стоял на коленях у постели умирающего и молился. Она посмотрела на Джона. Тот кособоко сидел, опираясь спиной на подушку, веки сомкнуты, рот приоткрыт. В последнее время он всегда спал в таком положении. Как обычно, Кэтрин пригляделась, дышит ли он, и увидела, что его плечи слегка приподнялись и опали. Потом Джон затих и больше не шевелился. Всю жизнь она будет думать, что он ждал ее.
Следующие дни прошли как в тумане. Кэтрин утешала Маргарет и слуг. Теперь у нее была свобода, но это мало значило в сравнении с тяжестью вины, легшей на совесть из-за того, что она так беспечно поощряла Томаса и строила планы относительно своего вдовства. Джон хотел быть похороненным в любимом Йоркшире, но перевозка туда тела стоила слишком дорого. Джек решил, что отца следует похоронить в соборе Святого Павла, где тот часто посещал мессы, к тому же это место вполне соответствовало статусу покойного. Похороны, состоявшиеся холодным днем в начале марта, прошли будто во сне. После них, второй раз в жизни надев вдовий траур, а вместо обычного головного убора — вимпл, похожий на монашеский плат с подбородником, Кэтрин сидела в гостиной вместе с Джеком и Маргарет, а поверенный Джона читал завещание. Все отходило Джеку, новому лорду Латимеру, которому уже двадцать три — вполне взрослый мужчина. Кэтрин должна была опекать восемнадцатилетнюю Маргарет, получая доходы от Стоу и других владений рядом с Йорком, пока девушке не исполнится двадцать один год. Джон завещал Кэтрин свой лучший серебряный набор для умывания — таз и кувшин, две прекрасные серебряные бутыли и Новый Завет, который она всегда будет беречь. Кэтрин осталась достаточно обеспеченной — с собственными имениями и хорошим доходом. Она радовалась, что так много принесет в их с Томасом брак. Но в тот момент не могла углубляться в эти мысли. Ей было достаточно знать, что любимый ждет ее. Джек удивил Кэтрин. — Я переезжаю в Снейп, — сказал он ей. — Для отца это место утратило привлекательность из-за произошедших там событий, но мы, Невиллы, родом с Севера. Буду очень рад, если вы решите остаться здесь. Доброта и внимательность были для Джека совсем не характерны, и этот поступок свидетельствовал, что глубоко в душе он уважал Кэтрин и, вероятно, испытывал благодарность к ней за то, что она была ему хорошей мачехой, несмотря на все доставляемые им проблемы. Она осталась. Могла бы уехать в одно из своих поместий, но хотела быть в Лондоне, рядом с двором, чтобы видеться с Томасом, когда пройдет приличествующий овдовевшей женщине срок. Уилл кончил тем, что проводил в доме на Чартерхаус-сквер больше времени, чем при дворе. После смерти Джона он поспешил выразить сестре соболезнования, и их ссора была забыта. Нуждаясь в компании, поскольку тосковала по Джону больше, чем предчувствовала, Кэтрин стала устраивать небольшие встречи в своем доме, подавала вкусную еду и приглашала единомышленников; с большинством этих людей ее познакомил Уилл. Среди них был Майлс Ковердейл, помогавший переводить Библию на английский. И Хью Латимер, радикально настроенный духовник герцогини Саффолк, тоже стал желанным гостем на этих собраниях. Латимер занимал пост епископа Вустера, но претерпел краткое заключение в Тауэре за оппозицию реформам короля, которые считал недостаточно прогрессивными, и был вынужден оставить епископство. Сын разбогатевшего фермера, образованный человек, по убеждениям склонявшийся к лютеранству, как подозревала Кэтрин, Латимер с удовольствием проповедовал перед ее гостями. Никто не признавал себя протестантом. Все сознавали, насколько это опасно. Суть речей сводилась исключительно к реформам; даже король не мог бы поспорить с этим. После кончины Джона прошло три недели, когда к Кэтрин заглянул сэр Томас Сеймур. Он смахнул с головы берет с пером и поклонился. — Я пришел выразить вам соболезнования, миледи, — заявил он, появившись в гостиной. Только закрылась дверь за управляющим, гость бросился к хозяйке и взял ее за руки. — Как вы, Кэтрин? — Впервые Томас назвал ее по имени. Нужно было отослать его. Оба они знали, что это не просто визит вежливости. Но она чувствовала себя такой одинокой, ей было тягостно это заточение в доме скорби. — Мне гораздо лучше, когда я вижу вас, — сказала Кэтрин. — И вы свободны, — подхватил Томас, глядя на нее с неприкрытым вожделением. — Теперь вы сами можете делать выбор. — Я уже сделала его, — ответила она, и он обнял ее.
От короля пришло письмо с соболезнованиями, очень вежливое и благочестивое, за исключением последней строки: «Писано рукой того, кто стал бы для Вас утешением». Кэтрин не сомневалась в истинном значении этих слов. Через неделю за этим посланием последовало другое, в котором король сообщал ей, что у него болели ноги и он не выходил из своих покоев, но теперь ему лучше. Генрих добавил несколько поэтических строк, сочиненных для нее. Это было одно из худших произведений, которые ей доводилось читать.
Кэтрин удивилась, получив запоздалое письмо с соболезнованиями от своей невестки Энн. Они никогда не были близки, но Энн, казалось, искренне печалилась за нее. Однако по мере чтения выяснилось, что у этой особы имелся и другой, тайный мотив отправить свое послание. Я знаю, у Вас нет оснований хорошо думать обо мне, но надеюсь, Вы понимаете, что значит — любить кого-то так сильно, что жизнь в бедности становится неизмеримо предпочтительнее разлуки с любимым. Мы счастливы вместе, и наш ребенок здоров и весел. Я никогда не предъявлю никаких претензий Уильяму, и оба мы, я уверена, желаем оставить прошлое позади, но есть одна леди, которая из ненависти строит против меня козни. Не верьте тому, что услышите обо мне. Прощайте. Письмо как будто писала не та Энн, которую Кэтрин знала, и она снова удивилась, почему эта девушка была так холодна к Уиллу. Произошла ли между ними какая-то размолвка? Стоило ли ей винить брата в том, что их брак распался? Или этот Джон Люнгфилд вовсе не был подлым соблазнителем, каким представил его Уилл, а на самом деле предложил Энн настоящую любовь? Кэтрин хотелось бы получить ответы на эти вопросы, но пока не стоило копать слишком глубоко. Сейчас лучше было не ворошить прошлое.
В середине марта Томас Сеймур явился в дом на Чартерхаус-сквер сильно рассерженный. — Кто-то проболтался! — выпалил он, как только они с Кэтрин остались одни. — О чем? — спросила она, шокированная тем, что Томас явился к ней без приглашения, несмотря на то что она настойчиво просила его воздержаться от визитов к ней. — Король знает о нас! — Не может быть! Он что-нибудь сказал? — Нет, но меня отправляют с посольством в Брюссель. От меня избавляются! — Он стукнул кулаком по столу. — О нет! — вскрикнула Кэтрин. — Когда вы уезжаете? — В мае. — Томас, — сказала она, немного успокаиваясь и пытаясь мыслить разумно, — если бы король считал вас соперником и хотел устранить, то отправил бы с глаз долой немедленно! — (Тот смотрел на нее, тяжело дыша.) — О наших планах известно только моему брату, но он никогда не выдал бы нас. — Нет? Он хочет, чтобы вы вышли за короля. У него есть веские причины желать моего удаления от двора. — Он не зашел бы так далеко. Я его знаю. Томас, будьте разумны. Вы провели в Англии два месяца. Вас неизбежно рано или поздно отправили бы в новое посольство. Вы придаете этому слишком большое значение. Король не дал мне и намека на какие-то подозрения. — Он и не даст. Будет вести хитрую игру. Но, может, вы правы. Мне невыносима мысль о разлуке с вами. Если я уеду, поле останется за ним. — Вы забываете, что слово тут за мной! — упрекнула его Кэтрин. Томас поспешил крепко обнять ее и жадно поцеловал. Ощущение было волшебное, и она растаяла в его объятиях. На этот раз ей было невыносимо горько, ведь вскоре они расстанутся на неопределенное время, и Кэтрин не знала, как переживет это.
На следующий день на обед пришел Уилл, и был он в каком-то странном настроении, когда объявил: — Меня вводят в Тайный совет. Кэтрин обняла брата, говоря: — Это заслуженная честь! Я горжусь тобой. Дороти, должно быть, рада. — Она довольна, — ответил он, хотя сам вовсе не выглядел таким ликующим, каким мог бы быть, и прошел вслед за Кэтрин в зал, где стол был накрыт на двоих, так как Маргарет гостила у подруги. Угощаясь очень нежной ягнятиной, они обсудили новые обязанности Уилла и насколько он достоин оказанного королем доверия. Среди множества людей, добивавшихся преференций, он сумел выделиться и получить свое. Когда подали десерт, Кэтрин прямо спросила брата, говорил ли он королю о них с Томасом, но тот все отрицал. — Что бы я ни думал по поводу твоего с ним брака, я не предам твоего доверия ко мне, — заверил ее Уилл, отрезая себе кусок смородинового пирога. — То же самое я сказала Томасу, — сказала Кэтрин и замолчала. — У тебя что-то на уме. — Ты слишком хорошо меня знаешь. — Уилл скривился и опустил ложку. — Дело в Энн. Она теперь, похоже, спит с каждым встречным и заявляет всем подряд, что ее ребенок — от меня и должен быть объявлен моим наследником. Я этого не допущу! Кэтрин собралась было прервать его, вспомнив, что написала ей Энн, но Уилл не дал ей шанса. — Я намерен положить конец ее похождениям. Я собираюсь развестись с ней и затребовать у короля права на всю ее собственность. — Развестись? Получение акта в парламенте обойдется тебе в целое состояние! И станет публичным позором для Энн. Подумай, какой разразится скандал! Помнишь бурю возмущения, поднявшуюся, когда лорд Боро добился акта парламента, которым дети его невестки были объявлены бастардами? Уилл строго взглянул на сестру: — Супружеская измена — это серьезное преступление. Кэтрин встала, сильно взволнованная, и подошла к окну: — Кто сказал тебе, что Энн без конца заводит себе любовников? Уилл мгновение колебался. — Дороти. Кэтрин накинулась на него: — А ты не думаешь, что у нее могут быть скрытые мотивы? Если ты разведешься с женой из-за супружеской измены, то сможешь жениться на ней. Уилл явно разозлился: — На кону стоит моя честь, Кейт, а не желания Дороти. Я напишу петицию королю сегодня же. — Но ты спрашивал саму Энн или еще кого-нибудь, правда ли это? — По кислому виду Уилла она поняла, что нет. Кэтрин задумалась, стоит ли рассказать брату о письме Энн? Ей не хотелось, чтобы он подумал, будто она встает на сторону невестки. Уилл и без того уже был сердит. Кэтрин не особо симпатизировала Энн, однако действия Уилла могли довести ее до еще большей нужды, чем та, в которой она уже жила. А потому Кэтрин решила, что сейчас же отправится к королю, пока Уилл не успел обратиться к нему с прошением. Она прождала до полудня; после ухода брата прошел час. Двор кипел жизнью. Кэтрин оделась нарядно, чтобы ее пустили в главный сторожевой покой. Он был полон просителей, и ей пришлось пробивать себе путь сквозь толпу, чтобы добраться до стражников, стоявших у дверей в приемный зал. — Прошу вас, доложите его величеству, что леди Латимер просит о встрече с ним. — О том же просят и многие другие, — ответил один из стражников, едва взглянув на нее. — Думаю, мы должны пустить эту леди, — сказал ему другой и подозвал пажа, который провел Кэтрин через личные покои и попросил обождать в маленьком, но богато обставленном кабинете. Вернулся он почти сразу. — Сюда, прошу вас, миледи. Король принял ее в небольшой комнате, отделанной деревянными панелями с рельефным декором «складчатая ткань». Забинтованная нога лежала на пуфике, атласная обивка которого была вся в пятнах. На столе и шкафу лежали стопки книг и бумаг, на подоконнике стоял маленький глобус, рядом с ним — вёрджинел и лютня. Пока его милость откладывал книгу и поднимался, чтобы приветствовать гостью, она заметила на столе пару очков в серебряной с золотом оправе. Король воспользовался ее советом! — Ваше величество! — сказала Кэтрин, вставая перед ним на колени. — Миледи Латимер! — воскликнул он, широко улыбаясь. — Какое неожиданное удовольствие! Прошу вас, встаньте. Что я могу для вас сделать? — Я хочу просить о милости, сир. — Кэтрин осталась на коленях, решив, что не встанет, пока он не исполнит ее желание. Она вкратце рассказала ему о планах Уилла. — Прошу вас, сир, — взмолилась Кэтрин, — оставьте леди Парр какие-нибудь средства к существованию. Она думала, что король мигом исполнит ее мелкий каприз, но, подняв взгляд, увидела, что его величество хмурится. — Увы, мадам, закон предусматривает для знатной женщины, которая так забывается, лишение имущества, если супруг не простит ее. — Ваше величество, вы стоите выше закона! — воскликнула Кэтрин. — Вы один можете удовлетворить прошение моего брата. — Если он попросит у меня все ее имение, я обязан согласиться. В подобных случаях воля супруга выше воли короля. — Тогда я попробую упросить брата, чтобы он простил ее, — сказала Кэтрин, вставая. — Если он согласится, я выполню вашу просьбу, — пообещал король. — Я пойду к нему, — сказала она, — с вашего позволения. — И возвращайтесь потом, миледи, — попросил он, вставая. — После пяти часов. До того у меня встреча с Советом. Вы можете поужинать со мной, если хотите. — Ваша милость оказывает мне слишком большую честь, — отозвалась Кэтрин. — Я вернусь, если вам угодно. — Она была в долгу перед королем, так как он, кажется, искренне хотел помочь ей. Кэтрин поспешила в покои Уилла и перехватила его по пути на совещание — его первое появление в Тайном совете. — Пойдем со мной, — сказал он, и Кэтрин, не отставая от брата, рассказала ему о том, что сообщила Энн в письме. — Обстоятельства не таковы, какими их представила тебе Дороти. — И ты веришь Энн? — возразил Уилл. — Я знаю, что она доставила тебе проблемы, но надеюсь, ты проявишь сочувствие и оставишь ей какие-нибудь средства к существованию. — С чего бы это? — Уилл, — Кэтрин запыхалась, силясь поспеть за ним, — Дороти могла и солгать. Я не оправдываю дурное поведение Энн, только хочу сказать, что не стоит еще больше отягчать ей жизнь и позорить ее в угоду кому-то другому. Клевета противозаконна. Я готова использовать свое влияние на короля, чтобы Дороти подвергли допросу, и тогда, даст Бог, мы узнаем правду. Уилл вдруг остановился: — Ты взяла меня за яйца, Кейт. Мы оба знаем, что король сделает для тебя все, что в его власти. Ладно, ты не оставила мне выбора. Я проявлю сочувствие. Возьми это и порви. — Он сунул ей в руки свернутый в трубку документ. Это было прошение к королю. — Ты поступаешь как благородный человек, — сказала Кэтрин. — Скорее поддаюсь шантажу, — ответил Уилл, но на губах у него играла легкая улыбка.
В середине апреля парламент даровал Уиллу развод, издав акт, устанавливающий по закону супружескую неверность Энн и объявляющий ее ребенка и всех будущих детей, рожденных вне брака, бастардами, не имеющими права наследовать имения ее мужа. Было решено, что Уилл удержит за собой всю собственность в графстве Эссекс, а Энн будет получать с нее небольшой доход. Не было особенных сомнений, что он скоро получит герцогство, однако парламент внес оговорку, что ни Уилл, ни Энн не могут снова вступить в брак при жизни бывшего супруга. Это был удар для мужчины, особенно пэра, владеющего землями и нуждающегося в наследнике, но с этим ничего нельзя было поделать. Когда Кэтрин в следующий раз заглянула в комнату Уилла, то неожиданно застала его за столом с красивой молодой женщиной, которую прежде никогда не видела. Он представил ее как Элизабет Брук, дочь лорда Кобема. Семнадцатилетняя — почти вполовину моложе Уилла — девушка была изысканно одета, и когда Кэтрин взглянула в ее игривые глаза и увидела, с каким обожанием она смотрит на Уилла, то поняла: это то, что ему нужно. А также обрадовалась, что Дороти Брей дана отставка.
 Глава 16
1543 год
Глава 16
1543 год
Кэтрин постепенно приучала себя к мысли о вдовстве и тем не менее каждый день деликатно балансировала между двумя своими поклонниками. Король продолжал выказывать к ней доброту, вел себя галантно, но бросал неприкрытые намеки, что хотел бы стать для нее больше чем другом, при этом уважая тот факт, что она в трауре. Томас — теперь он был для нее Томом — становился все более пылким, злился из-за грядущей разлуки с ней и требовал, чтобы Кэтрин сообщила королю о данном ему слове. Успокоить его было трудно. Он не понимал ее боязни показать монарху, что она не хочет его так, как он хочет ее, и тем обидеть в момент, когда Уилл напряженно ждал объявления о передаче ему графства Эссекс.
У короля, конечно, были преимущества. Все карты находились у него в руках. Он мог позвать Кэтрин к себе, когда хотел; имел возможность дарить ей дорогие украшения; чтобы порадовать ее, сделал Уилла рыцарем ордена Подвязки, а это самый высокий рыцарский титул, какой он только мог предложить.
— Я зову его своей Прямотой, — сказал король Кэтрин. — Он верный и честный человек и никогда не утаивает от меня то, о чем, по его мнению, мне следует знать, даже если я не очень-то хочу это слышать.
Его милость также сделал Уилла бароном Харт в Нортгемптоншире, потом назначил его лордом-смотрителем Шотландских марок. Король раскладывал приманки, и Кэтрин понимала: он ясно давал понять, как много готов сделать для ее семьи, если она отнесется к нему благосклонно. Теперь у нее не было сомнений, что его величество думает о браке и просто тянет время.
Король не показывал виду, что знает о ее встречах с Томом. Дни шли, и Кэтрин начинала жалеть, что не сказала ему правду с самого начала. Но теперь уже поздно. Он смертельно обидится, если узнает, что она встречается с другим мужчиной. А Том между тем становился все более строптивым и вспыльчивым. Его отъезд за границу станет для нее едва ли не облегчением, хотя она знала, что будет ужасно скучать по нему. В начале мая Уилл отправился на Север, чтобы занять новый пост. Шотландцы упорно отказывались отдавать свою маленькую королеву замуж за принца Эдуарда, и король Генрих решилнадавить на них, продемонстрировав силу. Однако Уилл почти не участвовал в военных операциях; командование было поручено лорду Хартфорду. В письмах из лагеря в Дарлингтоне брат жаловался Кэтрин, что там даже бумажной работы было мало, хотя герцог Саффолк встретил его очень приветливо и явно был в курсе интереса короля к его сестре. Без сомнения, он полагал, что Уилл скоро станет шурином короля, а значит, с ним следует обращаться соответственно. Но, кроме того, герцог держал под контролем все контакты с Советом в Лондоне, и Уилл чувствовал себя ущемленным в правах. Он даже просил отца Катберта, чтобы тот нашел ему какое-нибудь полезное занятие, но епископ ничем не мог помочь и сказал Уиллу: мол, пусть благодарит короля за все, что тот для него сделал. Анна и Герберт были благодарны. Милость короля достигла их в форме дарения земель в Уэльсе. Кэтрин понимала, что все это из-за нее. Она чувствовала себя виноватой, потому что не хотела ни его внимания, ни его любви, и все же была счастлива, что дорогие ей люди получают выгоды. Она стала лицемеркой и ненавидела себя за это. Однажды вечером после ужина с королем Кэтрин шла по саду в Уайтхолле в сопровождении одного из королевских церемониймейстеров и увидела направлявшегося к ней Тома. — Миледи Латимер! — Он отвесил ей изысканный поклон. Глаза его были полны страсти. Кэтрин молилась про себя, чтобы ее провожатый этого не заметил. — Сэр Томас, как приятно видеть вас, — оживленно проговорила она. — Простите, но мне нужно успеть поймать прилив. — К чему, миледи? У вас ведь нет больного супруга, который в вас нуждается, а слуги, как я догадываюсь, покормят вашу собаку. — Кэтрин чувствовала, что от него пахнет спиртным. В последние дни он все время ходил на взводе. — Уделите мне несколько минут. Обычно вы не так холодны. Кэтрин готова была размозжить ему башку. Церемониймейстер с любопытством смотрел на них. — У меня ужасно болит голова, — солгала она, — и мне хочется лечь. Настроение Томаса мгновенно изменилось. — Простите меня. Мне очень жаль, миледи. Надеюсь, мы скоро увидимся. Кэтрин выдавила из себя улыбку и прошла мимо. Неужели он не заметил бляху с тюдоровской розой на ливрее ее проводника? Конечно заметил! Ему просто нравилось провоцировать ее, а терпение, которым он и без того не отличался, явно у него истощалось. Она задумалась, получит ли после этой нежданной встречи новое приглашение от короля? Его величество наверняка разгневается, решив, что Кэтрин завлекла его в ловушку. Такой горделивый мужчина не может расценить это иначе как предательство, которое выглядит еще более ужасным оттого, что его соперник гораздо моложе и обладает жизненной силой и красотой, которых сам король теперь лишен. Кэтрин сильно переживала. Ей станет легче, если она будет избавлена от новых встреч с королем. Это решило бы ее проблемы. Кэтрин хотела только выйти замуж за Тома; и хорошо бы Уилл получил свое графство. Однако через неделю после этого инцидента в саду посланец короля прибыл в ее дом и спросил, не соблаговолит ли она присоединиться к его величеству для поездки на барке по Темзе. Значит, король не гневался на нее. Сидя на мягком сиденье в отделанной бархатом каюте с раздвинутыми кожаными оконными шторками, Кэтрин чувствовала себя неуютно, несмотря на то что ее щеки ласкал теплый ветерок, а на носу лодки нежно играли менестрели. Когда она появилась, король выглядел печальным и задумчивым; казалось, никакие ее шутливые слова не могли развлечь его. Он сидел рядом с ней, пропуская мимо ушей ее болтовню и время от времени тяжело вздыхая. Наконец Кэтрин даже подумала, что он, верно, знает о Томе и потому обижен. Она умолкла, глядя на проплывающий мимо пейзаж и слушая ритмический плеск весел, толкавших барку к Ричмонду. Кэтрин решила, что должна открыть королю свое сердце. Она действительно не хотела становиться королевой Англии. Ей слишком дорога была свобода. Она любила Тома и не имела других желаний, кроме как стать его супругой. — Простите, я нынче неважный компаньон, — вдруг проговорил король, не успела Кэтрин открыть рот. — Епископ Гардинер сегодня особенно сильно досаждал мне. Она вспомнила, как его милость однажды обмолвился, что недолюбливает востроглазого Гардинера, потому что тот слишком агрессивен и надоедлив. Сама Кэтрин никогда лично не общалась с епископом Винчестерским, но видела издалека его высокую представительную фигуру и была наслышана о репутации этого человека. Ее друзья высмеивали его как фанатика, закостеневшего в старых обычаях и яростно нападавшего на несогласных с ним. — Могу я узнать, что он сделал? — спросила Кэтрин. — Давил на меня, как обычно. Произнес напыщенную речь о том, что парламент должен издать акт в поддержку истинной религии. «Истинной, по мнению Гардинера», — подумала Кэтрин, озадачиваясь вопросом: во что это выльется для тех, кто держится одних с ней убеждений? — Я бы отправил его собирать вещи, если бы не был согласен с ним, — прорычал король. — Но я не люблю, когда мне диктуют условия! — В чем ваша милость согласны с ним? — спросила Кэтрин, пытаясь не выдать своей особой заинтересованности в этом деле. — Почти во всем! — скривившись, признался король. — Мы оба сходимся в том, что только люди, получившие на то мое дозволение, должны иметь право читать Библию на английском и никто другой не должен брать на себя смелость обсуждать ее открыто в церкви или собрании. Наказанием за ослушание будет сто месяцев тюрьмы. Сердце Кэтрин упало. Гардинер и правда переводил часы назад и, делая это, лишал многих людей одного из ценнейших даров Божьих. — Понимаете, леди Латимер, — продолжил король, — выяснилось, что у каждого человека есть свое мнение относительно Писания, и каждый считает себя знатоком, понимающим его лучше других. Я не допущу, чтобы всякие невежды перевирали Слово Божье, как им вздумается! В его словах был смысл. Однако Кэтрин не считала ни себя, ни многих других людей обоих полов невеждами. — Я согласен с епископом, — говорил меж тем король. — Простолюдины не получают пользы от чтения Библии на английском. У них нет ни образования, ни ума, чтобы понять ее. Поэтому я решил, что никакая женщина, ремесленник, слуга, фермер, работник или йомен отныне не могут сами читать Писание ни в церкви, ни у себя дома. Слово «женщины» уязвило Кэтрин. Это было ужасно. Всего несколько лет назад они получили эту великую привилегию, а теперь ее у них отнимали! — Никакая женщина? — забывшись, эхом повторила за королем Кэтрин. — Но, сир, женщины вроде меня читают Писание ради даруемого этим утешения и для более глубокого понимания нашей веры. — В том-то и проблема, миледи, — с укором, но не слишком строго произнес король. — Женщины не обладают таким умом, как мужчины, чтобы разбираться в подобных вещах. Некоторые могут придумать глупые объяснения Писания. — Я, как обычно, полагаюсь на мудрость вашей милости, но некоторые из нас образованны и получают большое удовольствие от чтения Слова Божьего. Неужели нас нужно лишить этого утешения? Вы сами согласились бы отказаться от него? Кэтрин опасалась, что зашла слишком далеко, но король лишь задумчиво теребил бороду. — Ваши слова не лишены смысла, миледи. Я внесу исправление в черновик, чтобы разрешить благородным леди читать Библию. Но — и я должен подчеркнуть это — они не должны читать ее публично или другим людям. Пусть читают только сами. Кэтрин не стала давить на него сильнее. — Ваша милость одновременно мудры и великодушны. — Был бы и Гардинер таким же! — фыркнул король. — Он хочет избавиться от всех реформистских новшеств, особенно в богослужении. Я предпочитаю срединный путь — бороться со злоупотреблениями в моей Церкви, но держаться догматов католической веры. Важно сохранять баланс между воюющими фракциями. Когда я снова женюсь, то выберу себе леди, которая будет представлять этот срединный путь. Кэтрин обмерла. Она поняла, что король говорит о ней, вдове католика, сестре и племяннице реформистов. Пора было сменить тему! — Я прочла книгу вашей милости в защиту таинств, — сказала она, когда вдалеке показались башенки дворца Гринвич. Король улыбнулся: — Епископ Рима даровал мне за это титул Защитник Веры. Ха! Мало же он знал о том, как страстно я возьмусь защищать веру, которую осквернили он и ему подобные. Честно признаться, я не понимаю, почему люди плохо относятся к моим реформам. Я никогда не подпишусь под доктринами Лютера, каждый день слушаю мессу. Я — преданный слуга Господа, защищаю Реальное Присутствие Христа в евхаристии, верю, что мы достигаем Небес добрыми делами, которые совершаем в этом мире, а не одной только верой. Все, к чему я стремлюсь, — это чтобы люди жили в единении и любви к Христу. Разве я прошу слишком многого, леди Латимер? Ну, для некоторых людей это было так, учитывая, что он закрыл монастыри, приказал разрушить святилища и статуи святых, а также смёл давно установленные религиозные традиции. Тем не менее Кэтрин поддерживала его во всех этих мерах. Это были необходимые изменения. — Вас критикуют немногие. Большинство подданных аплодируют вашим реформам. Есть только несколько глупцов, которые высказываются против них. — Опасных глупцов! — рявкнул король. — Одни ничего не понимают, — продолжила Кэтрин. — Другие пребывают в смятении. Людям нужна опора. Изменения произошли так быстро — и это правильно, так как они были необходимы. Возьмите, к примеру, чтение английской Библии. Только что оно было разрешено и вдруг ставится вне закона. Я не критикую вашу милость, но думаю, людям нужна бо́льшая ясность. — Что ж, они ее получат! — заявил король. — Я собираюсь опубликовать книгу — «Королевская книга», таково будет ее заглавие, — в которой установлены догматы нашей реформированной Церкви, обязательные для всех. Она заставит замолчать тех, кто заносчиво позволяет себе искажать Писание. А несогласных я намерен подавить. Они сидели молча. Гребцы разворачивали лодку обратно к Уайтхоллу. Кэтрин радовалась, что ей удалось убедить короля не отбирать у нее право читать английскую Библию. Какое счастье, что она застала его в этот решающий момент. Ей с трудом верилось, что она, смиренная Кэтрин Парр, оказалась способной повлиять на короля. Как же это замечательно! Этот успех сулил прекрасное будущее. И все же на сердце у Кэтрин было тяжело: новая книга и подготовленный акт парламента свидетельствовали о возврате короля к строгому католицизму. Кто подталкивает его к этому? Епископ Гардинер! И к чьему мнению король прислушается? Кто мог бы стать противовесом этому пагубному влиянию? Ответ вдруг пришел к ней сам собою с ослепляющей ясностью. Это была она.
Душистым вечером в конце мая накануне отъезда из Англии к Кэтрин пришел Том. Она приказала накрыть ужин в гостиной, где они могли уединиться; надела вечернее платье с низким квадратным вырезом, которое шло ей больше других, и простую нитку жемчуга, а вимпл с подбородником сменила на французский капор. Приятно было освободиться от этих удушающих складок. Настроение у Тома постоянно менялось: он то злился, что его отсылают прочь, то играл роль пылкого влюбленного. — Не знаю, как я буду жить без вас, — заявил он, откладывая нож и оставляя почти нетронутой изысканную еду. — Не представляю, когда я вернусь и мы снова увидимся. Кэтрин хотелось заплакать. Том ничуть не облегчал для нее разлуку. Она решила быть с ним сегодня как можно мягче, пусть увезет с собой теплые воспоминания о ней. — Мы будем писать друг другу. Можем делать это каждый день. — А король тем временем будет обхаживать вас, и вы не сможете устоять. — Том едва сдерживал эмоции. — Мой дорогой, я хочу выйти замуж за вас, мое сердце отдано вам! — возразила Кэтрин. — Пренебрегать желаниями короля опасно, — сказал ей Том. — Тогда я буду выгадывать время, обнадеживая его. Анна Болейн делала так. Сколько она не подпускала его к себе? Шесть лет? К тому времени вы вернетесь. — Кэтрин натужно улыбнулась. — Теперь он не станет ждать так долго. У него нет времени. Кэтрин огляделась, проверяя, плотно ли заперта дверь. Представлять себе смерть короля — это уже измена. Она понизила голос: — Тогда Господь может решить за нас эту проблему. И подумайте, если я выйду за него, то скоро стану богатой вдовой и мы попадем в еще лучшее положение для вступления в брак. — Вы считаете, я не думал об этом? Но мне невыносима мысль, что вы станете его женой, ляжете с ним в постель. Боже! — Том встал и поднял Кэтрин на ноги, сжимая в объятиях. — Я не хочу, чтобы он опередил меня. Отдайтесь мне, Кейт! Станьте моей сегодня — и навсегда! — Том, — выдохнула она после того, как он страстно поцеловал ее. — Том, послушайте. Я бы отдалась вам, но боюсь беременности. Подумайте, какой поднимется скандал! Вероятность этого была мала, но всякое случается. — Это отвратит короля! — Глаза Тома дико сверкали. — А что станет с моей репутацией? Она будет повергнута во прах! Я не смогу показаться ни при дворе, ни в Лондоне. Руки Тома крепче сжали ее. — Я буду осторожен. Только будьте моей. — Вы перестанете уважать меня, — сказала Кэтрин. — Если любите, то должны беречь мою честь. Том вздохнул, целуя ее волосы: — О Боже, Кейт, за что нам такие мучения? — Господь проверяет нашу любовь. — Она впитывала в себя ощущение телесной близости с Томом, отправляя его в тайники памяти перед грядущей разлукой. — Я не сомневаюсь, это укрепит нас. Остаток вечера они провели в объятиях друг друга. Кэтрин позволила Тому целовать ее грудь над вырезом платья, но ничего больше, несмотря на страстное желание принадлежать ему целиком. Она познала брачную жизнь с двумя мужьями, но понимала, что с Томом это будет бесконечное блаженство. Кэтрин никогда еще не хотела так сильно ни одного мужчину. Часы на каминной полке показывали одиннадцать, когда они наконец отстранились друг от друга. Кэтрин встала, оправила платье и подняла с пола капор, который скинул туда Том. Она налила им вина, и они выпили его в молчании. Тоска закрадывалась ей в сердце. — Ну вот, — наконец сказала Кэтрин, — теперь прощайте, любовь моя. Да пребудет с вами Господь. — О Кейт! — простонал Том и снова поцеловал ее. — Останьтесь верны мне. Я поспешу вернуться к вам, как только смогу. — Идите, — молящим голосом проговорила она. — Идите скорее, пока у меня хватает сил отпустить вас.
Не прошло и двух дней после отъезда Тома, а время для Кэтрин уже начало тянуться убийственно медленно. Он, наверное, еще не добрался до Дувра. Пройдут недели, даже месяцы, прежде чем они увидятся вновь. Она решила заняться домашними делами и взялась руководить весенней уборкой дома. Одетая в передник и с простой льняной шапочкой на голове, Кэтрин едва услышала стук в дверь, за которым последовало объявление о прибытии гонца от короля. Его величество спрашивал, не согласится ли она посмотреть вместе с ним игру в теннис, а потом пообедать. Кэтрин побежала наверх сменить одежду и выбрала одно из платьев, подаренных ей королем. Оно было слишком роскошным для теннисного матча, но не для обеда, к тому же так она продемонстрирует, что ценит внимание монарха. Только сев в лодку и оказавшись на середине реки, Кэтрин осознала, что Генрих может расценить ее наряд как знак поощрения его ухаживаний. Но возвращаться было поздно. Она с удовольствием следила за игрой, кричала вместе с королем, когда его защитник выигрывал. — Видели бы вы меня в свое время, леди Латимер! Я бы всех их одолел. Увы, теперь я могу быть только зрителем. Но пользуюсь преимуществом следить за матчем в хорошей компании. — Он искоса глянул на нее и улыбнулся. Обед был подан в богато обставленном кабинете. Слуг не было, и они сами накладывали себе холодное мясо, рыбу, салаты, фрукты и желе. Во время трапезы говорили о теннисе и состязании в стрельбе из лука, которое король запланировал на послеобеденное время в надежде, что Кэтрин присоединится к нему. — Посмотрим, как вы опытны в этом деле! — усмехнулся он, потом замолчал, и взгляд его стал более серьезным. — Миледи Латимер, — начал король, вытерев салфеткой рот, — вы наверняка знаете, что я держусь высокого мнения о вас. Вы очень миловидная дама, наделенная многими добродетелями и природными дарами, все это мне весьма приятно. С вами интересно разговаривать. От вас исходит ощущение доброты и мягкосердечия. Кэтрин почувствовала, что заливается краской. — Ваша милость, вы мне льстите. Боже правый, к чему он клонит? — Никогда я не был льстецом, — запротестовал король. — Я человек прямой. Говорю то, что думаю. А думаю я, что вы женщина, которую я могу уважать, и что вы стали бы прекрасной королевой Англии. — Генрих потянулся и взял ее за руку, а она сидела напротив и не смела вдохнуть. — Леди Латимер, я прошу вас стать моей женой. Кэтрин боялась этого момента и, хотя ожидала его, все равно не знала, как реагировать. Но она должна что-то ответить. — Сир, я крайне удивлена. То есть я недостойна. Ваша милость оказываете мне слишком большую честь. Он сжал ее руку. Голос его был мягким. — У вас есть все необходимые качества, и мы с вами хорошо ладим, разве нет? Я имел много разочарований в браках и нескольких недостойных жен, но с вами, я уверен, мы хорошо сойдемся. — Честно говоря, я не знаю, что ответить вашему величеству. Я недавно овдовела. И не собиралась в скором времени выходить замуж, не решила даже, буду ли вообще вступать в новый брак. И, учитывая здоровье вашей милости, думала, что вы просто цените приятное женское общество. — Ей-богу, миледи, я ищу себе не сиделку, а королеву, которая составит честь моему двору, и жену, которая подарит мне сыновей! Мне нужна взрослая и умная женщина, с которой будет о чем поговорить и которой я смогу доверять. А вам я доверять могу, это точно. Я одинок. Мне хочется иметь жену в своей постели и за столом. И вы немного покраснели. Думаю, у вас есть чувства ко мне. Кэтрин хотелось провалиться сквозь землю. У нее были чувства, верно, но не к нему. — Да, — проговорила она, — я почитаю вашу милость не только как своего соверена, которого обязана любить, но и как человека. Вы были так добры ко мне и к моим родным. — Надеюсь, вы не смотрите на меня исключительно как на источник милостей? — поддразнил ее он. — Конечно нет! Мне бы не хотелось, чтобы вы сочли меня корыстной, только благодарной. Был ли у нее выбор? Если она откажет ему, то утратит его расположение — и пусть, но не пострадает ли ее семья? Насколько мстителен король? Этого Кэтрин не знала, пока еще не настолько изучила его. Но она любила Тома и другого мужа для себя не желала. Ее восхищала даже его непредсказуемость. Ответить «да» своему соверену — это не выход, решила Кэтрин. Король выжидательно смотрел на нее: — Вы колеблетесь? Я предлагаю вам весь мир. — Сир, я очень хорошо понимаю это, — пролепетала она, — вы застали меня врасплох… — Я люблю вас, миледи, — сказал король, с трудом поднялся на ноги и, склонившись, нежно поцеловал ее в губы. — Я бы встал перед вами на колени, если бы мог. Молю, осчастливьте меня. — Милость вашего величества значит для меня все, — сказала Кэтрин, чувствуя себя загнанной в угол. — Вы дадите мне немного времени подумать и помолиться? Его милость с разочарованным видом сел на свое место и сказал: — Разумеется, но не заставляйте меня ждать долго.
Кэтрин не посмела сказать дяде Уильяму или написать Уиллу: знала, что они ей ответят. Она искала указаний в молитве, одновременно говоря себе, что это ни к чему, так как решение уже принято. Кэтрин не хотела выходить замуж за старого больного человека, у которого уже было пять жен, каким бы добрым и внимательным он ни казался. Она не хотела зависеть от капризов его переменчивой натуры или оказаться в центре двора, раздираемого опасными интригами. Не хотела ложиться в постель с мужчиной, больные ноги которого временами издавали отвратительный запах, или задыхаться под ним, будучи придавленной его гигантской тушей. Том пробудил в ней чувства, о существовании которых Кэтрин не догадывалась, и она не могла отказать себе в их удовлетворении. Король никогда, ни за что не сможет доставить ей такого удовольствия, а от одной мысли, что она ложится в постель с Томом, у Кэтрин возникала слабость в коленях. Кэтрин не могла отказаться от него. И все же… Ни высочайший статус, ни прекраснейшие дворцы, ни великолепнейшие наряды и украшения, ни власть и богатства, которые достанутся ее семье, не могли стать противовесом любви к Тому. Душу Кэтрин тревожило кое-что еще, как призыв к оружию. Мстительный призрак епископа Гардинера не давал ей покоя во сне, преследовал наяву. Разве Анна Болейн не оказывала влияния на короля, склоняя его к реформам? Ведь правда, что во времена Анны ни одного человека не сожгли на костре за ересь? Неужели это Бог призывал ее, Кэтрин, привести короля на путь добродетели? Однако, преклонив колени на молитвенном поставце в своей спальне в доме на Чартерхаус-сквер, она молила Его не возлагать это тяжкое бремя на ее слабые плечи. Почему ей выпало быть избранной? Почему не кому-нибудь другому? Неужели Он действительно ожидал, что она принесет эту великую жертву и оставит Тома во спасение истинной религии? Нет! Пусть еще раз подумает. Каждый день по много часов Кэтрин молилась, борясь со своей совестью. Каждый раз, решив отказаться от предложения короля, она впадала в сомнения, размышляя: а если на то воля Господня, чтобы она стала королевой? Как ей устоять! Всеми силами Кэтрин старалась оградить себя от этой мысли. И тем не менее Он не отступал перед ее возражениями и каждый раз приводил обратно на путь, который избрал для нее; по крайней мере так казалось. Стоило Кэтрин сказать себе, что она не может этого сделать, Он милостиво указывал ей, что ей это по плечу. Наконец она смирилась с тем, что Он просит ее отречься от своих желаний и исполнить Его волю. В своем сердце Кэтрин знала, что в ее власти повлиять на короля ради Христа. Если она добьется этого, то сможет привести тысячи душ к спасению. Как можно было поставить свои личные чувства выше такой великой цели? И тем не менее, если она совершит то, о чем и подумать нельзя, — бросит Тома и встанет на этот путь, — то подвергнет себя опасности, — сомнений у нее не было. Гардинер вынюхивал в каждом углу, ища еретиков при дворе. Что будет, если ее тайные убеждения раскроют, невозможно представить. И все же, и все же… Внутренняя тревога ее была так велика, что она не могла спать и ела совсем мало. Время шло, Кэтрин понимала, что король не будет ждать вечно. Он написал ей, прислал еще одно неудачное стихотворение своей «прекрасной нимфе», просил оставить сомнения и соединиться с ним. Скоро нужно будет на что-то решаться. Свою английскую Библию Кэтрин держала запертой в шкафу вместе с Новым Заветом Джона и крестильной пеленой королевы Екатерины. У нее была привычка раскрывать наугад Библию и, не глядя, вести пальцем по странице в поисках указания от Бога. Часто, прочитав стих, на котором остановилась ее рука, она находила вдохновение, утешение или руководство к действию. Сегодня, прочтя письмо короля, Кэтрин взяла Библию, надеясь разрешить свою дилемму. Смежив веки, она открыла книгу и ткнула пальцем в страницу. Потом распахнула ресницы и посмотрела. Библия открылась на Книге Эсфири, еврейской царицы, жены персидского царя Агасфера, храброй женщины, спасшей свой народ от преследований злого царского министра Амана. Палец Кэтрин замер на словах: «Кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» Это был знак, которого она искала. Яснее не скажешь. С тяжелым сердцем и слезами на глазах Кэтрин села за письмо Тому. Казалось, она выводит судьбоносные слова прощания собственной кровью. Подпись не поставила из страха, что ее послание будет перехвачено по пути в Брюссель. Но Том поймет, от кого оно, и она молилась, чтобы он понял и простил ее.
Кэтрин написала Анне о своем решении: никому другому она не могла довериться, — и умоляла сестру приехать в Лондон и остаться с ней, так как была близка к нервному срыву и нуждалась в моральной поддержке. Она уже чувствовала себя отделенной от других людей и обязанной изображать из себя королеву. Анна бросила все, оставила детей со свекровью и примчалась на Чартерхаус-сквер, где, раскинув руки, бросилась к сестре, обняла и выразила свою бесконечную радость за нее. После этого Кэтрин собралась с духом, чтобы сделать неизбежный шаг — сообщить королю, что она выйдет за него замуж. Она слышала, что двор готовится к переезду в Гринвич, и решила увидеться с его величеством там. Набравшись храбрости, Кэтрин написала ему и попросила разрешения приехать. Ответ пришел тем же утром: не согласится ли она поужинать с ним? Кэтрин надела черное бархатное платье, жемчуг и французский капор из белого атласа. Костюм получился довольно скромный на фоне обычной придворной роскоши, но выглядел элегантно. — Прекрасно! — объявила Анна. — Ты понравишься королю в таком виде. — Анна… — Кэтрин взяла сестру за руку. — Я правильно поступаю? Та знала, как тяжело Кэтрин расставаться с Томом. — Да, правильно. Я уверена. А теперь иди и порази его!
Стоял теплый июньский вечер, в воздухе висела золотистая дымка, как бывает после жаркого дня, но Кэтрин не могла насладиться им. Ноги у нее будто налились свинцом, когда она сошла с лодки и направилась вслед за церемониймейстером в покои короля. Только Кэтрин вошла в его кабинет, он, протягивая вперед руки, подошел к ней так быстро, как только позволяла ему забинтованная нога. — Нет, миледи Латимер, не нужно делать реверансов. Прошу вас, садитесь. — Он указал на кресло по другую сторону от камина, на котором стояла огромная ваза с розами. — Какие красивые цветы, — сказала Кэтрин, вдыхая аромат и пытаясь успокоиться. — Надеюсь, ваше величество здоровы? — Да, и надеюсь, что скоро мне станет еще лучше. Не томите меня, миледи, у вас есть что сказать мне? — Он жадно смотрел на нее. Как только слова сорвутся с ее губ, пути назад не будет. Кэтрин заставила себя улыбнуться. — Да, ваше величество. Для меня будет большой честью принять ваше милостивое предложение. Лицо короля изменилось, осветившись радостью. — Вы сделали меня счастливейшим человеком на земле, — срывающимся голосом произнес он, и на глаза его навернулись слезы. — Кэтрин, я надеялся и молился об этом. — Впервые король назвал ее по имени. — Господь привел меня к вам, — ответила она. — Пусть Он дарует нам счастье. Король привлек ее к себе. И поцеловал по-настоящему, со страстью. — Я сделаю вас счастливой, — промурлыкал монарх. — У вас будет все, что вы захотите, моя дорогая. — Я постараюсь от всего сердца быть вам хорошей женой, сир, и хорошей королевой. Тот усмехнулся: — Не называйте меня «сир» наедине, Кэтрин, не сейчас. Зовите меня Генрих или Гарри. И, если можно, я буду звать вас Кейт! О, моя дорогая, мне не дождаться момента, когда я смогу показать вас всему миру. Не думал, что когда-нибудь еще познаю такую радость. Кэтрин молилась про себя: лишь бы он не заметил, что она не испытывает таких бурных чувств. И ответила на его поцелуй со всем пылом, какой только могла изобразить, делая вид, что ничего более прекрасного с ней просто не могло произойти. Ей вдруг пришло в голову, что отныне она будет жить во лжи. О Том, Том, что я наделала?
Генрих — она должна приучить себя думать о нем так — настоял на встрече с его дочерями. Они приезжали в Гринвич на следующий день. О скорой свадьбе короля пока широко объявлять не будут, так как он желал какое-то время безраздельно владеть Кэтрин, однако Мария и Елизавета должны знать: у них появится новая мачеха. Вернувшись ко двору, Кэтрин привезла с собою Анну. Это казалось вполне уместным и давало ей моральную опору. Генрих сам проводил ее в свой личный сад, где в маленьком банкетном домике ждали принцессы. Вообще-то, по закону они теперь не были принцессами, поскольку обеих объявили незаконнорожденными, но Кэтрин привыкла думать о них так, к тому же о Марии и Елизавете все равно говорили с таким же почтением, как если бы они были законными дочерями короля. Будущей королеве не терпелось познакомиться с ними, и она надеялась, что понравится им. У нее накопился богатый опыт в исполнении роли мачехи, и Кэтрин была готова снова войти в нее, испытывая сочувствие к этим двум юным созданиям, которые потеряли матерей при трагических обстоятельствах. Когда вошел отец, его дочери встали — Мария держала сестру за руку — и сделали изысканные реверансы. Кэтрин заметила, что у обеих рыжие волосы, как у короля, только у того уже с проседью. Марии далеко за двадцать, и она не красавица: маленького роста, худая, со вздернутым носом, твердым подбородком, близорукая и бледная, взгляд нервный. Елизавета, которой в сентябре исполнится десять, выглядела более уверенной. У нее были острые черты лица, яркие умные глаза и повелительные манеры. Генрих поцеловал дочерей. — Мое сердце радуется при виде вас, — сказал он им, и те заметно расслабились. — Я хочу познакомить вас с леди Латимер, которая станет вашей мачехой. — Я рада за вас, сир! — произнесла Мария глубоким, почти мужским голосом. — Леди Латимер, мои поздравления. Я слышала о вас много хорошего. И с признательностью вспоминаю вашу матушку. Она преданно служила моей матери. — Приятно познакомиться с вами, миледи, — приветствовала ее Елизавета. — Надеюсь, вы и мой отец будете очень счастливы. Кэтрин испытала истинное удовольствие. — Я постараюсь быть хорошей матерью и подругой вам обеим. Генрих предложил всем сесть и велел, чтобы в банкетный домик подали вина. Его принесли вместе с разными сластями. — Золоченые марципаны! — воскликнула Елизавета и взяла сразу два. — Она сладкоежка, как я, — улыбнулся Генрих. — Слава летит впереди вас, миледи, — сказала Мария, обращаясь к Кэтрин. — Я слышала, вы очень образованны. — Не смею думать, что могу сравниться с вашей милостью в этом отношении, — отозвалась Кэтрин, — но я с большим удовольствием позанималась бы вместе с вами и с леди Елизаветой, конечно. — Увы, я редко бываю при дворе, — обиженно проговорила последняя. — Вы еще слишком юны. Двор — нездоровое место для детей, — сказал король. — Вот почему Эдуард почти никогда здесь не бывает, — объяснила Елизавета Кэтрин. — Я не могу рисковать его здоровьем, — заявил Генрих. — Он мой единственный сын. — Глаза его встретились с глазами Кэтрин; она понимала, чего король от нее ждет. — Я скоро вернусь. — Генрих встал. — Сидите, леди. Не нужно церемоний. — И направился в сторону своих покоев. — Я так рада, что у нас теперь другая мачеха. — Елизавета взяла Кэтрин за руку. — Прошлая немного загуляла. — Девочка смутилась. — Никогда не была о ней высокого мнения, — заметила Мария, — поэтому ее падение не так сильно потрясло меня, как некоторых. — Мне она нравилась, — произнесла Елизавета, — хотя я редко ее видела. Это было ужасно, то, что случилось с ней, как… — Голос ее стих. Как с ее собственной матерью. Ужасно жить, зная, что твой отец, как бы ни был он прав, отправил твою мать на жестокую, кровавую смерть. Это окрасит в особые тона все воспоминания о ней. Конечно, у Елизаветы их было немного, ведь ей еще не исполнилось и трех лет, когда казнили Анну Болейн. — Вы должны попытаться выбросить ее из головы, — сказала Кэтрин. — Но, если когда-нибудь захотите поговорить, я готова вас выслушать. — Я не хочу об этом думать, — заявила Елизавета. — И никогда не выйду замуж. Плохие вещи случаются, если вступаешь в брак. Кэтрин было грустно слышать от Елизаветы такие слова, тем не менее подобные мысли с ее стороны вполне оправданны, учитывая судьбы ее матери и мачехи. — Глупости! — возразила Мария. — Я бы хотела выйти замуж. Мы обе должны будем слушаться воли отца в этом деле. — В голосе ее звучала тоска, как будто она мечтала о браке. Давно уже ходили разговоры о новых партиях для нее, но ничего не получалось. Печально было наблюдать, как подавлены обе принцессы омрачившими их юные годы трагедиями. — Ваша мать была предана моей, — говорила Мария Кэтрин. — Она облегчила ей жизнь в трудные времена. Елизавета явно занервничала. Это ее мать устроила королеве Екатерине трудные времена. Как бы ни были с виду близки сестры, прошлое навсегда встало между ними невидимой стеной. — У меня есть несколько вещей, которые подарила мне и моей матери королева Екатерина, — сказала Кэтрин Марии. — Я покажу их вам. Лицо Марии изменилось. — Мне бы этого очень хотелось. У меня так мало от нее осталось. Елизавета, перестаньте набивать живот и уберите локти со стола. — Было ясно, что Мария привыкла по-матерински наставлять — или подавлять — свою сводную сестру. Елизавета скривилась. Как только Мария отвернулась, чтобы приветствовать возвращавшегося отца, она стащила пирожное и засунула его себе в рот. Кэтрин сдержала улыбку.
После этого по распоряжению короля Кэтрин часто бывала при дворе. Его намерения по отношению к ней, казалось, ни для кого не составляли тайны, и она обнаружила, что люди стали относиться к ней с новым почтением. Кэтрин поделилась своими планами на будущее с близкими. Маргарет пришла в неописуемый восторг. Дядя Уильям появился в доме на Чартерхаус-сквер с огромным букетом цветов и добрыми пожеланиями, а отец Катберт прислал ей теплые поздравления. Даже архиепископ Кранмер заглянул к Кэтрин. Под его неброской наружностью скрывался замечательный ученый и государственный деятель, и он был горячим поборником реформ. — Мы все обрадованы новостью, дорогая леди, весьма обрадованы, — проговорил Кранмер, с благодарным кивком принимая от Кэтрин кружку клубничного напитка ее собственного изготовления. Под «всеми» он подразумевал обосновавшихся при дворе реформистов. — Вы известны своей ревностью к Евангелию. Архиепископ подталкивал ее открыться ему, но Кэтрин понимала, что ей нужно вести себя осмотрительно. — Как и ваша милость, я восторгаюсь реформами его величества. Он подобен второму Соломону. Более того, он вывел нас из Вавилонского пленения. — Кэтрин надеялась, что ее слова передадут больше того, что она осмелилась произнести вслух. Кранмер выглядел довольным. — Некоторые из нас надеются, что его величество пойдет немного дальше в религиозной политике. Есть люди, которые боятся, как бы его не сманили к возврату в прошлое. Может быть, мы беспокоимся напрасно. Но вы, мадам, находитесь в уникальном положении, чтобы повлиять на него. Он прислушается к вам. Кэтрин не ожидала такого недвусмысленного намека. — Я всего лишь женщина, ваша милость. Он прислушивается только к богословам вроде вас. Если Господь захочет, чтобы я стала инструментом в Его руках, Он даст понять это. А я хочу всего лишь поступать правильно. Архиепископ с уважением взглянул на нее: — Да поможет вам Бог в вашем деле. — Кранмер благословил Кэтрин и ушел.
Король принудил шотландцев согласиться на брак принца Эдуарда с их королевой. В начале июля договор об этом был заключен в Гринвиче, и при дворе устроили торжества. Генрих пребывал в кипучем настроении, ведь теперь он мог поддержать императора и объявить войну Франции, с которой тот враждовал. Разбить извечных врагов Англии — французов — было его давней мечтой. Кэтрин не позволяла себе много думать о Томе Сеймуре, а тот мог оказаться вовлеченным в назревавший конфликт. Чувства вины и сожаления поглощали ее. Получил ли он письмо? Ненавидел ли ее за то, что она его бросила? Дядя Уильям, владевший конфиденциальной информацией, доступной служившим в личных покоях короля, слышал, что Том находился в Брюсселе, а теперь его вроде бы вызывают обратно. Сердце Кэтрин воспарило и упало одновременно. Она жаждала снова увидеть Тома, хотя ей нельзя было выдавать, как много он для нее значил, и одновременно боялась его холодности, понимая, что с трудом вынесет ее. Может, еще не поздно сказать королю, что она обещала себя другому? И не могут ли они с Томом куда-нибудь скрыться и жить на доходы от своих имений? Или сбежать в Европу? Том хорошо там все знает. Она предавалась глупым мечтаниям. До свадьбы оставалась неделя. Это будет тихая, почти тайная церемония в присутствии немногих избранных гостей. Генрих ненавидел пышные свадьбы и связанную с ними суету. Кэтрин уже не могла отказать ему. Это нанесло бы разрушительный удар по его гордости и королевскому достоинству и стало бы большим унижением, особенно после того, как он проявил к ней такую доброту. Она обещала выйти замуж за короля и сдержит слово, а Тома постарается забыть. Непрочность этого решения стала очевидной, когда дядя Уильям сказал ей, что Том все-таки не приедет, так как ему велено присоединиться к английскому войску, посланному во Францию на помощь армии императора. Кэтрин была крайне разочарована, и ей пришлось бороться со слезами все время, пока шла примерка свадебного платья.
10 июля, без фанфар, архиепископ Кранмер огласил имена вступающих в брак. Король приехал в Хэмптон-Корт, где к нему на следующий день должна была присоединиться Кэтрин. Покидая дом на Чартерхаус-сквер, она чувствовала себя странно и понимала, что будет скучать по жизни здесь, по личному пространству и уединению, которых лишится во дворцах, где вокруг нее будут постоянно находиться слуги. Кэтрин обошла знакомые комнаты, вспоминая Джона и всех, кто сиживал за ее обеденным столом, уютные вечера, проведенные за чтением у очага, веселые пиры. Маргарет и несколько слуг присоединятся к штату ее королевского двора; здесь останутся только самые необходимые для содержания дома в порядке люди, пока она не найдет арендатора; остальные отправятся к Джеку в Снейп. Когда настало время отъезда, Кэтрин глубоко вдохнула и закрыла дверь за своей прежней жизнью.
Часть четвертая «Опасные тенёта»

 Глава 17
1543 год
Глава 17
1543 год
Небольшая группа великолепно одетых людей собралась в молельне позади королевской скамьи, откуда был виден неф Королевской капеллы. Облаченная в алую златотканую парчу, Екатерина стояла с Генрихом под всепроницающим взором высокого и статного епископа Гардинера, сознавая, какой важный шаг она делает. Ее удивляло, почему для проведения обряда был выбран не Кранмер. Екатерина в любом случае предпочла бы его Гардинеру, однако Генрих сказал, что его срединный путь в религии требует оказывать милость обеим сторонам религиозного спора, а потому он попросил огласить имена вступающих в брак Кранмера. И шаловливо добавил, мол, пусть все видят, что Гардинер одобряет их брак. А тот, Екатерина понимала, пришел бы в ужас, знай он, что соединяет короля с протестанткой. От этой мысли Екатерина улыбнулась про себя.
Мария и Елизавета в красивых платьях сопровождали Екатерину. Ее шлейф несла племянница короля, леди Маргарет Дуглас, горделивая и жизнерадостная рыжеволосая красавица, которой Генрих простил неуместный роман с братом Кэтрин Говард. Герберты стояли в первых рядах гостей вместе с герцогиней Саффолк. Они явно наслаждались своим новым возвышением в придворной иерархии. Жаль, что Уилл не смог вернуться к свадьбе, и Маргарет, оправлявшаяся от приступа мигрени, неважно себя чувствовала, а потому не могла присутствовать. Среди лордов и джентльменов Екатерина приметила Хартфорда и его жену, отчего невольно вздрогнула, подумав: вдруг графу известно, что она порвала с его братом? Он, как никто другой, мог понять ее поступок, так как сам всегда ставил во главу угла амбиции, однако семейная гордость могла спровоцировать в нем презрение к ней. По лицу Хартфорда ничего нельзя было понять, а вот супруга графа при появлении Екатерины одарила ее недобрым взглядом.
Гардинер спросил, берет ли король в законные супруги Екатерину.
— Да! — с искренней радостью откликнулся Генрих.
— А вы, Екатерина, берете ли этого мужчину в свои законные мужья?
— Беру, — ответила она.
Король взял ее за правую руку и произнес свои обеты. Потом настал черед Екатерины. Следуя подсказкам Гардинера, она отчетливо проговорила:
— Я, Екатерина, беру тебя, Генрих, в свои законные мужья, чтобы быть с тобой отныне и навсегда, в счастье и горе, в богатстве и бедности, в здравии и болезни, и быть приятной тебе на брачном ложе и за столом, пока смерть не разлучит нас, и в этом я даю тебе слово.
Король надел ей на палец кольцо и возложил на алтарь приношения — серебро и золото. Екатерина дождалась, пока он осторожно преклонит колени, после чего встала для получения благословения рядом с ним.
Когда они поднялись на ноги, все зааплодировали. Всё. Она — королева Англии.
На выходе из молельни перед ними присела в низком реверансе высокая женщина с угловатым лицом.
— Кейт, — сказал Генрих, — это леди Анна Клевская.
Екатерина изобразила очаровательную улыбку и протянула руку для поцелуя.
— Приятно познакомиться с вами, миледи Анна.
— Мне тоже очень приятно, — гортанным голосом и без особой сердечности ответила та. — Примите мои самые теплые поздравления. Я безмерно рада за вас обоих!
«Может быть, — подумала Екатерина, когда они двинулись дальше, — Анна не хотела разводиться с королем и недовольна его новым браком?» Что ж, им нечасто выпадет иметь дело друг с другом, а при встречах она будет сплошь улыбчивость и доброта.
Надвигавшаяся брачная ночь не слишком страшила Екатерину. Она дважды ложилась в постель с незнакомцами, и ничего плохого с ней не случалось. Да и король, который проявил себя чутким к ее желаниям поклонником, наверняка окажется не менее чутким любовником, если до этого вообще дойдет. А думать о том, насколько лучше ей было бы с Томом, она не станет. Церемонии укладывания в постель не предполагалось. Генрих этого терпеть не мог. Тем не менее Екатерину окружили назначенные к ней в услужение дамы и фрейлины, хотя она предпочла бы остаться в одиночестве и самостоятельно подготовиться к самому интимному моменту супружества. Отныне такова ее жизнь, ничего не поделаешь — нужнопривыкать. По крайней мере, с ней были Анна, Маргарет, немного оправившаяся от болезни, и леди Саффолк, которую Екатерина успела полюбить, несмотря на всю резкость этой дамы. Екатерина решила быть хорошей женой и королевой, а значит, нужно оказать супругу прием, какого он заслуживал. И никаких мыслей о Томе. Она встала из ванны с молоком, стояла смирно, пока девушки вытирали ее полотенцами и умащивали духами, покорно подняла руки, чтобы они надели на нее батистовую сорочку с расшитым золотом воротом. Приказала поставить вино и немного острых закусок на комод в своей опочивальне — самой роскошной, какие она только видела, — затем накинула черный атласный ночной халат, отослала всех прислужниц и села в кресло ждать Генриха, время от времени поглядывая на огромную кровать под нависавшим над резным изголовьем балдахином с королевскими гербами Англии, которая напоминала ей своими изображениями, что это будет не обычное совокупление, а нацеленное на обретение принцев. Екатерина решительно выкинула из головы мысли о женщинах, которые могли занимать это ложе до нее. Она не собиралась заканчивать жизнь, как они. Ее ждет триумф в браке, о котором новая королева сумеет рассказать потомкам. Прошло совсем немного времени, и Екатерина услышала шаги: они напоминали топот марширующих ног. Вдруг он смолк, и раздалось приближающееся к двери тихое шарканье подошв. Дверь открылась, и за ней стоял король в дамастовом халате поверх длинной белой ночной рубашки, с колпаком на голове и в тапочках. — Дорогая! — воскликнул он и протянул руки. Екатерина встала и прильнула к нему, заметив неприятный сладковатый запах, исходивший от его незабинтованной ноги. Пытаясь не вдыхать его, она позволила супругу отвести ее к постели и встала на ступеньку рядом с ней. Забралась на ложе и дождалась, пока Генрих уляжется сбоку от нее. Потом он притянул ее к себе, нежно поцеловал и пробормотал: — Будет проще, если вы сядете на меня, как мужчины садятся на коня. Какое облегчение! Он не раздавит ее своим весом. С этой мыслью Екатерина задрала сорочку, забралась на него, раздвинув ноги, и направила его рукой в себя. — О Кейт! — простонал Генрих. Все кончилось прежде, чем она успела что-то почувствовать. Он был очень нежен. Обнял ее, прижал к себе и жарко облобызал, прошептав: — Я люблю вас, дорогая, — после чего тут же начал посапывать.
Утром Екатерина проснулась, и в нос ей ударил дурной запах. Он шел от ноги Генриха. Она отвернулась и попыталась зарыться носом в одеяло, но тут ее плечо змеей обвила его рука, и она почувствовала, как сзади в нее упирается что-то твердое. — Дорогая! — проговорил король. Сомнений в его намерениях не было. Скрывая неохоту, она повернулась к нему. После ухода Генриха, пообещавшего обедать у нее, Екатерина встала. От постели воняло, а день намечался жаркий. Прежде всего нужно, чтобы принесли отдушку из можжевельника с цибетином — освежить воздух в спальне. Екатерина поручила это Маргарет, и та умчалась искать винокурню, а вернувшись, сообщила: — Сейчас ее приготовят для вашей милости. — Дорогая, тебе не нужно называть меня так. Зови меня матушкой, как делала всегда. Маргарет обняла ее и торопливо ушла оповестить других дам, что королева проснулась и готова подниматься с постели после первой брачной ночи.
Несколько дней в качестве королевы стали для Екатерины откровением. Она жила в апартаментах с золочеными потолками, убранных с пышным великолепием, среди дорогих гобеленов, изысканной мебели и сказочных турецких ковров. Придворным мастерам пришлось потрудиться. Фамильный герб Екатерины — голова девы — виднелся повсюду, вырезанный на дереве и камне, вышитый на каждом предмете постельного белья. И тем не менее ей было некомфортно в апартаментах королевы, которые несколько раз отделывали заново: сперва для Анны Болейн, потом для Джейн Сеймур. К тому же прямо под ними находилась кухня: шум и запах еды проникал в комнаты через открытые окна, закрыть которые было невозможно, так как стояла очень жаркая погода. А потому Екатерину обрадовало сообщение Генриха о том, что скоро они отправятся в летний тур по стране. О своей грядущей свадьбе она писала Уиллу, оповещая его, что Господу было угодно склонить короля к тому, чтобы тот взял ее в жены, и это стало для нее самой величайшим утешением, какого и представить себе нельзя. И ты, братец, — человек, которому следует радоваться больше всех. Прошу тебя, дай мне знать о своем здоровье и пиши в дружеской манере, как прежде, словно бы меня не облекали этой высокой честью. Уилл ответил быстро, в ликующем тоне. Он удержался от замечаний вроде «я же говорил» и сообщил, что о замужестве Кэтрин много говорят на Севере: люди радуются и превозносят ее добродетель. Твое известие оживило мой дух и превратило все мои заботы в радости. Этот брак станет настоящим, неоценимым благом и утешением для всего королевства. Кэтрин хотелось, чтобы брат был здесь и разделил с ней это великое счастье. Все спешили поздравить ее. Она держала открытый двор: сидела в своем приемном зале в кресле с дорогой обивкой под балдахином с государственными гербами и проявляла себя благосклонной и дружелюбной ко всем. Многие из приходивших обращались к ней с просьбами, желая воспользоваться ее влиянием и патронажем. Каждое прошение Кэтрин принимала с улыбкой и обещала немедленно заняться этим вопросом. Она станет милостивым ликом монархии, добрым и отзывчивым. Стремясь не уронить достоинства, Кэтрин в то же время старалась не держаться слишком отстраненно и горделиво. Ей хотелось завоевать уважение людей и их любовь. Генриха она видела часто. Они обедали и ужинали вместе, проводили вдвоем бо́льшую часть ночей, каждый день гуляли в его личном саду, иногда трапезничали в маленьком банкетном домике. Эти моменты Екатерина использовала как возможность замолвить словечко за своих просителей, зная, что Генрих не мог ни в чем отказать ей. — Вы заставите меня раздать полкоролевства! — говорил он, исполняя очередную просьбу. — Но подумайте, какую это создаст вам популярность, — возражала Екатерина, засовывая ему в рот конфету. Ей было легко с Генрихом, кроме тех моментов, когда у него болела нога, но Екатерина научилась отвлекать его живой беседой о религии или музыкой, которую они оба любили. При дворе в то время служила семья итальянских музыкантов Бассано. Кэтрин знала их в лицо, так как они жили неподалеку от Чартерхаус-сквер. Виртуозы своего дела, Бассано услаждали слух королевской четы, которая провела немало послеполуденных часов, завороженно слушая их игру. Екатерине нравилось быть королевой. Она полюбила носить роскошные наряды и пышные меха, есть изысканные блюда; каждому ее капризу потакали. Что касалось Генриха, тот считал, что ничто не может быть слишком хорошим для его супруги. Никогда еще у Екатерины не было столько украшений. Наутро после первой брачной ночи Генрих преподнес ей ларец с драгоценностями королев Англии, которые переходили от одной супруги короля к следующей, и сказал, что она может владеть ими, пока он жив и их сын не женился. Хотя Екатерина и обрадовалась, получив в свое пользование такие изысканные украшения, являвшиеся к тому же историческими реликвиями, сердце у нее болезненно сжалось, потому что в последний раз она видела этот ларец, когда Анна прятала его под досками пола после низложения Екатерины Говард. При мысли о двух перерубленных нежных шеях, которые когда-то украшали эти жемчуга и ожерелья, она боязливо поежилась. Когда Екатерина перебирала сокровища из ларца, ей особенно приглянулись брошь в форме короны, одно необычное жемчужное ожерелье и подвеска с рубином. Эти вещи она будет носить с удовольствием вместе с драгоценностями, которыми осыпал ее Генрих. Но больше всего Екатерине нравилось то, что теперь можно было легко удовлетворять свою страсть к чтению. Раньше она радовалась любой книге, даже самой дешевой и затрепанной, купленной в торговых рядах у собора Святого Павла, а теперь владела изданиями, которые сами по себе были прекрасны, переплетенные в бархат или тонкую кожу, или по крайней мере имела доступ к ним. Она набрала себе целую коллекцию — от Петрарки до молитвенников. С благословения Генриха заказала Новый Завет в английском и французском переводах, которые украсит иллюстрациями ее личный писарь, а потом для них сделают пурпурные переплеты с позолотой. Свободный доступ к литературе в неограниченных количествах стал для нее одним из главных преимуществ, которые давал статус королевы. Богатств у нее было столько, что трудно было найти им всем применение. Сборщик податей показал ей список поместий, которые она получила после свадьбы, и Екатерина в изумлении уставилась на него, понимая, что ее владения рассеяны почти по всей стране. Она сделала себе мысленную пометку: нужно выяснить, хорошо ли управляют ее имениями и какой доход они приносят. Кроме того, Екатерина решила, что будет проверять и одобрять все счета своего двора. Ее сердце радовалось при виде того, как любит ее Генрих. Свидетельства этого имелись в изобилии: его доброта, щедрость, желание порадовать супругу и то, как он целовал и ласкал ее, не стесняясь посторонних глаз. Король гордился ею, Екатерина это знала. Ему нравилось демонстрировать всем свою королеву. Однажды, когда они наблюдали за игрой в шары, Генрих на глазах у придворных обнял ее за талию и промурлыкал ей на ухо: — Вы выглядите прекрасно, Кэтрин, и так хорошо держитесь. Лучшего выбора я сделать не мог. Вы обладаете всеми качествами, наиболее важными для королевы: добродетелью, мудростью и кротостью. Никогда еще не имел я жены, которая была бы так мила моему сердцу. Молю Бога, чтобы Он даровал нам долгую жизнь вместе и много радости. — Не могу описать вам, как много это для меня значит, — прошептала Екатерина, понимая, что начинает по-своему любить его. Ей было приятно рядом с ним. Она находила неотразимым окружавший короля ореол властности, которым умерялась сентиментальность его любви к ней. Неожиданной для нее оказалась эмоциональность Генриха: он легко мог пустить слезу, что Екатерина находила странным в человеке, облеченном деспотической властью. Но в то же время ее муж мог быть лицемерным, брюзгливым, раздражительным и всегда хотел настоять на своем. Нелегко будет убедить его в необходимости продолжать реформы. А она еще к этому даже не подступилась. О коронации Генрих и словом не обмолвился, впрочем, Екатерина этого и не ожидала. Ни одна из трех его последних жен не удостоилась такой чести: то казна пустовала, то коронация ставилась в зависимость от рождения сына. Но Екатерина не возражала, даже и не мечтая о такой чести. К счастью, люди восторгались ее добродетелью. Она не хотела, чтобы о ней пошла такая же слава, как о бедной Кэтрин Говард. Королева должна подавать хороший пример. Выбрав девизом слова: «Быть полезной во всех делах», Екатерина искала способы, как стать лучше самой и принести пользу другим. Много времени она проводила за чтением, учебой и молитвами. Поощряла ученых мужей приходить к ней, стараясь привечать и католиков, и реформистов. Выделяла значительные суммы денег на поддержку бедных студентов. Приказала, чтобы детям ее арендаторов давали образование в соответствии с их способностями. Когда Мэттью Паркер, один из королевских священников, предостерег ее, что это обойдется слишком дорого, Екатерина отчитала его: — Никакие затраты не могут быть слишком велики для такой жизненно важной задачи! Кроме того, я плачу за это из собственных средств. Доктор Паркер умолк. Он был хорошим человеком и твердым реформистом, взял под крыло нескольких бедных ученых из колледжа в Сток-бай-Клэр в Саффолке, деканом которого был. Екатерина с радостью согласилась стать его патронессой. Фрэнсис Голдсмит, богослов, которым она восхищалась и которого назначила одним из своих священников, часто посещал ее личные покои. Придя в очередной раз, он одобрительно посмотрел на цветы, которые Екатерина сама расставила в вазах, на поднос с поданными ему сластями, на стопки молитвенников на шкафу и улыбнулся ей: — Вы чудо, мадам! Ваша слава превзойдет славу царицы Эсфирь! Ваша редкостная добродетель превратила каждый день при дворе в воскресный, а это дело неслыханное, особенно в королевском дворце. — Вы слишком добры, доктор Голдсмит, — улыбнулась Екатерина, понимая, что он льстит ей. — Мадам, доброта целиком принадлежит вам. Я не могу найти подходящих слов, чтобы в достаточной мере выразить, как благодарен вам за то, что вы приняли меня в число служителей при вашем дворе, и молю Господа, пусть Он накормит вас манной небесной, чтобы вы день ото дня укреплялись в вере. Не с одним только доктором Голдсмитом Екатерина любила дискутировать по религиозным вопросам. Большинство придворных дам были женщины образованные, и в ее покоях нередко велись весьма стимулирующие ум, а иногда даже и горячие, дебаты. Леди Мария, имевшая теперь апартаменты при дворе, часто присутствовала на них и расцветала в этой непринужденной обстановке. Екатерина побуждала ученых мужей присоединяться к беседам, что те охотно делали, и придворные тоже к ней захаживали. К удивлению Екатерины, энергичный граф Суррей, хотя и был сыном лидера католической фракции при дворе герцога Норфолка, в спорах с энтузиазмом высказывался за реформы, как и его сестра, герцогиня Ричмонд, а также младший брат, лорд Томас Говард. Иногда к ним заглядывал и Генрих, всем развлечениям предпочитавший умный спор. — Высказывайтесь свободно! — призывал он всех присутствующих. Но, конечно, имелись ограничения на откровенность, и Екатерина заботилась о том, чтобы любой разговор, клонившийся к какой-нибудь противоречивой теме, выворачивал в другом направлении. Она довольно быстро овладела этим искусством. Генрих с энтузиазмом поддержал супругу, когда та сказала, что хочет позаниматься языками. Сам он бегло говорил на нескольких и порекомендовал учителя для Анны, которая согласилась патронировать известному ученому Роджеру Ашэму, но чувствовала себя неловко, так как почти забыла изученную в юности латынь. А разбираться с языком древних римлян Екатерине король помогал сам. — Я хочу найти какое-нибудь занятие для леди Марии, — сказала она ему однажды, когда они сидели над затертым томиком Цицерона. — Ваша дочь хорошо образованна, и ей нужно дело. Я размышляла о том, что следует перевести на английский парафраз Евангелия Эразма Роттердамского, и подумала, не захочет ли леди Мария принять в этом участие, если вы считаете, что она достаточно хорошо владеет латынью, и одобрите это. — По-моему, отличная идея! — обрадовался Генрих. — И ей будет интересно. Да, думаю, она достаточно хорошо знает латынь и справится с задачей, но это большое дело. Вы планируете взять часть перевода на себя? — Нет, моя роль будет чисто наблюдательная. У меня как королевы слишком много разных обязанностей. Генрих сжал ее руку: — Вы покажете прекрасный пример покровительства религиозной учености. Это можно только одобрить! Екатерина была тронута его похвалой. — Я хочу помочь тем, кто имеет усердие в вере и жаждет получить простое и ясное понимание Божьих дел. У меня нет намерения превращать их в пытливых исследователей величайших тайн или во вздорных, непочтительных спорщиков о Библии, но пусть они будут верными последователями Слова Божия. — Эразма это порадовало бы. В детстве я один раз встречался с ним. Он был величайшим ученым своего поколения. Она согласилась: — Я всегда стремилась жить по его завету просвещенной добродетели. Можно только аплодировать желанию этого ученого мужа видеть священные тексты на исконных языках, что позволило нам достичь более глубокого понимания их сути. Генрих кивнул: — Он лелеял идеал мирного сотрудничества в религиозных делах, но немногие ему внимали. Я сам пытался достичь этого и понимаю, с какими трудностями он столкнулся. Но его не интересовали доктрины. Он целиком отдавался вере и преданному служению. Он не стал бы ввязываться в споры, направленные против Лютера. Некоторые говорили, мол, он снес яйцо, а Лютер его разбил, но сам Эразм опровергал это. — Если бы он еще был жив, — сказала Екатерина. — Ему не понравилось бы, как искажены и используются в качестве оружия в спорах о религии его заветы. Но вы расширите сферу понимания трудов Эразма, а это неплохо. — Я думала, что следует привлечь к работе и других людей. Мастер Ашэм порекомендовал доктора Юдолла, который, по-моему, возглавлял Итон. Он опубликовал учебник латыни. — К тому же, как и Ашэм, был реформистом, что радовало Екатерину. Генрих нахмурился: — Хм… У Юдолла дурная репутация. Пару лет назад его вынудили покинуть Итон после содомии с одним из студентов. Этого человека следовало повесить, но его друзья при дворе обратились ко мне с отчаянными мольбами о помиловании, ссылаясь на ученость Юдолла, и я заменил наказание на тюремное заключение. Он выказал великое раскаяние и стал другим человеком. Через год я освободил его. Екатерина была потрясена. — Мастер Ашэм сказал моей сестре, что доктор Юдолл — серьезный и любящий науку человек, пользующийся известностью как переводчик. Неужели он не знал об этом обвинении? — Люди меняются, — отозвался Генрих, — и когда человек получил заслуженное наказание, его должно прощать. Так как Юдолл любит маленьких мальчиков, сомневаюсь, что он будет представлять угрозу для вас или Марии. Он хороший ученый и не рискнет попасться на том же еще раз. Тогда ему не будет пощады. — Я читала его перевод книги «Апофтегматы» Эразма, — сказала Екатерина. — Очень впечатляет. Если вы не против, я дам ему шанс и присмотрю за ним. — Мария не будет видеться с Юдоллом слишком часто. А лучшего человека для этой работы не найти. Только держитесь начеку, Кейт. Мария была счастлива, что ее привлекли к работе, и обрадовалась за доктора Юдолла, которому поручили перевод. Она была очень наивной молодой женщиной и, как подозревала Екатерина, не слышала или если слышала, то не поняла, в чем провинился доктор. Леди Мария порозовела от удовольствия, когда Екатерина попросила ее заняться Евангелием от Иоанна, самой сложной книгой Нового Завета. — Я знаю, вы прекрасно справитесь с этой работой, — сказала Екатерина, радуясь удаче: она смогла сделать что-то хорошее для своей падчерицы. Она обставила дело так, что Юдолл встречался с Марией только в ее присутствии. Сперва этот человек не понравился Екатерине, и она предпочла не приближать его к себе, но, когда ознакомилась с его переводом, поняла, что Ашэм и Генрих не ошибались в нем.
Екатерина хотела бы иметь дядю Уильяма своим камергером, однако тот в последнее время болел и все реже бывал при дворе. Ей не хватало его ободряющего присутствия рядом и мудрых советов; состояние здоровья любимого дядюшки вызывало у нее беспокойство. Но все-таки с ней была Анна в качестве главной леди ее личных покоев; вместе с ней службу несли Маргарет, тетя Мэри и Магдалена Лейн, все добрые подруги и родственницы Екатерины. Сидя среди своих помощниц, занятых шитьем или совместным чтением, она почитала себя счастливицей оттого, что в числе ее придворных дам находились герцогиня Саффолк и леди Хоби, образованная женщина, муж которой, сэр Филип, был уважаемым дипломатом. Хотя какое ей дело до этого? Леди Хартфорд вела себя резко до неприличия и явно держалась весьма невысокого мнения о Екатерине, подозревавшей, что эта особа злится из-за данной ею брату ее мужа отставки. Екатерина с радостью уволила бы ее, но леди Хартфорд так умно отпускала свои шпильки, что жалобы на них прозвучали бы глупо, да и, кроме того, лучше было не наносить новых обид Сеймурам. Бесстрастная Сюзанна Гилман была очень симпатична Екатерине: эта фламандская художница бросила свое ремесло, чтобы служить камеристкой у королевы, и исполняла некоторые ее личные поручения. Генрих посчитал необходимым написание нескольких портретов своей новой королевы, предчувствуя большой спрос на них, и обещал, что запечатлеть ее поручит своему художнику Гансу Гольбейну. Тот уже сделал набросок с Анны и очень верно ухватил ее черты, но был очень занят другими заказами короля, а потому Екатерина с удовольствием стала патронировать другим мастерам: полному и суетливому Джону Беттсу и еще одной обретавшейся при дворе фламандской художнице — Левине Теерлинк; назначение последней на должность придворного живописца было уникальным явлением и большой честью для женщины. Про себя Екатерина думала, что талантом она уступает Сюзанне Гилман: у всех, кого рисовала Теерлинк, руки были тонкие как палки. Сегодня королева и ее дамы вслух читали друг другу отрывки из Писания, после чего завязалась оживленная дискуссия. Екатерина почти не сомневалась в том, что большинство женщин, сформировавших ее ближний круг, были тайными протестантками. Это тоже примиряло ее с леди Хартфорд. Все они старались не высказывать открыто слишком спорных взглядов. Даже несдержанная на язык леди Саффолк соблюдала в этом смысле осторожность, хотя с епископами не церемонилась и дала своему щенку-спаниелю кличку Гардинер. — К ноге, Гардинер! В угол, Гардинер! — под взрывы хохота командовала она песику. Екатерина улыбалась, холодея при мысли о том, что случится, если их тайные убеждения когда-нибудь раскроют. «Гнездо еретичек», — так назвал бы настоящий Гардинер покои королевы, открой ему кто-нибудь правду. Памятуя о срединном пути, которого держался король, Екатерина предусмотрительно попросила назначить своим подателем милостыни католика, епископа Чичестерского, однако все священники при ее дворе были из реформистов. Среди них обретался и старый друг Екатерины Майлс Ковердейл, переводчик Библии на английский. Несмотря на все меры предосторожности, религиозные радикалы стекались к маленькому двору королевы для участия в дебатах. Одним из них был королевский священник Николас Ридли, недавно избежавший обвинения в ереси, другим — ведший зажигательные речи духовник леди Саффолк Хью Латимер. Он привел с собою своего друга Николаса Шэкстона, которому запретили проповедовать. Все трое свободно излагали свои взгляды на собраниях у Екатерины. Королева тревожилась, как бы Гардинер и католическая фракция не посчитали, будто она собирает вокруг себя диссидентов, поэтому предупреждала всех, кто приходил к ней, что все выражаемые мнения не должны противоречить направлению проводимых королем реформ. И так как на этих диспутах иногда присутствовал Генрих, а сама Екатерина снискала многочисленные похвальные отзывы, даже Гардинер не мог бы ничего сказать против нее.
Однажды теплым летним вечером Генрих пришел в покои Екатерины и жестом велел дамам удалиться. — Боже, как я устал! — воскликнул он, опускаясь в глубокое кресло, всегда стоявшее наготове для него. Екатерина встала и налила королю вина. — Епископ Гардинер снова докучал вам? — поинтересовалась она. Генрих шумно вздохнул и с благодарностью принял от нее кубок. — Да, в Лондоне из-за жары появилась чума, и он считает это выражением гнева Господня, потому что королевство заражено ересью. — Чума? — Остального Екатерина почти не слышала. — О нет! — Не волнуйтесь, Кейт, в Хэмптон-Корте вы в относительной безопасности. Если бы я чувствовал угрозу, меня бы уже здесь не было! Однако в Лондоне много смертей, и я объявил, что никто из Сити не должен приближаться ко двору ближе чем на семь миль. А также запретил всем, кто находится здесь, ездить в Лондон и возвращаться сюда. — Какое облегчение слышать это, — произнесла Екатерина, опускаясь на колени у его ног. — Я слышала об этих летних эпидемиях и всегда радовалась, что нахожусь далеко. — Со мной вам ничто не грозит, — сказал Генрих и погладил ее по плечу. — И Гардинер винит в этом ересь? — Гардинер любое зло приписывает влиянию ереси. Екатерина набралась смелости — надо же с чего-то начинать — и сказала: — Генрих, почему вы слушаете этого человека? Все видят, что он тянет вас назад, к примирению с Римом. Король убрал руку с ее плеча. Последовала долгая пауза. Екатерина не смела поднять на него глаз. — Я не дурак, Кейт, — мягко произнес он. — И понимаю, что по душе Гардинеру. Но ему придется разочароваться. Тем не менее он небездарный человек, и его мысли по многим вопросам совпадают с моими. — Но есть люди, которые готовы помогать вам на более верном пути. — Ваши евангелисты? И Кранмер? Ха! Они думают, я не знаю их секретов. От этих слов короля Екатерине стало страшно. — Их секретов? — Ах, Кейт, вы так доверчивы! Эти люди заставили бы меня пойти слишком далеко в другом направлении, а там уже ересь. Нет, мой срединный путь — самый лучший. Екатерина успокоилась. — Если бы только Гардинер понимал это. А он пытается столкнуть вас с него. Он враг реформ. — Кое-кто мог бы сказать, что я зашел слишком далеко в своих реформах. Мне приходится иметь в виду, что души подданных должны быть главным предметом моих забот. — Тогда берегитесь Гардинера, молю вас. Король поднял к себе ее лицо: — Кейт, никто не усомнится в вашей искренности в этих делах и вашей образованности. Но тут речь идет не только о религии, но и о политике, для которой женщины не подходят. Не бойтесь, я не сверну со своего срединного пути, что бы ни говорил Гардинер. Ах, но действительно ли это срединный путь? Екатерине хотелось бросить ему вызов, но она опасалась, что уже и без того сказала слишком много. Это будет долгая игра, но Гардинеру не выйти из нее победителем, пусть даже не надеется.
Екатерина стояла в спальне со своими двумя падчерицами — Марией и Маргарет. Перед ними на кровати лежала гора только что доставленной новой одежды — великолепные творения портновского искусства, сшитые из золотой и серебряной парчи, дамаста, тафты, шелка и бархата. В наружном покое женщины заливались хохотом, глядя на выходки двух шутов: Дуры Джейн и Карлика; попугай Екатерины кричал со своего насеста, а спаниель Риг, подаренный Генрихом, лаял так, будто у дверей собралась стая адских псов. Екатерина распахнула дверь. — Тише, пожалуйста! — крикнула она. Общий гомон стих, даже попугай как-то вдруг сник. Риг снова гавкнул, но Екатерина схватила пса за бархатный ошейник и погрозила ему пальцем: — Безобразник! Плохой мальчик! — Екатерина улыбнулась дамам. — Прошу, продолжайте, только не шумите так. А то я не слышу собственных мыслей. — Она закрыла дверь и поморщилась. Мария и Маргарет осторожно перебирали платья. — Они великолепны! — в благоговейном восторге произнесла Маргарет. — Вы будете выглядеть до кончиков ногтей королевой, — сказала Мария. Она и сама любила роскошные платья, хотя имела пристрастие к более ярким нарядам, вероятно восполняя тем невзрачную внешность, думала Кэтрин. Или, может, бедная девочка просто хотела привлечь к себе внимание мужчин. — Мне нравится это. — Мария дотронулась до итальянского платья насыщенного оранжевого цвета. Екатерина порадовалась, что старшая падчерица надела пару подаренных ею браслетов, усыпанных рубинами, изумрудами и бриллиантами. — И этот французский киртл — просто прелесть. — Он был алый, любимого цвета Марии. — Вот изысканные вещи, — сказала Екатерина, заглядывая в коробочку, где лежал набор из шести пуговиц в форме колес Екатерины. — И эта тоже. — Она взяла в руки веер из страусовых перьев с золотой ручкой. — Взгляните на эти туфли! — воскликнула Маргарет и указала на дюжину пар обуви, выставленной в ряд на полу, расшитой золотом, бархатной, кожаной и с каблуками из пробкового дерева. — Туфли — моя слабость, — призналась Екатерина. — Хотя до сих пор я не могла потакать ей. Но я чувствую себя эгоисткой, имея столько роскошных нарядов. Вы можете выбрать себе по платью, и я велю портному подогнать их вам по фигуре. Елизавете уже было отправлено фиолетовое. Купаясь в благодарностях падчериц, Екатерина дождалась, пока те остановят на чем-то свой выбор, потом отправила Маргарет к другим дамам. Ей нужно было наедине переговорить с Марией. Она отвела ее по лестнице во двор, а оттуда — в личный сад. День снова выдался жаркий, поэтому они присели на скамью в тени дерева. — Не могу передать вам, как мне приятно, что вы моя падчерица, — сказала Екатерина Марии. — Я всего на четыре года старше вас, но надеюсь, вы можете думать обо мне как о матери и друге. — Вы для меня уже стали и тем, и другим. — Мария улыбнулась. — Я отправила принцу Эдуарду и леди Елизавете приглашения ко двору с целью посетить меня. — Отец не позволит Эдуарду приехать прямо сейчас, в разгар эпидемии, — сказала Мария, — и Елизавете тоже, я полагаю. — Она ответила мне, — сообщила ей Екатерина. — Ее письма весьма умны и изысканны. Можно подумать, это писала женщина лет сорока! — Елизавета очень умна и сметлива. — Взгляд Марии на мгновение стал твердым. Конечно, между сестрами существовала ревность, а как же иначе? — Что она написала? — Поблагодарила меня за доброту, которой, по ее словам, не заслуживает, и обещала приехать, как только ей это позволят. Она дала слово вести себя так, что мне не придется жаловаться, и выказать мне должные послушание и уважение. В конце добавила, что с нетерпением ждет, когда отец даст ей разрешение. — Это очень похоже на Елизавету. — Мария снова улыбалась. — Она всегда была развита не по годам. — Когда она приедет, я сделаю вас обеих своими главными придворными дамами. Анна не станет возражать. Она поймет, что дочерям короля следует отдать предпочтение и почему Екатерина посчитала необходимым осыпать их милостями. — У вас обеих были трудные времена, — сказала Екатерина. — Меня тронула ваша забота о Елизавете. Они вполне могли ненавидеть друг друга. Елизавета была живым напоминанием о том, что пришлось вынести Марии и ее матери из-за Анны Болейн, околдовавшей короля. — Кто-то должен направлять ее. Кейт Чепернаун, главная воспитательница, чересчур снисходительна к ней. Елизавета слишком похожа на свою мать. Ей нравится лесть, и она склонна к переменам настроения. Екатерина достала свое вышивание. — Она юна и, вероятно, отстаивает свое место в мире. Как, полагаю, и вы. Глаза их встретились, и Мария кивнула: — Это было нелегко. Сперва ты обожаемая принцесса, у ног которой лежит весь мир… А потом у тебя все это отбирают и объявляют незаконнорожденной — полный крах. Я уверена, из-за этого мне никак не найдут супруга. А я так хочу выйти замуж и иметь детей. — Я вам сочувствую. — Екатерина наклонилась к ней и взяла за руку. — Хорошо, что вы изливаете свои материнские чувства на Елизавету. Она нуждается в вас. И я слышала, что мистресс Чепернаун — образованная женщина и прекрасная учительница, несмотря на другие ее недостатки. — О да, — согласилась Мария, сняла с головы капор и встряхнула длинными рыжими волосами. — Она учила Елизавету языкам, в чем та преуспела, познакомила ее с классическими писателями, помогла овладеть игрой на лютне и вёрджинеле. — Я уверена, ваша роль во всем этом значительна. — Екатерина улыбнулась. — По общим отзывам, вы и сами талантливая исполнительница. Мария покраснела от удовольствия: — Я люблю музыку, как отец. Это у нас в крови. — Она замялась. — Елизавете я помогаю потому, что она милое дитя, а не из-за родства по крови. Хотя мы с ней вообще не родные. Она не дочь моего отца. Екатерина в изумлении уставилась на Марию. — Ее отцом был музыкант по имени Марк Смитон, один из любовников той женщины. Елизавета — его копия. Королева собралась с мыслями. — Я не могу поверить в то, что вы мне говорите. Сходство Елизаветы с отцом поразило меня, когда я ее впервые увидела. — Но ваша милость никогда не видели Марка Смитона, — возразила Мария. — А если бы видели, то заметили бы в них общие черты. Екатерину это ничуть не убедило. Она чувствовала себя неуютно от этого разговора, словно предавала Генриха. Знал ли он, что думает Мария? Сказать ли ему? Нет. Чем меньше слов… Пора было сменить тему. Она встала. — Мне больше нечего добавить по этому поводу. Давайте немного прогуляемся. Мария поднялась и надела капор. — Как вам угодно. — Мне не терпится увидеть принца Эдуарда, — сказала Екатерина, когда они вошли в дворцовый сад и направились к аллее для боулинга, где полным ходом шла игра. — Для меня будет большим удовольствием видеть вас всех вместе при дворе. — Эдуард редко приезжает, — сказала Мария. — Отец страшно боится, как бы он не подхватил какую-нибудь заразу. Он настаивает, что принцу лучше в деревне, где воздух здоровый. — Когда закончится эпидемия, я попрошу у него разрешения на приезд Эдуарда. Как было бы приятно собраться всем вместе, по-семейному! — Это было бы мило, — с задумчивым видом проговорила Мария. «Именно, мило, — подумала Екатерина, — взять этих несчастных девочек и одинокого мальчика под крыло, показать им, что в жизни есть много хорошего… и, — мелькнула у нее более корыстная мысль, — заодно завоевать любовь и благодарность будущего короля». Но, пока иметь его рядом с собой невозможно, она будет писать ему полные любви письма, демонстрировать доброту и слать подарки; два костюмчика из алого бархата и белого атласа уже были отправлены принцу. — Эдуарду скоро исполнится шесть, — говорила меж тем Мария. — Отец желает назначить своего священника доктора Кокса его наставником. Это меня беспокоит. Ходят слухи, будто доктора Кокса выгнали из Оксфорда за поддержку лютеранских взглядов. Я бы не хотела, чтобы такой человек оказался рядом с моим братом. — Сомневаюсь, что ваш отец выбрал бы его духовным наставником принца, если бы эти слухи были верны, — сказала Екатерина. Мария нахмурилась. Она будто вовсе не слышала слов своей собеседницы. — Ненавижу реформистов, все они в душе протестанты. Для Англии это был скорбный день, когда мой отец порвал с Римом. — Ш-ш-ш! Не говорите лишнего! — прошипела Екатерина. Они приближались к аллее для боулинга, их могли услышать. Люди уже кланялись им и делали реверансы. Нельзя допустить, чтобы пошла молва, будто Мария вела изменнические речи. Некоторые люди претерпели ужасную смерть и за меньшее. Кэтрин внутренне содрогнулась при мысли о том, что сказала бы ее падчерица, к которой она уже начала испытывать симпатию, если бы знала, что мачеха держится ненавистных ей взглядов. Екатерина не хотела утратить доброе отношение к себе Марии или добавить ей переживаний.
В тот вечер король пришел в покои Екатерины с группой своих джентльменов, и были устроены танцы. Генрих, сделав один круг с супругой, уселся в кресло, а пару ей составил лорд Хартфорд. — Я получил письмо от брата, мадам, — в своей обычной холодной манере произнес тот. — Он просит меня передать вам от него поздравления с тем, что вы стали королевой. Екатерину пробила дрожь. Ей потребовалось собрать все силы, чтобы сконцентрироваться на танцевальных шагах и унять трепет руки, вложенной в руку партнера. — Это очень приятно, — сказала она и, к своему ужасу, почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Быстро сморгнув их во время элегантного поворота, Екатерина заставила себя улыбнуться. — Надеюсь, дела у него идут хорошо за границей? — К счастью, у него очень много дел, — отозвался Хартфорд. Екатерина почувствовала неодобрение в его тоне. Он явно знал о них с Томом. Если бы только она могла сказать ему, что с радостью предпочла бы его брата королю! На вечер Екатерина запланировала выступление музыкантов, чтобы развлечь Генриха, а потому вздохнула с облегчением, когда танец завершился. Теперь Бассано могли начать свой концерт для всей компании. За ними последовало выступление ансамбля виол. Екатерина заметила стоявшего в глубине залы органиста Королевской капеллы мастера Таллиса. Они с Генрихом оба восхищались его талантом музыканта и композитора. Мессы Таллиса и его мотеты были грандиозны и возвышенны, словно ангелы пели на Небесах. Она пожалела, что не попросила его спеть сегодня вечером, но это было нечто особенное, он споет в другой раз. — Изумительный вечер, дорогая, — сказал Генрих, когда смолкли последние ноты и публика громко захлопала. Музыканты низко поклонились, а гости встали, чтобы поблагодарить их аплодисментами. — Я приду к вам сегодня, — промурлыкал Генрих на ухо Екатерине. Он делил с ней ложе почти каждую ночь. Иногда у него не хватало сил войти в нее, но все же соития удавались им достаточно часто, чтобы у Екатерины появились мысли о возможной беременности. Она не особенно на это надеялась после двух бездетных браков, но какое это было бы чудо, если бы она родила Генриху сына. Зачать ребенка она могла, это точно, ей еще не так много лет. Екатерина позволила себе унестись в мечты о том, как обрадуется Генрих, когда она сообщит ему о беременности, как сама будет держать на руках младенца и триумфально показывать его всем. Если бы только… Перед сном, когда Анна расчесывала ей волосы, Екатерина дождалась, пока другие девушки уйдут, и спросила: — Анна, ты когда-нибудь видела Марка Смитона? Лицо сестры отражалось в зеркале — новом, в оправе с сапфирами, рубинами и жемчугом, и Екатерина заметила, что ее вопрос вызвал удивление. — Да, несколько раз. Он часто приходил в покои королевы Анны. Думаю, он был увлечен ею, но я никогда не замечала, чтобы она откликалась на его авансы. Я никогда не верила, что она могла пасть так низко и совершить измену с ним. А почему ты спрашиваешь? Екатерина понизила голос: — Леди Мария убеждена, что он отец Елизаветы. Она говорит, Елизавета — его точная копия. Анна задумалась. — Сомневаюсь. Все видят, что она очень похожа на короля. Те же волосы, нос… Прости меня, Кейт, но я полагаю, леди Марии просто очень хочется верить во все плохое об Анне Болейн.
Екатерина ничуть не встревожилась, когда Генрих уехал в Ричмонд обедать с Анной Клевской. Она слышала сплетни, будто Анна действительно надеялась вернуться на престол и сильно расстроилась, когда король выбрал другую, а потому одобряла решимость Генриха разбить этот лед, зная, что у нее нет причин для беспокойства. Король, казалось, был искренне привязан к Анне, но по-братски. Кроме того, кто она такая, чтобы подавать голос? Сама влюблена в другого мужчину. По возвращении Генриха они отправились в летний тур по стране, планируя сперва остановиться в королевских домах в Отлендсе, Вудстоке, Лэнгли и Графтоне. Маршрут уводил их дальше и дальше от пораженного чумой Лондона. Поездка шла неторопливо. Почти каждый день они охотились. Екатерина с удовольствием присоединилась бы к общей погоне верхом, но чувствовала себя обязанной оставаться с Генрихом на помосте, который соорудили по его приказанию, так как езда на лошади представляла опасность, когда у него болела нога. Загонщики гнали добычу к помосту, где стояли, метя в цель, Генрих и Екатерина. Конечно, это было не таким захватывающим действом, как преследование животных. Гардинер, благословен будь милостивый Господь, остался в Лондоне, без сомнения рассчитывая, что в отсутствие короля получит больше свободы вынюхивать ересь. Верный себе, он вскоре натворил дел — опасных дел. В покои Екатерины для участия в дебатах часто приходил один джентльмен из личных покоев короля, Томас Каварден, владевший землями в Суррее и Сассексе и занимавший пост управляющего Блетчингли, великолепным поместьем, которое было отдано Анне Клевской в качестве части обеспечения, полученного ею после развода. Человек он был беспокойный, с переменчивым нравом, донельзя самоуверенный и непредсказуемый — настоящая пороховая бочка; хорош собой, но его сардоническая внешность ничуть не привлекала Екатерину, и она сильно подозревала, что он тайный протестант. К тому же, судя по уничижительным ремаркам, которые отпускал Каварден во время разговоров, ему не нравился Гардинер. Однажды теплым июльским вечером Екатерина вернулась в Отлендс с охоты и застала в антикамере у входа в свои апартаменты Томаса Кавардена. — Ваша милость. — Он манерно поклонился. — Могу я просить вас о приватном разговоре? Безотлагательность, звучавшая в его тоне, обеспокоила Екатерину. — Конечно, мистер Каварден. Входите. — Она провела его в зал, где уже был накрыт стол к ужину. — Чем я могу быть вам полезной? — Мадам, вам следует знать, что пять служителей Королевской капеллы в Виндзоре арестованы за ересь. — Королевской капеллы? Боже правый! — Один из них — глава хористов Джон Марбек. Они все в городской тюрьме. — Это епископ Гардинер постарался? — О да. — Каварден прищурился. — Он нацелил свой лук на крупного оленя, но, чтобы добраться до него, ему сперва нужно переловить мелких кроликов. — А почему вы пришли с этим ко мне? Тот пристально взглянул на нее своими темными глазами: — Потому, мадам, что я считаю вас тоже другом Евангелия. Королева обмерла. Если Каварден разобрался в ее симпатиях, то и другие могут оказаться способными на это. — Я поддерживаю реформы короля, — твердо заявила она. — Разумеется. Но, мадам, если никто ничего не сделает, чтобы остановить Гардинера, этих людей сожгут на костре. Екатерину передернуло. — Двое из арестованных — мои друзья, — продолжил Каварден. — Один близок к сэру Филипу Хоби, жена которого служит в покоях вашей милости. Удар пришелся слишком близко. Екатерина задрожала, понимая, что Гардинер искал пути внедрить своих людей в ее ближний круг и выведать ее секреты. — Что я могу сделать? — спросила она. — Один человек из Королевской капеллы передал мне, что люди Гардинера обыскали дом мастера Марбека. Они нашли изобличающие его письма. Боюсь, это достаточное основание, чтобы предъявить обвинение в суде. Был составлен список других подозреваемых, и его отправят в Лондон Гардинеру вместе с письмами. Мадам, я опасаюсь, что в нем может оказаться и мое имя из-за моих связей с обвиняемым, и близких вам людей тоже могут уличить. Я должен добраться до этого списка. — Откуда вы о нем узнали? — Мой друг в Виндзоре слышал, как секретари епископа обсуждали это дело. Мадам, нам нужно отправить туда какого-нибудь верного человека, чтобы он узнал, кто везет эти документы вВинчестер-Хаус. Как только это выяснится, остальное вы можете смело предоставить мне. Сам я не могу поехать. Меня слишком хорошо знают, и мои взгляды уже вызвали подозрения. С часа на час я ожидаю ареста. Екатерина быстро соображала. У нее был грум Фальк, который служил ей еще в Снейпе. Скупой на слова йоркширец, надежный как скала. Он сделает это для нее без вопросов, и можно ручаться, что он никому ничего не скажет. — Я знаю подходящего человека, — сказала она, — и пошлю за ним немедленно.
Фальк вернулся в Отлендс на следующий день после полудня и застал Екатерину за молитвой. — Кое-что для вашей милости, — пробурчал он, положил на алтарную преграду сложенный лист бумаги и скрылся. Екатерина исподтишка покосилась на него, не забывая, что рядом молятся ее дамы. На листке было написано: «Роберт Окхэм». Она встала и покинула часовню, торопливо вернулась в свои личные покои и нашла пажа. — Прошу вас, разыщите мистера Томаса Кавардена и приведите его сюда, — распорядилась Екатерина. — Он или в своей комнате, или в личных покоях короля. Минут через десять Каварден был у нее. Понимая, что за его спиной стоит паж, Екатерина молча подала ему сложенный листок; сердце у нее стучало. — Это, мистер Каварден, подробности дарственной, которую мы обсуждали. — Ваша милость очень добры, — ответил он и, коротко поклонившись, быстро вышел. Екатерина вернулась к молитве, прося Господа споспешествовать ему на пути. Она не знала планов Кавардена, но почему-то верила, что у него все получится. Он был из тех людей, которые точно знают, чего хотят, и добиваются своего. Потянулись часы томительного ожидания новостей. Удалось ли Кавардену выполнить задуманное?
На следующий вечер король пришел к Екатерине ужинать раздраженный. — Гардинер снова разозлил вас? — Вы попали в самую точку! — прорычал Генрих. — На этот раз он зашел слишком далеко. Стал рыскать в моей Королевской капелле и обнаружил там гнездо еретиков. Мало того, он имел наглость составить длинный список людей из числа моих надежных придворных, которых должно обвинить в ереси. К счастью, какой-то верный человек принес этот список в Совет. У Екатерины голова закружилась от облегчения, но она поспешила заняться намазыванием масла на белый хлебец, который еще нужно будет заставить себя съесть. — Вы, наверное, озабочены искоренением ереси, где бы она ни была? — Эти люди не еретики! Я их знаю. Они мои верные подданные, и я не допущу, чтобы их преследовали. Я простил всех попавших в этот список и Марбека, потому что он великий музыкант. И распорядился, чтобы составителей этого списка провезли по Виндзору, посадив на лошадей задом наперед, с табличками на груди, где описаны их прегрешения. А потом они будут стоять у позорного столба! — Лицо короля побагровело от гнева. — Благодарение Господу, справедливость восторжествовала! — с горячностью проговорила Екатерина. И слава Богу, что Томас Каварден, сэр Филип, леди Хоби и все остальные в безопасности. Но что же делать с теми четверыми, которые так и сидели в тюрьме под страхом смерти? Сердце Екатерины обливалось кровью от сострадания, и все же она не осмеливались просить за них.
Каварден подошел к ней на следующий день, когда она вместе со своими дамами упражнялась в стрельбе из лука по мишеням. Собралось несколько зрителей, так что ничего подозрительного не было в том, что и он тоже присоединился к ним. — Прекрасный день, ваша милость. — Каварден выглядел совершенно беззаботным. — Вы довольны дарственной, мистер Каварден? — спросила Екатерина. — Кажется, вы рассчитывали на успех. — Более чем доволен, мадам. Все идет хорошо. Но я был удивлен тем, что в документе среди двенадцати имен значились мое и моей жены. — Что ж, теперь все устроилось, — сказала Екатерина и подвинулась к леди Хартфорд, так как не хотела, чтобы ее видели говорящей с этим человеком слишком долго. — Теперь ваша очередь, Нан. Каварден поклонился и отошел. В сердце Екатерины бурлили противоречивые чувства. Гардинера лишили большинства его жертв, она содействовала этому, и проделка сошла ей с рук. Вероятно, она спасла жизни двенадцати человек, хотя ей и не удалось выручить всех. И тем не менее Екатерина понимала, что Гардинер и его сподвижники не остановятся. Они нанесут ответный удар. Епископ, настроенный очистить королевство от ереси, играл со своими жертвами, как кошка с мышью. До сих пор Екатерине не приходилось скрещивать мечи с ним лично или даже разговаривать, помимо обмена любезностями. Он не мог знать, что она его враг, так что угрозы для нее нет, по крайней мере пока.
Завершив тур по стране, двор вернулся в Виндзор. Екатерина и Генрих находились там, когда четверо еретиков из Королевской капеллы были сожжены на костре в Большом Виндзорском парке. Генрих спас жизнь Марбеку, но остальных отправил на смерть, дабы показать: ереси он не потерпит. Некоторые придворные Екатерины ходили смотреть на казнь, и, когда вернулись, всех тошнило. Сама она не могла слышать их рассказы об увиденном. Ей не доставляли удовольствия ни обсуждение планов по устройству новых апартаментов, которые начал строить Генрих, ни новая барка. Нан Хартфорд, муж которой регулярно получал письма от своего брата, казалось, с истинным наслаждением рассказывала ей, что Том Сеймур до сих пор находится в армии во Франции и подвергается опасности, потому что французы рядом. Трудно было скрывать от Генриха, как она опечалена, и Екатерина радовалась обществу Марии, которая отвлекала ее от мрачных мыслей. Однако в конце сентября Мария заболела, сказала Екатерине, что это для нее обычно осенью, и уехала в свой дом в Эссексе. Вскоре после этого Нан сообщила, что в армии, находящейся во Франции, не хватает продуктов и теплой одежды для защиты от холода. Екатерина готова была убить ее. Чума продолжала разить людей в Лондоне, хотя погода стояла осенняя. Король перенес двор в Данстейбл. Старый приорат там совсем недавно был превращен в роскошный дворец. Екатерина вспомнила о первой жене Генриха, брак которой был расторгнут здесь, когда сама она находилась в изгнании — жила неподалеку от замка Эмптхилл, и Кэтрин не могла не задуматься о трагической судьбе этой несчастной женщины, которой было отказано в счастливом исходе. Из Данстейбла Генрих и Екатерина поехали в Эшридж навестить принца Эдуарда в его шестой день рождения. Наконец-то она познакомится со своим пасынком и будущим королем. Елизавета тоже была там и тепло встретила Екатерину, что ее обрадовало. Однако, когда Эдуарда привели к отцу, Екатерина взглянула на этого серьезного светловолосого мальчика с лицом в форме сердечка, и сердце ее преисполнилось жалостью. Великолепно одетый, все еще в длинных юбках, он выглядел таким маленьким посреди роскошных залов своего дворца. Вокруг него суетились воспитательница — повелительная леди Брайан, няня — матушка Джек и сестра; его окружала армия слуг. — Благороднейший отец и милостивый король, — приветствовал он Генриха, отвесив изысканнейший вежливый поклон. Что за преждевременная зрелость! Каким же чужим и устрашающим, должно быть, казался ему этот огромный родитель в великолепном костюме, сверкающий украшениями. Генрих погладил мальчика по голове: — Я привез вашу новую мачеху познакомиться с вами. — Ваше величество… — Эдуард поклонился ей. Екатерине хотелось обнять и поцеловать его, но она не знала, как это будет воспринято. — Очень рада познакомиться с вашей милостью, — сказала она. — Я так давно ждала этого. Надеюсь, мы с вами подружимся и вы позволите мне быть для вас матерью, как для ваших сестер. Холодные серые глаза, так похожие на глаза Генриха, смотрели на нее в упор, почти приводя в замешательство. — Мне будет это очень приятно, мадам. — Я привез вам украшение, Эдуард, — сказал Генрих, доставая из-под накидки бархатный мешочек. Мальчик вынул из него подвеску с эмалевым изображением фигуры cвятого Георгия, побеждающего дракона, и уставился на нее так, будто это был священный Грааль. — Вы, наверное, любите меня, ваше величество, если дарите мне такой прекрасный подарок, — сказал он. — Конечно, я люблю вас. — Генрих улыбнулся. — Вы мое самое ценное сокровище. — Взяв мальчика за руку, он провел его в личные покои и попросил сесть рядом. — Кажется с ним все в порядке, леди Брайан. — Да, сир. Его милость уже знает буквы и катехизис. Он прекрасно справляется с ежедневными упражнениями по верховой езде. Больше всего он старается удовлетворить ожиданиям вашего величества. Мы каждый день говорим ему, что он должен быть похожим на своего отца. Что я говорю вам, принц Эдуард? — Если я сравняюсь в делах со своим отцом, людям не о чем больше будет просить, — повторил мальчик. Екатерина готова была расплакаться от жалости к нему, вспоминая беззаботные дни своего детства в Рай-Хаусе, которых этому малышу никогда не познать. Какую ношу взвалили воспитатели на его юные плечи! Неужели подражание отцу нельзя отложить, пока он не станет немного старше? — Во что вы любите играть, Эдуард? — Я люблю свою деревянную лошадку и волчок, — ответил ей мальчик. — И кегли, — напомнила ему Елизавета. — Что я могу прислать вам в подарок? — поинтересовалась Екатерина. — Вам нравится играть в мяч? — Мне очень понравится мяч, благодарю вас. Он, кажется, улыбнулся? Екатерина задумалась: часто ли этот ребенок смеется? Генрих, сияя, одобрительно смотрел на нее. — Я пришлю вам мяч, — пообещала Екатерина. — А я буду играть с вами, — предложила Елизавета. Теперь уж Эдуард точно улыбался. — Думаю, вы очень рады, что женитесь на королеве шотландцев, — продолжила разговор Екатерина. — Да, мадам, но она совсем маленькая. — Она вырастет, — мягко проговорил Генрих, — и вы станете королем Шотландии и Англии. Шотландцы больше не нападут на наши границы! И не будет пагубных для нас договоров между ними и французами. Считайте себя счастливцем, мой мальчик! — Я счастлив, — заявил Эдуард, хотя вовсе не выглядел таким. — Не могу достаточно отблагодарить вас, сир, за брак с такой великой принцессой. Генрих окинул сына взглядом: — Вы уже большой мальчик, слишком взрослый, чтобы вас воспитывали женщины. Пора вам надеть бриджи и начать обучение. Вас это радует? — Да, сир. Екатерина с удовольствием отметила, что мальчик действительно выглядел довольным. Но как он почувствует себя, когда леди Брайан и матушку Джек заменят учителя, как планировал Генрих? Какой станет его жизнь без этих женщин, заменивших ему мать и знакомых с младенчества? — Вашим наставником будет доктор Кокс, — сообщил сыну король. Они с Екатериной обсуждали это и сошлись на том, что доктор Кокс прекрасно подходит для этого почетного и крайне ответственного дела. Он был ученым из совета Королевского колледжа в Кембридже и убежденным реформистом, но еще важнее, с точки зрения Екатерины, что Эдуард знал этого человека, так как тот служил у принца подателем милостыни и выслушивал его детские исповеди. В отличие от других учителей, доктор Кокс считал, что учение должно приносить удовольствие, к нему нельзя принуждать палками, хотя одобрял телесные наказания как крайнюю меру. — У вас будут товарищи по учебе, — сказал сыну Генрих. — Я отобрал четырнадцать мальчиков из благородных семейств, которые будут жить с вами и составят вам компанию. И ваша сестра Елизавета тоже будет посещать занятия. Берите с нее пример, она хорошо учится. — Он гордо улыбнулся дочери. — Спасибо, сир. — Елизавета обрадовалась безмерно. — Я помогу вам с уроками, Эдуард. — Вы очень добры, сестрица. — Мальчик взял ее за руку. Между ними явно существовала глубокая привязанность. Екатерина и Генрих остались на обед, потом на лошадях вернулись в Данстейбл. Екатерина взгрустнула, оставляя Эдуарда, которому предстояло в одиночку столкнуться с резкими переменами в жизни, но, по крайней мере, с ним была Елизавета. Она его поддержит. Екатерина решила регулярно писать принцу. Пусть знает, что она о нем не забывает.
Эпидемия все не проходила и осенью унесла Ганса Гольбейна, даровитого королевского художника. Теперь он уже никогда не напишет портрет Екатерины и она не получит заказанные ему чаши и брошь. Однако он успел прислать ей три круглых портрета ее приемных детей, и его работы в королевских дворцах попадались на глаза повсюду. — Никто его не заменит, — печалился Генрих, когда они стояли перед картиной покойного художника. — Такого, как он, мы больше не увидим. Ваш портрет придется писать мастеру Хоренбауту. Он неплох, но не дотягивает до Гольбейна. И мне порекомендовали оказать покровительство недавно приехавшему из Антверпена художнику, мастеру Эворту. Я видел его работу, и она впечатляет. Думаю, он сможет завершить начатые Гольбейном картины. — Он умеет писать миниатюры? — Полагаю, да. — Я бы хотела иметь наши маленькие парные портреты. — Тогда спокойно обращайтесь к нему. А оплату можете отнести на счет моего личного кошелька. В начале декабря Екатерина позировала мастеру Эворту, когда в ее приемный зал, тяжело ступая, вошел король. — Прочь! Прочь! — скомандовал он, и все дамы мигом ускользнули, а художник даже уронил кисть, спеша удалиться. Видя опасно побагровевшее лицо супруга, Екатерина в тревоге поднялась. — Что случилось? — Первой ее мыслью было, что Генрих узнал о Томе или собирался обвинить ее в ереси, но ведь она была так осторожна… — Шотландцы отозвали заключенный в Гринвиче договор! — проорал король. — Эти невежи возобновили старый альянс с Францией. Ей-богу, они за это заплатят! — Он плюхнулся на трон Екатерины, опустил голову на руки и от досады залился слезами. — Все насмарку! Все мои надежды на объединенное королевство! Шотландцы буквально говорят мне, что мой наследник недостаточно хорош для их королевы. Что ж, за это они тоже заплатят. — Он сел прямо, его влажные глаза горели. — Это война! — Какое потрясение! — посочувствовала Екатерина, мягко кладя руку на плечо мужа. — Вы не заслужили такого после стольких дипломатических усилий. Это бесчестно со стороны шотландцев — сперва ратифицировать договор, а потом отказаться от него. — Да, и они не могли выбрать для этого более неудачного момента. В следующем году я должен присоединиться к императору в походе против Франции, но не могу вести войну на два фронта. У меня нет таких ресурсов. Придется отправить Хартфорда с армией на Север, чтобы преподать урок шотландцам. Он может выступить немедленно! Они узнают, чего стоит непокорность мне!
Когда чума наконец унялась, они вернулись в Уайтхолл. Генрих продолжал злиться, но к моменту прибытия в Хэмптон-Корт, где они должны были провести Рождество, успокоился. Екатерине понравились новые апартаменты в Часовом дворе. Ее окна выходили в сад, на рыбные пруды и расположенную за ними Темзу. Здесь ей будет спокойно. После бурных событий и эмоциональных переживаний прошлого года она нуждалась в отдыхе, хотя уже чувствовала себя увереннее и даже меньше думала о Томе. Может быть, теперь она позволит себе расслабиться. Екатерина убедила Генриха, что все трое его детей должны приехать к ним на Рождество. Какая радость, что они соберутся под одной крышей! Мария, которая уже оправилась от болезни, выглядела счастливой, раньше Екатерина ее такой никогда не видела. Елизавета с жаром включилась в приготовления к празднику, делала украшения из омелы и заворачивала новогодние подарки. Уилл вернулся ко двору, завершив свою деловую поездку, и радость Екатерины увенчалась впечатляющей церемонией, устроенной после мессы, за два дня до Рождества, на которой Генрих сделал его графом Эссексом. Потом вперед вышел заметно поседевший дядя Уильям и был возведен в ранг барона Хортона. Екатерина наблюдала со слезами на глазах. А потом, когда ее брат и дядя в новых накидках и коронах пэров прошествовали на обед с лордами в зал Совета, сердце ее едва не разорвалось от гордости.
 Глава 18
1544 год
Глава 18
1544 год
Обед затянулся. Генрих, насытившись, откинулся на спинку кресла и вытер рот, а Екатерина тем временем положила себе еще одну полную ложку сливок, взбитых с вином и сахаром. Они были одни, так как всегда отпускали слуг, когда обедали вдвоем. За окном завывала вьюга, снег вихрился вокруг башен и турретов Уайтхолла. Уже почти наступил февраль, было холодно, но не в ее личных покоях, где жарко горел огонь в очаге.
Теперь или никогда.
— Генрих, — начала Екатерина, — мне жаль, что до сих пор Господь не благословил меня ребенком.
Он нахмурился:
— На то Божья воля. Хотя я каждый день молюсь об этом.
— Вы, должно быть, беспокоитесь о наследовании престола, — продолжила Екатерина. — Эдуард — здоровый мальчик, но ясно, что вы боитесь за него.
Она вспомнила о тщательной уборке в комнатах принца, которую проводили трижды в день, о строгих ограничениях, наложенных на тех, кто его посещал, об одержимости Генриха тем, чтобы Эдуард дышал свежим деревенским воздухом.
— Беспокоюсь, — отозвался он. — Столько детей умирает.
— Но у вас есть две дочери, обе умные и одаренные леди, которые, я уверена, вполне способны управлять королевством, если что-нибудь, не дай Бог, случится с Эдуардом.
Генрих перекрестился:
— Аминь. Но, Кейт, женщина не может управлять страной и стоять выше мужчин.
— Королева Изабелла правила Кастилией и теперь считается великой правительницей. Женщины-регенты были во Франции и проявили себя способными к этому. Вы сами хвалили имперских принцесс, которые стояли во главе Нидерландов. Они все владычествовали над мужчинами.
Генрих покачал головой:
— Англичане не потерпят власти женщины. В пятнадцатом столетии они выпроводили императрицу Матильду из-за ее невыносимой гордости и недостатка здравомыслия. Как может женщина быть ребенком в глазах закона и обладать суверенной властью?
— Простите меня, Генрих, но я думаю, все зависит от личных способностей, и Мария с Елизаветой не обделены ими. В вашем собственном королевстве многие женщины управляют поместьями и делами. И подумайте: если род на Эдуарде прервется, на троне все-таки будет человек вашей крови.
— Хм… — Генрих огладил бороду. — Изабелла правила вместе со своим мужем, королем Фердинандом, но королева-регент столкнется с проблемой, когда дело дойдет до выбора мужа, а она должна будет вступить в брак, дабы обеспечить наследование престола. При естественном порядке вещей муж будет править от ее имени. Но кого ей выбрать? Иностранного принца? Тогда Англия может превратиться в окраину Франции или Империи. И не забывайте, англичане не любят иностранцев. Но если она выберет одного из наших дворян, то может вызвать зависть среди пэров.
Кэтрин улыбнулась ему:
— Понимаю. Я только хотела успокоить ваш разум. Это была просто идея, но я полагаюсь на ваше мудрое суждение.
Генрих немного посидел в задумчивости.
— Я уловил вашу мысль, — сказал он после продолжительного молчания. — Своим преемником я могу назначить любого, кого захочу, и парламент утвердит мое решение. Незаконнорожденность тут не помеха. Я бы назначил своим наследником юного Ричмонда, если бы он был жив.
Екатерина была близка к тому, чтобы победить в споре.
— Дочери — ваш ценный актив. Подумайте, как они обрадуются, узнав, что вы верите в них настолько, что готовы восстановить в правах на наследование престола. Они этого заслуживают. О, Генрих… — Она встала перед ним на колени. — Я умоляю вас, подумайте об этом.
— Не нужно преклонять передо мной колени, Кейт, — сказал король, наклонился и поднял ее за локти. — Я подумаю об этом, обещаю. Но не объявлю Марию и Елизавету законными дочерями. Это будет означать, что я признаю свои браки с их матерями состоятельными.
— Я понимаю, что вы не можете этого сделать, — отозвалась Екатерина.
— Нет ли у вас еще этого превосходного вина? — спросил Генрих.
Екатерина поняла, что пора сменить тему.
— Сегодня я дам согласие, — сказал Генрих Екатерине, когда она пришла в его кабинет посидеть с ним. — Все устроено, как вы хотели. Мария и Елизавета будут восстановлены в очереди на наследование престола после Эдуарда. У нас еще могут быть дети, дорогая, но вы правы, я должен выстроить план действий на случай любых чрезвычайных обстоятельств. Вот черновик билля, прочтите, если вам угодно. Король подал ей свиток, и она пробежала глазами новый Акт о престолонаследии, который вскоре издаст парламент. На ее глаза навернулись слезы радости за свой успех. Акт также устанавливал, что любой ребенок, которого она родит королю, встанет за принцем Эдуардом в очереди на престол. В случае отсутствия таковых их место занимают дети, которых король может заиметь от других королев. Она втянула ноздрями воздух и, запинаясь, проговорила: — Других королев? — О, дорогая, я должен предусмотреть любые неожиданности. Молю Бога, чтобы Он сохранил вас для меня до конца моих дней, но, если Он рассудит иначе, моим долгом останется обеспечение страны наследником. Екатерина успокоилась. Скорее бы радостную новость сообщили Марии и Елизавете. — Я закажу большую картину, чтобы отметить этот акт, — сказал Генрих. — На ней изобразят меня и моих наследников — династию Тюдоров. — Это прекрасная идея, — поддержала короля Екатерина.
Ей никогда не забыть, как осветилось радостью лицо Марии, когда отец сообщил ей, что она будет восстановлена в очереди на престолонаследие. Они сидели за обедом, и после этих слов Генриха Мария больше не могла проглотить ни кусочка. После того как король ушел спать, купаясь в благодарностях дочери, та со слезами на глазах обратилась к Екатерине: — Я знаю, что должна благодарить вас. Отец сам никогда бы не подумал поступить так. Вы не представляете, как я счастлива. За это боролась моя праведная матушка, чтобы я заняла принадлежащее мне по праву место в очереди наследников престола. — Мария порывисто обняла Екатерину. — Я не стремлюсь носить корону. Надеюсь, Эдуард будет здравствовать, станет взрослым и у него родятся дети. Просто я всегда хотела, чтобы мое право на трон было признано. Как возрадуется моя мать на Небесах наступлению этого дня! Потом Екатерина и Генрих поехали в Эшридж, чтобы сообщить новость Елизавете. Увидев, в какой восторг пришла другая ее падчерица, Екатерина сильно обрадовалась. Елизавета не могла надеяться, что ее мать когда-нибудь реабилитируют, но восстановление в правах наследования было ее вторым самым заветным желанием. Девочка обхватила руками отца и крепко обняла его. Глаза короля заблестели от навернувшихся слез. Ликования в душе Екатерины поубавилось, когда она увидела законченной заказанную Генрихом картину. На ней был изображен сам король, сидевший на троне под балдахином в приемном зале Уайтхолла, у его колена стоял Эдуард, а по обе стороны от него, за колоннами, представлявшими законность, — Мария и Елизавета, а место рядом с королем занимала не она, а Джейн Сеймур. Екатерина была слегка ошарашена. По ее мысли, на картине должна была появиться она сама; все-таки это ее заслуга, что Генрих восстановил своих дочерей в очереди на наследование престола. Она все ждала приглашения позировать для портрета и немного удивилась, когда Генрих сообщил ей, что картина завершена. Королева немного постояла перед ней: — Отменная работа. — Вы понимаете, почему мне пришлось включить в нее Джейн, — сказал Генрих. — Она подарила мне наследника. Весьма уместно, что она изображена на портрете как матриарх моей династии. Екатерина поняла. Ей стало легче. Вот бы и ей подарить королю сына.
В феврале император прислал в Англию специального посланника, испанского герцога Нахеру обсуждать стратегию грядущей войны с Францией. Уиллу и графу Суррею поручили пообедать с ним в испанском посольстве, а потом сопроводить ко двору. Генрих ждал в нетерпении. Он был полон стремления пойти войной на Францию и добыть там славу. — С юных лет, — сказал король Екатерине, — я хотел быть вторым Генрихом Пятым. Мы разбили французов в тысяча пятьсот тринадцатом и должны сделать это снова! «Да, — подумала Кэтрин, — только в 1513 году вы были молоды и годились для таких дел, а тому уж тридцать лет». Но все же она знала: ничто не отвратит Генриха от цели стремлений. Он выступит против французов и лично поведет за собой армию. — Надеюсь только, что Хартфорд разделается с шотландцами и вернется домой до моего отъезда, — продолжил Генрих. — Не хотелось бы воевать на два фронта. — Я буду молиться за его успех, — пробормотала Екатерина. — Сперва я сам приму герцога, а затем он посетит вас, — сказал ей Генрих. — Я хочу, чтобы вы оказали ему особенно теплый прием и тем продемонстрировали наши дружеские чувства к императору. — Непременно, — заверила его Екатерина и была искренна, так как в любом случае предпочитала его альянс с императором союзу с королем Франции, этим старым вертлявым развратником. — Вы выглядите до кончиков ногтей королевой, — сделал ей комплимент Генрих. — Я хочу оказать почести его императорскому величеству, — ответила Екатерина. Она выбрала киртл из золотой парчи и парчовое платье, подбитое алым атласом, с подходящими к нему бархатными рукавами и длинным шлейфом. Талию ее обвивал золотой пояс, а на шее висели два креста и великолепное бриллиантовое украшение. Французский капор тоже был усыпан бриллиантами. Екатерина сверкала, как и бывшая при ней Мария, облаченная в парчу и пурпурный бархат. Мария приходилась кузиной императору, и ее присутствие на встрече было весьма уместным, к тому же она говорила по-испански, что облегчит Екатерине задачу. Генрих покинул апартаменты королевы, воспользовавшись потайной галереей, которая вела в его спальню. В последнее время он стал одержим приватностью — не хотел, чтобы кто-нибудь знал о его передвижениях, стремясь скрыть от всех учащающиеся приступы болезней. Через час явился герцог Нахера в сопровождении Уилла, Суррея и стареющего императорского посла мессира Шапюи. В самый ответственный момент Екатерину вдруг затошнило, но все же она милостиво приняла гостя, протянула ему руку для поцелуя и представила Марию, которая обратилась к герцогу по-испански, а затем Маргарет Дуглас, тоже присутствовавшую на аудиенции. — Надеюсь, вы привезли нам хорошие новости от императора, милорд, — сказала Екатерина, а Мария перевела. Герцог заверил ее, что его господин пребывает в добром здравии. — Прошу, передайте его величеству мой скромный поклон, когда будете писать ему в следующий раз, — обратившись к Шапюи, произнесла Екатерина. Она быстро прониклась симпатией к послу. Он провел при английском дворе пятнадцать лет, знал всех и каждого и был чрезвычайно обходителен. Генрих за глаза называл Шапюи старым прохвостом, но любил с ним поспорить и вообще искренне привязался к нему. — Его императорское величество высоко ценит оказанную вами принцессе милость, — сказал ей посол. Екатерина про себя отметила, что он использовал отобранный у Марии титул. — Я с удовольствием помогла ей, — сказала она, борясь с тошнотой, но сдаваться нельзя. После того как подали напитки, Екатерина отвела герцога и остальных в свои личные покои, где по ее сигналу заиграли музыканты и начались танцы. Первый Екатерина исполнила в паре с Уиллом, а герцог — с Марией. Потом Екатерина и Мария станцевали вдвоем; дамы кружились вокруг них, одетые в разноцветные шелка и расшитые камнями капоры. Затем все расступились и смотрели, как ловкий венецианец, служивший у короля, исполнял гальярду с такой невероятной живостью, что казалось, у него на ногах выросли крылья. Танцы и музыка продолжались не меньше двух часов. Екатерина едва держалась на ногах и боялась, что ее и правда вырвет. Впервые ей показалось, что она может быть беременной. Екатерина испытала огромное облегчение, когда герцог подошел к ней поцеловать на прощание руку и она получила возможность передать ему подготовленные подарки, после чего с радостью пошла прилечь, лелея в душе самые дикие надежды. На следующий день тошнота снова донимала ее, и на следующий. Потом начались месячные. Какое жестокое разочарование!
Екатерина подавила вздох. Тяжесть ноги Генриха, лежавшей у нее на коленях, становилась неприятной, и она сомневалась, что сможет и дальше выносить исходившую от нее вонь. Король шел на поправку, но два дня прошли в тревоге, так как его лихорадило, и врачи начали угрюмо покачивать головами. Екатерина впала в такое беспокойство, что приказала разместить свою кровать в кабинете рядом со спальней Генриха, где провела две бессонные ночи, слушая его стоны и вставая, чтобы промокнуть ему лоб и дать лакричные пастилки и коричные леденцы, которые взяла у его аптекаря. Это было полезное напоминание о том, что и короли смертны. Не в первый раз Екатерине стало ясно, что скоро она снова может стать вдовой — и получит возможность выйти замуж за кого хочет. Генрих пошевелился, чем вывел ее из задумчивости. Он увлекся возней с золотыми часами-солонкой, которые подарил ему на Новый год глава его личных покоев, сэр Энтони Денни. Это была одна из последних вещей, сконструированных Гольбейном перед смертью, и Генрих был зачарован ею, потому что внутрь нее были хитро встроены песочные часы, пара солнечных и компас. Однако королю пришлось отложить свою забаву, чтобы принять Шапюи, пришедшего обсудить приготовления к войне с Францией, продвигавшиеся весьма успешно. Екатерина молча слушала и видела, что Генрих набирается сил от этого разговора. Однако, когда посол ушел и король с трудом поднялся на ноги, чтобы идти на мессу в Королевскую капеллу, он оступился и упал бы, если бы стоявшие у дверей стражники не подхватили его. Едва держась на ногах, Генрих оперся на палку и, шатаясь, вышел из комнаты. «Если бы он сбросил хоть немного веса», — подумала Екатерина. Тогда, она не сомневалась, здоровье его улучшилось бы и ногам стало легче. Но он так любил вкусно поесть и вел настолько малоподвижный образ жизни, что она сомневалась в возможности для него похудеть. Это сильно беспокоило Екатерину в немалой степени потому, что королева сильно привязалась к своему супругу. Такую награду получила она за старания наладить супружескую жизнь. Им было легко вместе, и Генрих привык полагаться на нее. Она была первой, к кому он приходил, когда злился или его что-то беспокоило. Он слушал ее советы, но никогда не позволял ей вмешиваться в политику, если только сам не отдавал такого распоряжения, как в том случае, когда попросил ее выказать дружбу к императору. От Шапюи и других императорских послов она получала известия, что ее дружбу и поддержку оценили в высших кругах Империи. В борьбе с шотландцами Екатерина тоже поддерживала Генриха, порицая вероломство шотландского правительства. Армия Хартфорда опустошала Лоуленд. Екатерина видела написанное Генрихом письмо, в котором король приказывал графу разграбить и сжечь Эдинбург и другие города, а всех мужчин, женщин и детей предать мечу. Она видела, что он снова входит в раж, и не осмелилась перечить ему. — Я сомну их! — поклялся Генрих. — И заставлю согласиться на брак! Они назвали это Грубым Ухаживанием. Таким манером, думала Екатерина, вернее всего можно отвратить шотландцев от любых союзов с Англией в будущем. Вопреки своему желанию поддерживать короля она понимала, что именно вынуждает шотландцев сопротивляться и почему они запрятали свою маленькую королеву Бог весть куда. Они были гордыми и упрямыми людьми, ценившими свою независимость. Но зачем же нарушать договор, ведь Англии и Шотландии лучше быть союзниками.
Анна, тяжелая очередным ребенком, быстро вошла в спальню Екатерины в тот момент, когда та собралась было пойти к принцу, который приехал с редким визитом ко двору. — Король даровал Герберту аббатство Уилтон, аббатство Рамсбери и замок Кардифф! — воскликнула она, вне себя от восторга. — Поверить не могу. У нас теперь не один собственный дом, а три! Екатерина обняла сестру: — Я знала, что его милость собирается сделать это, и очень рада за вас обоих! — Все это благодаря тебе, Кейт! Если бы ты не вышла за короля, мы не вознеслись бы так высоко. — Вот почему так приятно быть королевой. И вот еще поэтому. — Она указала на рулоны пурпурного бархата и атласа, лежавшие на кровати. — Торговец доставил их сегодня утром. — Прекрасные ткани, — сказала Анна, щупая их. — Ты это заслужила. Сестры сели у огня. — У Герберта большие планы относительно Уилтона, — сказала Анна. — Он собирается снести аббатство и построить красивый дом. — Ты станешь важной леди. — Екатерина улыбнулась. В этот момент объявили о приходе Уилла. — Я знал, что застану тебя здесь, сестрица, — обратился он к Анне, — и пришел поздравить. — Он наклонился и поцеловал ее. — А для тебя, Кейт, у меня есть новость. — Улыбка сошла с его губ. — Сэр Томас Сеймур вернулся ко двору. У Екатерины перехватило дыхание. — Он сегодня явился в личные покои, хвастался своими приключениями во Франции и, как всегда, крайне самодоволен. — Я не хочу его видеть, — пролепетала Екатерина. — Я не могу его видеть. — Тебе нужно собраться. В награду за службу он получил дары от короля и был назначен начальником артиллерии и вооруженным всадником при главном конюшем. — Похоже, он хорошо проявил себя во Франции, — заметила Анна. — Да, — сказал Уилл, — и стал еще более невыносимым. — Не говори так, — упрекнула его Екатерина. — Кейт, ты не должна о нем думать. — По-твоему, я не пытаюсь? — выпалила она, вставая. — Прости, но мне нужно повидаться с принцем. — Я думаю только о твоей безопасности, — робко оправдался Уилл, когда она проходила мимо него. — Я тоже думаю о ней. Каждый день! — бросила ему Екатерина. — Пойдем, Анна! Она быстро зашагала по галерее, сестра едва поспевала за ней. Они не разговаривали; вокруг было слишком много людей. Уайтхолл представлял собой лабиринт, ветхий старый дворец, который много раз достраивали и перестраивали. Апартаменты принца располагались у реки и выходили окнами в сад. Екатерина каждый день навещала мальчика, помогала ему с уроками, всячески поощряла его учебные занятия под благосклонным оком доктора Кокса и даже спускалась с помоста на пол поиграть с пасынком в кегли. Принц как будто не скучал по леди Брайан и матушке Джек. С Екатериной он теперь общался свободно и даже позволял себе иногда по-детски заиграться. Доктор Кокс сделал своему воспитаннику замечание, когда тот сказал Екатерине, что она его лошадка, и попытался забраться ей на спину. — Нельзя так неуважительно обращаться с королевой Англии! — укорил принца учитель. — Ничего, — со смехом ответила Екатерина. — Меня это забавляет. Сегодня ей было не до игр; сердце растревожено. Она не знала, сумеет ли вести себя естественно. Но Эдуард ждал ее. Она не могла огорчить мальчика и понадеялась, что он не заметит ничего необычного. Екатерина не ожидала застать у принца Генриха и застыла на месте, увидев, кто сопровождает его. Это были Том Сеймур и Томас Каварден, теперь уже сэр Томас. — Ваше величество, — пролепетала Екатерина, делая шаткий реверанс. — Миледи! — откликнулся он, сияя улыбкой. На коленях у короля сидел Эдуард, а в руке его величество держал латинскую азбуку. Екатерина выпрямилась и склонила голову, приветствуя двоих джентльменов, которые возобновили прерванный разговор с доктором Коксом, затем она села рядом с Генрихом, не смея взглянуть на Тома. Присутствие сэра Томаса тоже было неприятно Екатерине: ей не хотелось, чтобы Генрих знал о ее контактах с этим человеком, а потому она, как могла, старалась игнорировать их обоих. Просмотрев тетрадки Эдуарда, похвалив его усердие, Екатерина наблюдала за тем, как король учит сына играть простую мелодию на флейте. Она сидела спиной к Тому, но все время чувствовала на себе его пристальный взгляд. Ей хотелось посмотреть на него, впитать в себя его образ, но она не смела даже покоситься в ту сторону. Наконец, когда напряжение стало совсем невыносимым, Генрих поднялся. Испытывая невыразимое облегчение, Екатерина последовала его примеру. Они простились с принцем, и король, взяв ее за руку, вывел из комнаты. Оба сэра Томаса двинулись следом. По возвращении в свои покои королева заперлась в спальне, сославшись на головную боль, и залилась слезами. «Соберись!» — приказала она себе. Лучше не думать о том, что могло бы быть. Ей нужно чем-то отвлечь себя. Екатерина утерла слезы и пошла в кабинет, который использовала для занятий. Уже пару дней она планировала взяться за перевод нескольких псалмов, которые казались ей особенно волнующими в свете близкой войны с французами. Они подчеркивали правоту Генриха и взывали к Божьей помощи ему. Екатерина намеревалась опубликовать эту книгу, чтобы поддержать боевой дух воинов и вдохновить подданных молиться об успехе кампании. Для этого она намеревалась сочинить дополнительные молитвы за самого короля и тех, кто отправится на битву. Екатерина взяла перо. Нужно начать с чего-нибудь, подчеркивающего порочность французов. «Восстань, о Господь, этих подлых людей покарай!» — написала Екатерина. Ей сразу стало лучше.
После полудня, довольная, что начало книге положено, Екатерина пошла в сад, взяв с собой для компании Анну и Маргарет. Все они закутались в меха, так как день был холодный. Дорожка, шедшая вдоль Нижней галереи, привела их в обширный фруктовый сад за дворцом. Деревья стояли голые, но скоро они покроются цветом — восхитительное зрелище! Было тихо, вокруг почти никого. Маргарет убежала вперед, бросая палку своей маленькой собачке, а Риг, спаниель Екатерины, весело носился вокруг. — Я слышала, сэра Томаса Ризли назначили лорд-канцлером, — сказала Анна. — Что ты о нем знаешь? — спросила Кэтрин. — Герберт говорит, он человек короля, но сблизился с нашим приятелем Гардинером, что меня беспокоит. — И я слышала о нем нечто подобное, — сказала Екатерина. — Меня тоже это тревожит. Нужно держаться настороже. — Я подумала, не лучше ли тебе прекратить религиозные диспуты и поменьше приглашать к себе ученых-реформистов для проповедей. — Ни за что! — запротестовала Екатерина. — Мы ничего плохого не делаем. Разве желание реформировать Церковь противоречит законам? — Да, но тебе так же хорошо, как мне, известно, что некоторые из наших гостей тайно придерживаются протестантских убеждений. И я могу сказать с уверенностью, что кое-кто из твоих дам хранит в сундуках под замками запрещенные книги. Если у Гардинера будет карманный лорд-канцлер, нам лучше поостеречься. — Этому человеку меня не запугать, — заявила Екатерина. — Если ты знаешь, у кого есть такие книги, скажи им, пусть избавятся от них. Но собрания продолжатся. Их беседу прервал отдаленный лай. Двое мужчин разговаривали с Маргарет, а собаки скребли лапами по ее юбке, требуя, чтобы она бросала им палки. Екатерина замерла, узнав в одном из мужчин Тома Сеймура; он пытался приструнить Рига. — Пойдем, — сказала она Анне, — меня не должны видеть с ним. — Она развернулась и пошла в обратную сторону тем же путем, каким пришла, но услышала за спиной шаги. — Кейт! — настойчивым тоном окликнул ее Том. — Так вы обращаетесь к вашей королеве, сэр Томас? — упрекнула его Анна, а Екатерина продолжала идти. — Всего одно слово! — сказал он, догоняя ее. — Прошу вас, ваша милость. Екатерина остановилась и искоса взглянула на него, уловив в его глазах затаенную обиду. — Вы знаете, что мне не следует разговаривать с вами, Том. Говорите, что хотели сказать, и уходите. О, как же он красив, еще краше, чем запечатлелся в воспоминаниях! Каждая частичка ее тела желала его, а она-то думала, что покорила свои чувства! — Я только хотел сказать, что понимаю. И буду ждать вас, когда придет время. — Тише! — прошипела Екатерина, ведь, намекая на смерть короля, Том вел изменнические речи. — Я рада, что вы понимаете. А теперь прощайте. — Она опустила глаза, не выдержав его взгляда и борясь со слезами.
Одним из главных удовольствий, которые обеспечил ей статус королевы, как поняла Екатерина, была возможность помогать другим людям. По ее мнению, обязанность королевы — откликаться на просьбы тех, кто приходил к ней в нужде. В конце той весны она организовала роды для Анны в королевском поместье Ханворт и отправилась туда вместе с сестрой, чтобы помочь ей устроиться. На дорогу из Уайтхолла у них ушел целый день. Генрих разрешил Екатерине использовать этот дом, когда-то принадлежавший Анне Болейн, для которой он перестроил, заметно увеличив, краснокирпичное здание в старинном итальянском стиле. Снаружи, по бокам входных дверей, красовались терракотовые медальоны с головами богинь. Пока горничные Анны разбирали вещи, сестры перешли ров по одному из мостов и отправились в великолепный сад, где с восторгом осмотрели грядки с клубникой и птичник, потом посидели у рыбного пруда. Анне нужно было отдохнуть. — Здесь так спокойно, — сказала Екатерина, вдыхая напоенный ароматами воздух. — Я не ощущаю ее присутствия, а ты? — Кого? — Анны Болейн. Все это было создано для нее. — Никогда об этом не задумывалась. — Анна поморщилась. — Кейт, я думаю, нам нужно вернуться в дом. Боюсь, у меня начинаются схватки. — Но ты только на восьмом месяце. Глаза их встретились. Анна выглядела испуганной. — Тебе нужно вернуться и лечь, — сказала Екатерина. — Я приведу повитуху. Нанятая заранее миссис Дженнингс приехала в Ханворт вместе с ними. Сестры медленно побрели к дому. Схватки у Анны наступали нечасто, но были сильными. Акушерка быстро явилась и увела роженицу в комнату, где помогла раздеться и лечь в постель. — Я поболтаю с тобой, — сказала Екатерина, садясь в кресло рядом с сестрой. Однако Анна не была расположена к разговорам. Тело уже серьезно взялось исторгать из себя младенца. Скоро ее уже крутила жестокая боль, и Екатерина могла только утирать сестре лоб и держать за руку. Казалось, так прошло много часов. — Держитесь вот за это, — сказала миссис Дженнингс, привязывая кусок ткани кизголовью постели. — А теперь нужно сильно потужиться, миледи, и мы почти у цели. Анна прижала подбородок к груди, напряглась, и из нее выскользнул младенец, похожий на голого кролика. Она в изнеможении откинулась на подушки. Повитуха занялась ребенком. Наконец Екатерина услышала тихое хныканье, и сердце у нее затрепетало. Как же ей хотелось быть сейчас на месте лежавшей в постели матери! Миссис Дженнингс запеленала ребенка, положила его в колыбель и удобно устроила Анну. Оставив ее отдыхать с нянькой, которая следила за малышом, повитуха поманила Екатерину, чтобы та вышла из комнаты. — Ваше величество, — сказала она, закрывая дверь, — с миссис Герберт все в порядке, но ребенок очень слабый, родился слишком рано. Его нужно окрестить как можно скорее. — Я пошлю в церковь за священником, — сказала Екатерина; сердце ее обливалось кровью за Анну, — и стану крестной. Во время крещения Екатерина держала младенца на руках. Он тихо захныкал, когда священник смочил ему головку, принимая в христианскую паству, а потом лежал тихо. Через несколько минут Екатерина поняла, что он умер.
Ей пришлось вернуться в Лондон почти тотчас же. Генрих собирался посетить службу в соборе Святого Павла, где состоится молебен о победе в грядущей войне с Францией, и ее присутствие было необходимо. Переведенные Екатериной псалмы опубликовали — анонимно, по ее желанию, — и Томас Таллис положил их на музыку. Екатерина работала вместе с ним, и это их совместное сочинение исполнят на мессе. Она должна быть там. Анна, скрепившись, сказала сестре, чтобы та обязательно ехала, а сама она, с Божьей помощью, как-нибудь оправится. Сердце Екатерины воспарило, когда огромная церковь наполнилась голосами, поющими мотеты Таллиса. Они звучали небесным хором. У сидевшего на троне рядом с ней Генриха по щекам текли слезы. Господь дарует ему победу, Екатерина не сомневалась, и ее скромный вклад — эти волнующие песнопения и книга псалмов — помогут добиться желаемого. На обратном пути в Ханворт Екатерина, наняв барку, заехала в Сион-Хаус, где Нан Хартфорд тоже родила ребенка. Ее младенец, конечно, был здоров. Эта женщина была плодовита как крольчиха и производила на свет потомство с досадной легкостью. Екатерина предпочла бы не навещать ее, но Нан — одна из ее придворных дам, и она, вероятно, беспокоилась о своем супруге, лорде Хартфорде, который до сих пор воевал в Шотландии. Но заносчивость этой женщины просто невыносима! Всегда-то ей нужно настоять на своем! Екатерина собралась с духом. Однако сегодня Нан была настроена дружелюбно. Сидя в постели, она с оправданной гордостью демонстрировала своего малыша, но при этом выразила, казалось, искреннее сочувствие к Анне: сказала, что сама потеряла ребенка и знает, каково это. — Моя наперсница, леди Мария, приехала, — сообщила Нан. — Она была очень добра. Обожает младенцев и сполна насладилась этим. Бедняжка, я знаю, ей очень хотелось бы иметь своего. О, я с удовольствием уехала бы отсюда! Но милорд написал мне и велел остаться на лето, так как сельский воздух полезен для детей. Это приемлемо для вашей милости? — Конечно, — ответила Екатерина, стараясь не выдать, как она этому рада, и завидуя многочисленному потомству Нан. — Мадам, вы не сделаете для меня кое-что? — спросила та, вдруг выказав уязвимость, которой раньше Екатерина в ней не замечала. — Милорд скоро должен вернуться домой, но я боюсь, что ситуация в Шотландии сложная и его могут оставить там. Не спросите ли вы его величество, есть ли у него такое намерение? Меня страшит мысль о том, что милорд в опасности. — Я могу вас успокоить. — Екатерина улыбнулась. — Три дня назад его величество говорил мне, что отзовет лорда Хартфорда до вторжения во Францию. — Какое облегчение, — сказала Нан. — Благодарю вас. — А теперь я должна ехать к Анне, — вставая, проговорила Кэтрин. — Желаю вам всего хорошего и жду вас при дворе ближе к концу года.
Анну она застала в лучшем физическом состоянии, но не в душевном. — Мой малыш, мой маленький мальчик! Почему Господь забрал его у меня? Екатерина взяла сестру за руку: — На это легко ответить. Он забрал его, чтобы малыш причастился к вечному блаженству, и мы все должны радоваться. Но я знаю: тебе как матери тяжело принять Господню волю. — Я не могу ее принять! — Анна была вне себя. — Мне нужен мой ребенок! Королева села на кровать и обняла сестру: — Анна, не нужно так убиваться. Ты не должна подвергать сомнениям предопределения нашего Господа. Радуйся, что Он дал твоему сыну во владение Царство Небесное. — Нет! Нет! — завывала Анна. — Я хочу видеть своего ребенка, своего малыша! Мне горько. Не могу поверить, что он умер. Екатерина отстранилась и заглянула Анне в глаза: — Моя дорогая, умереть — значит пробудиться к новой жизни. Глупо оплакивать смерть. Ты наносишь сыну большой вред своими сетованиями, ведь с ним случилось самое лучшее, что может произойти, — он в руках своего Всемогущего Отца. Анна размякла в ее объятиях. — Но у него впереди была целая жизнь! Он был так прекрасен. — Именно поэтому он стал милой Христу жертвой. Анна, возблагодари Бога за его жизнь и смерть и радуйся, что Господу было угодно забрать его в свое царство. Анна утерла глаза и немного успокоилась. — Ты права, дорогая сестра. Я забываю собственные убеждения. Но ты никогда не была матерью. Тебе неизвестно, как это тяжело. — Я понимаю. И прошу прощения, что поучала тебя. Я только хотела дать тебе утешение. Обещаю, я буду молиться за тебя.
С тяжелым сердцем вернувшись ко двору, Екатерина рассказала Генриху о тревогах Нан за Хартфорда. — На войне опасность неизбежна, — отозвался он; они сидели вдвоем в его личном саду. — Но мы приведем шотландцев к покорности, и достижению наших целей поможет брачный договор между моей племянницей Маргарет и графом Ленноксом. Готовилось это уже давно. Леннокс был изворотливым лисом, но наконец его уговорили, пообещав руку Маргарет Дуглас и большие преференции, совершить предательство в отношении своей страны и поддержать короля Англии. Генрих был очень доволен. — Леннокс считает, что Шотландии следует объединиться с Англией. Он согласен со мной, что взятие крепости Дамбартон — это ключ к завоеванию Шотландского королевства. Как только брак будет заключен, я пошлю Леннокса с армией на Север, чтобы захватить ее. И тогда путь для нас будет расчищен. А потом мы пойдем на французов, это будет наш год, Кейт!
Прекрасным июньским утром Екатерина вместе с Генрихом присутствовала на церемонии венчания леди Маргарет и графа Леннокса в капелле Сент-Джеймсского дворца. Ей нужно было как-то взбодриться, и свадьба подняла ей настроение. Это бракосочетание оказалось счастливым событием не только из-за того, что скрепляло желанный альянс Англии с Шотландией, но и потому, что молодожены были явно очарованы друг другом. — Похоже, это станет союзом по любви, — шепнула Екатерина на ухо Генриху, когда они сидели с влюбленными женихом и невестой в эркере ворот Гольбейна и следили за устроенными по случаю свадьбы поединками. Том Сеймур был среди бросавших вызов, но Екатерина намеренно не смотрела в его сторону. Генрих с довольным видом кивнул и похлопал ее по руке: — Если они будут счастливы так же, как мы, Кейт, им действительно повезет. За спиной Екатерины отчетливо прозвучал голос леди Саффолк, которая пробурчала, что Маргарет слишком легко влюбляется. Но король, казалось, пропустил это мимо ушей. Он склонился к уху Екатерины: — Хочу, чтобы вы знали: в знак признания ваших многочисленных прекрасных качеств я назначаю вас регентом Англии на время своего отъезда во Францию. — О милорд! — Кэтрин была потрясена. Да, король уважал ее и восхищался ею, она знала, так как он постоянно давал это понять, но что он посчитает ее способной справиться с такой высокой ответственностью… — Для меня это большая честь. Я приложу все свои силы, чтобы оправдать ваши лучшие ожидания. — Уверен, вы постараетесь, — ответил король. — Я распорядился, чтобы вы правили как соверен от моего имени и полагались на рекомендации архиепископа Кранмера, лорд-канцлера Ризли, графа Хартфорда, епископа Вестминстерского и сэра Уильяма Петре, моего государственного секретаря. В мое отсутствие они составят Тайный совет и как минимум двое из них будут все время находиться при вас. Кроме того, ваш дядя, лорд Парр, будет присутствовать на заседаниях. Брат ваш, как вы знаете, отправляется вместе со мной во Францию как старшина вооруженных всадников. — Конечно, мне будет на кого положиться, — сказала Екатерина, понимая, что король, как обычно, следовал своему срединному пути и назначил советников из обеих фракций. По крайней мере, среди них не было Гардинера, хотя придется мириться с присутствием Ризли. И хорошо, что при ней будет Кранмер. Он недавно опубликовал литанию на английском для использования в церквях. Екатерина аплодировала этому его шагу. Он поставит заслон консерваторам. Если она сможет наладить отношения с Ризли, все будет хорошо.
Второй раз за две недели Екатерине пришлось утешать потерявшую ребенка мать. Когда Генрих сообщил ей, что у Ризли умер маленький сын Энтони, она написала письмо его жене Джейн с теми же словами, которые недавно говорила Анне, призывая ее радоваться, что ребенок теперь в лучшем мире. Через пару дней Екатерина встретилась с Ризли в галерее, когда торопливо шла в сторону зала Совета. Он стянул с головы шапку и наспех поклонился. — Мне жаль, что вы понесли такую тяжелую утрату, милорд канцлер, — выразила соболезнования Екатерина. — А мне еще больше жаль, что ваше письмо так расстроило мою супругу, — сказал он, сердито глядя на нее. Екатерина в ужасе отшатнулась: — Но я хотела ее утешить. — Она беспрерывно плачет с тех пор, как прочла его. Есть вещи, которых не следует говорить скорбящей матери. — Искренне сожалею, что умножила ее печаль, — произнесла Екатерина, понимая, что ей не стоит ссориться с Ризли, так как им придется работать вместе, и он может оказаться опасным врагом. — Я передам ей, мадам, — сказал лорд-канцлер, холодно кивнул и пошел дальше. — Что вы написали ей? — спросила леди Саффолк, находившаяся при Екатерине. — Призвала возблагодарить Господа, дабы Он счел, что она очень рада принести Ему в дар своего сына. Вероятно, я немного перестаралась, стремясь поточнее выразить свою мысль. Но я хотела возвысить ее дух, а не расстроить. Какая неприятность! Герцогиня покачала головой: — Теперь ничего не поделаешь… Но будьте как можно обходительнее с Ризли при встречах. Вы извинились, так что не думайте больше об этом. Гардинер, уймись, несносный пес! — (Собака перестала скакать вокруг ее юбок и обиженно заскулила.) — Вот бы нам так же легко было приструнить твоего тезку, — печально проговорила хозяйка. Екатерина не удержалась от улыбки.
 Глава 19
1544 год
Глава 19
1544 год
Принц Эдуард быстро овладел навыками письма, и теперь они с Екатериной регулярно обменивались посланиями. Мальчик трогательно благодарил королеву за доброту к нему и явно наслаждался ее похвалами. Ей хотелось бы видеть его чаще, но Генрих, опасаясь за сына, не позволял ему находиться при дворе, так что Екатерине пришлось довольствоваться визитами к нему, когда позволяли расстояния, а это случалось нечасто, так как большинство предназначенных для детей короля дворцов находились на приличном удалении к северу от Лондона. По крайней мере, компанию ему обеспечивала Елизавета. Разница в возрасте между ними составляла всего четыре года, и они были очень близки, но и соперничали друг с другом. Отчасти из-за того, что Эдуард стремился во всем превзойти сестру. Он так усердно учился!
Екатерина чувствовала, что пока главным ее достижением в качестве королевы стало налаживание хрупкого единства и гармонии в королевской семье, а также то, что она завоевала любовь и доверие своих приемных детей. Генрих высоко ценил это, о чем часто говорил ей.
— Ни одной из их предыдущих мачех не удалось добиться таких успехов, но, полагаю, у них не было шансов. — Лицо короля на мгновение омрачилось. — Моим детям пойдет во благо эта стабильность. Им нужна материнская любовь.
Они находились в кабинете короля, сидели за столом, заваленным бумагами. Генрих отдавал распоряжения на время своего надвигающегося отъезда во Францию.
— Я отправляю Эдуарда с его двором в Хэмптон-Корт и назначаю знаменитого кембриджца доктора Чика в помощь доктору Коксу — наставлять принца и мальчиков, которые находятся при нем.
— У доктора Чика отличная репутация, — сказала Екатерина. — Он великолепный ученый, широко образованный человек и великий гуманист.
— Я не сомневался, что вы одобрите мой выбор. — Генрих улыбнулся. — Его порекомендовали мне мой врач, доктор Баттс, и сэр Энтони Денни. Вам наверняка интересно будет увидеть вот это. — Король передал ей несколько листов, исписанных элегантным почерком. — Я попросил Чика вместе с Коксом составить новое расписание занятий для Эдуарда.
Екатерине потребовалось несколько мгновений, чтобы пробежать глазами написанное. Ее поразило, какие сложные предметы и в каком объеме собирались преподавать шестилетнему мальчику: Писание, теология, латынь, греческий, классическая литература, философия, астрономия, математика, грамматика, риторика… Список продолжался и продолжался. Хорошо хоть, что Эдуард любит учиться. И ему понравится заниматься с Чиком верховой ездой, военным делом, стрельбой из лука, фехтованием, теннисом, музыкой и танцами. Но останется ли у него время для игр?
— Я хочу, чтобы он стал самым образованным и культурным королем, какой когда-либо правил Англией, — сказал Генрих. — По словам Кокса, Эдуард очень продвинут для своего возраста и прекрасно со всем справится.
— В этом я не сомневаюсь, — согласилась Екатерина, — и продолжу поддерживать его в учебе. Елизавете тоже пойдет на пользу приезд Чика. Она демонстрирует чудеса в обучении. Ее беглость в латыни просто замечательна.
— И в других языках, — добавил Генрих. — Камеристка ее покоев Бланш Парри даже учит ее говорить по-уэльски.
— Я была поражена, узнав, что она учит еще и итальянский, — припомнила Екатерина. — И классических авторов знает не хуже, чем Писание. У вас есть основания гордиться ею. Умом она пошла в вас.
— Ее мать тоже была образованна, — ворчливо проговорил Генрих, удивив Екатерину, так как никогда не упоминал Анну Болейн.
— Я слышала, она была большим другом Евангелия.
— Была, — кивнул король. — И очень упорствовала в своих взглядах. — («Ей не приходилось бороться с Гардинером», — подумала Екатерина.) — Да, я горжусь Елизаветой, — продолжил король, возвращаясь к прежней теме. — Не проходит и дня без того, чтобы она не написала чего-нибудь для развлечения. Я тоже пытаюсь сочинять, когда дела позволяют. Что ж, думаю, Эдуарду в мое отсутствие скучать не придется. Берегите его ради меня.
— Не сомневайтесь, — заверила его Екатерина. — Он дорог мне, как родной сын.
Во время краткой церемонии в зале Совета Генрих официально назначил Екатерину регентом и вручил ей доверенность, облекающую ее суверенной властью. — Ваша главная задача — набирать людей для защиты королевства в случае вторжения французов, — сказал он ей. — Мои мировые судьи будут информировать вас, сколько дееспособных мужчин они могут снарядить и какое при них будет оружие. Новобранцы должны быть готовы в течение часа занять позиции на побережье и зажечь сигнальные огни, чтобы дать знать о приближении врагов. Кроме того, я велел судьям обеспечивать соблюдение закона и порядка в своих округах. Пусть следят, чтобы не происходило никаких незаконных сборищ, мятежей и беспорядков. Раз в месяц они будут докладывать вам и Совету о состоянии дел в стране и о том, какие судебные процессы ведутся. — Я сделаю все, что смогу, для сохранения королевства вашей милости в порядке и поддержу милорда Леннокса, когда тот отправится на Север, — поклялась Екатерина. — Вы можете получать деньги из казны по своему желанию, и для повышения ваших собственных доходов я дарую вам поместья Уимблдон, Мортлейк, Ханворт и Челси. — Ваше величество! — Екатерина не могла скрыть удовольствия от перспективы стать владелицей своего любимого Ханворта и прочих прекрасных имений, особенно дворца в Челси. — Ваше величество чрезвычайно добры и милостивы ко мне, — сказала она, делая реверанс и понимая, что глаза советников прикованы к ним. Когда они с Генрихом останутся наедине, Екатерина отблагодарит его как следует. Он говорил ей, что в 1513-м, уезжая воевать во Францию, оставил первую королеву Екатерину беременной. Как было бы здорово, если бы он и ей сделал ребенка!
— Я составил завещание, — сказал Генрих, когда они той ночью лежали в постели после весьма успешного соития, которое дало Екатерине причины надеяться. Ей не хотелось думать о завещаниях и смерти, уж лучше представлять себя матерью принца. Но Генрих проявил настойчивость и все-таки отвлек ее от мечтаний. — Оно отражает акт о престолонаследии и подчеркивает мои планы относительно регентства, если я погибну на поле боя. — Не дай Боже! — воскликнула Екатерина. Король привлек ее к себе: — Я должен предусмотреть все, Кейт, и мне нужно, чтобы в случае, если Эдуард вступит на престол прежде, чем достигнет совершеннолетия, королевством управлял человек, который любит его и поставит интересы юного короля и страны выше всего остального. — Генрих многозначительно взглянул на Екатерину. Она испугалась. Неужели он это о ней? Король знал, что она любит Эдуарда, и доверил ей королевство на время своего отбытия во Францию. — И кого вы наметили? — Я еще размышляю, — ответил он. Екатерина задумалась: не является ли ее регентство проверкой, как она справится и сможет ли управлять страной впоследствии, когда придет время.
В середине июля во главе огромной кавалькады они отправились в Дувр, где собрался флот. По пути их приветствовали радостными криками: война была популярна среди подданных короля, знати и простонародья. Генрих находился в приподнятом настроении. Нога беспокоила его меньше, к нему даже как будто вернулся юношеский задор, что он снова доказал в спальне, а когда надел доспехи, то и вовсе приобрел вид довольно грозный. Король был в своей стихии; ему не терпелось, как в молодые годы, торжествовать на поле брани. Екатерина написала молитву, взывая к Господу, чтобы Тот сохранил короля и даровал ему победу. Генрих был так этому рад, что приказал читать ее во всех церквах, пока он в отъезде. Когда они стояли на пристани в тени огромного военного корабля, который доставит короля во Францию, архиепископ Кранмер декламировал слова Екатерины собравшемуся народу: — О Всемогущий Владыка и Повелитель войск, который распоряжается войной и миром, наше дело правое, мы покорно просим Тебя склонить сердца наших врагов к желанию мира, дабы не пролилась христианская кровь. А если нет, даруй нам, о Господь, во славу Твою обретение победы с малым кровопролитием и ущербом для невинных, чтобы, когда война завершится, могли мы всем сердцем и разумом соединиться в дружбе и согласии и восхвалять Тебя, живущего и правящего миром, без конца. Аминь. Пока Кранмер взывал ко Всевышнему, Екатерина заметила среди многочисленной свиты короля Тома Сеймура. Значит, он тоже едет во Францию. Она вознесла безмолвную молитву к Господу, прося Его сберечь Тома. Молебен завершился. У короля и королевы на глазах стояли слезы. Генрих взял руку Екатерины, поцеловал ее и поклонился: — Да хранит вас Господь, мадам. Пусть нашей следующей встрече сопутствует триумф. Екатерине не хотелось, чтобы он уезжал. Ей вдруг стало страшно за него. Она полюбила Генриха и боялась потерять его, хотя и знала, что в этом случае ее будет ждать Том. — Да благословит и защитит Господь вашу милость, — произнесла Екатерина достаточно громко, чтобы ее услышали в толпе. — Возвращайтесь к нам целым и невредимым! Король взошел на борт, а Екатерина долго стояла на пристани и провожала взглядом корабли, торжественно выходившие из гавани, чтобы пересечь Канал. День был ясный, море — синее и спокойное; вдалеке виднелся французский берег — логово врага. В голове Екатерины промелькнула мысль: увидит ли она еще когда-нибудь Генриха?
Вернувшись в Уайтхолл, она с головой ушла в дела, важные и незначительные. Это дало ей понять, какой огромный груз забот нес на своих плечах Генрих. Новость о его благополучном прибытии в Кале обрадовала ее, но свободного времени, чтобы скучать по нему, было немного, так как совсем скоро Екатерина погрузилась в хлопоты о снабжении и финансировании армии. Она испытывала глубокую благодарность советникам за их помощь и усердный труд. Каковы бы ни были их убеждения, они работали не покладая рук вместе с ней, считаясь с ее мнением; все делалось так, как ей было угодно. Екатерина сознавала, какая тяжелая ответственность лежит на ней. Она понимала, что должна проявить себя, а потому каждый день присутствовала на заседаниях Совета. По завершении встреч с советниками принимала донесения, послов и доверенных лиц, издавала воззвания. Наступило лето, погода становилась все жарче, а вместе с теплом вернулась и чума, так что Екатерине пришлось вводить меры для защиты от нее. Нужно было заниматься сотней разных дел, помимо охраны Англии от вторжения французов и наблюдения за ситуацией в Шотландии, где распоряжался граф Шрусбери. Каждый день Екатерина радовалась моменту, когда наконец можно было повалиться в постель, — так утомляли ее новые обязанности, — и благодарила Господа, что еще один день прошел относительно спокойно. В конце июля она присоединилась к Эдуарду и Елизавете в Хэмптон-Корте, куда привезла с собой и Марию. В Лондоне свирепствовала чума, люди умирали сотнями, так что здесь они были в большей безопасности, чем в Уайтхолле. Вместе с Екатериной отправились леди Леннокс, леди Саффолк и другие главные дамы ее двора, которые не отпросились у нее и не разъехались по домам. Эдуард приветствовал Екатерину в свой обычной торжественной манере; ей всегда требовалось некоторое время, чтобы выманить мальчика из панциря скованности. А вот Елизавета была вне себя от радости, что они снова вместе, и, забыв о приличиях, бросилась в объятия Екатерины. — Я не видела вас целый год, драгоценная мачеха! — воскликнула она. — И тем не менее я знаю, что вы не переставали заботиться обо мне, и я всегда буду привязана к вам и почтительна, как любящая дочь. Екатерина тепло обняла ее: — Я бы виделась с вами чаще, но расстояния не позволяли этого. Не по своей воле я не навещала вас. — Как мой отец? У вас есть новости о нем? — спросил Эдуард. — Он здоров и полон рвения биться с французами. У обоих детей загорелись глаза. — Когда ваше высочество будет писать ему, не попросите ли вы у него благословения для меня и не пожелаете ли ему наилучшего успеха в обретении победы над врагами, чтобы мы могли поскорее отпраздновать его счастливое возвращение? — спросила Елизавета. — Я обязательно это сделаю, — пообещала Екатерина. — А теперь пойдемте обедать.
— Я не знаю, как вам это удается, — сказала Мария, когда в тот вечер Екатерина начала клевать носом за ужином. — Это чудо — видеть женщину, правящую Англией, — встряла Елизавета, сияя восхищенными глазами. — Вот доказательство, что такое возможно. — Только не говорите этого при нашем отце, — с улыбкой сказала Мария. — Он не одобряет правления женщин. Екатерина подавила улыбку, подумав: кому и знать, как не ей. — Тем более странно, что он назначил вашу мачеху регентом, — заметила леди Саффолк. — Ах, но я должна опираться на лордов Совета! — отозвалась Екатерина. — Такое ощущение, что это они на вас опираются! — возразила ее подруга. Екатерине было приятно услышать такие слова. Будем надеяться, и другие люди говорят то же самое Генриху. Она решила, что хочет, и даже очень, быть регентом при Эдуарде, когда придет время. Мальчик еще мал и податлив, а значит, Божье дело пойдет легче. Екатерина не сомневалась, что ей удастся склонить принца на правильный путь в религии, и была уверена, больше чем когда-либо, что призвана исполнить это высокое предназначение.
Ее обрадовало известие, что Генрих пребывает в добром здравии и бодр духом. Казалось, по другую сторону Канала все складывалось хорошо. За море нужно было отправлять больше и больше денег, оружия, провизии, и Екатерине приходилось из кожи лезть вон, чтобы снабжать всем необходимым короля. Кое-как ей удавалось находить время, чтобы регулярно посылать ему вести о детях и домашних делах, а также хвалить за усердие его советников. Больше всего Екатерина боялась, что шотландцы воспользуются отсутствием короля и совершат вторжение в Англию, как они сделали в 1513-м, когда регентом была королева Екатерина. Ресурсов, чтобы устроить баталию вроде второго Флоддена, не было. К неизбывному облегчению Екатерины, английское военное присутствие в Лоуленде, где с прибытием туда Леннокса возобновилось Грубое Ухаживание, предотвращало эту угрозу. Анна вернулась ко двору и по мере сил демонстрировала бодрость духа. Сестра взялась вместе с другими дамами помогать Екатерине с разбором корреспонденции и шитьем флагов для армии. Так они теперь проводили вечера, пока Екатерина писала отчеты для Генриха. Она говорила ему, что очень соскучилась, хотя он находился не так уж далеко. Из-за сильного желания видеть Вас рядом с собой я не могу ни в чем найти удовольствия, пока не получу известия от Вашей милости. Время в разлуке с Вами тянется для меня очень медленно, и мне очень хочется узнать, как дела у Вашего высочества, так как я желаю Вашего процветания и здоровья больше, чем своего собственного. И пока Ваше отсутствие необходимо, любовь и привязанность понуждают меня желать Вашего присутствия; но та же любовь обязывает меня отставить в сторону свои удовольствия и с радостью принять то, что угодно и доставляет радость любимому мной человеку. Господь, коему ведомы все тайны, знает, что слова эти не токмо написаны чернилами, но воистину запечатлены в сердце моем. Месячные пришли с неумолимой регулярностью. Екатерина вновь поняла, что ей не удастся сделать то единственное, что имело значение, и посчитала своим долгом сообщить об этом королю. Я полагаюсь на добросердечие Вашего величества, зная, что до сих пор не исполнила своего долга перед Вами, как требуется и подобает для столь благородного принца, в руках которого я нашла и из которых получила столько любви и милости, что этого не выразить словами. В заключение она препоручила его Господу и выразила надежду, что он обретет долгое процветание на земле и насладится царством избранных на Небесах. Только отправив письмо, Екатерина осознала, что она написала, почти не думая. Недавно она прочла «Наставления в христианской вере» — книгу швейцарского реформатора Жана Кальвина, которую одолжила ей леди Саффолк. Одному Богу известно, откуда она ее достала, так как иметь такие сочинения у себя было опасно. Генрих ненавидел Кальвина так же, как Лютера, а в этой книге заключались главные доктрины протестантской религии, к которой король питал отвращение. Екатерина знала, что по этому поводу лучше с ним не спорить. Кальвин излагал теорию предопределения, полагая, что Господь наметил своих избранников еще до того, как создал мир, и только эти души обретут Небеса, только им будут прощены грехи. Те же, кто не попал в число избранных, подвергнутся Божественному суду при любых условиях. Это было одно их крайних воззрений протестантов, от которого холодела душа, и Екатерина не была уверена, готова ли под ним подписаться. Но не поймет ли Генрих, увидев те слова, что она читала запрещенный текст? Екатерина попыталась рассуждать здраво. У него много дел. Он может не заметить. А если заметит? Как она объяснит это? Тратя драгоценное время, а ей ведь еще нужно было до отхода ко сну решить судьбу одного солдата, который дезертировал из Шотландии, Екатерина в отчаянии листала страницы своей английской Библии, пока не добралась до нужного ей отрывка в книге Исайи: «Вот, Отрок Мой, которого Я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд»[163]. Эти слова прекрасно подходят для короля, который принял на себя верховенство над Церковью. Если Генрих станет ее расспрашивать, она сошлется на Исайю. Ей ничто не грозит. Пребывая в легком трепете, Екатерина ждала ответа от короля. Дни шли за днями, а письма все не было. Она знала, что Генрих занят. Армия осадила Булонь и подвергала город яростным обстрелам. Шапюи говорил ей, мол, он слышал, что король выглядит помолодевшим и справляется лучше, чем от него ожидали. Екатерина поблагодарила посла за то, что тот поделился с ней своими сведениями. Уилл в письме удивлялся, что король еще способен взобраться на коня и гнать французов. Совет, пребывавший при Генрихе, регулярно отправлял письма с повелениями монарха. Но от самого Генриха не приходило ни слова. Екатерина несколько раз перечитала послание, в котором лорды передавали его благодарность Совету за споспешество в продвижении его дел. Почему ее не упомянули? Она пыталась радоваться, узнав, что король захватил шесть замков и надеялся взять Булонь в течение двадцати дней, так как стены города начали рушиться. Ему не хватало людей и военного снаряжения, и он надеялся на ее помощь со снабжением. Но ей король так и не написал ни строчки, и Екатерина сходила с ума от беспокойства. Она уже готова была кричать во весь голос, когда получила донесение, что французы готовятся напасть на Англию. Екатерина сразу же подняла тревогу, сообщив об угрозе мировым судьям, и испытала головокружительное облегчение, когда ей сообщили, что слухи оказались безосновательными. Разумеется, нужно было проинформировать обо всем Генриха на случай, если ложные сведения встревожили и его. Екатерина написала ему в официальном тоне, заверив, что в Англии все спокойно и благополучно. Она горячо молилась, чтобы он ответил. Разум ее полнился всевозможными опасениями, одно ужаснее другого. Неужели Божий замысел в отношении ее расстроился? Екатерина чувствовала, что подвела Его. Совет при короле велел ей послать графа Леннокса на Север в качестве наместника его величества. Настала пора Ленноксу выполнить свою часть сделки. Он получил обещанную ему невесту королевских кровей, так что теперь должен был взять замок Дамбартон и захватить власть в Шотландии от имени Генриха, свергнув королеву-регента, правившую за свою дочь. Маргарет, уже беременная, не хотела разлучаться с мужем вскоре после свадьбы и просила Екатерину отсрочить его отъезд, но та не посмела ослушаться Генриха. Леннокс должен ехать, а Маргарет она заверила, что ей будут рады при дворе и она может оставаться здесь сколь угодно долго, а сама Екатерина будет приезжать к ней в Степни, когда чума прекратится. Она снова написала Генриху, сообщила, что в королевстве порядок и дети здоровы. Уилл в одном из своих писем домой мельком упомянул Тома Сеймура, из чего Екатерина заключила, что брат пытался передать ей: с Томом все хорошо. И это стало для нее утешением. Возникли опасения, как бы чума не проникла в Хэмптон-Корт, и Екатерина решила, что неплохо бы, взяв с собой приемных детей, совершить тур по стране. Они отправились в Энфилд, а оттуда еще дальше на север — в замок Окхем в Ратленде, где их очень сердечно принимала графиня Ратленд, потом повернули к югу и посетили Мортлейк, Байфлит и Гилфорд, а затем Уокинг, где Екатерина нашла время поохотиться. Прежде чем совершать очередной переезд, она приказывала лорду-камергеру выслать вперед гонцов для проверки, нет ли в округе случаев чумы. Их отчеты беспокоили Екатерину, так как в некоторых местах явно было небезопасно, поэтому она не задерживалась подолгу на одном месте. Короткие остановки они сделали в Беддингтоне, Хэмптон-Корте, дворцах Элтем, Сент-Джеймс, Энфилд и Нонсач, прекрасном охотничьем доме, который Генрих выстроил в Суррее. Кэтрин с удовольствием провела бы там больше времени, но это было рискованно. Как будто она недостаточно утомилась от своих трудов! Приходилось еще без конца улепетывать от чумы, что изматывало и не давало покоя. Екатерина с болью в сердце сознавала необходимость уберечь принца. Она подумывала, не поехать ли в Кент, но зараза добралась туда раньше ее. Самой отдаленной точкой, куда осмелилась забраться Екатерина, стал великолепный дворец архиепископа Кранмера в Отфорде, но и там она провела всего два дня, после чего снова вернулась в Уокинг, где чувствовала себя в наибольшей безопасности. Когда-то этим поместьем владела бабушка Генриха, леди Маргарет Бофорт, и с тех пор усадебный дом превратился в роскошный дворец. Екатерине и ее приемным детям нравилось проводить время во дворе, обведенном крытой галереей, или проверять свои умения на дорожках для игры в шары. В погожие дни Екатерина устраивала учебные занятия Эдуарда и Елизаветы в личном саду короля; иногда они с Марией присоединялись к ним. И все же тревога не оставляла Екатерину, так как она до сих пор не получила письма от Генриха. Хотя из Булони новости приходили. Лорд Хартфорд сообщал Совету, что плохая погода и недостача пороха затрудняют осаду, хотя он сохранял оптимизм, так как они захватили холм, на котором стоял замок, и Хартфорд считал это большим стратегическим успехом. Потом сердце Екатерины подскочило от радости: Хартфорд сообщал, что, когда он уже собирался запечатать письмо, Генрих остановил его и приказал передать ей добрые вести: «Благодарение Господу, его высочество весел и здоров, таким я видел его все последние семь лет», — сделал приписку Хартфорд. Генрих не мог злиться на нее, если велел отправить ей лично особое сообщение. Вероятно, он просто слишком занят и не может черкнуть ей сам. И все же записка со словами любви успокоила бы ее. — Я хочу, чтобы его величество написал мне, — призналась она советникам во время очередной встречи с ними. — Многое бы я отдала, лишь бы получить от него весточку и узнать, что он благополучен. — Господь укрепит своих против дьявола, мадам, — с теплотой в голосе произнес Ризли, — а потому не тревожьтесь, так как Он обернет все к лучшему, и мы уверены, что его величество находится вне опасности. Немного успокоившись, Екатерина снова написала Генриху, поинтересовалась здоровьем и отправила ему половину оленьей туши. Она спросила, можно ли ей временно заменить некоторых дам, которые отсутствовали при дворе во время эпидемии, хотя те, которых королева наметила, были не сравнимы по рангу с разъехавшимися по домам. Генрих наделил ее суверенной властью, и тем не менее Екатерина сочла, что лучше проявить вежливость и попросить у него разрешения. А потом наконец — наконец-то! — он ответил. Когда Екатерина прочла приветствие: «Моя дорогая и самая любимая супруга», — то едва не расплакалась. Король сердечно благодарил ее за оленину. Он написал бы раньше, но был так занят, что совсем не имел свободного времени. Генрих задержал ее гонца в надежде, что сможет отправить ей новость о взятии Булони, однако необходимый ему порох еще не доставили. Тем не менее он укрепился на замковом холме. Король Франциск запросил мира, но Генрих желает узнать, что думает об этом император. Хотя его начинают раздражать грабительские требования Карла в отношении дележа добычи после победы над французами. Она должна сообщить об этом Совету. И да, она может нанять новых леди, если считает это необходимым. Они помогут ей скоротать часы досуга или составят компанию в развлечениях. «Какие развлечения?» — подивилась Екатерина. Он хоть представляет, какую жизнь она ведет? Однако охотно простила Генриха. Он не упомянул об «избранниках» и подписался «ваш любящий супруг». И еще добавил постскриптум: «На сём кончаю, дорогая, из-за недостатка времени и большой занятости делами. Мы просим Вас передать от нашего имени сердечные благословения всем нашим детям, привет нашей кузине Маргарет и остальным дамам и камеристкам, а также и нашему Совету».
Однажды поздней ночью, когда дворец уже спал, в дверь спальни Екатерины постучали, и ее разбудила сияющая Анна. — Герберт здесь, только что из Франции! Екатерина торопливо поднялась с постели и приняла его в ночном халате. — Мадам, я явился к вам срочно по приказанию короля, — сказал он и подал ей письмо с королевской печатью. Булонь пала! Никогда еще в словах Генриха не звучало столько ликующей радости. — Хвала Господу! — крикнула Екатерина, возрадовавшись сердцем. На шум прибежали дамы. Услышав новость, они сильно разволновались. Анна, смотревшая на мужа так, словно тот был посланцем Небес, крепко обняла его, не обращая внимания на то, что он весь был забрызган грязью с дороги. В ответ супруг звонко поцеловал ее, вызвав всеобщий смех. — Я теперь сэр Уильям Герберт, — сообщил он им. — Его величество за отвагу возвел меня в рыцари прямо на поле боя. — Прекрасная новость! — выдохнула Анна. Уже много недель она не выглядела такой воодушевленной. Женщины обнимались, радуясь победе: у большинства были мужья, братья или сыновья в армии. Хотя и была глубокая ночь, Екатерина созвала Совет. Когда она прочла вслух письмо, лорды разразились аплодисментами. Я поклялся привести Францию к покорности, — писал король, — и теперь выполняю свой зарок. Всю жизнь я был принцем чести и добродетели, который не бросает слов на ветер, а теперь я уже слишком стар, чтобы заводить себе такую привычку, подтверждение тому — седина в моей бороде. Он сообщил, что два часа сидел в седле под проливным дождем, наблюдая за сдачей крепости. Екатерина молилась, чтобы он не навредил себе этим. Я благодарю Господа за прекрасное начало Ваших дел и радуюсь приятной новости о Вашем добром здоровье, — написала ему в ответ Екатерина. Утром она распорядилась, чтобы в каждом городе и деревне все верные подданные его величества, составив процессии, явились в церкви и возблагодарили Господа за победу короля. Следом пришла новость о вступлении короля в Булонь во главе армии: перед ним несли государственный меч, и он под гром фанфар принял ключи от города. Однако момент триумфа был испорчен неожиданным известием: сославшись на финансовые трудности, союзник Генриха император Карл покинул его и заключил мир с королем Франции. Екатерина могла себе представить, как метал громы и молнии Генрих. Он собирался взять Монтрей, но теперь был вынужден отказаться от планов дальнейших завоеваний.
Екатерина все еще находилась в Уокинге, когда ей привезли список тех, кого следовало вознаградить за службу; среди прочих она увидела имя Тома Сеймура. — Составьте дарственную на эти земли для сэра Томаса, — велела она своему писарю и отдала ему документы на два поместья, расположенные неподалеку от Уокинга. — Напишите, что распоряжение отдано королевой. Так как это было одно из множества дарений, сделанных от ее имени, Генрих не станет возражать, а Том увидит в этом благодеянии ее руку. Чума по-прежнему опустошала Лондон и Вестминстер. Екатерина издала очередное строгое приказание, чтобы ни один человек, дом которого заражен или который соприкасался с заразой, не появлялся при дворе и не позволял кому-либо из близких ко двору людей останавливаться в своем жилище. Теперь, когда война закончилась и со дня на день ожидалось возвращение короля, груз лежавших на Екатерине забот стал легче. Мария, страдавшая от своих обычных осенних недомоганий, уединилась в Хансдоне и принялась за перевод Евангелия от Иоанна, поэтому Екатерина увезла Эдуарда и Елизавету в Ханворт на охоту, что очень понравилось детям. Там она получила письмо от Марии и опечалилась, узнав, что ее падчерица тяжело заболела и не могла продолжать работу. Екатерина сразу отправила к ней в качестве помощника одного из своих священников и заверила в письме, что слава переводчика все равно должна достаться ей. Всем известно, как много Вы потрудились, — писала Кэтрин. — Не вижу причин, почему Вы должны отказываться от похвал, которыми справедливо удостаивают Вас люди. Она отложила перо и посмотрела в окно. Эдуард и Елизавета носились за мячом по итальянскому саду; Маргарет наблюдала за игрой и подбадривала детей. Приятно было наконец видеть, что принц ведет себя как обычный ребенок. Екатерина зябко поежилась. Становилось не по сезону прохладно. Нужно послать за теплой одеждой в королевскую гардеробную, прежде чем они вернутся в Уокинг. Может быть, холода прогонят чуму. Екатерина до сих пор опасалась задерживаться надолго в Ханворте. Никогда не знаешь, в какой момент болезнь нанесет удар. После Уокинга они переберутся в Элтем, где подождут вестей от короля. Екатерина молилась, чтобы он благополучно пересек Канал. Она сочинила особую молитву об этом и с жаром повторяла ее.
Генрих дома! Его корабль без помех причалил в Дувре, и к Екатерине был сразу отправлен гонец с приказанием ехать в Отфорд на встречу с королем. Детей Генрих велел оставить в Элтеме, так как ему сообщили, что в тех краях не было случаев чумы. Разлука с мужем показала Екатерине, как много он для нее значил. Сердце ее подпрыгнуло, когда она увидела его проезжающим через гейтхаус просторного дворца Отфорд. Извещенная о прибытии супруга, Екатерина ждала его в огромном дворе. Глаза короля, когда он спускался с коня, искрились радостью. — Миледи! Я так жаждал вновь оказаться рядом с вами. — Генрих по-медвежьи крепко прижал ее к себе. — Слышал, вы превзошли саму себя в мое отсутствие, дорогая. — Где уж мне сравняться с тем, как вы проявили себя во Франции, — сделала она комплимент мужу, вдохновленная его похвалой. — И вы так хорошо выглядите. Это была правда. Генрих помолодел; она его таким еще никогда не видела и уловила в его облике ускользающий отблеск золотой юности. — Никогда не чувствовал себя лучше! — заявил король, взял Екатерину за руку и провел ее во дворец. После того как он умылся и отдохнул, они вместе поужинали. За трапезой Генрих рассказал ей о своейвоенной кампании и попросил ввести его в курс домашних дел. Екатерина ждала, не скажет ли он чего-нибудь о назначении ее регентом в будущем, но король не касался этой темы. Пока ей хватало того, что супруг был доволен ею. — Чума отступает? — спросил Генрих. — В Лондоне еще есть несколько больных, — ответила Екатерина, — но их стало значительно меньше. — Тогда мы оставим Эдуарда с Елизаветой в Элтеме, а сами проведем несколько дней в замке Лидс, — сказал король. — Вам там понравится. Ей понравилось. Расположенный на двух островах посреди озера, замок Лидс походил на маленький рай. Там Екатерина с Генрихом сблизились, как никогда прежде, и мужская сила не покидала его. Это был как будто второй медовый месяц. Они катались на лодке по озеру, охотились в окрестных лесах и принимали местную знать в великолепном банкетном зале с новыми витражными стеклами в окнах. Екатерина развлекалась от души. Ей доставляло удовольствие присутствие Генриха; она изумлялась, что этот самовластный человек, распоряжавшийся жизнями тысяч людей, мог быть таким мягким и добрым с ней и при этом сохранял авторитет и силу. Настоящий бог на земле, хотя Екатерина и корила себя за такое кощунство, потому что никакого смертного нельзя сравнивать с Господом. — Страсть ослепляет, — неожиданно сказал Генрих однажды вечером, когда они прогуливались по дорожке вдоль реки. — Она заставляет не обращать внимания на недостатки и предостережения. — Екатерина догадалась, что король, вероятно, имеет в виду свои отношения с Екатериной Говард или даже с Анной Болейн, и была удивлена, что он поднял эту тему. — Наши отношения гораздо лучше, — продолжил он, беря ее за руку, — и сколько же времени понадобилось старому дураку, чтобы это понять. На мгновение Екатерина задумалась, действительно ли идиллическая безмятежность в отношениях предпочтительнее восторженного беспокойства, которое пробудил в ней Том? Однако у некоторых людей, она знала, сердечное волнение не стихает с годами. Будет ли оно длиться у них с Томом, если они когда-нибудь поженятся? О Боже, что за ужасный она человек, думает о новом замужестве, когда они с Генрихом наслаждаются уединением! Увы, время пролетело очень быстро. Новых сообщений о случаях чумы не поступало, и Генрих больше не мог откладывать возвращение в Уайтхолл, а потому они неохотно завершили свой идиллический отдых и перебрались в Лондон. Генрих продолжал злиться, что император бросил его. — Иного я от него и не ожидал, — мудро заметил он, когда они с Екатериной отправились на охоту в Сент-Джеймсский парк. — Но ничто не может умалить мою победу. Екатерина обрадовалась, что новый, подвижный образ жизни распространился у Генриха и на преследование добычи. Был конец зимы, но даже это не удержало его. Она осталась дома, уютно устроившись у очага, и читала законченный Марией перевод. Он был превосходен, и королева написала ей, побуждая опубликовать свою работу. Мария ответила, что сделала бы это, но только под псевдонимом, однако Екатерина убедила ее, что этот труд должен дойти до потомков под именем автора, и предложила оплатить его издание. Она не удивилась, когда приходящие к ней ученые мужи и клирики начали превозносить работу Марии до небес. Даже на Гардинера, как она слышала, перевод произвел впечатление. От Уилла Екатерина узнала, что Том Сеймур ненадолго приезжал в Англию, но теперь ушел в море — атаковал французские корабли и доставлял провизию для гарнизона Булони. Ей представлялось, что Том, страстно любивший морскую жизнь, находится в своей стихии, и она радовалась, что он занят любимым делом. В те дни Екатерина старалась не думать о нем слишком много. Она немало потрудилась над тем, чтобы добиться успеха в браке, и не хотела ничем нарушать сложившуюся в ее отношениях с Генрихом гармонию. Том был отправлен в дальние уголки сознания и там должен оставаться, пока она вновь не обретет свободу. Однако ей не позволяли совсем позабыть о нем. Однажды вечером, за ужином, Генрих брюзжал по поводу того, как дорого обходится ему снабжение Булони. — Я мог бы обойтись и без Сеймура, который строит из себя дурака! Екатерина слушал его вполуха, но тут насторожилась и вгляделась в лицо Генриха, ища в нем признаки, что он проверяет ее реакцию на имя Тома. Ровным, бесстрастным голосом она спросила: — Что он сделал? — Дважды выходил в море в шторм, не заботясь о безопасности людей на борту. Он потерял несколько моих кораблей и утопил сто тридцать человек. Этот человек слишком порывист себе во вред. Мне больше по душе его брат. — Я сожалею об этих несчастных моряках и ваших потерях. — Совет, по моему приказу, сделал ему внушение за нерадивость, — прорычал Генрих. — Надеюсь, он сумеет объяснить свои действия, — отозвалась Екатерина, не желая продолжать разговор о Томе. К счастью, Генрих сам переключился на другие темы.
Через несколько дней Джон Беттс закончил писать ростовой портрет Екатерины, и она пригласила Генриха посмотреть картину. — Очень красиво, — похвалил король. — Вы на нем как живая. Мы весьма обязаны вам, мастер Беттс. Нам следует поручить вам написать леди Марию. Художник поклонился; его пухлое простоватое лицо порозовело от удовольствия. Генрих отпустил Беттса и попросил Екатерину сесть с ним на мягкое сиденье, устроенное в амбразуре окна. — Я слышал, моя племянница Маргарет уехала домой, в Степни, — сказал король. — Она планирует провести там время уединения перед родами, — ответила ему Екатерина. — Я должна съездить к ней, когда родится ребенок. Подозреваю, она хотела бы, чтобы вы стали крестным отцом. — Я сделаю это с удовольствием, — улыбнулся Генрих. — Кстати, сэр Томас Сеймур оправдался. Он пустился в море, так как беспокоился из-за нехватки продуктов в Булони и Кале, и заверил меня, что приложил все усилия для их доставки. — Рада слышать, что проблема разрешилась. — Я сожалею, что так резко судил о нем, — проговорил Генрих. Это было на него не похоже — признавать свою неправоту. — Нужно наградить его за безукоризненную службу. Я собираюсь даровать ему Хэмптон-Плейс у Темпл-Бар. Он пустует с момента смерти графа Саутгемптона. — Это очень щедрая награда. Я уверена, сэр Томас поймет, какая честь ему оказана. Насколько она могла судить, Том придет в полный экстаз. Великосветская резиденция в Лондоне по соседству с домами знати на Стрэнде! Екатерине хотелось бы увидеть его лицо в момент, когда он услышит о выпавшем на его долю счастье. — Он заслужил это. — Генрих с трудом поднялся на ноги и добавил: — А теперь мне нужно возвращаться к себе. Шапюи просил об аудиенции.
 Глава 20
1545 год
Глава 20
1545 год
Екатерина сидела за столом в своих покоях и рассматривала полученный от Елизаветы новогодний подарок. Она была глубоко тронута трудами, которые взяла на себя ее падчерица: Елизавета перевела на английский написанную сестрой французского короля Маргаритой Валуа поэму «Зерцало грешной души», все 117 страниц, и сама украсила обложку, вышив на ней серебряной нитью инициалы Екатерины. Это, наверное, отняло у нее уйму времени. Ее уровень владения французским был впечатляющим для одиннадцатилетней девочки, однако Екатерина не могла удержаться от смущения, оценивая выбор Елизаветы: эту поэму дважды запрещали во Франции из-за сильного реформистского уклона. Как поясняла сама дарительница в задушевном сопроводительном письме, эта поэма показывала, что человек может достичь спасения не иначе как через милость Господа. Одна только вера могла подтолкнуть ее к такому шагу.
«Чему только учат наставники Елизавету и Эдуарда?» — подумала Кэтрин. И тем не менее Генрих одобрительно кивал, когда она показала ему подарок. Знал ли он, о чем эта поэма? И возможно ли, что король наконец стал склоняться к более чистой вере? Это был бы самый лучший новогодний сюрприз для нее.
Из задумчивости Екатерину вывела герцогиня Ричмонд.
— Мадам, приехал гонец от леди Леннокс.
Маргарет родила сына, мальчика назвали Генри в честь его дядюшки короля. Екатерина и Мария, невзирая на морозную погоду, отправились навестить молодую мать в Степни, взяв с собой драгоценности для ребенка. Однако Маргарет, сидевшая в постели с младенцем на руках, выглядела встревоженной.
— Он такой крошечный. Родился слишком рано. И ест совсем мало.
Мария взяла его на руки:
— Что это за милый мальчик! — Она обожала детей.
— Кормилица хорошо питается? — спросила Екатерина.
— О да. — Маргарет нетерпеливо забрала малыша.
— Может, попробовать давать ему кашку? — предложила Екатерина.
Молоко, смешанное с хлебом, помогло выкормить одного из детей Маргарет Лейн, она это помнила. Маргарет сказала, что попробует, но они оставили ее с тяжестью на сердце. Младенец и правда был совсем крошечный и слабый, едва ли он выживет.
Екатерина все сильнее тревожилась за свою падчерицу Маргарет. К двадцати годам та превратилась в грациозную молодую женщину со светлыми локонами и голубыми глазами. Однако у нее появился кашель, который никак не проходил. Никакие лекарства, которые давали ей врачи, не приносили пользы, и теперь, Екатерина была в этом уверена, Маргарет начала худеть. Однажды утром в марте падчерица вошла в ее спальню. За окном было темно, вставать еще рано, к тому же она не должна была сегодня прислуживать Екатерине. — Маргарет? Что случилось? Лицо девушки, освещенное свечой, которую она держала в руке, выглядело осунувшимся. — Матушка, мне страшно. — Голос ее дрожал. — Я кашляла кровью. — Маргарет показала платок с красными пятнами. Екатерина ужаснулась, но постаралась скрыть свои чувства. — Вероятно, беспокоиться не о чем, — сказала она. — У тебя не кровоточат десны? — Нет, это от кашля. — Тебе нужно показаться доктору Венди, моему врачу. Он сможет успокоить тебя. — Слова были произнесены с уверенностью, которой Екатерина на самом деле не ощущала. В душе у нее царило смятение. Маргарет была очень дорога ей. Мысль о том, что с ней случится что-нибудь плохое, была невыносима. После завтрака Екатерина вызвала доктора Венди, знающего и опытного врача, человека очень спокойного и внушающего доверие. Он снискал расположение Екатерины своим энтузиазмом в отношении реформ. Доктор осмотрел Маргарет и пустил ей кровь, чтобы сбалансировать гуморы, как он объяснил. — Я пропишу вам настой лёгочной травы, — сказал Венди, — и осмотрю вас через неделю, мистресс Латимер. — Но что со мной, доктор Венди? — спросила Маргарет. — Судить пока еще слишком рано. Давайте проверим, поможет ли лечение. Екатерине показалось, что врач увиливает от прямого ответа. Она понадеялась, что ошибается. Прошла неделя, а Маргарет по-прежнему кашляла кровью. Доктор Венди выглядел мрачным. — Боюсь, это чахотка, — объявил он, к ужасу Екатерины; она сразу вспомнила невыносимые страдания Джона. — Вам нужно отдыхать, мистресс Латимер, и копить силы. Вы можете продолжать прием медуницы, и я буду давать вам маленькие дозы ртути, она помогает при таких состояниях. Если вам будет трудно дышать, зажгите в вашей комнате какие-нибудь благовония. Маргарет смотрела прямо перед собой, словно вглядывалась в будущее, которого у нее нет. Лицо ее было очень бледным. — От этого умер мой отец, — запинаясь, проговорила она. — Я тоже умру? — Мы все умрем, — сказал доктор Венди. — Одному Господу известно когда. Это серьезное заболевание, но пока мы живы, есть надежда. — Он тепло улыбнулся ей. Маргарет ничего не сказала; она просто сидела и качала головой. Екатерина поспешила обнять ее: — Моя дорогая девочка, мы сделаем для тебя все возможное. — Глаза ее защипало от слез, но она сморгнула их, зная, что должна быть сильной ради своей падчерицы. — Мадам, вам лучше сохранять дистанцию, — предупредил доктор Венди. — Эта болезнь заразна. Значит, бедняжке Маргарет тоже предстоит лишиться физического утешения, что казалось Екатерине большой жестокостью. Как мог Господь наслать такое горе на столь кроткую душу? Это станет для Маргарет последним испытанием веры — и для нее самой тоже. Екатерина не знала, как вынесет это. Когда первый шок прошел, больная проявила выдержку. — Я могу поправиться, — сказала она, лежа на кровати. Екатерина сидела на безопасном расстоянии от нее. — А если нет, тогда воссоединюсь со своими милыми отцом и матерью. Я рада, что Господь дал мне время подготовиться к смерти, чтобы встретить смерть в состоянии благости и загодя составить завещание. Вы будете моей наследницей, дорогая матушка. Я никогда не смогу отблагодарить вас, как должно, за науку, за нежную любовь и доброту, которой вы меня всегда одаривали. Екатерина силилась сохранить самообладание. Как ужасно слышать от Маргарет слова о смерти. Доктор Венди наедине сказал ей, что кончина ее вполне вероятна, но ни в коем случае не неизбежна; ему известны случаи выздоровления чахоточных больных. Однако все говорило о том, что Маргарет приготовилась к худшему. Екатерина даже немного завидовала тому, с каким спокойствием та была готова принять свою горькую судьбу. Покинув наконец комнату Маргарет, Екатерина хотела уединиться и дать волю слезам, но застала в своей спальне девушек, которые раскладывали по местам выстиранное постельное белье, чинили одежду и чистили ее обувь. В наружных покоях было не лучше, поэтому Екатерина, завернувшись в накидку с капюшоном, укрылась от всех в саду. Дул ледяной ветер, вокруг ни души. Она прислонилась к стволу грушевого дерева, спиной к дворцу, и захлюпала носом, давая волю чувствам, как вдруг услышала шаги. Екатерина обернулась и увидела глядящего на нее Тома Сеймура. — Кейт! — Он был явно поражен. — Том. — Она собиралась с мыслями, утирая слезы с глаз. — Прошу вас, уходите! Нас не должны видеть вместе. — Что случилось? — упорствовал он, не двигаясь с места. — Это из-за Маргарет, моей падчерицы. Она умирает от чахотки, а ей всего двадцать, и она очень дорога мне. — Екатерина снова расплакалась. — О, моя дорогая, — сказал Том и подошел к ней, намереваясь обнять. — Нет! — воскликнула Екатерина, делая шаг назад. — Вы с ума сошли?! — Она пошла прочь, в страхе оглядываясь по сторонам, вдруг их увидят. — Я хотел утешить вас, — крикнул ей вслед Том. Екатерина прибавила шагу и ничего не ответила. К счастью, рядом никого не было.
Она хотела найти утешение у Генриха, но, когда пришла в королевские покои, сэр Энтони Денни сообщил ей, что у его милости лихорадка и он никого не желает видеть. — Даже меня? — спросила Екатерина. Сэр Энтони понизил голос: — Между нами, мадам, он терпеть не может, когда его кто-нибудь видит слабым. — Он очень болен? Что говорят врачи? — Это жгучая лихорадка. Врачи подозревают, что его нога снова воспалилась. «Этого еще не хватало!» — подумала Екатерина, но тут же напомнила себе, что Генриху сейчас хуже, чем ей. — Вы будете держать меня в курсе? И передадите его величеству мое сердечное пожелание скорейшего выздоровления? — Разумеется, мадам. В течение следующих трех дней Екатерина по четыре раза на дню посылала справиться о здоровье короля и получала один и тот же ответ: лихорадка не прекратилась. На четвертый день к ней пришел Уилл. — Его милость очень страдает. Доктора тревожатся. — Я должна его видеть! — воскликнула Екатерина. — Нет, Кейт, не нужно поднимать шум. Король распорядился держать его состояние в секрете, чтобы не пополз слух, будто он теряет хватку. — Но неужели он не примет меня? — Он не допускает к себе никого, кроме врачей и Уилла Сомерса. Екатерина схватила брата за руку: — Скажи мне правду, он умирает? Уилл поднес палец к губам: — Ш-ш-ш. Врачи ничего не говорят. Только Гардинер набрался храбрости заявить, что его милость не доживет до того времени, когда принц станет взрослым мужчиной. Ему приказали уйти. Он целыми днями торчит в сторожевом покое и молит, чтобы его пустили к королю. — Гардинер наверняка ищет способ склонить Генриха на свою сторону, пока тот слаб, — пробормотала Екатерина. — Да, он думает, это его шанс уничтожить ересь. — Тогда я должна убедить короля, чтобы он увиделся со мной. Если Гардинер шептал ему в одно ухо, я могу нашептать в другое. — И, что важнее всего, ей нужно узнать, кого Генрих намерен назначить правителем Англии после своей смерти. Екатерина выждала день, потом направилась к покоям короля. — Ради Бога, попросите его величество принять меня, — с мольбой обратилась она к Денни. Через несколько минут тот вернулся, сияя улыбкой: — Его милость примет вас. Сегодня ему немного лучше. Воздух в спальне был спертый, припахивало гнилью. Генрих сидел в кресле и играл в шахматы с Уиллом Сомерсом; его больная нога, обмотанная бинтами, лежала на подставке, обивка которой была вся в пятнах. — Кейт! Как приятно видеть вас! — приветствовал ее Генрих. — Я был нездоров. — Говорил он жалобно. — Какое облегчение видеть, что вам лучше! — Она наклонилась и поцеловала его в щеку. — Ай! — Уилл улыбнулся. — Я еще не совсем оправился, — сказал Генрих, сердито глянув на шута. — И меня беспокоили докладами о ереси. Гардинер! Он добрался до короля раньше ее. — Епископ Винчестерский беспокоил вас? Неужели Тайный совет не в состоянии разобраться с такими делами? — Он был так настойчив, что я согласился принять его вчера вечером. Его сообщение встревожило меня. Я не допущу, чтобы мое королевство погрязло в ереси, я выкорчую ее. — Король начинал впадать в озлобление. — Конечно, — поспешила согласиться с ним Екатерина и при этом похолодела до мозга костей. — Он принес мне список имен. Там их больше двадцати! Всех арестуют сегодня же и допросят. На какой-то ужасный момент Екатерина задумалась, нет ли в этом списке и ее имени? Но Генрих не принял бы ее так ласково, если бы оно там было. И тем не менее другие люди скоро испытают схожий страх — мужчины и женщины, взгляды которых она разделяла. Сердце ее заныло от боли. Этим людям предстояло проявить почти нечеловеческую храбрость. — Молюсь, чтобы они поняли свои ошибки, — сказала Екатерина, ненавидя себя за трусость. Правда, она не сомневалась, что принесет больше пользы делу протестантов, если останется в живых, хотя прямо сейчас повлиять на короля явно не удастся, раз он в таком неважном настроении. Вот бы ей увидеть этот список! Но обращаться с такой просьбой к Генриху она не посмела. Вопрос о регентстве тоже подождет. Разговор на эту тему Екатерина не могла завести сама, так как Генрих боялся смерти, а упоминание о том, что он покинет этот мир, считалось изменой. Она могла только направить беседу в нужную сторону и надеяться, что король откроет ей свои планы. Однако его величество не реагировал ни на какие ее заходы, и в конце концов Екатерине пришлось уйти, чтобы не выдать своих истинных мотивов.
В тот же день ближе к вечеру герцогиня Саффолк увлекла Екатерину в амбразуру окна. — Анну Аскью арестовали, — прошептала она. Екатерина вспомнила фанатичную женщину, которая пыталась заручиться ее поддержкой. Теперь она была рада, что тогда отказала ей, но новость ее ужаснула. Всякий раз, как она вспоминала Анну, на память приходил и тот ночной кошмар. Но что поделать, Анна Аскью сама навлекла на себя эту беду. Она не могла не знать, какое наказание грозит еретикам, и тем не менее никогда не скрывала своих убеждений, мало того, открыто их проповедовала. Однако, несмотря ни на что, Екатерине было жаль ее. — Не здесь, — пробормотала она, понимая, что в комнате находятся и другие дамы — кто играл в карты, кто разговаривал. Екатерина отвела герцогиню в свой кабинет. — Что случилось? — Ее выдал муж, и боюсь, она может оговорить меня. Сестра Анны замужем за моим поверенным, они оба протестанты! А потом это может привести к вам, мадам, и остальным нашим друзьям, бывающим здесь. У Екатерины похолодела кровь. — Но что они могут знать? Мы были крайне осторожны. Их дискуссии по спорным вопросам проводились тайно, на пониженных голосах. А запрещенные книги были запрятаны в ее спальне под двумя досками пола, накрытыми турецким ковром, и, глядя на это место, никто ничего не заметил бы. — Если вас станут допрашивать, отрицайте все, — проговорила Екатерина, думая о святом Петре, который трижды отрекся от Христа. — И предупредите Магдалену, Нан, Анну и остальных.
Так начался ночной кошмар. Что лучше: столкнуться с опасностью лицом к лицу или теряться в догадках, существует ли она? Сперва они не имели понятия, где содержат Анну Аскью, тем более не знали, выдала она их или нет. Каждый день превратился в пытку ожиданием — услышать маршевый топот шагов, увидеть держащую ордер на арест руку. Екатерина принялась как одержимая следить за Генрихом: она искала в его словах и жестах свидетельства того, что он ее подозревает. Прилив сил, который он испытал в прошлом году, сменился болезнями, и часто она находила его раздражительным и сварливым — в досаде, что прикован к креслу. Трудно было догадаться, что у него на уме, так как нередко утром он держался одного мнения, а после обеда — противоположного. Ничего не происходило. Наконец Хартфорд сообщил Нан, что Анну Аскью отправили обратно к мужу в Линкольншир с приказом держать жену под надзором. Екатерина начала успокаиваться. Равновесие стало более устойчивым, когда Генрих пошел на поправку, снова взялся играть в шары и даже ездил верхом охотиться в Гайд-парк. Но все-таки обе его ноги болели, и временами Екатерина удивлялась, как он вообще ходит. Каждый раз, когда король выражал желание побыть в ее обществе, она радовалась, ведь он легко мог не пустить ее к себе. Раньше ему нравилось присутствовать при разговорах, которые она вела с богословами и учеными, регулярно посещавшими ее покои, и теперь Екатерина с удовольствием излагала королю их отредактированные версии. Он и сейчас иногда приходил послушать проповедников, которых она приглашала, кивал с мудрым видом, когда соглашался с каким-нибудь теологическим доводом, или спорил с идеями, которые не поддерживал, и делалось это вполне дружелюбно. Разумеется, во время дискуссий все держались единственно верной линии полного согласия с реформами, хотя затрагивали тему злоупотреблений в Церкви, даже в присутствии короля, и он выражал одобрение. Положившись на это, Екатерина улучила момент, совершенно исключительный. После того как они выслушали Хью Латимера, который читал проповедь, направленную против бесчестья Рима, и при ней были Анна и леди Саффолк, королева промокнула губы, наполнила кубки и сделала большой глоток вина, набираясь храбрости. — Я рада, что вам понравилась проповедь. Генрих, насытившийся вкусной едой, откинулся на спинку кресла. — Латимер — здравомыслящий человек. «Если бы он только знал», — подумала Кэтрин. — Генрих, благодаря вам мы имеем столь просвещенный подход к истинной религии в нашем королевстве, — сказала она, и король благосклонно кивнул. — Во славу Господа и ради прославления себя в веках вы взялись за благое и богоугодное дело по запрету чудовищного идола Рима. Многие из ваших набожных и преданных подданных молятся, чтобы вы с тщанием завершили это дело и очистили Церковь Англии, в которой сохраняются великие предрассудки. — Хм… И чего вы от меня хотите, Кейт? Екатерина сглотнула: — Обуздайте Гардинера. Будьте так же открыты новым идеям, как десять лет назад. — Она собралась было упомянуть Анну Болейн, но поняла, что это неразумно. По шее Генриха от воротника вверх поползла предательская краснота. — Гардинер — человек въедливый, но он работает на меня. Ересь — это язва на теле государства, и я удалю ее! Десять лет назад все было по-другому. Протестантские идеи еще не укрепились. Теперь маятник откачнулся слишком далеко. Похоже, Кейт, вы собрались сделать из меня еретика! — Вовсе нет! — Она собралась защищаться. — Вы говорили, что следуете срединному пути, и все же кажется… — Довольно! — рявкнул Генрих, стукнув по столу. Никогда еще он не говорил с ней так резко. — Я болен, Кейт, а вы набрасываетесь на меня. Вы не лучше Гардинера. Оставьте это. — Конечно. Мне очень жаль. Простите меня. — Екатерина так испугалась, что была близка к слезам. Король потянулся через стол и взял ее руку: — О Кейт! Я старый медведь. Забудьте об этом. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Ослабев от облегчения, она рассказала ему, какие цветы начали распускаться в саду.
Леди Саффолк задержалась в спальне, когда остальные женщины приготовили Екатерину ко сну и вышли. — Мадам, я слышала ваш разговор с королем и должна сказать вам, что милорд Саффолк сегодня передал мне: Гардинер, Ризли и их сотоварищи видят в вас врага. Они трудятся над тем, чтобы в Англии не появилось реформистское правительство, когда принц станет королем, чего бы это ни стоило. Екатерина сделала бесстрастное лицо. Пусть фракции борются друг с другом сколько угодно. Она была убеждена, что Генрих собирается назначить регентом ее. — Многим известно о ваших предпочтениях, — продолжила леди Саффолк. — Все, кто за реформы, находятся под подозрением. Отсюда и эта кампания по выкорчевыванию ереси, ведь они полагают, что многие защитники реформ на самом деле — тайные протестанты. Милорд говорит, они не смеют начать процесс против вас, потому что вы пользуетесь любовью и благоволением короля. Глаза их встретились; обе женщины сознавали опасность. Саффолк был одним из самых старых друзей Генриха, почти как брат ему. Он находился в гуще всех дел и неизменно поддерживал короля во всех политических и матримониальных делах. Его мнение имело значение. Однако у Гардинера были только подозрения; у него нет доказательств, что она повинна в ереси. — Защищать реформы не противозаконно, — сказала Екатерина. — И меня не заставят молчать. Господь привел меня на трон не просто так. На следующий день после обеда, по просьбе Генриха, Екатерина села вместе с ним у камина в библиотеке. Уилл Сомерс пристроился позади кресла короля, кроме того, в комнате работали несколько клерков и писцов: они сидели, склонив головы над столами, перекладывали бумаги и скрипели перьями. — Надеюсь, ваша милость, сегодня вы чувствуете себя лучше, — сказала Екатерина, когда король в качестве приветствия поцеловал ей руку. Понимая, что рядом посторонние, она постаралась не обращаться к нему фамильярно, как делала, когда они были одни. — Хуже, если такое возможно, мадам, — жалобно проговорил король. — И эти донесения о ереси не помогают делу. — Ему явно нездоровилось. — Вам не нужно беспокоиться о таких вещах, когда вы плохо себя чувствуете, — сказала Екатерина. — И если бы некоторые люди более терпимо относились к реформам, проблем было бы меньше. Она понимала, что балансирует на очень опасной грани, но ее возмутило навязчивое давление на короля со стороны консерваторов. — И что вы имеете в виду под более терпимым отношением, мадам? — Ослабление ограничений на чтение Библии. Позвольте каждому человеку следовать велениям совести… — Ей-богу, мадам, у нас начнется религиозная анархия. Каждый человек со своим собственным мнением, при том что лишь немногие имеют достаточно знаний, чтобы обзавестись им. Нет, так не пойдет. А теперь оставим это. Я хотел показать вам кое-что. — Генрих открыл большую книгу с архитектурными чертежами и текстом на итальянском. — Я мечтаю построить дворец в классическом стиле. Екатерина была поражена тем, как он уклонился от дальнейшего спора, но собралась с мыслями и взяла в руки книгу: — Это из Италии? — Это Темпьетто Браманте[164] в Риме. А вот палаццо Фарнезе. Какое будет чудо — иметь такие постройки в Англии. — А по-моему, нам в Англии не нужны диковинные иностранные здания! — встрял Уилл Сомерс, за что удостоился игривого подзатыльника от своего господина. — Убирайся! — приказал Генрих, и шут ускользнул в угол, где взял книгу и притворился, что читает ее, держа вверх ногами. Подавляя смех, Екатерина стала обсуждать с Генрихом, стоит ли ему заниматься новым строительством или лучше взяться за улучшение имеющихся дворцов. Приятно было видеть его таким увлеченным, и она подумала: может, и правда зря она наседала на него с разговорами о религии во время болезни. Они приятно провели время, но наконец Генрих сказал, что устал. — Прощайте, дорогая. Я теперь буду отдыхать. — Он закрыл глаза, и она ушла, надеясь, что его не потревожат клерки, вечно загруженные делами.
Несколько дней спустя Екатерина пришла навестить короля, и тот сам заговорил с ней о спорных вопросах религии, что ее удивило. — Прежде я был не в форме, дорогая, и не мог слушать вас, а теперь прошу, выскажите свои мысли. Никто не мешал их разговору, даже неотвязный Уилл Сомерс не торчал рядом с королем. Екатерина готова была расцеловать Генриха, так как давно ждала, что он вызовет ее на откровенность. — Вы сотворили чудеса, Генрих, — сказала она, — но есть люди, которым кажется, что вы становитесь папистом без папы. Кажется, что реформы остановлены, к тому же начались преследования. Люди должны приходить ко Христу через любовь, а не из страха. — Однако если они впадут в ересь, то не придут к Нему вовсе, — мягко проговорил король. — Но где же грань между реформами и ересью? — спросила Екатерина. — Как нам понять, кто прав? — Посредством чтения Писания, молитвы и прочной опоры на теологию. — Но ведь они одинаковы для католиков и протестантов. — Кейт, мы говорим о спасении. Скажите, вы верите в его предопределенность? Екатерина насторожилась. Но прошло уже несколько месяцев с тех пор, как она назвала его избранником Божьим. — Нет, — с особым чувством произнесла королева. — Я верю, что мы можем достичь его верой во Христа. — И это все? — Генрих пристально посмотрел на нее. — Нам не нужно делать добрые дела в этом мире? — Конечно нужно. — Она лукавила, надеясь, что король этого не заметит. Он кивнул, очевидно удовлетворенный ее ответом.
Через два дня вечером, когда Екатерина сидела в спальне Маргарет и читала ей, доложили о приходе доктора Венди. — Как сегодня чувствует себя моя пациентка? — бодрым голосом спросил он. Маргарет улыбнулась ему и сказала: — Лучше, чем прежде. Я не ожидала увидеть вас так скоро. — Я просто решил заглянуть к вам. Вы едите? — Да. Аппетит у меня не пропал. — Вот и славно. — Врач пощупал ей пульс, потрогал лоб. — Что ж, я приду к вам на следующей неделе. — Он повернулся к Екатерине. — Можно переговорить с вами, мадам? Нет, мистресс Маргарет, это не о вас, не беспокойтесь. Кэтрин вышла в антикамеру и сразу сказала доктору Венди: — Она ест не больше воробья. — Увы, этого следовало ожидать, — отозвался тот. — Жаль, что я ничего больше не могу для нее сделать. Но я пришел по другому поводу, мадам. Взгляните на это. — Он запустил руку под накидку, вынул оттуда свиток и передал ей. — Я нашел это на полу в галерее, которая ведет в зал Совета. Кто-то, вероятно, обронил. Это был билль, составленный против королевы Англии и подписанный самим королем. Слова расплывались перед испуганными глазами Екатерины. «Поручается расследовать… ереси… ниспровержение религии… опасные замыслы…». Почерк был явно Гардинера. Ее охватил ужас. Это реальность. Все происходило на самом деле! Она уже видела, как за ней приходят стражники, и ее накрывает мрачная тень Тауэра; чувствовала тяжесть цепи на поясе, слышала треск загорающихся вязанок хвороста… Вдруг Екатерина упала на колени и закричала истошным голосом, охваченная глубоким, атавистическим страхом. Доктор Венди опустился на пол рядом с ней, призывая успокоиться. — Ваша милость может пойти к королю прямо сейчас и предъявить ему это, — наставительным тоном говорил врач, но она выла не переставая. Если она не умолкнет достаточно долго, кто-нибудь обязательно поможет ей — поможет избежать пламени, которое будет медленно и мучительно пожирать ее. Екатерина смутно сознавала, что к ней сбежались люди; они спрашивали, что случилось, дамы обнимали и утешали ее, умоляли успокоиться и сказать им, в чем дело. Даже Маргарет примчалась, но ее отослали прочь. Екатерина не могла говорить. Она знала только одно: нужно продолжать крик — это единственная надежда. Перед ее мысленным взором неотступно стояли подпись Генриха на документе и пламенеющий костер, в центре которого — она сама, превращающаяся в жуткий обгорелый труп. Доктор Венди просил ее успокоиться. — Послушайте меня! Но Екатерина не унималась — стояла на коленях и голосила. — Она навредит себе. — Это был голос Анны. — Кейт, что случилось? Та покачала головой. — Помогите мне! — Она всхлипнула. Появились другие доктора и тоже встали на колени рядом с ней. Екатерина их знала: это были главные врачи Генриха, доктор Чеймберс и доктор Баттс, оба седобородые и весьма опытные. — Ваша милость, король послал нас к вам. Он беспокоится за вас. Если вы не успокоитесь, то поставите под угрозу свою жизнь. А теперь сделайте глубокий вдох и скажите нам, что привело вас в такое крайнее отчаяние. У доктора Баттса в руках был пузырек. — Это маковый отвар. Он успокоит вас и избавит от страхов. — Врач протянул настойку Екатерине. — Выпейте, мадам. Она оттолкнула его руку: — Составлен ордер… — И снова в голове у нее завихрились мысли о костре, и Екатерина зашлась в рыданиях. — Если вы дадите пузырек мне, я уговорю ее милость принять лекарство, — сказал доктор Венди. — Оставьте нас, прошу. Екатерина заметила, что антикамера опустела; в ней остались только она и ее врач, оба сидели на полу. — Мадам, вы должны выпить лекарство ради вашего же блага и выслушать меня. Не все еще потеряно. Думаю, я знаю, что кроется за этим. В его словах Екатерина уловила проблеск надежды, и рыдания ее сменились всхлипами. — Два дня назад его величество вызвал меня к себе, — говорил меж тем доктор. — Он сказал, что ему нужно облегчить передо мной свое сердце, так как его тревожит мысль, не впадаете ли вы в ересь? И дальше он заявил, что вы сделались едва ли не доктором теологии, все время диктуете ему, как поступать, и он не может дольше потакать вам в этом. Его величество действует вам во благо, потому что он точно знает: враги работают против вас. — Доктор Венди украдкой огляделся. — Я не должен говорить вам этого, так как его милость обязал меня под страхом смерти не передавать его слова ни одной живой душе, но настойчиво повторял, что не уступит их требованиям. Он планирует допросить вас, ожидая, что вы сможете оправдаться. А если нет, то он вмешается и прекратит расследование, так как не хочет причинять вам вреда, а желает лишь показать, чем вы рискуете. Екатерина наконец обрела способность рассуждать здраво. — Значит, он сделал это, чтобы заставить меня умолкнуть и досадить моим врагам. Неужели он не мог просто предостеречь их от таких шагов? — Мадам, король всегда таким образом стравливал разные партии. Это его способ предупредить вас. — Что ж, это было жестоко и без всякой на то необходимости. Он мог бы поговорить со мной! И как это случилось? Кто настроил короля против меня? — Паника снова поднималась в ней. — Не думайте об этом сейчас, — твердо сказал доктор Венди. — Мой совет: прежде всего, не выдавайте никому мои слова и, второе, не перечьте королю. Я не сомневаюсь: если вы продемонстрируете смиренную покорность ему, то встретите с его стороны милость и благоволение к вам. — Вы так думаете? Но ведь он подписал этот ордер! — И Екатерина снова залилась слезами, надрывая себе сердце. Сквозь отчаянные рыдания и увещевания доктора она услышала звук приближающихся шагов. Это стражники идут арестовать ее! Она снова закричала. — Кейт! Кейт! — раздался голос короля. — Помогите мне сесть в кресло, — проговорил сильно запыхавшийся Генрих. Двое стражников, на которых он опирался, помогли ему взгромоздить массивное тело на сиденье. Екатерина сквозь слезы таращилась на мужа, мигом умолкнув от его внезапного появления. — Кейт, что вас тревожит? — Лицо его было исполнено заботы. — Я слышал вас в своих покоях. И забеспокоился. — О сир! — Она поднялась с пяток и схватила его руки так, будто цеплялась за спасательный канат. — Я боялась, что ваше величество недовольны мной и отвернулись от меня. — И почему вы так решили? — Голос его был мягок. Дрожа, Екатерина подняла с пола свиток с указом и подала ему. Король прочел его, нахмурившись. — Откуда у вас это? — Я нашел его в галерее, ваша милость, — сказал Венди. — Дураки! — рявкнул Генрих. — Я не имел намерения доводить до такого. Хотел всего лишь разрешить свои сомнения. Кейт, скажите мне правду: вы еретичка? Никогда она не призналась бы ему в этом, пережив такой ужас. Солгать было бесконечно предпочтительнее. — Нет, сир, — твердо заявила Екатерина. — Ну, мы поговорим об этом с глазу на глаз. — Он внимательно вглядывался в нее. — А теперь, дорогая, успокойтесь. Ничего плохого с вами не случится. Не переживайте. Помогите мне встать, господа! Двое стражников мигом подскочили к нему. — Доброй ночи, дорогая, — сказал Генрих и заковылял к двери, тяжело опираясь на своих помощников. — Доброй ночи, сир, — отозвалась она, не вставая с колен; слезы облегчения текли по ее щекам.
Утром Уилл пришел повидаться с сестрой и тепло обнял ее. — Я слышал о случившемся вчера вечером, — сказал он. — Анна передала мне. Думаю, я знаю, кого винить в этом. — Гардинера, — без труда угадала Екатерина; за ночь она успела собраться с мыслями. Уилл кивнул: — Один из королевских писцов сообщил мне, что епископ находился в библиотеке, когда вы дискутировали с королем по поводу религии. Он работал над своим трактатом. Когда вы ушли, его величество пожаловался, что ему не нравится слушать лекции от жены. Гардинер сказал, что у него имелись подозрения насчет вас и ваших дам, но он боялся начать расследование, видя, как расположен его величество к своей супруге, но, если его милость даст на то разрешение, он тайно изучит это дело. И его милость согласился. — Мне нужно объясниться с ним, — сказала Екатерина. — Не могу жить под таким гнетом. Я увижусь с королем сегодня же. Как только Уилл ушел, Екатерина вызвала к себе в кабинет Анну, леди Саффолк, Нан Хартфорд, Магдалену Лейн, леди Тирвитт и других своих дам протестантских убеждений. — Избавьтесь от всех компрометирующих вещей, которые есть в моих покоях, — распорядилась она, понизив голос, так как понимала, что никто из посторонних не должен ее услышать. Она посмотрела на каждую из женщин строгим, многозначительным взглядом. — Это будет мудро. Дамы закивали и быстро разбежались исполнять поручение. В течение дня Екатерина замечала, как они куда-то исчезали одна за другой и возвращались через час или около того. Она размышляла, сколько дорогих религиозных книг было выброшено в Темзу или сожжено, но спрашивать об этом не осмеливалась. Вечером в сопровождении Анны и Магдалены, шедшей впереди со свечой в руке, Екатерина прошла в спальню короля. Она застала Генриха за разговором с джентльменами. — Мадам! — сказал он, завидев ее. — Какой приятный сюрприз. Садитесь. Сэр Энтони Денни поспешно освободил кресло у очага, и Екатерина, занимая место, благодарно улыбнулась ему. Она постаралась одеться изысканно и заметила, что Генрих задержал взгляд на низком вырезе ее платья и жемчужном ожерелье, лежавшем на светлой коже груди. Женское оружие может быть очень эффективным в ходе словесной битвы, это Екатерина учла. Генрих впивался в нее взглядом прищуренных глаз: — Итак, мадам, вы снова пришли поговорить о религии? Вы намерены разрешить мои сомнения? Так как некоторые из сделанных вами мне заявлений можно интерпретировать по-разному. Екатерина мысленно приказала себе не волноваться и не возражать слишком горячо. Будь смиренной, пусть даже это убивает тебя. Льсти ему. — Сир, я не хотела, чтобы вы восприняли так мои невежественные слова! — воскликнула она. — Вашему величеству, так же как и мне, известно, какими слабыми и несовершенными создал Господь нас, женщин, и что мы предназначены для того, чтобы находиться во власти мужчин, подчиняться им как своим руководителям и согласовывать с ними все наши поступки. — Она помолчала, видя, что Генрих наблюдает за ней и слушает благосклонно, что придало ей смелости продолжать. Скромно потупив взор, Екатерина заговорила: — Когда Господь создал мужчину по своему подобию, наделив особым даром совершенства, он сотворил женщину из мужчины, который должен управлять, распоряжаться и руководить ею. Женская слабость и природное несовершенство требуют снисхождения и помощи, чтобы мужской мудростью восполнялись ее недостатки. Она подняла взгляд и увидела, что Генрих одобрительно кивает; его джентльмены с мудрым видом склоняли головы. Один из них — Джордж Благге, особенно симпатичный Екатерине, усмехался. Улыбнувшись своему супругу, она продолжила: — Так как Господь создал эту естественную разницу между мужчиной и женщиной, а ваша милость столь превосходно одарены и мудры, а я, недалекая бедная женщина, безмерно уступаю вам во всех качествах, конечно, ваше величество не нуждается в выслушивании моих неразумных суждений по религиозным вопросам. Я всегда буду следовать мудрым наставлениям вашего величества как своей единственной опоры, верховного главы и руководителя здесь, на земле, после Господа. Генрих нахмурился: — Клянусь Святой Девой, вы прекрасно знаете, что спорили со мной! Вы взяли на себя роль доктора богословия, Кейт, и наставляли меня, а не слушались моих наставлений. Екатерина быстро соображала: — Вы сильно ошиблись во мне, сир, так как я всегда держалась мнения, что женщине не пристало, и это даже нелепо, брать на себя роль наставницы или учителя собственного мужа. Скорее уж она должна учиться у него и извлекать уроки. И когда я взяла на себя смелость спорить с вашим величеством, то сделала это не для того, чтобы высказать свое мнение, а ради развлечения васспором, дабы вы ненадолго позабыли о своих недугах и получили хоть немного облегчения. Я наделась, что мне самой будет полезно выслушать ученое мнение вашего величества. Генрих вдруг заулыбался ей: — Так ли, дорогая? И ваши доводы не таили в себе подвоха? А коли так, мы с вами снова лучшие друзья! Идите сюда. Екатерина подошла, и он обнял и поцеловал ее, не заботясь о том, что его джентльмены смотрят на это и тайком улыбаются. Отпустив ее, король глубоко вздохнул: — Слова, произнесенные вами, принесли мне бо́льшую радость, чем могло бы дать известие о том, что я получу сто тысяч фунтов. Никогда больше я не подумаю о вас плохого. — Генрих поцеловал ей руку. Екатерина оставалась с ним допоздна, они беседовали, играли в карты, и спать она легла, чувствуя себя много лучше. Омрачало ее мысли лишь воспоминание о вынужденном очернении себя и своего пола, ибо она не испытывала сомнений в том, что женский разум ни в чем не уступает мужскому. Но заявить такое во всеуслышание — это была бы ересь почище доктрины Лютера!
На следующий день с самого утра по-весеннему светило апрельское солнце. После полудня Генрих пригласил супругу прогуляться с ним по его личному саду. Деревья были усыпаны цветом. Король с королевой устроились в банкетном домике и болтали за кувшином вина, а члены их свит прохаживались по дорожкам рядом с клумбами, где только-только начинали распускаться цветы. Екатерина рассказывала Генриху, насколько она продвинулась в составлении нового молитвенника, не забывая интересоваться его мнением по поводу отобранных ею текстов, как вдруг услышала мерный топот марширующих ног. Звук приближался. Она в тревоге подняла взгляд, сразу решив, что ее одурачили, и увидела: Генрих тоже встревожился, поднимается на ноги и багровеет от гнева. Железные ворота, расположенные прямо напротив банкетного домика, распахнулись настежь, и в сад вошел лорд-канцлер Ризли во главе многочисленного отряда королевской стражи. Боже, да их было человек сорок! Екатерина обмерла от страха. Неужели Генрих заморочил ей голову, создав ложное чувство безопасности, и сыграл злейшую шутку? А теперь за ней все-таки пришли? Она не могла унять сотрясавшую тело дрожь. Однако король грозно двинулся к Ризли; лицо его было маской гнева. — Что вы себе позволяете, милорд канцлер? Ризли пал на колени, а стражники начали испуганно переглядываться, явно пребывая в замешательстве. Екатерина едва смела вдохнуть; встретиться взглядом с кем-нибудь из собравшихся вокруг дам она тоже не решалась. Лорд-канцлер, сильно взволнованный, говорил что-то, но расслышать его слова Екатерина не могла. Однако ответ Генриха прозвучал громко и отчетливо: — Негодяй! Отъявленный негодяй! Ублюдок! Дурак! — громыхал король. — Убирайся с глаз моих! Дальше перед глазами у нее развернулось достойное созерцания зрелище: лорд-канцлер Англии улепетывает прочь, сверкая пятками, а следом за ним уносят ноги стражники, будто за ними гонится стая адских псов. Генрих, хромая, вернулся к Екатерине; он все еще кипел от гнева, хотя попытался улыбнуться. — Кажется, вас чем-то обидел милорд канцлер, сир, — сказала она, дрожа, но понимая, что опасность миновала. — Не знаю, чем он вызвал ваш справедливый гнев, но смиренно молю вас быть к нему снисходительным. — Ах, бедная душа, — произнес Генрих, качая головой, — вы даже не представляете, как недостоин он вашей милости. Поверьте, дорогая, он проявил себя последним негодяем по отношению к вам. Поделом ему. — Как будет угодно вашей милости, — произнесла Екатерина, наливая себе еще кубок вина, чтобы успокоиться. Они вернулись к прерванной беседе, и Екатерина про себя возблагодарила Господа за избавление от расставленных врагами опасных силков. Вероятно, Он оградил ее от беды, так как она друг Евангелия. Это не пойдет на пользу делу консерваторов. Их намерения править Англией после смерти Генриха не увенчаются успехом. И это она, Екатерина, помешала им. Позже, оставшись наедине с верными ей дамами, Екатерина без умолку говорила о произошедшем. — Я до сих пор дрожу, — призналась она. — Просто не верится, что мне удалось избежать опасности. Я поняла, что мне ничего не грозит, только после того, как его величество обругал канцлера. За это мне нужно благодарить Господа!
Генрих в последнее время сильно недужил. Екатерина изумлялась, сколько денег король тратил на лекарства. Приступы мучительной боли участились, и он готов был использовать любые средства, чтобы смягчить ее. Настроение у него было такое же нестабильное, как состояние здоровья, и Екатерина научилась скрываться от него вовремя, чтобы нечаянно не вызвать обиды и не спровоцировать ссору. Она оставляла мужа на попечении Уилла Сомерса, изо всех сил старавшегося развлечь своего господина шутками и дурачествами, а также врачей, особенно доктора Баттса, ученого реформиста, с которым Генрих, когда чувствовал себя лучше, любил побеседовать о теологии и гуманизме. Частым гостем у него был и архиепископ Кранмер. Он умел вывести короля из мрачного настроения. Екатерине приятно было сознавать, что его величество проводит много времени в обществе этих великих реформаторов. Война с Шотландией затягивалась и никак не приходила к развязке. Леннокс, почти ничего не добившись, укрылся в Англии, к неудовольствию Генриха, и теперь Хартфорд разорял приграничные земли, грабил аббатства и громил все, что попадалось ему на пути. Екатерина опасалась, что деструктивная политика Англии вынудит шотландцев обратиться за помощью к Франции. Однако Генрих, особенно в дни обострения болезни, испытывал тягу к продолжению насильственных действий.
Отношения его с императором заметно потеплели, благодаря умелым дипломатическим шагам Шапюи, которому в последние месяцы пришлось нелегко: он был вынужден умерять гнев Генриха против своего господина. Екатерина беспокоилась за посла, так как тот заметно постарел и стал так слаб на ноги, что его возили в кресле на колесиках. Каждый раз, вспоминая о Шапюи, Екатерина чувствовала вину, поскольку, улыбаясь и демонстрируя дружеское отношение, обманывала его. Генрих отправил ее секретаря, Уильяма Баклера, с секретной миссией в Германию, дабы вовлечь немецких принцев, подданных императора, в союз с Англией, пытаясь тем самым подорвать могущество Империи. Екатерина не терпела лжи, но то была чужая идея. Она надеялась, что Шапюи ничего не узнает и не станет винить ее. Сообщение Генриха о том, что посол попросил императора отозвать его, не стало неожиданностью. — Я буду скучать без этого старого лиса, — сказал он, и глаза его затуманились. — Мы с ним часто не ладили, но со временем я стал ценить его. — Мне очень жаль, что мессир Шапюи покидает нас. Когда он уезжает? — Как только ему подыщут замену. В мае Шапюи явился к Генриху за получением официального разрешения на отъезд. Екатерина и Мария должны были встретиться с ним после этого в личном саду королевы, чтобы попрощаться. Мария была сильно опечалена расставанием с послом. — Он был мне настоящим другом, — всхлипнув, сказала она, пока они добавляли последние штрихи к своим туалетам в спальне Екатерины, — и служил твердой опорой моей дорогой матери и мне самой в дни, когда нам было особенно трудно. Он делал гораздо больше, чем предписывали ему обязанности. Это было тогда… — Бледное веснушчатое лицо Марии порозовело. — Ну, я мало что знаю об этих вещах, но думаю, у него были ко мне какие-то чувства. И если бы он был человеком более высокого ранга, я бы на них ответила, так как лучшего супруга мне не найти. А теперь он стар и болен, и я никогда больше его не увижу. Екатерина обняла Марию и не отпускала, пока не иссякли ее слезы, потом велела умыть лицо и поправить капор. — Пусть он запомнит вас улыбающейся. Они провели некоторое время в часовне Екатерины, чтобы Мария собралась. Любому праздному наблюдателю это место показалось бы вполне обычной католической молельней, но более внимательный взгляд заметил бы отсутствие статуй святых. Только на это и осмелилась пойти Екатерина в открытой демонстрации того, обряды какой религии она соблюдала. Екатерина и Мария ждали Шапюи в саду. Его привез в кресле-каталке новый посол, который представился как Франсуа ван дер Дельфт и показался им воспитанным и сердечным человеком. Екатерина протянула по очереди обоим мужчинам руку для поцелуя. — Милорд посол, мне очень жаль, что вы покидаете нас, — сказала она Шапюи. — По словам его величества, вы всегда хорошо выполняли свои обязанности, и я знаю, что он доверяет вам. Но я не сомневаюсь, за морем вы будете чувствовать себя лучше и сможете сделать еще больше для поддержания дружбы между Англией и Империей, на установление которой потратили столько усилий. — Вы очень добры, мадам, — ответил ей старик Шапюи. Екатерина взяла Марию за руку: — Попрощайтесь с миледи Марией, которой вы были другом столько лет. — Мадам, — сказал Шапюи, — я должен выразить вам благодарность императора и мою тоже за ваше расположение к принцессе. От Екатерины не укрылось, что, говоря о Марии, он упорно использовал запрещенный титул. Посол продолжал неустанно защищать ее интересы. — Я не заслуживаю таких похвал. Мне хотелось бы сделать для леди Марии больше, это мой долг. Я всегда старалась укрепить дружбу между Англией и Испанией. Надеюсь, Господь не допустит ни малейших разногласий между нашими странами. Усталые глаза Шапюи смотрели на нее с восхищением. — Сожалею, что мне не доведется остаться здесь и пользоваться вашими благоволением и дружбой, но это преимущество выпадет на долю мессира ван дер Дельфта. Тот поклонился со словами: — Это будет для меня большим удовольствием, мадам. Послы передали Марии приветствия от императора. Они обменялись еще несколькими любезными фразами, и Екатерина попросила Шапюи передать императору, что она и впредь будет рада предложить ему свои скромные услуги. На этом беседа завершилась. Когда Шапюи попрощался, у Марии был такой вид, будто она готова броситься ему на шею и расцеловать. Екатерина приметила, что глаза у старого посла увлажнились. Ей было жаль их обоих. Она сама прекрасно знала, каково это — скрывать свою любовь. Так как Генрих был мрачен и пребывал в капризном настроении, Екатерине трудно было не вспоминать о Томе. По словам Уилла, он теперь находился в Дувре и управлял Пятью Портами. Сильная тоска по любимому навела ее на мысль: хорошо, что он далеко от двора. Екатерина погрузилась в дела, связанные с подготовкой переезда Маргарет в дом на Чартерхаус-сквер. Он оставался за ней. Его использовал Уилл, и сама она время от времени останавливалась там, когда ей хотелось укрыться от беспрерывного пристального внимания к себе при дворе. В сопровождении одной только Анны или Лиззи Брук, возлюбленной Уилла, Екатерина, надев накидку с капюшоном, садилась в барку без отличительных знаков, добиралась до лестницы Картезианцев и шла оттуда к монастырю, наслаждаясь свободой, заглядывала, как прежде, в книжные лавки у собора Святого Павла. В душе у нее всегда поднимался легкий трепет, когда она видела на прилавках свой молитвенник, изданный анонимно. Теперь этот дом станет мирным приютом для Маргарет. Екатерина велела приготовить ей большую спальню с видом на зеленую лужайку посреди площади, повесить на окна миленькие занавески и купила новое постельное белье. Когда Маргарет доставили сюда в носилках однажды теплым майским утром, девушка рассыпалась в благодарностях. — О лучшей комнате я и не мечтала, — сказала она. — Я наняла сиделку, которая будет жить здесь, — сообщила ей Екатерина. — И доктор Венди обещал заглядывать к тебе раз в несколько дней и справляться, как у тебя дела. — Это ненадолго, — будто извиняясь, проговорила Маргарет. — Глупости! — резко возразила Екатерина. — Ты будешь жить и доставлять нам хлопоты еще долго! Однако, взглянув на исхудавшую девушку, которая лежала на постели с разметавшимися по подушке светлыми волосами, на ее бледную, полупрозрачную кожу, Екатерина поняла, что это напрасные надежды. Маргарет уже была похожа на ангела. Господь скоро призовет ее к себе. «Пусть ее уход будет легким», — молилась Кэтрин. С тяжестью на сердце она спустилась по лестнице, жалея, что не может остаться с Маргарет, и даже тайно сокрушаясь о своей прежней жизни и свободе, которой наслаждалась тогда. Екатерина любила Генриха, но быть королевой так утомительно, почти никогда нельзя расслабиться, особенно в последнее время. Сиделка приготовила сладкий напиток. Королева попробовала его и, надев накидку, ждала возвращения Анны из уборной. Тут раздался стук в дверь. Это был Уилл. — Я надеялся застать тебя здесь, Кейт, — сказал он, целуя ее. — Как больная? — Боюсь, ей хуже, — пробормотала Екатерина. — Бедняжка. Я буду молиться за нее. — Он неловко помялся на месте. — Мы одни? Не успела Екатерина ответить, как появилась Анна. — Уилл! Он обнял сестру. — У меня есть новости. Все в порядке, Кейт, Анна тоже может их услышать. Давайте пройдем в гостиную. Уилл закрыл за ними дверь, и они сели. — Нелегко сообщать вам об этом, — начал он, и Екатерина сразу насторожилась, — герцог Норфолк попросил у короля разрешения на брак миледи Ричмонд и сэра Томаса Сеймура. Екатерина была потрясена. Она-то считала, что этот союз похоронен на веки. И вообще, с чего это Норфолк вдруг возжелал женитьбы Сеймура на своей дочери? Герцог был самым видным католическим пэром Англии, одним из лидеров консервативной партии, а Том и его семья принадлежали к лагерю реформистов. Что касается герцогини, то она никогда не выказывала ни малейшего интереса к Тому и даже не упоминала о нем. — Но почему? — спросила Екатерина. — Это очевидно. Католики недавно потерпели неудачу, как вам хорошо известно. Они опасаются растущего влияния реформистов, особенно Сеймуров. Герцог боится, что его семья утратит свои позиции, а потому ищет союза с Сеймурами. Таким образом, я полагаю, он надеется удержаться у власти. Граф Суррей говорит, что его сестра не хочет выходить за сэра Томаса, но решение остается за королем. Екатерина онемела. Союз между двумя главнейшими фракциями при дворе. Это все равно что объединить Йорков с Ланкастерами — и может понравиться Генриху, который устал от бесконечной борьбы за влияние при дворе. Будет ли у Тома возможность сказать свое слово? И что он скажет? Станет ли бороться за нее? Воспротивится ли воле короля? И как сама она будет терпеть присутствие герцогини при своем дворе, если их поженят? — Что мне делать? — спросила она брата и сестру, которые с тревогой наблюдали за ней. — Предупредить его? — предложила Анна. — Нет! Слишком опасно, — отсоветовал Уилл. — Кейт, ты тут ничего не можешь сделать. Если кто-нибудь заметит, что ты противишься этому браку, на тебя падут подозрения. И какие доводы против него ты приведешь? — Ты прав, — согласилась она, ошеломленная всем произошедшим — недавним столкновением с Гардинером, болезнью Маргарет, критическим состоянием Генриха, а теперь еще и этой неприятной новостью.
В течение следующих нескольких недель Екатерина с дозволения короля большую часть времени провела на Чартерхаус-сквер. Она каждый день оставалась немного времени у Маргарет — долго задерживаться у нее не позволял доктор Венди, — а больная становилась все слабее, сотрясаемая приступами кровавого кашля. В промежутках между «дежурствами» Екатерина закончила свою новую книгу «Молитвы и размышления», в которой призывала читателей терпеливо сносить все невзгоды, не считаться с тщетой благополучия в этом мире, как делала Маргарет, и всегда стремиться к вечному блаженству. Книгу опубликовали в июне за подписью: «Добродетельнейшая и милостивейшая принцесса Екатерина, королева Англии». Генрих трогательно гордился женой. Он прочел книгу, как только сошедший с печатного пресса свежий экземпляр оказался у него в руках, и превозносил ее до небес. Екатерина тайно порадовалась, что на страницах своего труда не преминула тепло отозваться о его реформах и поблагодарила Господа за то, что Он послал Англии такого набожного и ученого короля, которого в его триумфе над папой можно уподобить Моисею, победившему фараона. Генриху очень понравилось это сравнение. — Рука Господа ясно видна в обоих случаях, — заявил он. Екатерина получила столько поздравлений по случаю выхода в свет книги, что даже смутилась. Распродавалось ее сочинение быстро и вскоре было переиздано… потом еще раз, еще и еще. Университеты Оксфорда и Кембриджа уговаривали ее стать их патронессой, что было действительно великой честью. Екатерина с большим удовольствием ее приняла. Успех книги помог ей пережить это трудное время, однако всенародная известность составляла лишь внешнюю оболочку ее существования. Настоящей Екатерине приходилось справляться с неотступавшими горестями и тревогами, изобретая для этого все новые способы. Маргарет угасала, и Генрих то и дело был не в духе. Прикованный к креслу — дни, когда он был на коне, явно остались для него в прошлом, — король сетовал на свою судьбу. Часто Екатерина приходила к нему около полудня и заставала его все еще в ночной рубашке. Он утруждал себя одеванием только в том случае, если был достаточно подвижен, чтобы посетить мессу, или когда возникала необходимость появиться на публике. — Из всех утрат время — самая невосполнимая, — сказал ей однажды Генрих, — так как его не вернуть никакими молитвами и ни за какие деньги. Чего бы только я ни отдал, чтобы получить назад свою юность, ощутить себя способным покорить весь мир, снова заниматься спортом, участвовать в турнирах и побеждать. — Вам скоро станет лучше, — сказала Екатерина, беря мужа за руку. — А теперь отдохните, и ваша нога поправится. Такой же ложью она кормила и Маргарет.
При столь мрачных обстоятельствах лучик света промелькнул в жизни Екатерины: Генрих, собравшись с силами, решил обратить внимание на образование своих детей. Она с энтузиазмом обсуждала с ним, кого выбрать в учителя, и по ее предложению король назначил молодого ученого по имени Уильям Гриндал заниматься с Елизаветой. Эдвард был не так продвинут в учебе, как она, однако Гриндалу было поручено обучать принца греческому, языку весьма сложному для семилетнего мальчика, который уже осваивал французский и немецкий. Кроме того, Генрих попросил Роджера Ашэма, ученого из Кембриджа, пользовавшегося заслуженной славой, наставлять Елизавету и рекомендовать книги молодому учителю. Вскоре Ашэм уже пел хвалы Елизавете. «Я имел дело со многими образованными леди, — писал он Генриху, — но ярчайшая звезда среди них — моя несравненная леди Елизавета». Это вызвало на лице Генриха редкую в те дни улыбку. Еще раз улыбнулся он, читая строки, где Ашэм выражал свое высокое мнение о Кейт Чепернаун, ныне миссис Эшли, следившей за Елизаветой, когда та выполняла заданные наставниками уроки. Екатерина беспокоилась за Эдуарда. Хрупкий мальчик, казалось, был перегружен учебой и тем не менее старался, как настоящий мужчина, оправдать отцовские надежды. Секретарь Совета даже преподавал ему науку об управлении государством. Неудивительно, что принц время от времени пускался в шалости, выражая протест. Генрих не мог удержаться от смеха, когда доктор Чик пожаловался, что его царственный воспитанник, поддерживаемый своими благородными компаньонами, использовал громогласные ругательства в классе. Чик сделал ему выговор, а еще одного мальчика выпороли. — Несмотря на все свои дерзости, он справляется хорошо, — сказал Генрих Екатерине. — Уже умеет спрягать латинские глаголы и готов разбирать Катона и нравоучительные басни Эзопа. Вы знаете, Кэтрин, каждый день он читает что-нибудь из притчей Соломона, и ему это нравится. На примерах из них он учится остерегаться развязных женщин и быть благодарным тем, кто указывает ему на его ошибки. — Король был безмерно доволен своим сыном. Екатерине нравилось, что в письмах Эдуард называл ее «бесконечно любимой матушкой» и подписывался «Ваш любящий сын», хотя это были короткие записки, составленные в напыщенной манере, явно выдававшей старания мальчика снискать отцовское одобрение. «Передо мной-то зачем вы красуетесь своими достижениями? — думала Кэтрин. — Это вовсе ни к чему». Отвечая принцу, она хвалила его успехи и прилежание, уверяла, что с радостью читала бы его письма каждый день, но понимает, как он занят учебой. «Любовь к матери, с одной стороны, и желание учиться — с другой, полностью избавляют Вас от любых подозрений в нерадивости», — писала она. Однажды принц сообщил ей, что доктор Кокс не верил, будто она написала то эссе на латыни, которое прислала ему, пока не увидел в конце ее подпись. Это развеселило Екатерину. Эдуард добавил, что он и сам был удивлен, а дальше выразился так: «Литература способствует добродетельному поведению. Все, что исходит от Господа, — благо; учение исходит от Господа, а потому учение — благо». Слова принца поразили ее: каким же педантом он становится! Мальчик уже так уверен, что его высокий статус предопределен свыше. Дай Бог, чтобы, когда придет время, именно ей довелось взять на себя руководство им.
Жарким июльским полднем Маргарет на руках у мачехи покинула этот мир так же легко, как прожила свою недолгую жизнь, — ускользнула из него во сне. Екатерина глубоко скорбела. Она познала боль утраты ребенка и поняла: ей нужно было проявить больше доброты к Анне и леди Ризли. Падчерица принесла ей столько же любви и счастья, как если бы была ее родной плотью и кровью. Трагедия, что бедной девочке не довелось познать любви мужчины и радостей материнства. Она была бы хорошей женой и матерью. Но ее ждет награда на Небесах, лучшая, чем любые земные дары. Генрих проявлял заботу о Екатерине, несмотря на то что его сильно беспокоили набеги французов на южное побережье. Он каждый раз трапезничал с ней и приходил в ее спальню по ночам, хотя бы только для того, чтобы дать ей выплакаться в его объятиях. А что еще он мог сделать? Их соития стали редкими с тех пор, как его здоровье ухудшилось; ему не хватало силы и ловкости, чтобы овладеть ею. Король поехал в Портсмут осматривать флот, который будет бить замеченных у побережья Сассекса французов. Там он стал свидетелем жуткого зрелища: огромный корабль «Мэри Роуз» прямо у него на глазах вдруг накренился и пошел ко дну в проливе Солент. — Это было страшно, — рассказывал он Екатерине по возвращении, когда они ели поздний ужин. — Больше шестисот человек утонули. Я слышал их крики, находясь на зубчатой стене замка Саутси. Никогда мне не забыть рыданий леди Кэри. Ее муж был вице-адмиралом флота и погиб со своим кораблем. Она смотрела вместе со мной, как «Мэри Роуз» погружается в воду. Я попытался утешить бедняжку. Мы оба были потрясены. Корабль дал залп из всех пушек, а потом вдруг перевернулся. Его будто опрокинуло порывом ветра. Но этого не могло случиться. О мои джентльмены! О мои доблестные воины! — Он утер слезу. Кэтрин потянулась через стол и взяла его за руку: — Не могу выразить, как мне жаль. Я напишу леди Кэри и выражу ей соболезнования. — Мы разбили французов, и они убрались восвояси, — добавил Генрих. — Но лучше бы я при этом сохранил свой прекрасный корабль и всех, кто был на борту.
Впереди их ждали новые печали. Во время пребывания двора в Гилфорде, когда король с королевой совершали летний тур по стране, внезапно умер ехавший с ними герцог Саффолк. Генрих был безутешен. — Он мой старейший друг, — заливаясь слезами, причитал король, стоя рядом с Екатериной у смертного одра седого старика. — Сколько служил мне, ни разу не предал он друга и не воспользовался бесчестно преимуществом над врагом. Больше ни об одном из моих приближенных такого не скажешь. Напротив них стояла герцогиня Саффолк. Наскоро накинув черную вуаль поверх костюма для верховой езды, она пустым взором глядела на своего почившего супруга. Молодая вдова — ей всего двадцать шесть, — герцогиня не будет испытывать недостатка в поклонниках, если захочет снова выйти замуж, когда придет время, и все же двенадцать лет счастливого брака нелегко забыть. — Не беспокойтесь, миледи, — сказал ей Генрих. — Я обо всем позабочусь. Чарльза похоронят в капелле Святого Георгия в Виндзоре, а все расходы я возьму на себя. — Ваша милость более чем добры. Для него это было бы большой честью — знать, что он упокоится среди королей. — Меньшего он не заслуживает. Надеюсь, ваши мальчики перенесут эту утрату стойко. Старшему сейчас сколько, десять? — Одиннадцать, сир. — Он унаследует от отца титул герцога Саффолка, и я найду ему место при дворе принца. Екатерина обняла леди Саффолк: — Я знаю, вы захотите поехать в Линкольншир и уладить там дела герцога. Не торопитесь возвращаться. Вы можете отсутствовать сколько понадобится.
Год продолжал приносить неприятности. О женитьбе Тома на Мэри Говард Екатерина больше ничего не слышала, и это ее тревожило уже не одну неделю. Но вот в сентябре Уилл сообщил ей, что Том в Портсмуте и на его кораблях вспыхнула чума. У Екатерины замерло сердце. — Он не подхватил заразу? — спросила она, вцепившись в рукав брата. — В письме он упомянул, как всегда беспечно, что был очень болен и провел тяжелую ночь. Король приказал ему с дозором выйти в море, но он сомневается, что способен на это. — Господи, сохрани его! — выдохнула Екатерина. — Сбереги его! — И, как обычно в те дни, нашла утешение в молитве. Прошли несколько тревожных недель, а потом, уже в октябре, Екатерина узнала, что флот вышел в море и Том по-прежнему командует им. Эта новость заставила ее на крыльях унестись в молельню, чтобы возблагодарить Бога. Казалось, ей никогда не снять траура. В ту зиму смерть прибрала маленького сына Маргарет Дуглас и доктора Баттса. Потом у Генриха случился припадок. В тот момент Екатерина не была рядом с ним, но поспешила в покои короля, как только ее известили, и ждала там, пока доктор Венди, заместивший Баттса, не выйдет из спальни. Мириады мыслей теснились в ее голове. Это конец? Станет ли Эдуард королем в таком юном возрасте? При виде лица доктора Венди у Екатерины закружилась голова. — Ваша милость. — Врач поклонился; их тут же обступили джентльмены. — Я буду говорить с королевой наедине, — сказал он, и приближенные короля молча удалились, некоторые со скорбным видом, другие качая головами. Екатерина села и приготовилась услышать худшее. — Состояние его величества стабилизировалось, — начал доктор Венди. — Мы не знаем, что это было, но он упал в обморок и начал стонать. Теперь он пришел в себя, но ему очень плохо и его мучает сильная боль в ногах. И я боюсь, что, учитывая его возраст и вес, он может не пережить новых приступов. Говорю вам это, мадам, только для того, чтобы вы приготовились. Екатерина столько раз представляла себе смерть Генриха; его здоровье так часто вызывало тревогу. И все же было трудно поверить, что он может уйти сейчас. Слова врача повлияли на нее сильнее, чем она могла вообразить. Генрих был хорошим мужем и по-настоящему любил ее, в этом она не сомневалась, как и в том, что ей будет не хватать его. И всей Англии тоже. Как она справится с придворными фракциями, если станет известно, что она назначена регентом? Вполне вероятно, ей придется вступить в борьбу не только за власть, но и за душу народа. — Вы можете сделать что-нибудь для облегчения боли? Доктор Венди выглядел очень расстроенным. — Мадам, мы испробовали уже все. — Я понимаю, — сказала она. Генрих чувствовал себя плохо и накануне Рождества, когда должен был выступить перед парламентом. Екатерина, как обычно, пришла к нему с утренним визитом и ужаснулась, увидев его одетым в подбитую мехом горностая мантию, с короной на голове и в сверкающих украшениях. Он сидел на столе рядом со своим креслом. — Генрих, вы что, собрались в парламент?! — воскликнула она. — Вы нездоровы, и на улице мороз. Король погрозил ей пальцем: — Я должен идти, Кейт. Некоторые вещи слишком важны, чтобы доверять их кому-то. Кроме того, может статься, это последний раз, когда мне придется выступать перед парламентом. — Глаза их встретились; Генрих говорил ей взглядом, что понимает: вероятно, дни его на этом свете сочтены. — Думаю, вам известны мои мысли относительно будущего, — сказал он. — Я хотел бы покончить с борьбой фракций. И желаю, чтобы этим королевством и моим сыном управлял человек, которому я доверяю. — Он взял ее за руку. — Вы понимаете меня, Кейт? — Понимаю, Генрих. Король не мог дать понять яснее, какие надежды возлагал на нее. Екатерина была глубоко тронута и ощутила робость. Неужели она, Екатерина Парр, когда-нибудь станет править Англией? Это казалось невероятным. — Все будет сделано как надо и своевременно, — заверил ее король, — и я возьму клятву со своих главных чинов, что они поддержат вас. А теперь мне нужно торопиться. — Прошу вас, Генрих, умоляю, останьтесь здесь, в тепле. — Екатерина заламывала руки. — Неужели за вас не может произнести речь лорд-канцлер? — Кейт, мою Церковь раздирает вражда. Я хотел бы, чтобы мои добрые подданные жили в любви и согласии, но этого не случится, потому что между ними нет ни доброты друг к другу, ни взаимопонимания. Да откуда им взяться, если один называет другого еретиком, а тот в свою очередь ругает его папистом или лицемером, и сами священники сеют раздоры и смуту? Господь назначил меня своим наместником и министром здесь, и я добьюсь прекращения этого разлада! Вот почему я должен идти в парламент, мой долг — подавить распри, которые я сам создал своей либеральностью. — Что вы имеете в виду? — забеспокоилась Екатерина. Генрих величественно взглянул на нее: — Когда я позволил иметь английскую Библию во всех церквах и разрешил читать ее всем, то не думал, что это вызовет такие распри. Я согласился на это только для того, чтобы люди могли искать в ней моральные примеры и воспитывать детей в соответствии с ними. — Лицо короля посуровело. — Я не давал позволения каждому Тому, Дику и Гарри спорить со священниками и проповедниками. Мне больно слышать, как непочтительно теперь толкуется, перекладывается на вирши, распевается и коверкается в каждой пивной и таверне это бесценное сокровище, Слово Божье. Я заставлю своих подданных жить в согласии друг с другом, как братья, любить и бояться Господа, служить Ему, и этого я, как соверен, потребую от них сегодня. Екатерина осознала глубокую убежденность, которая стояла за словами короля, и готова была аплодировать ему, хотя сама с удовольствием участвовала в дебатах, которые так его тревожили. Взгляды короля на объединенную Церковь Англии целиком совпадали с ее представлением о ней. Его убеждения казались такими основополагающими и искренними, что она поняла, почему он хочет исправить тех, кто был слеп и глух к его истинным целям. В этом состоял его гений: он знал, как добраться до сути дела. В этом было его величие. Екатерина больше не возражала против выступления Генриха в парламенте. Теперь она видела, что это необходимо. Пусть скажет там все и подчинит себе всех. Так и вышло. — Речь короля, — говорил ей Уилл вечером, — принесла такую радость и утешение, что я считаю этот день одним из счастливейших в своей жизни. Он говорил с такой добротой, по-отечески, что многие люди обливались слезами умиления. А то как же! Все видели, что Генриху недолго осталось в этом мире. Может, эти вздорные фракции дадут ему хоть немного покоя на закате дней.
 Глава 21
1546 год
Глава 21
1546 год
В день Нового года Екатерина сидела в своей спальне в Хэмптон-Корте и открывала подарки. Генрих преподнес ей изрядную сумму денег. От Елизаветы она получила еще один выполненный ею перевод. Падчерица прекрасно его оформила, однако Екатерина была неприятно поражена при взгляде на титульный лист: «О христианской жизни» Джона Кальвина — эту книгу королева отлично знала. Генрих придет в ярость! Екатерина завернула томик в обертку и сунула его в ящик. О чем только думала эта девочка? В двенадцать лет она уже могла бы понимать, что отец не одобрит ее интереса к трудам Кальвина.
Потом Екатерина присоединилась к Генриху в приемном зале, где проходила церемония публичного поднесения даров. Она дождалась, пока все придворные вручат королю свои подарки, выставленные на столах на козлах. Генрих был настроен добродушно и расточал улыбки всем и каждому.
— Взгляните, что я получил от Елизаветы! — сказал он и передал Екатерине книгу. Это был перевод на французский, латынь и итальянский ее «Молитв и размышлений». Екатерина покраснела, увидев адресованные ей похвалы, которыми полнилось написанное Елизаветой посвящение.
— Что она подарила вам? — спросил Генрих, пока они шли через его личные покои.
Екатерина не могла солгать и ответила честно:
— Перевод работы Кальвина. Я не думаю, что девочка понимает ее суть.
— Ей-богу, я надеюсь на это! — воскликнул Генрих.
— Не сердитесь на нее. Она всего лишь хотела произвести на меня впечатление своей образованностью.
— Поговорите с ней. — Король опустился в кресло, и Екатерина присела рядом с ним на пол, положив его больную ногу себе на бедра, что вошло у нее в привычку.
— Вы собираетесь прочесть эту книгу? — спросил Генрих.
— Только если вы считаете, что мне дозволительно сделать это.
— Думаю, вы и так уже знакомы с этим сочинением, — буркнул король, испугав ее. — Однажды вы назвали меня в письме избранником Божьим. Это слова прямо из уст Кальвина.
Значит, он не упустил из виду и не забыл написанного ею столько месяцев назад.
— Правда? — Лучше изобразить, что она запамятовала. — Я не придавала этому особенного значения. Только хотела сказать, что Господь избрал вас, дабы вывести наших людей из рабства. Таково мое мнение о вас. Я не кальвинистка!
Генрих погладил ее по щеке:
— Да, но вы склонны к новой религии.
Екатерина похолодела. Он знал!
— Я защищаю реформы. И не делаю из этого тайны.
— Да, Кейт. Но вы хотели бы, чтобы я пошел дальше, верно?
— Только если, в мудрости своей, вы сочтете это уместным. — Екатерина дрожала, будто ее несло по опасным морским волнам.
— Вы когда-нибудь обсуждали идеи Кальвина с Елизаветой?
— Нет, конечно нет.
Это была правда.
— Тогда мне нужно последить за Гриндалом. Он, Чик и Ашэм, даже Кокс — все реформисты!
— И люди, которыми вы восхищаетесь. Вы сами выбрали их в учителя для своих детей.
— Выбрал, — кивнул Генрих. — Но, если вы будете говорить с ними, напомните им о моем намерении следовать срединному пути. И, Кейт, спрячьте эту книгу. Унесите ее к себе домой, куда угодно. Ни к чему, чтобы Гардинер нашел ее. — Он поднял к себе лицо Екатерины, взяв ее за подбородок, чтобы взглянуть в глаза. — Вы очень дороги мне. Но я верховный глава Церкви. Нельзя, чтобы люди заподозрили, будто я смотрю сквозь пальцы на ересь своей жены или защищаю ее, когда других людей сурово карают за такие же проступки. Прошу вас, будьте осторожны.
Екатерина не посмела возражать. Она поцеловала его и оставила подремать. Казалось, Генрих намекал, что ей позволено держаться своих убеждений до тех пор, пока они остаются в секрете. Надо же, а она-то до сих пор не сознавала, как сильно он любит ее.
Позже в том же месяце, после того как парламент предложил конфисковать колледжи и вклады на строительство заупокойных часовен, доктор Смайт, адвокат университета Кембридж, прибыл в Гринвич и вручил Екатерине письмо от преподавателей, умоляя сохранить их колледжи. — Прошу вас, передайте ректору, что для меня будет честью взять под покровительство учебные заведения Кембриджа, — сказала она Смайту, делая жест, чтобы тот поднялся. — Я слышала, у вас процветают все науки, как у греков в Афинах. Будучи вашей патронессой, я желаю, чтобы вы не стремились к мирским знаниям древних, но занялись христианским богословием для истолкования и распространения самых сакральных доктрин о Христе, с тем чтобы Кембридж почитался как университет теологической философии. — Екатерина многозначительно взглянула на просителя; она знала, что университет поощрял реформы и, без сомнения, еще более радикальные идеи. — Мадам, я уверен, мои начальники с удовольствием откликнутся на такой благочестивый призыв. Екатерина улыбнулась: — Не бойтесь, я попрошу короля сохранить университет. Знаю, он предпочтет улучшение образования закрытию вашего славного учебного заведения. При первой же возможности она поговорила с Генрихом. — Сир, не годится, чтобы вас считали губителем наших университетов. Не сделаете ли вы для них что-нибудь? Король нахмурился. Может быть, она обратилась к нему слишком настойчиво, но это было важно. — Я подумаю, — сказал король, оглаживая бороду. Екатерина понимала, что не стоит давить на него сильнее. Генрих любил взвесить все «за» и «против», обсудить вопрос с советниками, прежде чем принимать решение. Прошло немного времени, и он позвал Екатерину к себе в кабинет. На столе лежали исписанные его рукой бумаги. — Я разработал план для университетов, — превозмогая боль, важно сообщил ей король, явно довольный собой. — Я намерен возродить и обеспечить доходами колледж Уолси в Оксфорде и дать ему имя Церкви Христа. Доктор Кокс будет деканом, а в расписании обязательно должны появиться теология, греческий и иврит. В Кембридже я открою новый колледж во имя Святой Троицы. Что вы думаете, Кейт? — Думаю, это превосходные планы! Вас будут восхвалять в Оксфорде и Кембридже в грядущие века. Генрих покраснел; на лбу у него выступили капли пота. — Рад, что вы восприняли это с таким энтузиазмом, в отличие от моих придворных. Они разинули рты, услышав о пожертвованиях, которые я намерен сделать. Им-то хотелось бы заполучить мои щедрые дары для себя, но я сказал, что, по-моему, лучшего применения для английских земель, чем передать их университетам, не найти. Он резко втянул ноздрями воздух. — У вас болит нога? — спросила Екатерина, тревожась за него. — Да. — Генрих заерзал на стуле. Екатерина пощупала его лоб. Он горел. — Я пошлю за докторами.
Лихорадка не проходила у Генриха весь февраль. Екатерина все время либо сидела с ним, либо беспокоилась о нем, отчаянно ища малейшие признаки улучшения. — Как мне тяжело, когда он болеет, — сказала она однажды леди Саффолк за игрой в карты. — Мне жаль его, — отозвалась герцогиня. — Тут можно сказать только одно: болезнь короля опровергает слухи. — Какие слухи? Леди Саффолк замялась. — Моя горничная говорит, что за обедом в главном холле был разговор кое о чем. Люди шепчутся, мол, король возьмет себе новую королеву. Екатерина вздрогнула, будто ее ударили. — Что?! — В голове вихрем пронеслись мысли обо всех тех вещах, которые Генрих мог бы использовать в качестве предлогов, если бы хотел избавиться от нее, и Екатерине стало дурно. Но ведь в последнее время он проявлял к ней такую любовь. Нет, не мог он быть настолько лицемерным. — Конечно, это чепуха, — продолжила герцогиня, — особенно при том, что жениться он якобы хочет на мне! За два года король и словом со мной не обмолвился, помимо обычных любезностей, и тем не менее люди считают, что я у него в большом фаворе! Екатерина немного успокоилась. «Это просто досужие сплетни», — сказала она себе. Но ей было обидно, и она расстроилась. — Если услышите еще раз что-нибудь подобное, прошу вас, опровергните эти слухи. — Можете на меня положиться, — ответила герцогиня. Когда Екатерина в следующий раз увидела Генриха, он уже не был прикован к постели, а сидел у камина. Она внимательно наблюдала за ним на протяжении всего разговора и не заметила никакой перемены в его отношении к ней. Он был не в том состоянии, чтобы ухаживать за дамой, тем более за такой бойкой, как герцогиня Саффолк. Король вообще не любил спорых на язык женщин. Нет, она беспокоилась напрасно. — Скоро мы отправимся в тур по стране, — объявил Генрих, чем удивил ее. — Я хочу посетить отдаленные части моего королевства. Вы знаете, что я никогда не бывал севернее Йорка и дальше к западу, чем Глостершир? Перспектива дальнего путешествия короля, да и вообще любого, встревожила Екатерину. — Вы уверены, что достаточно окрепли? — Не суетитесь, Кейт. Нога у меня по-прежнему немного болит, но я крепкий. А с виду не скажешь. Боль избороздила морщинами лицо Генриха, он выглядел усталым и измученным. Но может, чего не бывает, поездка принесет ему облегчение, если они не станут спешить. — Гардинер снова наседал на меня, — произнес Генрих и нахмурился. — Новый союз с императором, кажется, принесет плоды. Однако епископ настаивает, что я должен остановить реформы, так как император — верный сын Рима и воюет с протестантскими принцами Германии. В Екатерине закипело раздражение. — Вы были дружны с императором и прежде, когда только начали реформы. — Да, но теперь я отлучен от Церкви. — Он произнес это совершенно бесстрастно. — Император побоится предлагать дружбу Англии, если страна будет впадать в ересь. Кейт, я понимаю, чего добивается Гардинер. Он хочет выжить реформистов из Совета, полагая, что, ссылаясь на императора, добьется своей цели. Но я скажу вам сейчас, по секрету, что никогда больше не допущу здесь власти католиков. Я потакаю Гардинеру, чтобы задобрить его, так как он мне полезен. Но он понятия не имеет, какого я на самом деле мнения о нем. Это мой метод, Кейт. Натравливать одного на другого. Разделять и властвовать и полагаться на вас. Поверьте, если бы я заподозрил, что шапке известны мои мысли, то бросил бы ее в огонь! — Генрих улыбнулся ей. — Мудрый совет! — Екатерина засияла, глядя на мужа, но смешалась, увидев, что улыбка сошла с его губ. — Я должен предупредить вас. Гардинер и Ризли затевают новую чистку. Теперь они нацелились на Кранмера. — Нет! — Боюсь, что так. Они вызывают на допросы подозреваемых в ереси, и большинство из них так или иначе связаны с Кранмером. И еще они арестовали какую-то женщину, которая проповедовала в Лондоне. Ее зовут Анна Аскью. Вы слышали о ней? Нужно было сказать ему правду, чтобы защититься. — Да. Ее семьяжила неподалеку, когда я была в Линкольншире. Однажды мы ездили к ним в гости, и несколько лет назад она заходила ко мне в Лондоне. Я подумала, что эта женщина немного не в себе. Она высказывала такие странные мысли. Кажется, она вообще не таилась и не понимала, что ее взгляды могут быть расценены как ересь. Я отослала ее прочь и с тех пор ни разу с ней не встречалась. — Очень мудро, — заметил Генрих. — Они пытаются заставить ее отречься. — Надеюсь, ради себя самой она это сделает, — сказала Екатерина. О том, что случится в противном случае, страшно было и подумать.
Екатерина оставила Генриха, а на душе у нее скребли кошки: она знала, что некоторые из ее дам ходили слушать проповеди Анны Аскью, а кое-кто даже тайком встречался с ней. В отличие от самой Екатерины, они относились к молодой проповеднице с большим пиететом, восхищались ее смелостью, ведь она не страшилась открыто исповедовать свою веру. Но что, если Гардинер и иже с ним, лишившись в прошлом году своей добычи, используют связь придворных дам с Анной Аскью, чтобы добраться до самой королевы, истинной цели их усилий? С этих интриганов станется. Они, должно быть, страшатся ее влияния на короля и принца, к тому же им точно известно о ее прохладном отношении к окопавшимся при дворе католикам. Всем было ясно: Генрих не увидит своего сына взрослым, и Екатерина чувствовала, что противоборствующие фракции уже готовятся вступить в схватку за регентство. Консерваторы усмотрят в ней препятствие к достижению власти после смерти короля. Вероятно, они подозревали, что она склоняет супруга назначить регентом Хартфорда, дядю принца, который был в большом фаворе при дворе. Екатерине хотелось, чтобы враги знали: ее роль будет гораздо более значительной, если, конечно, она доживет до этого. Время шло в напряженном ожидании новостей о расследовании по делу Анны Аскью. Екатерина тревожилась, как бы эта женщина не очернила ее или близких к ней людей. Задавать вопросы Генриху она не осмеливалась. Все потайные места в своих апартаментах, где прежде хранились запрещенные книги, перепроверила лично, хотя и знала, что там пусто, и велела дамам проделать то же самое у себя в комнатах. Екатерина даже попросила дядю Уильяма, уже почти отошедшего от дел, вернуться ко двору и быть ее глазами и ушами в личных покоях короля, так как Уилл часто уезжал по делам на север. На дверях в ее апартаменты сменили замки, и Екатерина заказала новые сейфы, ехидно улыбаясь при мысли о том, как Гардинер яростно колотит кулаками в дверь, требуя, чтобы его впустили. Посещавшим ее священникам и проповедникам она приказала строго держаться ортодоксии и страшно рассердилась, когда граф Суррей, слушая великопостную проповедь в покоях королевы, насмешливо отозвался о ней, мол, это католическая трескотня. За что Тайный совет вынес ему строгое порицание. Дабы укрепить свое положение, Екатерина собрала вокруг себя знатнейших леди королевства. Той весной ее сопровождали Мария и Елизавета, а также племянницы короля Маргарет Дуглас и Фрэнсис Брэндон, сестра Фрэнсис Элеонора и даже Анна Клевская. Демонстрация того, что она пользуется твердой поддержкой короля, придала Екатерине уверенности. Пусть Гардинер только попробует тронуть ее!
Однажды теплым майским вечером, только они сели за ужин, Генрих сообщил ей, что один из джентльменов, к которым он особенно благоволил, Джордж Благге, арестован по приказу Ризли. — Я боюсь за моего Кабанчика, — сказал он, использовав любовное прозвище Благге. — Но кто-то услышал, как этот глупец отрицает Реальное Присутствие Христа в евхаристии, и я не могу его спасти, Кейт! — Король заметно волновался. — Ордер спрятали среди других, но я его заметил. Что я мог сделать? — Как с ним поступят? — Будет суд. Надеюсь, он сумеет оправдать себя. — Вы можете проявить к нему милосердие. — В таком случае? Мой Кабанчик напал на самое существо нашей веры, защитником которой я являюсь. — Генрих оттолкнул от себя тарелку. — Не хочу есть. Я не голоден. — Поешьте хоть немного, ради вашего здоровья, — принялась уговаривать его Екатерина. Генрих положил в рот ложку еды. — Эта женщина — Аскью отреклась, и ее освободили. По крайней мере, она вняла голосу разума. — Хорошая новость, — откликнулась Екатерина, подыскивая в голове средство, чем бы развеять мрачное настроение Генриха, хотя у самой в душе росла тревога. — Сегодня я получила письмо от принца, и оно вызвало у меня улыбку. Он попросил меня предостеречь Марию, так как она губит свою хорошую репутацию любовью к танцам и прочим фривольным развлечениям. Я должна передать ей, что единственная настоящая любовь есть любовь к Господу и подобное времяпрепровождение не к лицу христианской принцессе. Ему всего восемь! А ей двадцать девять! На устах у Генриха заиграла улыбка. — Его наставники, вероятно, переусердствовали! Я бы на вашем месте не стал ничего говорить Марии. — Я и не собиралась этого делать.
В мае Анну Аскью снова арестовали. Нан Хартфорд услышала эту новость от мужа, и Екатерина мигом собрала в своей молельне кружок приближенных дам. — Расскажите, что вам известно, — обратилась она к Нан. — Доктор Кроум — вы должны помнить его проповеди при дворе, — в одном из своих поучений отрицал Реальное Присутствие. Его арестовали и допросили, он назвал Анну Аскью в числе своих друзей-протестантов. Ее привели на допрос в Тайный совет. — Нан изрекала все это едва ли не с торжеством; ей как будто доставляло тайное удовольствие стращать Екатерину. Однако та была слишком расстроена, чтобы придавать этому значение. Уилл находился при дворе, и он член Тайного совета. Прервав встречу с дамами, Екатерина послала за братом пажа и чуть не затопала ногами от досады, когда тот доложил ей, что его светлость на заседании. К полудню, когда Уилл наконец появился, Екатерина была убеждена, что арест Анны Аскью — это первый шаг в новой попытке свергнуть ее саму. — Слава Богу, ты пришел! — воскликнула она. — Что происходит с Анной Аскью? Уилл, разинув рот, уставился на нее: — Откуда тебе известно, что она представала перед Советом? — Милорд Хартфорд рассказывает своей супруге обо всем. Мне известно, что сегодня допрашивали Анну. — Да. Занимался ею я вместе с Гардинером и лордом Лайлом, а он одних с нами убеждений. Гардинер требовал от нее признания, что она считает причастие телом нашего Господа. Мы умоляли, чтобы она сделала это и спасла себя. — Он помолчал. — Думаю, ты не ошибаешься насчет намерений Гардинера. Он хочет использовать ее, чтобы добраться до других. Они посмотрели друг на друга. — Ты имеешь в виду меня? — Вероятно. Но надеюсь, что нет. — Она признала, что верит в Реальное Присутствие? — Нет. — Повисла тяжелая пауза. — Гардинер морочил ей голову, призывал говорить с ним как с другом. Она ответила, что так делал Иуда, когда предал Христа. Это разозлило Гардинера, и он пригрозил, что отправит ее на костер. Она ответила, что перечитала все Писание, но нигде не нашла сведений о том, что Христос или Его апостолы предавали кого-нибудь смерти. — Гардинер — шантажист! — в ужасе воскликнула Екатерина. — Но Анна Аскью не поддалась на его уловки, — сказал Уилл. — Мы отправили ее в Ньюгейт[165]. У нас не было выбора.
Екатерина не могла уснуть. Она была уверена, что Гардинер намерен уничтожить ее и сперва обрушится на близких к ней женщин. Казалось, вокруг кольцом сжимаются стены, и, говоря откровенно, Екатерине было страшно. Однако тяготили ее ум не только мысли о происках Гардинера. Днем она слышала, как герцогиня Ричмонд обмолвилась в разговоре с Магдаленой, будто Норфолк докучает королю просьбами, чтобы тот согласился на ее брак с Томасом Сеймуром. — Я не хочу выходить за него! — с горячностью проговорила герцогиня. — Уж лучше наслаждаться свободой вдовства. Кроме того, сэр Томас никогда не проявлял ко мне ни малейшего интереса. Екатерина была рада слышать это. Время от времени она задавалась вопросом: не сочтет ли Том миловидную герцогиню, которая была моложе и красивее ее, более подходящей партнершей для брака? Сам он теперь обеспеченный человек, а людям, владеющим собственностью, нужны наследники, которых она наверняка ему не подарит. Том до сих пор находился в море, патрулировал Канал и, если верить словам дяди Уильяма, пускался во всевозможные дерзкие предприятия. Узнать, что он думает по поводу предполагаемого брака, не представлялось никакой возможности. Неделю Екатерина промаялась в тревоге. Однажды в собиравшейся у нее компании снова появился Суррей — он сидел как на иголках, пока играли Бассано. Этот человек — безусловно яркий, но неугомонный — раздражал Екатерину. Граф часто попадал в неприятные ситуации из-за своего бахвальства и скандального поведения. «Норфолк, должно быть, отчаялся в нем», — думала она. Хоть Суррей и нравился Уиллу, а сама Екатерина была дружна с его сестрой, она чувствовала, что на него нельзя полагаться. Когда музыка смолкла и завязался общий разговор, граф заявил: — Мой драгоценный батюшка хочет, чтобы мы породнились с Сеймурами, и выбрал присутствующую здесь Мэри в качестве жертвенного агнца, которого поднесут этому головорезу сэру Томасу. — Замолчите, братец! — резко бросила ему герцогиня. Он не обратил на нее внимания. — Мне это не по нутру. Сеймуры, может, и дядья принцу, но они из новых людей и не годятся в супруги Говардам. — Довольно, милорд! — с укором произнесла Екатерина, злясь, что Суррей исподволь марает грязью родных принца и пренебрежительно отзывается о Томе. — Покорнейше прощу прощения у вашей милости, — с преувеличенной любезностью изрек Суррей. — Я только хотел сообщить всем, что сегодня видел короля и заявил ему, что никогда не соглашусь на этот брак, так как мне известно отношение к нему моей сестры — она не желает больше выходить замуж, никогда. И его величество ответил, что не поддержит этот союз. — Отец рассердится, — сказала Мэри. — Ничего, переживет. Екатерина тут же попросила музыкантов продолжить выступление. Теперь у нее, по крайней мере, стало на один предмет для беспокойства меньше.
Анну Аскью перевели в Тауэр. Уилл шепнул на ухо Екатерине эту новость, когда они вместе следили за игрой в теннис. — Уйдем отсюда? Сердце у нее глухо стучало, пока она шла к расположенному между теннисной площадкой и пустыми апартаментами принца саду. Наконец они уселись на каменную скамью. — Почему ее отправили туда? — спросила Екатерина. — Гардинер послал к ней доктора Шэкстона, чтобы тот заставил ее отречься. Екатерина кое-что знала о Шэкстоне. Он был епископом Солсберийским, но ушел в отставку, так как реформы короля казались ему недостаточно радикальными; позже его подвергали аресту за ересь, но он отрекся от своих убеждений, почему его, вероятно, и выбрали для исполнения этой не слишком почетной миссии. — Когда Шэкстон призвал Анну отказаться от своих убеждений, та ответила, что ему было бы лучше не рождаться вовсе на свет Божий. В Тауэр ее отправил мастер Рич. Плохо дело. Рича Екатерина знала только в лицо и знакомиться с ним ближе не имела ни малейшего желания. Вверх по политической лестнице он поднимался с боями, уничтожив попутно Томаса Мора и Томаса Кромвеля. Казалось, этот человек ни перед чем не остановится. — Ее дело передали королю, — продолжал Уилл. Екатерина понимала, что Генрих едва ли проявит снисхождение. Еретичка, отрекшаяся и вернувшаяся к своим прежним взглядам, не заслуживала второго шанса на исправление. Вечером Уилл вернулся повидаться с Екатериной наедине. — Король дал согласие на допрос Анны Аскью. Этим займется Ризли. Екатерине пришлось бороться с обуявшей ее паникой. Теперь уже не было сомнений, что всем им грозит опасность. Иначе почему сам лорд-канцлер взялся разбирать дело Анны Аскью? Эта женщина — мелкая сошка, причем явно не в ладах с головой. Что значила душа еще одной оступившейся еретички для таких, как Ризли? Нет, целью затеянного процесса была она, Екатерина. «Нужно мыслить разумно», — пыталась убедить себя королева, против нее у них ничего нет и быть не может. С Анной Аскью она встречалась много лет назад и отослала ее от себя с предостережением; никогда не придавала значения тому, что говорят об этой женщине ее дамы. Однако имелось такое понятие, как «вина в соучастии». Ее все равно могли впутать в это дело. Но ведь Генриху прекрасно известно: она никогда не имела ничего общего с Анной Аскью. Екатерина цеплялась за эту надежду, занимаясь своими повседневными делами. Она надевала на лицо улыбку, через силу ела, с трудом засыпала. Прошло два дня. Екатерина дошла до предела; казалось, дольше терпеть это нервное напряжение невозможно. И тут прибыли ее брат и дядя Уильям; они попросили о приватной беседе. По их серьезным лицам Екатерина поняла: ее ждут дурные вести. — Случившееся сегодня заставляет меня стыдиться того, что я англичанин, — начал дядя Уильям, когда они уселись в кабинете Екатерины. — А что, что случилось? — нетерпеливо спросила она. — Лорд-канцлер лично пытал Анну Аскью, — с каменным лицом ответил ей Уилл. — Рич помогал ему. — Ее пытали?! — Екатерину затрясло от возмущения. — Но еретиков обычно не подвергают пыткам, верно? — Подвергают, если не могут получить от них сведения иным способом. — Кейт, теперь мы убеждены, что они хотят заставить ее очернить вас или тех, кто близок к вам, — сказал дядя Уильям, беря онемевшую от ужаса племянницу за руку. — Я все время этого боялась, — пролепетала та. — Они опасаются моего влияния и хотят его нейтрализовать. Но разве можно поверить, что они зайдут так далеко? Скажите, она заговорила? — Нет. Это очень стойкая женщина. Ей пришлось вынести ужасные страдания. — Уилл поморщился. У Екатерины на глазах выступили слезы. Она знала, что такое дыба, и с трудом могла представить, какие муки испытывает человек, которого, привязав за руки и ноги, медленно растягивают, вырывая конечности из суставов. — Бедняжка. Это ужасно, ужасно. Я буду молиться за нее. — Екатерина помолчала, ломая руки. — Вы уверены, что она не упомянула ни меня, ни моих дам? — Не упомянула. Ризли с особым удовольствием передал мне, что они спрашивали ее, давал ли ей деньги кто-нибудь из камеристок королевы. Она ответила, что да, некоторые давали, но она не знает их имен. На вопрос «Известно ли ей что-нибудь об убеждениях придворных дам?» она ответила «нет». Передавая мне это, Ризли ухмылялся, будто намекал, мол, он-то не сомневается, что все это ложь. По его словам, тогда они и решили вздеть ее на дыбу. Тут вмешался дядя Уильям: — Она ничего не сказала. Когда лейтенант Тауэра решил, что ее силы на исходе, он подошел отвязать несчастную. Но Ризли злился, что она никого не выдала, и велел снова привязать ее к дыбе. Лейтенант отказался, потому как, по его мнению, женщина так ослабела, что могла умереть. — Вот молодец! — Екатерина зааплодировала. Ничего подобного не случится, когда Англией будет править она. — Ризли пригрозил, что доложит королю о его неповиновении приказу, — продолжил Уилл. — Тогда они с Ричем сняли накидки и принялись крутить валики сами. Несчастная терпела ужасные мучения, ей почти переломали суставы, но палачи не прекращали пытку и довели ее едва ли не до смерти. Тогда они положили бедняжку на голый пол и возобновили допрос. — Когда все закончилось, лейтенант кинулся в Уайтхолл, чтобы поговорить с королем прежде, чем это сделают Ризли и Рич, — добавил дядя Уильям. — Его милость знал, что Анну Аскью будут пытать? — Екатерине хотелось выяснить это. — Он дал согласие? — Нет, Кейт, — ответил Уилл. — Пытки применяются с одобрения Тайного совета, а Ризли и Рич — его члены. Им следовало посоветоваться с остальными и получить ордер, но они этого не сделали, так как знали, что их желанию воспротивятся, потому и поступили наперекор закону. — Королю известно об этом? — О да. — Глаза дяди Уильяма заблестели. — Лейтенант рассказал ему все, не утаив своего мнения об этих живодерах, и его величеству эта история совсем не понравилась. Позже лейтенант передал мне, что король сказал, мол, с этой несчастной обошлись слишком сурово, и с готовностью даровал ему прощение за то, что он ослушался приказа, а потом велел возвращаться в Тауэр и позаботиться о заключенной. — Вы не знаете, сделал ли его милость выговор Ризли и Ричу? — поинтересовалась Екатерина. — Он вызвал их к себе, и они провели у него какое-то время, но что им было заявлено, я не знаю, — сообщил ей Уилл. — Будем надеяться, король высказал им все, что думает! — горячо проговорила Екатерина. — И это последний вздох партии Гардинера. — Этот пес просто так не уймется, — мрачно заметил дядя Уильям, — но я молюсь, чтобы ему надели намордник хотя бы на какое-то время.
Она в безопасности — пока. Анну Аскью больше не подвергнут допросам. Если эта женщина ничего не сказала под пыткой, то теперь уж и подавно будет молчать. Должно быть, ее мучители поняли это, так как быстро организовали судебный процесс, и отважную женщину осудили на смерть на костре за возврат к ереси. Екатерина не обсуждала это с Генрихом — боялась показаться слишком заинтересованной в судьбе Анны. Терпение короля не простиралось дальше, это было ясно, и Екатерина не забыла предостережения: он может оказаться не в силах защитить ее. Поэтому, пойдя наперекор всем своим внутренним порывам, она не стала молить супруга о милосердии к Анне Аскью. На фоне отваги этой женщины Екатерина проявила трусость и понимала это. У нее не хватит смелости пойти на смерть за свои убеждения, и она постоянно молилась о том, чтобы ее не подвергли испытанию на прочность. В начале июля король издал указ с повелением предать огню все еретические книги. Дядя Уильям отправился в дом на Чартерхаус-сквер, достал из-за стенных панелей в пустой спальне те, что были у Екатерины, и увез их неизвестно куда. — Никто их не найдет, — пообещал он Екатерине. — Даже вы. Через несколько дней ее потрясла новость об аресте Хью Латимера, принесенная крайне расстроенной леди Саффолк. Потом дядя Уильям сообщил, что младшего сына Норфолка, лорда Томаса Говарда, вызывали в Совет и просили у него объяснений по поводу некоторых замечаний, сделанных в ее покоях. — Каких замечаний? — встревожилась Екатерина. — Я не знаю, Кейт. Его заверили, что король отнесется к нему милостиво, если он честно признается в том, что говорил. Лорд Томас повинился, но не дал никаких конкретных объяснений, и его дело отправили на доследование. — Надеюсь, обо мне речи не было? — Я ничего такого не слышал. Но будьте осторожны и не давайте ни малейших поводов для подозрений. — Следы заметены очень тщательно, — сказала Екатерина. — О, дядя Уильям, в какие страшные времена мы живем! Боюсь, нам всем грозит беда.
В день суда над Джорджем Благге Екатерина пришла к Генриху. Он был напряжен и злился на себя самого за то, что не имеет возможности вмешаться. — Но я не могу нарушать правила суда, — со вздохом проговорил король, запустив очередной шар. Они играли в кегли; кроме них, в аллее никого больше не было. Генрих то и дело оглядывался через плечо, ожидая увидеть гонца с новостями, так как распорядился, чтобы его незамедлительно оповещали о ходе процесса. К одиннадцати они вернулись в королевские покои обедать. Генрих был взволнован и почти ничего не ел. Через два часа, когда ему сообщили, что Благге осудили на сожжение и отправили в Ньюгейт, он рухнул в кресло и опустил голову на руки: — О мой Кабанчик, мой бедный Кабанчик! Ублюдки! Я так и знал, что его не оправдают. Екатерина окаменела от шока. Они посмели нанести удар так близко к королю, и это сошло им с рук! Сердце ее обливалось кровью за Джорджа Благге. Новость распространилась быстро. Не прошло и получаса, как доложили о приходе сэра Джона Расселла, лорда-хранителя личной печати, и тот, к изумлению Екатерины, опустился на колени перед королем. — Ваше величество, — настоятельным тоном произнес сэр Джон, — от имени многих членов Тайного совета я пришел просить вас о милости к Благге. — Я должен проявить милость к еретику? — спросил Генрих. — Он не больший еретик, чем я, сир, и многие другие при вашем дворе, — ответил сэр Джон. — Его слова были намеренно искажены людьми, которые думают только о своих амбициях. Екатерина внутренне аплодировала Расселлу и пристально вглядывалась в лицо Генриха. — Ваше величество лишь укрепит свою репутацию, если воспользуется прерогативой монарха давать помилование, — заявил сэр Джон и, покорно склонив голову, молча ждал решения короля. Генрих кивнул. Путь ему был указан. — Вы хорошо сделали, что пришли ко мне, — сказал он. — Я прощу его. Составьте документ и принесите мне на подпись и для проставления печати. И вот еще что, Расселл, я благодарю вас. Лорд-хранитель личной печати встал, поклонился и торопливо вышел. Минуло всего несколько минут, и он уже вернулся с грамотой о помиловании. — Пошлите за лорд-канцлером, — приказал король церемониймейстеру своих покоев. Ризли явился — шумный, суетливый, как обычно, самодовольный — и встал на колени. Генрих протянул ему бумагу с помилованием: — Передайте это коменданту Ньюгейта и прикажите ему отпустить Джорджа Благге. Все пережитые печали стоили того, чтобы увидеть в этот момент лицо Ризли. Он не мог скрыть возмущения и ярости. — Ваше величество, я бы попросил вас подумать… — Я уже подумал! — оборвал его Генрих голосом твердым как сталь. — А теперь идите. Я хочу, чтобы Благге вернулся сюда немедленно. Взгляд Ризли мог бы повергнуть в бегство армию, но не смутил Генриха, который сурово взирал на лорд-канцлера, пока тот не удалился. Ближе к вечеру Благге явился в покои Генриха и смиренно пал на колени. Это был полный и добродушный с виду мужчина, действительно чем-то напоминавший животное, от которого возникло его прозвище. — Ах, мой Кабанчик! — приветствовал его Генрих. — Не могу передать, как я рад тебя видеть. — Не могу подобрать слов, чтобы выразить, как я благодарен вашему величеству за проявленное ко мне милосердие, — со слезами на глазах проговорил Благге. — Если бы вы не отнеслись ко мне лучше, чем епископы, вашего Кабанчика поджарили бы. — Никогда не прощу тех, кто поступил так с тобой, — сказал Генрих. Поддавшись внезапному порыву, Екатерина упала на колени рядом с Благге: — Сир, могу я смиренно просить вас о милости для мистера Благге в качестве компенсации за перенесенные им горести? Кабанчик с благодарностью смотрел на нее. Екатерина почувствовала в нем горящий дух, ведь они оба немало претерпели от недоброжелательства консервативной фракции. Генрих заулыбался: — Великолепная идея, мадам. Я найду какой-нибудь доходный пост для моего Кабанчика. Благге, заикаясь, поблагодарил и ушел.
Печально, но Анну Аскью спасти было не так просто. Она, бедная душа, не могла рассчитывать на снисхождение. За четыре дня до назначенной казни Екатерина созвала в кабинет дам, разделявших ее взгляды. Некоторые знали Анну и глубоко переживали, хотя и старались скрывать свои чувства. — Послушайте, — сказала Екатерина, — ни одна из вас не пойдет на Смитфилд. Никто не должен видеть, что вы как-то связаны с Аскью или симпатизируете ей. Это приказ. Прошу исполнить его. Все согласились, некоторые одобрительно кивали, другие явно расстроились. Екатерина не сомневалась, что они не ослушаются ее. Однако, когда настал день казни, она заметила отсутствие герцогини Саффолк. — Кто-нибудь видел ее? — нервно спросила Екатерина. Никто не видел. Некоторые думали, что она уехала в Саффолк-Плейс, свою лондонскую резиденцию, чтобы повидаться с сыновьями. Екатерина горячо надеялась, что это правда. Час она провела на коленях в своей молельне примерно в то время, когда, по ее подсчетам, зажигали костер. Екатерина просила Всевышнего даровать Анне силу вынести страшное испытание. Потом принялась за чтение, чтобы отвлечь свои мысли от происходившего в каких-то двух милях от Уайтхолла. В середине дня Екатерина решила прогуляться по саду. Спустившись по личной лестнице, она едва не столкнулась с леди Саффолк. — Прошу прощения, ваша милость! — воскликнула та. Выглядела герцогиня какой-то серой. — Вы больны? — спросила Екатерина, и подозрения в ней усилились. — Не больна, нет, — ответила герцогиня, поморщившись. — Простите, мадам. Я ослушалась вас и глубоко пожалела об этом. Никто не узнал меня, клянусь. Я оделась в траурное платье и накинула на лицо густую вуаль. Но этого было недостаточно, чтобы оградить меня от ужасного зрелища… — Она начала всхлипывать, а потом разрыдалась. — О, это было омерзительно! Екатерина положила руку ей на плечо: — Все в порядке. Я не сержусь. Давайте посидим в саду. — И она пошла к своей любимой каменной скамье, готовясь услышать рассказ герцогини. — Вы хотите поговорить об этом? — Ее привезли на Смитфилд в кресле, после пытки на дыбе не могла идти сама. Сперва ей предложили королевское прощение, но она отказалась. Никогда еще я не видела такого выдающегося примера христианской твердости. Она такая смелая. — Все произошло быстро? — Да, но это было страшно. Палач повесил ей на шею мешок с порохом. Когда пламя добралось до груди, она начала кричать, но тут порох взорвался. Более ужасного зрелища мне лицезреть не доводилось. Пришлось даже отвернуться. Зато смерть несчастной наступила быстро. Екатерину затошнило, но она подавила это чувство и живо проговорила: — Я знаю, вам сейчас тяжело, но попытайтесь выбросить это из головы и ведите себя нормально. Теперь ей уже ничто не причинит вреда, и она в другом мире, а мы живы и в опасности. Боюсь, наши мучители не остановятся, пока не поймают нас в ловушку, так что мы не должны выказывать сочувствия к Анне Аскью. На этот раз вы обязаны послушаться меня!
 Глава 22
1546–1547 годы
Глава 22
1546–1547 годы
Екатерина вздохнула с облегчением, узнав о возвращении ко двору лорда Хартфорда, успешно завершившего карательную экспедицию против шотландцев, которая привела к заключению мира, по общему мнению, лишь временного. Король относился к нему милостивее, чем прежде. Реформисты были на коне. Каким-то чудом им удалось превзойти партию Гардинера. Немыслимая радость! Все стало гораздо проще, перспективы прояснились. Екатерина была уверена, что, когда придет время, поладит с Хартфордом, ведь их религиозные убеждения одинаковы.
Больше никого не арестовывали за ересь, и это вызывало в Екатерине глубокое удовлетворение. Хотя она не позволяла себе ослабить бдительность. Всегда лучше держаться настороже и предугадывать проблемы.
Обрадовал ее приезд ко двору в Уайтхолл вызванного Генрихом принца Эдуарда. С большим удовольствием она наблюдала за успехами мальчика у мишеней для стрельбы из лука и на турнирной площадке, где юный наследник престола ловко поражал копьем деревянные столбы вместо реальных противников. Генрих гордился успехами сына.
— Из него получится прекрасный король!
— Безусловно, — согласилась Екатерина, хлопая в ладоши, когда принц поклонился ей с седла. — Но я молюсь, чтобы этот день настал еще нескоро.
— Благослови вас Бог, Кейт, — сказал Генрих.
Он выглядел задумчивым, даже печальным. Эдварду исполнилось восемь. Через семь лет его могут объявить совершеннолетним. Но доживет ли до этого момента его отец?
Мальчик вместе с ними пошел обратно во дворец.
— Когда адмирал приедет из Франции? — спросил он.
От этого вопроса Екатерина вздрогнула — она не забыла, что ей нужно демонстрировать внешнее безразличие к Тому, — а потом поняла, что принц говорил о французском адмирале, который направлялся в Англию с целью ратифицировать новый договор, так как соглашение Франции с императором распалось.
— Скоро, сын мой, — ответил Генрих. — Готовьтесь исполнить свою роль во время церемонии.
— Я готовлюсь, сир, и постараюсь не разочаровать вашу милость, — сказал Эдуард. — Надеюсь, я достаточно хорошо овладел латынью, чтобы произнести приветственную речь.
— Конечно, — улыбнулась Екатерина.
Эдуард поскакал вперед, беспечный, как всякий нормальный ребенок.
Генрих устраивал пышные празднования по случаю приезда французского посланника. Знать стекалась в Хэмптон-Корт. Екатерина заказала себе новые наряды. — Разве они не прелестны? — умилялась она, пока Мария и Елизавета с восторгом рассматривали только что доставленные галантерейщиком перчатки из испанской кожи, алый бархатный воротник с каймой из золотых кружев, ленты и наконечники шнурков с драгоценными камнями. — Мне надеть алое платье или темно-желтый шелк? — Алое! — отозвалась Елизавета. В свои тринадцать она любила дорогие платья не меньше, чем Мария и Екатерина. — Тогда я выбираю это. Мой любимый цвет. А туфли к нему подойдут вот эти. — Она взяла в руки башмачки из алого бархата с отделкой из бриллиантов, потом с любовью посмотрела на своих падчериц, как всегда, вспоминая ту, которой теперь нет. — Вы выглядите превосходно. — Королева тепло поцеловала обеих. — Сегодня вы будете главными украшениями двора. Уилл отбыл в Гринвич, чтобы встретить и проводить в Хаунслоу адмирала. Там от имени короля его поприветствует принц Эдуард. Екатерина видела, как тот верхом покидает Хэмптон-Корт во главе свиты из восьмидесяти одетых в золотую парчу джентльменов и восьмидесяти йоменов стражи. Мальчик затмевал блеском их всех. Он гордо сидел на коне, уперев руку в бедро. От него уже веяло королевской властностью. В течение следующих десяти дней Екатерина находилась под впечатлением от уверенности в себе, какую демонстрировал юный принц: он ничуть не смущался, замещая отца, который, к своему немалому огорчению, не мог встать с кресла. Эдуард был безупречен, когда возглавлял приемы и банкеты, произносил речи на правильной латыни и виртуозно исполнял мелодии на лютне для посла и его свиты. Екатерина видела, что французского адмирала все это поразило до глубины души. Хотя Генрих был не в состоянии участвовать во многих развлечениях и охотничьих выездах, он не жалел на них денег. В дворцовых садах были разбиты шатры, покрытые золотой парчой и бархатом; в них остановились члены свиты адмирала. Там же выстроили два временных банкетных дома, стены которых завесили прекрасными гобеленами. Впечатляющая выставка усыпанной самоцветами золотой посуды красовалась в буфетах. Генрих и Екатерина каждый день обедали с адмиралом, обращаясь с ним так изысканно вежливо, словно он был самим королем Франции. Анна Клевская присутствовала на этих обедах и оживленно болтала с леди Марией, однако Екатерина заметила, что ее падчерица выглядит несчастной. Разумеется, ей не по душе был этот новый союз с Францией. Ее сердце принадлежало Испании. По вечерам, надев новые, подаренные Генрихом украшения, Екатерина вместе с гостями сидела на помосте в приемном зале и смотрела пышные представления масок, каких двор не видел уже много лет. Все восхищались зрелищем. Старый король Гарри еще мог блеснуть великолепием. Екатерина радовалась, видя супруга довольным, хотя и знала, что его огорчает неспособность принимать участие в развлечениях, как раньше, когда он был моложе и лучше себя чувствовал. Отъезд нагруженного подарками адмирала вызвал у нее легкую грусть. Эдуард отправился в Хансдон, а они с Генрихом — в традиционный летний тур по стране. Король был слишком слаб, чтобы ехать на Север, как планировал, поэтому они, не удаляясь от Лондона, сперва посетили Отлендс в Суррее. Нога Генриха стала лучше, и по его настоянию была организована охота, правда на коня ему пришлось влезать с высокой площадки, а добычу он снова подстрелил со специально устроенного в парке помоста. К моменту, когда они добрались до Чертси, король уже достаточно окреп, чтобы ездить вместе с охотниками, стрелять дротиками и бросать копья. Три дня с восхода до заката он проводил на воздухе. Екатерина сопровождала его по утрам. Днем же на солнце было слишком жарко: раздеться до сорочки, как Генрих, она не могла, а потому занималась испанским языком, сидя за столом у открытого окна. Приятно было находиться вдали от напряженной обстановки двора. Обуявший Генриха прилив энергии вскоре иссяк. К моменту отъезда в Гилфорд нога у него снова разболелась, и он отдал распоряжение возвращаться в Виндзор. Там король слег в постель, а всем придворным было объявлено, что он простудился. Но Екатерина знала, в чем дело. Состояние Генриха быстро ухудшалось, и он находился в большой опасности. — Мадам, мне очень жаль, но мы оставили все надежды на выздоровление, — мрачно сообщил ей доктор Чеймберс. Сердце Екатерины упало. Три года назад она печалилась бы за Генриха, но радовалась, что скоро сможет выйти замуж за Тома. Однако они с мужем стали очень близки, и теперь королева понимала, что брак их сложился весьма удачно. Она будет тосковать по нему, когда он умрет. Мир без него ей было не представить. Больше тридцати семи лет он восседал на троне как колосс и правил Англией. Екатерина удивилась не меньше докторов, когда Генрих вдруг пошел на поправку. В октябре он снова был на коне, охотился с собаками и соколами, занимался государственными делами. И вновь это не продлилось долго. Когда они переехали в Уайтхолл, король заперся в личных покоях и редко показывался из своего кабинета. Виделся он только с королевой и главными тайными советниками. В хорошую погоду Екатерине удавалось выводить короля на прогулку по его личному саду, но он так страдал от болей, что часто бывал капризен и упрям. Не раз Генрих при ней накидывался на своих джентльменов и слуг, иногда даже бросал резкие слова ей самой. Это напоминало хождение на цыпочках вокруг спящего дракона. Всем было строжайше запрещено говорить о состоянии здоровья короля. — Я не хочу, чтобы хоть кто-нибудь решил, будто я теряю контроль над делами, — сказал он Екатерине однажды, когда особенно мучился, нигде и ни в чем не находя покоя и облегчения от боли. Она посмотрела на утомленное лицо мужа, иссеченное оставленными болью морщинами, и подумала: сколько еще он протянет? Ни сама Екатерина и никто другой не смел упоминать о возможной кончине короля. Изменой считалось даже представлять себе гибель соверена, не то что говорить о ней, да Генрих и сам не любил разговоров о смерти — он боялся ее. Прошло несколько дней; боли ослабли, но король все еще был лишен возможности свободно передвигаться. Он едва держался на ногах, а о том, чтобы преодолеть ступеньки лестницы, не могло быть и речи. Однако настроение его улучшилось, и он был решительно настроен воспрянуть и явить себя миру. — Я все-таки король! — заявил Генрих. — Подданные должны видеть меня.
Он приказал сделать два переносных кресла и сам нарисовал эскизы: кресла были мягкие, обтянутые бархатом и шелком, с приделанными к ним шестами, с помощью которых их перемещали по дворцу. Екатерина в тревоге следила, как четверо крепких стражников с трудом тащили свою тяжкую ношу. При каждом взгляде на Генриха она с беспокойством думала: как же он растолстел. Никогда ей не приходилось видеть такого огромного человека. Грустно было сравнивать его теперешнего с висевшими на стенах дворца портретами, где он был запечатлен молодым, — постоянными напоминаниями об ушедшей юности и утраченной жизненной силе. Если бы король мог сбросить хоть немного веса, тогда и былая бодрость отчасти вернулась бы к нему, и здоровье поправилось. Дядя Уильям уехал в свое поместье, но с братом Екатерина виделась каждый день. — Кейт, ты понимаешь, что король не протянет долго, — тихонько сказал он ей, когда они остались одни в саду. — Я знаю и готова к этому, — печально отозвалась она. — Стервятники вот-вот слетятся, — продолжил Уилл. — Каждая партия стремится взять под контроль принца, опасается козней другой, и все заботятся только о своих интересах. Разумеется, реформисты рассчитывают на успех. Они сейчас намного более сильная фракция. Гардинер немало навредил консерваторам, когда, стремясь очистить двор от ереси, выдвинул обвинения против Благге. — Уилл, я хочу сообщить тебе кое-что по большому секрету. Об этом никто не должен узнать, обещай мне! Брат изумленно уставился на нее: — Кейт, ты знаешь, что можешь рассчитывать на меня. Говори. — Генрих назначает меня регентом. — Тебя, сестра? — Уиллу потребовалось несколько мгновений, чтобы осмыслить новость. — Ей-богу, это положит конец борьбе фракций! Он правда сказал тебе об этом? — Да. Он потребует от главных придворных чинов присягнуть, что они будут поддерживать меня. — Кто бы мог подумать! Ты — темная лошадка, Кейт, столько времени держала при себе такую новость, а ведь Хартфорд уверен, что власть у него в руках. Вот будет ему щелчок по носу. Он же дядя принца. — И Том тоже. Я намерена дать им главные роли в регентском совете. Уилл искоса глянул на нее: — Не жди, что Хартфорд с радостью поделится властью с Томом. Он с ним мало считается, и его жена хочет, чтобы вся слава досталась им. Екатерина и сама об этом догадывалась. В последнее время Нан заважничала и стала одеваться как королева. Но никогда ей не бывать у власти, и пусть не забывается. Екатерина решила поставить ее на место. Атмосфера при дворе все больше накалялась, обе фракции источали ненависть друг к другу, почти не скрывая ее. Люди стали подозрительными. Слово «измена» висело в воздухе. Екатерина радовалась, что Том за границей. Даст Бог, он поспеет вовремя, чтобы помочь, когда ее призовут взяться за великое дело. Король назначил Тома заместителем коменданта Кале и поручил ему составить мирный договор с Францией. Екатерина восприняла это как знак доверия к нему. Наверняка Генрих распорядится и о том, чтобы в будущем Том занял какой-нибудь высокий пост. А если нет, получив власть, она сама это сделает. — Ты будешь моей правой рукой, — сказала Екатерина брату. — И я положу конец раздирающей двор вражде. — Это будет нелегко, — предупредил он ее. — Я на это и не рассчитываю, — откликнулась она. — Но когда на твоей стороне Бог, ты не можешь проиграть.
Однажды в ноябре Екатерина сидела в покоях у Генриха, когда доложили о прибытии Гардинера. При звуках ненавистного имени она ощутила привычный трепет в груди, однако епископ вел себя с ней почтительно; только его орлиные глаза были холодны. — Милорд епископ, — приветствовал вошедшего Генрих. — Я позвал вас, чтобы обсудить обмен землями, о котором упоминал на прошлой неделе. Мне сообщили, что ваши адвокаты до сих пор не одобрили его. Гардинер явно не знал куда деваться. — Ваша милость, земли, которые вы хотите получить от меня, церковные, они часть моего диоцеза. Не думаю, что я вправе отчуждать их. Генрих вспыхнул от гнева: — Милорд епископ, я глава Церкви! Вы не думаете, что я забочусь о ее процветании? Земли, предложенные вам взамен, приносят хороший доход. Екатерина наслаждалась этой сценой. Как же приятно видеть Гардинера в смятении! — Со всем уважением к вам, ваша милость, я не готов отдавать земли, которые были частью моего диоцеза сотни лет. Генрих распалялся все сильнее: — Вы забываете, что многие монастыри и постарше ваших уступили мне свои владения. Вы собираетесь исполнить мой приказ или мне отдать вас под суд? — Сир, боюсь, я не могу отдать вам эти земли. Они неприкосновенны. — К черту неприкосновенность! — заорал Генрих, побагровев от ярости. — Убирайтесь! И больше не показывайтесь мне на глаза! Гардинер глянул на него исподлобья и вышел. — Что за дурак! — прорычал король. — Я предложил ему честную сделку. Отныне доступ в мои личные покои для него закрыт. — Очень мудрое решение! — возликовала Екатерина.
Гардинер явно сожалел о своей глупости. На следующей неделе за обедом Генрих сообщил Екатерине, что сэр Уильям Паджет, один из советников, пользовавшихся его особым доверием, приходил к нему просить за епископа. — Я ответил «нет», — сказал Генрих, накладывая себе на тарелку кусок за куском жареное мясо, так что Екатерине захотелось крикнуть: «Хватит!» — Он говорит, Гардинер просил замолвить за него словечко, чтобы он мог прийти ко мне с извинениями. Я сказал, что теперь уже слишком поздно. Ей-богу, Кейт, я вздохну с облегчением, если этот человек перестанет донимать меня. «И то верно, — подумала про себя Екатерина, — правда, удаление Гардинера принесет облегчение не только вам». В продолжение нескольких дней она потешалась, видя своего старого врага среди других просителей, которые толпились в галереях дворца в надежде уловить благосклонный взор проходящего мимо короля или даже обратиться к нему. «Долго же ему придется ждать», — мысленно злорадствовала Екатерина, проплывая мимо и не удостаивая епископа даже взглядом. Генрих теперь редко покидал свои покои. Бо́льшую часть прошений ему подавали в письменном виде. Гардинер делал это не раз, но король рвал его послания. — Я попросил Денни написать ему, чтобы он не досаждал мне больше, а вместо этого, во исполнение моего приказа, организовал обмен землями с помощью моих поверенных. Екатерина подавила улыбку. Денни был ревностным реформистом. Это поручение явно придется ему по душе. Гардинер изойдет ядом, глядя, как объединяют силы и торжествуют его враги, видя своего главного соперника в опале. Неужели она наконец сможет спать спокойно, не боясь гнусных происков епископа!
Генрих регулярно принимал травяные ванны, убежденный, что они благотворно влияют на его ноги, и действительно, вроде бы наметилось улучшение. В начале декабря ему стало заметно легче, и двор переехал в Отлендс. Там Екатерина получила весьма ее обрадовавшее письмо от Маргарет Дуглас с сообщением, что та родила крепкого мальчика. — Его назовут в вашу честь, — сказала королева Генриху, — и, как наследник своего отца, он получит титул лорда Дарнли. Я очень рада за Маргарет. Она так тяжело переживала смерть своего первого сына. Ей хочется, чтобы вы стали крестным отцом. — Передайте ей, что я всей душой «за». — Генрих улыбнулся. — На крестиныя пошлю малышу золотой кубок. — Король неловко поднялся. — Поеду на охоту. День прекрасный, и я не хочу упустить его. — Он взялся за палку. Екатерина восхищалась решимостью супруга не уступать болезни, хотя и беспокоилась о нем. — Не переусердствуйте, молю вас, — сказала она. Король наклонился и поцеловал ее: — Перестаньте суетиться, женщина.
По возвращении король выглядел усталым, но был в приподнятом настроении. Охота была удачная, и вечером на столе появилась оленина. Однако на следующее утро Генрих пожаловался на озноб. Екатерина пощупала его лоб. Он горел. Вызванные ею врачи уложили короля в постель. Его лихорадило, лицо посерело. — Мадам, вам лучше уйти, — настоятельно попросил ее доктор Чеймберс. — Но я хочу остаться с его милостью, — возразила Екатерина. — Уходите, Кейт, — раздался хриплый голос с постели. — Если вам угодно, сир, я уйду, но надеюсь скоро увидеться с вами, — сказала она, пожав Генриху руку. Король нетерпеливо отмахнулся. Во время болезни он часто бывал раздражительным. Ему не нравилось, когда его видели слабым. Екатерина нехотя вернулась в свои покои, полная тревожных мыслей. Каждые несколько часов она отправляла своего камергера справиться о самочувствии короля. И всякий раз получала один и тот же ответ: врачи делают все возможное для спасения его жизни. Заснуть не удавалось. Запершись в спальне, Екатерина расхаживала по ней взад-вперед, измученная беспокойством. Думая о юном Эдуарде, который не представлял, что скоро тяжкое бремя управления королевством ляжет на его хрупкие плечи, она обливалась слезами. Всплакнула Екатерина и о его сестрах, любивших и почитавших своего отца, несмотря на все огорчения, которые он причинил им в прошлом. Они будут глубоко скорбеть, когда потеряют его. Елизавета жила в Эшридже с Эдуардом, а Мария оставалась при дворе. Екатерину тянуло сообщить ей, как сильно болен Генрих, но она знала, что он не хотел бы этого. Две ночи прошли в мучительном ожидании новостей. Врачи изо всех сил старались спасти Генриха. В любой момент могло случиться самое страшное. Но, когда на второе утро к Екатерине наконец явился посланец от короля, вести были добрые: его милость пережил кризис и зовет ее к себе. Она поспешила в покои короля и бросилась бы к мужу с объятиями, если бы там не было врачей. — У меня отлегло от сердца. Я вижу, что вам теперь лучше, — сказала Екатерина, опускаясь на колени у постели и целуя руку Генриха. — Я вел себя с вами как старый медведь? — с кривой усмешкой спросил он. — Ну, вообще-то, да, — ответила Екатерина, — но у вас были на то причины. Утром следующего дня Генрих, вопреки советам врачей, встал с постели, а потом вызвал к себе Екатерину, чтобы та посидела с ним в его кабинете. Увидев, что он все еще очень слаб и явно нездоров, она пришла в смятение. Лицо короля было бледным и осунувшимся. Однако сам Генрих относился к своему недугу несерьезно. — Просто моя нога опять разыгралась, — сказал он ей. — А теперь, хвала Господу, боль прошла, и надеюсь, она еще долго не вернется, по крайней мере, достаточно долго, чтобы я успел разобраться с Говардами. — Последние слова король произнес с досадой, и Екатерина вопросительно взглянула на него. — Кейт, думаю, вы знаете, они вам не друзья. Еще бы ей не знать! Норфолк был главным католическим пэром Англии. Он и его сын Суррей не делали секрета из своей ненависти к выскочкам вроде Сеймуров и, без сомнения, так же относились к Паррам. — Что они сделали? — спросила она. Генрих замялся, что было для него необычно. — Совет только что раскрыл заговор с целью сместить вас. От испуга Екатерина резко втянула в себя воздух. — Что?! — Милорд Хартфорд узнал, что Суррей подбивал свою сестру искать моих милостей, уверяя ее, что она может получить корону. Екатерина была ошеломлена. Это абсурд. Неужели Суррей мог вообразить, будто Генрих способен хотя бы помыслить о том, чтобы взять себе другую жену в таком состоянии здоровья, когда к тому же всем было очевидно, как он счастлив с ней, Екатериной? Мало же он знал своего соверена! Да и Мэри Говард была свояченицей Генриха[166]. Брак между ними считался бы кровосмесительным и был бы запрещен каноническим правом. — Не могу в это поверить! — воскликнула Екатерина, качая головой. Генрих заерзал в кресле и взял с блюда засахаренную сливу. — К счастью, герцогиня не утратила здравомыслия. Когда ее допросили в Совете, она открыла всю правду. Сказала, что скорее перерезала бы себе горло, чем приняла бы участие в таком подлом деле. Она была очень зла на Суррея. — И дала показания против брата? — Екатерина подумала, что никогда не поступила бы так с Уиллом. Но и Уилл не совершил бы такой глупости, как Суррей. — Ее отец, Норфолк, тоже причастен к этому, — продолжил Генрих. — Но дело тут серьезнее, чем кажется на первый взгляд, Кейт. Суррей всегда был амбициозен. Очевидно, в случае моей смерти до совершеннолетия принца он намеревался стать регентом. Это, как вы можете представить, вовсе не устраивает Хартфорда. И я полагаю весьма примечательным то, что именно он выдвинул обвинения против герцогини. Он сказал, что случайно услышал, как она обсуждает этот заговор с одной из своих подруг. Екатерина похолодела, осознав, как далеко готов зайти Хартфорд ради того, чтобы обеспечить себе регентство. Он станет опасным врагом, если его планам помешают. — Так заговор действительно был или Хартфорд все это выдумал? — О да, заговор был, как я и сказал. Хартфорд лишь постарался, чтобы я о нем узнал. Но герцогиня открыла советникам гораздо больше, он на такое даже не рассчитывал. Ей-богу, эта дама терпеть не может Суррея! Она сообщила, что он заменил венец на своем гербе короной и инициалами H.R.[167] Представлять себя королем, Кейт, — это государственная измена. Советники обыскали его дом и нашли там стеклянный кубок, картины и блюдо с гербом короля Эдуарда Исповедника, который не числится среди его предков. У меня нет сомнений, что Суррей планировал свергнуть меня и узурпировать мой трон. А Норфолк знал об этом и молчал, подвергая меня опасности. — Генрих постепенно распалялся. — Кошмар! — возмутилась Екатерина. — Я просто в ужасе. Как вы поступите? — Я отдал приказ арестовать обоих и отправить в Тауэр. — Они это заслужили, — заявила Екатерина. С чего ей испытывать к ним сочувствие? Говарды и ее тоже свергли бы. Вернувшись в свои покои, Екатерина обдумала случившееся и поняла, что консерваторы сошли со сцены и больше не представляют угрозы. После всех неприятностей, которые они доставили ей самой и многим другим людям, это стало для нее величайшим облегчением. Путь к регентству реформистов расчищен. Какое благословение для Англии! И бразды правления возьмет в свои руки она, что бы ни затевал Хартфорд.
Погода стояла прекрасная, и Генрих намеревался отправиться в очередной краткий тур по стране, чтобы завершить предыдущий. Так как состояние его здоровья было нестабильным, продвигались они медленно. Сперва перебрались в Гринвич, а оттуда хотели ехать на Рождество в Уайтхолл. Торжества должны были начаться через три дня. Глядя на короля, Екатерина думала: «Доживет ли он до следующего Рождества? Он так слаб, что новый приступ болезни наверняка унесет его». В тот вечер Генрих послал за ней. Екатерина нашла его в приемном зале, который был пуст, только у дверей стояли стражники. Король сидел на троне под балдахином с королевскими гербами Англии и невидящим взглядом смотрел в пространство. — Кейт! — Генрих шевельнулся, и она увидела у него на глазах слезы. — Я вспоминал, сколько величайших триумфов видел этот зал. Теперь все в прошлом. Ничего не осталось. Он выглядел таким печальным, будто перед его внутренним взором только что прошла процессия блиставших здесь когда-то людей — его жен, министров, придворных, голоса которых уже умолкли навеки. Как грустно, должно быть, знать, что жизнь прожита, и какой сладкой горечью пропитаны воспоминания о юности, полной надежд и жажды свершений. — Завтра я отправляюсь в Уайтхолл, — сказал Генрих, на этот раз более оживленным тоном. — Я хочу, чтобы вы с Марией и двором остались здесь. Уайтхолл будет закрыт для всех, кроме тайных советников и нескольких моих джентльменов. Мне нужно целиком сосредоточиться на деле Говардов. Советники прекратили расследование до моего возвращения, и я хочу быть в их распоряжении, чтобы руководить следствием. Екатерина была потрясена. — Но вы так любите Рождество! Вам будет одиноко, и вдали от двора праздник пройдет для вас блекло. А я буду ужасно скучать по вам. — Мне сейчас необходимо уединение, Кейт, — сказал король довольно теплым тоном. — Я чувствую, что силы мои истощаются, мне нужно отдохнуть и восстановить их. — Но мы никогда не разлучались в праздники. — Екатерина едва не плакала. Если ей суждено потерять его, она хотела лелеять в душе счастливые воспоминания, и мысль о том, что Генрих проведет свое, вероятно, последнее Рождество в одиночестве, была ей невыносима. — Я приказываю вам, — мягко проговорил он. — Мне нужно, чтобы вы сделали то, чего сам я не могу, и возглавили торжества. Пусть люди верят, что со мной все в порядке и меня удерживает вдали от двора только эта измена. Я пришлю за вами, как только смогу. Упрашивать его дальше не было смысла.
На следующее утро Екатерина попрощалась с Генрихом наверху лестницы, ведущей к его личному причалу. Закутанный в меха, он выглядел старым, но объятие его было крепким, и он с чувством поцеловал ее. — Не грустите, дорогая. Мы скоро увидимся. Екатерина сделала глубокий реверанс: — Да пребудет с вами Господь, ваше величество. — И с вами, — произнес он, поднимая ее. Она наблюдала, как король, поддерживаемый стражниками, поднялся на барку; за ним по пятам следовал лорд Хартфорд. От его помощи Генрих отказался, пробормотав: — Я еще не умер, Нэд. — Войдя в каюту, он повернулся к Екатерине и крикнул: — Счастливого Рождества! — после чего сел на диван. Лодка качнулась. Король задвинул кожаные шторки на окне. Он любил уединение. Полная дурных предчувствий, Екатерина смотрела, как королевская барка выходит на середину Темзы и удаляется по великолепной глади вод; пройдя Собачий остров, она скрылась из виду. Встретятся ли они еще когда-нибудь с Генрихом?
Рождество Екатерина провела в постоянном напряжении, сознавая, что двор полнится сплетнями по поводу отсутствия короля. Генрих написал ей, сообщил, что здоров и весь в делах, а Хартфорд и другие советники трудятся неустанно. Ей было немного обидно, поскольку она сама хотела бы находиться рядом с королем и помогать ему. Казалось, он одержим изменой Говардов, и Екатерина осознала, каким ударом она стала для него. Ей не доставляли удовольствия ни пиры, ни танцы, ни восхитительный аромат апельсинов и пряностей, исходивший от праздничных украшений. Она делала все, что полагалось, усердно исполняла свою роль, но мыслями была в Уайтхолле. Через два дня после Рождества вестник от Генриха перестал приезжать, что обеспокоило Екатерину. Она послала гонцов в Уайтхолл, но их не пустили в королевские апартаменты. Уилл находился при короле, поэтому Екатерина написала ему, спрашивая о новостях, и была удивлена, когда он сам появился в ее покоях. По лицу брата она сразу поняла, что тот привез недобрые вести, и быстро увела его в свою молельню. — Я не должен находиться здесь. Хартфорд и остальные не допускают к королю никого и решительно намерены никому не сообщать о его состоянии. Таким образом они рассчитывают обеспечить безопасность регентства, прежде чем кто-нибудь узнает о том, что происходит. Это встревожило Екатерину. — Если кто и должен обеспечивать безопасность регентства, так это я, и они скоро узнают, какие распоряжения сделал король. Надеюсь, они их примут. Генрих говорил, что заставит своих главных придворных чинов дать клятву, что они поддержат меня. — И они поклялись? — Полагаю, что да. Уилл покачал головой: — То есть тебе не известно, была ли взята с них клятва и кто ее принес? — Нет, — призналась Екатерина, и сердце ее упало. — Но мы могли бы это выяснить. Можно спросить королевского камергера, и вице-камергера, и сэра Энтони Денни, раз он возглавляет Тайный совет. — Лучше пока не выдавать себя, — посоветовал Уилл. — Не стоит раскрывать свои карты слишком рано. — Да, — согласилась с ним Екатерина. — Скажи мне, как его милость? — Он очень болен и в большой опасности, — мягко проговорил Уилл. — Вот почему я приехал. Думаю, ты имеешь право знать. Доктора в отчаянии, они никакими средствами не могут унять боль и сбить лихорадку. Кейт, осталось недолго. — Брат обнял ее, и она заплакала у него на плече. — Я ожидаю худшего уже довольно давно, — сказала Екатерина, отстраняясь от Уилла и доставая носовой платок. — Он звал меня? — Несколько раз он говорил о тебе. Но не хочет представать перед тобой таким слабым и больным. — Мне это все равно! — Но ему — нет. Он не допустит, чтобы на него смотрели иначе как на короля. И отрицает, что смерть на пороге, даже сейчас. — Передай ему, передай, что больше всего на свете я желаю видеть его. — Передам, — пообещал Уилл. Он ушел, низко надвинув на лоб капюшон, и быстро направился к ожидавшей его лодке. Меньше чем через пару часов Уилл появился вновь. — Они не пустили меня к королю! — прорычал он. — Сказали, что не доверяют мне. Думаю, они догадались, что я ездил к тебе. Может быть, им известны намерения короля. — А если так, они, вероятно, постараются повлиять на него, чтобы он изменил свое мнение, — забеспокоилась Екатерина. — И никто ни о чем не узнает. Уилл был как натянутая струна. — Кейт, как только мы услышим о смерти короля, ты должна созвать двор и находящихся здесь советников и объявить себя регентом. Я поеду к принцу. Мы обхитрим их, не бойся!
Новый, 1547 год наступил тихо. Екатерина с тяжелым сердцем проводила праздники. В качестве подарков она заказала у Джона Беттса несколько портретов. Изображение принца было отправлено в Уайтхолл в надежде, что его передадут королю. Картину, на которой были запечатлены она и Генрих, послали Эдуарду в Эшридж. Было важно, чтобы Екатерина ассоциировалась у мальчика с мудрым правлением отца. Беспокойство все нарастало. Уилл слышал в Лондоне разговоры о том, что король уже мертв, но из Уайтхолла вестей не поступало и никаких сведений о том, принят ли подарок королевы, — тоже. Когда французский посол пожаловался Екатерине, что ему отказали во встрече с его величеством, она утешила недоумевающего дипломата ложными обещаниями. Мария тоже начинала волноваться из-за отсутствия вестей от отца. Снова и снова Екатерина посылала гонцов справляться о здоровье Генриха, но их отправляли обратно. Она написала сэру Уильяму Герберту. Тот ответил, что у него нет новостей о короле. То же самое он повторил Анне. Екатерина подумывала, не спросить ли Нан Хартфорд — муж мог тайно сообщить ей что-нибудь о происходящем, — но узнала, что та заболела и покинула двор, не спросив у нее разрешения. Это звучало в высшей степени тревожно. — Я сама поеду в Уайтхолл, — заявила Екатерина Марии, Уиллу и Анне. — Они не посмеют не пустить меня. Я королева. Она отправила вперед шестерых слуг, чтобы те приготовили для нее апартаменты, велела упаковать и послать следом сундуки. Когда все было готово, Екатерина вместе с Марией и ближайшими дамами села в барку и направилась вверх по реке. Огромный дворец казался пустым. День стоял пасмурный, однако нигде не видно было ни огонька. Подступы к личному мосту короля преграждала цепь, поэтому Екатерина велела лодочнику причалить у Дворового моста. Холодный ветер хлестал женщин по щекам, пока они шли к апартаментам королевы. Никто их не остановил. Вокруг не было ни души. Екатерина начала беспокоиться: а здесь ли вообще Генрих? Не спрятал ли его куда-нибудь Хартфорд со товарищи? Она сбросила накидку на постель, поправила капор и решительно направилась в покои короля; с облегчением увидела у дверей стражников, однако при ее приближении те скрестили алебарды и преградили ей путь. — Позвольте мне войти, господа. Я хочу видеть короля. — Никого не велено пускать, — с каменным лицом ответил один из караульных. — По приказу Тайного совета, — добавил второй. — Вы знаете, кто я? — спросила Екатерина, кипя от гнева: наглецы не удосужились даже обратиться к ней, как полагалось в соответствии с ее титулом. — Я ваша королева и по статусу стою выше Тайного совета. Я требую, чтобы меня пустили. — Она сурово глянула на них. — Извините, ваша милость. Приказ есть приказ. — Мы не смеем, мадам. Нас могут уволить. — Или еще хуже. — Мужчины нервно посмотрели на нее, и у Екатерины мелькнула мысль, что, если она настоит на своем, они уступят. — Это я беру на себя. Я не видела его величество больше трех недель и беспокоюсь о его здоровье. Прошу вас, позвольте мне войти. — Простите, ваша милость, мы не смеем. — Кто отдал вам такой приказ? — (Стражники молчали.) — Кто бы это ни был, я требую встречи с ним. И снова караульщики безмолвно таращились в пустоту. Ничего не оставалось, кроме как удалиться. Подобрав шлейф, Екатерина развернулась и со словами: — Король узнает о вашей непреклонности, — пошла назад по галерее. Плохо дело. Теперь она не сомневалась: Хартфорд решил захватить регентство. Вполне вероятно, что Генрих уже мертв. Ей нужно сохранить доверие принца, письмо которого с благодарностью за новогодний подарок лежало у нее в кармане. Екатерина подумала, не поехать ли ей к Эдуарду в Эшридж, чтобы опередить Хартфорда? Но какой в этом смысл, если тот получил от Генриха мандат на правление? Боже милостивый, какие махинации творятся за этими закрытыми дверями?! Дрожа от негодования, Екатерина села за стол и написала письмо Эдуарду, призывая его всегда держать этот живописный образ отца перед глазами и размышлять о выдающихся делах своего родителя. С Божьей помощью при каждом взгляде на этот портрет Эдуард будет вспоминать и о ее доброте, о щедрой любви, которую она излила на него, а вместе с тем придет и понимание, что именно ей следует наставлять его и править королевством. Разумеется, за ним тоже должно оставаться слово в этом деле. Перечитав письмо, прежде чем запечатать его, Екатерина была неприятно поражена количеством сделанных помарок; и почерк такой ужасный. Нужно успокоиться. К ней пришла заплаканная Мария и спросила: — Вы видели моего отца? — Меня не пустили к нему, — ответила Екатерина, беря ее за руку. — Но, может быть, вас пустят? Мария спешно удалилась, а по возвращении являла собой картину воплощенного уныния и только качала головой. — Если он при смерти, жестоко не пускать нас к нему, — всхлипывая, проговорила она. — Может быть, он не так уж тяжко болен, — сказала Екатерина, стараясь придать голосу уверенность, которой на самом деле не чувствовала. — Тогда почему мы не можем войти к нему? Он запрещает пускать к себе посетителей, только когда не хочет, чтобы люди видели его слабым и больным. — Не думаю, что это ваш отец не хочет нас видеть. — Она поделилась с Марией своими опасениями насчет Хартфорда и рассказала о планах Генриха сделать ее регентом. Мария выглядела испуганной. Разумеется, новость удивила ее. Но Екатерина знала, что принцесса при любых обстоятельствах предпочла бы ее Хартфорду. — Что ж, пути Господни неисповедимы, — заметила Мария. — Если мой отец намерен был поступить так, он не поддастся ни на какие уговоры и не изменит своего решения. — Если еще способен давать отпор, — сказала Екатерина. — Нам ничего не остается, кроме как ждать. А потом я буду действовать быстро. — И она объяснила Марии, в чем состоит придуманный Уиллом план. — Я буду молиться о вашем успехе, — со слезами произнесла Мария и обняла Екатерину. Гладя рукой ее худую спину, Екатерина подумала: «Сознает ли эта верная католичка, о чем собралась молиться?» — и ощутила укол совести. Ложь отвратительна, но волю Господа нужно исполнить.
Увидеть Генриха Екатерине так и не удалось до 13 января, когда состоялся суд над Сурреем. Уилл был одним из тех, кому поручили заседать в судейском жюри. — Спасти его не представлялось возможным, — со скорбно-торжественным лицом заявил он, вернувшись из Гилдхолла. — Норфолк сознался в сокрытии измены. И если человек осмеливается присваивать себе королевский герб, использовать который не имеет права, что это может быть, как не измена? — Уилл подошел к окну и стал смотреть на мутную Темзу, неспешно струившую свои воды под свинцовым небом. — Мы получили записку от самого короля, в которой ставился тот же вопрос и заявлялось, что Суррей замыслил предательство, когда уговаривал свою сестру стать распутницей, вступив в связь со своим совереном. К чему он клонил, было предельно ясно. Мы не могли не осудить Суррея на смерть, что и сделали. Екатерина заметила недостаток логики в рассуждениях короля, но слишком обрадовалась, что он жив и в состоянии заниматься государственными делами, а потому не придала этому особого значения. — Видела бы ты лицо Хартфорда, — продолжил Уилл, — торжествуя, он едва не ударил кулаком по воздуху. А Суррей, заметив его радость, крикнул из-за барьера, что король изведет всю благородную кровь в королевстве и вокруг него останутся одни подлые люди. Вдруг Екатерину пронзила ужасная мысль. — Уилл, а записка была написана рукой короля? — Да, я уверен. Почему ты спрашиваешь? Она покачала головой: — Я не доверяю Хартфорду. Может ли Генрих настолько ослабнуть, что им манипулируют? Действительно ли это были его приказы? — Думаю, да. Но я согласен, Хартфорду доверять нельзя, и он беспощаден. Нам нужно держаться начеку.
Через два дня Уилл снова приехал в Уайтхолл. — У меня хорошие новости, — с улыбкой сказал он. — Я только что встретил испанского и французского послов, они шли с аудиенции у его величества. По их словам, он выглядит совсем недурно, хотя пожаловался, что долгое время был тяжело болен. Он обсудил с ними состояние дел в христианском мире и даже коснулся военной темы, совсем как обычно. Послы заверили меня, что король в хорошем настроении. — Какое облегчение слышать это! — воскликнула Екатерина. — Я передам твои слова Марии. Но если ему лучше, почему он не послал за мной? — Думаю, Кейт, теперь он сделает это, и очень скоро. Потерпи. Она попыталась, но не могла совладать с тревогой. Дни шли, король не звал ее к себе, и страх охватывал Екатерину все сильнее. Она даже начала размышлять, не обидела ли чем-нибудь Генриха. Но Марию он тоже не вызывал, так что на обиду было не похоже. Ей стало даже немного досадно. Если она так много для него значила, почему он не подпускает ее к себе в такой трудный момент? Потом Екатерину осенило: может быть, в обычной для него скрытной манере Генрих держит свою избранницу вне поля зрения и изображает, будто позабыл о ней, чтобы Хартфорд не догадался о его намерении сделать ее регентом и не попытался воспрепятствовать этому. Вот единственная правдоподобная позитивная причина, какую она могла придумать, чтобы объяснить себе вынужденную разлуку с мужем, и уцепилась за нее. Казалось, задерживаться дольше в Уайтхолле не имело смысла. В любом случае Екатерине нужно было возвращаться ко двору. Лучше находиться там, чтобы взять власть, когда — или если — наступит подходящее время. Поэтому она послала за своей баркой и отправилась в Гринвич. Проезжая мимо Тауэра, Екатерина вспомнила Суррея, обезглавленного на Тауэрском холме два дня назад. Сейчас в крепости сидел узником Норфолк, безутешный отец, который вскоре взойдет на эшафот вслед за сыном. Как быстро могущественные люди могут оказаться поверженными во прах. Она помолилась за герцога и Мэри Ричмонд, наверняка не предполагавшую, какой трагедией обернутся ее откровения для родных. Тяжело же ей теперь, когда она знает, что ее отец обречен на смерть. Норфолк по-доброму отнесся к Екатерине и Джону во время Благодатного паломничества, и она этого не забудет, хотя позже герцог и стал ей врагом.
В Гринвиче Екатерина напряженно ждала новостей, но их не было. Она попросила Уилла съездить в Уайтхолл и попытаться что-нибудь разузнать. К счастью, тот проявил находчивость. — Я зашел на королевскую кухню, — сказал он по возвращении, когда они остались одни в кабинете Екатерины. — Там по-прежнему готовят кушанья для короля, и еду ему подают с фанфарами, как обычно. — Приятно слышать, — сказала она. — Но это молчание невыносимо. Я не знаю, что и думать. И не могу отделаться от недобрых предчувствий. — Мне неприятно говорить это, но я с тобой согласен. — Уилл устало опустился в кресло. — Хуже всего — не знать, что происходит. — Двор полнится слухами, один ужаснее другого. Все недоумевают, почему король не показывается уже больше месяца? — Скоро должны появиться какие-нибудь новости о нем… — Уилл вздохнул. — По пути сюда я встретил мессира ван дер Дельфта и спросил его, не слышал ли он чего-нибудь. Тот ответил, что посылал справиться о здоровье короля, и ему сообщили, что его величество немного нездоров, но занимается делами в уединении. — Значит, все по-прежнему, — заметила Екатерина. — У меня уже колени ноют, я так долго молилась о том, чтобы получить от него хотя бы словечко и чтобы он выздоровел.
Январь подходил к концу. Екатерина сидела в кругу своих дам — место леди Ричмонд зияло пустотой — и пыталась сконцентрироваться на дискуссии, которая по идее должна была ее увлечь, но не могла. В последнее время она постоянно находилась в состоянии тревоги. Ситуация зашла в тупик, но что она могла сделать, кроме как взять штурмом Уайтхолл? И вот, когда Екатерина, уже не в первый раз, подумала, что потеряет рассудок, дверь в ее апартаменты открылась и было объявлено о прибытии троих джентльменов, которые желают составить компанию дамам. Вошли сэр Энтони Коуп, камергер Екатерины, и Хью Латимер, а позади них — сердце у Екатерины вздрогнуло — был Том Сеймур. Он поклонился, по ее приглашению сел вместе с остальными и включился в беседу. Не зная о его возвращении ко двору, Екатерина как-то нелепо, даже до глупости обрадовалась, увидев своего любимого живым и невредимым, и ощутила, как в груди у нее шевельнулось знакомое чувство. Ей потребовалось некоторое время, чтобы собраться с мыслями, и только немного успокоившись, она поняла: вероятно, Том — именно тот человек, который может узнать, что затевает его брат в Уайтхолле. Как ей удалось сдержать нетерпение, пока шел разговор, Екатерина и сама не знала. Когда кружок наконец распался, она удержала Тома, потихоньку дернув его за рукав и шепнув: — Мне нужно кое-что сказать вам наедине. — Екатерина поймала на себе вопросительный взгляд Анны, которая скоро снова должна была родить, и добавила: — Это насчет вашего брата Хартфорда. — Хм… Моего брата. Разумеется, мадам, — ответил Том и пошел вслед за ней в кабинет, где Екатерина села за стол и жестом указала гостю на стоявший напротив стул. Она не могла оторвать от него взгляда. Том возмужал, и это ему очень шло: он стал краше прежнего, но в глазах у него блестел знакомый огонек восхищения. Все ее чувства к нему, давно подавляемые, вырвались на поверхность. Было ли это наградой ей за то, что она поставила долг выше своих желаний и добилась того, что ее брак с королем стал успешным? Она любила Генриха, это правда, но от Тома была без ума. И разница между этими двумя чувствами неизмерима. — Что происходит, Кейт? — спросил Том. — Вы здесь, король в Уайтхолле, и мой любезный братец выстроил вокруг меня стену. — Я думала, вы поможете мне узнать, — упавшим голосом проговорила Екатерина. Довериться ли ему? Открыть ли правду, что она должна стать регентом? Он вполне может разделять амбиции брата и всей своей семьи. Но не получит ли он большего влияния, если у власти будет она, особенно в качестве его супруги? О ужас! Екатерина отбросила эти мысли и собралась. Как можно думать о новом браке, когда Генрих еще жив?! Это никуда не годится. И тем не менее ей нужно позаботиться о своем будущем. Екатерина подавила вздох. Она нуждалась не только в любви и поддержке. Ей хотелось иметь детей, и если хоть кто-то из мужчин мог осчастливить ее ребенком, то это был Том. Но ей уже тридцать четыре, время ее истекало. И замуж она не сможет выйти, пока не закончится траур, а значит, пройдет еще год… — Что у вас на уме? — спросил Том. — Вам нужна моя помощь? — Я просто обдумывала кое-что. Если я не могу попасть к королю и вы тоже, то ничего не поделаешь. — Позвольте мне поискать способ, — сказал Том, вставая. — Не волнуйтесь, Кейт. Я сейчас же отправлюсь в Уайтхолл.
 Глава 23
1547 год
Глава 23
1547 год
Был последний день января. Где-то вдалеке, выше по реке, у Тауэра грохнули пушки. Екатерина испуганно вздрогнула и переглянулась со своими дамами. Те уставились на нее, удивленные и озадаченные. Потом на всех церквах зазвонили колокола.
— Король выздоровел? — предположила Екатерина. — Это праздник?
Если так, почему никто не сообщил ей? Возмутительно! И невероятно жестоко. Она вновь задумалась, не вызвала ли чем-то неудовольствия Генриха, раз он не посчитал уместным оповестить ее о состоянии своего здоровья. От этой мысли у нее похолодело в груди.
Раздался топот бегущих ног, дверь в ее покои распахнулась, на пороге стоял Уилл.
— Король умер! Принца только что объявили королем Эдуардом Шестым.
Екатерина упала на колени. Придворные и брат последовали ее примеру.
— Из милосердия молитесь о душе нашего покойного владыки! — возгласила она, и слезы потекли у нее из глаз.
В голове роились вопросы, но сейчас она должна была выказать уважение к почившей душе. Генрих мертв. Генрих мертв! И хотя Екатерина ожидала этого уже давно, ей с трудом удавалось принять эту мысль. Больше она никогда не увидит своего мужа, не услышит его голоса, не посидит с ним рядом. Он по-настоящему любил ее, Екатерина знала, и ей будет не хватать этой любви.
По прошествии довольно длительного времени она отпустила всех, кроме Уилла.
— Когда он умер?
— Три дня назад, Кейт, ты должна…
— Три дня?! — Она пришла в ужас. — И никто не соизволил сообщить мне? Никто не позвал меня, чтобы быть с ним при его кончине? Какое бессердечие! — Она силилась сдержать ярость.
— Кейт, ты должна действовать быстро, — увещевал ее Уилл. — Хартфорд обошел тебя.
— Я знаю. Где принц? — Она пока не могла думать об Эдуарде как о короле.
— Его привезли в Тауэр. Это обычно для монарха — находиться там перед коронацией, но, кроме того, Тауэр — крепость. Сомневаюсь, что тебя пустят туда, если ты приедешь. Но я должен явиться туда на заседание Тайного совета сегодня в полдень.
— Уилл, ты можешь получить копию завещания короля до отъезда? Я уверена, там ты обнаружишь пожелание, чтобы я была регентом. Тогда ты сможешь показать им его…
— Я попробую спросить в архиве Тауэра.
— Благословляю тебя, — сказала Екатерина. — Бедный мальчик. Мое сердце рвется к нему. Остаться без отца и получить корону в таком юном возрасте. Я должна быть с ним. Он нуждается во мне.
— Я постараюсь, — сказал Уилл и ушел.
Екатерина осталась в Гринвиче, хотя ей хотелось видеть Генриха. Но где его тело? До сих пор в Уайтхолле? И в каком оно состоянии по прошествии трех дней? В любом случае ей, как преданной супруге, нужно проститься с мужем. Она созвала своих дам и сказала им: — Я должна надеть траур, — подумав, что уже в третий раз ей предстоит носить вдовий наряд. К счастью, Екатерина давно уже отложила для этой цели черное шелковое платье со стоячим воротником и подходящий к нему французский капор, недавно вошедшей в моду, квадратной формы. — Принесите мне еще черную вуаль, чтобы накинуть поверх, — распорядилась она. — И пошлите за моим портным. Мне нужен траурный головной убор. Портной тут же явился и набросал эскиз, что-то вроде монашеского плата со складчатым подбородником, длинной белой вуалью и двумя лентами, ниспадающими до колен и завязанными на концах. С ним она станет носить свободное черное платье и накидку со шлейфом. «Я буду похожа на пугало, — подумала Екатерина. — И мне придется одеваться так целый год». Но условности должны быть соблюдены. Портной пообещал доставить ей головной убор завтра. Прежде чем он ушел, Екатерина заказала черную ткань для своих дам. В ее покоях уже работали столяры — обивали стены черной материей и вешали на окна черные шторы. Слава Богу, она не вдова французского короля: те вынуждены проводить в уединении много недель, пока не станет ясно, что они не беременны. Секретарь принес ей на подпись два письма. Рука у нее немного дрожала, шок еще не прошел. Однако, помня о своем новом статусе, она вывела на листе: «Екатерина, королева-регент, К.П.». Только бы Уилл вернулся и сообщил, что ее назначение одобрено, хотя опасения, что вероятность этого невелика и ей предстоит борьба за власть, не отступали. Может, стоит пойти в главный зал и созвать всех придворных, как планировалось изначально? Нет, лучше дождаться решения Тайного совета. Когда Уилл появился, Екатерина сразу поняла, что он принес дурные вести. — Они опередили тебя, Кейт. Хартфорд успел окопаться. Когда я приехал в Тауэр, тайные советники уже выстроились, чтобы принести присягу на верность королю. Я тоже сделал это. Потом его милость заседал в Совете и подписал бумагу с назначением Хартфорда лордом-протектором. — Нет! — воскликнула Екатерина, и рука ее подлетела ко рту. — Король Генрих хотел не этого, он не говорил о таком в своем завещании. — Завещания я найти не смог, Кейт. Я поискал в архиве, но не обнаружил его там. — Значит, они его уничтожили! — Екатерина была вне себя. — Вполне вероятно, хотя теперь это несущественно. Покойный король после Рождества составил новое завещание. — Ты имеешь в виду, его принудили к этому! — крикнула Екатерина. — Какие низкие люди, они склонили его на свою сторону в момент слабости. Я знаю, какие у него были намерения. Он хотел, чтобы регентом была я. А что с теми, кто поклялся поддерживать меня? — Кейт, Кейт, все это теперь не имеет значения! Хартфорд прочно сидит в седле. Он пренебрег волей короля, изложенной в этом новом завещании. Король распорядился, чтобы в регентском совете не было человека, который обладал бы доминирующим влиянием. Там ни слова нет о том, что Хартфорд станет лордом-протектором и возглавит его. Выходит, он обставил всех. Завтра его объявят лордом-протектором, и нам придется наблюдать, как он правит страной, пока король не достигнет совершеннолетия к восемнадцати годам. Екатерина была вынуждена сесть и выровнять дыхание. Какая досада, что она так сильно недооценила Хартфорда! — Я не допущу, чтобы это сошло ему с рук. Генрих пришел бы в ярость, узнав, что его воля так нагло попрана. — Кейт, это fait accompli[168]. Король согласился. — Если бы я только могла поговорить с ним. Он бы меня послушался. — Дорогая сестра, Хартфорд контролирует доступ к королю и держит почти всех на расстоянии. Неужели ты думаешь, что он подпустит к нему тебя? Екатерина боролась со слезами досады. — У него что, нет сердца? Я единственная любящая мать, какую знал Эдуард. Уилл пожал плечами и упал в кресло напротив: — Хартфорд — хладнокровный ублюдок. Ему нет дела до таких сантиментов. Для него ты — соперница в борьбе за власть. О, он был очень мил, выражал сожаление, что покойный король не вызвал тебя, и просил меня передать тебе, что его кончина была тихой. Он проявил великодушие победителя. — Не могу поверить, что меня исподтишка так беспардонно обманули. — Екатерина пустым взглядом смотрела в огонь. — Теперь ни для меня, ни для моих дам не будет места при дворе, пока король не женится. Что мне делать? — Хартфорд просил передать тебе, что ты можешь оставаться в Гринвиче, пока не будешь готова переехать в один из домов, доставшихся тебе в приданое. Он сказал, что покойный его величество оставил тебе по завещанию три тысячи фунтов в столовом серебре, драгоценностях и вещах, помимо той собственности, которой ты уже владеешь, и что ты получишь свою вдовью долю наследства и сверх того тысячу фунтов. Ты богатая женщина, Кейт. — Я хотя бы смогу проводить праздность в комфорте, — с горечью проговорила она, думая обо всех тех благих делах, которые могла бы совершить в качестве регента. Но, по крайней мере, можно было рассчитывать, что Хартфорд продолжит устанавливать в королевстве истинную религию. Правда, сама она управляла бы делами и заботилась о юном короле с добротой, которой не хватает холодным, расчетливым мужчинам. Иногда Господь распоряжается странно. — Есть кое-что, о чем Хартфорд хотел известить тебя особо, — продолжил Уилл. — Король Генрих распорядился, чтобы за твои добродетель и мудрость, преданность и послушание, которые ты неизменно выказывала ему, в качестве вдовствующей королевы ты пользовалась почетом и уважением, какие полагаются королеве Англии, как если бы он был все еще жив. Значит, Генрих не был недоволен ею. Он любил ее до последнего дня. Тут Екатерина залилась слезами. Уилл дал ей выплакаться, гладил по руке и вид при этом имел весьма смущенный. Когда она успокоилась, он принес ей вина и сказал: — Выпей. У тебя есть будущее, Кейт. Ты до сих пор хороша собой, а к богатым вдовам поклонники слетаются, как мухи на мед. Если я не ошибаюсь, есть один особенный, который проявил большое терпение и может, выдержав положенное время, заявить о себе. — Томас Сеймур, — сказала Екатерина, и ей сразу стало немного легче. — На этот раз ты его одобришь? — Да. Он теперь член Тайного совета, близок к трону и человек состоятельный. Чего же еще желать? К тому же, Кейт, ты исполнила свой долг перед семьей, страной и верой. Я знаю, ты не хотела выходить замуж за короля, но сделала это и была превосходной королевой. Теперь ты можешь выйти замуж за кого хочешь. Мысли о браке были явно преждевременны, но они помогли Екатерине с большей радостью смотреть в будущее. — А что насчет дочерей короля? Он сделал какие-то распоряжения? — спросила Екатерина. — Сделал. Наделил землями и подтвердил их место в очереди на наследование престола. Когда они выйдут замуж, каждая получит по десять тысяч фунтов, в случае если Совет одобрит их браки. Если же они вступят в супружество без санкции Совета, то будут исключены из числа наследников, как в случае смерти. — Они обе слишком благоразумны, чтобы поступить так, — заметила Екатерина. — Скажи мне вот что: Гардинер не входит в регентский совет? — Слава Богу, нет! Там все реформисты, назначенные королем Генрихом. Они не забудут Гардинеру, как тот досаждал его величеству. Хорошо в этой ситуации только одно: они займутся Божьим делом, как намеревалась сделать ты сама. Я предвижу большие перемены. Екатерина закрыла глаза: — Об этом я молилась, хотя мне и не доведется увидеть, как реформы происходят по моей воле. Генрих позаботился обо всем. Он как будто знал, что изменения неизбежны. Может быть, я все-таки добилась большего, чем могла мечтать.
Ночь Екатерина провела беспокойно. Ее угнетала мысль, что Хартфорд обошел ее и безнаказанно нарушил волю Генриха. Она не могла простить ему этого. Нужно что-то предпринять. Но что? Утром, чувствуя себя ужасно из-за недосыпания, Екатерина приказала своему главному поверенному найти двух адвокатов, хорошо разбирающихся в завещаниях. Они явились в тот же день, солидные джентльмены с превосходной репутацией, и она объяснила им ситуацию, впадая в уныние по ходу беседы при виде того, как оба они скептически качают головами. — У вашего величества нет шансов добиться исполнения завещания, — сказал один. — А что касается тех, кто мог быть приведен к присяге в поддержку ваших притязаний на регентство, мы ничего не можем сделать, пока не узнаем, кто эти люди и действительно ли с них взяли такую клятву. — Лорд-протектор законно назначен на этот пост королем, — заявил второй адвокат. — У вас нет своей партии при дворе, которая помогла бы вам оспорить это решение. Мой совет вашей милости: забудьте обо всем этом и наслаждайтесь благами, которыми обеспечил вас покойный его величество. Екатерина встала, с трудом сдерживая гнев: — Благодарю вас, господа. — Она проводила их взглядом, потом села и написала королю. Он был ее последней надеждой. В письме Екатерина довольно открыто намекнула, что может быть ему полезной, так как любит его и служила регентом при его отце. Дойдет ли до Эдуарда ее послание? Екатерина сомневалась в этом и была удивлена, получив ответ через три дня. Юный король был весь погружен в переживания своей утраты. В своем послании, адресованном «дражайшей матушке», он благодарил ее за письмо и долго рассуждал об их общей тоске по ушедшему отцу. «Однако утешением нам служит то, — заканчивал письмо Эдуард, — что он ушел из этого мира печали и страданий в счастливое вечное блаженство». Это не было ответом на главный посыл ее письма. Отчаиваться Екатерина начала, когда в Лондон прибыл отец Катберт. Генрих назначил его своим душеприказчиком, и старый священник, покончив со всеми делами в Уайтхолле, сразу приехал повидаться с ней. Отец Катберт заметно сдал с момента их последней встречи, но не утратил спокойной внутренней силы и мудрости, а потому, как только они устроились у очага в ее кабинете, Екатерина открыла ему свое сердце. — Я не могу допустить, чтобы Хартфорду это сошло с рук. — Она не стала называть его лордом-протектором. — Не знаю, что мне делать. Я уже испробовала все, что в моих силах. Отец Катберт сочувственно взглянул на нее: — Тогда, я думаю, вам нужно признать поражение. Очевидно, в планы Господа не входит, чтобы вы были регентом. Кэтрин, мне тоже не по душе, что Хартфорд оказался у власти. Он известен своим реформаторским рвением, и я боюсь, как бы это не завело его слишком далеко. Екатерина промолчала. Она тоже пошла бы дальше, чем думал отец Катберт. Он был великим хранителем традиций. Главенство короля над Церковью — это былосамое большее, что священник мог переварить. Обдумав его вердикт, Екатерина неохотно согласилась: — Полагаю, слова ваши справедливы. — Вы правда хотите вступить в схватку, которую вам не по силам выиграть? Подумайте, каких усилий это будет стоить, тогда как вы можете наслаждаться приятной жизнью. Вы богаты и молоды. Мир предложил вам так много. Это Божья награда за то, что вы исполнили Его волю, когда сердце ваше склонялось к иному. И как прекрасно вы справились со своей ролью, Кэтрин. Теперь пришло время жить в свое удовольствие. — Да, дорогой друг, вы правы, — сказала она, оживляясь. — Ваши слова ясно указали мне путь. Благодарю вас.
Часть пятая «Много злых насмешек»

 Глава 24
1547 год
Глава 24
1547 год
Екатерина постаралась подавить разочарование и досаду. Она покинет Гринвич и будет жить в своем дворце Челси. Ей невыносимо было видеть, как заносчивая Нан Хартфорд, словно королева, распоряжается двором. Эта женщина всегда была исполнена зависти, никогда не выказывала Екатерине приличествующего королеве почтения и почти не скрывала своего мнения, что, несмотря на королевский статус, та ничем не примечательна. Оставаясь первой леди в стране, Екатерина подозревала, что Нан без всяких на то оснований постарается присвоить эту роль себе. Что ж, она не станет на это любоваться!
Так как Екатерина была в трауре, ей пришлось прекратить собрания в своих покоях. «Теперь все это в прошлом», — печально размышляла она, как и тот образ жизни, который стал ей привычным за последние три с половиной года. Смерть всегда влечет за собой перемены, в особенности когда речь идет о короле. Англия словно бы опустела без Генриха. Двор никогда уже не будет прежним.
Но лучше не задерживаться на таких мрачных мыслях. Екатерина взяла подбитую мехом накидку, жестом руки отослала прочь своих дам — теперь она будет поступать так, как ей нравится, — и одна пошла в заиндевелый сад прогуляться по сверкавшим февральской изморозью дорожкам. Вокруг ни души. Но вот вдалеке показался какой-то мужчина. Это был Том.
Когда он оказался рядом, Екатерина поняла: он пришел за ней, и гораздо раньше, чем она ожидала. Это читалось в его глазах. Будущее вдруг заиграло новыми красками.
— Кейт, — сказал Том, поднимаясь из поклона и неотрывно глядя на нее. — Ей-богу, мне приятно видеть вас!
Она улыбнулась ему:
— Вы прогуляетесь со мной?
— С удовольствием, — ответил он и не предложил ей руку.
Вот и хорошо. Не к лицу вдовствующей королеве брать под руку другого мужчину вскоре после смерти супруга.
— Как вы, Кейт? В последнее время вам пришлось нелегко.
— Да, во многих смыслах. Я полюбила короля и тоскую по нему, но нужно принимать Господню волю и двигаться дальше. Я рада была слышать, что вас включили в число членов Тайного совета.
— Мой брат соизволил сделать для меня хотя бы это, — с горечью проговорил Том. — Старый король был против, но Нэд убедил его. Не то чтобы он намерен превратить меня во влиятельного человека. Вся власть должна принадлежать ему. Он управляет всем и всегда чертовски прав.
Имея собственные причины обижаться на Хартфорда, Екатерина понимала, отчего так горячится Том.
— Вы можете представить: куда бы он ни пошел, перед ним всегда несут золотой жезл! Он ведет себя как король! И собирается построить дворец в Лондоне. С юным Эдуардом он очень строг, и никто не имеет доступа к королю без соизволения милорда протектора. Боже, мне жаль бедного мальчика! Ему шагу не дают ступить свободно и денег лишили, нос его постоянно опущен в книгу. В его возрасте я все время проводил на улице, лазал по деревьям да разыгрывал рыцарские турниры.
— Это весьма тревожно, — сказала Екатерина. — А могло бы быть совсем иначе. — Оглядевшись, чтобы проверить, нет ли кого в пределах слышимости, она сообщила Тому, как его брат нарушил план Генриха сделать ее регентом.
— Боже мой! — взорвался Том. — Насколько лучше все было бы, если бы Англией правили вы. Но я не удивлен, что вас обошли. Нэд ни перед чем не остановится ради удовлетворения своих амбиций.
— Я его ненавижу. За то, как он поступил со мной, и за его неуважение к вам. И мне претит его суровость с бедным мальчиком.
— Знаете, все это на совести Нан. За каждым успешным мужчиной стоит назойливая женщина, а она просто дьявол в юбке. Гордыня ее чудовищна, а нрав жесток. Нэд ее боится, а потому, не желая скандалов, делает так, как хочет она. Не заблуждайтесь в том, кто настоящий правитель королевства, — это Нан.
— Леди Мария любит ее, — заметила Екатерина.
— Она, моя дорогая Кейт, — невинная душа и видит хорошее во всем. Мария и дьявола нашла бы за что полюбить!
Они остановились перед воротами, которые вели к дворцовому фасаду, выходившему на реку.
— Нам нужно возвращаться. Я замерзла.
— Что вы теперь будете делать? — спросил Том, когда они пошли назад.
— Я уезжаю в Челси, — ответила ему Екатерина, — и забираю с собой падчериц. Они составят мне компанию. Елизавете нужна мать. Она сейчас в сложном возрасте между детством и превращением в женщину.
Том кивнул. Он шел рядом с ней тяжелым шагом, плотно завернувшись в накидку; обычная кипучая энергия как будто совсем ушла из него. Конечно, он был зол.
— Вы снова отправитесь в море? — спросила Екатерина.
— Сомневаюсь, что теперь мне часто придется бывать там, раз отныне я тайный советник, — останавливаясь, проговорил Том. — Что ж, Кейт, вот поворот к моим покоям. Приятно было повидаться с вами. — Он взял ее руку и поднес к губам.
— Прощайте, Том, — сказала Екатерина и пошла дальше; глаза ее защипало от слез.
Он не сказал ни слова, ни единого словечка о том, что ждет ее, не сделал и намека, что мечтает об их совместном будущем. Она растаяла от его взгляда, когда они встретились, и думала, что Том испытал то же чувство. Может, он смотрит так на всех женщин? Может, она стала слишком старой, чтобы будоражить его фантазию? Или он сильно переживал, что ему позволили лишь кончиками пальцев прикоснуться к власти? «Или, — произнес голос разума у нее в голове, — он считает, что еще рано выражать свои чувства». Однако Том едва ли был человеком, особенно склонным к соблюдению приличий.
«Сейчас не время думать о любви», — укорила себя Екатерина, поднимаясь по винтовой лестнице в свои покои. Она подождет. Если между ними все кончено, так тому и быть. Она переживет это, как пережила уже очень многое. И Екатерина решительно задвинула Тома на дальний план сознания. Но он не ушел, и в ту ночь, уткнувшись в подушку, она заливалась слезами, пока не уснула.
Утром Екатерина облачилась в доставленный портным траурный наряд. Утонув в просторном платье и надев вдовий вимпл, складчатый подбородник которого щекотал ей кожу, она села в барку и отправилась в Уайтхолл выказать последнюю дань уважения своему покойному супругу. Хартфорд милостиво согласился удовлетворить ее просьбу. Приемный зал, завешенный черными полотнищами ткани, был темным. Вокруг установленных в центре похоронных дрог горели свечи. На дрогах стоял огромный, накрытый золотой парчой гроб, а поверх него лежала изготовленная по приказу Генриха корона. Священники и джентльмены покойного короля, преклонив колени, читали молитвы. В воздухе стоял крепкий запах благовоний. Екатерина опустилась на колени и склонила голову, пытаясь молиться. «Генрих на Небесах», — твердила она себе. Нужно радоваться за него. Люди отзывались о нем как о величайшем человеке в мире. Она знала, что он был необыкновенным, и размышляла, будет ли его сын пользоваться такими же уважением и послушанием. Екатерина молилась, чтобы Эдуард продолжил великие начинания своего отца. Ее немного огорчили слова Уилла о том, что Генрих захотел быть похороненным рядом с королевой Джейн, но она понимала почему. Джейн подарила ему наследника. Сопровождать похоронную процессию в Виндзор Екатерине не полагалось — королевы не оплакивают своих супругов публично, — и она радовалась, что избавлена от этого испытания, но ей можно было наблюдать за похоронами из молельни над заупокойной часовней короля Эдуарда IV, откуда видны главный алтарь и хоры капеллы Святого Георгия. Погребение состоялось в морозный день в середине февраля. Облаченная в темно-синий — цвета королевского траура — бархат и надев на палец золотой перстень в форме черепа с надписью «Memento mori», Екатерина наблюдала со своей скрытой от посторонних глаз, но дающей прекрасный обзор точки, как шестнадцать дюжих йоменов стражи вносят в капеллу гроб. На стенах и окнах висели полотнища черной материи, свечи освещали лица людей в толпе, состоявшей из знати, главных чинов королевства и плакальщиков; все были в черном, у многих на головах — капюшоны. Поверх гроба лежала восковая фигура Генриха, одетая в алый бархат и в блиставшей драгоценными камнями короне. За гробом шли мужчины со знаменами в руках. Только на двух флагах виднелись гербы жен короля — самой Екатерины и королевы Джейн. Очевидно, Генрих считал лишь эти два своих брака состоятельными. Замыкал процессию Гардинер, шедший с епископским посохом в руке. Екатерина обмерла. Генриху не понравилось бы, что его отпевает этот человек. Какими хитростями удалось епископу пролезть сюда, осталось для Екатерины загадкой. Ей стало грустно оттого, что желания Генриха больше ничего не значили. Среди тайных советников она поискала глазами Тома. Вот и он, стоит со склоненной головой. Сердце у нее сжалось. Неужели между ними и правда все кончено? Есть ли у нее будущее? Склеп под хорами был открыт. В сводчатом пространстве Екатерина видела маленький гроб с лепной головой — королевы Джейн. Йомены стражи сняли восковую фигуру короля и установили гроб Генриха рядом с гробом Джейн. Началась месса. После нее Гардинер взошел на кафедру. — Благословенны почившие во Господе, — начал он. — Все мы, каждый человек, знатный и простой, понесли тяжелую утрату со смертью столь прекрасного и милостивого короля. — (На глаза Екатерины навернулись слезы.) — Но у нас нет нужды молиться за него, — продолжил Гардинер, — потому что он, несомненно, на Небесах. Больше она слушать не могла. Попыталась вспомнить Генриха в расцвете сил, а не разбитым болезнями, рано состарившимся колоссом. Подумала о том времени, которое они провели вместе, наслаждаясь обществом друг друга, о его своеобразном чувстве юмора, о доброте к ней и проблесках в нем истинного величия, которые ей довелось лицезреть. Все время Екатерине приходилось бороться со слезами. Проповедь закончилась. Главные чины королевства подошли к склепу и преломили свои жезлы в знак того, что их верная служба покойному королю завершилась. Обломки они бросили в склеп. Со всех четырех углов капеллы раздались всхлипывания, когда герольд возгласил: «Le roi est mort! Vive le roi!» — и зазвучали трубы, напоминая Екатерине, что монарх никогда не умирает. Король умер! Да здравствует король! Генрих будет жить дальше в своем сыне, и королевское правление не прервется.
Все вернулись в замок. Екатерина не пошла на прием, который устроили в зале Святого Георгия, а вместо этого сразу отправилась в свои комнаты. У нее разболелась голова, и она нуждалась в покое и уединении. Дамы уложили ее на постель, принесли влажные полотенца и целебный настой, чтобы облегчить состояние. Наконец Екатерина уснула. Когда она снова вышла в свой приемный зал, уже наступили сумерки. У камина она увидела Уилла; он разговаривал с Анной и леди Саффолк. Другие дамы сидели кружком в дальнем конце комнаты и шили. Заметив Екатерину, Уилл встал и улыбнулся ей: — Кейт, тебе лучше? — Да, — кивнула она. — Рада видеть тебя. По-моему, похороны прошли достойно. — Это точно. — Они были великолепны, — сказала герцогиня, — и очень трогательны. — У меня хорошие вести, — перехватил инициативу Уилл. — Я стану маркизом Нортгемптоном. Милорд протектор благодарен мне за поддержку, и, похоже, я буду играть заметную роль в Совете. Кейт, у тебя появится друг на самом верху. Екатерина поняла, что теперь ее брат стал более важной персоной при дворе, чем она, и немного разозлилась на него за то, что он связал свою судьбу с Хартфордом, но в то же время понимала, почему он пошел на это. В конце концов, цели у них общие, а Уилл всегда отличался прагматизмом. — Мои поздравления! — тепло проговорила Екатерина и подала брату руку. — Я намерен просить у короля дозволения обратиться в парламент с просьбой разрешить мне снова вступить в брак, чтобы я мог жениться на Лиззи, — сказал он ей. — Мы так давно ждем этого. — Надеюсь, у вас все получится, — с этими словами Екатерина опустилась в кресло. — Ты пропустила церемонию, — сообщил ей Уилл. — Сегодня днем короля возвели в рыцари. — Я не знала, что он в Виндзоре. Короли обычно не присутствуют на похоронах своих предшественников. — Милорд протектор желал его появления, чтобы узаконить грамоты на дворянство, которые раздавал сегодня. Сам он отныне будет герцогом Сомерсетом. — Значит, он сам себе даровал самую сочную сливу? — Екатерина вскинула брови. — Это королевское герцогство! Уилл фыркнул: — В его глазах он и есть король. Власть ударила ему в голову. — Или, скорее, это женушка забивает ее иллюзиями величия, — заметила леди Саффолк. — Герцогство принесет ему солидный доход. — Уверена, он об этом не забыл! — едко вставила Екатерина. — Лорд Лайл будет графом Уориком, а Томаса Сеймура сделают бароном Сеймуром из Садели, — сообщил ей Уилл. — Этот титул приносит большие владения. Кроме того, его возвели в рыцари ордена Подвязки и назначили лордом главным адмиралом. Екатерина очень обрадовалась за Тома. Такие почести наверняка дадут ему ощущение своей значимости, и он станет еще более приемлемой партией для нее, если до сих пор заинтересован в этом. Она постаралась не впадать в уныние. — Сомневаюсь, что ему придется часто вступать в дело, — говорил меж тем Уилл. — Похоже, протектор решил завалить его делами в Совете. Они не ладят, эти двое. Я вижу, как между ним разгорается зависть. — Герберт станет одним из опекунов короля, — подала голос Анна. — Прекрасная новость, — отозвалась Екатерина. — Через него мы сможем держать связь с Эдуардом и поддерживать его. — Если тебе повезет. — Уилл пожал плечами. — Герберту даны строгие указания тщательно отслеживать все его контакты. — Есть способы обойти это. — Екатерина улыбнулась. Тут двери распахнулись, и церемониймейстер возвестил о приходе нового лорда Сеймура. Екатерина ощутила жар на щеках и понадеялась, что никто не заметил ее волнения. — Ваша милость. — Том отвесил ей поклон, и она снова поймала на себе его горящий взгляд. — Присоединяйтесь к нам, — сказала Екатерина, указывая ему место на скамье, где сидел Уилл. — Я рад, что застал вас здесь, — обратился к нему Том. — Вы были на заседании Совета и видели, как обходится со мной мой брат. Екатерина заметила, что он кипит от возмущения. — Кейт, простите, что я ворвался к вам в таком состоянии, но ваши покои — единственное место при дворе, где можно найти хоть немного здравомыслия, — обратился он к ней. — Что случилось? — спросила Екатерина, сверх меры обрадованная его приходом. — Нэд дал мне ясно понять, что не собирается делиться властью. Но я тоже дядя короля! У меня есть право иметь голос в управлении страной. Мне не нравится, что делает Нэд. Он назначил себя лордом-протектором, когда власть должна быть у правящего совета. Сделал себя герцогом, а меня — жалким бароном, получающим треть его доходов. Это нужно прекратить! — И кто это сделает? — поинтересовался Уилл. — Я! — горячо воскликнул Том. — Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сместить его. И если это окажется невозможным, потребую, чтобы он поделился властью. Король Генрих не предполагал, что один человек будет держать под контролем и короля, и все королевство. — Вот именно, — поддержала его Екатерина, — он планировал, что править будет одна женщина — я. Если кому-нибудь и хочется увидеть герцога поверженным, так это мне. Но я удовольствуюсь разделением власти, как хотел мой покойный супруг. С чего вы начнете? — Я займусь тем, — горячился Том, — что просмотрю все книги и документы, какие смогу раздобыть, чтобы узнать, имелись ли в прошлом прецеденты совместного регентства, и постараюсь привлечь на свою сторону короля. Я его любимый дядюшка. Нэда он ненавидит. И я придумал способ, как заручиться поддержкой Эдуарда. — И какой же? — спросил Уилл. — Подождите — увидите! — сверкая взглядом, ответил Том. — Знаю, вы скептик, но дело верное.
Когда в тот вечер Том ушел вместе с Уиллом, отвесив Екатерине весьма официальный поклон, она снова задумалась о том, как он к ней относится? Пришел ли сюда только потому, что хотел заручиться ее поддержкой в политических интригах? На следующее утро Том появился вновь и спросил: — Могу ли я поговорить с вашей милостью приватно? — А потом, видя, что дамы не сводят с него глаз — и неудивительно, ведь он был чертовски хорош собой, — добавил: — По делу, имеющему отношение к королю. Екатерина отвела его в свой кабинет и села; сердце у нее колотилось. Как и накануне, Том занял место напротив. — Я хотел поделиться с вами своим планом без посторонних. Они до сих пор хотят женить короля на королеве шотландцев, но это лишь послужит поводом к продолжению войны, которую мы едва ли можем себе позволить. Королевство разорено, Кейт. — (Для нее это не было сюрпризом, так как Генрих тратил деньги без счета.) — Нам лучше забыть о брачном союзе с шотландцами. Я нашел более выгодный — с кузиной короля, леди Джейн Грей, которая очень близка ему и благодаря своей образованности, и в смысле религии. Леди Джейн Грей? Екатерина почти ничего не знала о ней. Ее родителями были недавно получившие титулы герцог и герцогиня Саффолк, дочь покойного герцога от первого брака с сестрой Генриха Марией, вдовствующей королевой Франции. — Это подходящий брак для короля, — добавил Том, вероятно заметив колебания Екатерины. — Он горячий сторонник реформ, в шаге от того, чтобы обратиться в протестанта. Страна пойдет по этому пути, Кейт. Скоро люди вроде нас смогут открыто исповедовать свою веру. Екатерина втянула ноздрями воздух. До Царства Божьего на земле рукой подать. Вот ответ на ее молитвы. — Лучшей новости вы не могли мне сообщить. — Сказав так, Екатерина поняла, что выдала себя. Том улыбнулся: — Было ясно, к чему склоняется ваше сердце, Кейт. Не беспокойтесь, мы все теперь выходим из тени. И это довольно безопасно. Джейн вообще ревностная протестантка, я уверен. Она четвертая в очереди на престол и по возрасту близка к королю. Я не сомневаюсь, что Эдуард предпочтет ее невесте-католичке вроде королевы шотландцев. Я хорошо его знаю. И могу настроить соответственно. Он будет мне за это благодарен, и тогда мы увидим, как самодовольная улыбка сойдет с физиономии моего братца. — Том вскочил и размашистым шагом подошел к окну, давая выход эмоциям. — Я собираюсь взять леди Джейн под опеку. Ее отец не станет возражать. Он амбициозен и будет без ума от радости, если его дочь сделается королевой. Сегодня я отправлю к нему своего человека, Джона Харингтона. Екатерина силилась не выказать сомнений. Она не понимала, что может дать королю леди Джейн в противовес королевству Шотландия. К тому же Эдуард рос в убеждении, что его невеста — королева шотландцев. — Вы дадите мне знать, как пройдет встреча? — сказала она, вставая. — Конечно, — пообещал Том, потом замялся. — Кейт, мне очень приятно наконец видеть вас и иметь возможность беседовать с вами. Уилл говорил, что вас сильно расстроила кончина короля. Вы действительно были счастливы с ним? Вот почему он отдалился от нее? — Да. Он был мне верным другом и добрым супругом. Я скучаю по нему. Том шагнул к ней: — Но вы не любили его? Согласиться с этим означало предать Генриха, и все же инстинкты подталкивали ее сделать это. — Мы относились друг к другу с большой теплотой. Том взял ее за руку, глаза его горели. — В любви есть нечто большее, чем теплота, Кейт. Любовь — это ощущение, что в тебе пылает огонь, когда человек, которого ты желаешь, находится рядом. — Он крепче сжал ее руку. — Любовь — ожидание, когда этот человек станет твоим. Прошло столько времени — Боже, так много! — и не было дня, чтобы я не думал о вас. Слова его нашли отклик в ее душе. — О Том, вы думаете, я не чувствовала того же? И Екатерина без колебаний позволила ему заключить себя в объятия. Она так хотела его, так нуждалась в нем. Губы Тома нашли ее губы, и Екатерина растворилась в этом мгновении. Ей хотелось, чтобы оно длилось вечно. Никогда еще она не испытывала подобных ощущений ни с одним мужчиной. Екатерина прижалась к Тому, отчаянно желая слиться с ним, сохранить это чувство навсегда. Вот что такое быть влюбленной, а не просто любить. Прекращение поцелуя ощущалось как утрата. Они посмотрели друг на друга и вдруг заулыбались, оба. — Не думал я, что встречу такой теплый прием! — с усмешкой проговорил Том. — Вы не представляете, как бьется мое сердце под этим мерзким вдовьим нарядом при встречах с вами, — призналась Екатерина. — Только что вы вывели меня из печали к чистейшей радости. — А вы сделали меня счастливейшим человеком на земле. — Он наклонился и еще раз поцеловал ее. Екатерина готова была снова растаять в его объятиях, но понимала, что им нельзя долго оставаться наедине. — Вам нужно идти и отыскать мистера Харингтона, — сказала она. — Возвращайтесь ко мне позже. — Буду считать минуты до нашей встречи, — ответил Том и послал ей перед уходом воздушный поцелуй. Екатерина села и попыталась унять расходившееся сердце. Вот о чем она мечтала почти четыре года, а теперь счастье так близко — только руку протяни. Осталось дождаться окончания траура.
Днем Том снова вернулся к ней, и они пошли гулять по ее личному саду. Дамы держались на приличном расстоянии. Екатерина не посмела отослать их. Две приватные встречи за один день дали бы почву для сплетен, к тому же по контрасту с утренним воодушевлением Том был мрачновато-задумчивым. — Саффолк отмахнулся от меня, — проговорил он, — спросил, с какой стати я вознамерился устраивать брак короля и, если у меня есть на это право, кто будет заботиться о Джейн, когда сам я не женат. — Том искоса глянул на Екатерину, и она уловила смысл этого взгляда: все станет гораздо проще, если она выйдет за него замуж. Но было еще слишком рано, слишком рано. — Но я не приму «нет» за окончательный ответ, — продолжил Том. — Собираюсь пригласить герцога на личную встречу, чтобы обсудить это дело, и скажу ему, что Джейн может жить в Сеймур-Плейсе с моей матерью. Если только… — Если — что? — спросила Екатерина, теряясь в догадках, что он имел в виду. — Ничего, — сказал Том.
Он сломил сопротивление Саффолка. Вернее, подкупил его. — Я предложил заплатить долги герцога, — сказал Том Екатерине, когда они гуляли по дворцовому саду; дамы, как и в прошлый раз, сохраняли дистанцию. — Так все решилось. Он продал мне опеку над Джейн. На следующей неделе ее привезут в Сеймур-Плейс. У Екатерины сжалось сердце от жалости к бедной девочке. Она понимала, как тяжело ей будет уехать от родных, от привычной жизни и попасть в чужой, незнакомый дом. — Приведите ее повидаться со мной. Мне будет приятно познакомиться с этой девушкой. — Вы познакомитесь, — пообещал Том. — А я клянусь быть любящим и заботливым опекуном. Она ни в чем не будет нуждаться. Теперь ему осталось только убедить короля жениться на леди Джейн. Екатерина продолжала с сомнением размышлять, осуществимо ли это?
Находясь в трауре, Екатерина не могла присутствовать на коронации Эдуарда, но некоторые из ее дам и слуг ходили смотреть на процессию, проходившую через Лондонский Сити, и Уилл с Томом, оба в парадных мантиях, явились к ней позднее и описали церемонию, состоявшуюся в Вестминстерском аббатстве. Она не могла оторвать глаз от Тома, который стоял перед ней в алом бархатном платье и накидке, зажав под мышкой венец. — Король выглядел великолепно в серебристо-белом наряде, — повествовал он. — На нем было столько украшений, что он весь сиял. — Люди восклицали: «Вот новый царь Соломон, явившийся покончить с идолопоклонством!» — добавил Уилл. — Он держался превосходно в продолжение всей церемонии, а она была долгой, — продолжил Том. — Это непростая задача для девятилетнего мальчика, но его милость выглядит старше своих лет. Когда в руки ему вложили мечи, символизирующие три его королевства — Англию, Ирландию и Францию, он попросил четвертый — Библию, которую назвал мечом духа, сказав, что предпочитает ее другим. Мне в жизни не забыть выражения экзальтации на его лице в момент, когда архиепископ Кранмер возложил ему на голову корону. Воистину, это будет великий король. — И любящий Евангелие, — добавил Уилл. — Он наш Иосия, мальчик-король Израиля, который принес истинную религию своим людям. Кэтрин, у нас есть повод отпраздновать этот день! — А теперь мы с сожалением должны покинуть вас, чтобы подготовиться к завтрашним турнирам, — сказал Том. — Надеюсь скоро увидеться с вашей милостью. Его глаза говорили Екатерине то, что она хотела услышать, и ей пришлось отвести взгляд, чтобы не выдать себя. Но Тому, казалось, было все нипочем. Ей нравилась эта его отчаянность.
После коронации двор переехал в Уайтхолл, и Екатерина осталась в Гринвиче только со своими придворными. Она наслаждалась опустившейся на дворец тишиной и с удовольствием бродила по пустым комнатам и галереям. На душе у нее было спокойно, и она радовалась, что может на досуге без спешки спланировать переезд. Распоряжения о подготовке для нее дворца в Челси уже были отданы. Том мог приезжать и навещать ее в Гринвиче, никем не замеченный, проникая к ней через галерею, тянувшуюся прямо вдоль берега Темзы. Огромный пустой дворец стал местом их свиданий, и в ту неделю после коронации они наслаждались прекрасными моментами в покинутых придворными комнатах. Когда они не обнимали друг друга, отдаваясь на волю чувств, то сидели и разговаривали часами. Никто не задавал Екатерине вопросов по поводу ее долгих отлучек из покоев. Она ясно дала понять дамам, что ей нужно уединение. Том оказался пылким поклонником. Не раз Екатерине приходилось одергивать его, когда он терял контроль над собой. — Но я без ума от вас! — тяжело дыша, говорил он. Таким было его оправдание. Екатерина не могла сердиться. Она и сама желала физической близости с ним. Однажды в конце февраля Том вдруг опустился перед ней на одно колено: — Выходите за меня замуж, Кейт! Я люблю вас, вам это давно известно. Будьте моей женой! Он смотрел на нее так повелительно, что она не могла устоять. Вся ее решимость не подпускать его к себе, пока со смерти Генриха не пройдет хотя бы полгода, разлетелась в прах. Она так хотела Тома! Готова была ждать осуществления их любви, но сейчас нужно объясниться, чтобы между ними возникло полное понимание. — Да! — ответила Екатерина. — Конечно, я выйду за вас! — Она наклонилась и поцеловала его. — О мой дорогой! — Слава Богу! — воскликнул Том и прижал ее к себе. — Когда мы сможем пожениться? — спросил он, прервав поцелуй. — Когда закончится траур. — Но он будет продолжаться год, а я хочу вас сейчас! — в ужасе отпрянув от нее, воскликнул Том. — Мой милый, король умер меньше месяца назад, — возразила Екатерина. — Я не должна даже обсуждать возможность нового замужества так скоро. — Мы могли бы пожениться тайно, — стоял на своем Том. — Ни вы, ни я не молодеем. Мне уже за сорок. Зачем нам ждать? Мы можем ни на кого не оглядываться, и у вас нет обязательств ни перед кем. — За исключением общепринятых правил приличия, — упорствовала Екатерина. — Том, мы должны подождать. Я не могу выйти за вас сейчас без ущерба для своей чести. Это будет неуважением к памяти Генриха. Но ее беспокоило и кое-что еще. Что подумают люди о королеве, вышедшей за простого барона? Не начнутся ли пересуды, мол, она уронила достоинство, не соблюла свою честь? Еще сильнее они с Томом навредят своей репутации, если, презрев условности, поженятся до того, как она выйдет из траура. А впрочем, какое ей дело до этого? — Дайте мне время подумать, — сказала Екатерина. — Не держите меня слишком долго в подвешенном состоянии, — попросил Том, снова прильнув к ее губам. — Я страдаю от желания обладать вами. — Вам придется подождать, — игриво отозвалась Екатерина, целуя его в ответ.
Когда стемнело и настало время расставаться, Екатерина прошла вместе с Томом по пустому дворцу. — Король всем сердцем принял протестантскую веру, — сказал ей Том. — Хвала Господу! — ответила она. — Это то, о чем я всегда молилась. Может быть, Генрих хорошо понимал, что делает, когда выбирал наставников для Эдуарда. — Кто-то повлиял на мальчика в нужном направлении. Возможно, это были вы. — Он улыбнулся ей. — Мне приятно думать, что тут не обошлось без моего участия, — ответила Екатерина, беря его за руку. — Неудивительно, что он поддерживает королевское главенство над Церковью, — заметил Том, — но, кроме того, намерен утвердить новую религию и покончить со злоупотреблениями в Церкви. Англия станет раем для протестантов. Мой почтенный братец, да благословит его Господь, и архиепископ Кранмер создают протестантское правительство, и большинство из нас поддерживают их, хотя мне самому хотелось бы заниматься этим. — Ревность к Сомерсету всегда кипела в нем и то и дело вырывалась наружу. — Я тоже! Но хорошо, что реформы идут, кто бы ни отвечал за это. Открыто исповедовать нашу веру — это будет истинным благом. — Екатерина едва не пустила слезу от умиления. — Я смогу вернуть свои книги. Мой дядя спрятал их куда-то. Теперь я смогу читать их без боязни. Том, вы не представляете, какой это был ужас, когда Гардинер устраивал свои чистки. Я жила в постоянном страхе, людей отправляли на костер. Я благодарю Господа, что наш юный король и его министры столь просвещены. — Это будет новый мир, — сказал Том, останавливаясь на причале, чтобы обнять ее. — И брак увенчает нашу радость.
 Глава 25
1547 год
Глава 25
1547 год
Каждую ночь Екатерина лежала без сна, спрашивая себя, почему бы ей не использовать свой шанс на счастливую жизнь, пока она еще достаточно молода, чтобы получить все сполна. Еще год, и, может статься, матерью ей уже не бывать. Кроме того, Екатерина не знала, как ей столько времени сдерживать свое желание быть с Томом, и понимала, что это едва ли удастся. Святой Павел хорошо сказал: «Лучше вступить в брак, чем сгореть». И лучше выйти замуж, чем породить скандал. Он в любом случае разразится, но, конечно, какое-то время можно будет держать замужество в тайне. Об их свиданиях тоже никто не знал, даже Анна и Уилл.
Всякий раз, встречаясь с Томом, Екатерина поражалась его очарованию и мужской зрелости. Они оба в каком-то смысле были изгоями в мире, где жили, избыточно требовательном. Вступив в союз, они могли бы поддерживать друг друга.
В конце концов искушение оказалось непреодолимым. Все ее благочестие, ученость и присущее ей здравомыслие не смогли противостоять огню бушевавшего в крови желания. И она ухватилась за свой шанс. Когда Том в очередной раз приехал в Гринвич и спросил, приняла ли Екатерина решение, она не ответила ему, что все еще размышляет, а сказала:
— Я выйду за вас сейчас, — и сердце у нее запело.
Том издал оглушительный клич радости, ей даже пришлось зажать ему рот ладонью.
— В этих залах сильное эхо, — наставительно сказала Екатерина. — Вдруг кто-нибудь решит, что сюда пробрался посторонний, и обнаружит нас. Нам это ни к чему.
— О Кейт, моя дорогая, моя Кейт, — выдохнул Том, прижимая ее к себе. — Я и не подозревал, что можно быть таким счастливым.
— И я, — согласилась она. — Это наша награда за то, что мы ставили интересы других выше собственных. Но мы должны пока держать наш брак в секрете. Со смерти Генриха прошло всего пять недель, а я ни разу не слышала, чтобы вдова выходила замуж так скоро. Разразится ужасный скандал, поэтому никто не должен знать, что мы стали супругами.
— Разумеется. — Том выглядел немного расстроенным. — Я понимаю это.
— Когда я перееду в Челси, нам станет легче. Двор у меня там будет не такой многочисленный, и мне проще будет уединяться. Но, Том, как же мы поженимся?
— Я подумал об этом. Конечно, объявления о браке не будет, это исключено. Я мог бы обратиться за особым разрешением к архиепископу Кранмеру, но сомневаюсь, что тот умолчит об этом. Он крепко заодно с Нэдом.
— Так что же нам делать? — в тревоге спросила Екатерина.
— Все просто. — Том улыбнулся. — Мы дадим друг другу слово, в идеале — при свидетелях, я преподнесу вам памятный подарок — кольцо или украшение, и мы скрепим наш брак на супружеском ложе. Это считается законным.
— Но нам нужно благословение Церкви. — Екатерина сознавала, что для некоторых людей, особенно низкого происхождения, то, о чем говорил Том, в порядке вещей, но те, кто, как она, имеет деньги, собственность, титул и положение в обществе, устраивают браки в церквах или домашних часовнях.
— Это вполне законно, — повторил Том. — Религиозную церемонию мы устроим позже, если вы захотите. Кейт, это единственный способ. Уверяю вас, наш брак в этом случае будет считаться полноценным с точки зрения закона.
— Я понимаю. Но мне грустно, что мы не можем устроить настоящую свадьбу. Хотя важнее помнить о главном. — Она улыбнулась ему. — А главное, что мы станем мужем и женой. Я могу попросить Уилла и Анну быть свидетелями.
— Нет, дорогая, — сказал Том. — Вдруг они посчитают своим долгом сообщить об этом Совету. Лучше пригласить кого-нибудь, кто не связан с двором. Предоставьте это мне.
Екатерина невольно подумала, что все это выглядит немного неприлично. Но что им оставалось?
Через несколько дней Елизавета вместе с наставниками и слугами прибыла к Екатерине в Гринвич, чтобы готовиться к переезду в Челси. Мария не появилась, хотя тоже должна была отправиться с ними. Екатерина догадывалась почему. Вероятно, Мария узнала, что Эдуард обратился в протестантство, а это для нее было анафемой, так как она всегда строго держалась веры, привитой ей в детстве матерью. Если она не приветствовала реформы своего отца, то теперь, вероятно, совсем опечалилась. Екатерина пожалела свою падчерицу и понадеялась, что Мария не избегает ее общества намеренно. Они так сблизились, было бы грустно потерять эту дружбу. Если Мария все-таки приедет в Челси, нужно вести себя очень тактично, чтобы не задеть ее религиозные чувства. И не только. Екатерина беспокоилась, как бы падчерицы не узнали о ее отношениях с Томом. Они наверняка расценят поспешное новое замужество мачехи как оскорбление памяти отца. Их присутствие в Челси повлечет за собой необходимость соблюдать строжайшую секретность. Иногда Екатерина задумывалась, не лучше ли ей отложить свадьбу, но, остановившись в преддверии рая, не могла ждать дольше. Елизавета приехала к ней от короля и была совсем невеселой, когда села за устроенный Екатериной приветственный обед, который подали в ее личных покоях. — Мало того что я потеряла своего добрейшего отца, — печально проговорила Елизавета, — но, похоже, я осталась и без брата. Матушка, он теперь не такой, как раньше. Совсем чужой. А мы ведь с ним были по-настоящему близки до самой смерти отца. Вы можете поверить, что вчера мне пришлось пять раз припадать на одно колено, пока я подходила к трону, а потом меня отвели на скамью в другом конце зала. При отце такого никогда не бывало. Он вставал с трона и обнимал меня. Но Эдуард… Я не понимаю, что с ним случилось. Я уехала оттуда с чувством, что мне больше нет места при дворе. — На глазах у Елизаветы заблестели слезы. Екатерина потянулась к ней и взяла за руку. Она знала, как сильно любила брата Елизавета. Эдуард называл ее «милая сестра Умеренность». — Думаю, в этом нужно винить скорее тех, кто его окружает, чем самого Эдуарда. Ему, вероятно, изо дня в день и каждый час твердят, что он король, а значит, от него ждут того-то и того-то. Он еще ребенок и, вероятно, очень старается делать все правильно. Дайте ему время освоиться с новой ролью. Елизавета фыркнула: — Я дам. За едой Екатерина, как могла, старалась поднять настроение своей падчерице рассказами о Челси и о том, какую веселую и беззаботную жизнь они будут там вести. Через некоторое время Елизавета заразилась ее энтузиазмом и повеселела. Екатерина обратила внимание, как подросла девочка с момента их последней встречи. Ей уже исполнилось тринадцать. Ее фигура начала принимать женственные формы, а в одежде проявлялся изысканный вкус и интерес к моде. Платье из розового дамаста было скроено просто, но элегантно, и украшения к нему девушка подобрала безупречно по стилю. Волосы под французским капором были разделены на прямой пробор, и Екатерина заметила, что Елизавета завела себе привычку изящно складывать тонкие длинные руки, что производило хорошее впечатление. Девушка манерничала и явно отличалась изрядным самолюбием, но при этом вовсе не была красавицей: довольно милое лицо портил римский нос, унаследованный от Генриха, а глаза наверняка достались ей от Анны Болейн. Как добиваться с их помощью нужного эффекта, Елизавета уже знала. Настанет время, когда Екатерине придется строго присматривать за свой падчерицей!
Том был по горло занят делами Совета в Уайтхолле и затеянными в Сеймур-Плейсе перестройками. Его невесте полагается только самое лучшее, сказал он Кэтрин. Так как у нее жила Елизавета, которой часто хотелось как-нибудь развлечься, Екатерине иногда было трудно ускользнуть от нее для встречи с Томом. Она даже начала жалеть, что предложила падчерице поехать с ней в Челси, но теперь брать назад приглашение было поздно. Кроме того, Екатерина искренне полюбила эту девочку и хотела заботиться о ней. Однажды вечером в начале марта Том попросил Екатерину завтра отправиться вместе с ним в Сеймур-Плейс. — Все готово, — сказал он. — Мы можем пожениться там. Моя мать и ее горничная выступят в роли свидетельниц. Не волнуйтесь, Кейт. Я взял с них клятву хранить тайну и уверен, что они не проговорятся. Моя почтенная матушка, как вы можете догадаться, абсолютно счастлива. Вот и настал момент, которого Екатерина ждала так долго. Она трепетала от восторга, какого не испытывала уже долгие годы. — Нам не потребуется много времени, — сказал Том и закружил ее. — Ваши дамы даже не заметят, что вы покидали дворец. — А Елизавета занята каким-то переводом, который весьма кстати поручил ей Гриндал. — Екатерина захохотала.
На следующее утро, опустив на лицо капюшон накидки, надетой поверх элегантного черного бархатного платья и расшитого по краю жемчугом берета с пером — этот костюм сменил вдовий траур, — Екатерина быстро прошла к причалу, где ее ждала барка без опознавательных знаков. — Я нанял ее в одной из ливрейных компаний[169], — признался Том, когда Екатерина вступила на борт и он проводил ее в каюту. — Эту лодку используют во время парадов. К счастью, сейчас с нее сняты все украшения. Гребцы ударили в весла, и скоро барка уже скользила по Темзе. Они смотрели, как приближается Лондон, проехали мимо Сити и остановились у пристани ниже Темпла. Потом прошли через заросший сад — Том сказал, что планирует заняться им, — к большому особняку. Внутри Екатерине ударил в нос запах свежей краски, повсюду стояли стремянки, и мебель была накрыта тканью от пыли. — Моя мать и леди Джейн живут в другом крыле, — объяснил Том. — Подождите, скоро вы увидите главные жилые покои. Но это мы оставим до другого дня, когда работы в них завершат. Том провел Екатерину вверх по лестнице, а затем по галерее в часовню с написанными на стенах библейскими сценами и алтарем, в котором стоял один только украшенный самоцветами крест. — Я бы убрал и его, — сказал Том, — но матушка настаивает, чтобы крест остался! — Я не имею особых возражений, — сказала ему Екатерина. — Нэд считает распятия идолопоклонством, — продолжил Том. — Еще одна причина сохранить его! Екатерина внутренне поморщилась от такого кощунства. Тут дверь открылась, и вошла полная матрона лет шестидесяти, а следом за ней — молодая женщина. Вдовствующая леди Сеймур имела добродушное лицо и была одета по моде, давно оставшейся в прошлом: в платье с лифом, доходившим до пояса, вместо того чтобы сходиться конусом ниже его, и в гейбле. Она сделала низкий реверанс перед Екатериной. — Ну что вы, леди Сеймур! — воскликнула та, поднимая ее. — Это я должна оказывать вам почести как своей новой матери. — Благослови Господь вашу милость, — ответила ей старая женщина. — Позвольте мне обнять вас. Екатерина оказалась прижатой к пышной груди, от которой пахло розовым маслом. — Мы вам очень рады, — сказала ей леди Сеймур. — Том, ты сделал мудрый выбор. Тебе очень повезло! Он смутился: — Благодарю вас, матушка. Начнем? Том взял Екатерину за руку и встал с нею перед алтарем. — Я, Томас, беру тебя, Кэтрин, в законные жены и даю тебе в том клятву верности. Екатерина смотрела ему прямо в глаза, произнося свой обет. Затем Том надел ей на палец кольцо с крупным рубином. Конечно, она не сможет носить его открыто, но повесит на цепочку и скроет под лифом. — Теперь мы муж и жена перед Богом, — сказал Том; глаза его светились теплотой, отчего Екатерина исполнилась счастья. — И мы получим благословение Церкви, когда придет время. — Поздравляю и благословляю вас обоих, дети мои! — проговорила леди Сеймур, а ее горничная с улыбкой смотрела на них. — Пусть вам сопутствует счастье. Они сели и немного поговорили, так как было бы некрасиво сразу оставить леди Сеймур, хотя Екатерина понимала, что не может отлучаться из дворца слишком надолго. — Как поживает мой внук-король? — спросила пожилая леди. — Он здоров, насколько я знаю, — ответил ей Том. — Я никогда его невидела, — задумчиво проговорила его мать. — Если бы Джейн была жива, все было бы иначе, я уверена. Она была такой милой девочкой, мадам, моя маленькая помощница, и король обожал ее. Ох… — Леди Сеймур покраснела. — Простите меня, моя дорогая. Как же я бестактна! Екатерина улыбнулась: — Я прекрасно знала, что думал о ней его милость, и никогда не завидовала этому. Том спросил о своих сестрах. — С ними все хорошо, — ответила ему мать, — и я вижусь с ними время от времени. А вот Нэд никогда не приезжает. — Он очень занят, — сказал ей Том. — Но ему нужно приехать. Вы совсем недалеко, за рекой. Я поговорю с ним. — Том, — произнесла леди Сеймур, останавливая его жестом руки, — я хочу, чтобы он приехал сам. Не стоит давить на него, — и добавила оживленным голосом: — Вы останетесь обедать? У нас есть отличный весенний ягненок. — Я бы с удовольствием, леди Сеймур, но мне нужно возвращаться, — с сожалением отказалась Екатерина. — Может быть, я смогу заглянуть к вам вскоре. Или вы навестите меня в Гринвиче или Челси и привезете с собой леди Джейн. Лицо свекрови засияло. — С удовольствием, моя дорогая. И прошу вас, зовите меня матушкой. — Хорошо, матушка, — ответила Екатерина, — если вы будете звать меня Кейт. После долгих объятий и поцелуев — Екатерина сразу полюбила леди Сеймур — они с Томом уехали в Гринвич и в каюте сидели, держась за руки. — Не могу поверить, что мы это сделали! — воскликнул Том, звонко целуя Екатерину. — Если новость распространится, и пускай, — сказала она, думая, что чувствовать себя более счастливой, чем в этот момент, просто невозможно. И не важно, что у нее не было традиционной свадьбы с друзьями, родственниками и бросанием чулок; главное — их союз скреплен. А вынужденные уловки только придавали пикантности ситуации. — Если вашему брату и его жене это не понравится, что они смогут поделать, — сказала она своему новому супругу. — С ним легко можно было бы уладить дело, если бы не она. — Том фыркнул. — Она им командует. Ох, как она разозлится, узнав, что жена презренного младшего брата мужа превосходит ее по статусу. — Меня она тоже не жалует, — сказала Екатерина. — Считает, что я выскочка. По ее мнению, я ничем не лучше ее. — А по-моему, так вы несравненно лучше! — воскликнул Том, и потом Екатерина оказалась в его объятиях и целовала его так самозабвенно, что с головы у нее слетел капор. Слава Богу, они закрыли двери, и гребцы не могли их видеть. А то пошли бы насмарку все меры предосторожности, которые она с таким старанием предпринимала. — Что мы теперь будем делать? — спросила Екатерина. Она предполагала, что Том отложит их бракосочетание до ее переезда в Челси, когда ему будет легче тайно приходить к ней по ночам, и вчера вечером, когда он обрушил на нее новость о свадьбе, была немало удивлена, хотя ей самой не терпелось улучить подходящий момент. — Не беспокойтесь, дорогая, — ответил Том, — я занял апартаменты, предназначенные для придворных, в Гринвиче, одни из лучших. Они находятся далеко от ваших покоев, и там мы сможем уединиться. Никто нас не найдет. Сердце у Екатерины радостно затрепетало, тело исполнилось нетерпения. — Но мне трудно будет выбраться из своих покоев ночью. Одна из женщин всегда спит в моей комнате, а другая — на соломенном тюфяке за дверью. — Тогда мы пойдем ко мне прямо сейчас, — заявил Том, и глаза его превратились в темные озера страсти.
Это были две обычные комнаты с уборной. Том застелил бельем и покрывалом — не слишком аккуратно — пуховую перину. Кроме маленького буфета и пары стульев, другой мебели здесь не имелось. Окна выходили в пустой ныне двор — такой тихий, что можно было услышать падение булавки на булыжник. Какой контраст с теми роскошными апартаментами, где провел с ней первую ночь Генрих, но это место показалось Екатерине раем. И стало раем, где новый супруг обладал ею посреди бела дня, пробудил в ней чувства, каких она до сих пор не знала, и унес в те отдаленные края, которые выходят за пределы земной жизни. Мир сузился до размеров этой комнаты, где они были вдвоем; остальное перестало существовать для Екатерины. Не было никакой неловкости или скованности. Они сливались воедино и двигались так, словно были созданы друг для друга. Екатерина никогда еще не чувствовала себя такой живой, такой совершенной.
— Как жаль, что мы должны жить отдельно, — сказала она, когда Том помогал ей одеваться, умелыми пальцами шнуруя киртл. Он явно имел опыт в обращении с женщинами, и что с того? Екатерина едва ли ожидала от Тома иного в его-то возрасте, да и сама она не была новичком в любовных делах, три раза побывав замужем. И тем не менее до сего дня она не имела такого искусного любовника, как Том. — Но пока так безопаснее, — добавила Екатерина. — Увы, хотя мне хотелось бы, чтобы было иначе, — сказал Том и потерся носом о ее шею. Екатерина повернулась к нему, надела накидку и подумала, что должна будет снова облачиться в ненавистный бесформенный черный балахон. После этого Том приходил каждый день, и они наслаждались украденными часами уединения в их скромном убежище для тайных свиданий. Остальное время Екатерина гуляла в расцветающих дворцовых садах со своими дамами и продолжала приводить дела в порядок; иногда звала музыкантов, чтобы развлечь себя и двор. Мария приехала к ней в Гринвич. Она была сильно расстроена смертью отца, и они беседовали до позднего вечера, вспоминая Генриха и заглядывая в будущее. Мария хотела отправиться в Челси; ей нужна компания, и она поможет Елизавете с учебой. Екатерина ненавидела себя за мысли, что Мария создаст ей дополнительные проблемы. Ее падчерица явно нуждалась в утешении и поддержке, но это еще одна пара глаз, которые смогут увидеть то, что должно оставаться скрытым, к тому же Елизавета, уже превратившаяся в юную леди, восставала против попыток старшей сестры по-матерински наставлять ее. — Она с каждым днем все больше походит на Анну Болейн, — пробормотала Мария, когда они наблюдали, как Елизавета демонстрирует дамам свои успехи в танцах. — Вы заметили, какие кокетливые взгляды бросает она на мужчин? — Девочка просто взрослеет, — тихонько ответила Екатерина. — Жизнь была сурова к ней, поэтому она подкрепляет уверенность в себе суетными пустяками. Я слежу за ней, не беспокойтесь. — Просто мне не хочется, чтобы она стала такой же, как ее мать. Я люблю Елизавету, вы знаете, хотя она и не сестра мне. Екатерина вздохнула и мягко проговорила: — Мария, всем видно, что это не так. — Ну, мне это не заметно, — обиженно возразила Мария. — И я никогда в это не поверю. Екатерина покачала головой. Такой убежденности ей нечего было противопоставить. А делать из Марии врага она не хотела.
Однажды ясным весенним днем Екатерина вместе с падчерицами села в барку и отправилась в Уайтхолл, надеясь увидеться с королем. Однако только они прибыли во дворец, как дорогу им преградил сэр Уильям Паджет, один из советников Эдуарда. — О мадам, если бы вы заранее предупредили нас о вашем визите! Его величество сегодня принимает послов. Я бы предложил вам вернуться в это же время в четверг. Екатерина согласилась, весьма раздосадованная. Она опасалась, что получит отказ, если сообщит о своем приезде, потому и явилась без предупреждения. Но до четверга можно и подождать. Они с принцессами жаждали увидеть Эдуарда. Екатерине хотелось удостовериться, что он доволен жизнью.
В четверг они вернулись в Уайтхолл и снова наткнулись на Паджета. — Ваше величество, мне очень жаль. Его милость занят неотложными государственными делами. Он проведет в Совете весь день. Екатерина рассердилась: — Когда мы можем его увидеть? — Ну, мадам, не всегда легко предсказать, что потребует внимания короля и займет его время. Давайте договоримся, что я пришлю к вам гонца с извещением, когда его величество сможет дать вам аудиенцию. «Чего мы не дождемся», — подумала Екатерина, и снова в ней закипел гнев. — Сэр Уильям, мачехи и сестры обычно не нуждаются в аудиенциях. Мы родственницы короля, и он наверняка захочет нас увидеть. Может быть, он и король, но он еще мальчик, потерявший отца и нуждающийся в утешении. Мария и Елизавета с восхищением смотрели на нее. Сэру Уильяму стало неловко. — Уверяю вас, мадам, что все потребности его милости удовлетворяются. — Мужчинами, — сказала Екатерина, — которые не всегда способны понять то, что относится к эмоциональным состояниям. Ребенку в его возрасте нужны мать и общество сестер. Мы с удовольствием подождем, пока его величество освободится, если вы будете так добры, что укажете нам, где можно посидеть. — Сегодня у него не будет свободного времени, мадам, — быстро проговорил Паджет. — Дела не могут ждать. Уверяю вас, я пришлю за вами. Что еще могла сделать Екатерина, кроме как устроить сцену и навредить делу? — Хорошо, — уступила она, не желая пререкаться с ним, — но я жду приглашения от вас в ближайшее время, — и с этим словами удалилась. Прошла неделя — ни гонца, ни вызова ко двору. Екатерина не верила, что они когда-нибудь появятся. Сердитая и раздосадованная, она поделилась своими чувствами с Томом, когда они лежали, обнявшись, после весьма энергичного любовного соития. — А чего вы ожидали? — пробормотал он. — Я говорил вам, любимая, его стерегут как узника. Не подпускают к нему никого, кто мог бы оказать на него влияние. Они вовсе не хотят, чтобы вы вложили в голову короля мысль, что есть лучшая альтернатива Нэду! — Я не собираюсь этого делать. Просто хочу быть ему матерью. — Увы, Кейт, они смотрят на это иначе. Думаете, миледи Сомерсет позволит вам влиять на короля? Забудьте об этом, дорогая, это безнадежное дело. — Он привлек ее к себе и снова начал жадно целовать, так что Екатерина забыла о своем недовольстве и растворилась в этом чудесном моменте.
К концу марта, когда все было готово, Екатерина и ее падчерицы со слезами на глазах попрощались с главными леди, которые служили им при дворе, и отправились в Челси. Анна уехала домой, в замок Байнард, чтобы родить там ребенка. Этот красивый дом на берегу Темзы был частью вдовьей доли наследства Екатерины, и она недавно подарила его Гербертам, которые были ей за это безмерно благодарны. Вынужденная разлука с сестрой и женщинами, которые стали ей подругами, печалила Екатерину, но содержать полный двор королевы было накладно, к тому же теперь ей не потребуется столько помощников. Она взяла в Челси двести слуг, всего-то; у принцесс были свои, и камеристки Екатерины везли с собой горничных. Даже при использовании под жилье помещений над конюшнями, в надворных строениях и коттеджах, всем им не хватит места в Челси, так что некоторым пристанища нашли на окрестных постоялых дворах, а две большие комнаты на первом этаже дворца переделали в общие спальни. При отъезде Екатерина получила короткую записку от короля и была тронута. «Прощайте, высокочтимая королева», — написал он, как будто расставался с ней навеки. Екатерина сделала мысленную пометку: писать ему каждую неделю. Челси — симпатичный небольшой дворец, выстроенный из красного кирпича, вообще-то, больше походил на усадебный дом, приютившийся в сельской местности около Темзы. Он имел два этажа в высоту и два внутренних двора. Генрих расширил его для Джейн Сеймур, инициалы и королевские знаки которой были здесь повсюду. Пусть остаются, решила Екатерина, в память о великой любви. Леди Сеймур это понравится. Больше всего новую хозяйку Челси привлекали прекрасные сады, которые только набирали цвет. Обнесенный стеной Большой сад находился со стороны Лондона, а ее личный — с запада и был окружен живой изгородью из бирючины, а также бордюрами из розмарина и лаванды. Там росли вишни, орешник, терносливы, персики, грецкие орехи, имелся пруд с рыбой. Летом, когда расцветут сотни кустов дамасских роз, он будет великолепен. Покои Екатерины выходили окнами на розовый сад на берегу Темзы. Пока слуги распаковывали вещи, Екатерина, Мария и Елизавета поднялись по главной лестнице и пошли осматривать дом: холл, приемные залы, личные покои и кабинеты, летнюю и зимнюю гостиные, спальни и маленькую часовню. Екатерина с удовольствием отметила, что все здесь находится в идеальном порядке; мебель расположили так, как она приказала, и в каждой комнате стояли свежие цветы. Тут имелась даже проточная вода, которую подавали по трубам от источника в деревушке Кенсингтон. Жаль, что все стены в комнатах по необходимости затянули черной тканью, и это еще на десять месяцев, но иначе нельзя. Все они издали восторженные возгласы, увидев роскошно обставленную летнюю спальню. Екатерина выбрала ее для себя; ей понравилось огромное эркерное окно с видом на сады — цветочный и фруктовый — с северной стороны дома. Потом сбежали вниз, чтобы осмотреть сводчатый подвал. — Я могу хранить здесь бочки с вином, — сказала Екатерина. — Тут страшно, — пролепетала Елизавета. — Ерунда, — возразила Мария. — Вам известно, чему учит Церковь. Привидений не существует. Елизавета скривилась: — И все равно тут страшно. Желая избежать ссоры, Екатерина быстро увела падчериц наверх. Там их ждала Кейт Эшли, чтобы забрать Елизавету в учебную комнату, где Гриндал уже готов был возобновить занятия. Екатерине нравилась миссис Эшли — душевная, образованная женщина, преданная своей воспитаннице, и Елизавета явно обожала ее. Екатерина знала, что на миссис Эшли можно положиться — она сделает все, как нужно. Постепенно привыкая к новому дому, Екатерина начала ощущать приятное умиротворение и свободу. Какая радость, что она могла жить, как ей нравится, и не соблюдать придворный этикет! Она теперь не была на виду весь день и могла уединяться, если ей этого хотелось. Когда о ее браке с Томом объявят во всеуслышание, жизнь здесь превратится в идиллию. В тот вечер Екатерина пошла прогуляться по саду. Том осмотрел дом неделю назад и сказал ей, что в ограде есть боковые ворота. Екатерина легко нашла их и оставила незапертыми, как предлагал Том. В такое время сюда никто не заглядывал. Садовники, окончив дневные труды, уже разошлись по домам или окрестным тавернам, а стражи в Челси не было. Приготовившись лечь в постель, Екатерина заявила своим камеристкам, что отныне желает спать одна. Дамы могут удалиться в свои комнаты, а девушки — в общую спальню. — Никто не будет надоедать мне здесь, — сказала она. — Я теперь не имею значения. Некоторые из женщин посмотрели на нее косо, но никто не стал спорить. Они тоже ценили возможность остаться в одиночестве, такую редкую во дворцах. Том появился, как только колокол на старой церкви по соседству пробил полночь. Он прокрался так тихо, что Екатерина подскочила от неожиданности, когда дверь спальни отворилась. — Пробраться сюда не составило труда, — сказал он, снимая накидку и торопясь забраться в постель, но попутно успев оглядеть роскошную комнату. — Что ж, тут красиво, но вы гораздо красивее. Том вошел в нее, даже не сняв одежды. Грубый дамаст гульфика терся о ее бедра, но ей было все равно. Она оказалась в другом мире — маленьком парадизе, который создала для них, а остальное не имело значения.
Минуло совсем немного времени, и Екатерина поняла, что при дворе пошли разговоры. Том предостерег ее. — Сегодня в Сент-Джеймсском парке я встретил миссис Эшли, — сообщил он, лежа в постели и опустошая посткоитальный кубок вина. — Да? — сонно отозвалась Екатерина. — Она сказала, что слышала, будто мы поженились. Сонливость мигом слетела с Екатерины. — Что вы ей ответили? — Ничего. Просто улыбнулся и пошел своей дорогой. Екатерина снова легла и задумалась. — Может быть, нас выследили в Гринвиче или Сеймур-Плейсе. — Даже если так, никто ничего не докажет. — Нет, но мне нужно заботиться о своей репутации. Том, мы должны соблюдать осторожность. Я не буду писать вам так часто. Они обменивались письмами почти ежедневно, даже когда виделись, но посылали все время разных гонцов. — Теперь вы будете получать мои письма раз в две недели, не чаще. Том неохотно согласился, что это мудро.
Женщины расхваливали нового малыша Анны. Эдвард действительно был очарователен — веселый и всем довольный, он выглядел очень мило в рубашечке и курточке из дамаста и бархата, которые купила ему Екатерина. Она понимала, что изливает на племянника любовь, не растраченную на собственных детей. Если Екатерина о чем и жалела, то о двух вещах: что не родила Генриху сына и что выходит из возраста, когда может стать матерью. Но Господь милостив, и время еще есть. Небесам известно, Том был неутомим в попытках зачать наследника! Уиллу удалось получить доступ к королю. Торжествуя, он рассказал Екатерине, что его милость, кажется, отнесся одобрительно к его просьбе о дозволении обратиться в парламент за разрешением на повторный брак, хотя и сказал, что ему нужно проконсультироваться с Советом. Екатерина провела в Челси неделю, когда Уилл нанес ей очередной визит. Она увидела его приближающуюся барку, случайно выглянув в окно, и поспешила на пристань встретить брата. По лицу Уилла она сразу поняла, что он в гневе и заехал к ней не просто повидаться. — Милорд протектор отказал мне в разрешении обратиться за разводом! — выпалил Уилл. — Сказал, что вынужден считаться со святостью уз брака. Ярость вскипела в груди Екатерины, когда она взяла брата под руку и пошла вместе с ним к дому. — Я догадываюсь, кто стоит за этим. — Герцогиня? — Не сомневаюсь в этом. Она ненавидит нас, Парров. Ей нравится пакостить нам. — Боюсь, ты права, — с тяжелым вздохом произнес Уилл. Они вошли в ее личные покои, и Екатерина налила им обоим вина. — Уилл, я хочу поддержать тебя. Пришли ко мне Лиззи. Она будет одной из моих камеристок, и ты сможешь навещать ее в любое время. Я хочу, чтобы протектор увидел: я одобряю этот брак. «Конечно, влияния у меня теперь немного, — подумала Екатерина, — но, если это досадит ему и рассердит Нан, тем лучше!» — Ты это здорово придумала, Кейт, — сказал Уилл, протягивая к ней свой кубок. — Я просто хочу, чтобы Лиззи осталась честной женщиной. Она так долго ждала. Не знаю, как сообщить ей эту новость. — Я постараюсь подбодрить ее. А ты продолжай давить на короля и Совет, чтобы твою просьбу удовлетворили. Пусть видят, что ты не сдаешься. Не принимай это как поражение, Уилл. — Ей-богу, я так и сделаю, — поклялся он. В результате Лиззи Брук приехала жить в Челси, и Екатерина не пожалела об этом; ей пришлась по душе эта темноволосая красавица с обворожительными манерами. Нелегко было Лиззи смириться с запретом выйти замуж за любимого человека, но Екатерина, как могла, старалась поддерживать ее и давать ей надежду на будущее.
Когда Том не был нужен в Совете, а это происходило все чаще, то проводил дни на охоте, а ночи — в объятиях Екатерины, но начинал уставать от всех этих уловок. — Мы не можем даже пообедать вместе, — жаловался он. — Отведите меня в таверну! — хихикая, ответила Екатерина и уютно прильнула к нему на их огромной постели. — Вы королева! Королевы не ходят по тавернам. — А эта пойдет. Я могу переодеться. — Она погладила пальцами волоски у него на груди. — Так близко к Лондону вас узнают. Серьезно, дорогая, нужно подумать о том, как объявить о нашем браке. Вся власть теперь у Нэда, черт бы его побрал! Он даже издал указ, что теперь может не прислушиваться к мнению Совета, если пожелает. Его власть абсолютна. — Это не входило в намерения короля Генриха, — сказала Екатерина, и ее веселость как рукой сняло. Лет десять назад Сеймуры были сельскими джентри, а теперь Нэд — герцог, изображающий из себя короля. — Все равно мы должны просить у него согласия на наш брак, не говоря ему, разумеется, что мы уже женаты, — сказал Том. — Не думаю, что Нэд или Совет одобрят его, — сказала Екатерина. — Нам нужно немного подождать, мы это уже обсуждали. Еще слишком рано. — Но слухи уже поползли, — напомнил ей Том. — По пути сюда сегодня вечером я встретил одного из слуг вашего брата. Он посмотрел на меня понимающим взглядом и сказал, что слышал, будто я частый гость в Челси. — Том на несколько мгновений задумался. — Вероятно, есть другой способ, как взяться за это дело. Я знаю, вы не любите Нан, но, может быть, стоит обратиться к ней и сыграть на ее тщеславии. — Что?! — воскликнула Екатерина. — Она последний человек, который нам поможет. — Знаю, Нан — гордячка и стерва, но я всегда ладил с ней. Думаю, я ей нравлюсь. — Разонравитесь, когда она узнает, что вы женились на мне. — Стоит попытаться. Я попрошу ее о встрече и попытаюсь очаровать. — Том шаловливо улыбнулся, в свете свечей он напоминал сатира. — Если она одобрит наш брак, Нэд тоже это сделает.
Следующим утром на заре Екатерина с дурными предчувствиями смотрела вслед Тому. Он уезжал в Уайтхолл встречаться с Нан, не поддавшись на уговоры не делать этого. Вечером он вернулся в подавленном настроении. Ничего удивительного. — Боже, эта женщина невыносима. Она королева во всем, кроме титула. Я спросил, не встретится ли она с вами, и она ответила, что несколько дней ее не будет при дворе, но она даст вам аудиенцию по возвращении. — Даст мне аудиенцию? — эхом повторила Екатерина. — Кем она себя возомнила? Королева — я, а не она. — Ее трясло от возмущения. Том покачал головой: — Я не стал продолжать разговор с ней. Сомневаюсь, что она нам поможет. Думаю, мне придется идти к Нэду, хотя я не знаю, как к нему подступиться, чтобы он поддержал меня в Совете. Сегодня я видел при дворе Герберта и сказал ему по секрету, что хотел бы жениться на вас, хотя еще не говорил с вами об этом. Он немного удивился и посоветовал мне обратиться к Нэду за согласием, прежде чем делать вам предложение. Обещал, что ничего не скажет вашей сестре. Так что, дорогая, я должен перепоясать чресла и подготовиться к тому, что мне размозжат голову. Завтра я снова поеду ко двору. Екатерина тревожилась. Вдруг Нэд откажет? Что, если существует какой-нибудь закон, по которому вдовствующая королева не имеет права выходить замуж без согласия Совета? Она начала опасаться, что они с Томом поступили опрометчиво.
На следующее утро была Пасха. Екатерина вместе с падчерицами завтракала в зимней гостиной и заметила, что Мария чем-то озабочена. Елизавета рассказывала, с каким удовольствием она читает Платона, а ее сестра никак на это не реагировала. — С вами все в порядке? — спросила Екатерина Марию. — Бывало лучше, — ответила та, как-то странно посмотрев на свою мачеху. Екатерина подумала, что у Марии опять проблемы с месячными и она не хочет привлекать к этому внимание. Каждый раз ее тревожили то задержки, то боли. Сочувственно улыбнувшись Марии, Екатерина наколола на вилку кусочек мяса и положила его на ломтик хлеба. Утром все собрались на мессу в часовне. Екатерина в тревоге следила за Марией, зная, что сегодня священник сделает важное объявление, которое для Екатерины было отрадной новостью, а для Марии хуже ничего и быть не могло. Разумеется, как только доктор Паркхёрст объявил, что отныне, по приказу короля, церковные службы будут проводиться на английском, а не на латыни и согласно протестантским обрядам, Мария встала и с рыданиями выбежала из часовни. Екатерина поспешила за ней и догнала ее на верхней площадке лестницы, заметив, что Мария успела надеть накидку. — Мне очень жаль, — сказала Екатерина, — я понимаю, что вы чувствуете. — Нет, вы не понимаете! — воскликнула Мария. — Это просто последняя капля. — Что вы имеете в виду? — недоуменно спросила Екатерина. — Вам лучше знать! — бросила ей Мария. — Я не останусь здесь, чтобы смотреть, как память моего отца так грубо оскверняют, или якшаться с еретиками. Сердце Екатерины упало. Мария сверкала на нее глазами. — Я не слепая и вижу, что сэр Томас Сеймур каждую ночь посещает этот дом. Я видела его из своего окна. Не могу поверить, что вы могли забыться настолько, чтобы принимать у себя другого мужчину так скоро после смерти короля. — Это не то, о чем вы думаете, — сказала Екатерина. — Мы женаты. — Женаты?! — В глазах у Марии застыл ужас. — Это едва ли не хуже блуда. Неужели вы не могли выждать положенное время? — Мария, я хочу иметь детей! — крикнула Екатерина, уязвленная ее попреками. — Я не могу ждать. Мне в августе будет тридцать пять. И я дала обещание сэру Томасу до того, как ваш отец начал ухаживать за мной. Я любила его, но отдала предпочтение высшему долгу. И я полюбила вашего отца. Я тоскую по нему, поверьте. — Вашему поведению нет оправдания, — прошипела Мария и, протиснувшись мимо Екатерины, стала спускаться по лестнице, созывая слуг и окликая капитана своей барки. Со слезами на глазах Екатерина пошла за ней и смотрела, как она шагает к причалу; каждая черточка ее фигуры выражала ярость. Все эти годы заботы об интересах Марии, любви к ней и попыток вернуть ей уверенность в себе — все насмарку. Возобновится ли когда-нибудь их так резко прерванная дружба, которая была важна для них обеих?
Через час Мария уехала. Екатерина продолжала расхаживать взад-вперед по гостиной, пытаясь успокоиться. Хорошо бы здесь сейчас был Том. Он смог бы ее утешить. Но его не будет еще долго. Екатерина заставила себя сесть в кресло у окна. Она напишет Марии, объяснится лучше и выразит уверенность, что когда та успокоится, то посмотрит на эту ситуацию более сочувственно. Екатерина обмакнула перо в чернильницу и тут увидела подходившую к причалу барку леди Сеймур. Екатерина слетела вниз по ступенькам, чтобы встретить свекровь. — Миледи, все ли в порядке? — спросила она, когда они обнялись. — Думаю, да, моя дорогая, — ответила леди Сеймур и передала Екатерине накрытую салфеткой корзинку. — Тут ватрушки с айвой, я испекла специально для вас. Кейт, Том просил меня приехать к вам и передать, что ему пришлось срочно отправиться на море. Какие-то пираты обосновались на островах Силли, и ему приказали прогнать их. Распоряжение пришло сегодня утром, и он сразу уехал туда. Сперва Мария, а теперь еще это. И как раз тогда, когда Том так нужен ей. Бог знает, сколько он будет отсутствовать. И ведь наверняка он не успел переговорить с Нэдом. А это дело не может ждать. Екатерина вздохнула. Может, оно и к лучшему, что их брак останется в тайне еще какое-то время. Если люди не начнут распускать сплетни… — Я уверена, леди Мария все поймет, — сказала леди Сеймур. — Молюсь, чтобы это произошло. Но теперь Том уехал, и ему не удастся поговорить с Нэдом. Может быть, это сделаете вы? Пожилая дама разволновалась. — Он не слушает меня, дорогая. Я вообще с ним не вижусь и не бываю при дворе. Джейн однажды рассказала мне, каково там — сплошные интриги и козни. Не знаю, как вообще она, да и вы тоже, выносили это. Екатерина вздохнула. Она понимала, почему леди Сеймур не жаждет помогать ей, и даже подумала про себя, что та, вероятно, побаивается своего старшего сына.
Вечером, отправив письмо Тому в надежде, что оно где-нибудь застанет его, Екатерина внезапно решила взять дело в свои руки и написать Нэду приглашение посетить ее в Челси для обсуждения важного дела, касающегося ее лично. Он ответил довольно быстро и обещал приехать на следующей неделе. Однако положенное время прошло, а Нэд так и не появился. Тогда Екатерина снова написала ему, но ответа не получила. Он сильно занят? Или просто игнорирует ее просьбы, считая их маловажными в сравнении с делами государства?
Как только Анна узнала, что Мария покинула дом Екатерины, хотя причины этого оставались ей неизвестными, она пригласила сестру на ужин к себе в замок Байнард. Наступил май. Екатерина не могла больше носить свой бесформенный вдовий траур, а потому, отправляясь в гости к Анне, надела черное шелковое платье и подходящий к нему капор. Замок стеной возвышался над Темзой. Когда-то он был одной из королевских резиденций, а потому отличался впечатляющими размерами и мощью, но это был счастливый дом, и Екатерина любила приезжать туда. Анна устроила щедрый ужин в честь сестры, и, после того как дети получили свою порцию восторгов и были отправлены спать с привезенными тетей подарками, Екатерина села с Гербертами за уставленный блестящим тяжелым серебром стол. Разговор постепенно оживился, и она заметила, что Герберт с любопытством поглядывает на нее. — При дворе ходят слухи, будто лорд адмирал собирается жениться на герцогине Саффолк, — сказал он. Екатерина обмерла. — Герберт, но это просто сплетни, и мы не знаем, есть ли в них хоть крупица правды, — быстро проговорила Анна. — Ты ведь когда-то хотела выйти за него, верно, Кейт? — Да, — с трудом выдавила она. — Мне посчастливилось узнать, что это все пустая болтовня, — мягко проговорил Герберт. — Кейт, адмирал сказал мне, что надеется жениться на вас. Он уже делал вам предложение? — Мы это обсуждали, — осторожно ответила Екатерина, видя, что Анна смотрит на нее в нетерпеливом ожидании откровения. — Он такой красивый мужчина. Каким же он будет превосходным супругом! — Да, но еще слишком рано думать о браке, — заявил Герберт. — Я посоветовал адмиралу обратиться за разрешением к лорду-протектору. Он это сделал? — Пока нет, — сказала Екатерина, — но я очень сильно сомневаюсь, что милорд ему откажет. А если отказ все-таки последует, я объявлю о его сумасбродстве всему миру. Я королева и вполне подхожу его брату, и мне не пристало упрашивать его! Герберты слегка опешили от ее резкого тона, но сама Екатерина считала, что ей ни к чему обращаться с прошениями к Эдварду Сеймуру. Она теперь частное лицо и сама может решать, что ей делать. Вечером Екатерина снова написала Тому. Я жду, пока Нэд соизволит навестить меня, и тогда попрошу у него разрешения на наш брак. Думаю, стоит обратиться к нему один раз и больше не пытаться. Я не допущу, чтобы условия мне диктовал человек, который ниже меня рангом. На следующий день Анна появилась в Челси. — Не думала, что увижу тебя так скоро, — сказала Екатерина, приветствуя сестру. — Я не могла не приехать. Вчера у меня возникло сильное подозрение, что у тебя какие-то проблемы. Ты и правда хочешь выйти замуж за адмирала? Не спеши с этим, подумай хорошенько. Екатерина набрала в грудь воздуха: — Анна, я уже замужем за ним. Мы поженились два месяца назад. Сестра в изумлении таращилась на нее: — Так скоро после смерти короля? Но, моя дорогая, я понимаю. Ты любила его прежде, я знаю. И не могла упустить свой шанс на счастье. Я так рада за тебя! — Она крепко обняла Екатерину. — Боюсь, мы породили скандал. Когда все узнают… — Ты поставила долг превыше всего, когда вышла замуж за короля. Теперь настало время подумать о себе. Просто держи все в секрете, а о своей свадьбе объяви позже. — Но уже ходят слухи. — Слухи ходят всегда и обо всем. Они не обязательно правдивы. Только дураки верят каждой сплетне. — Надеюсь, ты права. Но ты сохранишь все в тайне, Анна? Чем меньше людей знают, тем лучше. — Мои уста запечатаны, — торжественно объявила сестра.
 Глава 26
1547 год
Глава 26
1547 год
Пробыв в отлучке несколько недель, Том вернулся в лучах славы, удачно избавившись от пиратов. Поздно вечером прокравшись в спальню Екатерины, он крепко прижал ее к себе и звонко поцеловал, после чего торопливо увлек в постель.
— Даже Нэд вынужден был поздравить меня, — сказал Том позже. — Правда, он не знает, что я заключил сделку с капитаном. Я сказал ему: «Вы покидаете Силли и делаете, что хотите, в открытом море, а я не преследую вас, если вы выделяете мне долю от каждой своей добычи». — По тону голоса Екатерина чувствовала, что Том самодовольно ухмыляется в темноте.
— Но это незаконно, — упрекнула она его. — Страшно подумать, что будет, если это откроется.
— Это было вполне уместное предложение, и оно сработало. Стороны расстались довольные друг другом. — Том снова притянул ее к себе, и она не противилась. Он был неисправим.
На следующее утро, когда Том одевался в лучах зари, пробивавшихся сквозь ставни, Екатерина рассказала ему об отъезде Марии, но не упомянула о своем разговоре с Анной. — Мария простит вас, — заверил ее Том. — Она очень тепло к вам относится. — Надеюсь, что так. Том, мы должны поговорить с Нэдом. Я напишу ему сегодня и снова приглашу на обед. Лучше действовать в открытую. Я устала от всех этих уверток. Том согласился с ней и уехал ко двору, надеясь позавтракать там до начала заседания Совета, на котором должен был присутствовать. Екатерина написала письмо и получила ответ в тот же день; его доставил гонец. Лорд-протектор посетит ее 18 мая. Екатерина наблюдала, как занимается Елизавета — она делала это каждый день, — и размышляла, что ответит, если девочка поинтересуется причиной отъезда сестры. Однако та ничего не сказала. Она умела, когда нужно, находить ответы на вопросы самостоятельно. Вечером за ужином Екатерина решила, что нужно наконец что-то сказать по поводу отсутствия Марии, так как ее место за столом зияло пустотой. — Ваша сестра уехала в Эссекс, — сказала она Елизавете. — Я знаю, — ответила ей падчерица. — Она сказала, у нее там важные дела. Надеюсь, она скоро вернется. Екатерина успокоилась. Мария не выдала ее. — Я тоже. Я скучаю по ней. Том, вернувшийся к ней ночью, пребывал в тихой ярости. — Я начинаю думать, что меня послали к Силли, просто чтобы убрать с дороги, — сказал он, бросая накидку на спинку кресла. — Пока я был в отъезде, мои обязанности распределили между собой другие люди, а Нэд теперь слушает только тех, кто преклоняется перед ним. Но меня просто так не задвинуть в угол. Я заставлю их почувствовать свое присутствие. — Я в этом не сомневаюсь, — сказала Екатерина и поцеловала его. — Но объясните мне, как вы живете в Сеймур-Плейсе, когда там ведутся такие большие работы? Мне неприятно, что вам приходится добывать себе завтрак при дворе. — Не слишком хорошо! — Он грустно улыбнулся ей. — Я могу попросить сестру, чтобы она приютила вас у себя в замке Байнард, от него до Челси ближе. Скажу ей, будто слышала, что вы испытываете неудобства и нуждаетесь во временном пристанище, а потом поинтересуюсь, не устроят ли они с Гербертом вас у себя, этим они окажут услугу протектору и так далее. Что вы думаете? — Это было бы чудесно, — кивнул Том, — по крайней мере, насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах. Благодарю вас, дорогая. — Тогда я поговорю с ними, — обещала Екатерина. Герберты с готовностью согласились принять Тома в замке Байнард, и он сообщил Екатерине, что ему дали почувствовать себя желанным гостем. Днем он вел бесконечные баталии в зале Совета в Уайтхолле или охотился. Время от времени к столу королевы в качестве комплимента от него доставляли оленину. Они с Екатериной по-прежнему писали друг другу, чтобы оживить долгие часы разлуки, которая лишь добавляла сладости часам, которые они проводили вместе по ночам. Екатерина начала опасаться, как бы ее приближенные не заметили темных кругов у нее под глазами или не обратили внимания на ее новую привычку ложиться подремать после обеда, чтобы восполнить ночное недосыпание. Погода стояла теплая, и Екатерина проводила много времени в садах, ухаживала за цветочными клумбами и собирала цветы, чтобы поставить их в вазы. Елизавета и Гриндал устраивались где-нибудь поблизости — они занимались на воздухе, и все это было очень мило и приятно. Для полноты счастья ей не хватало лишь присутствия в доме хозяина. Но скоро все разрешится, она не сомневалась.
— Вы говорили с Анной, — сказал Том однажды вечером, мягко прикрыв за собой дверь. — С чего вы взяли? — невинно спросила Екатерина. — Не притворяйтесь. — Он тяжело плюхнулся на постель и стал щекотать ее. — Прекратите! — сквозь хохот проговорила она. — Это вам наказание! — Том игриво шлепнул ее по заду. — Анна сегодня за обедом напугала меня. Сказала, мол, она слышала, что я посещаю вас здесь по ночам. Я, само собой, все отрицал, хотя признался, что проходил через сад по пути в Фулем на обед с епископом Лондона. Но она только покачивала головой и улыбалась, а потом вдруг говорит, мол, ей известно, что у меня есть ключ от боковых ворот, а кто мог сказать ей об этом? Только вы. Пришлось мне выложить всю правду, и они оба очень обрадовались за нас. Она злая девчонка, ваша сестрица, но вы хуже! — Он снова стал шлепать ее, но Екатерина схватила его руку, и несколько мгновений они боролись, пока Том не накрыл ее рот поцелуем. — А вообще я благодарен вам за то, что вы упросили свою сестру принять меня. Ее общество помогает мне коротать время, когда мы не вместе. И она уговаривает меня искать согласия Нэда. — Он будет здесь через три дня, — сказала Екатерина, после чего Том обнял ее, и вдруг оказалось, что у нее есть более неотложные дела. Однако Нэд не приехал. Он прислал извинения и написал, что у него не будет свободного времени до конца мая. Екатерина бросила записку на пол. Как же заманить его в Челси? Она была убеждена, что за этими отсрочками стоит Нан. Вероятно, Нэд вообще не приедет, если его жена настоит на своем. Когда Екатерина сообщила Тому, что Нэд отложил свой визит, тот тихо выругался. — Если он не хочет приезжать, мы должны отправиться к нему сами. Эта ситуация не может тянуться вечно. Я сыт по горло всеми этими тайнами, но, боюсь, Нэд не пойдет нам навстречу. — Давайте получим церковное благословение нашего брака, а потом поедем к Нэду, — предложила Екатерина. Так и случилось, что они поженились в часовне Челси. Службу провел доктор Паркхёрст, а свидетельницами выступали Анна и леди Сеймур. Для всех остальных это была их первая и единственная свадьба. На следующий день Екатерина посетила пребывавший в Сент-Джеймсе двор с намерением увидеть короля. Она не хотела утратить любовь Эдуарда, как, вероятно, утратила любовь Марии, выйдя замуж так скоро, и надеялась получить от него благословение, прежде чем увидится с Нэдом. Она рассчитывала уговорами и добрыми словами склонить короля на свою сторону. Извещение о ее прибытии было отправлено в Сент-Джеймс заранее, и напрасно: по прибытии во дворец Екатерине сообщили, что лорд-протектор примет ее в своих покоях. «Это не предвещает ничего хорошего», — рассуждала сама с собой Екатерина, пока церемониймейстер провожал ее к Нэду. Войдя в зал, она с неудовольствием увидела сидевшую там Нан. Герцогиня даже не встала, намеренно пренебрегая правилами вежливости, а ее муж поднялся и приветствовал Екатерину легким поклоном. Герцог был высок и статен, длинная борода придавала ему величавости, хотя красотой с Томом не сравнится, подумала она, и слишком уж напыщен. — Я надеялась увидеться с его величеством, — сказала Екатерина и села в кресло, не дожидаясь приглашения. — Боюсь, он сейчас занимается, — ответил ей Нэд, — но с удовольствием примет вашу милость завтра в три часа пополудни. Будет нелишним, если вы изложите мне, по какому делу хотите его видеть, чтобы я его подготовил. — Разумеется, — с улыбкой ответила Екатерина. — Ваш брат, милорд адмирал, хочет жениться на мне, и мы желаем получить разрешение у его величества. Нэд и Нан переглянулись; нетрудно было догадаться, кто из двоих ужаснулся сильнее. — Это невозможно! — заявил Нэд. — Никогда! — прошипела Нан. — Могу я спросить, почему это невозможно? — поинтересовалась Екатерина. — Мы оба свободны от брачных уз и хорошо подходим друг другу. Если кому-то и приходится оказывать снисхождение, так это мне, но любовь преодолела несоответствие в ранге. — Она снова улыбнулась, очень мило. — Как вы смеете! — брызжа слюной, выпалила Нан; она уловила обидный намек. — Как вы можете размышлять о браке между вами? — спросил Нэд, побелев от ярости. — Это будет ад! — вставила его жена. — Для меня это будет рай, и я не понимаю, какие вы можете иметь возражения, — сказала Екатерина. — Я думала, вы обрадуетесь, милорд, что ваш брат женится на королеве. — Это не подходящий брак! — возразил тот. — Почему же? — Екатерина перевела взгляд на герцогиню. — Или дело в том, что вам не хочется, чтобы ваш младший брат женился на той, кто рангом выше вас всех? Взгляд Нан мог бы сразить Екатерину наповал, но герцогиня не успела ничего ответить — ее опередил Нэд: — Из-за вас мой брат возгордится пуще прежнего. Екатерина улыбнулась, подавляя в себе желание наброситься на него: — Значит, я права. Корнем всего этого является зависть. — Вовсе нет! Но я молюсь, чтобы этот брак не состоялся. — И я тоже! — Нан наконец обрела дар речи. — Молитесь о чем угодно, милорд. Но король — главный арбитр в этом королевстве, ему судить, что здесь уместно и достойно, и я буду полагаться на его Богом данное суждение. Можете пытаться повлиять на него, но он любит меня и любит своего дядю. Доброго дня вам обоим. С этими словами Екатерина встала, развернулась и вышла. Едва успев вернуться в Челси, она начеркала письмо Тому: Милорд, Ваш братец сегодня днем принял меня не слишком тепло! Хорошо, что нас разделяла дистанция, или я поколотила бы его! — Она передала ему содержание беседы, опуская подробности, и закончила: — Завтра я увижусь с королем и намерена изложить ему все свои претензии к Вашему брату. Не прошло и часа, как прибыл гонец от Тома. В его записке сквозило облегчение, которое он испытал, узнав, что Екатерина обсудила вопрос о браке с его братом. Благодарю Господа, что нам больше не придется хранить наш секрет! Прочитав эти слова, Екатерина покачала головой, сожалея, что намеренно спровоцировала Сомерсетов. Но она слишком долго жила в нарастающем раздражении и слушала возмущенные речи Тома по поводу его брата. Перепалка с Нэдом и Нан дала ей огромное удовлетворение и позволила немного снять скопившееся внутри напряжение, однако лучше бы она сдержалась. Как и предчувствовала Екатерина, по прибытии в Сент-Джеймсский дворец на следующий день ее ждало сообщение, что его величество не может с ней увидеться. Она подготовилась к такому обороту событий и привезла с собой письмо. По ее просьбе лорд-камергердолжен был передать его королю. В своем послании Екатерина вспоминала об отце Эдуарда и о том, как она почитала его. Хвалила мудрость короля, напоминала ему о своей великой любви к нему и сожалела, что никак не может с ним увидеться. Она молила, чтобы его величество написал ей хотя бы строчку. В письме не было ничего, что могло бы не понравиться бдительному Нэду. Но это только начало, прокладывание пути. Екатерина вернулась домой и стала ждать ответа, боясь, что не получит его. Однако довольно скоро прибыл гонец и вручил ей письмо с королевской печатью. Как только он ушел, Екатерина сломала ее и прочла: Тронутый Вашей просьбой, я вынужден ответить на Ваше письмо, полное доброты. Так как Вы любили моего отца, я не могу не ценить Вас; так как Вы любите меня, я не могу не любить Вас в ответ; и так как Вы любите Слово Божье, я люблю Вас и восхищаюсь Вами от всего сердца. И если я могу сделать для Вас что-нибудь доброе, словом или делом, то сделаю это охотно. Читая эти слова, Екатерина улыбнулась. На душе у нее потеплело от мысли, что Эдуард по-прежнему любит ее и готов оказать ей услугу. К удивлению Екатерины, в Челси доставили половину оленьей туши и бочку доброго вина — подарки от герцога и герцогини Сомерсет. «Предложение мира?» — размышляла Екатерина, составляя теплое благодарственное письмо. Вероятно, они тоже почувствовали, что вели себя некрасиво. Увидев подарки, Том заметно повеселел. — Нужно ковать железо, пока горячо! — заявил он и на следующее же утро рванул в Сент-Джеймс, чтобы увидеться с братом, однако вечером вернулся унылый: Нэд не чувствует себя вправе согласиться на их брак так скоро после смерти короля. — Ничего, — сказал Том, когда они с Екатериной за полночь лежали в постели и разговаривали. — Я обращусь к королю. — Нэд этого не допустит. — Я подумывал, не вломиться ли в апартаменты короля мимо стражи, — усмехнулся Том, — но у меня есть друг в личных покоях. Мастер Фоулер близок к Эдуарду; он каждую ночь спит в его опочивальне. Я сегодня говорил с ним, и он сказал мне, что его милости опостылела строгость Нэда. Учителя наседают на него; у него нет ни свободного времени, ни денег, даже на то, чтобы награждать своих слуг. Он крайне несчастен. А что, если дядюшка Томас пошлет ему денег и обратится к нему как к королю? Это, Кейт, путь к обретению милости и к его сердцу. — А желание короля Нэд едва ли сможет отвергнуть. Я вижу, к чему вы клоните. Фоулер будет посредником? — предположила Екатерина. — Он будет — за вознаграждение, разумеется. Завтра Фоулер передаст Эдуарду сорок фунтов в заверение моего расположения к нему и скажет, что я очень сочувствую его невзгодам и хочу облегчить ему жизнь, чем смогу. Когда придет время, я заговорю с ним о нашем браке. К тому моменту король будет так благодарен мне, что не сможет отказать. Екатерина почувствовала себя неловко оттого, что они используют этого оказавшегося в изоляции ребенка, который по-своему любил ее, но, с Божьей помощью, они с Томом не оставят попыток сделать его существование более сносным и после того, как он даст согласие на брак. Ей совсем не хотелось, чтобы Эдуард заподозрил их в своекорыстии. Следующим вечером Том сообщил ей, что Эдуард был до слез благодарен, и показал Екатерине трогательное письмо с выражениями признательности, которое получил от короля. Целую неделю Том отправлял ему карманные деньги и записки со словами поддержки, и вскоре Эдуард стал сообщать, какая сумма ему нужна. — Пора Фоулеру заговорить с королем о браке! — заявил Том. Через два дня, прежде чем лечь в постель, он сказал Екатерине, что, следуя его указаниям, Фоулер упомянул в беседе с королем, мол, ему кажется странным, что лорд адмирал до сих пор не женат, и спросил, не кажется ли его величеству, что адмиралу нужно жениться? — Он сказал — да, а когда Фоулер поинтересовался, кого мне следует выбрать в жены, предложил Анну Клевскую! — Том откинулся на спину и хохотнул. — Вот о ком я никогда не мечтал! Но потом он еще немного подумал и сказал, что ему хотелось бы, чтобы я женился на его сестре Марии и повлиял на ее религиозные взгляды. Екатерина начала думать, что план Тома сработает; на душе у нее стало легче. — По крайней мере, он думает, что вы достойны женитьбы на королевской особе. — Да, потому что я велел Фоулеру спросить, понравится ли ему, если я женюсь на вас, и напишет ли он вам письмо, поддерживая мое предложение о замужестве? — И что он ответил? — Это выяснится завтра. Фоулер одолжит мне свою запасную ливрею, я сбрею бороду, чтобы меня никто не узнал, и буду выглядеть как церемониймейстер. Не нужно так пугаться, дорогая. Скоро мы сможем объявить о своей любви всему миру!
Утром чисто выбритый Том поцеловал на прощание Екатерину. Он выглядел моложе и свежее, несмотря на свои сорок лет, и был совсем не похож на себя. Борода у него снова отрастет, заверил он ее. — Вы самый красивый церемониймейстер из всех, каких я видела! — с восторгом сказала ему Екатерина. — Да хранит вас Господь!
Она удивилась, снова увидев Тома в Челси уже к полудню. Означало ли это, что надежды ее сбылись? — Он сказал — да! — выпалил Том, как только она увела его в летнюю гостиную. — Я убедил его, что наш брак — это его идея. Он сказал, что любит нас обоих и желает нам счастья, и даже написал мне письмо, официально выражая согласие на наш брак, и еще одно — вам, с просьбой милостиво отнестись к моему предложению руки и сердца. Вот, прочтите. Выходит, Кейт, что он приказал нам пожениться! — Том подхватил ее на руки и закружил. — Вы сделали это! Сделали! Чудесный вы человек! — воскликнула она, после чего они крепко обнялись и слились в поцелуе. Том оторвался от нее. — Вы должны написать ему, Кейт, и сказать, что с радостью выполните его желание. — Я сделаю это прямо сейчас, — сказала она, садясь за стол и доставая свой пенал с письменными принадлежностями. — Нэд знает? — Пока нет. Но я видел его при дворе, и он обещал, что приедет сюда на обед завтра. К несчастью, Нан тоже будет с ним, но ни один из них не сможет воспротивиться желанию короля. Мы сообщим им, что поженились, и тогда объявим об этом всему миру. — Мы почти у цели, — сказала Екатерина, однако перспектива обедать с Сомерсетами пришлась ей не по вкусу.
Екатерина сидела в своем столовом зале во главе стола в кресле под балдахином с королевскими гербами, являя миру напоминание о своем королевском достоинстве. Том занял место на противоположном конце, а Нэд и Анна — по бокам, напротив друг друга. Екатерина подождала, пока на стол поставят блюда с едой, а всем сидящим за ним накинут на плечи салфетки, потом махнула слугам, чтобы удалились. — У нас есть для вас новости, — сказала она, обращаясь к Нэду. — Королю было угодно санкционировать наш брак. На самом деле он приказал нам пожениться. И мы сделали это неделю назад. Надеюсь, вы за нас рады. — Екатерина улыбнулась, по возможности не слишком триумфально. Она услышала, как Нан резко втянула в себя воздух, увидела, как побагровело от ярости ее лицо. Нэд сверкал глазами на Тома: — Ты действовал у меня за спиной! Ну и дурная же у тебя натура. Том молча пожал плечами. — Вас обоих следовало бы наказать за это, — прошипела Нан с перекошенным от гнева лицом. — Нэд, вы не можете этого так оставить. Вы должны отправить их обоих в Тауэр! — За то, что мы выполнили распоряжение короля? — ехидно спросила Екатерина. — Ну и дела творятся в Англии! — Ее милость права, Нан, — сквозь стиснутые зубы процедил Нэд, — хотя, строго говоря, они должны были получить и мое разрешение тоже. Однако его милость опередил меня, без сомнения улещенный моим братом. Том мило улыбнулся: — Король предложил мне нескольких возможных невест, и все они — королевские особы. Я сделал выбор. Нэд мрачно глянул на него: — Я не возражаю против вашей женитьбы на королеве. Я горжусь этим. Выражение лица Нан говорило, что она-то возражает, и даже очень. Герцогиня грозно взирала на мужа, который посмел перечить ей и по пути домой, без сомнения, испытает на себе силу ее гнева. — Что мне отвратительнее всего, — продолжил Нэд, — так это ложь. Вы должны были посоветоваться со мной. Мне обидно, и я сильно недоволен, что вы этого не сделали. Если бы вы поженились раньше и вдруг выяснилось, что ее милость ждет ребенка, могли бы возникнуть сомнения, ваш ли он, братец, или покойного короля, а это бросило бы тень на вопросы престолонаследия и могло поставить в опасность королевство. Но теперь уже поздно жалеть о содеянном. — Я пыталась поговорить с вами, но вы всегда были слишком заняты, чтобы встретиться со мной, — напомнила ему Екатерина. — И я не беременна. — Это очень кстати, — строго сказал Нэд. — Завтра при первой же возможности я проинформирую Совет. А теперь думаю, что при сложившихся обстоятельствах нам лучше уйти. Простите, что доставили неудобства вашей милости, но думаю, наш обед придется отложить до более счастливых времен. — Полностью с вами согласна, — сказала Екатерина. Теперь Тому не нужно было прятаться. Когда гости ушли, они остались за столом вдвоем и немного поели, хотя у обоих не было аппетита. — Как по-вашему, что скажет Совет? — нервно спросила Екатерина. — А что они могут сказать? Мы никаких законов не нарушали. — Это верно. И Нэд не захочет устраивать скандал, который затронет его самого и всю семью. — Разумеется, не захочет! — согласился Том. — Не волнуйтесь, дорогая, все будет хорошо. — Вы должны ночевать в комнате для гостей, — предупредила его Екатерина. — Нам нужно проявлять осторожность, пока не объявлено о нашем браке. — Это точно, — сказал Том, и глаза у него при этом заблестели. — Только отведите мне комнату в галерее, рядом с вашей. «Осмотрительность имеет свои пределы», — подумала Екатерина, возбужденная предвкушением ночи.
На следующий день после обеда Тома вызвали в Совет, заседавший в Сент-Джеймсе. Екатерина с дурными предчувствиями смотрела, как удаляется по реке его барка, и беспокойно провела день, но вернулся он ровно к ужину. Она ждала его и побежала на причал встречать. — Ну? — Меня отчитали, и все, — сказал он ей и звонко поцеловал в губы, не заботясь о том, видит ли это кто-нибудь. — Король написал в Совет, оповестив о своих желаниях. Против этого не попрешь. Даже Нан не может возразить. И я думаю, Нэд хочет избежать разлада в семье. Он предпочитает тихую жизнь. А потому сказал, что Совет одобрил наш брак и мы вольны объявить о нем. Давайте созовем всех и сделаем это прямо сейчас. А я распоряжусь, чтобы сюда прислали мои вещи. Теперь это мой дом! Они рука об руку пошли в замок. Екатерина чувствовала себя так, будто у нее на ступнях выросли крылья.
Юный король написал ей, прислал поздравления и искренне поблагодарил за послушание его воле. Не страшитесь никаких последствий, мой дядя Сомерсет такой хороший человек, что не доставит Вам проблем. Вот если бы и леди Мария отнеслась к их браку с таким же сочувствием. Том написал ей сразу после того, как впервые обратился к королю, объявил, что сделал предложение Екатерине, и просил содействовать тому, чтобы оно было принято. Посланный им гонец сообщил, что Мария очень несчастна и обеспокоена настойчивостью лорда-протектора, который призывает ее обратиться в протестантство. Екатерина оставила надежду на ответ, но, когда наконец получила его, он был едким. Мария до сих пор в ужасе оттого, что у Екатерины явилась мысль о замужестве так скоро по смерти короля. Как она могла забыть о столь великой утрате? Том написал снова, сообщил Марии, что они с Екатериной поженились, и получил весьма прохладный ответ. Оставалось надеяться, что со временем Мария смягчится по отношению к ним, однако Екатерина опасалась, что навсегда потеряла в ней друга, и печалилась оттого, что ничем не может помочь своей падчерице в ее несчастье. Отношения у них с Нэдом были и без того напряженные. По крайней мере, король Эдуард удивительно хорошо отнесся к их браку. Екатерина неустанно писала ему, и он отвечал, когда находил время. Благодарный Том продолжал посылать ему карманные деньги, и юный король очень это ценил. Получив известие о браке и его одобрении королем, дядя Уильям и тетя Мэри написали Екатерине, как они за нее рады. Елизавета тоже восприняла новость с восторгом. Она расцвела в Челси, казалась очень счастливой, спокойной и делала превосходные успехи в учебе, демонстрируя замечательные способности. Екатерина радовалась, видя, как хорошо складываются у нее отношения с Томом. Елизавета даже называла его отцом. Однако при дворе и по всей стране новость о браке Екатерины произвела невероятный скандал. В Сент-Джеймсе люди без стеснения сплетничали, даже в присутствии Тома. Екатерина заметила, что и в ее доме неспокойно. Уилл, который радовался за сестру, предупредил, чтобы та не ездила пока никуда, поскольку люди называют ее женщиной легкого поведения и дурой, бездумно подорвавшей основы престолонаследия. Особенно расстроилась Екатерина, услышав, как одна из ее камеристок сказала другой, что леди Саффолк назвала своего нового жеребца Сеймуром, а кобылу — Парр. Подумать только, а она еще называла эту особу своей подругой! Том злился из-за этих гнусных пересудов. — Если кто-нибудь посмеет дурно отозваться о вас, то познакомится с моими кулаками! — поклялся он, стукнув ладонью по столу. — Я не позволю, чтобы на вас клеветали. И заставлю Совет принять закон в защиту вашего доброго имени. Екатерина сморгнула слезы. Она была сильно расстроена людским злоречием, а еще больше тем, что письма от короля стали приходить все реже и звучали все более формально. Нэд, должно быть, обрабатывал Эдуарда, или тот сам слышал разговоры придворных и, возможно, сожалел, что помог ей. Екатерина боялась потерять его. Как-то раз она задумчиво сидела в саду, глядя в пространство перед собой пустым взглядом; ей хотелось одного — чтобы буря улеглась. «И она уляжется, обязательно уляжется», — твердила самой себе Екатерина, когда к ней подошла Елизавета. — Матушка, Мария прислала мне ужасное письмо, — сказала она и с возмущенным видом сунула листок ей в руку. Екатерина с тяжелым сердцем прочла написанное. Мария предупреждала Елизавету, что ей опасно оставаться в доме женщины, поступками которой руководит похоть. Нам лучше держаться вместе. Само горе, которое мы чувствуем, когда едва остывшее тело короля, отца нашего, так позорно предается бесчестью королевой, должно объединить нас. Дорогая сестрица, крайне необходимо, чтобы Вы как можно скорее покинули этот дом и приехали жить ко мне. Екатерина сглотнула. — Решайте сами, Бесс. — Голос у нее дрожал. — Я дам вам свое благословение, решите вы уехать или останетесь. Но я должна сказать вам вот что: может быть, я вышла замуж поспешно, беспокоясь, что в противном случае не успею стать матерью, а мне так давно этого хочется, но я никогда не вела себя безнравственно. Я любила вашего отца и до сих пор горюю по нему. Однако в этой жизни у нас слишком мало шансов на счастье, чтобы ими разбрасываться. Елизавета опустилась рядом с ней на колени: — Я знаю. Мне здесь хорошо, и я не хочу уезжать. Я вовсе не желаю жить с Марией. Она будет вовлекать меня в свои споры о мессах, настаивать, чтобы я на них ходила, а я их не перевариваю, потому что предана протестантской религии. Но главное, мне не хочется покидать вас. Сердце Екатерины наполнилось чувством благодарности к ней. Она едва могла говорить. — Благослови вас Бог, моя дорогая. — Я напишу Марии и скажу ей, что мне лучше остаться здесь, — сказала Елизавета. Своего письма она Екатерине так и не показала, и для нее осталось загадкой, как девочка объяснила сестре свое решение, но Мария больше не писала.
Печаль Екатерины сильно скрашивало присутствие в Челси Тома. Он без труда взял на себя роль хозяина дома, важно расхаживал по комнатам, весело приветствовал слуг и каждый день придумывал новые развлечения: спортивные забавы и ужины в саду, частные концерты в холле, вечерние поездки на барке по Темзе и даже представление масок, в котором Елизавета исполняла роль Елены Троянской. Екатерина устраивала состязания по стрельбе из лука и игре в шахматы, где фигурами были живые люди. Она старалась как можно больше времени проводить на воздухе — выезжала с Томом на ловлю дичи и соколиную охоту, подолгу гуляла с Елизаветой. Екатерина решила показать всем, что не испугалась шквала придворных сплетен. Может, она и вышла за барона, но оставалась королевой и обладала привилегиями в соответствии со своим статусом. К чему ей обращать внимание на своих хулителей? С такими мыслями она отправилась на встречу с королем ко двору. Как член Тайного совета, Том имел там комнату и мог привезти с собой жену. Ей нужно будет выглядеть достойно. Екатерина написала Нэду и попросила, чтобы ей передали ларец с драгоценностями королевы из сокровищницы Тауэра, где его хранили, и крайне изумилась, получив краткий ответ: он не может вернуть ей украшения, так как бережет их для брака короля с королевой шотландцев. — Как он смеет! — возмутился Том и рванул в Сент-Джеймс, где, как он позже рассказал Екатерине, потребовал у Нэда отдать королеве то, что принадлежит ей, но получил ответ, мол, украшения — собственность государства, а не королевы. — Разумеется, вы понимаете, кто стоит за этим, — кипятился Том. — Это она, Нан. Я столкнулся с ней в галерее перед встречей с Нэдом и увидел на ней брошь с короной, наверное, ту, что вы описывали. Тогда я заявил советникам, что имею основания полагать: миледи Сомерсет присвоила украшения, на которые не имеет законного права. — С нее станется, — сердито проговорила Екатерина. — Она страшно завидует мне и ненавидит меня, а все потому, что я главнее нее. Боюсь, нам придется сильно постараться, чтобы заставить ее отдать украшения. Том, в ларце обручальное кольцо, которое подарил мне король Генрих, и кое-какие мои личные вещи — крест и подвеска, доставшиеся мне от матери. Они-то уж точно мои, без вопросов. — Они все ваши по праву, — прорычал Том, — и я добьюсь, чтобы вы получили их. — Не беспокойтесь, я получу их сама! — заявила Екатерина.
Она была готова. После шести месяцев вдовства она сняла траур, и мрачные черные завесы были убраны со стен и окон. Сегодня Екатерина надела платье из алого шелка с длинным шлейфом и пуговицами из золота и жемчуга. Вместе с Томом приехала в носилках в Сент-Джеймс. Они должны были присутствовать на приеме в честь французского посла. У гейтхауса Екатерину встретил лорд-камергер, который проводил ее во дворец. Там она увидела Нэда, встретившего ее без улыбки, и стоявшую рядом с ним Нан. Герцогиня выглядела почти также по-королевски, как сама Екатерина, хотя и не надела ни одного из украшений королевы, — даже она не посмела пойти на такую провокацию, когда нужно было произвести впечатление на французов. — Миледи Сомерсет, — сказала Екатерина, — я очень рада видеть вас, потому что собиралась оказать вам честь и поручить нести мой шлейф. Нан побагровела: — Мадам, мне не подобает оказывать подобные услуги жене младшего брата моего супруга. Давайте пойдем вместе. Наступила ошалелая тишина, потом раздался жужжащий говор со стороны разинувших рты придворных, которые выстроились вдоль галереи. Екатерина была возмущена до предела. Она двинулась вперед, но Нан пошла с ней вровень и, когда они оказались у дверей, прорвалась в них первой. — Сделайте это еще раз, и я сама оттолкну вас, — прошипела ей на ухо Екатерина. Нан обернулась к мужу, который шел позади вместе с Томом. Раздался ее громкий голос: — Милорд, разве король Генрих женился на Кэтрин Парр не в старческом слабоумии, когда пал так низко из-за своего любострастия и жестокости, что ни одна женщина, ценящая свою честь, и близко не подошла бы к нему? И теперь я должна уступить место вдове Латимера, которая отдалась вашему младшему брату? Если господин адмирал не научит свою супругу манерам, это сделаю я. Дрожа от ярости и стыда, Екатерина открыла рот, чтобы дать едкий ответ, но ее опередил Том, заговорив тоном, не предвещавшим ничего хорошего: — Брат, помнится, эта леди лишила наследства ваших сыновей от первого брака. Я с удовольствием позову своих адвокатов, чтобы те добились восстановления отобранных у них прав и во исправление великой несправедливости поставили их прежде ее сыновей. Не забывайте, я был свидетелем того, как вы вышвырнули из дому свою первую жену. Могу припомнить еще много чего. Екатерина не смела оглянуться на Нэда, но почувствовала, как тот застыл у нее за спиной. Молчание его говорило само за себя. Том рассказывал ей, что двадцать лет назад Нэд заподозрил их отца в том, что тот зачал двоих старших его сыновей. Питая отвращение к своей жене, он отправил ее в монастырь и запретил ей видеться с детьми. Однако Том считал, что по крайней мере один из них мог быть ребенком Нэда и лишение наследства их обоих было несправедливой жестокостью. Нан заставила Нэда сделать это, зудела и пилила его, пока он не уступил ей. Легко было понять, почему угрозы Тома — шантажа, как на это ни посмотри, — оказалось достаточно, чтобы его брат умолк, будто язык проглотил. — Миледи, — тихо проговорил Нэд на ухо Нан, — из вежливости вы могли бы позволить ее милости пройти прежде вас. Нан бросила на него взгляд, каким можно было бы сразить дракона, но отступила, и прием прошел без дальнейших инцидентов. Однако на следующий день в Челси доставили письмо. От Нэда. Он не видит возможности передать украшения Екатерине, потому что они собственность Короны и не могут быть отчуждены даже волей короля. От ярости Екатерина опрокинула стул, испугав своих дам, а Риг вообще убежал и забился в угол. — Как он смеет! Как она смеет! — возмущенно вскрикнула Екатерина, после чего укрылась в обнесенном оградой саду и ходила по нему кругами, не зная, как унять гнев. Эта женщина — эта мегера — обошла ее, и Екатерина готова была задушить мерзавку, окажись та в пределах досягаемости. Никогда, никогда больше она не поедет ко двору. Том злился, кричал и топал ногами; наверное, его слышал весь дом. — Это атака на меня! — ярился он. — Они хотят унизить нас, но им это с рук не сойдет! Когда-нибудь я стану лордом-протектором этого королевства!
Для того чтобы Екатерина могла подготовить леди Джейн к замужеству с королем, Том привез свою подопечную жить в Челси. — Она будет подругой Елизавете, — сказал он, встав с постели и надев халат. Том всегда поднимался рано, оставляя Екатерину полежать еще немного, и читал, пока она не покидала их супружеское ложе. Джейн была девушка странная — сама очень маленькая и худая, хотя аппетит имела отменный, длинные волнистые рыжие волосы и бледная веснушчатая кожа; взгляд всегда настороженный. В одиннадцать лет она держалась строгих протестантских взглядов и отказывалась носить одежду других цветов, кроме черного и белого. — Умеренность становится доброй дочерью Евангелия, — сказала она Екатерине, с неприязнью глядя на ее алое платье. Говорить с ней было все равно что со своей оставшейся в девах тетушкой. Хотя Екатерина не могла не восторгаться благочестием и знаниями Джейн. Эта девушка внушала почтительный трепет. Однажды, несмотря на всю свою чопорность, она станет великой королевой. Вскоре у Екатерины создалось впечатление, что Джейн была несчастлива, когда жила со своими родителями, имевшими большие планы на ее счет и наседавшими на дочь, чтобы та преуспевала всегда и во всем. Леди Сеймур доверительно сообщила Екатерине, что, приехав в Сеймур-Плейс, леди Джейн выразила удивление тем, что ее не бьют и не наказывают сурово, если она не отвечает урок безупречно. Екатерина старалась проявлять особенную доброту к девочке и почаще хвалить ее, а Том — тот вообще удивительно умел обращаться со своей воспитанницей, легко вытаскивал ее из ракушки и смешил, даже носился с нею по саду, играл в салочки или в мяч; Елизавета присоединялась к ним. К несчастью, Елизавета чувствовала соперницу в Джейн, которая, хотя и была тремя годами моложе, не уступала ей во время занятий, а потому стала относиться к своей конкурентке подчеркнуто свысока. Сама же Джейн была так рада возможности учиться спокойно и проводить свободное время за чтением книг, что это явно не имело для нее значения. Екатерина часто присутствовала на уроках, смотрела, как две рыжие головки склоняются над книгами, и делала замечания, которые направляли мысли девочек в другую сторону и обогащали их новыми идеями. Это было мирное и счастливое время. Екатерина не изменяла своему решению оставить Нэда, Нан и королевский двор в прошлом и благодарила Господа за дарованные ей радости. Она испытывала душевное волнение, видя, как расцветает от ее заботы Джейн, и получая похвалы от наставников девочек и ученых, с которыми те переписывались. Николас Юдолл, к примеру, написал ей, выражая восхищение: «Когда я думаю, милостивейшая королева Екатерина, о том, сколь велико в Англии число благородных дам, которые заняты изучением гуманитарных наук и иностранных языков, а также основательно постигли Святое Писание, меня переполняет благодарность». Он явно приписывал заслугу в этом целиком ей. Ее питомиц, по мнению Юдолла, можно было сравнить с лучшими писателями в их трактатах о Божественном, которые вполне годятся для того, чтобы наставлять все королевство в познании Бога и укреплять в вере. Он также хвалил способности девочек к переводу книг с латыни и греческого на английский: …И теперь уже не новость — видеть королев и дам самого высокого положения, которые придворной праздности предпочитают чтение, письмо и серьезные ученые занятия, посвящая себя обретению знаний. Я слышал, что эти исключительно одаренные принцессы постоянно читают псалмы, поучения Отцов Церкви, размышления о Божественном, послания святого Павла или какую-нибудь из книг Святого Писания, а также знают их целиком по-гречески, по-латински, по-французски и по-итальянски. Двор Вашей милости известен ныне как место, где обычное дело — встретить юную деву, столь хорошо обученную грамоте, что она охотно отставляет в сторону все суетные развлечения ради овладения науками. Екатерина надеялась, что эти достижения на ниве образования помогут восстановлению ее доброго имени. Время шло, и скандал, произведенный ее браком, умер естественной смертью.
 Глава 27
1547 год
Глава 27
1547 год
Кейт Эшли была Елизавете как мать и даже спала с ней в одной спальне, которая располагалась по другую сторону двора, напротив опочивальни Екатерины. Летние ночи были жаркими, и при открытых окнах в комнатах стояла духота. Однажды мистресс Эшли спросила, нельзя ли ей спать в другой комнате по соседству? Екатерине это не понравилось, ведь Елизавета будет оставаться по ночам одна, но она дала согласие. Что может случиться с девочкой? Доступ в ее комнату имели только мистресс Эшли, сама Екатерина и Том, для которого, когда он стал хозяином дома, изготовили дополнительный набор ключей от всех дверей.
Как-то раз жарким июльским днем, когда Екатерина сидела с Елизаветой и Джейн на улице в тени и просматривала их французские переводы, появилась встревоженная миссис Эшли.
— Ваша милость, могу я переговорить с вами наедине? — спросила она.
— Конечно. — Екатерина встала. — Просмотрите еще раз этот отрывок, — сказала она девочкам и, пройдя в дом, открыла дверь в пустой кабинет управляющего.
— Чем я могу быть вам полезна? — спросила Екатерина, садясь.
Эшли стояла, не глядя ей в глаза.
— Это касается милорда адмирала, мадам. — Женщина замялась. — Я сперва не придала этому значения, но вы знаете, что почти сразу после переезда сюда он стал по утрам заходить в комнату леди Елизаветы до того, как она оденется и приготовится к выходу, а иногда даже прежде, чем она встанет. Если она уже на ногах, он желает ей доброго утра, спрашивает, как она спала, и… — Миссис Эшли с горестным видом умолкла. — Он гладит ее фамильярно по спине или попе, а потом уходит к себе. Иногда он отправляется в спальню девушек и играет с ними. Если застает миледи в постели, открывает шторы и желает ей доброго утра, а потом изображает, что хочет напасть на нее, и она забирается глубже в постель, чтобы он до нее не добрался.
Екатерина сглотнула, слушая эти откровения с растущим смятением. Но Том был таким страстным и заботливым супругом… Ей с трудом верилось, что за этими его утренними визитами скрывалось нечто большее, чем невинная игра. Ему было сорок, едва ли его могла заинтересовать девочка, которой нет еще и четырнадцати. К тому же он устраивал эти игры открыто, на глазах у миссис Эшли. Нет, тут не может быть ничего дурного.
Воспитательница смотрела на нее с сомнением:
— Мадам, это еще не все. Лорд адмирал прислал мне и Елизавете дерзкие записки. В одной он спрашивал, становился ли когда-нибудь меньше мой огромный зад. Меня это сильно смутило. Бог знает, что он написал миледи. — Она покачала головой. — Ей не нравятся его шутки. Елизавета стала подниматься очень рано, чтобы быть одетой, когда он придет. Заслышав, как он отпирает дверь, она выскакивает из постели и зовет своих девушек, чтобы те спрятались вместе с ней за занавесками кровати, но милорд дожидается, пока они уйдут, решив, что он не станет входить. Однажды утром, мадам, он прямо у меня на глазах пытался поцеловать миледи Елизавету, пока она лежала в постели. Я попросила его уйти, так как это стыдно и люди уже болтают. Некоторые из ее горничных жаловались на его поведение, и служанки говорят ужасные вещи, миледи. Они думают, что она его поощряет!
Какой ужас! Екатерина покрылась липким потом; ей стало тошно, сердце дико колотилось. Том не мог заигрывать с Елизаветой. Он ведь ее опекун. Разве стал бы он поступать так бесчестно?
— Когда я попросила милорда уйти, — продолжила Эшли, — он выругался и сказал, что у него на уме нет ничего дурного и он не перестанет это делать! Он заявил, что леди Елизавета ему как дочь, и пригрозил подать жалобу милорду протектору на злостную клевету против него. Мадам, с вами все в порядке?
Екатерина вцепилась в подлокотники кресла, боясь, что упадет в обморок.
— Со мной все очень хорошо, — с трудом проговорила она, понимая, что ее слова прозвучали неубедительно. — Я уверена, в этом нет ничего плохого.
Миссис Эшли затараторила:
— Тем не менее, мадам, я сказала милорду адмиралу, что в будущем должна всегда присутствовать, когда он заходит в комнату миледи Елизаветы. Но он продолжает приходить и разыгрывать свои шутки.
— Это и есть шутки, ничего больше, — твердо заявила Екатерина, собираясь и мысленно встряхивая себя.
— Разумеется, мадам, я уверена, вы правы, но…
Раздался стук в окно. Женщины, вздрогнув, поглядели туда и увидели лицо Елизаветы, которая — они прочли по губам — спрашивала: «Что вы там делаете?» Екатерина помахала ей рукой, натянув на лицо улыбку, и показала открытую ладонь, расставив все пять пальцев, давая понять, что она долго не задержится.
Елизавета исчезла. Эшли продолжала заламывать руки.
— Мадам, дело не в том, что милорд не имеет дурных намерений, просто нет сомнений, что моя маленькая леди влюбляется в него. Первым это заметил мой супруг. Он сказал мне: если кто-нибудь упоминает милорда адмирала, миледи Елизавета сразу навостряет уши. А когда сама заговаривает о нем, то краснеет. Эти признаки видны всем. Муж предупредил меня неделю назад. Он сказал, что опасается, как бы миледи не привязалась к лорду адмиралу больше, чем нужно.
Екатерина собиралась с мыслями. Она была опекуншей Елизаветы, и для нее долг чести — защищать свою подопечную от любых скандалов. Ни один мужчина не мог домогаться ее, так как брак Елизаветы был в руках короля или на самом деле Тайного совета. Ее репутацию нужно сохранить безупречной для будущего великого брака. В один прекрасный день Елизавета станет королевой.
— Это нужно остановить, — сказала Екатерина. — Я не предполагаю, что имело место нечто непристойное, и уверена, милорд смотрит на Елизавету как на ребенка и обращается с ней соответственно.
— С миледи Джейн он не заигрывает, — заметила Эшли.
— Он хуже знает ее, — быстро нашла отговорку Екатерина, удивляясь про себя, не хочет ли воспитательница сообщить ей что-то еще? Не было ли чего-то, о чем она не посмела упомянуть? — Я поговорю с ним и скажу, что эти утренние визиты должны прекратиться. И с Елизаветой тоже побеседую. Они должны понять, что любой намек на непристойность создаст нам всем серьезные проблемы. Это могут счесть изменой.
А наказание за нее — смерть. Для женщины это будет означать сожжение на костре или, если король и его Совет смягчатся, — усекновение головы. Такой милости удостоилась мать Елизаветы.
— Этого и боится мой муж, — с несчастным видом произнесла миссис Эшли. — Вот почему я решила прийти к вам. Я уверена, миледи не хочет ничего дурного. Она просто наивная девушка.
В этом Екатерина, пожалуй, сомневалась. Хотя она и любила Елизавету, но знала, что та родилась умной. А что касается Тома, то он большой дурак! Неужели не понимает, как выглядит его фамильярность? Неудивительно, что люди болтают языками. Если бы он шлепнул по заду или поцеловал одну из ее камеристок, это уже было бы плохо, но поступать так с дочерью короля, которая жила под его крышей и пользовалась его защитой? Он обезумел? Неужели Том не понимает, что любой скандал отзовется на его жене, и это в то время, когда она меньше всего могла себе позволить скандалы? Гнев Екатерины нарастал.
Том не мог быть слепцом. Елизавета превращалась в женщину. В этом году у нее начались месячные. Она была истинной дочерью своей матери, чувствительной к мужскому вниманию. Екатерина должна сделать то, что сделала бы любая хорошая мать, и она положит конец этим играм, пока они не зашли слишком далеко.
— Предоставьте это мне, миссис Эшли, — сказала она и встала; голова у нее слегка кружилась. — Я поговорю с ними обоими.
Когда Екатерина вернулась в сад к своим воспитанницам, то обнаружила, что смотрит на Елизавету другими глазами, отыскивая в ней малейшие признаки интереса к Тому. Она намеренно упоминала его имя в разговоре, проверяя реакцию девочки. А вот и знак — внезапный румянец на щеках. Елизавете она пока ничего не скажет, решила Екатерина. Это Тому нужно изменить свое поведение. Если кого и винить, так это его. С трудом сдерживая свои чувства, она дождалась вечера, когда они с Томом вдвоем пошли прогуляться вдоль реки. — Сегодня миссис Эшли пожаловалась на вас, — сказала Екатерина. — Да? — Он не выглядел слишком встревоженным. — Она говорит, что вы приходили по утрам в спальню Елизаветы и устраивали грубые игры. Том невозмутимо пожал плечами: — И что с того? Эта женщина вечно жалуется и клевещет. Елизавете нравятся эти игры. Екатерина взяла его под руку: — Том, я вас ни в чем не обвиняю, но вы должны понять, что она уже не ребенок и может воспринимать это романтически. — Ха! — хохотнул Том. — Тогда она больше дочь своей матери, чем я думал. — Это возраст, — подчеркнула Екатерина, желая, чтобы он воспринял ее слова серьезно. — Юные девушки бывают крайне чувствительны к тому, как относятся к ним взрослые мужчины. А Елизавета не просто юная девушка. Дыхание скандала не должно коснуться ее. Если это случится, вы и я, как опекуны, окажемся в ужасной опасности, да и сама она тоже. Слухи уже поползли. Ноздри Тома раздулись — верный знак, что он злится. — Порочные умы выдумывают грязные вещи! Я ничего плохого не имел в мыслях и не оставлю того, что делал. Я не пойду на поводу у тех, кто видит дурное там, где ничего такого нет. — Том… — Довольно, Кейт. Не продолжайте. — Тогда я буду присоединяться к вам по утрам, и злые языки умолкнут. Том пожал плечами и не стал протестовать. Это успокоило Екатерину.
На следующее утро и еще несколько дней Екатерина вставала рано и ходила с Томом пожелать Елизавете доброго утра. Когда она впервые вошла в спальню, от нее не ускользнул злобный огонек, промелькнувший в глазах падчерицы, и Екатерина поняла, что той не по вкусу ее присутствие. Ей было ясно как день, что Елизавета без ума от Тома, так почему же сам он этого не замечает? Несмотря на присутствие Екатерины и миссис Эшли, Том поцеловал Елизавету в губы, как было принято, пощекотал ее, погонялся за ней по комнате и шлепнул по попе, как будто хотел продемонстрировать, что все это — безобидное веселье. Елизавета протестовала и пыталась увильнуть от него, но Екатерина видела, что недовольство ее напускное, а на самом деле она безмерно наслаждается вниманием к себе и даже слегка поощряет его. В конце недели Екатерина поняла, что напрасно тратит время. — Тут ничего страшного нет, — заверила она миссис Эшли. — Пока вы присутствуете здесь, никакого скандала быть не может. Больше мне приходить незачем. Воспитательница посмотрела на нее с сомнением: — Как хотите, мадам. — Но я поговорю с Елизаветой. Ей нужно научиться быть более осмотрительной. После завтрака Екатерина попросила свою падчерицу остаться за столом. Том давно уже уехал на охоту, а леди Джейн тихо удалилась в учебную комнату. Екатерина улыбнулась Елизавете: — Эти утренние визиты милорда… вам они нравятся, я вижу. — Вовсе нет, — ответила Елизавета, всполошившись и мигом приняв защитную стойку. — Я, как могу, стараюсь избегать его, но он все равно приходит. Я встаю раньше, чем обычно. Зову своих девушек. Я не могу заставить его уйти. — Но вы не подумали пожаловаться миссис Эшли, или мне, или даже королю, или Тайному совету, значит эти визиты не так уж неприятны вам. На самом деле, я думаю, они вообще не вызывают у вас ни малейшего неудовольствия. — Еще как вызывают! — воскликнула Елизавета. — Вы даже не представляете, что сейчас сами выдаете себя, — мягко проговорила Екатерина. — Я понимаю, вы немного потеряли голову, но, уверяю вас, милорд относится к этому совершенно иначе. Для него вы дитя. Екатерина заметила, что от злости бледное лицо Елизаветы залилось краской, совсем как у отца, и вдруг ей стало ясно: падчерица завидует — завидует ей, потому что она замужем за Томом. — Он не думал обо мне как о ребенке, когда просил моей руки! — бросила в ответ Елизавета. Ее слова были для Екатерины как удар под дых. — Кейт Эшли сказала мне. Она говорит, больше всего он хотел бы жениться на мне, но Совет ему не позволит. Поэтому ему приходится довольствоваться вами. Без сомнения, слова эти Елизавета произнесла в запальчивости и не представляла, как метко и жестоко они разили в цель. — Вы злая и неблагодарная девушка! — крикнула Екатерина, встала и открыла дверь. — Уходите! Позже я решу, что с вами делать. — Нет! Простите меня, простите! Я не хотела этого говорить! Не хотела! — в отчаянии заверещала Елизавета. — Не прогоняйте меня, прошу. Я больше не взгляну на него, обещаю. Я обещаю! — Она схватила руки Екатерины и крепко сжала их. — Вы были так добры ко мне, лучшая мачеха, какая у меня была… — Хорошо, хорошо, — сказала Екатерина, сама едва не плача и желая остаться в одиночестве, чтобы осмыслить ужасную вещь, которую открыла ей Елизавета. — Я не отошлю вас прочь. Но, думаю, нам обеим нужно время, чтобы успокоиться. Идите заниматься, увидимся позже. И прошу вас, будьте осмотрительны с милордом адмиралом. Люди распускают сплетни, а вам нельзя рисковать. Не забывайте, кто вы! — Да, матушка. — Елизавета всхлипнула и быстро ушла.
Екатерина полагала, что пресекла проблему в зародыше. В тот вечер она сидела за роскошным ужином, который Том устроил в заново отделанном Сеймур-Плейсе, и видела многочисленные доказательства того, что он любящий и заботливый супруг. Ей не верилось в сказанное Елизаветой. Вероятно, это не более чем домыслы миссис Эшли. И все же был ведь момент после смерти Генриха, когда она думала, что Том возобновит свои ухаживания, а он этого не делал. Но, конечно, он просто уважал тот факт, что она только-только овдовела. Было бы крайне неприлично обращаться к ней с предложением руки в то время. А потом он был таким страстным, таким обожающим поклонником. Нет, глупости, она больше не станет об этом думать, и об играх с Елизаветой тоже. Невинные забавы — вот что это такое. Он любит ее, в этом Екатерина не сомневалась, и женился на ней. На время ужина она решила забыть о тревогах и получать удовольствие. Позже Том показал ей свои владения, и Екатерина восхищалась сделанными им улучшениями в просторном доме и красивом террасном саду, который спускался к реке. Все тут громко заявляло о благородстве и статусе хозяина. Но пока они не останутся здесь. Том не любил Лондон в разгар лета, да и Екатерина опасалась чумы, а уже поговаривали, что появилось несколько случаев. Она предложила перебраться в ее дворец Ханворт, который был по размеру больше Челси. Екатерина понимала, что у Елизаветы он вызовет смешанные чувства, так как этот изысканный особняк в итальянском стиле когда-то принадлежал Анне Болейн. Каминные трубы были расписаны классическими сценами, а терракотовые бюсты римских императоров могли напомнить Елизавете о страсти ее отца к матери. Но, когда весь двор Екатерины перебрался туда, Елизавете дом понравился. Казалось, девушку очаровывало все, связанное с ее матерью. Екатерину больше всего привлекали в Ханворте сады. В это время года они были особенно прекрасны, и она проводила много времени на воздухе, любуясь ими. Там можно было играть в шары, стрелять из лука по мишеням и даже заниматься танцами на траве. Местные жители имели право проходить через охотничий парк и вскоре начали приносить Екатерине скромные дары — клубнику и взбитое дома масло. Жизнь текла идиллически, и хозяйка дворца не опасалась, что здесь ее могут коснуться какие-нибудь неприятности. Том продолжал развлекать Елизавету, и пусть. Намерения у него добрые. Многие отцы дурачатся со своими дочерями. Екатерина решила никогда больше не ездить ко двору, однако Том убедил ее отправиться с ним в Отлендс, убедив, что Нан сейчас там нет и у нее будет шанс увидеться с королем. Она позволила уговорить себя, вопреки здравому смыслу, и сильно рассердилась, обнаружив, что король окружен родственниками Нан, которые с огромным удовольствиемсообщили Екатерине, что его величество не может ее принять. Однако Нэд, более дружелюбный, чем при последней их встрече, пригласил ее и Тома поужинать с ним в его роскошных апартаментах. Екатерина заметила, как завистливо осматривался там Том. Удивительно, но Нэд стал извиняться за то, что не смог отдать ей украшения королевы. — Чтобы загладить свою вину, я назначаю Тома генерал-капитаном и заместителем протектора в Южной Англии и отдаю ему замок Садели в Глостершире. Это потрясающее место, и вам, мадам, понравятся сады. Двоюродный дед покойного короля, Джаспер Тюдор, пятьдесят с лишком лет назад сделал там много перестроек, и замок стал довольно роскошным. — Весьма благодарен, — сказал Том. — Хорошо будет иметь собственное загородное поместье — наше собственное, Кейт. Я съезжу туда на следующей неделе и посмотрю, не нужно ли провести там какие-нибудь работы. Спасибо, Нэд. Если бы только отношения между братьями всегда были такими. Это Нан вбивала клин между ними, в чем Екатерина не сомневалась. Когда ее не было рядом, Нэд вел себя гораздо дружелюбнее и проявлял уступчивость. Из Садели Том вернулся полный идей. — Замок великолепен! Он старомодный и немного запущенный, но я составил программу строительных работ. Когда они будут завершены, ни один из домов Нэда не сравнится с ним в роскоши!
Из Ханворта, пытаясь навести мосты, Екатерина написала Марии, поинтересовалась, закончила ли та перевод Евангелия от Иоанна, и обрадовалась, получив ответ, облеченный в довольно теплые фразы. Мария завершила работу, но пользовалась помощью и все равно считала, что его нужно опубликовать анонимно. «Слава должна достаться Вам», — написала ей Екатерина и наконец убедила падчерицу поставить на книге свое имя. Это был шаг вперед, и она надеялась, что со временем Мария еще больше смягчится по отношению к ней. Жизнь их всегда сопровождали раздоры. Нэд, казалось, иногда намеренно провоцировал Тома. Шотландцы продолжали упорно отказывать англичанам в попытках добиться руки их юной королевы Марии для Эдуарда, и в сентябре Нэд решил вернуться к силовым методам убеждения. Том загорелся идеей, что флот сыграет важную роль в приведении шотландцев к покорности, и стремился снова отправиться в открытое море. Потом пришла новость: морского нападения не будет, так что в его услугах не нуждаются. Несколько часов Том в раздражении ходил по дому и придирался ко всем, потом успокоился и пришел в гостиную к Екатерине. — Разумеется, Нэду понадобится регент, когда он отправится с армией на Север. Это должен быть я. Вот почему он велел мне остаться. Но все оказалось не так. — Меня нет даже в списке тайных советников! — бушевал Том. — Я даже не назначен наставником короля! Это должен быть я! Я дядя короля. — Он был вне себя и никак не мог успокоиться. — Боже мой, да настанет ли конец злобным проискам этой женщины? — Как они смеют! — негодовала Екатерина. — Нет никого, кто больше вас подходил бы для роли регента. Это оскорбление, и оно мотивировано ревностью, это ясно. Они не хотят, чтобы вы преуспели на этом посту, а это, без сомнения, произошло бы, потому и не дают вам шанса проявить себя, чтобы люди не подумали, будто вы справляетесь лучше Нэда. Их мотивы понять легко. — А тем временем меня выставляют ничего не стоящим дураком. Я этого не потерплю! Но, сколько бы ни бушевал Том в Совете, сколько бы ни нападал на своего брата, ему все равно было велено сидеть тихо и не высовываться. — Если мы выиграем эту войну, королеву шотландцев мигом притащат сюда, и тогда — прощай, леди Джейн! — запальчиво рассуждал он. — А вы на самом деле говорили с королем о женитьбе на ней? — спросила Екатерина, припоминая, что Том давно уже не поднимал эту тему. — Да, — буркнул он. — И? — Отнесся с прохладцей, — признался Том. — Хочет хорошо обеспеченную супругу, желательно с королевством. Он жаждет получить Шотландию, как хотел его отец. Но я предупредил Эдуарда, что у него будут проблемы, если он возьмет себе в супруги католичку, дядья которой в большом почете при французском дворе. — Том, ей всего пять лет, и ее можно воспитать в соответствии с его желаниями или, скорее, с желаниями Нэда. — Тут не берутся в расчет ее дядья. Им придется сказать свое слово. Нет, Кейт, я и дальше буду обрабатывать его. Он доверяет моему мнению больше, чем мнению Нэда. — Это верно. — Однако Екатерина испытывала сомнения. Эдуарда растили в убеждении, что когда-нибудь он станет править Шотландией. Тому придется сильно постараться, чтобы убедить его. По крайней мере с отъездом Нэда Тому стало легче получить доступ к королю. — Дорогой, — сказала Екатерина, — Эдуарду почти десять, и он очень развит для своих лет. Думаю, вам нужно вложить ему в голову, что он должен как можно скорее взять на себя управление и самостоятельно разбираться со своими делами. — Ей-богу, вы правы! — взревел Том. — Я сделаю это, не бойтесь!
В середине сентября из Хортон-Холла в Нортгемптоншире пришло письмо от тети Мэри с известием о кончине дяди Екатерины. Она долго плакала. Дядя Уильям, сколько она себя помнила, был стабильной силой в ее жизни. Его мудрость и доброта всегда служили ей опорой. Трудно было представить себе мир без него. Екатерина жалела, что редко виделась с дядей Уильямом в последние годы, но здоровье его ухудшалось, и он редко бывал в Лондоне или при дворе, предпочитая оставаться в Рай-Хаусе, где воздух более здоровый. Если бы только она ездила к нему почаще; если бы не была так занята своими проблемами! Екатерина, Уилл и Анна совершили поездку в Хортон каждый отдельно. Тетю Мэри посещали все ее кузены и кузины, и ей не нужно было появление сразу слишком большого числа знатных гостей. Они присутствовали на погребении в приходской церкви, а потом вернулись в дом на поминки. Уиллу нужно было ко двору, остальные тоже разъехались, но Екатерина, Анна и Магдалена Лейн остались, чтобы поддержать тетю Мэри в самые первые и трудные дни вдовства, помочь ей разобрать вещи дяди Уильяма, многие из которых были отнесены в церковь для раздачи бедным. Магдалена задержалась еще ненадолго, так что Анна и Екатерина поехали обратно на юг вместе. Добравшись до Ханворта, Екатерина была физически и эмоционально истощена, а там находился Том, злой и безразличный к ее несчастью. — Нэд одержал крупную победу, — прошипел он. — Где? Разве это плохая новость? — У местечка под названием Пинки, недалеко от Эдинбурга. Я должен был быть там! — Он ударил по воздуху кулаком. — Конечно, — слабым голосом отозвалась Екатерина и опустилась в кресло.
В Англии праздновали победу, но шотландцы все равно отказывались подписывать соглашение, и борьба продолжилась. Том улучил возможность покритиковать брата перед королем. — Я сказал, что эту войну никогда не выиграть и она истощает финансовые ресурсы, которых у нас нет, — рассказывал он Екатерине однажды по возвращении из Хэмптон-Корта, — а также напомнил ему, что Нэд присвоил себе или продал многие земли, принадлежавшие Короне. Король не очень обрадовался, услышав это. Я предупредил его об опасности быть слишком робким с Нэдом и побуждал взять на себя правление, как делают другие короли, а потом добавил, что его дядя стар и вряд ли проживет долго. Екатерина ужаснулась, ведь Том говорил о своем брате. Но между ними не было любви. Нэд уничтожил ее по частям, вот и остались только зависть и возмущение. — И что сказал его милость? — спросила она, откладывая вышивание. — Он сказал: «Лучше бы он умер». А потом добавил, что тогда стал бы править сам с помощью своего любимого дяди и что он одобряет тайные меры, которые я предпринимаю, дабы отодвинуть от власти Нэда. — Том улыбнулся и взял со стола стопку бумаг. — Я просматриваю документы в поисках прецедентов. Хорошо, что сэр Ричард Пейдж, нынешний наставник короля, — пьяница. Я могу выпроваживать его без проблем. И я начал заручаться поддержкой советников. — Все это внушает надежду, — заметила Екатерина. — Молю Бога, чтобы вы добились успеха. Жить с Томом явно будет легче, если это произойдет и он обретет признание и статус, какие полагались ему по праву. Люди недооценивали его. Ревность Нэда не давала ему играть важную роль в правительстве, как и враждебность невестки. Если Тому повезет, скоро Нан перестанет улыбаться.
Все ждали, что Нэд будет продолжать войну до полной победы, но тот вдруг вернулся ко двору, распустив армию. Никто не удивился этому больше, чем Том. — И хуже всего то, что брат был очень мил со мной, — сказал он. — Думаю, ему что-то известно. Приятные сюрпризы продолжались. Нан прислала Екатерине мармелад собственного изготовления и добытую на охоте олениху. — Должно быть, она надеется, что вы подавитесь, — пробурчал Том. Однако другие люди последовали примеру герцога и герцогини. Скандал, окружавший брак Екатерины, к счастью, ушел в историю, и теперь она вновь принимала многочисленных гостей и устраивала для них развлечения. Ее дом стал вторым двором, куда часто наведывались знать и советники, и Том с удовольствием разыгрывал роль радушного и щедрого хозяина. Некоторые из гостей были его тайными союзниками, лебезившими перед тем, кто скоро может оказаться при власти; другие приезжали ради живых интеллектуальных и религиозных бесед, которые затевала Екатерина, спокойно восседая во главе стола и пользуясь почтением и обхождением, подобающими королеве. Даже герцогиня Саффолк заглядывала к ним, дружелюбная, как прежде, и Екатерина постаралась забыть обидные выходки, которые та устраивала всего несколько недель назад. Они сидели в летней гостиной, пили сладкий напиток и вскоре увлеклись интеллектуальным спором, хотя теперь, когда протестантство стало официальной религией Англии, их дискуссия не была такой острой, как прежде, ведь битва выиграна. — Какими крестоносцами мы были тогда, — вспоминала герцогиня. — Мы подвергались большой опасности, — напомнила ей Екатерина. — Меня едва не арестовали. — Вы так умно смягчали гнев короля. Я думаю, он знал о ваших истинных взглядах и покровительствовал вам. — Знал. Но как верховный глава Церкви не мог сделать больше. А Гардинер шел по следу. — Он и сейчас такой. Я слышала, он противится всем реформам милорда протектора. Если не поостережется, закончит свои дни в тюрьме. — Теперь он нам не страшен, — сказала Екатерина. — Вот и славно! — отозвалась герцогиня и сменила тему: — Вы планируете еще какую-нибудь книгу? — Я размышляла об этом. Меня вдохновила книга Маргариты Наваррской «Зерцало грешной души», я могла бы описать по ее мотивам собственное духовное путешествие от внушенного мне в детстве папизма до принятия новой веры. Что вы думаете? — Думаю, это может оказаться очень назидательным. Другие ваши книги хорошо продаются. Вы должны это сделать. Вам нужно чем-то заняться. — Я сделаю! — решительно согласилась Екатерина. — И начну сегодня же вечером.
Екатерина замечала, что Том все больше тяготится тем, что он ниже ее рангом. Что бы он ни делал, ему никогда не возвыситься до статуса королевской особы. Том не скрывал, что ему неприятно сидеть слева от ее балдахина с государственными гербами, когда они принимают гостей. Ворчал, что приходится уступать ей место во главе стола, хотя, как муж, первенствовать во всем должен он. Это огорчало Екатерину. Сперва высокое положение супруги не имело для него значения. Любовь перекрывала все, когда они отдавались первым порывам страсти. Он и сейчас любил и вожделел ее, но мужская гордость заставляла его очень остро реагировать на малейшее умаление своего достоинства, а недовольство Нэдом и зависть к нему иногда переносились и на жену. Том устраивал сцены и кричал, обычно по ничтожным поводам. Любая мелочь могла вывести его из себя. Екатерина понимала чувства своего супруга. Нэд подавлял брата. Таланты Тома использовались не в полную силу, если вообще находили себе применение. Надежды на обретение власти посредством женитьбы короля на леди Джейн становились все более призрачными. Он находился в сложной ситуации и был не из тех людей, которые станут спокойно наблюдать, как их обходят почестями и вниманием. Ему нужно было сыграть свою роль в мире — роль, для которой предназначил его Бог. Поэтому Екатерина сносила бури, зная, что гнев Тома на самом деле направлен не против нее, выказывая ему сочувствие и поддержку. Однако в октябре вечно кипящий в Томе гнев начал выплескиваться наружу, принимая более неприятные формы. Как-то раз вечером они лежали в постели после особенно приятного ужина с гостями, во время которого родственник Екатерины Николас Трокмортон завел долгий разговор о грандиозных планах Нэда относительно Сомерсет-Хауса, огромного дома, который тот строил на Стрэнде, на расстоянии броска камня от Сеймур-Плейса. — Он сносит соседские дома на глазах у хозяев, мало отличая свое от чужого, — сказал Трокмортон. — Так же как он поступает с землями Короны, — заметила Екатерина. Гости внимательно слушали; ножи и вилки зависли в воздухе. Екатерина упивалась этой сценой. — Вас не удивляет, что, пока его величество ведет войну с Шотландией, в Лондоне опять появилась чума, а королевство почти банкрот, милорд протектор привозит из Италии архитекторов и затевает строительство дворца, каких в Англии не бывало? Том смотрел на нее мрачно. Она решила, что его злят экстравагантные выходки брата. Однако, когда они лежали в постели, Том, не пододвигавшийся к ней, прорычал сквозь зубы: — О чем вы думали, когда флиртовали с Трокмортоном? — Флиртовала? Вы с ума сошли? Я просто разговаривала с ним. Он мой родственник. — Я наблюдал за вами. Вы строили ему глазки. — Ничего такого я не делала! — возмутилась Екатерина. — А что, я должна была сидеть молча на ужине с гостями? Я не заметила, чтобы вы много участвовали в беседе! Том схватил ее за руку, слишком сильно. — Я был занят наблюдениями за тем, как вы красуетесь перед ним, не обращая внимания на других гостей. Вы королева, Кейт, и должны следить за тем, чтобы не оказывать особенного внимания кому-то, кроме меня. Его нападки были такими несправедливыми и безосновательными, что Екатерина на миг потеряла дар речи. — Что на вас нашло, Том? — спросила она, немного оправившись от потрясения, — Вы же говорите со мной, с Кейт! Неужели вы так плохо думаете обо мне? Это ужасные обвинения, вам следует извиниться. — Вы моя жена и будете поступать так, как я велю! — отпарировал он. — О, перестаньте говорить глупости! — бросила Екатерина и повернулась к нему спиной. Вместо ответа Том выскочил из постели и раздраженно ушел в свои покои. Екатерина предчувствовала, что утром он изменится, так и оказалось: за завтраком Том приветствовал ее как ни в чем не бывало. Но он не извинился. Через неделю похолодало. Екатерина приказала растопить камин в зимней гостиной и ушла туда одна со своими книгами, чтобы заняться испанским. Пока она сидела за столом, в дверь постучал грум и вошел с корзиной угля для очага. Екатерина была рада, когда он ушел и оставил ее одну, но, как только дверь затворилась, снаружи раздался шум. — Ты не должен был находиться наедине с королевой, негодяй! — орал Том. — Прошу прощения, милорд, я всего лишь принес уголь, — нервно оправдывался грум. — Просто принес уголь? Какой необычный предлог! — глумливо проговорил Том. Екатерина подскочила и распахнула дверь. — Этот человек пришел сюда по моему приказу и вел себя почтительно, — сказала она, сверкая на мужа глазами. — Поди прочь! — приказал тот груму, потом затащил Екатерину обратно в гостиную и закричал: — О чем вы думали, оставаясь с ним наедине? — Он слуга! Я занималась! Ради Бога! И не обязана отчитываться перед вами в каждом своем шаге. Том, это нелепо. И тут он занес руку, будто для удара. Екатерина схватила ее и отстранила от себя. — Том! Что вы делаете? Что с вами? Разве вы не видите, что я не смотрю ни на одного мужчину, кроме вас? Рука его обмякла; Екатерина отпустила ее, а Том, потрясенный, глядел на жену. — Ей-богу, дорогая, извините меня. — Он тяжело опустился на стул и закрыл лицо ладонями. — Просто я все время так злюсь. И от этого поступаю неразумно, я знаю, простите. — Вы заставили меня беспокоиться. — Екатерина опустилась рядом с ним на колени. — Не позволяйте окружающему миру встревать между нами. Помните, я на вашей стороне. Том заключил ее в объятия: — Вы простите меня? Я постараюсь не быть таким демоном. — Конечно прощу, — ответила Екатерина, кладя голову ему на плечо и чувствуя облегчение оттого, что они снова вместе. — Но если вы еще раз поднимете на меня руку, ваши вещи будут выставлены в холл! — Это было сказано в шутку лишь наполовину.
Внешне между ними снова царила гармония, и Том опять стал заботливым супругом. Но Екатерина не могла избавиться от тревоги. Теперь, зная, какой переменчивый нрав у Тома, она опасалась провоцировать его и постоянно ощущала необходимость доказывать ему свою любовь и верность. Неустанно следила за ним, задаваясь вопросом, не наблюдает ли он за ней, проверяя ее постоянство. Екатерина знала, что Том берет много золота из ее сундуков, так как об этом сообщил ее встревоженный казначей, но не смела жаловаться. Она заметила, что жили они еще более роскошно, и догадалась, на что тратились эти средства. Другие люди тоже заметили перепады настроения Тома. Атмосфера в Ханворте, прежде такая радушная, теперь становилась тяжелой, удушающей. Казалось, гневливость хозяина проникала сквозь стены. Том вечно ругал своего брата и жаловался на несправедливое отношение к себе, а ведь он был не из тех людей, которые высказывают свое неудовольствие тихо. Нет, ему нужно было орать и бесноваться, отчего слуги разбегались кто куда. Миссис Эшли сообщила Екатерине, что Том снова стал вторгаться в спальню Елизаветы по утрам. Чтобы успокоить воспитательницу, она пару раз составляла ему компанию, и они щекотали Елизавету, пока та лежала в постели, доводя ее до истерического хохота. Екатерина знала, что нужно положить конец этим неуместным выходкам, но не хотела перечить Тому в его теперешнем настроении. Она предполагала, что миссис Эшли тоже избегает стычек с ним, и задумалась, не побаивается ли его Елизавета. Тогда Екатерина пошла на хитрость и стала пытаться отвлечь Тома, заманивая его по утрам подольше оставаться в постели и предаваться брачным утехам. Иногда это срабатывало, но ей было неприятно, что их занятия любовью превращаются в часть какой-то замысловатой стратегии. Однажды ясным октябрьским утром они встали с супружеского ложа и прогуливались рука об руку по саду, как вдруг увидели вдалеке показавшуюся из дома Елизавету. — Почему она все время ходит в одном и том же черном платье? — запальчиво спросил Том. — Она до сих пор в трауре по отцу, — ответила Екатерина, глядя на свой зеленый наряд и испытывая легкое чувство вины за то, что сама она так быстро отказалась от траурной одежды. — Она должна носить что-нибудь другое. Это ей не идет. — Я согласна, но оставьте ее в покое. — Нет. Девочке ее возраста ни к чему облачаться в черное. Ей-богу, я заставлю ее переодеться! Не успела Екатерина возразить, как он направился к дому. Елизавета заметила его и свернула на другую дорожку. Том погнался за ней, и вскоре девушка уже неслась от него; гравий скрипел под ее ногами. — Помогите! — кричала Елизавета, подбегая к стоявшей у фонтана Екатерине, которая, наблюдая за ними, размышляла, является эта погоня обычной шуткой Тома или ей пора вмешаться? — Милорд гонится за мной! Он говорит, что заставит меня сменить платье. — Держите ее! — приказал Том, появляясь сзади. — Кейт, держите ее! Боясь вызвать его гнев, Екатерина взяла Елизавету за плечи. — Он не навредит вам, — сказала она. — Это всего лишь игра. Екатерина не могла поверить своим глазам, когда Том взял из корзины изумленного садовника ножницы и начал кромсать ими юбку платья протестующей и вырывающейся Елизаветы. — Вы больше не наденете это ужасное платье! — кричал Том и хохотал. Щелк, щелк, щелк. Он резал с такой яростью, что Екатерина испугалась, как бы супруг не поранил Елизавету, и держала ее крепко, шипя на Тома, чтобы тот прекратил, а садовник таращился на них с разинутым ртом. Том беспечно игнорировал ее, и вскоре юбка превратилась в ленты, а на земле валялось множество обрезков черной ткани, с которыми играл ветер. — Довольно! — сказала Екатерина, видя Елизавету в слезах. — Пожалейте бедняжку, остановитесь! Том отошел на шаг назад, любуясь делом своих рук. — Так-то лучше, — усмехнулся он. Не говоря ни слова, Елизавета убежала в дом; изрезанное платье и киртл едва прикрывали ее нижнюю сорочку. — Вы не должны были этого делать! — воскликнула Екатерина. — Я не поранил ее. С ней все будет в порядке. — Вы уязвили ее гордость — и напугали. Не таких поступков ожидают от хорошего опекуна. Я лучше пойду и успокою ее. Екатерина ушла, не в силах поверить в то, что сотворил Том. Это было совершенно неуместно, и он явно хватил через край. Он просто не умел вовремя остановиться, и все слишком боялись его, чтобы делать замечания. Екатерина пожалела, что не проявила твердости. На лестнице она встретила миссис Эшли, лицо которой было красным от возмущения. — Я как раз шла искать вашу милость, — сказала воспитательница. — Я была потрясена, увидев, в каком состоянии моя юная леди. Она рассказала мне, что случилось, и сообщила, что не могла убежать, так как вы держали ее. Правда, мадам, на этот раз милорд зашел слишком далеко! — Полностью согласна с вами и сожалею об этом. Я не знала, что он собирается сделать. Думала, будет щекотать ее. Когда он начал резать на ней платье, а она сопротивлялась, я удерживала ее, боясь, как бы он не поранил девочку. Я чувствую себя ужасно из-за этого. — Ваша милость, молю вас, поговорите с ним! — Уже поговорила. Эшли немного успокоилась. — Я хочу только одного: чтобы милорд обращался с миледи уважительно, как она того заслуживает. Я понимаю, что он близок с вами, мадам, вы его жена, но Елизавета — вторая в очереди на престол. — Я еще раз напомню об этом милорду. Однако Том ничуть не раскаивался. Он не видел ничего дурного в своем поступке и не стал извиняться. Но, может быть, она все-таки неправильно судила о нем, по крайней мере Екатерина так подумала, когда несколько дней спустя он пришел к ней в гостиную весьма недовольный и полный отеческого беспокойства за Елизавету. — Кейт, я только что увидел сцену, которая меня сильно встревожила. Я шел по южной галерее и, проходя мимо окошка, откуда видна антикамера перед часовней, заметил там какое-то движение. Я заглянул туда и увидел миледи Елизавету, она обнимала за шею какого-то мужчину. Они целовались. Рука Екатерины подлетела ко рту. — Какого мужчину? Кого? — Я не разглядел его лица, ее голова мешала. Но мы не можем это так оставить, Кейт. Слишком многое стоит на кону, не только ее репутация. — Том начинал горячиться, и в голове у Екатерины даже промелькнула предательская мысль: уж не ревностью ли вызвано это подозрение? Но она мигом отмахнулась от нее. — Где эта женщина, Эшли? — прорычал Том. — Почему она не следит за своей воспитанницей? Она что, позволяет ей бегать где угодно? Она должна быть более бдительной! — Я вызову ее сейчас же, — сказала глубоко встревоженная Екатерина. Если слух об этом происшествии дойдет до Совета… Страшно подумать, что будет. — И переговорю с ней наедине. Екатерине не хотелось, чтобы Том запугивал миссис Эшли, потеряв терпение. К облегчению Екатерины, он согласился. Миссис Эшли пришла в ужас. — Я ничего об этом не знаю, мадам, клянусь! — Но вы должны знать! Это ваша обязанность — знать, где ваша воспитанница и чем она занимается! — Тон Екатерины был холоден. Она сердилась на миссис Эшли: как можно допускать такое! Меньше всего ей сейчас был нужен очередной скандал. — Мадам, — обиженно проговорила гувернантка, — я полагала, что она занимается у себя в комнате. Она всегда находится там в это время. — Тогда приведите Елизавету сюда, и мы спросим ее. Девушка пришла с настороженным видом. Екатерина заговорила первой: — Вас видели с мужчиной, вы целовали его в антикамере перед часовней час назад. Что вы можете сказать в свое оправдание? Елизавета бросилась в слезы: — Что? Я ничего такого не делала. Кто сказал это? — Тот, кто желает вам добра. Елизавета, вы говорите мне чистую правду? — Да, матушка, да! Можете спросить моих дам. Они были со мною все время. Это грязная ложь! Екатерина попросила ее подождать в спальне и вызвала женщин, которые служили Елизавете, одну за другой. Все они говорили одно и то же: миледи усердно занималась; она не вставала из-за стола, даже чтобы воспользоваться уборной. Екатерину затошнило. Неужели Том все это выдумал? Если так, то зачем? Она снова позвала Елизавету. — Простите, что я плохо подумала о вас, и вы тоже, миссис Эшли. Я не сомневаюсь, что там, в галерее, был кто-то другой. Но я не могла оставить это без внимания, вы должны понять меня. — Мне хотелось бы знать, кто распространяет такие гнусные сплетни обо мне, — сказала Елизавета. — Думаю, тут не было дурных намерений, просто ошибка. А теперь возвращайтесь к своим книгам и больше не думайте об этом. Елизавета ушла, не проронив ни слова, оставив Екатерину с ощущением, что ей теперь придется наводить мосты. Продуманный подарок все исправит — какая-нибудь милая брошка или красивые кожаные перчатки. Она подарит их своей падчерице за ужином и снова извинится. Миссис Эшли не уходила и неодобрительно глядела на Екатерину. — Что еще? — спросила та. — Был ли там мужчина, мадам? Екатерина не понимала, на что намекает Эшли, и не хотела прояснять это. — Я уверена, что был, — сказала она. — Но кто это мог быть, мадам? Тут из мужчин только Гриндал и адмирал, если исключить ваших придворных чинов и слуг. Не могу ни на миг допустить, чтобы Гриндал позволил себе такую вольность. — Я тоже. Он слишком увлечен науками и живет как монах. Нет, миссис Эшли, единственное объяснение — что милорд спутал Елизавету с какой-то служанкой. — Да, полагаю, вы правы, мадам, — сказала миссис Эшли, но Екатерина почувствовала, что она не приняла этого объяснения.
Позже в том же месяце Екатерина и Том поехали в Сеймур-Плейс, чтобы он мог присутствовать в парламенте. Отношения с Елизаветой и миссис Эшли оставались натянутыми, и Екатерина оставила их в Ханворте с Лиззи, решив, что им всем нужно немного отдохнуть друг от друга. Джейн отправилась вместе с ними в Лондон, где заботу о ней возьмет на себя милая леди Сеймур. Это стало облегчением, так как Екатерина начала сознавать, что Джейн лучше жить отдельно от Елизаветы, вокруг которой происходило слишком много разных событий. Одиннадцатилетней Джейн лучше ничего о них не знать. Если она обмолвится об этом в своих частых письмах к родителям, это не останется без последствий, причем весьма серьезных. Том питал большие надежды на парламент. Он хотел добиться, чтобы ему доверили контроль над королем. Во многих городах, графствах и боро он давал взятки, чтобы в парламент выбирали его сторонников, и Екатерина делала то же самое в своих землях, в результате большинство лордов и членов парламента были людьми Тома. Его друзья из Тайного совета предупредили, что из этих замыслов ничего хорошего не выйдет и это может плохо отозваться на нем. — Уорик говорит, что я в конце концов окажусь в Тауэре, — сказал Том Екатерине. — Ей-богу, если кто-нибудь попробует засадить меня туда, я вонжу в него кинжал! — Даже в Нэда? — спросила она. — Даже в Нэда! Клянусь Богом, я лучше буду жить без него, чем без себя! Сердце Екатерины упало. У нее появилось недоброе предчувствие в связи с этой поездкой в парламент. Том возлагал на нее слишком большие надежды. Ей невыносимо было думать, каким он станет и как трудно будет жить с ним, если его планы окажутся перечеркнутыми.
Благодаря постоянной поддержке леди Саффолк и Уилла книга Екатерины была завершена. В ней она отдала дань памяти Генриха, снова сравнив его с Моисеем, выведшим своих людей из плена и рабства. Она восхваляла его за то, что он поднял завесы, развеял туман заблуждений и привел своих подданных к познанию истины через свет Слова Божия. Несколько фраз Екатерина сказала и о тирании Рима. В этой третьей книге было больше ее собственных мыслей, чем в предыдущих. Больше всего ей хотелось описать свое простое усердие в вере, смиренную и глубокую любовь к Господу. Екатерина назвала свой труд «Плач грешницы». Книга вышла в свет в ноябре и пользовалась большим спросом. Она заслужила высокие похвалы и ученых, и богословов. Том радовался за нее, но был очень занят своими делами. — Боже мой, этот мальчишка идиот! — с таким возгласом он однажды влетел в гостиную Екатерины, где та упаковывала экземпляр своей книги, чтобы отправить его Магдалене Лейн. — Вы имеете в виду его милость короля? — сухо поинтересовалась Екатерина. — Кого же еще? Он только что отказался подписать документ, который я составил, о назначении меня и Нэда вместе воспитателями при нем. Однако парламент у меня в кармане. Теперь мне бы только добиться, чтобы юный Эдуард жил в моем доме, или я просто украду его. — Даже не думайте, — сказала Екатерина, игнорируя лукавый взгляд мужа. К ее удивлению, когда парламент собрался, Том ничего не предпринял. В действительности Нэду пришлось выговаривать ему за отсутствие на заседании в сочельник, когда сессия была прервана. — Вы упускаете свои возможности, — предостерегла мужа Екатерина, уже не в первый раз, когда тот вернулся домой. — Вы наполнили парламент своими людьми, почему же теперь не извлекаете из этого выгоду? — Она устала от него и была раздражена. — Мой брат грозит мне Тауэром, — признался Том. — Некоторые люди в открытую говорят, что подкупать парламент — это сумасшествие. Так что я продолжу оказывать давление на короля. Фоулер постоянно поет мне хвалы и осыпает его карманными деньгами, а я предлагаю взятки джентльменам из личных покоев его милости, чтобы те убеждали Эдуарда в необходимости подписать тот документ. — Если Господу будет угодно, это принесет плоды, — отозвалась Екатерина, чувствуя себя подавленной и размышляя, не был ли Том обречен на провал с самого начала.
На Рождество их пригласили в Хэмптон-Корт. Елизавета и Мария присоединились к ним, несмотря на то что Мария находилась в опале за упорное нежелание отказаться от участия в мессах. Пока барка везла их вверх по реке рождественским утром, Екатерина питала надежды, что у нее появится шанс поговорить с королем и использовать в беседе свое умение убеждать. Это будет нетрудно, она не сомневалась. В последнее время его письма к ней были проникнуты любовью. Однако возможности не представилось. Екатерину шокировал строгий этикет, окружавший десятилетнего короля. Он восседал на троне, как восточный властелин, и надменно поглядывал на собравшихся придворных. Тут не было и намека на беспечную веселость, царившую при дворе в Рождество во времена его отца. Сестер Эдуард принял очень церемонно и немного поговорил с ними в дружелюбной манере, пока они стояли перед ним на коленях. Екатерину и Тома приветствовал очень милостиво, и Екатерина, благодаря своему рангу, за обедом сидела по правую руку от короля. Однако Эдуард говорил только общие фразы. Когда Екатерина спросила, нельзя ли переговорить с ним наедине, он ответил, что спросит лорда-протектора, сидевшего по другую руку от него, однако даже не попытался сделать это. И больше Екатерина ничего о возможности приватной беседы с королем не слышала. Елизавета обрадовалась встрече с ней, хотя в первые несколько мгновений они чувствовали неловкость и, запинаясь, произносили формальные слова вежливости. Мария повела себя довольно дружелюбно, хотя и не так, как прежде. Однако Том, включив все свое очарование, вскоре рассмешил ее и даже заставил слегка покраснеть. — Вы должны посетить нас, миледи Мария, — пригласил ее он. — У нас веселый дом. Екатерина искоса глянула на мужа. В последнее время не так уж у них и весело. Однако она понимала, что Том пытается найти путь к примирению между ней и Марией, и была ему благодарна. — С удовольствием, — ответила та на приглашение Тома. — Может быть, весной.
 Глава 28
1548 год
Глава 28
1548 год
Землю укрыло снегом, наступил январь, и Уилл заехал к Екатерине в Ханворт. Она пригласила его в гостиную обогреться и приказала, чтобы им подали горячего пряного эля.
— Тебя что-то беспокоит, — заметила Екатерина.
Уилл вздохнул:
— Милорд протектор снова отказался дать мне право на обращение в парламент за разводом. Моя жена живет в прелюбодеянии с этим священником и растит своего незаконного сына. Как это соотносится со святостью брака, о которой блеет милорд? А Лиззи все ждет, когда я сделаю ее честной женщиной.
— Да, она очень терпелива. Лиззи по-настоящему любит тебя. И думаю, подождет еще.
— Но она не должна ждать! Кейт, я хочу положить конец ее ненормальному положению. Я хочу, чтобы она стала моей женой. — Уилл замялся. — Архиепископ Кранмер проявил сочувствие. Миледи Саффолк считает, что мне нужно жениться на Лиззи, а Кранмер рано или поздно аннулирует мой брак, это только дело времени. Она напомнила мне, что король Генрих женился на Анне Болейн до того, как Кранмер объявил его союз с Екатериной Арагонской недействительным и утвердил его новый брак.
— Ты думаешь, он даст тебе развод? — спросила Екатерина. — На каких основаниях?
— Я не знаю. Он сказал, вероятно, основания имеются.
— Если он так сказал, ты можешь полагаться на это. Не упускай свой шанс на счастье, Уилл.
— То есть ты тоже считаешь, что мне следует жениться на Лиззи прямо сейчас?
— Да. — Екатерина улыбнулась. — Позвать ее? Потом я оставлю вас вдвоем, чтобы вы обо всем договорились.
В середине января Уилл и Лиззи поженились в часовне Ханворта в присутствии Екатерины, Тома, леди Саффолк, леди Сеймур и Елизаветы, которая любила Лиззи и считала все это невероятно романтичным. Лиззи оставалась при Екатерине, но часто посещала дом на Чартерхаус-сквер, чтобы побыть с Уиллом. Об их любви знали многие, а потому Екатерина не видела опасности в том, что кто-нибудь узнает, что они не стали ждать постановления архиепископа. Уильям Гриндал на Рождество уехал домой к родным и написал оттуда Екатерине о том, что он нездоров и пока не вернется. Вскоре после свадьбы брата она была опечалена письмом матери Гриндала с известием о том, что ее сын умер от чумы. «Какая жестокость!» — подумала Екатерина. Чума обычно свирепствовала летом, хотя вспышки ее продолжались иногда до зимних месяцев. Гриндал был прекрасным человеком и замечательным наставником, его будет не хватать. Елизавета была убита горем и безутешно плакала часами. Тем временем Екатерина занялась поисками для нее нового учителя. Знаменитый мастер Ашэм предложил свои услуги, но Екатерине нравился ее священник, доктор Голдсмит, трезвомыслящий выпускник Кембриджа, который служил ей с момента брака с королем и помогал осваивать языки. Он был предан Екатерине и трогательно называл нашей царицей Эсфирь или царицей Савской, соперничавшей мудростью с Соломоном. Голдсмит превосходно владел латынью и мог стать великолепным наставником для Елизаветы. Однако та хотела заниматься с Ашэмом, который когда-то был ее учителем. Она проходила трудное время становления. Когда миновал год со смерти короля Генриха, что стало сигналом к окончанию траура, Елизавета отказалась носить цветные наряды и одевалась только в черно-белые. Том всегда подчеркнуто громко вздыхал, видя ее. — Я добродетельная протестантская девушка, — высокомерно заявляла она ему. — Вы не увидите меня в парчовых платьях и немыслимых головных уборах. — Вы выглядите старухой в этом дурацком маленьком капоре, — говорил ей Том. — А вы выглядите как сатанинское отродье в ваших шелках и бархате! — парировала Елизавета. Том только усмехался. Он привык к ее едким остроумным ответам, даже поощрял их, но никогда не попадался в расставленные ею ловушки. Екатерина решила, что лучше не придавать особого значения тому, какую одежду выбрала для себя Елизавета. Со своими рыжими волосами она выглядела поразительно эффектно в черно-белых нарядах, и Екатерина подозревала, что за ее выбором кроется скорее тщеславие, чем истинная добродетель. Не посоветовавшись ни с Екатериной, ни с Томом, Елизавета пригласила мастера Ашэма в Ханворт. Он прибыл с видом победителя и остался на несколько дней. Елизавета все время лебезила перед ним. Екатерина ничего не оставалось, кроме как проявить гостеприимство, и Ашэм ей понравился — он был остроумным и эрудированным собеседником. Однако она осталась непреклонна в том, что Голдсмит больше подходит на роль учителя Елизаветы. Та, оставаясь наедине с мачехой, спорила и бурно протестовала. — Я хочу Ашэма! — требовала она, а Екатерина наблюдала за этими выступлениями, сложив на груди руки и качая головой. — Ваша мать решила, что учить вас будет доктор Голдсмит, и довольно об этом! — проревел Том. — Ей-богу, я не буду с ним заниматься! — поклялась Елизавета. Ашэм зашел к Екатерине: — Ваша милость, я слышал крики. Мне не хотелось бы становиться причиной раздоров. Я знаю, что вам и милорду адмиралу нравится доктор Голдсмит, и порекомендовал леди Елизавете согласиться с вашим мнением. Важно, что она успешно развивает в себе таланты, пробужденные в ней уроками мастера Гриндала. Екатерина передала Елизавете слова Ашэма и добавила: — Это дело решенное. — Но у меня должен быть выбор в этом вопросе, — не уступала Елизавета. — Пожалуйста, не спорьте, — сказала Екатерина. — Я сегодня неважно себя чувствую. Она думала, что у нее начинается приступ малярии. Через два дня, когда они вернулись в Сеймур-Плейс, Екатерина начала замечать определенный порядок в проявлении симптомов своего недомогания. Она ощущала тошноту и слабость только по утрам. Это было странное, тяжелое чувство, которое можно было облегчить, лишь поев определенную еду, особенно мясо и рыбу. Екатерина стала подолгу оставаться в постели, ожидая, пока дурнота отступит, и раздумывала: неужели ее надежды и мольбы наконец исполнились? Том по-прежнему поднимался рано. Однажды утром, когда тошнота особенно сильно донимала Екатерину, стоило ей выйти из спальни, как явилась миссис Эшли. Екатерине хотелось спокойно посидеть в кресле, но пришлось предложить гувернантке место рядом. Лишь бы только она изложила свое дело покороче. — Простите, мадам, — сказала та с сокрушенным видом, — но я не могу не сообщить вам о том, что произошло. На этой неделе милорд адмирал каждое утро приходил в комнату миледи, и сегодня, когда миледи Елизавета занималась, он появился с голыми ногами, в ночном халате и тапочках. Он лишь заглянул в дверь из галереи, пожелал ей доброго утра и пошел дальше, но, мадам, мне пришлось пойти за ним и сказать, что это было неподобающее зрелище, как не вполне одетый мужчина заходит в комнату к девушке. Боюсь, я рассердила его, но он ничего не сказал, просто ушел. Екатерина вздохнула. Сейчас все это было ей совсем не нужно. Она так измучилась, что ее почти не интересовало, чем занимается Том. Однако за обедом Екатерина затронула эту тему, передав ему слова миссис Эшли. — Все было вполне прилично! — огрызнулся Том. — Я вовсе не был голым! Просто пожелал Елизавете доброго утра. Эта Эшли вечно видит дурное там, где ничего похожего нет, и, честно говоря, мне не нравятся ее намеки. — Может быть, просто для сохранения мира в доме, вы могли бы желать Елизавете доброго утра, после того как оденетесь. Я плохо себя чувствую, Том, мне это все сейчас ни к чему. Он мигом стал сама заботливость. — У вас все еще не прошла лихорадка? Позвать доктора Хюйке? — Том, я не больна. — Екатерина помолчала. — Срок еще очень маленький, но думаю, я жду ребенка. — Она сама едва могла поверить в это. Том встал, его лицо озарила радостная улыбка, и он обнял жену: — Ей-богу, это лучшая новость, какую я слышал за долгие годы! Сын! Я так давно мечтал о сыне, особенно с тех пор, как стал состоятельным человеком. Кейт, дорогая, это восхитительно! Вы такая умница. Теперь вам нужно беречь себя. Следуйте советам доктора Хюйке. Если вам что-нибудь понадобится или у вас возникнет какая-то фантазия, я позабочусь, чтобы вы получили желаемое. Честное слово, не могу дождаться, когда можно будет объявить об этой новости! — Тпру! — со смехом проговорила Екатерина, радуясь, что Том так счастлив. — Давайте оставим ее на некоторое время при себе, пока не пройдет тошнота. Я хочу спокойно отдохнуть. — Конечно, дорогая. — Том положил подушки в ее кресло у камина, принес подставку для ног. — Идите, устраивайтесь поудобнее. Вы сидите здесь, а я принесу вам книги. Цицерона, да? Сгодится? — Мне все сгодится, — сказала Екатерина, ловя руку Тома и вдруг ощущая прилив счастья, потому что между ними все и правда было в полном порядке. У нее любящий, заботливый муж, который, может быть, немного эксцентричен и временами выходит из берегов, но в сердце своем он достойный человек.
Вскоре после этого Екатерина получила письмо от Анны: сестра приглашала ее, Тома и Елизавету в замок Байнард для обсуждения неотложного личного дела. Что это могло быть? Екатерина надеялась, что ее не ждут плохие новости. Разумеется, в противном случае Анна не устроила бы обед. Екатерина вполне обошлась бы и без выездных трапез, так как вид и запах пищи мог вызвать у нее тошноту, а вся еда казалась невкусной. Но, не имея сил сопротивляться, она позволила горничным одеть себя в красивое платье и старалась не смотреть на рябящую воду Темзы, пока гребцы перевозили их в барке на другую сторону реки. Хвала Небу, поездка была совсем короткая. Своих родных Екатерина застала собравшимися в столовом зале, который Герберты использовали для обедов в семейном кругу. Сразу стало очевидно, что случилась какая-то беда. Уиллприветствовал ее с лицом мрачнее грозовой тучи, а у Лиззи глаза были на мокром месте. Анна являла собой картину неподдельного возмущения. — Я кого-то чем-то обидела? — спросила Екатерина. — Конечно нет, дорогая сестра, — ответил ей Уилл. — Но тебе следует знать, что Совет узнал о нашем с Лиззи браке и приказал мне отказаться от нее и под страхом смерти больше никогда с ней не видеться. — Они сказали, что ему следует помнить: у него есть жена, которая еще жива, — фыркнула Лиззи. — Какая невероятная жестокость! — в гневе воскликнула Елизавета. — Они не посмеют привести в исполнение свою угрозу, — прорычал Уилл. — Пусть только попробуют! — вмешался Герберт. — Я была так счастлива, — всхлипнула Лиззи, — так счастлива. Они не позволят нам даже дождаться вердикта архиепископа Кранмера. — И вы надеетесь, он теперь будет в нашу пользу, если вообще появится? — с горечью спросил Уилл. — Я знаю, кто стоит за всем этим, — сказала Екатерина, со вздохом облегчения усаживаясь во главе стола, — та, что ненавидит нас, Парров. — Нан! — хором воскликнули все. — Ну разумеется! — прошипел Том, и лицо его посерело от злости. — Это оскорбление для Уилла и Лиззи, обида моей жене, и я потребую сатисфакции от самого Нэда! — Вы ничего не добьетесь, — предупредил его Уилл. — Лиззи, вы можете остаться при моем дворе, — сказала Екатерина, — и Уилл будет навещать вас под предлогом визитов ко мне. Если возникнут подозрения, я что-нибудь совру. — И я тоже, — добавила Елизавета. — Тирания затянулась, — проворчал Том. — Мы должны спровадить куда-нибудь этого протектора и его дружков раз и навсегда. Я могу взять на себя советников и западные части королевства. Уилл, вы можете покинуть двор и обосноваться в Нортгемптоншире. Это будет идеальная база, откуда удобно поднимать готовые поддержать нас графства. Уилл посмотрел на него с сомнением: — Вы имеете в виду открытое восстание? — Не против короля, разумеется, но против тех, кто злоупотребляет властью от его имени. Мы можем подорвать их могущество мягкими средствами. Екатерина задумалась. Том в жизни своей ничего не сделал мягко. — Я поразмыслю об этом, — сказал Уилл. — А пока, думаю, лучше нам держаться плана Кейт. В таком случаем мы и дальше будем видеться с вами, дорогая. — Он взял руку Лиззи и поцеловал. На глазах у него стояли слезы.
Покинув тем вечером замок Байнард после довольно унылого обеда, Екатерина чувствовала себя подавленной. В прошлом году она таила от всех свою любовь к Тому. В этом ей придется защищать Уилла и Лиззи. Но она не могла оставить их разлученными навечно и так злилась на Нэда, что готова была помогать им из одной только ярости. Когда они сошли с барки, Елизавета обернулась к ней: — Прошу вас, матушка, позвольте Ашэму быть моим наставником! Я сделаю все, что смогу, чтобы сохранить в тайне встречи Лиззи с Уиллом, обещаю. Екатерина внимательно вгляделась в нее: — А если я откажу, вы все же будете хранить секрет? — Конечно, — с надеждой отозвалась Елизавета. Удовлетворенная, что ей не ставят ультиматум, Екатерина сдалась. Будет одной проблемой меньше, а она и без того сильно устала. — Раз вы так настроены иметь его своим учителем и я восхищаюсь им, мне остается только сказать «да», — промолвила Екатерина, а Елизавета тут же крепко обняла ее и расцеловала. — Спасибо! — воскликнула она. — Вы самая восхитительная мачеха на свете! Так Ашэм оказался при дворе Екатерины. Прошло совсем немного времени, и она заметила, что под его руководством Елизавета расцветает. Решение было принято верное. Еще сильнее Екатерина убедилась в этом, когда обнаружила, что образованный йоркширец разделяет ее любовь к Цицерону, и это обстоятельство привело к оживленным дискуссиям по вечерам. Кроме того, Екатерину восхищал подход Ашэма к наставничеству: он гораздо больше использовал пряников, чем кнутов.
По весне они вернулись в Ханворт. К этому моменту Кэтрин уже не сомневалась, что беременна. Впервые почувствовав, как шевельнулся в ней ребенок — трепетное, чудесное ощущение, — она решила, что пора сообщить всем новость. Они сделали это вместе с Томом и тут же были засыпаны добрыми пожеланиями и подарками. Отдельные доброхоты в письмах давали советы, которых Екатерина предпочла бы не получать. Ей хотелось надрать уши Николасу Трокмортону за то, что тот назвал ее женщиной средних лет и добавил, что поэтому, мол, ей нужно особенно беречь себя. Она и без его советов берегла себя, ведь этот ребенок — Божий дар, самое ценное сокровище, какое только можно обрести. Однако Екатерина чувствовала себя неважно. Подруги говорили ей, что тошнота пройдет, как только ребенок начнет шевелиться, но она не прекращалась. Доктор Хюйке заверил Екатерину, что некоторых женщин тошнота не отпускает на протяжении всей беременности и беспокоиться тут не о чем. Екатерина воспользовалась его советом хорошо питаться и побольше гулять. Сады в Ханворте пробуждались и были по-весеннему особенно прекрасны. Том суетился вокруг нее как курица-наседка. — Я не стеклянная! — со смехом говорила ему Екатерина. — Вам не стоит перетруждаться, — настаивал Том. — Вы носите у себя в животе все наши надежды. Он не слишком обрадовался, когда врачи предупредили, что супружеские отношения следует прекратить, чтобы не навредить ребенку, но ворчливо согласился и продолжал разделять ложе с Екатериной, желая не терять близости с ней, что было для нее большим утешением. Тем не менее она опасалась, как бы Том не стал искать удовлетворения на стороне. Многие мужчины так поступали — Екатерина слышала жалобы их жен. Она знала, что Том продолжал по утрам заходить к Елизавете — он не делал из этого секрета. Но теперь начала беспокоиться. Как там люди говорят: можно смотреть, да не видеть? Екатерина невольно приглядывалась к ним — нет ли между ними чего-то большего, чем следует? Елизавета не выглядела потерявшей голову, как когда-то, но по ней никогда ничего толком не поймешь. Она умела притворяться. Честно говоря, примечать было нечего, все как обычно. Екатерина сказала себе, что беспокоится напрасно. Том по-прежнему был увлечен своей кампанией по свержению брата, а тот злился на него. Заключив сделку с пиратами, Том скопил много сокровищ и из раза в раз отказывался выполнять приказы Нэда о необходимости вернуть имущество законным владельцам. Нэд все больше раздражался. — Он говорит, я величайший пират из всех, — беззаботно усмехался Том и продолжал строить планы похищения короля и захвата власти. Екатерина уже понимала, что они ни к чему не приведут. Нэд и его сторонники слишком прочно укрепились, чтобы их удалось скинуть, но Том этого не замечал. Она радовалась и была благодарна ему за то, что он тратил свою чудовищную энергию на возврат ее украшений, потеря которых до сих пор вызывала в ней сильную досаду. Том нанял адвокатов, которые сказали ему: если будут представлены доказательства того, что покойный король подарил Екатерине украшения, у нее появится хороший шанс получить их назад. К несчастью, найти такие свидетельства оказалось ох как непросто, и Екатерина подозревала, что Нэд — или, скорее, Нан — всячески мешает этому. По слухам, Нан теперь ходила увешанная драгоценностями, которые по праву принадлежали Екатерине. Как тут не разозлиться? К маю Екатерина уже кипела от возмущения из-за постоянных отсрочек. — Они могли бы вернуть мне, по крайней мере, те вещи, которые являются моей личной собственностью, особенно подаренные матерью и обручальное кольцо Генриха, — заявляла она. Том обнял ее одной рукой: — Не беспокойтесь об этом, Кейт. Думайте о ребенке, а эту проблему предоставьте мне. Я поеду в Уайтхолл и со всем разберусь, раз и навсегда! Том отсутствовал неделю, посещал заседания Совета и, предположительно, задирал Нэда. Связь с Екатериной он поддерживал через вестников, присылал ей обнадеживающие слова, но было ясно: Нэд всячески затягивает решение вопроса. Наконец Том признал, что ничего не добился, однако сообщил о своей просьбе вернуть Екатерине, по крайней мере, ее личные украшения. «Ничего определенного он мне не ответил», — написал Том жене. Прочитав это, Екатерина потеряла терпение и набросала ответ с горькими упреками Нэду; в конце концов ее просьба была справедливой и оправданной. Он не согласится, так как его жена намерена оставить украшения у себя. Вот в чем суть. Екатерина начала думать, что никогда уже не увидит свои вещи. Когда Том вернулся в Ханворт и нашел Екатерину — она отдыхала в саду, — вид у него был встревоженный. — В Лондоне появилась чума. Погода жаркая, и может стать хуже. Ради безопасности, нашей и ребенка, нам нужно отправиться в замок Садели. Лучше тронуться в путь сейчас, пока до родов еще есть время. Екатерина взглянула на свой раздувшийся живот. Она была беременна уже почти шесть месяцев и заметно увеличилась в размерах. Ребенок не давал ей покоя, скакал и пинался, обычно по утрам и вечером, когда Екатерина пыталась отдохнуть. Если она клала на живот книгу, маленький негодник скидывал ее. Екатерина постоянно испытывала усталость; тошнота изматывала ее, она совсем выбилась из сил. Поездка в Садели длиной в сотню миль вовсе не казалась ей привлекательной, но Том прав. Там безопаснее всего. — Я согласна, и будет очень хорошо, если наследник лорда Сеймура из Садели родится в загородном имении своего отца. Я отдам распоряжения готовиться к отъезду. Мы возьмем с собой Елизавету и Джейн. Том вернулся ко двору улаживать свои дела. Через неделю Ханворт остался без большей части стенных завес и штор, годной к перевозке мебели и домашних вещей; все они были упакованы и грудами сложены в холле в ожидании погрузки на телеги. Кузина Екатерины Мэри Оделл, внучка дяди Уильяма, приехала, чтобы остаться с ней. Мэри была одной из камеристок, когда Екатерина жила при дворе, и она пригласила ее быть компаньонкой во время затворничества перед родами. Для Мэри в спальне Екатерины был положен соломенный тюфяк, чтобы она ночевала там в отсутствие Тома. Однажды они лежали и болтали почти до утра. Екатерина взяла руку Мэри и положила себе на живот, чтобы девушка почувствовала, как толкается внутри ребенок. Глаза Мэри расширились от удивления. — Когда милорд вернется, это развлечет его! — с улыбкой проговорила Екатерина. На следующий день пришло письмо от Тома. Французы угрожали войной. Вероятно, флот будет задействован для охраны Канала. Именно это им сейчас и нужно. Екатерина ответила — попросила его сообщать ей все новости. Я буду тревожиться, пока не получу вестей от Вас. Пусть милому моему сердцу и любящему супругу живется лучше, чем мне самой. Екатерина отдала письмо Елизавете, чтобы та вручила его ожидавшему вестнику, которого отправили на кухню подкрепиться. Потом, быстро настрочив письмо королю, спустилась по лестнице, надеясь, что гонец еще не уехал, а после этого хотела отправиться на ежедневную прогулку. Вестника Екатерина нагнала, когда он уже шел по дорожке на конюшню. — Ваша милость! — изумленно проговорил тот и поклонился. — У меня есть еще одно письмо, которое нужно доставить, — сказала Екатерина. Она увидела в руках у мужчины свое письмо к Тому и заметила на нем рядом с печатью какие-то слова, написанные, похоже, рукой Елизаветы. — Могу я взглянуть? — сказала Екатерина. Гонец с бесстрастным лицом подал ей письмо. Да, это рука Елизаветы. Она написала на латыни: «Ты, не трогай меня». Но слова эти были зачеркнуты, а под ними стояли другие: «Не позволяй ему трогать меня». — Благодарю вас, — сказала Екатерина, вернула оба письма гонцу и пошла своей дорогой. Ее терзали беспокойные мысли о том, что должны были означать эти слова. Хотела ли Елизавета показать, что утренние игры Тома были ей неприятны? Но зачем писать фразу, а потом заменять ее на такую же, но как будто обращенную к другому лицу? Ей на ум пришла история, как Том заявил, что видел Елизавету в галерее с каким-то мужчиной. Был ли вообще этот мужчина? Екатерина села на каменную скамью и попыталась разобраться. Все указывало на очевидное объяснение: Елизавета не хотела, чтобы Том приходил к ней в спальню. Крошечный, но назойливый огонек сомнения угас, когда Екатерина прочла быстрый ответ Тома на ее письмо, которое, по его словам, оживило его дух. Он хвалил ее за терпение с «его пареньком» — так Том называл ребенка, когда тот возился у нее в утробе. Я верю, что, если Господь дарует ему жизнь такую же долгую, как у его отца, он отомстит за те неправды, которым сейчас не можем противостоять ни Вы, ни я. Молюсь, чтобы Господь вывел нас из этих трудностей. Том еще раз поговорил с братом и так надавил на него, рассказывал он позже, что Нэд потерял уверенность в своей правоте и сказал: если будет установлено, что украшения по закону принадлежат Екатерине, она получит их или денежное возмещение. Том понимал, что Екатерина не это хотела бы услышать, но хорошие новости у него тоже имелись. Французская угроза не помешает ему поехать с ней в Садели и остаться там до рождения малыша, а Нэду он сообщил, что отправляется в Глостершир 13 июня, и будь что будет. Супруг советовал ей соблюдать диету и побольше двигаться: Вы должны держать нашего маленького негодника в форме, чтобы он не доставил Вам проблем при рождении, но выполз наружу, будто мышь из норки. Засим я желаю своей дражайшей и горячо любимой супруге здравия и благоденствия. Подписался он так: «Ваш верный и любящий муж». Екатерина улыбалась, читая письмо; все ее сомнения развеялись. Она благодарила Господа за то, что Он послал ей такого супруга. Только позже в глубине ночи ей вдруг пришло на ум, отчего Том решил подписаться как «верный муж». «Это всего лишь фигура речи», — сказала она себе, поворачиваясь на другой бок и собираясь уснуть.
Том вернулся в Ханворт за два дня до намеченного отъезда в Садели. Он звонко поцеловал Екатерину, и она испытала один из удивительных моментов чистого счастья. Она с восторгом ждала грядущего путешествия, и ей не терпелось увидеть, какие улучшения произвел в замке Том. А где-то в начале сентября, меньше чем через три месяца, она будет держать на руках ребенка. Ужин в тот вечер прошел очень весело. Даже серьезная леди Джейн, недавно прибывшая из Сеймур-Плейса, оживленно болтала, радостно предвкушая их жизнь в новой резиденции. В последнее время Екатерина завела себе привычку проводить вечера в гостиной, положив ноги на пуфик. Лиззи и Мэри Оделл составляли ей компанию. Елизавета отсутствовала, а Том, которого Екатерина хотела видеть рядом, отдавал последние распоряжения управляющему. Это было досадно; вечер выдался на редкость приятный, просто великолепный для прогулки по итальянскому саду. Что ж, она прогуляется одна. Екатерина любила сидеть у танцующего фонтана и слушать плеск воды. Это ее успокаивало. Она прошла туда, петляя по лабиринту садовых «комнат», выгороженных высокими боскетами. Екатерина удивлялась, как случалось с ней часто в последнее время, тому, что совсем не боится родов. От других женщин она слышала ужасные истории, но чувствовала себя совершенно спокойной и была уверена, что с ней ничего плохого не случится. Вдруг рядом хрустнула ветка под чьей-то ногой, и этот звук оборвал течение ее мыслей. Кто там? Потом послышался девичий смех. Вероятно, у кого-то из слуг тайное свидание, хотя сюда позволялось заходить только садовникам. Может, это как раз один из них? Раздраженная тем, что ее уединение нарушено, Екатерина прошла через арку в изгороди, готовая сделать выговор. Когда она увидела их вместе, то решила, что глаза обманывают ее. Елизавета была в объятиях Тома, и он целовал ее. Екатерина остановилась и мгновение смотрела на них, потом обрела дар речи. — И чем это вы тут занимаетесь?! — крикнула она; злость и обида закипели в ней. Они мигом оторвались друг от друга и обернулись, потрясенные. — Идите домой, Елизавета! — строго приказала Екатерина. — Но, матушка… — Елизавета была напугана. Щеки ее пылали. — Не надо мне ваших «матушек». Просто уйдите. Я поговорю со своим мужем наедине. Елизавета ускользнула. Том с мольбой взглянул на Екатерину, как человек, которого ударили в живот. — Кейт, я могу объяснить… — Разумеется, можете. Разве не так всегда говорят мужчины? Она начала испытывать последствия перенесенного шока: головокружение волной накрыло ее, ноги подкашивались. Екатерина пошатнулась, и Том сделал движение к ней, желая поддержать, но она оттолкнула его. — Не прикасайтесь ко мне. Я не хочу, чтобы вы дотрагивались до меня. — Екатерина, покачиваясь, прошла в соседний боскет, где стояла деревянная скамейка, и, вся дрожа, опустилась на нее. Том плелся за ней по пятам. — Кейт, простите. Я потерял голову. — Вам помогут ее потерять, если вы не остережетесь. Вы разве не понимаете, кто она? Вторая в очереди на престол, и компрометировать ее — это, вероятно, государственная измена. Мы для нее in loco parentis[170], Том, и в ответе за то, чтобы репутация нашей приемной дочери была безупречной, мы должны беречь ее, а не подвергать опасности, как сделали вы. Не говоря уже о том уроне, который вы нанесли нашим отношениям! Печаль нарастала в ней и грозила накрыть с головой. Екатерина начала всхлипывать, не зная, что делать с собою и как справиться с горем. Том встал на колени: — Кейт, успокойтесь. Подумайте о ребенке. — Вы не думали, когда соблазняли нашу падчерицу! — прошипела Екатерина. — Соблазнял? Она дочь своей матери и может быть такой кокеткой! Екатерина накинулась на него: — Вы обвиняете четырнадцатилетнего ребенка в своем неблаговидном поведении?! — Она не ребенок, Кейт. Она стара, как эти холмы. Родилась мудрой. — О, будьте наконец мужчиной и возьмите ответственность на себя! — Тут Екатерина разрыдалась. — Я была счастлива, так счастлива. Как вы могли сотворить такое с нами? — Кейт, простите, я виноват, — сказал он, кладя руки ей на плечи, но она яростно скинула их. — Это никогда не заходило дальше поцелуев, и то только сегодня, — сказал ей Том. — И я должна в это поверить? — Верьте или не верьте, но это правда. Кейт, такого больше не повторится, я клянусь. — У вас просто не будет шанса. Мне придется отослать ее. Я не знаю, куда и как это объяснить, но она не останется с нами. Посмотрите, в какое положение вы меня поставили! — Она снова всхлипнула. — Успокойтесь, дорогая, прошу вас. Вы правда должны подумать о ребенке. Мне жаль, мне очень жаль. У Тома увлажнились глаза, и это привело Екатерину в чувство. Ее супруг был не из тех мужчин, которых легко довести до слез. Однажды он сказал ей, что вообще не способен плакать и никогда не ревел как дитя. Какой у нее выбор? Екатерина попыталась мыслить разумно. Уехать от него и начать жить отдельно? Это произведет скандал, к тому же мужская измена не считалась основанием для расторжения брака. Екатерина даже не знала, в каком финансовом положении она окажется, если покинет его. Генрих обеспечил ее собственностью и доходом, кроме того, у нее были поместья, унаследованные от предыдущих супругов, но собственность жены после брака переходила во владение мужа. Екатерина могла оказаться ни с чем и в одиночестве, могла даже потерять ребенка: право отца — решать, что будет с ним. Или другой вариант — осушить слезы и жить дальше, вымарав из памяти эту неприятную историю и претерпевшись к горькому вкусу измены. Когда-нибудь, вероятно, он исчезнет. — Кейт? — сказал Том, поднимая ее на ноги. — Эта история с Елизаветой — просто дурачество, мы заигрались, поверьте. Она была здесь и не уклонялась от меня, и я, как дурак, попался. — Том скривил лицо. — Вы знаете, в последнее время я был очень расстроен. Понимаю, это не может служить оправданием, но молю вас, простите мне этот момент безумства. Говорил ли он правду? Сможет ли она впредь доверять ему? Эти утренние игры с Елизаветой продолжались не один месяц. Он мог и лгать, судя по тому, что ей было известно. — Вы можете поклясться мне жизнью нашего ребенка, что это была лишь минутная слабость и вы никогда прежде не целовали ее так? — Екатерина посмотрела Тому прямо в глаза. — Клянусь! — без колебаний произнес он. Екатерина решила, что Том говорит правду, и немного успокоилась. Может быть, дела еще и не так плохи. Другие мужья, как она слышала, делали вещи и похуже поцелуев. — Хорошо, — сказала Екатерина, утирая глаза, — мы оставим это в прошлом, и я попытаюсь забыть о случившемся. — Я помогу вам в этом, — пообещал Том, поравнявшись с ней, когда она направилась к дому.
Екатерина послала за миссис Эшли, злясь, что эта женщина проявила такую небрежность. Ее можно было винить в случившемся не меньше, чем Тома и Елизавету; ее обязанность — быть бдительной, а она, очевидно, пренебрегла ею. — Что случилось, мадам? — с тревогой спросила миссис Эшли. — Миледи вся в слезах. — Еще бы! — резко бросила Екатерина. — Я только что застала ее в саду в объятиях своего супруга, она целовала его. Я уверена, вам не нужно объяснять возможные последствия такого недостойного поведения. И на вас, миссис Эшли, лежит часть вины. Где вы были, когда она носилась на воле как сорванец? Гувернантка ощетинилась: — Мадам, я не могу находиться с ней беспрерывно. Она сказала, что посидит с книгами в саду. И со всем уважением, но милорд адмирал должен нести за это бо́льшую часть ответственности. Мужчина в его возрасте и дитя — ему не следовало допускать такого. — Да, действительно, и вы можете не сомневаться, я высказала ему все, что думаю. Но я полагалась на вас, чтобы вы присматривали за Елизаветой. Миссис Эшли вспыхнула: — Мадам, я присматривала! Я предупреждала вас не один раз о том, что происходит по утрам. Несколько дней вы приходили вместе с милордом, и все. — Я убедилась, что это никому не вредит. — Вдруг гнев Екатерины иссяк. Может быть, она была слишком строга к миссис Эшли; может быть, она и сама кое-что упустила. — Сейчас важно решить, что делать с Елизаветой. Она не может остаться со мной, но необходимо избежать скандала. Если бы я могла пристроить ее куда-нибудь, мы сказали бы, что она предпочла не ехать с нами в Садели, так как замок далеко от двора. Я бы отправила ее обратно в Сеймур-Плейс, но миледи Сеймур из-за чумы уехала в Уилтшир, и дом заперт. — Моя сестра Джоан может принять ее, — сказала миссис Эшли. Джоан — миловидная женщина, когда-то служившая Екатерине, была замужем за сэром Энтони Денни, который возглавлял личные покои короля Генриха, и миссис Эшли часто рассказывала об их красивом доме в Чешанте, к северу от Лондона. — Я напишу ей, если вы хотите. — Это было бы весьма уместно. Благодарю вас. — Екатерина понимала, что сможет быть спокойна, если Елизавета поедет к супругам Денни, весьма достойной и образованной паре. Она молилась об одном: чтобы слуги не прознали о случившемся и не начали сплетничать. Екатерина так плохо себя чувствовала, что ей пришлось ненадолго прилечь перед встречей с Елизаветой. Когда она наконец появилась в холле, Елизавета ждала ее, расхаживая взад-вперед в сильном смятении. Увидев Екатерину, она подбежала к ней: — Матушка, простите меня, мне так жаль! — А как же иначе! Вы вели себя недостойно, особенно после всех тех благодеяний, который я вам оказала. И я не в силах поверить… Как вы могли забыться настолько, чтобы не помнить, кто вы? Неужели вы не понимаете, что ваше поведение могут расценить как измену? Вам это должно быть известно лучше всех. — Нет! — взвыла Елизавета. — Нет, это был всего лишь поцелуй. — Мне тоже так сказали. Но принцессе крови запрещено даже это, если, конечно, не санкционировано королем и Советом. А я отвечаю за вас. Ваши поступки могут сказаться на мне. — Екатерина сделала паузу, чтобы значение ее слов дошло до падчерицы. — И теперь я приняла решение относительно того, что делать с вами. — Прошу, не отсылайте меня прочь, — взмолилась Елизавета. — Я должна сделать это для вашего же блага. Здесь среди слуг уже могли пойти разговоры, это беспокоит меня. Мы не можем рисковать. Вы отправитесь к сэру Энтони и леди Денни в Чешант, если они согласятся, причиной будет объявлено ваше желание остаться ближе к Лондону и ко двору, вместо того чтобы ехать в Садели. — Нет, пожалуйста, — застонала Елизавета; по щекам ее струились слезы. — Мне очень жаль, но так будет лучше, — заявила Екатерина. На самом деле она не могла дождаться, когда Елизавета уедет. Глядя на нее, такую юную, живую и стройную, Екатерина трудно было удержаться от сравнения ее с собой — беременной, стареющей, неуклюжей и измученной тревогами. — Идите и прикажите своим девушкам собирать вещи. Пусть грум заберет из этой кучи то, что нужно. — Она указала на багаж, который был подготовлен для отправки в Садели.
В тот вечер, когда они сидели за ужином, пытаясь вести беседу и что-нибудь есть, прибыл гонец из Чешанта. Сэр Энтони и леди Денни будут рады принять леди Елизавету завтра утром. Услышав это, Елизавета бросилась в слезы и выбежала из комнаты. Екатерина и миссис Эшли провели с ней уйму времени — успокаивали и помогали подготовиться к отъезду. В конце концов Екатерина так устала, что ей пришлось лечь в постель. Елизавету, которая была слишком юна и поступила глупо, она жалела, но в то же время с нетерпением ждала ее отъезда. На следующее утро Елизавета пришла завтракать с красными глазами и говорила совсем мало. Потом, обнимая Екатерину на крыльце, снова заплакала. — Мне очень грустно уезжать от вас, — всхлипнув, проговорила она. — Вам понравится в Чешанте, — живо отозвалась Екатерина. — Не нужно слез. Хватит. — Если появятся какие-нибудь сплетни обо мне, вы меня предупредите, правда? — попросила Елизавета, утирая глаза. — Конечно, — заверила ее Екатерина, — но я не думаю, что это случится, я уладила дело без огласки. — Она шагнула назад и окинула взглядом свою падчерицу. — Господь наделил вас многими способностями. Развивайте их неустанно, так как я уверена, величие предначертано вам Небом. Екатерина смотрела, как носилки, увозившие Елизавету и миссис Эшли, исчезли за гейтхаусом. Следом за ними верхом ехал Том; он был готов проводить их до самого Чешанта. Вернувшись в дом, Екатерина ощутила печаль и облегчение. Ей удалось избежать скандала и сохранить дружеские отношения с Елизаветой. Теперь осталось только привести в порядок свой брак.
 Глава 29
1548 год
Глава 29
1548 год
На следующий день они отправились в Садели. С ними поехали Анна, чтобы помогать сестре при родах, и Мэри Оделл. Леди Джейн Грей также составляла им компанию и с интересом ждала новых приключений. Лиззи, не желая расставаться с Уиллом, сняла комнаты у барбикана, неподалеку от Чартерхаус-сквер, и перебралась туда.
Свиту Екатерины возглавляли сэр Роберт Тирвитт, ревизор ее двора, и его жена, добрая приятельница Екатерины. С ней также ехали многочисленные дамы и джентльмены, отряд йоменов стражи, мастер Ковердейл, недавно назначенный новым подателем милостыни при королеве, священник доктор Паркхёрст и врач доктор Хюйке.
Пока они продвигались на запад, останавливаясь ночевать на постоялых дворах и в домах знати, на сердце Екатерины лежала такая же тяжесть, какую она носила в утробе. Екатерина тревожилась; ей очень хотелось относиться к Тому как прежде, но никак не удавалось. Он был исключительно нежен и внимателен, однако ей это не доставляло удовольствия. У нее перед глазами все время стояла одна и та же картина, как Том целует Елизавету в саду, которую сменяла другая — Елизавета говорит ей, что Том больше всего хотел жениться на ней. Екатерина всегда знала, что он амбициозен. Но она носила его ребенка; конечно, он сейчас не бросит ее. Она тревожится напрасно. Может быть, все наладится с появлением малыша. Екатерина горячо молилась об этом.
От вида Садели у нее перехватило дыхание. Он был прекрасен, как замок из волшебной сказки, приютившийся посреди роскошного парка и окруженный садами. Замок был выстроен из золотистого камня, обычного для этой местности, а новые главные покои не уступали роскошью королевским. Том не пожалел средств на то, чтобы они подходили его королеве. Он с улыбкой наблюдал, как Екатерина вошла в них, восторженно глядя на огромные окна с резными карнизами и роскошную мебель, потом пошел следом за ней вверх по лестнице в приемный зал высотой в два этажа, с окнами, выходившими в сад. Из зала дверь вела в личные покои и часовню. Том был как пес, ищущий одобрения хозяйки; он явно надеялся, что этот прекрасный дом, созданный им для нее, снова сделает ее счастливой и они смогут воссоединиться. Покинув замок, они пошли по крытой галерее, которая вела к двери сбоку от изящной часовни. Когда Екатерина вступила в прохладный, благоуханный сумрак, то оказалась в маленькой молельне, откуда сквозь узкое оконце был виден алтарь. — Это для ваших уединенных молитв, — произнес у нее за спиной Том. — Вы позаботились обо всем, — сказала она. Том пожал ее руку, потом отпустил, а Екатерина неуклюже опустилась на колени и склонила голову в молитве, благодаря Господа за их благополучное прибытие в замок и моля Его помочь ей найти путь к мужу. Позже в тот же день они сидели в саду с Анной и Мэри, пили сладкий напиток и смотрели, как леди Джейн с распущенными рыжими волосами собирает цветы. Какая мирная картина. Может быть, Господь привел ее сюда для исцеления душевных ран. Екатерина взглянула на Тома и улыбнулась ему.
Они не провели в Садели и недели, когда пришло письмо от Елизаветы, в котором она сожалела том, что ей пришлось покинуть дом Екатерины, и признавала, каким добрым другом была ей ее дорогая матушка. Она подписалась: «Вашего высочества покорная дочь». Для Тома тоже было письмо, которое он показал Екатерине, и она не усмотрела в нем ничего предосудительного. Елизавета ясно давала понять, что не может предложить ему ничего иного, кроме дружбы. Екатерина попросила Тома отправить Елизавете украшения, которые она приготовила для нее, но тот все забывал послать их, несмотря на ее напоминания. А когда наконец сделал это, с извинениями за отсрочку, Елизавета заверила его, что это не важно. «Я друг, которого не завоевать и не потерять из-за ничтожных пустяков», — написала она и закончила письмо смиренными благодарностями ее высочеству королеве. Прибыла и короткая записка от короля, в которой он просил, чтобы Екатерина не забывала его. А потом Фоулер сообщил им, что Нан родила Нэду четвертого сына, крепкого малыша, названного в честь его величества. — Что ж, полагаю, скоро и у нас появится свой! — сказал Том. Он с восторгом ждал предстоящего появления на свет наследника. Комнаты для малыша были готовы, гобелены развешены, золоченая колыбель, обитая алым бархатом, ждала своего жильца; повитуха и няньки наняты; качалки установлены. У его сына должно быть все только самое лучшее. Екатерина не могла дождаться, когда на руках у нее будет лежать ребенок, и жаждала, чтобы роды благополучно завершились. Она помнила, как однажды Нан сказала, что рожать детей не труднее, чем лущить горох. Екатерина надеялась, что сможет сказать так же, и молилась о сыне, чтобы не уступить Нан. Ее угнетало — и Тома тоже, она это знала, — что Нэд не потрудился сообщить им радостную новость — верный знак, что он продолжает сердиться на брата. Письма от Елизаветы приходили регулярно. Екатерина посылала ей дружелюбные ответы до того дня, когда у нее распух большой палец и писать стало больно. Тогда ей пришлось попросить Анну, чтобы та написала записку вместо нее. — Я так устала, — сказала она сестре. — И дело не только в моем пальце. Боюсь, со мной что-то не так. Мне все дается с трудом. Ты чувствовала что-то подобное, когда ждала ребенка? Анна погладила ее по руке: — У всех все по-разному. Ты говорила доктору Хюйке о своих ощущениях? — Да, он сказал, что беспокоиться не о чем. — Екатерина взяла крошечный чепчик, который вышивала для ребенка, и принялась делать стежки. — Если бы только Том дал мне покой. Он исполнял все ее желания, и не было сомнений, что отношения между ними улучшились. Однако, по его настоянию, они продолжали держать открытый дом, приглашали в гости местную знать и джентри, даже друзья из Лондона наведывались к ним, и всем оказывали радушный прием. Том делал это ради нее, Екатерина знала и радовалась, когда визитеры говорили, что Садели — это второй двор в стране. — Я знаю, он не остановится, — сказала Анна. — Тебя, должно быть, не покидает ощущение, что ты постоянно выставлена напоказ. Это неправильно для женщины в твоем положении. Ты говорила ему о своих чувствах? Екатерина откинула голову на спинку кресла: — Я пыталась, но он хочет показать всем Садели и сравняться с Нэдом. Ему нужно, чтобы этот замок затмил Сомерсет-Хаус. — Я поговорю с ним, — сказала Анна. — Ему следует понять, что если он хочет получить здорового сына, то тебе нужен покой. — Ты добрый друг мне, сестрица. — Екатерина слабо улыбнулась; глаза у нее так и слипались. Что бы ни сказала Анна Тому, он к ней прислушался. Гости разъехались, развлечения прекратились, и — о счастье! — они остались одни. Екатерина целыми днями гуляла в садах, молилась в своей личной часовенке или просто сидела в тени старого дуба, наслаждаясь августовским теплом. Однажды леди Джейн принесла ей очередное письмо от Елизаветы, в котором падчерица выражала беспокойство по поводу пораненной руки Екатерины. Милорд адмирал написал мне, что его ребенок шалит в Вашей утробе. Если бы я присутствовала при его появлении на свет, то, без сомнения, проследила бы, чтобы его хорошенько отшлепали за те беспокойства, которые он Вам доставил. Эти слова вызвали у Екатерины улыбку; ей всегда нравилось остроумие Елизаветы. И она с удовольствием прочла, что сэр Энтони, леди Денни и миссис Эшли — все молятся за нее и шлют ей добрые пожелания благополучно разрешиться от бремени. До этого счастливого дня оставался всего месяц. Погруженная в идиллию и окутанная этим странным утешительным чувством, что все будет хорошо, Екатерина больше не сердилась на Елизавету и даже на Тома. Случившееся в Ханворте казалось ей давнишним и далеким. Том присоединился к Екатерине, сидевшей под своим любимым дубом, и поставил перед ней кубок с вином. — Я получил известие от наших адвокатов. В Лондоне чума, так что им пришлось отложить иск по вашим украшениям. Они сообщат, когда посчитают безопасной встречу в Темпле со своими коллегами, которые дают им советы по этому делу. Мне очень жаль, дорогая. Но мы получим украшения обратно. — Это не важно, — сказала Екатерина. И правда, возврат украшений перестал беспокоить ее. Как и прочие заботы, эта отступила в область забвения. Том протянул ей письмо: — Это от Уилла. Он в Рай-Хаусе и, я думаю, воспользуется моим советом. Посмотрим, что из этого выйдет. Вам будет приятно услышать, что Гардинер в Тауэре. Он слишком часто выступал с проповедями против религиозных реформ правительства. — Вот и закончились его шалости. — Екатерина улыбнулась, удивляясь, как круто может повернуться колесо Фортуны. Гардинер сжег бы ее на костре, если бы мог. Она не испытывала жалости к нему. — Туда ему и дорога, сказал бы я! — Том усмехнулся.
В середине августа в Садели приехал Уилл. Екатерина была безмерно рада. — Я думала, ты в Рай-Хаусе! — воскликнула она, с трудом поднимаясь на ноги, чтобы обнять брата, когда его ввели в ее личные покои. — Я не мог не приехать, — ответил он, целуя ее. — Что-то подсказало мне: скоро появится на свет одна очень важная персона. Ох, Кейт, ну и живот у тебя! Все засмеялись, и, когда Уилл обнял Анну, Мэри и Джейн, а затем тепло пожал руку Тому, они вместе вышли в сад, куда управляющий принес бутыль вина. — У меня для тебя письмо. — Уилл передал его Екатерине. — На прошлой неделе я встречался с леди Марией в Нью-Холле. — Рада получить весточку от нее, — сказала Екатерина и прочла письмо. Мария надеялась вскоре услышать от нее хорошие новости и передавала привет Тому. При виде подписи — «Вашего высочества покорная и любящая дочь» — у Екатерины на глаза навернулись слезы благодарности. Мария снова была ей другом. Жизнь налаживалась, и вскоре счастье ее увенчает ребенок.
Через несколько дней по приезде Уилла Екатерина удалилась в свои покои и затворилась в них с дамами, чтобы дожидаться родов. До тех пор пока ее не воцерковят по прошествии положенного времени после них, ни один мужчина не мог входить в ее комнаты, кроме Тома, священника и доктора Хюйке; присутствовать при родах тоже никому не будет позволено. Всю ответственность возьмет на себя повитуха, спокойная, по-матерински заботливая женщина по имени миссис Готобед. Екатерина доверяла ей и чувствовала себя с ней спокойно. Дни она проводила лежа на постели, помогала леди Джейн с уроками или шила приданое для младенца. Она хорошо ела, но страдала от жары, потому что акушерка велела завесить плотными шторами и держать закрытыми все окна в покоях Екатерины, за исключением одного. Как только миссис Готобед выходила из комнаты, Екатерина открывала его, но это мало что меняло. Душный воздух стоял неподвижно. 30 августа погода резко изменилась. Екатерина проснулась от ударов грома и стука дождевых капель по окнам; то и дело сверкали молнии. Она почувствовала какую-то несильную, но назойливую боль, будто скопились газы в животе. Поворочалась в постели, но все равно не смогла устроиться удобно. Только встав, чтобы сходить в уборную, Екатерина заметила, что боли приходят каждые несколько минут. Неужели? Но еще рано. Ребенок должен был родиться через пару недель. Екатерина позвала миссис Готобед. Та ощупала ее живот и подтвердила, что роды начались. — Нужно уложить вашу милость на соломенный тюфяк. Екатерина направилась к нему и тут же ощутила сильный спазм. — Помогите! — выдохнула она. Миссис Готобед подхватила ее и помогла лечь, потом раздвинула ей ноги и осмотрела. — Ваша милость, вы скоро родите! — Я думала, это займет не один час, — тяжело дыша, проговорила Екатерина. — Это никогда нельзя предсказать. А теперь, мадам, лягте на бок и, когда придет момент, тужьтесь! Пока Екатерина лежала в родах, обнаружив, к своему облегчению, что, когда тужишься, становится легче, повитуха позвала Анну, Мэри и других камеристок. Анна держала Екатерину за руку и тихо говорила слова поддержки. Мария была более энергична. — Тужьтесь, мадам, тужьтесь! — О, как это тяжело! — простонала Екатерина. — Принесите мне спазменные кольца. Король благословил их для нее на Пасху, и Екатерина горячо верила в то, что они способны облегчить боль. Только кольца оказались у нее на пальцах, как она почувствовала, что ребенок устремился книзу. — Я вижу головку! — воскликнула миссис Готобед. — Теперь поднажмите, мадам. Скоро он будет здесь. Екатерина собрала все силы для последнего натиска и вдруг ощутила, как ребенок выскользнул из нее. Она лежала, тяжело дыша, и услышала громкий крик. — Мой малыш! — сказала Екатерина. — Кто там? Последовала недолгая пауза. — Прекрасная юная леди, мадам, — сказала повитуха. Мгновение Екатерина испытывала одно только жгучее разочарование. Как она скажет Тому? Он ни на секунду не допускал мысли, что их ребенок может оказаться девочкой, весь горел идеей о рождении сына. Но когда Анна положила дочку ей на руки и она взглянула на личико и крошечные ручки младенца, похожие на звезды, то ощутила всепоглощающую волну любви и остальное утратило значение. Екатерина лежала в полном восторге и качала на руках младенца, пока няня не забрала его, чтобы обмыть и запеленать; потом придет кормилица. Повитуха вымыла Екатерину, переодела в чистую сорочку и расчесала ей волосы. Кровотечение не прекращалось, так же как и спазмы в животе. Миссис Готобед положила ей между ног полотенце и пошла посоветоваться с доктором Хюйке. Вернувшись, она сказала Екатерине, что кровотечение и боли скоро пройдут, беспокоиться не о чем. Потом ей снова принесли ребенка и позвали Тома. Екатерине стоило только взглянуть на мужа, и она сразу поняла: ему сообщили, что родилась девочка. На лице Тома было написано разочарование. Однако, когда она протянула ему ребенка, то увидела, как выражение его лица изменилось. Взглянув на свою прекрасную маленькую дочку, Том расплылся в улыбке. — Благослови тебя Бог, малышка, — тихо проговорил он, с любовью глядя на нее, потом поднял глаза на жену. — Вы отлично справились, дорогая. Она прелестна. В следующий раз будет сын, да? Екатерина слабо улыбнулась. После того что ей пришлось вынести, она пока не могла даже подумать о следующем разе. Про себя она поклялась: «Больше никогда» — и была удивлена, когда повитуха сказала, что это были легкие роды. Екатерина знала, что некоторые женщины рожали по десять или даже двенадцать раз, и вдруг испытала глубокое восхищение ими. — Я рад, что вы выглядите так чудесно, — сказал Том, кладя ребенка ей на руки. — Мне сказали, это были быстрые роды. — Да, так говорят. Хотя мне было больно и тяжело, — сказала Екатерина, целуя головку ребенка, — но оно того стоило, да, малышка? — Как мы ее назовем? — спросил Том. — Мне нравится Мэри, в честь леди Марии. Она будет рада. Том кивнул: — Да, мне тоже нравится Мэри. Мэри Сеймур. Звучит хорошо и подходит малышке. Екатерина улыбнулась и протянула девочку Тому: — Положите ее в колыбель, пожалуйста. Мне нужно поспать. Отдав ребенка, Екатерина почувствовала, как из ее чрева вывалился большой сгусток крови. — Том, приведите акушерку, — в панике проговорила она. — У меня сильное кровотечение. Он положил девочку в колыбель и быстро вышел; вернулся Том с миссис Готобед, которая прогнала его и внимательно осмотрела кровянистый комок. — Это нормально, — сказала она. — Вероятно, больше такого не будет. Обычно все выходит сразу. — Пока повитуха говорила, из Екатерины вылез еще один сгусток. — Это пройдет, — сказала миссис Готобед и ушла. Том вернулся. — Миссис Готобед говорит, вам не о чем беспокоиться, — сказал он ей. — Дорогой, мне не по себе. — Екатерина крепко сжала его за руку. — Пожалуйста, приведите доктора Хюйке. Пусть он посмотрит, что из меня выходит. Том уставился на нее, разинув рот; он явно был шокирован. — Я не допущу, чтобы врач осматривал вас. Это непристойно. Миссис Готобед говорит, что все в порядке, и я ей доверяю. А теперь поспите. Я уверен, проблема разрешится. — Молюсь, чтобы так и было, — сказала Екатерина, не очень в это веря, — но я лучше поговорила бы с доктором Хюйке. Мне все равно, пристойно это или нет. — Нет, — твердо заявил Том, — это никуда не годится.
Екатерина поспала, но, когда проснулась вечером и подняла одеяло, то испугалась, увидев огромное алое пятно на матрасе. Миссис Готобед, когда ее позвали, посмотрела на него и улыбнулась: — Комков нет. У некоторых женщин бывают сильные кровотечения сразу после родов. Тревожиться не о чем. Том пришел к ней и застал ее в большой тревоге. — Успокойтесь, Кейт. Все будет хорошо. Я слышал, что у нашей Мэри хорошие легкие. Она кричит, требуя молока. Кормилица сейчас дает ей грудь. Я написал всем нашим друзьям и отправил письмо с самым быстрым гонцом к Нэду, чтобы сообщить о ее рождении. Нэд. Нан. Екатерина про себя застонала. Нан позлорадствует, у нее-то родился сын. Но какое ей дело до этого? Нет на свете ребенка более чудесного и любимого, чем ее Мэри.
Кровотечение не прекращалось. Когда через два дня Том пришел показать Екатерине письмо от Нэда, она уже начала испытывать головокружение и вообще чувствовала себя немного странно. Письмо было доброе. Нэд говорил, как он рад, что Екатерина избежала опасностей, связанных с родами, и сделала Тома отцом прелестной дочери. Потом он добавил ложку дегтя, сказав, что для них обоих, для него и Нан, — и для Тома, он полагает, — было бы большей радостью и утешением, если бы первым ребенком стал сын; но все же утешает то, что эти удачные роды обещают в будущем много здоровых сыновей. Нэд просил Тома передать жене его сердечный привет и поздравления. К вечеру у Екатерины начался жар и страшно разболелась голова. К полуночи она начала обливаться холодным потом, и ее сильно трясло. Миссис Готобед и ее помощницы навалили на больную одеял, хотя она горела и ночь была теплая. Они заставили ее выпить, глоток за глотком, сначала стакан эля, потом охлажденной кипяченой воды. Утром Екатерина проснулась, мучимая жаждой и ужасными болями в животе. Почти лишившись чувств, она едва сознавала, что вокруг постели собрались люди. Кто-то взял ее за руку. — Кейт, вы слышите меня? Кейт! Кейт! — Это был Том. Она слабо кивнула. Потом почувствовала у себя на животе чьи-то руки. — У ее милости раздулся живот, — встревоженно проговорила повитуха. — Я пошлю за доктором Хюйке, милорд, с вашего разрешения. — Да, хорошо, — неохотно согласился Том. Екатерина снова уплыла в полубессознательное состояние, ощущая волны поглощавшего ее жара и постоянные спазмы в животе. Она еще раз пришла в себя и обнаружила, что доктор Хюйке щупает ей пульс. — Слишком частый. Это родильная горячка, без сомнений, и она никак не борется за жизнь, просто лежит здесь без движения. Миссис Готобед, вы уверены, что плацента вышла целиком? Последовала пауза. — Я думаю, да, — сказала повитуха. — Надеюсь на это, в противном случае возможны осложнения. Нужно следить за любыми внезапными ремиссиями, потому что это опасный знак. — Она умирает? — услышала Екатерина шепот Тома. — С Божьей помощью этого не случится, но мы должны быть бдительны. Голоса стихли, и Екатерина уснула. Во сне, весьма прерывистом, она играла со своим ребенком в саду, они вдвоем сидели на ковре, лежавшем на траве. У нее была маленькая погремушка, привязанная к ленточке. Ребенок смеялся, слыша звон, и пытался схватить ее ручонками. Екатерина проснулась с ужасной спазматической болью в животе, после которой началось расслабление кишечника. Раз за разом акушерка и горничные поднимали больную с постели как тряпичную куклу и тащили на горшок. Потом ее начало рвать. В жизни она еще не чувствовал себя настолько разбитой. Когда чистка желудка наконец завершилась, Екатерина была так слаба, что решила: она умирает. В действительности смерть для нее стала бы желанным облегчением. Она лежала на постели и механически твердила молитву, которую сочинила во время родов: — Вся моя надежда, милостивый Боже, на Тебя. Позволь мне не быть больше, молю Тебя… Она потеряла счет времени — дням и ночам, но знала, что была ночь, когда она наконец очнулась и увидела Анну и Мэри; они уходили в свои спальни, забирая с собой свечи. Потом она заснула, то просыпалась, то снова погружалась в сон, но ей никак не удавалось устроиться удобно из-за болей в животе. Полотенце, зажатое между ног, промокло, и Екатерина ощущала тошнотворный металлический запах крови. Сколько времени она провела в таком состоянии? Через несколько часов Екатерина пробудилась и увидела, как леди Тирвитт вошла в спальню и открыла окно. Комната наполнилась солнечным светом. — Леди Тирвитт, — слабым голосом произнесла Екатерина, — какой сегодня день? — Понедельник, ваша милость. — Леди Тирвитт быстро подошла к постели и улыбнулась. — Как приятно слышать, что вы говорите, как прежде. — Я чувствую себя так плохо. Боюсь, я так сильно больна, что не выживу. — Глупости, мадам, — ответила леди Тирвитт, чересчур резко и поспешно. — Я не вижу в вас признаков смерти. Давайте переоденемся. Екатерина снова задремала, а девушки тем временем обмыли ее и сменили на ней рубашку. Потом пришел Том, и Екатерина почувствовала, как ощетинилась при его появлении леди Тирвитт; она всегда его недолюбливала. Том стоял рядом с постелью. Екатерина смотрела на него будто из-под воды. Он смеялся, улыбался ей. Том обидел ее, но она не могла вспомнить чем, и он дразнил ее, насмехался над нанесенной ей обидой, и каким-то образом все это было связано с болезненными спазмами у нее в животе. Это он виноват! Том взял ее за руку. — Чуть раньше она совершенно пришла в себя, милорд, — сказала леди Тирвитт. — А теперь, кажется, ей снова хуже. — Со мною все в полном порядке, — отозвалась Екатерина, — но со мной плохо обращаются. Окружающие не заботятся об мне, а вместо этого стоят и смеются над моей бедой. — Что вы, дорогая! Я не желаю вам зла! — воскликнул Том. Екатерина вцепилась в его руку и притянула его к себе. — Нет, милорд, — проговорила она ему на ухо, — но вы зло насмехались надо мной. — Что она такое говорит? — спросил Том. Екатерина сознавала, что он и леди Тирвитт отошли и стали о чем-то переговариваться приглушенными голосами. Затем Том вернулся, лег на постель и обнял ее. — Дорогая, поправляйтесь ради меня, — произнес он и поцеловал ее. — Вы нужны мне. Вы для меня — все. Она смутно сознавала, что в этой болезни виноват он, а потом вспомнила почему и вдруг совсем очнулась. — Милорд, я отдала бы тысячу марок за возможность поговорить с доктором Хюйке в день родов, но не посмела настаивать, боясь рассердить вас. И тут плотину прорвало, и наружу вылились вся ее злость и вся боль из-за Елизаветы и того, как Том поставил их всех под угрозу своими заигрываниями с ней, не подумав об их браке. Она укоряла его за то, что он хотел жениться на Елизавете прежде, чем на ней, и отдал предпочтение этой девчонке, хотя они так много значили друг для друга. — Что ж, скоро вы сможете посвататься к ней! — крикнула Екатерина, удивляясь, что в ней еще сохранились силы на такую горячность. — Потому что я умру. Я бы не удивилась, узнав, что вы помогли мне отправиться по этому пути! — Дорогая, нет, нет! — протестовал Том. — Успокойтесь, вы не в себе. Вам нужно беречь силы. Я не хочу потерять вас, я молился и молился без конца, чтобы вам стало лучше! Вы должны мне верить. Тут Екатерина заплакала и, начав лить слезы, уже не могла остановиться. Том продолжал лежать рядом с нею, обнимать ее и уверять в своей любви. — Это говорит не моя Кейт. Моя Кейт знает, что я никогда больше не обижу ее. У нас есть масса причин, чтобы жить, дорогая. Отдохните, наберитесь сил и живите ради меня и ради Мэри! Великий покой снизошел на Екатерину, и ее охватило непреодолимое желание уснуть. Она была расстроена и злилась из-за чего-то, но уже не помнила причины своего гнева, и это не имело никакого значения. Она уснула. Проснулась Екатерина опять в объятиях Тома. Ум ее, кажется, работал нормально, но тело было измучено и выжато. Она по-прежнему ощущала, как из ее чрева непрерывно сочится кровь; боли в животе не прекращались. Но ей становится лучше, в этом она была уверена. Том пошевелился и сел. — Вы снова с нами, — сказал он, в тревоге глядя на нее. — Я приведу доктора Хюйке. Когда Том ушел, она услышала, как он сказал леди Тирвитт: — Думаю, у нее ремиссия. Доктор пощупал пульс Екатерины, потрогал лоб, выслушал дыхание и взглянул на нее мрачно: — Мадам, я нарушу свой врачебный долг, если не посоветую вам подготовить свою душу к смерти. Вы можете поправиться, но я больше ничего не в силах для вас сделать. Екатерина не вполне сознавала, что он говорит. Том в тревоге смотрел на него: — Но ей еще может стать лучше? — С Божьей помощью все возможно, — сказал доктор Хюйке. — Но поправиться ей будет очень нелегко. Как только доктор ушел, Том повернулся к Екатерине: — Не слушайте его. Вам нужно только отдохнуть и выспаться, поесть хорошенько, и вы скоро поправитесь. Екатерина уловила страх в его голосе и удивилась своему спокойствию. Она была в руках Божьих; Он решит, что для нее лучше. — Все равно, Том, мне нужно составить завещание, с вашего позволения. Муж смотрел на нее, убитый горем. — Лучше на всякий случай приготовиться, — добавила Екатерина. — Тогда я смогу расслабиться и буду думать о выздоровлении. — Хорошо, я даю вам согласие, — сказал Том. По просьбе Екатерины он вызвал ее секретаря, чтобы тот написал завещание, а доктор Хюйке и доктор Паркхёрст засвидетельствовали его. — Я буду краткой. Напишите, что от всего сердца и по собственному желанию я без принуждения отдаю и завещаю своему супругу, лорду Сеймуру, лорду главному адмиралу Англии, все свое имущество, желая, чтобы оно было в тысячу раз больше, чем есть. — Говоря это, она улыбнулась Тому и добавила: — Я не упоминаю Мэри. Знаю, вы сделаете для нее все, что нужно. — Но вы будете здесь и позаботитесь о ней, — сказал Том, приподнимая Екатерину, чтобы она могла поставить подпись. — Об этом я молюсь постоянно, — с трудом проговорила она. Ее оставили отдыхать. Когда Екатерина проснулась, Анна попыталась напоить ее бульоном, но ей удалось выпить только немного вина. У нее снова закружилась голова, все стало как будто нереальным. Иногда она словно играла в садах Рай-Хауса, или препиралась с Рыжим в Снейпе, или наблюдала, как Генрих выпроваживает лорд-канцлера… Она смутно сознавала, что доктор Паркхёрст стоит на коленях рядом с ее постелью, произнося молитвы за больных, потом его руки помазали ее миром, готовя в последний путь. Над ней не произведут католических обрядов. Екатерина видела, как свершилось великое дело Господне, и теперь могла, подобно библейскому Симеону, уйти с миром. Было темно, когда Том принес к ней Мэри. — Кейт, — тихо произнес он, и она поняла, что Том плачет. — Наша дочь здесь. Вы можете дать ей материнское благословение? Он положил ее руку на головку девочки. — Благословляю вас, моя дорогая, — одними губами произнесла Екатерина. Голос ее стих, и свет померк. Но вперед поманил высший свет, и она пошла к нему, полная радости и надежды, слыша позади негромкий голос, возгласивший: — Из милосердия молитесь за душу Екатерины, бывшей королевы Англии.
От автора
Взглядов на религию, отображенных в этой книге, придерживались простые люди, жившие в XVI веке, и исторические фигуры того времени. Они важны для понимания того, как складывалась жизнь Екатерины Парр. Когда я подошла к написанию этого романа, прошло уже тридцать лет с того момента, как завершилось мое первое исследование, посвященное ей. За это время у историков появились новые подходы к данной теме. Я пользовалась многими источниками, но в особенном долгу перед трудом Линды Портер, Сьюзен Джеймс и Элизабет Нортон. В изложении событий романа я следовала историческим свидетельствам, хотя в отдельных местах немного сжала их ход, чтобы избежать описания некоторых мелких сцен, которые никуда не продвигают повествование, и иногда вкладывала слова, сказанные историческими личностями, в уста других персонажей. Нет никаких сведений о гомосексуальности Эдварда Бурга, хотя некоторые исследователи выдвигают такое предположение, основываясь на отсутствии детей у него и Екатерины. В отношении Екатерины к гомосексуальности отражены взгляды на этот предмет, свойственные тому времени, а не мнение автора. Выражения «ваша милость», «ваше высочество» и «ваше величество» взаимозаменяемы, и все они использовались при обращении к королю. То же относится к фамилиям Бург и Боро. Я использовала Бург как родовое имя, а Боро — как именование при титуле. Нет сомнений в том, что лорд Боро был чрезмерно властным и неприятным человеком. Сцена, в которой он порет свою жену, вымышлена, но основанием для нее стала гравюра елизаветинского времени, на которой изображен мужчина, занятый поркой своей супруги, а его дети смотрят на это поучительное зрелище, извлекая для себя урок. Муж имел право бить жену, если она вызывала его гнев. Исторические свидетельства показывают, что Генрих VIII и, вероятно, Томас Сеймур проявляли интерес к Екатерине Парр еще при жизни ее супруга лорда Латимера. За первые сделанные ей подарки, о которых сохранилась запись, было заплачено 16 февраля 1543 года. Латимер умер в конце этого месяца. Через четыре года в письме к Сеймуру Екатерина написала: «Мой разум был полностью склонен (к Вам) в то время, когда я была свободна выйти за Вас прежде, чем за любого другого известного мне мужчину. Тем не менее Господь на время весьма решительно сковал мою волю в этом отношении». Это показывает, что ухаживания Сеймура предвосхитили интерес к Екатерине короля. Что касается сюжетной линии, затрагивающей связи Екатерины Парр с виндзорскими мучениками, внимательные читатели могли заметить, что в книге «Королева секретов. Роман об Анне Клевской» этот эпизод хронологически появляется раньше, чем в данном, последнем романе серии. Собирая материал для Анны Клевской, я нашла очень мало сведений о причастности к этим событиям Кавардена и решила провести более глубокое исследование этого вопроса для книги о Екатерине Парр. То, что использованная мной для первого романа датировка событий неверна, стало очевидным, когда я начала работать над историей Екатерины, а потому была вынуждена разыскивать дополнительные свидетельства, чтобы сделать повествование исторически корректным. В 1543 году Уильям Парр обратился в парламент за разводом на основании неверности своей жены. Недостоверная «Испанская хроника» правления Генриха VIII утверждает, что он требовал от короля утвердить смертный приговор (пэр королевства имел право требовать такого наказания для неверной супруги), и Екатерина Парр упросила его сберечь жизнь невестки. Мне не удалось обнаружить никаких иных свидетельств в подтверждение этого, но тот же источник предполагает, что Екатерине были известны некие подробности истинных обстоятельств измены леди Парр, отличные от тех, в которые заставили поверить ее брата ложные обвинения против супруги. Именно это позволило мне развивать данную сюжетную линию, и я прошу прощения у тени Дороти Брей за то, что запятнала ее. Слова утешения, сказанные Екатериной после того, как умер новорожденный ребенок ее сестры Анны, взяты из письма, отправленного ею леди Ризли. Я немного смягчила тон ее выражений, так как для современной чувствительности они показались бы слишком резкими, тем не менее они ясно свидетельствуют о вере Екатерины в обретение Небес. Я позволила себе по-своему интерпретировать спорные события жизни Екатерины. Большинство историков (включая меня) датируют сообщение Джона Фокса о замыслах арестовать Екатерину за ересь 1546 годом, однако сам Фокс помещает его в 1545-й, год после осады Булони, что вполне согласуется с чистками еретиков, которые проводили консерваторы в то время. Я не верю в тесную связь Екатерины с Анной Аскью, но думаю, что какие-то контакты между ними имелись, хотя письменных свидетельств об описанных в романе встречах не существует. Подробности о пытках, которые Анна претерпела в Тауэре, взяты из ее собственных описаний. Существует мнение, что Генрих VIII узнал об аресте Джорджа Благге за ересь и суде над ним только после того, как тому был вынесен смертный приговор, однако маловероятно, что король не обратил бы внимания на длительное отсутствие любимого джентльмена своих личных покоев и не выяснил бы, что с ним случилось, задолго до суда. Разговор Генриха с Екатериной утром того дня, когда он в последний раз обращался к парламенту, основан на его знаменитой речи. Свадьба Екатерины и Томаса Сеймура состоялась в обстановке такой строгой секретности, что дата ее осталась незафиксированной. Грегорио Лети, поздний и часто ненадежный источник, утверждает, что они поженились 3 марта 1547 года. Другие предполагают, что они дождались второй половины мая, однако дата не согласуется с другими свидетельствами, в частности с письмами Екатерины. Этот, четвертый брак сделал Екатерину королевой Англии, которая больше всех раз побывала замужем. Нет никаких подтверждений того, что Екатерина и Том поженились в Сеймур-Плейсе, но это место обеспечило бы им уединение, в котором они так нуждались. По причинам, обрисованным в романе, их свадьба была сопряжена с логистическими проблемами. Без оглашения помолвки они действительно могли дать обеты в соответствии с широко распространенным в то время обычаем; такие обеты, за которыми следовало половое сношение, узаконивали брак. Я позволила себе предположить, что церковное благословение они получили в конце мая, когда, согласно некоторым источникам, уже были женаты. Неизвестно, кто отстроил впечатляющие главные покои в замке Садели. Некоторые предполагают, что это был Ричард III, однако нет свидетельств того, что он когда-нибудь посещал это место, зато известно, что на перестройки в замке он потратил весьма незначительную сумму. Джаспер Тюдор, дядя Генриха VIII, несколько лет жил в Садели и мог произвести там какие-то изменения, но, скорее всего, создателем апартаментов был все-таки Томас Сеймур, заплативший крупные суммы за строительные работы и поставивший наблюдать за их ходом сэра Уильяма Шарингтона, который незадолго до этого превратил аббатство Лакок в великолепную резиденцию. Я долго размышляла о том, почему Екатерина хотела проконсультироваться с доктором Хюйке после родов и почему Томас запретил это. Разумеется, она должна была переживать из-за некоторых симптомов, которые у нее появились. Учитывая, что, согласно источникам, Екатерина умерла от родильной горячки, я подумала, не была ли она вызвана инфекцией, возникшей из-за частично не вышедшей плаценты, что могло вызвать описанные мной в романе симптомы. В то время докторам было строго запрещено посещать женщин после родов, вероятно, поэтому Томас Сеймур не хотел, чтобы Хюйке осматривал его жену. Я с большим удовольствием писала серию романов «Шесть королев династии Тюдоров», и мне жаль, что она закончена. Я хотела бы выразить благодарность моим редакторам, Мэри Эванс из «Headline» и Сюзанне Портер из «Ballantine» за их участие в подготовке к изданию всех шести книг и за их энтузиазм в отношении к проекту; Флоре Рис — за ее творческий и чуткий подход к редактуре; Фрэнки Эдвардс, Ким Хови, Эмили Хартли, Джо Лиддьярду, Кейтлин Рейнор, Шивон Хупер, Джейн Селли, Кэти Санли, Эмили Пейшенс и всем безвестным героям и героиням из редакционных команд в Лондоне, Канаде, Нью-Йорке, Австралии и везде. Вы все оказывали мне теплую и профессиональную поддержку par excellence, и я вам глубоко признательна. Я хочу также сказать спасибо удивительно талантливым сестрам-близнецам Бальбюссо за их замечательную, удостоенную высокого признания работу над обложками и форзацами книг, что придало всей серии роскошный и неповторимый облик. Как обычно, я выражаю признательность своему агенту Джулиану Александеру за его поддержку. Я никогда не забуду, как засияло его лицо, когда я впервые предложила ему взяться за издание серии в 2014 году. И наконец, но не меньше прочих я с любовью благодарю своего мужа Ранкина, который был для меня главной надеждой и опорой в течение последних шести лет. Без него эти книги никогда не были бы написаны.Действующие лица
В порядке появления или первого упоминания. Курсивом выделены имена вымышленных персонажей.Екатерина (Кэтрин) Парр, дочь сэра Томаса Парра и Мод Грин. Мод Грин, леди Парр, мать Екатерины. Генрих VIII, король Англии. Екатерина Арагонская, королева Англии, первая жена Генриха VIII. Уильям Парр (позже лорд Парр и граф Эссекс), брат Екатерины. Доктор Мелтон, священник семьи Парр. Анна Парр (позже леди Герберт), сестра Екатерины. Сэр Томас Парр, отец Екатерины. Сэр Уильям Парр (позже лорд Парр) из Хортона, дядя Екатерины. Катберт Танстолл (позже епископ Даремский). Агнес, няня Екатерины. Мэри Солсбери, леди Парр из Хортона, тетя Екатерины. Магдалена Парр (позже леди Лейн), кузина Екатерины, дочь сэра Уильяма Парра. Анна (Нан) Парр, кузина Екатерины, дочь сэра Уильяма Парра. Элизабет Парр, кузина Екатерины, дочь сэра Уильяма Парра. Мэри Парр, кузина Екатерины, дочь сэра Уильяма Парра. Элизабет Чейни (позже леди Вокс), кузина Екатерины, дочь сэра Томаса Чейни. Сэр Томас Мор (позже лорд-канцлер), знаменитый ученый-гуманист. Принцесса (леди) Мария (позже Мария I), дочь Генриха VIII и Екатерины Арагонской. Доктор Кларк, брат домашнего священника сэра Уильяма Парра. Томас (позже лорд) Вокс, муж Элизабет Чейни. Николас, лорд Вокс из Харроудена, отец Томаса Вокса. Сэр Ральф Лейн, муж Магдалены Парр. Генри, лорд Скруп из Болтона. Томас Файнс, лорд Дакр, его тесть. Генри Скруп, сын Генри, лорда Скрупа из Болтона. Генри Фицрой, герцог Ричмонд и Сомерсет, внебрачный сын Генриха VIII. Летиция, дочь сэра Ральфа Лейна и Магдалены Парр. Кардинал Томас Уолси, лорд-канцлер. Грум Парров. Генри Буршье, граф Эссекс. Анна (Энн) Буршье, жена Уильяма Парра, брата Екатерины. Мэри Сей, графиня Эссекс. Анна Болейн (позже королева Англии и вторая жена Генриха VIII). Папа Климент VII. Карл V, император Священной Римской империи. Эдвард Бург, первый муж Екатерины. Сэр Томас Бург (позже лорд Боро из Гейнсборо), его отец. Эдвард, лорд Боро из Гейнсборо, дед Эдварда. Агнес Тирвитт, покойная первая жена сэра Томаса Бурга. Элис Лондон, вторая жена сэра Томаса Бурга. Ричард III, король Англии. Томас Бург, брат Эдварда. Уильям Бург, брат Эдварда. Генри Бург, брат Эдварда. Элеанор Бург, сестра Эдварда. Агнес Бург, сестра Эдварда. Элинор, горничная Екатерины. Грум Бургов. Сэр Эдвард Сеймур (позже граф Хартфорд, герцог Сомерсет и лорд-протектор Англии), брат королевы Джейн Сеймур. Кардинал Лоренцо Кампеджо, папский легат. Доктор Олгуд, священник Бургов. Управляющий Бургов. Анна Бург, сестра Эдварда. Сэр Уильям Аскью. Анна Аскью, его дочь. Врач из Сканторпа. Элизабет Оуэн, жена Томаса Бурга, брата Эдварда. Кэтрин (Кэт) Невилл, леди Стрикленд, родственница Екатерины. Сэр Уолтер Стрикленд, ее покойный первый муж. Генри Бург, ее покойный второй муж. Мистер Дарси, ее покойный третий муж. Уолтер Стрикленд, ее сын. Томас Стрикленд, ее сын. Роджер Стрикленд, ее сын. Элизабет Стрикленд ее дочь. Мэри Стрикленд, ее дочь. Агнес Стрикленд, ее дочь. Анна Бург, ее дочь. Фрэнсис Дарси, ее дочь. Сэр Уильям Парр, дед Екатерины. Джон Невилл, лорд Латимер, второй муж Екатерины. Святая дева из Леоминстера. Приор из Леоминстера. Дороти де Вер, покойная первая жена лорда Латимера. Джон (Джек) Невилл (позже лорд Латимер), сын лорда Латимера. Маргарет Невилл, дочь лорда Латимера. Элизабет Масгрейв, покойная вторая жена лорда Латимера. Уолтер Роулинсон, управляющий лорда Латимера. Бесс Роулинсон, его жена. Мармадьюк Невилл, брат лорда Латимера. Принцесса (леди) Елизавета (позже Елизавета I), дочь Генриха VIII и Анны Болейн. Уильям Невилл, брат лорда Латимера. Джордж Невилл, брат лорда Латимера. Кристофер Невилл, брат лорда Латимера. Джон Леланд, королевский антиквар. Сэр Уильям Фицуильям (позже граф Саутгемптон). Сэр Томас Кромвель (позже граф Эссекс), главный министр Генриха VIII. Ральф Биго, жених Маргарет Невилл. Сэр Фрэнсис Биго, его отец. Уильям Ниветт, четвертый муж Кэтрин (Кэт) Невилл, леди Стрикленд. Джон Фишер, епископ Рочестера. Мартин Лютер, немецкий реформатор, основатель протестантской религии. Джейн Сеймур (позже королева Англии и третья жена Генриха VIII). Лорд Редмэйн из замка Хэрвуд. Чарльз Брэндон, герцог Саффолк. Аббат из Жерво. Монах из Жерво. Роберт Аск, вождь Благодатного паломничества. Марта Аскью, дочь сэра Уильяма Аскью. Томас Кайм, муж Анны Аскью. Сэр Уильям Инглби из замка Рипли. Главарь мятежников и его шайка. Лорд Дарси, лидер Благодатного паломничества. Томас Говард, герцог Норфолк. Эдвард Ли, архиепископ Йоркский. Рыжий, вожак мятежников, и его шайка. Генрих VII, король Англии. Скелет, сообщник Рыжего. Стражник у Бутхэм-Бар, Йорк. Сэр Роберт Констебл, лидер Благодатного паломничества. Сэр Томас Уайетт. Генри Говард, граф Суррей, сын Томаса Говарда, герцога Норфолка. Сэр Генри Уайетт, отец сэра Томас Уайетта. Сэр Ричард Пейдж. Джон, лорд Расселл. Вильгельм Завоеватель, король Англии. Принц Эдуард (позже Эдуард VI), сын Генриха VIII и Джейн Сеймур. Сэр Уильям Герберт, муж Анны Парр. Эдуард Исповедник, король Англии. Уильям Герберт, граф Пемброк. Сэр Ричард Герберт, его внебрачный сын, отец сэра Уильяма Герберта. Маргарет Крэдок, леди Герберт, мать сэра Уильяма Герберта. Сэр Роджер, священник из Эвас-Гарольда. Уильям Тиндейл, переводчик Библии на английский. Генри Герберт, сын сэра Уильяма Герберта и Анны Парр. Анна Клевская (Анна из Клеве), королева Англии и четвертая жена Генриха VIII. Кэтрин Уиллоуби, герцогиня Саффолк, вторая жена Чарльза Брэндона, герцога Саффолка. Мария Тюдор, королева Франции и герцогиня Саффолк, сестра Генриха VIII и покойная первая жена Чарльза Брэндона, герцога Саффолка. Стивен Гардинер, епископ Винчестерский. Кэтрин (Екатерина) Говард, королева Англии и пятая жена Генриха VIII. Джон Люнгфилд, приор Тандриджа, любовник Энн Буршье. Дороти Брей, любовница Уильяма Парра. Джентльмены, стражники. Ганс Гольбейн, придворный художник. Святой Фома Аквинский. Фрэнсис Дерем и Томас Калпепер, любовники Кэтрин Говард. Посол Клеве. Мастер Парр, внебрачный сын Энн Буршье от Джона Люнгфилда. Лондонский врач. Яков V, король шотландцев. Мария, королева шотландцев, его дочь. Мария де Гиз, королева-регент Шотландии, ее мать, вдова Якова V. Сэр Томас Сеймур (позже — лорд Сеймур из Садели), четвертый муж Екатерины Парр. Мэри Говард, герцогиня Ричмонд, дочь Томаса Говарда, герцога Норфолка, и вдова Генри Фицроя, герцога Ричмонда и Сомерсета. Сэр Джон Сеймур, покойный отец Джейн Сеймур, Эдварда и Томаса Сеймуров. Грегори, управляющий. Маргарет Уэнтворт, леди Сеймур, вдова сэра Джона Сеймура. Адам, повар Кэтрин. Уилл Сомерс, шут короля. Священник из церкви Святой Анны монастыря Черных Братьев. Майлс Ковердейл, переводчик Библии на английский. Хью Латимер, бывший епископ Вустерский. Элизабет Брук, вторая жена Уильяма Парра. Джордж Брук, лорд Кобхэм, ее отец. Королевский церемониймейстер. Леди Маргарет Дуглас, племянница Генриха VIII. Чарльз Говард, брат Екатерины Говард, королевы Англии. Анна (Нан) Стэнхоуп, графиня Хартфорд (позже герцогиня Сомерсет), жена Эдварда Сеймура, графа Хартфорда (позже герцога Сомерсета и лорда-протектора). Бассано, придворные музыканты. Мэттью Паркер, священник Генриха VIII. Фрэнсис Голдсмит, священник Екатерины. Лорд Томас Говард, младший сын Томаса Говарда, герцога Норфолка. Роджер Ашэм, знаменитый ученый. Эразм Роттердамский, знаменитый ученый-гуманист. Николас Юдолл, бывший глава Итона. Элизабет, леди Хоби. Сэр Уильям Хоби, ее муж. Сюзанна Гилман, фламандская художница. Джон Беттс, художник Генриха VIII. Левина Теерлинк, фламандская художница. Гардинер, собака леди Саффолк. Джон Кристоферсон, епископ Чичестера, податель милостыни у Кэтрин. Николас Ридли, священник Генриха VIII. Николас Шэкстон, епископ Солсберийский. Дура Джейн, шутиха Екатерины. Карлик, шут Екатерины. Риг, собака Екатерины. Кэтрин Чепернаун (позже миссис Эшли), гувернантка леди Елизаветы. Марк Смитон, музыкант. Доктор Ричард Кокс, наставник принца Эдуарда. Томас Таллис, композитор, органист из Королевской капеллы. Сэр Томас Каварден, смотритель пиров и палаток. Джон Марбек, регент Королевской капеллы в Виндзоре. Фальк, грум Екатерины. Роберт Окхэм, человек сэра Томаса Кавардена. Леди Брайан, главная воспитательница принца Эдуарда. Лукас Хоренбаут, художник Генриха VIII. Ганс Эворт, художник Генриха VIII. Изабелла, королева Кастилии, мать Екатерины Арагонской. Императрица Матильда, претендентка на английский престол в XII в. Герцог Нахера, посол Испании. Юстас Шапюи, императорский посол. Сэр Энтони Денни, глава личных покоев Генриха VIII. Сэр Томас Ризли, лорд-канцлер. Миссис Дженнингс, акушерка. Умерший вскоре после рождения сын сэра Уильяма Герберта и Анны Парр. Новорожденный сын Эдварда Сеймура, графа Хартфорда, и Анны Стэнхоуп. Мэтью Стюарт, граф Леннокс, муж леди Маргарет Дуглас. Томас Тирлби, епископ Вестминстерский. Сэр Уильям Петре, государственный секретарь. Энтони, новорожденный сын сэра Томаса Ризли. Джейн Чейни, леди Ризли. Доктор Джон Чик, наставник принца Эдуарда. Сэр Уильям Баттс, врач Генриха VIII. Бланш Парри, камеристка леди Елизаветы. Фрэнсис Тальбот, граф Шрусбери. Жан Кальвин, швейцарский религиозный реформатор. Элеанор Пастон, графиня Ратленд. Маргарет Бофорт, графиня Ричмонд и Дерби, бабка Генриха VIII. Франциск I, король Франции. Маргарита Валуа, сестра Франциска I, короля Франции. Генри Стюарт, лорд Дарнли, старший сын Мэтью Стюарта, графа Леннокса, и леди Магарет Дуглас. Доктор Томас Венди, королевский врач. Доктор Джон Чеймберс, врач Генриха VIII. Элизабет, леди Тирвитт. Джордж Благге, джентльмен из личных покоев Генриха VIII. Уильям Баклер, секретарь Екатерины. Франсуа ван дер Дельфт, имперский посол. Уильям Гриндал, наставник леди Елизаветы. Мэри Норрис, леди Кэри. Сэр Джордж Кэри, вице-адмирал, командир парусника «Мэри Роуз», ее муж. Генри Брэндон, герцог Саффолк, сын Чарльза Брэндона, герцога Саффолка, и Кэтрин Уиллоуби. Чарльз Брэндон (позже герцог Саффолк), сын Чарльза Брэндона, герцога Саффолка, и Кэтрин Уиллоуби. Доктор Смайт, адвокат из университета Кембриджа. Фрэнсис Брэндон, маркиза Дорсет (позже герцогиня Саффолк), дочь Чарльза Брэндона, герцога Саффолка, и Марии Тюдор, племянницы Генриха VIII. Элеанор Брэндон, графиня Камберленд, ее сестра. Доктор Эдвард Кроум, проповедник. Джон Дадли, лорд Лайл (позже граф Уорик). Сэр Ричард Рич, советник Двора добавлений знаков отличия к гербу. Сэр Эдмунд Уолсингем, лейтенант Тауэра. Клод д’Аннебо, адмирал Франции, французский посол. Сэр Уильям Паджет, королевский советник. Генрих Стюарт, лорд Дарнли, второй сын Мэтью Стюарта, графа Леннокса, и леди Маргарет Дуглас. Генри Фицалан, граф Арундел, лорд-камергер королевского двора. Сэр Энтони Уингфилд, вице-камергер королевского двора. Двое стражников во дворце Уайтхолл. Сэр Энтони Коуп, вице-камергер Екатерины. Леди Джейн Грей, дочь Генри Грея, герцога Саффолка, и Фрэнсис Брэндон. Джон Харингтон, слуга Томаса, лорда Сеймура. Маргарет Уэнтворт, леди Сеймур, мать Джейн, Эдварда и Томаса Сеймур. Эдвард Герберт, сын сэра Уильяма Герберта и Анны Парр. Джон Паркхёрст, священник Екатерины. Капитан пиратов. Эдмунд Боннер, епископ Лондонский. Джон Фоулер, джентльмен из личных покоев Эдуарда VI. Николас Трокмортон, родственник Екатерины. Грум из Ханворта. Доктор Роберт Хюйке, врач Екатерины. Мэри Оделл, внучка Уильяма, лорда Парра из Хортона. Джоан Чепернаун, леди Денни, жена сэра Энтони Денни. Эдвард, сын Эдварда Сеймура, герцога Сомерсета, и Анны Стэнхоуп. Миссис Готобед, акушерка Екатерины. Мэри Сеймур, дочь Екатерины.
Хронология событий
1491 год Рождение Генриха VIII.1509 год Восшествие на престол Генриха VIII. Брак и коронация Генриха VIII и Екатерины Арагонской.
1512 год Рождение Екатерины Парр.
1513 год Рождение Уильяма Парра, брата Екатерины.
1515 год Рождение Анны Парр, сестры Екатерины.
1516 год Рождение принцессы Марии, дочери Генриха VIII и Екатерины Арагонской.
1517 год Смерть сэра Томаса Парра, отца Екатерины.
1527 год Брак Уильяма Парра и Энн Буршье.
1529 год Брак Екатерины Парр и Эдварда Бурга.
1531 год Смерть Мод Грин, матери Екатерины.
1533 год Смерть Эдварда Бурга. Брак Генриха VIII и Анны Болейн. Рождение принцессы Елизаветы, дочери Генриха VIII и Анны Болейн.
1534 год Брак Екатерины Парр и Джона Невилла, лорда Латимера. Парламент издает Акт о верховенстве, по которому Генрих VIII становится верховным главой Церкви Англии, и Акт о престолонаследии, которым дети Анны Болейн и короля объявляются законными наследниками.
1536 год Смерть Екатерины Арагонской. Казнь Анны Болейн. Брак Генриха VIII и Джейн Сеймур. Парламент издает новый акт о престолонаследии, передавая право на престол детям Джейн и короля. Смерть Генри Фицроя. Благодатное паломничество (1536–1537).
1537 год Рождение принца Эдуарда, сына Генриха VIII и Джейн Сеймур. Смерть Джейн Сеймур.
1538 год Брак Анны Парр и сэра Уильяма Герберта.
1540 год Брак Генриха VIII и Анны Клевской. Брак Анны официально аннулирован парламентом. Казнь Томаса Кромвеля. Брак Генриха VIII и Екатерины Говард.
1542 год Казнь Екатерины Говард.
1543 год Смерть Джона Невилла, лорда Латимера. Аннулирование брака Уильяма Парра и Энн Буршье. Брак Генриха VIII и Екатерины Парр. Уильям Парр становится графом Эссексом.
1547 год Смерть Генриха VIII. Восшествие на престол Эдуарда VI. Уильям Парр становится маркизом Нортгемптоном. Брак Екатерины Парр и Томаса Сеймура. Смерть Уильяма Парра, лорда Хортона, дяди Екатерины.
1548 год Брак Уильяма Парра и Элизабет Брук. Рождение Мэри Сеймур, дочери Екатерины Парр и Томаса, лорда Сеймура. Смерть Екатерины Парр.
Последние комментарии
54 минут 17 секунд назад
4 часов 35 минут назад
4 часов 56 минут назад
5 часов 50 минут назад
8 часов 49 минут назад
8 часов 50 минут назад