Жаркое лето 1762-го [Сергей Алексеевич Булыга] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]

СЕРГЕЙ БУЛЫГА ЖАРКОЕ ЛЕТО 1762-го
Глава первая «Ты кто такой!»
События, о которых я собираюсь вам рассказать, произошли в Санкт-Петербурге и его окрестностях в конце июня — начале июля 1762 года. Время тогда было не самое спокойное. Прошедшей зимой, в декабре, скончалась дочь Петра Великого Елизавета, и на российский престол взошел ее племянник Карл Петр Ульрих, всем нам более известный как император Петр Третий. Сын старшей сестры Елизаветы, цесаревны Анны Петровны, и голштинского герцога Карла Фридриха, Карл Петр Ульрих до тринадцати лет жил в Голштинии и готовился впоследствии занять шведский престол, так как по отцовской линии он приходился внучатым племянником небезызвестному Карлу Двенадцатому. Однако в 1742 году бездетная и незамужняя Елизавета Петровна решила иначе — и Карл Петр Ульрих был срочно привезен в Россию, крещен по православному обряду, наречен Петром Федоровичем и объявлен наследником российского престола. Подобный резкий поворот судьбы ничуть не обрадовал юного принца, который впоследствии часто говаривал: — Я не люблю Россию. Я в ней как мальчик в страшной темной комнате. И тем не менее Петр Третий вошел в историю как весьма деятельный правитель. Всего лишь за полгода своего царствования он успел сделать не так уже и мало, а именно: издал манифест о вольности дворянству, уничтожил тогдашний политический сыск — Тайную розыскную канцелярию, издал указ о веротерпимости, вернул из ссылки всех опальных царедворцев и перевел миллионы крестьян из монастырских в разряд государственных, чем, несомненно, облегчил их участь и сделал первый шаг к отмене крепостного права. Воспитанный в Голштинии, Петр Третий пытался насадить в России европейские порядки, но, к сожалению, указы принимались наспех, бессистемно. И среди высшей знати, которая за три десятка лет правления в России глупых и бездарных государынь привыкла к беззаконию и лихоимству, было решено воспользоваться промахами нового царя. Гвардия, которую Петр Третий не любил и, именуя янычарами, собирался лишить привилегий, была готова к выступлению. Дело, стало быть, оставалось за малым — найти того, кто бы смог возглавить недовольство. И таковой, точнее, таковая нашлась… Э, погодите! Да что это я? Куда это меня несет, как отвязавшуюся пристяжную?! Нет, давайте не будем нарушать порядок событий, а изложим все согласно хронологии и, сколь это возможно, беспристрастно. То есть как оно тогда случалось, так пусть теперь и излагается — четко и по-деловому. Тем более что третий император это весьма приветствовал. Так вот, утром 26 июня по старому стилю, да тогда про новый еще мало кто знал, в Ораниенбаум прибыл курьер из действующей армии. Из Померании. Да, кстати! Во внешней политике, с приходом к власти Петра Третьего, тоже произошли перемены — и весьма существенные. Так, например, за два месяца до описываемых нами событий Петр заключил мир с Пруссией, и Россия безо всяких обретений вышла из победоносной для нее Семилетней войны. Однако армии было приказано оставаться на месте, в Германии. Дело в том, что царь уже объявил новую войну, на сей раз своему недавнему союзнику Дании с тем, чтобы отнять у нее и вернуть Голштинии ее законное, как он считал, владение — герцогство Шлезвиг. Десять миллионов рублей уже были переведены в иностранные банки на расходы экспедиции, а сам Петр во главе 60-тысячной армии намеревался со дня на день выступить на помощь 20-тысячному корпусу Румянцева. В доставленной царю депеше сообщалось… Однако откуда это нам знать! Депеша ведь была запечатана крепкой сургучной печатью и засунута под мундир, а мундир плотно застегнут и, от греха подальше, всю дорогу не снимался. В дороге же курьер был с двадцать второго с трех после полуночи, а прибыл двадцать шестого в десять утра с четвертью. Вот и считайте! Так что ничего удивительного в том не было, что когда экипаж остановился, то курьер вышел из него сильно шатаясь. Судя по мундиру, это был драгунский обер-офицер. Точнее, ротмистр. Даже могу сказать больше: звали его Иван, по отчеству Иванович, а по фамилии… Но к делу. Итак, курьер вошел в Малый дворец, а там, как обычно, повернул направо, в кордегардию. Однако дежурный офицер, майор, как только увидел его, сразу вскочил и поспешно сказал: — Э, нет, нет! Давай сразу наверх. Он очень ждет. — Кто? — спросил ротмистр. — Ну, кто еще! — строго сказал дежурный. Ротмистр только покачал головой, да тут разве поспоришь. И он пошел дальше, наверх. По долгу службы ему часто приходилось бывать в этом дворце, однако наверх его еще никогда не приглашали. Даже не допускали! А тут вот вдруг иди, сердито, нет, даже с опаской думал ротмистр, зачем он им там? Может, конечно, думал он дальше, уже поворачивая с лестницы, кому-то от такой аудиенции могла бы великая польза случиться. Ну да это надо уметь сразу, с этим надобно родиться. Додумав до этого места, ротмистр как раз дошел до нужной двери, остановился и на всякий случай (но для других незаметно) перекрестился. Караульный подмигнул ему и открыл дверь. Ротмистр вошел. Царский кабинет, по крайней мере сразу, не произвел на ротмистра особого впечатления. Хотя, конечно, золота там было предостаточно, мебель тоже вся была в завитушках, зеркала были кругом, картины. А возле стола стоял царь. Царь, кстати, тоже был в драгунском мундире, только в голштинском, сером. А на столе, на который он одной рукой небрежно опирался, громоздилась — потому что как тут еще иначе скажешь? — громоздилась здоровущая картонная крепость. Сделана она была весьма искусно, сразу же отметил ротмистр… Однако тут же спохватился и принялся приветствовать царя, то есть развел носки, а каблуки сомкнул в прямоугольник, шляпу одним темпом снял левой рукой во всю руку — и бодро, весело начал: — Ваше импера… Но царь уже поморщился и поднял руку, после чего с сильным немецким акцентом сказал: — Ладно, ладно! Расшаркался. А нам сейчас не до этого. Мы на войне. Давай сюда! Иван… Да, лучше так — Иван достал из-за обшлага мундира пакет и, уже не кланяясь, подал его царю. Но царь пакета брать пока не стал, а как-то странно посмотрел на Ивана и осторожно спросил: — Ты кто такой? — Курьер из армии, — сказал Иван. — От господина главнокомандующего, генерал-аншефа Румянцева. — Подумал и еще добавил: — Графа. Петра Александровича. — Это я понял, — сказал, как-то странно улыбаясь, царь. — Но сам ты кто? Ты же не дубина, извини за грубость, стоеросовая, а ты живой человек. Дворянин! И у тебя есть имя. Есть? — Есть, государь, — сказал Иван. — Я есть ротмистр Иван Заруба-Кмитский, я в прошлом году из Тобольского полка был переведен к графу… — Знаю, знаю! — торопливо перебил его царь и даже засмеялся. — Вспомнил! Ты же из Корпуса вышел. Это твой граф не доучился, а ты вышел. Пятым, я и это помню. И тебе сразу дали подпоручика. Вот когда я тебя видел! Ты же вот так тогда передо мной стоял, как и сейчас. Иван совсем смутился и сказал: — Только тогда нас было много, государь. А сейчас я один. Царь резко переменился в лице и вдруг очень зло — да еще по-немецки — сказал: — Зато я не один! — и указал Ивану за спину. Иван невольно обернулся — и увидел в дверях двух солдат-преображенцев. Солдаты держали ружья на караул и, не мигая, смотрели прямо перед собой. — Ты понял, что я говорю? — опять же по-немецки сказал царь. — А как же не понять, — ответил, тоже по-немецки, Иван. — Там у нас без этого никак нельзя, тем более при штабе. Царь улыбался. Иван осмелел и продолжил: — Да я еще и когда в Корпусе учился, по-немецки лучше всех умел. — А ты хвастун, Иван! — уже по-русски сказал царь и засмеялся. Иван опять смутился. Царь сказал: — Но это, может, даже хорошо. Это говорит о том, что у тебя богатое воображение. Я и сам тоже этим грешу. Да и не только этим! — и он опять засмеялся. После чего вдруг отвернулся от Ивана, заложил руки за спину и принялся ходить взад-вперед по кабинету. А Иван стоял, держал в руке пакет. Царь продолжал ходить. Караульные стояли неподвижно. Вдруг царь, как будто он только сейчас об этом вспомнил, остановился, молча взял у Ивана пакет, взломал сургуч, развернул письмо и принялся его читать. Брови у царя то и дело то поднимались, то опускались. Но Иван почему-то подумал, что это у царя не от письма, а от того, что он хочет показать Ивану, как он сильно увлечен этим письмом. Или, тут же подумал Иван, чтобы никак нельзя было догадаться, что царь сейчас на самом деле думает. Царь продолжал читать. А Иван опять начал осматриваться… И увидел, как из-под стола резво выскочила маленькая собачонка и кинулась ему в ноги, уткнулась в сапоги и принялась их обнюхивать. Иван стоял, не шевелясь, поглядывал на собачонку. Собачонка, перестав его обнюхивать, подняла голову. Теперь они смотрели один другому в глаза и молчали. Царь — а он, оказывается, все это видел — сказал подчеркнуто серьезным голосом: — Это мой самый верный защитник. И я ему больше всех верю. Иван осторожно сказал: — Забавный песик. — Не забавный, — строго сказал царь, — а очень нужный. Тем более сейчас, — продолжал он опять по-немецки, — да, именно сейчас, когда меня больше защищать некому. Тайной канцелярии же больше нет, злодеев мучить некому! — Но тут он опять улыбнулся и бодро продолжил: — Но к делу. Мы же на войне, как я это в самом начале сказал, — и тут он для наглядности даже потряс письмом. После кивнул на картонную крепость и очень сердито продолжил: — Вот, Шлезвиг! И это покрепче Кольберга. Так что Петру Александровичу будет где проявить свое умение. — После, покосившись на солдат, сказал: — Они болваны. Они же нас сейчас не понимают. Но это мои подданные. Это моя опора. Брат Фридрих говорил… Так вот, кстати, о брате Фридрихе, — и он опять потряс письмом. — Ты когда оттуда выехал? Двадцать второго? Иван открыл рот, чтобы ответить… Но царь уже сказал: — Знаю, знаю! Двадцать второго, конечно. Четверо суток с хвостом. Хвост — три часа, а то и пять или шесть. Это уже как дороги. А если я завтра… — Тут он нахмурился и посмотрел по сторонам, увидел песика. Песик сразу встал на задние лапки. Царь погрозил ему пальцем, песик завилял хвостом. Царь улыбнулся, но сказал: — Нет, не хочу. Иди, иди! — Песик убежал под стол. Царь повернулся к Ивану, продолжил: — Нет, завтра никак не успею. Тогда послезавтра. Нет! — тут же исправился он. — Нет, даже двадцать девятого. Вот! Двадцать девятого выступлю. Но и я же не курьер, чтобы через четверо суток быть уже там, в Померании. Я так быстро не смогу, со мной же будет армия. И еще какая армия! — уже просто насмешливо воскликнул царь. — И это не слухи. А это я сам как обещал, так и сделаю. Я их за шиворот в Европу вытащу, Иван! Тебя Иваном звать? Правильно, как же иначе. Так вот, Иван, я их, этих наших янычар, за шиворот в Европу вытащу. Пусть растрясутся, пусть понюхают европейского пороху. Пусть сходят в европейскую атаку. За сколько шагов переходят в галоп? — За двести пятьдесят, — сказал Иван. — Верно! — радостно воскликнул царь. — Еще помнишь! А уже сколько ты в штабе? — И, не дав ответить, продолжал: — А эти совсем разжирели! Как это по-русски называется? Свинья! — это слово он сказал по-русски и опять продолжил по-немецки: — Нет, я же ничего не имею против свинины, из нее можно приготовить множество чудесных блюд. Да, кстати! А как наши магазейны в Висмаре? Какие там уже запасы, на сколько? А то Петр Александрович, — и царь сердито ткнул пальцем в письмо, — очень он уклончиво об этом пишет. Почему? Там что-нибудь не так? Или нам кто-нибудь мешает? Или что еще на самом деле? Иван молчал. Он же не знал, что об этом написал Румянцев, а подводить начальство ему не хотелось. Ведь после надо будет возвращаться, торопливо подумал Иван, да и вообще, как бы чего ему сейчас… — Пф! — громко сказал царь. — А ты большая шельма, ротмистр. Ты хочешь обмануть своего императора. Да за это, будь сейчас кто-нибудь другой на моем месте, пусть даже мой великий дед, ты не сносил бы головы. Покатилась бы она под стол, вот что с ней было бы. А я, — и тут он опять стал серьезным, даже очень. — А я, — продолжил он уже не только серьезно, но еще и очень тихо, — я только скажу: Петр Александрович тоже, как и ты, юлит. Но я и так все про это знаю, — сказал он уже громче. — И знал заранее, что мой разлюбезный брат Фридрих будет мне, насколько только это у него получится, вредить. И еще при этом будет говорить своим бравым генералам, что, мол-де, чего это наш брат Питер выдумал, куда это он собрался? Зачем ему здесь воевать? — это царь уже почти что выкрикнул, и уже не своим голосом, а явно передразнивая Фридриха. И так и дальше, будто Фридрих, продолжал: — Да, несомненно, я, конечно, помню, я обещал брату Питеру в случае крайней надобности двенадцать тысяч пехоты и четыре тысячи конницы. Но зачем же сразу так горячиться? Датчане же умные люди, они же на все согласны, а мы, в свою очередь, как обещали, так и откроем первого июля, а сколько тут осталось, почти ничего, откроем первого июля в Берлине конгресс и без единого выстрела разделим этот чертов Шлезвиг! А так… Но тут царь вдруг замолчал, как-то очень недобро посмотрел на Ивана, а после так же недобро спросил: — Только почему это я так много тебе рассказываю? А вдруг ты ее человек? Ты ведь знаешь, о ком это я? Отвечай! Иван молчал. В голове у него все перепуталось, ему было очень жарко. Царь беззлобно засмеялся и сказал: — А ты хороший человек, Иван. У тебя все на лице написано. А Фридрих, — тут царь улыбнулся, — а Фридрих зато очень хитрый. И сильный, вот что тоже очень важно. Вот кого сразу надо было выбирать в союзники. Но моя любимая тетенька, она выбирала не так. Да она и не выбирала, а выбирал этот прохвост Ванька Шувалов. А он думал о чем? Да ему поднесли чего надо, и он и рад. И другие тоже были рады, потому что и их тоже не забыли, им всем тоже поднесли. И после еще носили и носили, и все про это знают. А вы, мои храбрые герои, — и тут царь показал не только на Ивана, но и на караульных, — а вы после выступайте бравым шагом, или с рыси на галоп за двести пятьдесят шагов, по команде «Марш! Марш!» — и бейте, и берите на палаш бравых героев моего брата Фридриха. Как будто больше бить и брать некого! А вот и есть кого! А вот я покажу… Но тут царь вдруг опять замолчал и посмотрел на стенные часы. На них было без одной одиннадцать. — О! — сказал царь. — Извини, брат Иван, но у меня служба. Я же тоже подневольный человек. Дела! Но… Он поморщился, еще раз посмотрел на часы — и они как раз негромко брынькнули одиннадцать. — Но! — повторил царь, продолжая оставаться серьезным. — Ты мне сегодня еще будешь нужен. Так что никуда не отлучайся. Будь здесь! А я, — и тут он сложил письмо вдвое, потом еще раз вдвое, — а я его еще раз прочту и подумаю. Если придумаю, чего ответить, тогда ты сегодня поедешь обратно. И это будет очень важная поездка. Много на кон будет поставлено. Поэтому… Если доставишь в срок, даже лучше — если раньше срока… Тогда проси чего хочешь! А я самодержавный государь, здесь все мое и я здесь все могу. Понятно? Иван кивнул. Царь улыбнулся и спросил: — Так чего хочешь? Иван подумал и сказал: — Пока еще не знаю. Надо еще подумать. — Вот это правильно! — радостно воскликнул царь. — Потому что это очень важно! Один раз такое в жизни бывает, чтобы царь, этот тиран, вдруг взял да смилостивился. Так? Иван молчал. — Так, так! — сказал царь. — Не сомневайся! А пока что ступай. И будь здесь рядом. Жди, когда я позову.ГЛАВА ВТОРАЯ «Как я рад!»
Сейчас про это уже, наверное, мало кто помнит, а тогда все знали очень хорошо, что в Малый Ораниенбаумский дворец попасть было намного труднее, чем в Большой. Ведь это же теперь уже ничего от того не осталось, только ворота да мост, а раньше — то есть как раз в то время, о котором я вам рассказываю, — там вокруг Малого дворца была возведена крепость, пусть и земляная, но достаточно надежная. А что! Пять бастионов, артиллерия, каменные казематы, голштинские казармы, гауптвахта, арсенал, пороховой амбар и еще казармы… Нет, погодите, пороховой амбар и драгунские казармы, а также конюшня — все это было построено вне крепости, потому что она была маленькая. Кое-кто даже дразнил ее игрушечной, а то и совсем картонной. А после известных событий велел немедленно срыть! И срыли начисто. А раньше, повторяю, это была вполне пригодная к обороне крепость, именовалась она Петерштадт и охранялась весьма бдительно. Являясь на прием к государю и будучи неоднократно останавливаемы караульными, одни воспринимали это как очередную царскую причуду, игру в солдатики, а другие же смотрели на это весьма серьезно и говорили, что это оттого, что Петр боится за свою жизнь. И это совсем неудивительно, продолжали они, ведь он же у нас не единственный венчанный император, а у него есть еще братец Иванушка! Вот до чего распустились тогда языки, прекрасно понимавшие, что их теперь вырывать некому, так как Петр одним из своих первых указов упразднил, как я уже упоминал, Тайную розыскных дел канцелярию. Хотя, как говорили знающие люди — не эти, а уже другие, — иное место пусто никогда не бывает. Так получилось и тут: канцелярии не стало, а розыск благополучно продолжался. И держал царь Петр троюродного брата своего Иоанна в Шлиссельбурге, в каземате, под строжайшим караулом. И сам же от него, но уже в Петерштадте, тоже под надежным караулом, прятался. От людей, в том деле мало сведущих, нередко можно услышать такое суждение, что права Петра на трон перед Иоанном намного предпочтительней, а посему и страх его тут совершенно напрасен. Однако подобное мнение основано только на одних чувствах и больше ни на чем, потому что если рассматривать это внимательно и беспристрастно, то получаем вот что: Петр Третий Федорович — внук императора Петра Первого Алексеевича, а Иоанн Шестой Антонович — внук царя Иоанна Пятого Алексеевича, старшего брата вышеупомянутого Петра. Но, с другой стороны, у Петра Федоровича предок из Романовых по мужской линии был уже во втором поколении, а у Иоанна Антоновича только в третьем. Зато Иоанн Антонович был возведен на трон в 1740 году, а Петр Федорович только в 1761-м, да и то только в декабре. И еще, о чем у нас мало кто хочет вспоминать, не то что говорить, это о принципе разнородности, который у Иоанна Антоновича соблюден неукоснительно, так как по материнской линии он происходит из царствующего российского рода, также и отец его — потомственный монарх, принц Брауншвейг-Люнебургский. В то время как бабка Петра Третьего, всем нам хорошо известная Марта Скавронская, была явно не царского роду. К тому же брак ее… Но, простите, тут мы очень сильно отвлеклись. Так вот, царь велел Ивану ждать, когда он его призовет, а пока позволил быть свободным. Иван браво отдал честь, развернулся через правое плечо и вышел. После спустился на первый этаж и там опять повернул в кордегардию. Но заходить туда не стал, потому что через открытую дверь увидел, что давешний дежурный офицер, его приятель, теперь уже не сидит, развалившись за столом, а стоит, вытянувшись во фрунт, перед свитским генералом, который ему вполголоса что-то очень недовольно выговаривает. И хоть этот свитский и стоял к Ивану спиной, но он его сразу узнал. Это был Андрей Гудович, первый царский фаворит. Или, если все сразу, то граф, генерал-адъютант, его сиятельство Андрей Васильевич. Или просто Андрюшка-хохол, как за глаза его дразнил дежурный офицер, а теперь, куда ты денешься, стоял перед ним навытяжку и ел его глазами. Иван тихонько отступил обратно, а после боком вышел в сени, а там и совсем на площадь. Дворец же не зря именовался Малым, там же даже крыльца не было. И вот, выйдя из сеней сразу на площадь, Иван надел шляпу, осмотрелся и прошел еще немного, а после остановился так, чтобы дежурный, как он только того пожелает, сразу смог бы увидеть его через окно. Ведь же не до самой ночи будет ему Гудович выговаривать, ведь же скоро побежит наверх, потому что надо же будет кому-то государю трубку набивать! Или, может, зря он над Гудовичем смеется, подумал Иван, может, теперь его самого, вместо Гудовича, приставят к высочайшему табаку да и еще к выгуливанию высочайшего песика. А что! Царь скажет: так хочу, Иван, потому что только тебе верю. А ты, спросит, что хочешь за это взамен? Говори смело, не бойся, я же царь, я все могу. И что тогда ему ответить? Нет-нет, быть того не может, тут же подумал Иван, зачем он такой царю, он же не свитский человек, нет в нем свитского лоску, его даже в армии, в штабе, и то не очень-то за это жалуют. И так и здесь: пошлют его туда с депешей, и сегодня же. А пока нужно дождаться Семена, Семен расскажет, что у них здесь нового, думал Иван. Но Семен все не шел и не шел, застрял Семен, заел его Андрюшка. Семеном, как вы уже догадались, звали того дежурного офицера. Майор Губин, Семен Павлович, вот кто это был такой, если по формуляру. И если опять по формуляру, то еще в прошлом году Семен тоже служил у Румянцева, а потом его перевели сюда, в Ораниенбаум. Кроме Семена Иван здесь никого толком не знал. Да ему это раньше было и не нужно, он же здесь никогда не задерживался. Он приезжал сюда, передавал депешу — и сразу ехал в город, на Литейную, после его оттуда вызывали, давали новую депешу — и он опять ехал, обратно, в армию. Ездить ему было легко, потому что, вот как сейчас, что у него с собой? Маленький дорожный сундучок, а в нем, как говорится, шило, мыло, бритва, помазок, смена исподнего белья и еще немного всякой мелочи. Это что сейчас было при нем, в курьерском экипаже под сиденьем. А что он оставил в Померании? Мишку-денщика да съемную комнатенку восемь на пять аршин, окна строго на северо-запад, а под кроватью еще один сундучок, может, чуть побольше этого. И это все. А на Литейной что? Так там же вообще, если говорить по чести, все чужое, просто его там всегда принимают. Даниле Климентьичу низкий за это поклон. И Анне Даниловне тоже, тут же мысленно прибавил Иван — и не удержался, улыбнулся. Но тут же подумал уже вот о чем: и это все, мой дорогой, потому что нет у тебя здесь ни земли, ни людей, ни зажиточной родни, ни даже кубышки где-нибудь зарытой — ничего! И тут вдруг царь у тебя спрашивает: чего ты хочешь? Да всего, всего хочу, очень сердито подумал Иван. И так же очень резко повернулся… И увидел, что возле него стоит и с любопытством смотрит на него совершенно незнакомый ему человек. Человек этот был уже в годах, да и, похоже, в немалых чинах, тут же подумал Иван, при этом еще отмечая, что лицо у незнакомца весьма добродушное, даже, можно сказать, бабье. — Здравствуй, голубчик! — сказал незнакомец опять же добродушным и почти что бабьим голосом. Иван поклонился, а он продолжал: — Это ты из Померании? Иван на всякий случай не спешил с ответом. Потому что, подумал он, мало ли что. Незнакомец понял это, заулыбался и сказал: — А ты, я замечаю, бдительный. Это похвально. Тебя Иваном звать? Иван кивнул. — А меня Никитой Ивановичем, — опять же мягко и в то же время уже со значением сказал этот человек. Иван насторожился. А этот человек еще раз улыбнулся и продолжил: — Значит, это точно ты из Померании. И ехал через Кенигсберг. А братца моего там видел? Останавливал тебя мой братец? Братец мой — Петр Иванович. Ну, он не я, его бы ты сразу узнал! — Да как же не узнать! — тут же ответил Иван. — Ведь ваш же брат, ваше высокопревосходительство, это… — И замолчал. — Орел? — спросил Никита Иванович. — Так ты про него хотел сказать, голубчик? Иван не сразу, но кивнул — мол, да, орел. А сам тут же подумал: ну и не ворона же! Потому что речь тут шла о Петре Ивановиче Панине, всесильном прусском губернаторе и генерал-поручике. А это, значит, его старший брат Никита, обер-гофмейстер императорского двора, наставник царевича Павла Петровича, кавалер ордена Андрея Первозванного и, как говорится, прочая и прочая, думал Иван, сверху вниз глядя на своего нового, если можно так сказать, знакомца. А тот сказал уже вот что: — Понятно! Значит, в Кенигсберге ты не останавливался. Ибо весьма спешил. Или у Петра Ивановича ничего спешного для меня не было. Так? Иван неопределенно пожал плечами. — Так, так! — сказал Никита Иванович. — Ну да на то он и братец, что может не спешить, с братцем всегда сочтешься. А тогда ты мне еще вот про кого скажи: про любезного Петра Александровича, про благодетеля вашего. Вот он, небось, уже наверняка тебе про меня чего-нибудь перед твоим отъездом сказывал. И даже, чую, просил передать на словах. Может, какую весточку, а? Иван, немного помолчав, сказал: — Его высокопревосходительство велел вам передать если, конечно, он сказал, мы с вами встретимся, — велел передать вам нижайший поклон. Никита Иванович смотрел на Ивана и молчал. Глаза у Никиты Ивановича были очень удивленные. Он даже не удержался и спросил: — Поклон? И это все? — Все, — повторил за ним Иван и ему почему-то вдруг стало неловко за Петра Александровича, то есть за своего главного воинского начальника генерал-аншефа Румянцева, и он поклонился — конечно, не нижайше, но все же достаточно низко. Однако Никиту Ивановича это, похоже, нисколько не обрадовало, потому что он тут же как-то очень громко фыркнул. Иван сразу выпрямился и даже почти встал во фрунт. Никита Иванович очень внимательно посмотрел Ивану в глаза — это он, наверное, хотел проверить, все ли ему было сказано, — и только после этого сказал уже сам: — От такого героя, как Петр Александрович, низкий поклон — это великая честь. А что он еще передавал? Или что присовокупил? — А присовокупил он, — сказал Иван без всякой к этому охоты, — а присовокупил, чтобы я вам передал слово в слово и ничего от себя не добавил. Только сказал — поклон, и все. — Э! — нараспев сказал Никита Иванович и даже опять улыбнулся. — А вот и не все! Тут же главное не в том, какой поклон и насколько он низкий или что при этом будет сказано, а в том, что его сиятельство тебе встречи со мною искать не велел. Так что если бы сейчас не я, то мы бы с тобой и не встретились, тогда бы и поклона не было. То есть пропал бы поклон! Вот что такое чужие люди и вот что такое герои, генералы или даже в меньших званиях… Ну, ну, ну! — тут же прибавил он и даже поднял палец, упреждая Ивана, чтобы тот его не перебивал. — Ну, ну! — сказал он еще раз. — И не надо этого смущаться, голубчик, ибо такова природа человеческая. Человек из чего сотворен? Из праха. А слова его есть что? Мысль изреченная, которая есть зло. Или вот еще, как один француз говаривал, Михайла Монтений… Но к делу! — тут же перебил он сам себя. — Петр Александрович, я думаю, не пропадет, с ним же целый корпус таких же героев, как ты. И он идет за славой! — Тут Никита Иванович вдруг осторожно взял Ивана под локоть и увлек его вперед по площади. И продолжал на ходу: — А брат — это всегда брат. У тебя брат есть? — Никак нет, — осторожно ответил Иван. — Э! — строго сказал Никита Иванович. — Про братьев так нельзя. Про них надобно хотя бы вот как: увы, любезный, не имею. И, судя по твоим глазам, голубчик, ибо ты и второго вопроса боишься, сестер у тебя тоже нет. Но что есть сестра? Это птица, которая улетает вить чужие гнезда. А с братом ты всегда вместе. Так и я с братом своим Петром. И днем и ночью я о нем безостановочно и неусыпно думаю. Особенно сейчас. Это же представить только! Он же когда туда ехал, в Кенигсберг на губернаторство, все говорили: как взлетел! А теперь что сотворилось? Теперь, по известной статье договора, мы должны Пруссию очистить. В кратчайший, между прочим, срок. А это же не только войско, его там теперь как раз немного осталось, войско разобрали: одних отдали твоему Петру, других Чернышеву, а Чернышев отдал их Фридриху. Знаю, не сам он отдал, а все равно как-то негоже получилось… Но я опять не об этом, я же хотел о брате. Так вот, я еще раз тебя спрашиваю: что там люди про это говорят — про скорый переход под Фридриха? Иван подумал и сказал: — По-всякому. Люди всякие и разговоры всякие. — А ты? — спросил Никита Иванович. — Сам ты что про это скажешь? — А что я! — сказал Иван уже почти сердито. — Что я в этом понимаю? Я курьер. Мне велели отвезти чего, и я отвез. А велят привезти — привезу. И мне за это выслуга. И я… И тут он замолчал, потому что Никита Иванович вдруг совсем неожиданно удержал его за локоть, и они остановились. Никита Иванович опять очень внимательно посмотрел Ивану в глаза, потом тихо сказал: — Ты на меня не гневайся. — Да разве я… — начал было Иван, но Никита Иванович строго свел брови, и он замолчал. И Никита Иванович тоже еще немного помолчал, а потом заговорил уже вот как: — Я же не просто так тебя обо всем этом спрашиваю. А потому, что это сейчас весьма важно. Так вот, чтобы ты знал, а заодно и понимал, как я тебе доверяю… Ты слушай! Двадцать пятого числа, сиречь вчера, когда ты уже Ригу проехал, сюда подъезжая, мой брат должен был вернуть Пруссию под Фридрихову руку. И он бы вернул. Но тогда до этого, то есть во времени шести недель после заключения мира, иначе до пятнадцатого июня, его императорское величество государь Петр Федорович должен был сей договор ратифицировать. Договор со своим братом Фридрихом. Мирный договор, голубчик, про который мы на всю Европу растрезвонили. А он… Сей договор даже в руки не брал. Ему же все время было некогда! Он же курил трубку и играл на скрипице. И пил аглицкое пиво. И что ты мне на это скажешь?! — Что англичане Фридриху союзники, — подумавши, сказал Иван. — Зело! — сказал Никита Иванович и даже улыбнулся. Но, тут же нахмурившись, добавил: — Значит, аглицкое пиво это хорошо. Зато табак французский — вот что плохо. — А помолчав, добавил уже вот что: — А Петр Александрович идет на Мекленбург и далее, через Голштинию, на Шлезвиг. Идет воевать! А в договоре есть еще такой артикул: что если будет в Европе и дальше продолжаться беспокойство, сиречь какая где-либо война, то тогда нам Пруссию очистить будет никак невозможно. И получается, что тогда не обессудь, брат Фридрих, но мы в Кенигсберге еще постоим, а братец мой еще побудет там губернатором. До окончания датской войны. И что, ты думаешь, Фридрих нам на это скажет? Иван молчал, как будто не расслышал. Тогда Никита Иванович опять спросил: — Так неужели и теперь Петр Александрович мне больше ничего не передаст? Иван стал смотреть в сторону. Никита Иванович, хмыкнув, сказал: — И то! Чего это я к тебе пристал? Твое дело простое: наколоть на штык. Или взять на шпагу, а? — На шпагу, — тихо ответил Иван. — А нижним чинам на палаш. Потому что у них палаши, а у обер-офицеров шпаги. — Ну-ну! — сказал Никита Иванович. — Понятно. А теперь не обессудь, голубчик, но у меня тоже служба. И еще какая! На мне же малое дитя, и я его уже вон на сколько без присмотра оставил. Так что я побегу. А ты не скучай, не скучай! — и широко, беззлобно улыбнувшись, Никита Иванович быстро, не по своим годам, развернувшись, пошел через площадь и там очень скоро скрылся за деревьями. А после там же, за деревьями, громко процокали копыта. Шестерик, определил на слух Иван, ладно подобраны, ровно идут — и отвернулся. И еще в сердцах подумал: зачем кланялся?! Но что Иван! У него от этого не убыло. А вот, забегая вперед, кое о ком такого сказать мы не сможем, ибо насмешливая просьба нижайше кланяться дорого обошлась генералу Румянцеву. Он же уже в июле, и безо всяких на то объяснений, был отставлен от командования и после долго еще пребывал в высочайшей немилости. Ну а пока его двадцатитысячный корпус, которому вот уже восьмой месяц подряд не платили жалованья, браво шел к датской границе.ГЛАВА ТРЕТЬЯ Великие Лапы
А Иван еще немного постоял и посмотрел в ту сторону, где скрылся Никита Иванович, и уже даже начал думать о том, что он же с самого начала чуял, когда ему это еще только поручили, что этот поклон боком выйдет, что будут от него только одни неприятности… Но тут же подумал, что хватит об этом, довольно, и повернулся к Малому дворцу. И как раз вовремя, потому что там в дверях уже появился давешний майор, или, как это нам теперь известно, Семен Губин. Или Сеня-Раскатай-Губу, как он, бывало, выпивши, сам себя именовал. А что! Сеня Губин был такой — веселый, если это было нужно, но и сразу очень строгий, если что. А тут он был непонятно какой. Он просто смотрел на Ивана и ждал, когда тот подойдет к нему. А когда тот подошел, Семен сказал: — А, наконец явился! А то уже люди спрашивают, где он. — Так я же только здесь! — сказал Иван. — Я же никуда не отходил. Чего они сразу?! — Э! — насмешливо сказал Семен. — Я же совсем не про это! — И, сразу сделав строгое лицо, добавил: — Государь крепко занят, понятно? Не до тебя ему сейчас. Да и он бы разве тебя ждал, если бы ему вдруг чего стало надо? Он бы велел тебя подать, и я бы подал. А так я просто говорю, что тебя ждут. И уже третий день, между прочим! Тут Семен сделал вот так бровями и замолчал. Но Иван не спешил спрашивать, кто это его ждет и зачем, а просто смотрел на Семена, правда, смотрел очень внимательно. Тогда Семен сказал: — Этот человек издалека. И ему сюда хода нет. Он за воротами сидит, возле запруды. — А! — только и сказал Иван. — Что «а»? — наполовину весело, наполовину сердито повторил за ним Семен. — Ты лучше бы спросил, кто это. Или и так знаешь? — Да откуда же, — сказал Иван. — Ладно! — сказал Семен уже по-настоящему сердито. — Человек к тебе приехал, это уже три дня тому назад. И три дня ждет тебя там. Как собака! Я же всегда его вижу, когда мимо иду или еду. А ты стоишь как пень. Иди! — А если… — начал было Иван. — Нет! — сразу перебил его Семен. — Государь, еще раз говорю, занят. Даже очень занят, ясно? А если даже чего спросит, так сразу забудет. Потому что дел у него сейчас вот сколько! — И Семен повел ребром ладони по горлу… Но не довел, поспешно убрал руку и сказал: — Одним словом, ему сейчас некогда. Так что еще, может, часа два никто тебя не хватится. Иди! Это же оттуда человек, понятно? Из твоего оттуда. Ну! Иван кивнул, как будто с чем-то соглашаясь, а после развернулся и пошел к въездным воротам. Выйдя из крепости, а после еще пройдя немного, Иван только тогда опомнился и остановился. Потому что, думал он сердито, он же забыл спросить, возле какого пруда его ждут, ведь здесь же их два. И тут он вдруг услышал: — Паныч! Иван резко обернулся — и увидел выходящего на аллею человека, одетого совсем не так, как здесь все одевались. Он же был в длиннющем ярко-красном кунтуше, подпоясанном таким же ярким, но уже синим поясом. И никакого парика на нем не было, а он был, напротив, выбрит наголо, и только на макушке у него был чуб. Чуб был совершенно седой. Седые были и пушистые пятивершковые усы. И сабля была до земли. Человек этот радостно выкрикнул: — О! — а после опять сказал: — Паныч! — и широко расставил руки, чтобы как следует обняться. Но Ивану это очень не понравилось. Он строго сказал: — Ты чего? Какой я тебе паныч? Я обер-офицер. Я к государю прикомандированный. — Так оно, конечно, так, — согласился этот человек, медленно опуская руки. — Но это для них для всех. А для меня ты паныч, Янка. — И вдруг тоже строго добавил: — Сопливый дурень, вот ты кто. — Э! — грозно сказал Иван. — Отставить! И он бы еще что-нибудь сказал, но тот человек уже быстро шагнул к нему и крепко его обнял — все-таки решился! А Иван его не обнимал, Иван просто стоял, опустив руки. Так они стояли и молчали. Тот человек только жевал губами и сверкал глазами, потому что старики всегда чувствительны. А Иван молчал из-за другого — Иван думал, что все это неспроста, и даже очень. И нужно было говорить об этом, а не стоять и молчать! Подумав так, Иван повел плечами, тот человек поморщился и разжал руки. Иван отстранился от него и даже отступил на шаг, и только потом сказал: — Мне про тебя доложили, Базыль. — Ага, ага, — сказал Базыль. Это его так звали. Или, если еще по фамилии, то тогда Сивый Базыль. Или Базыль Сивый Собака, как называли его хлопы, то есть крепостные дяди Тодара, старшего отцова брата. Сивый Базыль — это ого! Ваша милость управляющий. Только без всякой милости! И вот еще: он же раньше был черный, как деготь, а теперь вдруг стал совсем седой. То есть теперь он настоящий сивый, теперь у него правильная фамилия, а то раньше, помнится, дядя Тодар любил смеяться и говорить… Но дальше Иван подумать не успел, потому что Базыль удивленно спросил: — А ты чего, паныч, молчишь? Почему не спрашиваешь, зачем я вдруг приехал? — Зачем? — спросил Иван. — Э! — сразу ответил Базыль и почему-то посмотрел наверх, на небо. После опять посмотрел на Ивана и сказал: — Это, паныч, сразу не расскажешь. А я видел, как ты приехал. Я тогда там, возле ворот, в кустах стоял. Вдруг слышу, едут — и очень быстро. Копыта цах-цах-цах! Я тогда сразу вскочил и смотрю. И вот здесь, сердцем, чую, что это же мой паныч, потому что а кому еще так быстро ездить?! А после и вправду вижу — это ты. Ат, думаю, он как орел! Такой этим всем головы поотрывает. — Кому? — спросил Иван. — Как кому, — строго сказал Базыль. — Этим собакам, кому же еще. — Хвацким? — спросил Иван. Нет, он даже не спросил, а это само вырвалось. И Базылю это очень понравилось. — Ат! — громко сказал он. — Я так и думал, что так будет — что ты их сразу учуешь! И это добрый знак! — А что… — начал было Иван. — Э! — перебил его Базыль. — Э, подожди! Так разве дела делаются? И мы же не на царской службе. — А что служба?! — обиделся Иван. — А то! — строго сказал Базыль. — Вот ты откуда приехал? Я думаю, что не из близкого. А они тебя с дороги накормили? Нет. И я это знал, что так будет. А вот у меня такого не бывает. У меня сперва одно, а уже только после другое. Другое — это разговоры всякие. А ну! И тут он крепко взял Ивана за рукав и, уже больше ничего не говоря, потащил его с аллеи в сторону, в кусты. А там и вправду оказалось все уже готово, то есть прямо на траве был расстелен широченный плащ, и там же рядом, из-за дерева, Базыль достал торбу, развязал ее и начал доставать из нее и выкладывать на плащ такое, что только глаза разбегались. Но это у Ивана. А Базыль только знай себе дальше выкладывал и при этом приговаривал: — Вот это баба Гапка гнала, это очень крепкое. Прямо, Янка, как огонь! Горлом пьешь, а из ушей дым валит. А это моя напихала. Мясо наше, кишки тоже наши. А перец панский, значит, твой. А вот это сам видишь, что такое, и я знаю, что ты это любишь. А из этих будем пить. Эти от дяди твоего, от пана Тодара. И с этими словами Базыль поставил на плащ два серебряных стаканчика. Иван их добро, то есть очень хорошо, помнил, дядя Тодар всегда пил только из них. Точнее, он пил из одного, а во второй только наливал и говорил, что это Янова доля, то есть его брата, а Иванова отца. А в последний раз дядя сказал: — Чую, Янка, скоро будет все наоборот: мой стаканчик будет стоять полный, а из Янова будешь пить ты. — Э! — сказал тогда Иван. — Да что вы такое говорите! — А то говорю, что сказал: когда будешь пить из него, помолчи, вспомни дядю! — строго сказал дядя Тодар. И еще добавил: — Помолчи! И вот теперь Иван молчал. А Базыль налил по ободок, поднял — и они молча, не чокаясь, выпили. После утерлись и стали закусывать. И уже только закусив, потому что только так положено, Иван спросил: — Так что у вас там случилось? Но Базыль сделал вид, что не может ответить, потому что ему сильно жжет, и налил еще по ободок. Они еще раз молча выпили и молча закусили. Потом еще раз то же самое по третьему. Иван все это время внимательно смотрел на Базыля и пытался угадать, что же там такое у них было, если Базыль все бросил и приехал. Но Базыль пока молчал, он только пил и закусывал. А так как вид у Базыля был совсем не радостный, то можно было подумать о всем, о чем хочешь. Вот Иван и подумал — и ждал. И уже, конечно, не закусывал, ему уже кусок в горло не лез, и он уже совсем было собрался еще раз спросить… Но тут Базыль наконец шумно выдохнул, широко утер рукой усы и сказал: — Ну вот, перекусили и даже немного выпили. — После глянул на Ивана, усмехнулся и продолжил: — Теперь можно и поговорить. И вот я говорю: наехал на нас Хвацкий. И пограбил наши Лапы. А что не пограбил, то спалил. И… Но дальше он уже не говорил, потому что Иван вдруг вскочил и, держа руку на шпаге, теперь грозно смотрел на Базыля. И щека у него сильно дергалась! Тогда и Базыль тоже вскочил и сразу же испуганно заговорил: — Чего ты, паныч! Ты так не волнуйся. Мы же от них после отбились. Мы только сперва до самой бани — баню помнишь? — отошли, а после как жахнули по ним! Ох, мы их там рубили! Просто всласть! А тут еще Смык со своими, Смык — это который рыжий и еще кривой, — Смык со своими зашел от колодца. И мы тогда их в клещи! И они как коты побежали! А Хвацкий, этот поскакал, конечно. Он же был на коне, на том самом, если тоже помнишь, дядя твой еще в карты ему проиграл, был у нас такой гнедой жеребчик. И он теперь на нем на нас наехал! Ну разве это не собака, паныч?! И это же еще в какой день! Это же мы тогда как раз у нас внизу сидели и справляли годовщину по господину нашему, а по твоему родному дяде. А этот собака наехал. — Тут Базыль вдруг замолчал и строго глянул на Ивана, а потом так же строго спросил: — А ты где был, когда по дяде была годовщина? Ты дядю помянул? Или забыл? — Нет, — тихо ответил Иван, — не забыл. Я тогда город проезжал. Город Мемель, если слышал. Так я там остановился, зашел в корчму и посидел. Потом чуть успел к сроку, потом очень гнал. Бумага была очень спешная. — Ну, бумага! — без особого почтения сказал Базыль. — А дядя это дядя. У тебя других дядей нет. — Так и этого уже нет тоже, — тихо сказал Иван. — Как бы нет, но как бы есть, — строго сказал Базыль. — Потому что есть Великие Лапы. А это чье имение? Не Хвацких же. Там только твоя земля и твои на ней люди. А какие люди! А земля какая! А ты бумажки по Европе возишь, будто тебе заняться больше нечем. А нужно было ехать в Вильно, в Трибунал, и поднести там кому надо. Или кому поплакаться. Или хотя бы кому в зубы дать! — И тут он даже сжал кулак и показал его. — Ладно, ладно, — сказал Иван примирительно. — Ты уже много выпил и теперь мелешь что попало. — Это я мелю?! — обиделся Базыль. — Это мне три этих пстрычки много? Да я тебя три дня ждал, паныч! И теперь если посчитать, сколько я за это время недопил, так это, знаешь, сколько будет?! Но это что! Это я и у нас дома выпью, в Лапах. Я же сейчас туда обратно поеду, их же так бросать нельзя. Там же живут люди, паныч, мне же их жаль. Люди же слезами обливаются, люди же кричат: Базыль, что нам теперь делать?! Убили пана Тодара, а пан Ян и носа к нам не кажет, пан Ян к царю уехал, а у царя грошей вон сколько! И теперь пока наш пан Ян, они говорят, всех грошей у пана царя невыслужит, он же к нам обратно не вернется, потому что он… — Ат! Хватит! — громко приказал Иван. Базыль сразу замолчал. Но и Иван тоже молчал. И чтобы хоть немного успокоиться, он осмотрелся по сторонам. После медленно сел. После еще раз осмотрелся — теперь уже по плащу, по закуске — и выбрал себе колбасу, отломил от нее половину и принялся есть. Он ел и думал. Базыль сидел напротив и молчал. Иван долго думал, и очень серьезно. После вдруг отрывисто сказал: — Налей! Базыль налил. Иван поднял стаканчик, сказал: — За Великие Лапы, Базыль! За нашу землю и за наших хлопов! — О! — радостно начал Базыль. — Я… — Нет! — велел Иван. И они выпили. А после, уже не закусывая, Иван строго сказал: — А теперь слушай, Базыль. Я сегодня очень крепко занят. Даже крепче не бывает. Даже тоже как дым из ушей. Зато если все у меня сегодня сладится, я им тогда, собакам, покажу Трибунал! Я им там всем головы поотрываю! — Ат! — радостно выкрикнул Базыль. А после опять открыл рот… Но Иван сделал знак, чтобы тот помолчал, и добавил еще вот что: — Поотрываю, как пить дать. И потешу дядю Тодара. Будет он на нас сверху смотреть и радоваться. Будет, я сказал, будет! И тут он даже поднял голову и посмотрел на небо — и сделал это с таким видом, как будто он там и в самом деле видит дядю Тодара. А после опять посмотрел на Базыля, строго сказал: — Но сегодня мне никак, сегодня у меня очень важная служба. Но я тебя найду. Завтра или послезавтра. Ты где остановился? — У Пристасавицких. — Добро. А пока бывай. До скорого! И они разом встали, попрощались, а после Иван развернулся и пошел обратно в крепость.ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ От печки
Тут я должен вам кое-что объяснить. Хоть главное вы, наверное, и так уже поняли: это что Иван был не природный россиянин. Их род, Зарубы-Кмитские, вышел из Польши, когда отец Ивана, по имени тоже Иван, а по отчеству Михайлович, прибыл в Россию и поступил на российскую службу, а из польской, соответственно, выступил. Точнее, в Польше он и не служил, а просто имел жительство, и даже не в Польше, а в Литве, в Витебском воеводстве, под Оршей, в имении Великие Лапы. Так что это уже только после его отъезда Великие Лапы перешли к дяде Тодару. И то это случилось не сразу, потому что тогда еще был жив отцов и дядин отец, дед Михаил, или Михал, и Великие Лапы тогда еще принадлежали ему. Равно как и Новые Лапы, которые были, может, даже богаче Великих, потому что там земля жирней и не такая низкая. И народ там был не такой пьющий, как в Великих. А это последнее было особенно удивительно, потому что там, возле Новых Лап, совсем недалеко от околицы, стояла корчма. А от Великих до корчмы было две версты с гаком, даже почти три, но их туда как будто кто на веревке тащил! Дед Михал на это страшно гневался, но сделать ничего не смог, так как хлопы и есть хлопы, их даже могила не исправит… Но я отвлекаюсь. Так вот, Иван выехал в Россию, а Тодар остался в Польше. А не в Литве, и это я не оговорился, потому что всем понятно, что это за держава там была такая — Литва. Там же все решалось только в Польше, а Литва — это была только одна видимость. И вот, еще раз говорю, братья разъехались — один в Санкт-Петербург, второй в Варшаву, — а пан Михал, их отец, оставшийся дома, бывало — любил говорить, что он теперь никаких потрясений не боится, потому что теперь откуда бы ни пришли, ему отовсюду будет послабление. Но тут же с жаром добавлял, что он в этом не нуждается, что он и сам за себя постоит! И постоял. Но неудачно. А было это так: однажды на охоте случилась у него горячая потычка с соседом, и от пули разве есть лекарство? Особенно если она, как теперь любят выражаться, дура. И пана Михала не стало. Пан Тодар срочно приехал из Варшавы и вступил во владение Новыми, а вкупе ними и Великими Лапами, то есть долями своей и брата. Да брат разве был против? И он так и отписал Тодару, и даже приложил к письму отступную, выправленную честь по чести, то есть со всеми необходимыми в подобных случаях подписями и печатями. А сам он тогда домой не приезжал, и это было всем понятно. Все же еще прекрасно помнили, как он уезжал из дома — очень быстро, потому что на это было немало всяких причин. И если это так принципиально, то я могу сказать: да, вы правы, он и действительно имел тогда неосторожность ввязаться в эту крайне запутанную вражду между Августом и Станиславом, то есть между двумя тогдашними польскими королями, и поэтому был вынужден спешно уехать к российской царице. Царица, Анна Иоанновна, его приняла радушно, так как тогда у нее в армии была великая нехватка офицерского состава — и он успел сходить в Крым и взять под началом фельдмаршала Ласси Перекоп, а после с ним же вернуться под Выборг, перейти в шведскую Финляндию и взять на шпагу Вильманстранд, после участвовать в занятии Фридрихсгама и Гельсингфорса, а после, в отряде генерал-поручика Стоффельда, совершить рейд на север, в Эстер-Ботнию — и получить там егерскую пулю под самое сердце. Такая судьба! Вот после этого и получилось так, что Заруб-Кмитских на всем белом свете осталось всего двое — Тодар в Литве да Иван Иванович в Санкт-Петербурге на руках у неутешной пани Алены. Или Елены Филимоновны, ежели вам так угодней. Вскоре Елена Филимоновна умре, и Ивана взял к себе майор Калашников, отцов боевой товарищ, а после, когда подошел нужный возраст, Ивана отдали учиться в Сухопутный Корпус, а из Корпуса он вышел подпоручиком — и тут как раз война. Вот где удача, думалось тогда Ивану, ведь же на войне всегда чины. А дядя Тодар, так и не женившись, жил в Литве. А после и его убили. Вот так Иван оказался последним в роду. То есть он был теперь совсем один… Ну один так и один, сердито думал Иван, входя в крепостные ворота, он к этому уже как-то привык. И тут явился этот Сивый! И теперь, еще сердитее думал Иван, уже не скажешь, что ты ничего не знаешь и не понимаешь. Или что не можешь ничего изменить, как это он сказал в прошлом году, когда приехал этот же Базыль — тогда, кстати, еще почти совсем не сивый — и сказал, что когда открыли дядино завещание, то прочитали, что в нем все на него, на Ивана, отписано. Завещание, кричал тогда Базыль, что может быть святее! Ничего, кричал он дальше, только не для них! Они же его не признали, а, как собаки, принялись брехать, что он, Иван, уехавши и он же в чужом подданстве, это раз, и что еще его отец давным-давно от всего отказался и на это есть бумага, и там его подпись, это два. И еще много есть чего другого, говорят, гневно сказал Базыль, уже немного успокоившись. Но это все вражеские плетки, сразу же добавил он, уже почти что весело, а мы напишем, сказал, в Трибунал. Да и вот, кстати, уже даже написали, и здесь все их крючки учтены, не сомневайся, Янка, подмахни! И он подмахнул, то есть поставил подпись под той бумагой, которую подсунул ему Базыль. Бумага, как он ее после прочитал, была вроде достаточно ловкая. Базыль ее тут же забрал и в тот же день уехал. А после, и это уже зимой, писал, что дело оказалось не таким простым, но он все равно не отступится и также еще просил, чтобы Иван взял отпуск и приехал. А потом просил уже и большего. Но Иван ему не отвечал, потому что не верил он в Трибунал и вообще во многое не верил. Он тогда думал так: нужно забыть о том, чего все равно не получишь, и жить тем, что есть — и так и жил, и уже даже почти что притерпелся… Как вдруг на тебе — Базыль опять приехал! И с такой вестью, что теперь не отсидеться. То есть теперь, хочешь не хочешь, а вступись. Вот о чем тогда думал Иван, подходя к Малому дворцу, где в дверях уже стоял Семен. Когда Иван подошел к нему, Семен ни о чем не стал спрашивать. Он только сказал про себя, что его еще не отпускают, и что даже непонятно, когда отпустят. — Потому что кутерьму подняли, вот что! — очень сердито добавил Семен. — И даже про тебя уже интересовались. Сказали, чтобы я тебя никуда от себя не отпускал. И все это хохол Андрюшка! Так ты тогда иди пока ко мне, там тебя Митрий встретит. И там как раз приляжешь. А после я приду. И посидим! — сказал он уже радостно и со значением. Но тут же озабоченно добавил: — Иди, иди! А то меня еще хватятся! — и развернулся, и ушел обратно в кордегардию. А Иван, опять же через площадь, только уже в другую сторону, подошел к так называемому офицерскому дому, где на первом этаже направо до самого конца и там опять направо квартировал Семен. У Семена было попросторней, чем у Ивана в Померании — у него же была не одна, а сразу две клетушки. В передней сидел Митрий, Семенов денщик, и строго смотрел на Ивана. Митрий был человек бывалый, помнил еще Петра Великого и даже ходил с ним в Персию. А до этого, как он однажды обмолвился, он четыре года был в бегах. В разных, как он уклончиво сказал, местах. То есть когда-то Митрий был человек бойкий и решительный, а теперь остепенился и на мир смотрел с легким презрением, особенно когда был трезвый. Так и теперь, посмотрев на Ивана, он, и не думая вставать, с большой неохотой сказал: — Рад, ваше благородие. — Чему? — спросил Иван, остановившись. — Что вы такие же живые, как и раньше, — ответил Митрий с той же неохотой. А после добавил: — И при руках и при ногах. — Ладно! — сказал Иван и прошел дальше, в барскую клетушку. Вот же, в сердцах думал он, какой же этот лысый черт въедливый! Так же недолго и сглазить! И почему это Семен его не учит?! И тут он увидел на столе котелок, накрытый белой тряпицей. — Это, ваше благородие, вам суп, — строго сказал Митрий, который, как оказалось, уже стоял у Ивана за спиной. И продолжал: — Потому что без супа нельзя. Без супа это просто пьянство. А ложка у вас есть при себе? — В сундучке осталась, в экипаже, — сказал Иван. — Э! — недовольно сказал Митрий. — Вот она, молодость. Шпагу, небось, не забыл. — Молчать! — строго велел Иван. И так же добавил: — Дай ложку! Митрий сразу ее дал — он ее, похоже, держал наготове. Иван сел к столу. Суп был овсяный, то есть прусский суп. Или, если совсем правильно, то габер. А зачем тогда к габеру хлеб? Но Митрий хлеба дал, и Иван не отказался. Иван начал есть суп, а Митрий сел напротив — это, между прочим, прямо на барскую кровать — и стал внимательно наблюдать за тем, как Иван ест. Иван знал эту его привычку и не обращал на нее внимания. А суп был, ничего не скажешь, хорош. Небось, с царской кухни, подумал Иван. Митрий пока помалкивал. Ну да это ненадолго, подумал Иван, надолго его не хватает. И точно: Иван еще половины не съел, как Митрий вдруг сказал: — А ты не спеши, ваше благородие, ты не спеши. Никакой войны не будет, чего тут спешить. Иван перестал есть, строго посмотрел на Митрия и так же строго спросил: — Ты с чего это взял? — Так солнце вчера как садилось! — сказал Митрий. — Ты что, ваше благородие, не видел? Иван молчал. — А! — сказал Митрий. — Верно! Чего я говорю? Ты же в возке сидел. И спал, небось. Дорога же вон какая, неблизкая. А я не спал! Я, ваше благородие, все это видел. Солнце садилось в тучу, и было оно серое, будто совсем без крови. А нужно было, чтобы село в кровь. Ведь же вчера какой был день? Ох, непростой! Бумага же… — Но тут он спохватился и продолжил уже очень тихо: — Бумага же вчера была подписана. Очень, между прочим, важная! Про Фредерикуса. — Потом еще раз повторил: — Про Фредерикуса! А не про Фридриха, не путай, Фридрих же теперь чего, он наш союзник, у нас с пруссаком мир, пруссака не дави, пусть ползает. А новый враг теперь у нас вот кто — Фредерикус, датский царь! — Король, — поправил Иван. — Ну король, — повторил Митрий. — А все равно этой войны не будет — с Фредерикусом. Потому что солнце село в тучу. Ни кровинки в небе не было! И это верный знак, не сомневайся. Я когда… Ну, это… Я когда вольно по свету хаживал и разных людей смотрел, я тогда много чего высмотрел. На свете же такие чудеса бывают, что даже страшно сказать! Вот как вещий огонь прыгучий. Слыхал про такое? Иван не удержался, хмыкнул. — Не веришь?! — грозно спросил Митрий. — Нет, почему, — сказал Иван уклончиво. — Я это так. — Митрий молчал, и он тогда добавил: — Но это удивительно, конечно. Потому что туча — это здесь, а война, она же вон где, за тысячу верст. И войска наши там же. И даже этот Фредерикус, как ты его называешь, и он тоже там. А туча где была? — А государь где? Здесь! — сердито сказал Митрий. — И бумага здесь писалась. А после солнце село в тучу. И даже не спорь со мной, ваше благородие! Что мне твои Кольберг, Кунерсдорф! Я, может, под Полтавой был и там кровь проливал за царя и отечество. За великого царя, а не за… Ну, да! А знаешь, какой был закат, когда великий царь и государь изволил подписать указ про Персидский поход? Там тогда на небе было столько крови, что она там до самого утра простояла, ночи тогда совсем не было, а был все закат и закат. И весь в кровище, конечно. А после, когда мы туда пошли и пришли, как шах нас там принимал, знаешь?! На слонах, мать… Вот какая была битва! На слонов в штыковую ходили! И не дрогнули, слышишь?! Чего ты смеешься?! Ты мне про слонов не веришь, что ли? А вот на, посмотри! И тут Митрий, уже совсем распалившись, резко встал, задрал рубаху и показал на шрам на своем левом боку. Шрам был действительно очень большой и страшный. Когда Иван его впервые увидел, то даже почти напугался. А теперь, уже привыкнув, все равно невольно поморщился, потому что это было не самое веселое зрелище. — Ну, что? — строго спросил Митрий, не опуская рубахи. — И теперь, что ли, не веришь?! — Ладно, ладно, верю, — примирительно сказал Иван. — Дай еще хлеба. Митрий дал. И больше уже ничего не говорил и уже даже не смотрел на Ивана, а смотрел на образа в углу. А когда Иван поел, Митрий встал и принес ему полушубок укрыться. — Да жарко же! — сказал Иван. — Сам знаю, — строго ответил Митрий, продолжая совать полушубок. Иван взял его, скатал и положил в изголовье. А после лег и велел разбудить его в девять, даже если никто не будет его спрашивать и если даже Семен не придет. Митрий пообещал так и сделать, и вышел. А Иван разулся, лег, закрыл глаза и задумался. Думать ему было о чем, даже слишком много было всякого, просто даже голова гудела. Нет, думал Иван, так не годится, думать тоже надо по порядку, а не о чем попало. И думать надо о главном! Вот он сейчас — а что, может, и прямо сейчас, в этот вечер — освободится и поедет на Литейную, к Анюте. Он и перстенек уже купил, очень красивый, тоненький и с камушком. Камушек красный как кровь… Нет, что это! Приказчик говорил, что красный — это страсть. Ну, они наговорят, думал Иван, но чувствовал, как щеки у него краснеют. И вот тоже красный цвет, и что в этом плохого или страшного? Когда Анюта краснеет, ему всегда весело. Он даже… Нет, вдруг подумал Иван, на Литейную ему сегодня не попасть. Потому что государь велел остаться и ждать приказаний. Но зато, думал Иван, он что еще сказал? Сказал просить что хочешь. Но про Анюту Иван, конечно, просить не будет, про нее он спросит у Данилы Климентьича. Да и тут, тут же подумал Иван, все давно уже спрошено и все отвечено. А после вышла эта незадача! Ну да ничего, дальше думал Иван уже почти что весело, тут же тоже все одно к одному складывается и, может, уже сегодня в ночь все решится. Или когда его вызовут? Потому что царю это что? Сущий пустяк! А для него это судьба. Да, именно судьба, вспомнил Иван слова дяди Тодара. Давно он это говорил, подумалось. И сразу вспомнились Великие Лапы. И представились они Ивану не такими, какими они были по словам Базыля, то есть пограбленными и сожженными, а, наоборот, чистенькими и сытыми. Тогда тоже было лето, но уже был вечер, они с дядей стояли на пригорке и смотрели на деревню, и дядя говорил: смотри, какая красота, а как помру, кому все это отойдет? А ты, Янка, с чем останешься? А Иван засмеялся, сказал: а мне царица таких деревень знаешь сколько отвалит? Может, пять, а может, даже десять! Э, совсем невесело ответил дядя, так то же будут чужие деревни, а здесь все свое. А Иван ему тогда: и там тоже будет все мое. Я в бригадиры выйду, а потом в генералы, а потом, может, даже в сами генерал-фельдмаршалы. Э, засмеялся дядя, как бы ты в Сибирь не вышел, а не в генералы. Потом еще сказал в сердцах: и где та твоя царица? А теперь, вдруг подумал Иван, так ведь оно и получилось — померла царица. А новый царь… Что новый царь! Что мы — без глаз и без ушей, ничего не видим и не слышим? То есть вот ведь как оно все повернулось, уже совсем тоскливо подумал Иван. После еще подумал: а если… Но не додумал, а крепко заснул.ГЛАВА ПЯТАЯ На золотом крыльце сидели
Проснулся Иван оттого, что почуял: беда, он проспал! И сразу же открыл глаза и увидел, что уже и в самом деле сильно поздно. Но и, конечно, не темно еще, потому что в такую пору под Петербургом настоящей ночи не бывает, это же такая широта высокая, как им объясняли в Корпусе… Только теперь было не до Корпуса! Иван быстро повернулся и увидел, что напротив него, за столом, сидит Семен. И Семена видно не всего, потому что его заслоняет большая бутыль. Даже очень большая, подумал Иван, на двоих столько нельзя. Особенно если ждешь вызова. Или… А дальше было уже не до мыслей, так как Семен уже заметил, что Иван проснулся — и сразу просветлел лицом, повернулся к двери и велел: — Митрий! Ты где пропал? Митрий ответил, что он здесь, после почти сразу же вошел и начал накрывать на стол. Чего там только не было! И все это жирное, скоромное, мясное! — Э! — весело сказал Семен, перехватив Иванов взгляд, а Иван уже сидел, смотрел на стол. — Один же только раз живем! А тут еще вчера послабление вышло. Посты отменяются, слышал? Царский указ! А пост какой? Петров! И он тоже Петр. Вот так! — А потом, наверное, на всякий случай, Семен повернулся к образам и перекрестился. Иван был спросонья, молчал. Тогда Семен еще сказал: — Да, это истинно так. Вчера было дано высочайшее указание Синоду, дабы отныне соблюдении постов было необязательным. Так ты это, небось, уже слышал. Тебя же тот твой человек чем сегодня потчевал? Литовским салом, я так думаю. И господин Клушин то же самое сказал. Иван поморщился. Он не любил эту Семенову присказку про господина Клушина, который якобы все знает и все видит. Ат, каждый раз думал Иван, как весело, прямо хоть брюхо надорви! И он опять поморщился. — Но это еще что! — опять заговорил Семен. — А в том указании еще и другое предписано: не осуждать грехи против седьмой заповеди. Ибо, там так буква в букву, «и Христос их не осуждал». — Ну! — только и сказал Иван. — Ну! — повторил Семен. — Ладно, пока что хватит. — И сказал уже Митрию: — Иди, проводи барина. Дай ему воды умыться, и холодной! А то он совсем со сна. — После опять повернулся к Ивану, сказал: — И это хорошо, что ты так выспался. Я нарочно велел не будить. А теперь чего? Теперь царь уже тоже за столом, не беспокойся! — Это он говорил уже в спину уходящему Ивану. После еще добавил: — Теперь про нас никто до самого утра не вспомнит. Да и нам же не обязательно всю допивать. Мы только попробуем и уберем. Иван шел за Митрием и думал: Семен, похоже, уже крепко выпил. Или, может, тяжело ему, может, у него дома чего случилось. Закуски и бутылка, думал Иван дальше, уже умываясь, это, конечно, из дому, то есть из деревни, так, может, и какая весть тоже оттуда, вот Семен и расшумелся. А потом, когда Митрий уже подал ему полотенце, Иван, утираясь, подумал: седьмая заповедь, срам какой, Господи, прелюбодействовать дозволено, так, что ли? Хотя чего тут удивляться, думал он, возвращаясь к столу, оду на восшествие государя на престол кто сочинил? Не Ломоносов же и даже не Сумароков, а Ванька Барков, матерщинник! И вот теперь получай. А увидев стол и уже полные на нем стаканы, Иван совсем смутился и подумал: и тут еще это. Но все же сел за стол. Потому что жизнь, подумал он, есть жизнь, и Семен же это от души, и тут главное знать меру и вовремя остановиться. И дальше сперва было так: они чинно сидели, неспешно выпивали и закусывали, Семен, что говорится, не гнал лошадей, а даже два или три раза напомнил, что Ивану завтра утром к царю. То есть Семен уже не был таким дерзким, как вначале, государственных дел не касался, и даже военных тоже, а больше рассказывал о своей тамбовской деревне, откуда к нему недавно приезжали его воры. Он их всегда именовал только ворами. Но все равно их любил и так и рассказывал о них — с любовью. То есть поначалу все было хорошо. Но потом, чем сильнее они углублялись в ту страшную бутыль, в которой, по словам Семена, была как будто бы обычная вишневая настойка, тем Семен стал все чаще и чаще замолкать и очень внимательно смотреть на Ивана. А Иван при этом ожидал, что вот сейчас Семен скажет ему о том, зачем его царь вызывает, Семен же здесь все знает. Или если не знает, то спросит. Но Семен об этом так ничего и не сказал, а вдруг начал вспоминать свою прежнюю службу у Румянцева и разные тогдашние бывшие с ним в походе случаи, и вспоминал их с радостью, хотя ничего особенно веселого в них не было. А потом вдруг сердито сказал, что вот зато здесь, то есть где он сейчас служит, нет ничего хорошего, да и откуда здесь такому взяться. Зачем, к примеру, мне карета, сказал он уже совсем сердито, мне и в седле было способно. После чего насмешливо добавил: у меня же геморроя нет, как кое у кого! Да и верхом, опять же, здоровее. Я понимаю, продолжал Семен, может, тут я перегнул, у тебя же курьерская служба и без возка тебе никак, тебе же нужно за четыре дня вон аж куда заехать и за четыре же обратно, господин Клушин сказал… Да и ладно этот Клушин, тут же перебил себя Семен, это же возок, а не карета, а ты еще вот чего не слышал. Это же сейчас все только об этом и говорят везде, эти болваны, что будто государь вот что задумал: всех придворных дам со своими мужьями развести, а потом опять переженить, но теперь уже по его, по государеву усмотрению. А чтобы, добавляют, подать им всем добрый пример, он сам первым со своей Катрин разведется и женится на Трактирщице! Последние слова Семен сказал довольно громко, то есть уже совсем неосторожно. А слова эти были весьма не простые! Тут даже вся вишневая, если этому верить, настойка из Ивана сразу улетучилась. И он уже сидел как будто совсем трезвый — и молча смотрел на Семена. Семен тоже молчал. Иван вдруг захотел спросить, о ком это сказал Семен, но не решился. Они же были не в глухом лесу! А они были в Петерштадте, в офицерском доме, правда, в самом конце коридора и ночью. Но все равно они же были не мальчишки, и поэтому теперь молчали. Но и долго молчать тоже глупо. Тогда Семен как будто ни в чем не бывало усмехнулся и опять громко сказал: — А что, Иван, еще нальем? За поход! На Фредерикуса! Иван кивнул. Семен налил, и они, звонко чокнувшись, выпили. После сразу начали закусывать, и Семен тут же, с полным ртом, заговорил: — Вот такие тут дела, Иван. Гадкие люди, то бишь всякие грязные канальи, дошли до того, что стали Елизавету Романовну Воронцову, дочь благороднейших родителей и камер-фрейлину ея императорского величества Екатерины Алексеевны, именовать Трактирщицей. Какая низость! — гневно сказал он и тут же подмигнул. После спросил: — Ты ее видел? Нет? А зря! Это же очень, как это сказать, дама внушительная. Это не твоя Анюта. Это же вот так, — и он широко развел руки. — И так! — и он показал вверх, и тоже на сколько хватило руки. — Ну, и все остальное тоже очень величественно. Но люди злы, Иван! Люди начинают завидовать чужому счастью — и сразу начинают распускать всякие грязные слухи. Вот так и тут. Вначале трепали про то, что она трактирщица. Это значит, что дед ее, Иван Сурмин, держал трактир. Ну и что? Они что, сами никогда в трактир не ходили? Еще как! И, значит, ничего дурного в этом месте нет. Тогда они стали донимать ее иначе — стали уже про нее саму говорить всякое. Что государь ей неверен как будто. Что у него есть другие метрессы. Про Куракину слыхал? Нет — помотал головой Иван, а сам подумал, что как это все нескладно получается, что раньше же Семен никогда про это разговоров не водил, а тут его вдруг как прорвало! И тут Семен и в самом деле сказал уже совсем вот что: — Куракина — вот где змея подколодная! Она же, когда по утрам от него возвращается, велит нарочно в карете гардины раздернуть, и еще сама из окошка высовывается. Это чтобы все видели, с кем он ночь переспал. И чтобы Трактирщица об этом тоже знала и не забывала. Что, разве не змея?! Иван, не зная, что тут и ответить, только пожал плечами. — Вот это правильно! — одобрительно сказал Семен. — Потому что, если с одной стороны смотреть, то она как бы змея. Но если с другой — тогда она наш благодетель. Потому что это же… Но тут он вдруг замолчал, прислушался, после даже повернулся к двери, еще прислушался… И только уже после этого опять повернулся к Ивану, усмехнулся и сказал: — Как будто Клушин за дверью стоит. И громко дышит! Ивана взяло зло, и он спросил: — А ты его хоть видел, этого Клушина? — Видел! — сказал Семен даже как будто с вызовом. — А тебе не приведи Господь увидеть. — После хотел еще налить, даже уже взялся за бутыль, но передумал, убрал руку и уже очень негромко и каким-то очень нехорошим голосом спросил: — А ты когда-нибудь бывал в Шлиссельбурге? Иван в ответ только мотнул головой — нет, не бывал. — А ты его хоть видел? — продолжал Семен. — Хоть бы издалека? Нет — опять мотнул Иван. — А я, — сказал Семен, опять негромко, — видел. И я там даже был. Да ты, наверное, знаешь об этом. — Нет, — тихо сказал Иван. — Не знаю. — Был! — повторил Семен. — В этом году. Три раза. — Помолчал, потом сказал: — Место очень какое-то странное. Или что там кругом пусто и низко, или еще почему, но там всегда холодно. Вот даже на прошлой неделе… — Тут он спохватился и сказал: — Ну да, было одно дело, ездил. С господином Унгерном. Такого знаешь? Иван кивнул, что знает. Потому что кто же тогда Унгерна не знал! Это же был еще один, как и Гудович, царский генерал-адъютант. — Знаешь, — сказал Семен очень сердито. — Ну, конечно! Это же вон какой большой человек. Это даже не Анрюшка, хотя они как будто в одном чине. Но Унгерн немец, понимаешь! Иван молчал. Потому что, думал, что тут понимать, когда наш государь сам немец. А Семен опять недобро усмехнулся и продолжил: — Вот мы с ним, с этим немцем, приехали, и встречает нас там уже совсем не немец, а просто наш человек, господин Бередников. Бередникова знаешь? — Нет. — И очень хорошо! — сказал Семен. — Потому что это тамошний комендант. Шлиссельбургский! А зачем нам такие знакомства? Это дурная примета. Но у меня, Иван, служба, я приехал туда по делу, мне нужно было проведать одного арестанта. Неважно, какого. А почему неважно? Потому что если ты узнаешь, что это за арестант, то уже завтра, думаю, сведешь знакомство с господином Бередниковым. Хоть я тебя от этого и отговаривал. Налить? — Нет, — сказал Иван. — А я все равно налью! — сказал Семен. — Потому что мне так хочется. И потому что… А! — вдруг громко сказал он. — Пустое все это. Это нас, Иван, не касается. Вот что касается тебя? Это Анюта и Литва, это я точно знаю. Ведь же твой человек зачем приезжал? Затем, чтобы ты испросил отпуск и поехал вместе с ним в Литву, в имение Великие Лапы, и вышиб там дух из господина Хвацкого. Это я правильно сказал? Иван молчал. Тогда Семен продолжил: — Ну и что ты так насупился, что в этом плохого? Так же и что в том плохого, что когда ты в прошлый раз, когда отсюда ехал, в Мемеле остановился и сколько ты там просидел в корчме? Три часа! Но после же нагнал! Доставил вовремя, и никаких тебе за это нареканий. Тем более ты почему сидел? Ты же дядю поминал, по дяде была годовщина. Чего ты на меня так смотришь? Не надо так смотреть. А надо знать, что ты царский курьер и поэтому блюдут тебя по-царски. Чтобы, не приведи Господь, ничего с тобой не приключилось. А теперь мы вот за это и выпьем — чтобы все у тебя, Иван, сложилось так, как тебе того хочется. И я, чем могу, помогу. Вот тебе крест на этом! Тут Семен и в самом деле перекрестился. А после взялся за стакан. Тогда и Иван взял свой, и они чокнулись и выпили. Иван утерся и сказал: — Смотрю я на тебя, Семен, и ничего не понимаю. — Чего, — спросил Семен, — не понимаешь? — А что ты за человек такой. И что у тебя на душе. — Э! — насмешливо сказал Семен. — Вот тебя куда потянуло! Ну, это зря. Это к добру не приводит. Была тут у нас одна дама, тоже любила рассуждать. И еще даже книжки читала. Каждый день! А что с ней теперь? Вот, я опять про старое, про Шлиссельбург. Вот мы входим туда, это уже во внутренний двор, и вдруг я вижу, что у них там что-то строится. Какой-то каменный дом в один этаж. Прямо посреди двора. Нелепица! В прошлый раз, а я в прошлый раз был там в апреле, никакого дома не было. И я возьми и спроси: а это что, трактир, что ли? То есть как бы намекнул теперь сам знаешь на что. И Бередников, он это тоже сразу понял. И он вот так на меня глянул, после на нашего немца, на Унгерна, а после отвечает: нет, господин майор, берите выше. И тут наш немец на него как шикнет! И весь разговор. Иван молчал. Семен очень сердито хмыкнул и сказал: — Вот я и говорю! Но книжки — это что. А вот еще. Да, правильно! А то что это я тебе все про всякие гадости рассказываю? Давай я тебе про что-нибудь веселое расскажу, про радостное. Вот, к примеру, такое: у Павла Петровича, у нашего цесаревича, два месяца тому назад братец родился, а ты, небось, про это еще и не слышал. Братца назвали Алешей, а вот как по отчеству назвать, не знаем. Сказав это, Семен опять насторожился, а после даже опять повернулся к двери. Иван мысленно перекрестился и подумал, что зачем ему все это, разве он об этом спрашивал? А Семен еще налил, но пить пока не предлагал, но зато опять заговорил — и опять про очень нехорошее: — Барон прямо с ног сбился. Это я про Унгерна. Да и другим тоже хлопот не обобраться. А отчества все нет и нет. Потому что худо ищут. Раньше искали лучше. Вот когда у деда государева тоже некоторый конфуз случился, но не такой, конечно, братцев не было, а просто было одно баловство… Так сразу взяли голубя! И посадили на кол под царицыными окнами. Это я про Суздаль, про майора Глебова, который с Евдокией… Ну, ты понимаешь! И это же та Евдокия в то время была уже сослана в монастырь, и на ее месте была уже сам знаешь кто, а тут, еще при муже, уже принесла в подоле. Это я просто не знаю! Это… Но тут он опять замолчал, прислушался, потом сказал: — Вот, даже Клушин поперхнулся. Слышишь? Иван прислушался, но ничего, конечно, не услышал. Семен строго сказал: — Идут уже. — Потом еще: — Черт их знает, что это за место такое проклятое! А какое время, прости Господи! — А потом, повернувшись к Ивану, велел: — Вставай! Это к тебе! От государя!ГЛАВА ШЕСТАЯ Катрин
Так оно и было: сперва Иван услышал, как двое вошли в дом, оба были в драгунских ботфортах, потом они стучались в дверь и Митрий им открывал, потом они уже совсем вошли, то есть уже к Семену — и это, как Иван и ожидал, были голштинцы, офицеры. Тот, который был из них выше ростом, выступил еще на шаг вперед и по-немецки сказал, что им нужен курьер из армии. Иван встал и ответил, что это он. Голштинец улыбнулся и сказал, что он хотел бы точно знать, с кем именно он говорит. Тогда Иван представился по полной форме. Голштинец опять улыбнулся и сказал, что он как раз им и нужен и что они сейчас проводят его к государю. И добавил, что им нужно торопиться. Иван вышел из-за стола и, на ходу застегивая кафтан, пошел к двери. Там Митрий подал ему шляпу. «Я даже не оглянулся», — подумал Иван, уже идя по коридору. Хотя он знал, что тогда было бы: Семен бы ему подмигнул. А что бы он еще мог сделать, думал Иван, выходя на крыльцо. Да и неизвестно, что тут нужно делать, думал Иван, идя следом за голштинцами. Голштинцы шли к воротам. Значит, царь в Большом дворце, думал Иван. Они прошли через ворота и пошли по парку. В Большом дворце, думал Иван, обычно собирается большое общество — меньше, чем на сто кувертов, там столов не накрывают. И, говорят, раньше там больше пили венгерское, а теперь больше бургонское. Ну и аглицкое пиво, конечно. И трубки, это обязательно. Дыму как при Кунерсдорфе. Вспомнив про Кунерсдорф, Иван поморщился. А что, думал он дальше, чему радоваться, бились как слепые в погребе, и это называется стратегия. А еще… Но дальше вспоминать о Кунерсдорфе у него не получилось, потому что голштинцы вдруг повернули направо, на боковую аллею. Значит, застолье уже кончилось, думал Иван, царь уже вышел в парк и ждет его. Нет, тут же поправился он, это не царь его ждет, а это его ведут к царю. И ни на что хорошее ему там надеяться нечего, потому что было бы там что-нибудь хорошее, тогда никто бы про него не вспомнил. А так, опять же как при Кунерсдорфе, если под картечь или под ядра, так заезжай поэскадронно, милости просим! Но, подумав так, Иван тут же подумал и другое: а кто в обозе остался, так тех же ведь тоже порубили. И тут они как раз пришли, то есть еще раз повернули и вышли почти к самой карете, на запятках которой стояли голштинцы. И тут же был конный эскорт, никак не меньше полувзвода. Да и сама карета была запряжена восьмериком. А что короны на дверце не было, так ведь и так понятно, чья это карета, подумал Иван, останавливаясь. Но тут все тот же голштинец сказал, что Иван должен садиться в карету, что там для него есть место. И что государь ждать не любит! Последние слова голштинец сказал очень сердито. Какая скотина, подумал Иван, но дальше думать было некогда, Иван открыл дверцу, поднялся в карету и сел. Когда он садился, он видел, что дальше по сиденью, а точнее, почти тут же, рядом с ним, сидит сам царь! И смотрит на него! Но дверца тут же закрылась и стало темно. Трогай, крикнули снаружи по-немецки, и они поехали. Иван сидел болван болваном и смотрел прямо перед собой, потому что смотреть на царя было почему-то боязно. Тогда царь сказал — по-русски: — А я тебя узнал! А ты меня? Иван повернулся к нему и даже открыл рот, но не знал, что говорить. Потому что думал, что тут ни ответь, а все равно будет не то. Царь это понял, усмехнулся и сказал: — Ладно, ладно. Можешь ничего не отвечать. Это я так. Это у меня такие шутки. — И продолжил уже по-немецки: — А ты не должен их пугаться. Разве я деспот? Деспот я или нет? — еще раз спросил он, уже очень настойчиво. У него даже глаза засверкали. Он был, похоже, крепко пьян. — Никак нет, — сказал Иван. — Не деспот. — Пф! — сердито сказал царь. — Никак нет! Как будто нет других слов, нормальных. Почему вы, мои подданные, не можете общаться со своим государем как с таким же человеком, как вы сами? Или я не человек?! Иван молчал и думал, что это будет очень хорошо, если им ехать близко, а если далеко, то это будет не дорога, а настоящий Шлиссельбург. Царь это как будто почувствовал, пожевал губами и сказал: — Ладно. Я вижу, это бесполезно. Но я все равно тебе верю, Иван. Я помню, что тебя зовут Иван. И я помню, каким ты был в выпуске. — Тут он даже засмеялся и сказал: — Мне даже доложили, кто твоя невеста. — И тут же поспешно добавил: — Но меня это не касается. Это твоя частная жизнь. Ты волен распоряжаться своей частной жизнью по своему усмотрению. Ты даже можешь мне служить, а можешь подать в отставку. Если у тебя мало ли какие дела в имении. Я же это тоже понимаю. Тут он нахмурился и замолчал и стал смотреть прямо перед собой. Они ехали не очень быстро. Иван украдкой покосился на окно. Окно было задернуто гардиной. Царь скривил губы и сказал: — Мы едем в Петергоф. Мог бы у меня спросить, и я тебе ответил бы. Иван молчал. И царь тоже молчал. Теперь они оба смотрели прямо перед собой, как будто перед ними было что-то интересно, а не глухая стенка. Слышно было, как стучат копыта, и это все. Потом царь вдруг негромко засмеялся. Потом так же негромко, но уже совершенно серьезно, сказал: — Это просто прогулка, Иван. Ничего ужасного или даже просто противозаконного я не замышляю. Мы никого не будем убивать. Мы же не варвары! Нет! — Тут он даже поднял руки. — Нет! — повторил он еще раз. — Мой великий дед был тысячу раз неправ, это я говорю, и я еще раз повторяю, он был неправ, когда так сурово обошелся с той женщиной, с той своей первой женой, которую ему навязали. Да, навязали, Иван! Он же ее не выбирал! Но и даже после всего того, что случилось, и это еще в те ужасные времена, он даже пальцем ее не тронул! А того негодяя казнили. Прямо у нее под окнами! Так поступать нельзя! Это… Нет, я не знаю даже, как это назвать! Это… И тут он совсем замолчал, и даже закрыл лицо руками. «Господи, — думал Иван, стараясь не смотреть в ту сторону, — я ничего не хочу, не нужно мне никаких его обещаний, я только обратно хочу, к Семену, будем пить его настойку и говорить что попало…» Но все было, конечно, по-другому. Царь убрал руки с лица, лицо у него было как будто опять совершенно спокойное, и он так же совершенно спокойным голосом сказал — правда, зато вот что: — Хотя если рассуждать об этом здраво, то дед был совершенно прав. У него к тому времени была уже другая жена и были от нее дети. Поэтому с первой женой, равно как и с ее сыном, это я сейчас говорю о несчастном Алексее Петровиче, нужно было обходиться по всей строгости закона. Что и было сделано. Иначе говоря, мой великий дед был действительно великий человек. Чего уже, к сожалению, никак не скажешь о моей покойной тетке. Равно как и обо мне. Обо мне! — еще раз сказал он и как-то очень нехорошо рассмеялся. Потом так же спросил: — Ты когда-нибудь бывал в тюрьме? — Нет, — тихо сказал Иван. — Бог миловал. — А меня нет! — так же тихо, но очень сердито сказал царь. — Хотя, я сразу должен тебе сказать, ничего ужасного я там не увидел. Просторный двор, казармы, какие-то хозяйственные постройки. Может, свинарники или курятники. Не знаю, я не спрашивал. А самих казематов от входных ворот почти что не видно. Они очень низкие. А я был и в казематах, Иван! Нет, только в одном каземате. Мне нужно было видеть того, кто там содержится. И я разговаривал с ним. Я разговаривал, а он молчал. Все говорят, что он не умеет разговаривать. Он дикарь! Но это неправда! Я видел его глаза. И ты знаешь, чьи это глаза! И не лги мне, а лучше молчи! Тогда я буду думать, что ты ничего не знаешь. И что его, может, вообще нет на свете. А что, возможно и такое! Я часто об этом думал, Иван. Неужели, думал я, столько лет прошло, а с ним ничего не случилось и он до сих пор жив? И зачем? И… Нет! — вдруг очень сердито и очень громко сказал царь. — Эти мысли, если они даже были, не должны отвлекать нас от нашего сегодняшнего дела. А дело очень простое, Иван, — продолжал царь своим обычным голосом. — Мы же не варвары. Мы едем в гости, нас там ждут. Нам там будут очень рады. Мы там еще немножко посидим и выпьем. Ты что предпочитаешь пить? — Полагаюсь на ваш вкус, — сказал Иван. — Ха! — засмеялся царь. — Как мило с твоей стороны! — Тут он даже толкнул Ивана в плечо и опять засмеялся, потом отшатнулся обратно, отдернул гардину, глянул в окно и сказал: — Почти приехали. Катрин будет ужасно рада. Вскоре карета и в самом деле остановилась. Иван посмотрел на царя. Царь одобрительно кивнул. Иван открыл дверцу и вышел. Следом за ним сразу вышел царь. Иван увидел, что они в саду, где совсем неподалеку, за деревьями, виднеется одноэтажный дворец. От дворца к ним уже шли караульные с фонарями. Фонари были совсем ни к чему, ночь же была довольно светлая, но порядок есть порядок, подумал Иван. — Пойдем, пойдем! — сказал царь, трогая Ивана за рукав. — Уже и так поздно, Катрин будет ругаться. И они пошли вперед, ко дворцу. Катрин — это его жена, царица, Екатерина Алексеевна, подумал Иван, едва успевая за царем, который шел очень широким шагом да при этом еще и раздавал приказания. Голштинцам говорил, чтобы они остались возле кареты, караульным велел смотреть в оба, лакею приказал будить хозяйку — он так и сказал: хозяйку, и это по-русски. И еще несколько раз — и это уже разным людям — повторил, чтобы немедленно накрывали на стол, а в последний раз прибавил, что он же с утра совсем голодный. Сказав это, царь засмеялся. И тут они как раз пришли. Перед ними распахнули дверь. Царь схватил Ивана за локоть и прямо ему на ухо громко сказал: — Катрин у меня бывает очень злая. Но ты ее не бойся, нас же двое! И после этого они вошли. А после почти сразу оказались в зале — в Парадной, или, что одно и то же, в Ассамблейной. Но об этом Иван узнал позже, а тогда он только поразился, какие высокие там потолки и что там почти что ничего не видно, потому что свечи еще только начали зажигать. — Василий! — строго сказал царь, подзывая к себе одного из служителей. — Чтобы мигом! Три куверта! — И тут же спросил: — Где Катрин? Служитель развел руки, не зная, что лучше сказать. — Ладно, ладно! — сказал царь. — Живей! Я голоден. И мой товарищ тоже. После чего он обернулся к Ивану и сказал: — Ничего, ничего. Пускай побегают. Люди в атаки ходят, гибнут под картечью, а эти вон как разжирели. Государю рюмку поднести — это для них большие хлопоты. Но никуда не денутся, поднесут. А ты садись, Иван. Ты у меня в гостях, поэтому ты должен садиться первым. Иван сел. Стол, стоявший там посередине залы, был как раз небольшой, всего на восемь персон. Царь и Иван сели один напротив другого. Царь откинулся на спинку кресла и закинул ногу на ногу. А он, мы забыли сказать, опять был в голштинском драгунском мундире, это значит — и в ботфортах. Вот так он тогда сидел и время от времени, и это достаточно резко, поворачивал в разные стороны голову, наблюдая за тем, как лакеи накрывали на стол. Только однажды, когда из боковой двери выглянула заспанная женская голова, он сердито у нее спросил: — Так где же это она?! — и даже сделал вид, будто собирается подняться. Тогда голова торопливо сказала: — Сейчас! Сейчас! Уже выходит. Царь махнул рукой — и голова исчезла. Царь спросил: — Ты чего такой мрачный? Почему вы все такие мрачные? — И, не дожидаясь ответа, продолжил: — Жить нужно легко! Ведь же никому не известно, кому сколько отпущено. Может, ты завтра уедешь туда, если это, конечно, будет возможно, — уедешь, а там как раз начнется настоящее дело. И тебя чик! Или даже еще: ты же будешь следовать с царским письмом, а вдруг там какая-нибудь важная тайна? И братец Фридрих, или кто-либо еще, скажет своим людям: а мне интересно, а я хочу прочитать. И тебя опять чик! Или даже не ты, а я. Вот я сейчас вернусь обратно, разденусь и лягу спать. А господин фельдмаршал Миних, а он знает, как это делается, это он уже однажды делал!.. Или кто-нибудь еще, из молодых. А что! Я, Иван, прекрасно знаю, что они… И вдруг он замолчал. И резко обернулся, и воскликнул: — А вот и мы! Иван тоже туда повернулся — и увидел стоявшую в дверях царицу. Он ее сразу узнал, потому что видел ее и раньше, только не так близко и одетую совсем иначе. А теперь она была одета просто, по-домашнему, но все равно держалась очень важно, нет, с достоинством. Иван вскочил… — Сядь! — строго велел ему царь. Иван растерялся.Царица ему улыбнулась. Иван поклонился. — Эх! — в сердцах сказал царь. — Какой же ты холоп, Иван! Но при этом сам встал и быстро подошел к царице, наклонился и поцеловал ей руку. А после взял ее за талию, повернулся, показал на Ивана рукой и сказал: — Познакомься. Это Иван, мой боевой товарищ. А это, Иван, Катрин, моя жена. — И тут же спросил у царицы: — Я правильно тебя представил? Ты не обижаешься? Ты ведь еще моя жена? — Питер! — сказала она со значением. — Что? — спросил он, как будто ничего не понимая. — Ты велел, чтобы меня разбудили, — сказала она по-немецки. — Это очень мило с твоей стороны. — После чего тут же спросила: — Твой товарищ понимает, о чем мы говорим? — Да, конечно, — сказал царь. Царица повернулась к Ивану, еще раз улыбнулась и сказала: — Тогда будем говорить по-русски. — Как тебе будет угодно, — сказал царь. — Сядем, Катрин, перекусим, — продолжал он, ведя ее к столу. — У меня же сегодня маковой росинки во рту не было. Это я правильно выразился? — Правильно, — ответила царица, подходя к столу. — Только это не имеет никакого отношения к действительности, — продолжила она, садясь в то кресло, в котором только что сидел царь. Царь сделал вид, что он ничего не заметил, и сел в другое кресло. И тут же хлопнул в ладоши. Вошел лакей и начал наливать вино. Начал он, конечно, с царского стакана. — А мне кофе, — сказала царица. — Я по ночам не пью. Я не драгун. И при этом посмотрела на царя, а после на Ивана. Иван был в драгунском мундире. А у царицы были внимательные, но совсем даже не строгие глаза. И все равно Иван почувствовал, как у него краснеют щеки. Царица покачала головой — покачала понимающе, а не с укором — и опять повернулась к царю. Царь молчал. Тогда царица спросила сама: — Что это означает, Питер? Я же не думаю, что ты привел его только для того, чтобы пить водку. — Мы пьем вино! — сказал царь. — Это неважно, — сказала царица. — Но я же не дура, как ты уже однажды имел честь заявить. — И это было сказано уже очень сердито, но, правда, негромко. И так же негромко добавлено еще вот что: — Да, я не дура, Питер. Поэтому я напрямую спрашиваю: это что, арест? — Что ты такое говоришь, Катрин! — воскликнул царь и даже осмотрелся. Еще сказал: — Какой арест! — И еще раз осмотрелся, и еще сказал: — Хорошо, что мы одни. А то что бы они о нас подумали?! «Это он про лакеев, — подумал Иван, — а про меня он вообще забыл!» Но это было не так, потому что тут царь повернулся к нему и сказал: — Арестовать! Вот и разговаривай с такой. Да разве ей можно что-нибудь втолковать? И она всегда такая — злая и упрямая. Но! — тут же продолжил он уже опять веселым и беспечным голосом. — Но и еще раз но! Зато мы совсем другие. И мы никогда не вешаем носа. Потому что мы совершенно уверены в том, что в дальнейшем у нас все будет очень хорошо. У нас — это я имею в виду нашу императорскую фамилию. И вот за нее, то есть за нашу императорскую фамилию, за ее процветание мы сейчас и выпьем. И у нас с тобой, мой друг, уже налито. Надо налить и ей. Она тоже будет пить. Правда, Катрин? Царица ничего не ответила. Она только как-то очень странно посмотрела на царя. Царь подмигнул Ивану и сделал знак наливать. Иван встал, взял бутылку и начал наливать царице. Царица смотрела на свой стакан и молчала. Иван налил до половины и остановился. — Благодарствую, — сказала царица. Иван поставил бутылку и сел. — Зря ты садился, — сказал царь, берясь за свой стакан. — Потому что, — продолжал он, вставая, — мы сейчас будем пить за здоровье, я еще раз повторяю, императорской фамилии, а это можно делать только стоя! И тут он высоко поднял свой стакан. Тогда Иван тоже встал, и тоже со стаканом. А царица продолжала сидеть. Но свой стакан она взяла. И при этом очень внимательно смотрела на царя. А царя это нисколько не смущало. Он сказал: — Вот так же и тогда, когда мы праздновали заключение мира с моим братом Фридрихом, я тоже предложил такой же тост, и все встали, а она одна не встала. Но мы все равно выпьем. Как и выпили тогда. Иван! И они вдвоем громко чокнулись. А когда Иван повернулся к царице, она уже пила. Тогда и он тоже стал пить. И царь тоже пил. А когда выпил, то, продолжая стоять, сказал стоявшему напротив него Ивану: — Вот так было и тогда. Все пили стоя, а она сидела. И я назвал ее дурой. При всех! И тут он жестом показал Ивану, что пора садиться. Они оба сели. Царица смотрела на них, улыбаясь. Царь тоже улыбнулся и сказал: — Но тогда ты была не дура. А это я был дурак. Потому что ничего не понимал. Ей же было тяжело вставать, Иван. Она тогда вот-вот должна была родить Алексиса. Разве, Катрин, не так? Царица продолжала улыбаться. Ни один мускул на ее лице не дрогнул. И даже взгляд ничуть не изменился. — Вот! Посмотрите на нее! — громко сказал царь. — Какая чистота и невинность! Да тут, глядя на нее, разве можно что-нибудь помыслить? — И он опять перешел на немецкий: — Где этот мальчик, Катрин? С ним ничего дурного не случилось? Почему вы его от меня прячете? Разве я давал для этого повод? Разве я обижал твоих прежних детей? Совсем напротив! И Анхен, и Пауль ничего недоброго от меня не видели. Даже мало того: я их обоих признал! Так почему же вы теперь прячете Алексиса? — Негодяй, — тихо сказала царица. — Или сумасшедший, вот ты кто. — А, старая песня! — громко, даже очень громко сказал царь. — Я сумасшедший, как это удобно! Я не признаю своих собственных детей! Но кому до этого есть дело? Только нам с тобой, Катрин. Тогда вы говорите уже вот что: он сумасшедший, он заключил мир с этим чудовищем Фридрихом, он предал интересы нации. Но! — тут он поднял вверх палец, помолчал, а потом уже совершенно спокойно продолжил: — Но ведь если вам даже вдруг удастся сделать со мной что-нибудь недоброе… То ведь ты, Катрин, оставишь все по-прежнему. Ты ведь не объявишь наново войну. Потому что она никому не нужна! — продолжил он уже во весь голос. — Потому что ты прекрасно знаешь, что нам все равно рано или поздно пришлось бы вернуть Фридриху Пруссию. Потому что не только Фридрих никогда бы с этим не смирился, но и даже наши разлюбезные союзники этого нашего приобретения так до сих пор и не признали! Прошло уже четыре года, а у них так и не нашлось на это времени. И это при том, что все это было заранее оговорено, все они поставили под этим свои подписи. Тетенька этого очень ждала. Но так и не дождалась. А я не стал ждать, я прагматик! Я лучше возьму то, что сразу будет всеми признано. Шлезвиг — это наши фамильные земли, с этим никто не станет спорить. И вот чем должен заниматься я, если хочу быть достойным внуком своего великого деда, — возвратом Шлезвига, вот чем! Это он мне это завещал! Потому что это же он выдал мою матушку не за кого-нибудь другого, а именно за моего отца! И разве этот выбор был случаен? Нет! Или ты другого мнения, Катрин? Или, даже правильней спросить, каково на этот счет мнение твоего разлюбезного дяди Фрица?! — Ты сумасшедший, — тихо сказала царица. — Я сейчас кликну лекаря. — Не надо лекаря! — сердито сказал царь. — Я совершенно здоров. И я хочу ужинать дальше. — Тут он опять хлопнул в ладоши и крикнул: — Василий! Трубку! Живо! — Нет! — сказала царица. — Да! — сказал царь. И опять позвал: — Василий! В одной из дверей показался давешний служитель с разожженной трубкой в руке. Царь сделал ему знак подойти к столу. — Нет! — опять сказала царица. — Унеси это, любезный. У нас здесь не трактир. Не хватало еще только карт, пива и всякой сволочи. Иван при таких словах невольно вздрогнул. Царь заметил это и тут же спросил у царицы: — Ты это о ком? — Сам знаешь! — быстро сказал она, после повернулась к служителю, а если точно, то к Василию Шкурину, своему гардеробмейстеру, и уже не так сердито продолжила: — Иди, иди, Василий, премного тебе благодарны, иди. Шкурин стоял в дверях, не зная, кого слушать. — Ладно! — сказал царь. — Иди. Шкурин ушел. Царь сказал: — Да, я, наверное, действительно сумасшедший, если я столько тебе позволяю, Катрин. Нужно было давно запереть тебя в монастырь, как в свое время при почти таких же обстоятельствах поступил мой великий дед. — Но ты решил поступить по-другому, — сказала царица. — Как? — спросил царь. — Я этого точно не знаю, — сказала царица. — Вернее, мне просто не хочется в это верить. Но в некоем весьма надежном месте, во дворе, начато некое строительство. Это каменный дом об одиннадцати покоях. Работы ведутся днем и ночью, строители очень спешат. Но господин фон Унгерн все равно ими весьма недоволен, потому что… — Нет! — перебил ее царь. — Что ты такое говоришь! При чем здесь Унгерн! И это совсем не для тебя! А это ты сама знаешь для кого. Потому что я был у него! Это просто нечеловеческие условия, он очень страдает. Вот я и велел… Но тут царь замолчал и настороженно посмотрел на Ивана. Иван не знал, как ему быть. А царь не сводил с Ивана глаз и продолжал молчать. «Наверное, — подумал Иван, — он сейчас решает, что со мной делать. Ну так скорей бы решил, скорей бы все это кончилось!» Но царь молчал. Тогда сказала царица: — Уже очень поздно, Питер. Я хочу спать. Надеюсь, вы отпустите меня? — Да, конечно, — сказал царь. Царица поднялась из-за стола. Тогда тут же поднялся и царь. Поднялся и Иван. — Вот только что еще, Катрин, — смущенно сказал царь. — Ты не подумай, будто я хочу тебя этим как-то оскорбить. Или выразить свое недоверие. Но вот этот человек, — продолжал он уже довольно жестким голосом, при этом указывая на Ивана, — вот этот человек отныне будет постоянно пребывать при тебе. Его зовут Иван, и он мой друг. Так что в случае чего, то есть при мало ли какой опасности, можешь всецело полагаться на него. — Но у меня и так уже есть охрана, — сказала царица. — И я ничего не боюсь. — Это прекрасно! — сказал царь. — Но лишняя предосторожность никогда не повредит. Итак, — и царь кивнул на Ивана, — ротмистр… — Заруба-Кмитский, — подсказал Иван. — Заруба-Кмитский, — повторил царь. — Ротмистр, только что из Померании. А теперь он будет при тебе, Катрин. И завтра, а может, уже даже сегодня ночью ему будет придан эскадрон. Он же ротмистр, Катрин. А что такое ротмистр без эскадрона? Это… Ну да это и так понятно. Царица согласно кивнула, после повернулась к Ивану, некоторое время рассматривала его, после еще раз кивнула, опять повернулась к царю и спросила: — Так я свободна? — Вполне! — сказал царь. — Но только в пределах этого дворца, Катрин! Она опять кивнула, развернулась и пошла к той самой двери, из которой раньше выходила. — Только в пределах, я сказал! — выкрикнул ей вслед царь. — Ты слышишь? Это приказ! А мы люди военные и с приказами шутить не будем! Но царица к тому времени уже ушла и дверь за ней закрылась. Царь резко тряхнул головой и очень сердито сказал: — Дура! А после еще постоял, посмотрел на закрытую дверь, успокоился, повернулся к Ивану и сказал уже вот что: — Прекрасно! Я о большем и не мечтал. Но я очень спешу, Иван. Так что идем, ты проводишь меня, а я заодно расскажу тебе, что ты здесь должен будешь делать.ГЛАВА СЕДЬМАЯ Господин комендант
Но на самом деле он об этом почти ничего не сказал. То есть сказано им тогда было, конечно, много, но всякий раз о чем-нибудь другом. Так, когда они только вышли из дворца, царь жестом остановил Ивана, после многозначительно кивнул в ту сторону, куда ушла царица, и так же многозначительно сказал: — Теперь ты все понял. Теперь тебе ничего не нужно объяснять. Только я еще напомню, что я с этой женщиной живу… нет, уже просто состою в законном браке уже целых восемнадцать лет! Пойдем! И они пошли дальше, в парк. Там царь довольно скоро остановился. К нему сразу же подошел голштинский офицер и доложил, что все уже готово. Царь сказал, что он сейчас будет, и отпустил голштинца. И когда царь с Иваном опять остались вдвоем, царь сказал: — У меня чутье, Иван. Я же прирожденный охотник. Поэтому я сразу понял, почуял, что ты меня не предашь! — Тут он даже взял Ивана за пуговицу мундира, дернул ее, будто хотел оторвать, и сердито спросил: — Разве не так? — Так! — растерянно сказал Иван. — Я присягал! — Э! — насмешливо сказал царь, отпуская Иванову пуговицу. — Если бы все было так просто, Иван. А то как раз наоборот: те, которые крепче клянутся, после первыми и предают. Но мы не о них сейчас говорим, а о тебе. Неси, Иван, службу, выполняй, что тебе было велено, а я помню, что я тебе обещал. Я говорил, что ты потом можешь просить чего хочешь. А можешь, — сказал он и даже усмехнулся, — а можешь и уже сейчас попросить. Так чего ты хочешь, Иван? — продолжал он, опять беря его за пуговицу. — Ну! Говори! Иван крепко смутился, но все же сказал: — Благодарю, ваше величество, но я сперва отслужу, а потом уже буду просить. — И правильно! — сказал царь. — Правильно! Я бы сам так же на твоем месте ответил. Да и чего тут спешить? Служба у тебя будет недолгая. Сейчас я приеду туда обратно и распоряжусь, чтобы тебе сюда прислали эскадрон. И потом завтра тебе надо будет с ними один день здесь пробыть, а уже послезавтра, я так думаю, я опять сюда приеду, это будет утром, и мы это дело совсем завершим. Вот и все! — А… — сказал было Иван, но, посмотрев на царя, сразу замолчал. Царю это понравилось, он одобрительно кивнул, после сказал: — И не забывай, что на тебя возложена великая честь — охранять государыню. И охранять с особым тщанием. Ты меня понял? Иван отдал честь. — Вот это хорошо, — сказал царь. — Люблю, когда мне не задают лишних вопросов. Мы же не малые дети, Иван, мы же и так все понимаем. Правда? Иван кивнул. — Ты чего это?! — сердито спросил царь. — Мы с тобой что, водку пьем? Ты почему мне киваешь? Ты на службе или где?! Иван встал во фрунт и отдал честь. — Вот так оно намного лучше, — сказал царь уже не так сердито. — Распустила вас тетушка. Вот что такое бабье воспитание! Так и Пауля испортили. Он теперь не будущий солдат, а неизвестно кто. Кисель какой-то! А! Тут царь вдруг резко развернулся и пошел по аллее. Но уже шагов через пять опять так же вдруг резко остановился, обернулся и сказал Ивану: — И еще вот что помни: отныне ты никому, кроме меня, не подчиняешься. Только мне и присяге, понятно?! Иван отдал честь. Царь засмеялся и сказал: — Я рад, что ты мне попался. И Дружок тоже сразу тебя признал. Помнишь Дружка? — Так точно! — ответил Иван. — Пф! — в сердцах воскликнул царь. — Какие вы все скучные, Иван! С вами просто умрешь со скуки! — Тут он опять развернулся и, уже больше ничего не говоря, пошел по аллее и очень быстро скрылся за деревьями. А после в той же стороне зацокали копыта — и они все уехали. Иван постоял еще немного, послушал, но больше ничего не услышал и пошел обратно. В голове у него все было перепутано, думать ни о чем не получалось. Когда Иван вернулся ко дворцу, там возле парадного входа стояли давешние караульные — несколько солдат во главе с сержантом. Судя по мундирам, это были семеновцы. А так, конечно, это был не караул, а черт знает что, потому что половина их была без ружей, а один солдат даже без шляпы. И, что всего ужаснее, так это то, что они всего этого нисколько не смущались. Мало того: они даже и не подумали приветствовать Ивана, а только теснее сбились в кучу. Ладно, подумал Иван, не мое это дело, не хватало мне еще с пехотой разбираться. И, остановившись перед ними, он, не скрывая раздражения, спросил: — Вы кто такие? — Семеновские мы, — очень спокойным голосом ответил сержант. — Второй батальон, рота капитана Тягунова. — А сам ты кто? — спросил Иван. — А сам я сержант Колупаев, — ответил сержант, по всему видно — человек бывалый. И еще он слишком много себе позволяет, очень сердито подумал Иван. А сержант опять заговорил все тем же спокойным голосом: — Да вы, ваше благородие, не гневайтесь. Мы тут уже три года. Заменяемся, конечно! А так все равно три. И здесь всегда тихо. А вы, позвольте спросить, из самого оттуда только что? — Да, только что, — сердито ответил Иван. — Сколько вас здесь всего? — Здесь четверо, — ответил Колупаев. — И в караульном еще столько же. И еще в казарме тоже столько. Там спят. — Так! — сказал Иван, чтобы хоть что-нибудь сказать. И сразу опять подумал, что здесь черт знает что творится, что царь прав, что это все бабье воспитание… Но спохватился и убрал руки за спину, покачался на каблуках, после еще раз — теперь уже по одному рассмотрел караульных — и заговорил уже вот как: — Ладно, пускай будет так. Только чтобы привели себя в порядок. Это, значит, шляпы, ружья, подсумки и все остальное. Потому что это служба. И остальным тоже служить! Ты, — и он указал на одного из солдат, — сейчас сбегаешь к ним и приведешь их всех сюда. И чтобы не в таком собачьем виде! А чтобы при оружии, по форме, и чтобы блеск в глазах! А не то зарублю! — И тут он и вправду схватился за шпагу. Но после сразу успокоился и убрал руку, потому что это было напускное, и продолжал уже нормальным голосом: — А ты, Колупаев, пока пойдешь со мной и покажешь все наше расположение. Ну, или парк. Пойдем! И они пошли. Расположение, как того и опасался Иван, было весьма неудачным. То есть, с одной стороны, это был, конечно, очень красивый, ухоженный, настоящий царский парк. Но если смотреть с другой, служебной стороны, то местность тут была весьма пересеченная, вся густо поросшая кустами и деревьями. Также много было всяких гротов, беседок, фонтанов или даже просто отдельно стоящих статуй, которые сильно усложняли обзор. И вот что еще: где кончалось их расположение и где начиналось расположение майора Игнатьева, а он держал здешний Большой дворец, понять было невозможно. Да и самого Игнатьева, сказал Колупаев, тоже никогда нигде не доискаться. «А вот зато щеки у него, вы извините, ваше благородие…» — начал было Колупаев… Но спохватился, замолчал и повел Ивана дальше. Дальше был причал и берег моря. Ночь была светлая, белая, но все равно это уже был не день. Колупаев показал направо и чуть в море и сказал, что в хорошую погоду отсюда видна Петропавловская крепость. Иван стал смотреть туда, куда показал Колупаев, но ничего, конечно, не высмотрел, зато вспомнил про Литейную и про все тамошнее остальное, ему сразу стало очень досадно, и он отвернулся. Но тут же опомнился и повернулся обратно, а после посмотрел на Колупаева и как бы между прочим сказал, что за подобный неуставной вид он бы у них в Померании из передовой траншеи не вылезал бы. Колупаев покорно молчал. Тогда Иван сказал, что это только начало и что пусть он, Колупаев, всем своим скажет, что с завтрашнего дня у них начнется новая, настоящая служба. Колупаев согласился, что начнется, после пробурчал что-то себе под нос, вроде как что-то про немцев, и они пошли обратно. Там их ждали уже все двенадцать подчиненных Колупаева. Теперь в них порядка было много больше, это Иван сразу отметил. Но промолчал, прошел вдоль строя и, конечно, нашел кое-какие неполадки, однако опять ничего насказал, потому что сразу брать в короткие гужи нельзя. И он дал отмашку, постоял, еще раз осмотрел их всех и сказал, что поступил такой приказ, чтобы они сегодня в ночь стояли в карауле все. И они будут стоять! Зато потом их сразу всех сменят. Подойдут драгуны, эскадрон, может, даже, он уже подходит. Но пока они будут стоять и ждать драгун. И еще вот что, чтобы зарубили на носу: караул сегодня наиважный. Вот он сейчас от них уйдет, потому что у него еще есть другие дела, а Колупаев их расставит, всех, а он, господин ротмистр и с сегодняшнего здешний комендант, через полчаса выйдет обратно и все проверит. И если вдруг не дай Бог что, то он тогда будет лично ходатайствовать перед вышестоящим начальством, чтобы их всех заперли в Померанию — немедленно. Колупаев стоял, вытянувшись во фрунт, и молчал, так же молчали и солдаты. Иван еще раз повторил: — Да, в Померанию! — и, резко развернувшись, вошел во дворец. Во дворце, в Парадной зале, уже было темно, все свечи погашены. Иван остановился при пороге, осмотрелся и увидел, что справа от него, возле одной из боковых дверей, стоит царицын гардеробмейстер Шкурин. Но Иван с ним знаком еще не был, он только подумал, что это тот самый служитель, который приносил царю раскуренную трубку. Заметив, что Иван на него смотрит, Шкурин ему важно поклонился. Иван подошел к Шкурину и по-простому спросил: — Тебя как зовут, дядя? Шкурин обиделся. — Василий Григорьевич мы! — важно ответил он. — Гардеробмейстер ее императорского величества Екатерины Алексеевны. А ты кто? — Царский курьер, — просто сказал Иван. — По особо важным поручениям. — И тут же спросил: — Как тут у вас? Надеюсь, все в порядке? Шкурин кивнул. Иван еще спросил: — Что государыня? Шкурин удивленно посмотрел на Ивана, после ответил: — Она отдыхает. А что, прикажете будить? — Нет, зачем! — сказал Иван. — Отдыхают — это хорошо. Мы же, Василий Григорьевич, здесь для того и поставлены, чтобы это всегда было так: ночью покой. — Так это у нас и раньше, еще до вас, так всегда было, — сказал Шкурин. — И это хорошо, — сказал Иван. — А теперь будет еще лучше. — Чем? — спросил Шкурин. — Порядком, — ответил Иван. — Каким? — Вышеуказанным! — сказал Иван и даже поднял вверх указательный палец. После чего строго добавил: — И вот что еще немаловажно, любезный Василий Григорьевич: я человек военный, а это знаешь что такое? Шкурин подумал и пожал плечами. Иван недобро усмехнулся и сказал: — А это означает вот что: я жить долго не собираюсь. На войне же всякое всегда может случиться. Поэтому я спорить не люблю, мне это некогда. Зато я люблю, чтобы все было просто и ясно. И чтобы оно так было, а не только говорилось. Вот как сегодня: мне было сказано, чтобы здесь отныне был порядок, и он отныне будет. — И тут же строго спросил: — Понял?! — Так точно! — быстро сказал Шкурин. — Вот то-то! — похвалил его Иван. — А теперь, дядя, — и слово «дядя» он сказал с нажимом, — проведи-ка меня здесь по всем вашим закоулкам и все покажи, где здесь какие двери, окна, лестницы, подвалы и прочее. Я же теперь за это все в ответе. — Но, сударь, уже очень поздно, все спят! — очень тихо сказал Шкурин. — Вдруг мы кого разбудим? — А мы осторожно! — ответил Иван, и это тоже очень тихим голосом. И так же тихо продолжал: — Ты же, дядя, здесь все закоулки знаешь. У меня на тебя вся надежда. Пойдем! — Извольте, — сказал Шкурин. И они пошли. И опять, как и совсем недавно в парке, Иван очень скоро убедился, что этот красавец дворец ему с его солдатами ни за что не удержать, если вдруг чего случится. А чего может случиться, тут же думал он, идя следом за Шкуриным. Ничего не может, вот как надо думать, думал он дальше. Шкурин же время от времени останавливался и говорил вроде того, что эта дверь в буфетную, а эта в кухню. А эта в Китайский кабинет. А эта лестница туда-то и туда-то, там людская. И так далее. Иван кивал и даже делал вид, что он все это запоминает, хотя на самом деле он думал о совсем другом — что он попал в весьма недобрую историю. Ведь получается что? Что вот завтра царь с царицей помирятся, и кто тогда будет во всем виноват? Господин ротмистр, кто же еще. Которого никто сюда не звал, а он все равно явился, и никому не дал покоя, и еще слышал, как царицу обозвали бранным словом. Так в Померанию его обратно, в авангард, думал Иван, идя следом за Шкуриным уже по галерее. Галерея была очень длинная, с обеих сторон сплошные окна, такую очень легко штурмовать, продолжал думать Иван. Окна, думал, до самой земли, сюда можно даже конно въехать. Только никто въезжать не собирается! Никому здесь ничего не нужно, а нужно только одному царю, думал Иван, входя в павильон. — Люстгауз, — сказал Шкурин и остановился. Иван остановился рядом. Шкурин посмотрел наверх, Иван посмотрел тоже — и увидел в потолке окно, а в том окне серое предрассветное небо. — Называется фонарик, — сказал Шкурин. Иван кивнул и посмотрел на него. Шкурин сказал: — Дальше ходу нет. И здесь тоже, как видите, пусто. Так что пожалуйте опять за мной обратно. Осмотрим левое крыло. Они опять пошли по галерее. Иван спросил у идущего впереди Шкурина: — А левое крыло такое же? — Такое же, — ответил Шкурин, не оборачиваясь. — Только там кабинеты такие: Секретарский и Морской. И тоже опять службы. И высочайшая опочивальня. Пока он это говорил, они опять вошли в Парадную залу и там остановились. Шкурин вопросительно посмотрел на Ивана. Иван повел бровями и сказал: — Нет, я и так все там представляю. Туда не пойдем. — Подумал и сказал: — Симметрия! Шкурин кивнул. — А где у вас здесь казарма? — спросил Иван. — И кордегардия. — В Восточном флигеле, вон там, — ответил Шкурин и даже показал рукой. — Колупаев вас проводит, если надо. — Благодарю, — сказал Иван, повернулся и пошел к двери, в пороге остановился, повернулся и сказал теперь уже такое: — И еще вот что, Василий Григорьевич. Такая же у нас служба, сами понимаете. Так что если к вам вдруг придет Колупаев, или даже кто из солдат, и велит вам ко мне явиться, так вы являйтесь сразу же. — Как? — удивленно спросил Шкурин. — Вы что, собираетесь остаться в кордегардии? — Да, — сказал Иван. — А что? — Так это… — смущенно сказал Шкурин. — Я же вам уже здесь приготовил. В Китайском павильоне постелил. И я же там совсем рядом, через стенку. Не нужно никого тревожить, если что. И чего там, в кордегардии? — Служба, Василий Григорьевич, служба, — ответил Иван. — Отдыхай, а мы тебя пока постережем, — и вышел. На крыльце Иван остановился и осмотрелся. Было почти совсем светло. Солнце уже, наверное, взошло, подумал Иван, просто здесь, в парке, его за деревьями еще не видно. То есть, значит, уже утро, а обещанного эскадрона все нет. И, скорее всего, его и не будет. Потому что царь, подумал Иван дальше… И тут он даже в мыслях осекся, не стал думать дальше. А то сперва подумаешь, а после скажешь вслух, а кому это нужно? Никому! Нужно только одно: исполнять то, что тебе поручили. Подумав так, Иван сошел с крыльца и пошел проверять посты. С постами было хорошо: все они стояли по местам. Мало того: никто не спал и даже не подремывал, ружья у всех были к ноге, штык на отлет. А при подходе — сразу на плечо, потом на караул, и это четко, без лишних приемов. Иван давал отмашки — и ружья опять приставлялись. Иван шел дальше, ничего не говоря. А что было, думал он сердито, говорить? Что сдача должна быть по смене, а смены нет и не будет, так, что ли? Пройдя восемь постов, Иван остановился. В парке было совсем тихо, хоть бы какая птица прочирикала — так нет. Эх, сердито подумал Иван, нужно было отвечать, что он не понимает по-немецки, тогда бы никакого разговора дальше не было, и он бы поехал не сюда, а на Литейную, и там бы его встретили не так, как здесь… И все остальное прочее, уже совсем сердито подумал Иван, повернулся влево и увидел Колупаева, который стоял на крыльце небольшого кирпичного дома. Это, наверное, и есть Восточный флигель, подумал Иван — и повернул в ту сторону. Когда он подошел туда, Колупаев широко заулыбался и сказал: — А вот и вы, ваше благородие. А то я уже хотел идти вас искать. Вам же царский кофей принесли. — Как это царский? — не понял Иван. — А это потому, что в царской чашке, — сказал Колупаев. — И царский человек принес. — Шкурин? — Так точно. Извольте за мной. Они вошли во флигель, в сенях резко повернули и оказались в кордегардии. В кордегардии порядку было мало, Иван даже поморщился… И тут он увидел чашку на столе. Чашка и вправду была очень красивая, тонкой саксонской работы, на таком же тонком и красивом блюдечке. И там же, с краю блюдечка, был положен кренделек. Кофей был еще горячий, потому что давал сильный дух. Царский кофей, подумал Иван. Но тут же подумал: нет, царицын. — Приступайте, ваше благородие, а то остынет, — сказал Колупаев. Иван прошел к столу, сел, еще раз посмотрел на чашку и подумал, что вот уже и здесь есть польза, потому что, во-первых, ему уже давно хотелось чего-нибудь горячего, а во-вторых, тут же подумалось, после можно будет всем рассказывать, что он пил из царской чашки. И что, может, это ему сама царица этот кофей заваривала. Иван пригубил кофею, кофей был немного жидковат, а так вполне приличный. И кренделек был очень вкусный, как в Великих Лапах, когда он в первый раз туда приехал. Тогда, вспомнил Иван, как только Базыль ввел его в дядин дом, а правильней, в палац, так дядя сразу закричал, чтобы панычу подали кренделей и молока. И этим молоком он после еще долго его донимал, заставляя пить и пить, потому что, говорил, водки ты еще напьешься, Янка, а вот молока давать тебе уже не будут, а от него вся наша сила и наша белая кость. А кофей дядя совсем не любил. И уже если он чего-то не любил, подумал Иван — и подумал почему-то очень медленно, как будто во сне. И еще подумал: будто отравили. А потом почувствовал, как кто-то тронул его за плечо и сказал Колупаевским голосом: — Вы бы разувались, ваше благородие. Или позвольте вам помочь. А то вы себя совсем не жалеете. — Э! — громко сказал Иван. — Я не сплю! Я должен дождаться эскадрона! — Так и дождетесь, — сказал Колупаев. — В засаде ждать еще способнее. Лежмя. Вон там лежмя, уже постелено, — и он указал, где. А и вправду, подумал Иван, ему раньше после Померании всегда давали три дня на отдых. А теперь совсем ничего! Ну да это не беда, тут же подумал он дальше, встал и принялся ходить взад-вперед по кордегардии, время от времени поглядывая на лавку, на которой лежала заботливо постеленная Колупаевым шинель. «Выйдем в отставку, тогда выспимся, — думал Иван, — а пока нужно дождаться эскадрона. Ну а если его не дождемся, то дождемся чего-нибудь другого».ГЛАВА ВОСЬМАЯ Жар-птица
Но и другого тоже долго не было. Иван походил взад-вперед, успокоился, вернулся к столу, сел и опять принялся за кофе, который был уже холодный, и за кренделек. Колупаев стоял сбоку и помалкивал. Иван допил кофе и отставил чашку. Колупаев сказал: — Если ваше благородие велит, так можно сбегать в Большой дворец и принести настоящей еды. — Помолчал и добавил: — На всех. «Ат, — гневно подумал Иван, — и в самом деле!» И снова встал, снова пошел по кордегардии. Но почти сразу же остановился, помолчал, как будто еще думая, а после велел так: — Ты сначала пойди и сними лишние посты. Оставь четыре, остальные пусть идут сюда и отдыхают. И двоих из них сразу на кухню, это верно. А посты оставишь вот какие: первый у них на крыльце, после еще два по краям возле обоих павильонов и еще один — это уже четвертый — с другой стороны, под окном у государыни. Но чтобы рожу не пялил! Чтобы стоял скрытно в кустах! Понятно? Колупаев отдал честь и вышел. А Иван еще постоял посреди кордегардии, после еще посидел за столом и еще походил, пришли солдаты, он велел им отдыхать, а сам вышел в парк. В парке было тихо и так же пусто, как и ночью. И во дворце напротив тоже было тихо, и никто оттуда не выходил. И эскадрон не появлялся, вот что главное. Иван стал неспешно ходить по дорожке — до нимфы сорок пять шагов, обратно и опять до нимфы. После мимо прошел Колупаев с дежурными, они несли в кордегардию завтрак. Иван спросил, как называется этот дворец, Колупаев ответил, что Монплезир, слово французское, и позвал Ивана завтракать. Иван сказал, что он покуда сыт. Ему тогда и в самом деле совершенно не хотелось есть. Он же прекрасно понимал, что это вчерашнее поручение караулить царицу, которую, как все говорят, хотят засадить в монастырь — дело очень непростое и опасное. И не за такие дела слетали не такие головы, думал Иван. Так ведь те сами во все это лезли, потому что многого хотели, а Иван не хочет ничего. И у царя он ничего просить не собирается, думал Иван дальше, потому что ничего ему не нужно, у него и так все есть, ему бы только съездить на Литейную и передать Анюте перстенек, саму ее увидеть… Ну, и все такое прочее! И тут Иван до того засмущался, что ему даже показалось, будто на него смотрят из дворцовой галереи, с левого крыла. Смотрят не смотрят, кажется не кажется, но он все же развернулся и ушел в глубь парка, там скоро нашлась одна укромная скамеечка, он на нее только сел — и опять крепко задумался. А как же тут было не думать! Разве Иван не помнил, какие глаза были у главнокомандующего, у Петра Александровича Румянцева, когда он как бы между прочим вдруг сказал Ивану, что если он паче чаяния — и он так и сказал: «паче чаяния» — встретит в Ораниенбауме Никиту Ивановича Панина, обер-гофмейстера и дядьку цесаревича, то чтобы передал ему поклон. Нижайший! «Мы же с ним, — добавил Петр Александрович и тут он даже усмехнулся — мы же с ним свойственники, хоть и неблизкие, но все-таки». И еще раз усмехнулся, и добавил, чтобы передано было именно так, как он сказал, слово в слово. Иван сказал: «Так точно, передам и ничего не перепутаю», — а сам сразу подумал, что все это очень непросто. Ведь же никогда до этого его сиятельство ему ничего подобного не поручал, а тут вдруг на: дядька-наставник цесаревича. И усмехается! Хотя чего ему не усмехаться, думал Иван тогда дальше, уже по дороге к себе, уже отправив Мишку собирать его в дорогу. Петр Александрович, думал Иван, поймал свою птицу. И вон как высоко на ней взлетел — до главнокомандующего. А ведь еще какой-то год назад, при покойной матушке царице, его за господами фельдмаршалами, за этими старыми пнями, которых корчевать и корчевать, никто не видел! Зато как только матушка преставилась и этот сел вместо нее, так он сразу же призвал Румянцева — и Андреевскую ленту ему сразу, и полного генерала, и, главное, на́ тебе, Петя, еще одну птицу! То есть на́ тебе экспедиционный корпус, на́ тебе полную волю над ним, только добудь мне Шлезвиг! И Петя пошел. И ведь добудет, как пить дать. Потому что датский Фредерикус — это вам не прусский Фридрих, а Петр Александрович и от того не бегал, а сам его догонял. И еще взял Кольберг на шпагу. А за Шлезвиг, и это тоже как пить дать, теперь дадут ему фельдмаршала. И десять тысяч душ, никак не меньше. И что ему еще, думал Иван. И в самом деле, остальное у него все есть. На сколько он лет всего старше, а уже все успел. Вот кто, небось, каждый день — и в день по нескольку раз — молится за здравие императора! Не то что кое-кто, не будем называть по именам, пусть даже это только в мыслях, потому что это же такое дело… И тут как раз послышались шаги. Иван перестал думать, подождал, а после как бы между прочим посмотрел налево. Там на аллею вышел Шкурин. Вид у Шкурина был очень невеселый. Иван не стал вставать. Шкурин подошел к Ивану, едва заметно поклонился и сказал: — Господин ротмистр! Срочно! Государыня зовет! Иван сразу поднялся, спросил: — Что такое? — Не говорят! — быстро ответил Шкурин. — Но велела срочно вас призвать. Позвольте провожу! Они вместе пошли по аллее. «Ат, — думал Иван — началось». Но ничего не спрашивал. Так они молча прошли полдороги, только потом уже Шкурин сказал: — Государыня сильно напугана. Как бы не было какой беды! Иван остановился, посмотрел на Шкурина, спросил: — А отчего напугана? Шкурин пожал плечами. Врет, каналья, подумал Иван, но вслух ничего не сказал, а пошел дальше. Шкурин нагнал его, и они опять пошли рядом. Шкурин его даже иногда обгонял и при этом заглядывал ему в лицо, то есть всем своим видом показывал, что хочет продолжить разговор, ты только спроси у него — и он тебе все расскажет. Но Иван по-прежнему молчал. Так они молча вошли во дворец, молча свернули налево, а там прошли в секретарскую — то есть Шкурин открыл дверь, Иван вошел, а уже следом вошел Шкурин, и он там по-лакейски ловко крутанулся, даже успел что-то сказать — и вышел. А Иван остался — один. И государыня была напротив, она сидела на софе. Она была в новом платье. То есть в новом — это, конечно, только для Ивана, а для нее просто в другом, тоже, наверное, домашнем, растерянно думал Иван, оно, может, три деревни стоит… Но тут он спохватился! Поднял руку… И совсем чуть не упал, потому что он же был без шляпы, шляпа осталась в кордегардии! Как ему теперь приветствовать царицу? Позор какой, хоть застрелись! Вот о чем тогда думал Иван, стоя с поднятой рукой. А царица сидела напротив и смотрела на него. После она улыбнулась, сказала: — Что с вами такое, милейший? — Ничего, — сказал Иван и опустил руку. — Вот и прекрасно, — сказала царица, вставая. Лицо у нее стало строгое, даже немного сердитое. Она спросила: — Это вы вчера сюда приехали? Иван кивнул. — Питер вас назначил здешним комендантом? Иван опять кивнул. — То есть вы отвечаете за мою безопасность, — сказала царица. — А это тогда что такое? — и она указала рукой на окно. Иван глянул в окно. В окне был виден парк. — Я говорю, вон там, — добавила царица. — За тем деревом, за тем кустом. Там кто-то прячется! Иван шагнул к окну, еще раз посмотрел в ту сторону, радостно заулыбался и сказал: — Так это же Рябов Кузьма. Колупаевский солдат. Он там стоит. — Рябов? — переспросила царица, и тоже еще раз посмотрела в окно, и даже прищурилась, а после недоверчиво сказала: — Ну, я не знаю. Рябов всегда стоял открыто и не прятался. А это кто-то другой. Кто его туда подослал? И с какой целью? — Э! — торопливо воскликнул Иван. — Сейчас сами увидите! — Он подошел к самому окну и громко приказал: — Рябов, ко мне! Рябов — а это и вправду был он — тотчас вышел из кустов и с ружьем на караул, парадным шагом, подошел ближе к окну. — Рябов! — сказал Иван. — Кто тебя туда определил? — Вы, ваше благородие, — четко ответил Рябов. — А почему туда? — Чтобы не пялился. — Молодец! — поморщившись, сказал Иван. — Ступай на место! Живо! Рябов развернулся и ушел в кусты. Иван тоже развернулся, но к царице, и по-прежнему бодро сказал: — Вот видите, ваше величество, везде порядок. Никакая мышь не прошмыгнет. — Мышей я не боюсь, — ответила царица. — А вот… — И тут она сделала вид, что задумалась. Потом еще раз посмотрела на Ивана и даже наклонила набок голову, чтобы было совершенно ясно, что она смотрит очень внимательно… А потом спросила вот что: — А что еще вам Питер приказывал? — Кроме чего? — спросил Иван. — Кроме мышей. — Ничего! — громко сказал Иван. — Просто велел нести службу, и все. И чтобы ничего такого не случалось, никакой беды, а чтобы все было по уставу. Царица очень внимательно посмотрела на Ивана. Иван не моргнул. Царица задумчиво сказала: — А у вас открытое лицо. — После еще немного помолчала и спросила: — А вы давно у Питера? — Нет, со вчерашнего, — сказал Иван. Царица понимающе кивнула, опять села на софу, и даже взяла веер, и уже почти приветливо сказала: — И вы тоже не стойте, любезный. Зачем это нужно? Присаживайтесь. Иван осмотрелся, отступил и сел на стул. — Любопытно, — сказала царица, — даже очень. То есть вы, совершенно неизвестный ему человек, и он вдруг отправил вас сюда. Вчера в первый раз увидел и сразу отправил. А как вы с ним познакомились? — Я, ваше величество, на службе, — ответил Иван. — Я из действующей армии. Курьер. — От Захара Григорьевича? От Чернышева? — спросила царица. — Нет, от Петра Александровича, — сказал Иван. — От графа генерал-аншефа… — О, конечно! — сказала царица. — И как это я сразу не догадалась. Ну и как там вам у Петра Александровича служится? Скоро возьмете Шлезвиг? — Как будет приказано, ваше величество, — на всякий случай уклончиво ответил Иван. — И это тоже правильно! — сказала царица. — Мы люди маленькие, это не нам решать. А вы, простите, в каком звании? Я в этом плохо разбираюсь. Иван встал, кратко поклонился и представился: — Иван Заруба-Кмитский, ротмистр. — После еще сказал: — Драгун, — после чего еще раз поклонился. — Да вы садитесь, — сказала царица. — Садитесь, мы же с вами не на войне. И даже не на вахтпараде. Иван сел. — Вот я уже о вас кое-что узнала, господин ротмистр Кмитский, — с улыбкой сказала царица. — Заруба-Кмитский, — повторил Иван. Царица удивленно подняла брови, и тогда он поспешно добавил: — Мы же Кмитскими стали недавно, при бабушке. А Зарубы мы давно. Царица опять улыбнулась, сказала: — Фамилия у вас очень военная. А вы к ней подходите? — А это как понимать? — спросил Иван. — А вот если нужно рубить саблей, то вы как рубите? — У нас в строю, ваше величество, не сабли, — сказал Иван. — У нас у нижних чинов палаши, а у офицеров шпаги. Сабля, конечно, намного лучше, саблей рубить легче. Но и шпагой тоже научились. — О! — воскликнула царица. — У вас даже глаза засверкали! Так вы, признайтесь, крепко рубите? — Крепко, сударыня, — сказал Иван. — Верхового вместе с лошадью одним рубом разрубаю надвое. — Не может быть! — Может. Велите, чтобы кто-нибудь сел на лошадь, и я тоже сяду, съедемся, и я их разрублю. Вот прямо здесь, под окнами. — Ужас какой! — опять воскликнула царица. — Нет, не надо! — Как прикажете. Царица помолчала, посмотрела на Ивана, а потом сказала: — А теперь признайтесь, что вы шутите. Иван усмехнулся, сказал: — Немного, конечно, шучу. Но и правду тоже говорю. Потому что если рубану, тогда им будет вот что: лошадь в одну сторону, а верховой в другую. — Понятно, — сказала царица. Помолчала и еще добавила: — Понятно. — После взяла веер и принялась им обмахиваться. Потом опять заговорила, и теперь уже вот так: — И вы, конечно, человек решительный. Вас заметили раз, вас заметили второй, затем вы отличились под Кольбергом… И это было тогда, когда они пытались деблокировать, но это им не удалось, Платен бежал… И Петр Александрович забрал вас к себе в штаб! Так это было? — Так, — сказал Иван, с большим удивлением глядя на царицу. Она это заметила и засмеялась и после стала еще быстрее обмахиваться веером. Потом сложила веер, сказала: — Зарубы-Кмитские. Не помню, — и вопросительно посмотрела на Ивана. Иван сказал: — Я уже говорил вам, ваше величество, что Кмитские мы недавно, по бабушке. А Зарубы мы уже триста лет. Мы были писарями брянскими, хорунжими смоленскими, старостами суражскими… — Хорошо, хорошо! — перебила царица. — Я это понимаю. Но это, скажем так, история вашего рода. А вот ваши ближайшие родственники, мне вот это хотелось бы знать. — Извольте, — ответил Иван. — Отец мой, тоже ротмистр и тоже драгун, убит в последнюю шведскую кампанию. В отряде Стоффельда, если вы такого еще помните. И был у меня еще дядя. Он умер в Литве, в прошлом году. — Умер? — спросила царица. — Убит, — сказал Иван. — А! — сказала царица. Помолчала, потом спросила: — А за кого он стоял? — Дядя, — сказал Иван, — был человек решительный и никого не боялся. Поэтому он всегда стоял только самза себя. — А кто тогда его убил? — спросила царица. — Там, ваше величество, говорят об этом всякое, — сказал Иван. — Понятно, — еще раз сказала царица. После совсем тихо сказала: — Простите. Иван молчал. Царица поднялась с софы. Иван тоже поднялся. Царица приложила веер к подбородку и сказала: — Получилось, что я зря вас потревожила. Я же не знала, что это Рябов. Рябова я не боюсь! И теперь я и вас не боюсь. Мне теперь, даже наоборот, с вами будет спокойнее. Вы сюда надолго? — Нет, — сказал Иван. — Может, всего на один день. — Как жаль! А что потом? «Ат, — подумал Иван, — дурень, дурень!» А вслух сказал: — Пока не знаю. Государь сказал, что сам это решит. — Значит, он сегодня собирается сюда? — Возможно. — Ой! — воскликнула царица. — И что это я вас допрашиваю? Кто мне дал такое право? Вы же человек военный, и вы давали присягу, я все понимаю. Поэтому если у вас есть какие-то дела, то я вас не держу. И тут она даже слегка поклонилась. „Иван совсем растерялся. — Ступайте, ступайте, — сказала царица. Иван ей поклонился, развернулся и пошел к двери. Царица вслед ему сказала: — Но, смотрите, на обед не опоздайте. Я буду вас ждать!ГЛАВА ДЕВЯТАЯ «За государя или как!»
Вернувшись в кордегардию, Иван там первым делом сразу взял свою шляпу, надел ее плотно, по самые букли, и уже только после осмотрелся. Колупаев и еще трое солдат, которые и без того уже стояли очень смирно, еще сильнее подтянулись. И глаза у них были серьезные, без блеска. Это Ивана успокоило, но не совсем — и он строго велел: — Рябова сменить! Немедля! Потому что дурень! Пойдешь ты! — и он указал на одного из солдат, кажется, на Полушкина, если только он не перепутал, как того зовут. Солдат отдал честь, развернулся и вышел. Иван стоял, не зная, как быть дальше. Тогда Колупаев сказал: — Остынет, ваше благородие. Зачем вам такое? Иван повернулся к столу и увидел, что там для него уже накрыто, то есть стоит котелок, при нем хлеб и ложка, и рядом кружка с киселем, кисель был еще горячий, от него шел пар. Иван, хоть и был не голодный, но все равно одобрительно заулыбался, прошел к столу, сел и сразу принялся есть. Солдаты вышли, чтобы не мешать. И потому что это не положено — смотреть начальству в рот. А Колупаев остался, потому что он сержант и старший в команде. — Садись, — сказал Иван. Колупаев сел, но не к столу, потому что это тоже не положено, а на лавку при стене… Каша была жирная и вкусная, Ивану было не до разговоров. Только съев уже примерно половину, он остановился, посмотрел на Колупаева, задумчиво облизал ложку и спросил: — А когда у государыни обед? Колупаев очень удивился, но ответил: — Это еще не скоро. Но мы можем вам еще принести. — Когда обед, я говорю! — строго сказал Иван. — Отвечай! — В половине второго, — сказал Колупаев. — А то и в два, а то и даже позже. Но вы не беспокойтесь, ваше благородие, мы этого не прозеваем. Обезьяна Иванна не даст. — Кто, кто?! — переспросил Иван. — Ну, Шарогородская, кто, — тут же быстро сказал Колупаев. — Оговорился, ваше благородие, винюсь. Она не обезьяна, конечно, а Катерина Иванна. Просто очень существо подвижное, вот злые языки ее и обозвали. А так она очень приличная дама. Она же главная царицына служанка, сиречь камеристка, и ее к нам перед обедом всегда присылают. И тогда наши, по ее приказу, идут во дворец к Игнатьеву и уже оттуда несут нам и им. — Им и нам! — сказал Иван. — Так точно, — согласился Колупаев. — Сперва им. И это нам не в тягость, а даже в почет. А раньше этого почету не было, потому что раньше у нас, опять виноват, у них, у государыни, был свой повар здесь, в Монплезире. А потом он отравился. И это уже две недели тому. — Как это отравился? — недоверчиво спросил Иван. — Обыкновенно, — сказал Колупаев. — Грибами. Грибами часто травятся. И так и он. Думал, что сморчки, и не угадал. И теперь мы без повара, теперь ходим к Игнатьеву. А в вашей каше грибов нет, не беспокойтесь. Иван пожал плечами и опять взялся за кашу. Аппетита у него уже не было, но он понимал и другое: что перестанешь есть — и Колупаев будет думать, что ты испугался. Доев кашу, Иван взялся за кисель. Кисель был хорош, но Иван все равно спросил, не травился ли у них кто киселями. Колупаев ответил, что нет. Иван сказал, что зря, допил кисель и посмотрел на лавку, где лежала еще с раннего утра постеленная шинель. Ивану не хотелось спать, просто ему вообще ничего здесь не хотелось, хотелось только одного — чтобы как-то выбраться отсюда, и поскорее. Или поскорее приезжал бы царь и мирился со своей царицей. Или хотя бы прибыл эскадрон, желательно голштинский, и чтобы командовал им полковник, и тогда бы этот голштинский полковник сказал бы Ивану, что волею его императорского величества он, полковник такой-то, имярек, заступает здесь вместо него, а ты, Иван, так говорит этот полковник, валяй отсюда куда хочешь — хоть на Литейную, а хоть даже в Литву, в свои Великие нищие Лапы… Нет, тут же подумал Иван, даже если такое и в самом деле будет сказано, он все равно не будет иметь права отсюда отлучаться или даже просто сдавать команду кому-либо, пусть даже старшему в звании и пусть даже при этом голштинцу, потому что царь ему ясно сказал: не подчиняться никому, кроме него! Значит, даже царице. Так что это ему надо будет крепко помнить, когда он будет призван к ней на обед. Но это будет еще не скоро, подумал Иван, вставая из-за стола и направляясь к двери. Как хорошо, думал он дальше, спускаясь с крыльца, и как легко ему служилось раньше, в Померании! Тогда все было просто и понятно, а теперь черт знает что творится. Эх, думал Иван, надо решаться, сколько это можно тянуть, поэтому как только приедет государь и как только спросит — так сразу ответить: так, мол, и так, ваше величество, запал мне в душу ваш манифест, и как было ему не запасть, когда же у меня беда какая, и кому ее, кроме меня, развести? Ведь же некому, ваше величество, потому что никого на всем белом свете, кроме меня, у него не осталось, и у меня, кроме него, а посему, ваше величество… Но тут Иван вдруг почему-то остановился и прислушался. Так точно, подумал он радостно, это копыта. Это, подумал, эскадрон! Но потом, еще прислушавшись, нахмурился, потому что уже ясно разобрал, что это скачет только экипаж. А после, когда экипаж еще приблизился, Иван даже насторожился, потому что это был тот самый экипаж — Никиты Ивановича Панина, он его по копытам узнал! И этот черт так просто сюда не приехал, конечно! Этот черт, думал Иван, повернувшись на топот копыт, уже что-то затеял! Нижайше кланяться! И только слово в слово передать, и ничего, не приведи Бог, не перепутать, вспомнил он слова Румянцева, и, придерживая шпагу, быстро пошел, а точнее, почти побежал навстречу выезжавшему из-за деревьев экипажу. В экипаже тоже не дремали — там сразу же отдернули гардину, и в окошке показалось добродушное улыбающееся лицо. Это и в самом деле был Никита Иванович Панин, наставник цесаревича. Увидев, что Иван быстро идет ему наперерез, Никита Иванович тут же велел кучеру остановиться, после сам, не дожидаясь ничьей помощи, вышел из кареты, повернулся к Ивану, который уже приложил руку к шляпе, и сказал: — А, это ты, голубчик. Вот мы опять с тобой встретились. — И, продолжая улыбаться, он подошел к Ивану, после чего добавил уже не так громко: — Государь мне про тебя рассказывал. Государь тобой доволен. Крепко! И тут же, тоже крепко, взял Ивана за локоть и повел его по дорожке ко дворцу. Иван молчал. Никита Иванович тоже, только он время от времени как-то по-особенному поглядывал на Ивана. После, опять же за локоть, остановил его, посмотрел ему прямо в глаза и сказал: — Непростые времена настали. Ты должен это знать. Ну да за тебя мы не беспокоимся, отзывы о тебе были самые наилучшие. Только все равно не лишним будет напомнить: держи ухо востро. Люди злы! А время-то какое, прости, Господи! — продолжал Никита Иванович, опять увлекая Ивана по дорожке. — Перемена правления, окончание войны, бывший враг теперь союзник — и это все за каких-то полгода. Это, конечно, очень непросто, это не всякая голова может сразу вместить. Вот и начинаются шатания, потому что общество не понимает, куда его ведут. И особенно это трудно понять, когда его ведет кто-то один. Потому что это же рождает зависть. А зависть в свою очередь в дальнейшем приводит к переменам уже не только самого правления, но даже самой его сути. Сути же, сиречь системы, бывают различные. Вот взять, к примеру, шведскую систему правления, это я имею в виду сейм, ограничивающий власть, Богом данную монарху. Богом, Иван, слышишь? Или другой пример, для нас более близкий и понятный, — это Польша. Сказав это, Никита Иванович опять остановился и опять посмотрел на Ивана. Иван был очень насторожен, потому что он весьма не любил подобных разговоров и всегда их избегал. А тут как избежишь, с тоской думал Иван. Но тут Никита Иванович вдруг сказал уже совсем другое: — А ты ведь из Литвы, голубчик. И, я слышал, будто бы ваше дело разбиралось этой весной в Виленском Трибунале. Иван удивленно поднял брови, но ничего не сказал. Однако Никита Иванович этим ничуть не смутился, он продолжал: — Имение. Там две деревни с похожими названиями, а хозяин их убит в прошлом году. Пан Федор его звали. А как фамилия? — Заруба-Кмитский, — ответил Иван. — А твоя? — И моя такая же. — Да! — нараспев сказал Никита Иванович, не сводя глаз с Ивана, а точнее, глядя ему прямо в глаза. — Запутанное дело, ничего не скажешь. Ну да были бы средства, и не такое дело можно выиграть. Не правда ли? Иван молчал. — Можно! — сказал Никита Иванович. — Можно! Даже если Радзивилл не хочет, так нужно было поклониться Чарторыйским. Ну, или, я не знаю… И тут Никита Иванович задумался, и они дальше пошли молча. Только когда они были уже почти возле самого крыльца, Никита Иванович вдруг очень решительно тряхнул головой, опять остановился и сказал: — Но все это, голубчик, будет после. А пока что сам видишь, что творится. И за этим, это я про Трибунал, нужно государю кланяться. А он тобой очень доволен, ты можешь смело просить. А кто я такой? Я царский гувернер, наставник. Аз, буки, ижица. А тут еще… Захворал цесаревич, вот что! — уже совсем другим, очень серьезным голосом продолжил Никита Иванович. — Хворь не весть какая, конечно, можно даже сказать, что пустяки. Так ведь зато кто захворал! И что мне будет, если потом вдруг что стрясется?! Кому я буду нужен без ноздрей? Государь у нас строг. А государыня как его любит! Вот и гоняют меня взад-вперед. Побежал я, голубчик, побежал. Вернусь — договорим. С этими словами Никита Иванович и в самом деле почти что взбежал на крыльцо, а после так же быстро скрылся во дворце. А Иван остался стоять на дорожке. Во дворце, было слышно, встречали Никиту Ивановича — вначале слуги, а потом и государыня. Потом там стало совсем тихо — это они, наверное, ушли в ее покои. Иван развернулся и пошел от нечего делать проверить посты. Все посты были на месте и содержались в порядке. Иван вернулся в кордегардию и велел сменить всех, кроме Полушкина, потому что он недавно заступил. Колупаев взял команду и ушел. Иван сидел неподвижно, как колода, и, ни о чем не думая, смотрел в окно. Вернулся Колупаев со смененными, Иван велел всем отдыхать, а Колупаеву велел идти и стать возле крыльца, чтобы, как сказал Иван, когда его высокопревосходительство будет выходить к карете, сразу сюда об этом доложить. Колупаев ушел. А Иван сидел дальше и дальше смотрел. Шло время, Колупаев не являлся. И уже пришло время обеда. Иван не вытерпел и вышел в парк, прошел — конечно, вдалеке — под высочайшими окнами, ничего не рассмотрел и не расслышал, да и нельзя было этого делать, потому что там стоял Полушкин, и Иван прошел дальше, к крыльцу. Там, рядом с постовым, стоял Колупаев. Что, спросил Иван, он еще там. Там, ваше благородие, ответил Колупаев. После еще сказал: они часто здесь бывают, и это же ясное дело, она же о Павлуше беспокоится. Иван на это понимающе кивнул. Тогда Колупаев сказал: и он почти всегда надолго, мы уже знаем, что если он приехал, так обед будет не скоро — как сейчас. Иван опять кивнул. После вполголоса напомнил, что если будут выходить, чтобы ему сразу сказали, и сошел с крыльца. Солнце стояло высоко и хоть уже даже начало склоняться, но было еще жарко. Иван подумал и пошел вперед, к причалу. Или к террасе, как это у них здесь называлось. Там он подошел к самой воде, то есть к самой балюстраде, облокотился на нее и стал смотреть на море. Море было тихое, смотреть на него было скучно. Тогда Иван стал смотреть туда, где был виден Петербург. Петербург был виден плохо, хорошо была видна только Петропавловская крепость. Но что Ивану было до нее?! Иван хотел видеть Литейную. Эх, думал Иван, а вдруг сейчас приедет царь и скажет, что Иван свободен и может ехать куда хочет. Иван, конечно, очень обрадуется и только схватится за шляпу… Как Никита Иванович вот так весело заулыбается и скажет: «Иван, ты куда! А как же Виленский Трибунал? Да ты разве не знаешь, что если государь только моргнет или если только велит нашему послу в Варшаве, господину Воейкову… Сам знаешь, что велит! И тогда что там твой Хвацкий, Иван, и что его гайдуки! И что даже Потоцкий с Радзивиллом! Разве не так, Иван? И разве не так, ваше величество?!» И тут… Иван нахмурился, и отвернулся от Петропавловской крепости, и стал смотреть на Кронштадт. А государь, подумал Иван, скажет: «А вот и нет, а вот ты и не угадал, Никита Иванович. Потому что ничего я не могу! Ибо как же я могу помочь кому-то, когда я самому себе никак не помогу». Потому что где моя честь? Разве…» Но дальше Иван представлять за царя не решился, а только вспомнил его давешние странные слова про некоего младенца Алексиса, которого ему не показали. А Пауля и Анхен показали, говорил вчера царь. А царица говорила, что он сумасшедший. Это она так про него. И все это говорилось при Иване, Иван это слышал. Как будто ему это нужно… Да ничего ему, думал Иван, не нужно! И ничего он здесь не понимает! Потому что как это возможно, чтобы жена ходила с таким брюхом, а муж этого не замечал? И все остальные вокруг тоже. Или все про это знают и просто молчат. Может, даже Колупаев знает, он же здесь все время торчит, уже, сам говорил, три года. И вот он все знает — и молчит. Потому что чего ему здесь не молчать? Здесь же ему не Померания. Да где бы он нашел такую кашу в Померании, какую ему дают здесь? Да такую там сам его сиятельство граф Петр Александрович Румянцев не едал. А здесь любому — на! И что там, у Фридриха, творилось, они здесь и представить не могут. Да вот хотя бы Гросс-Егерсдорф, когда мы их там разбили, а после стали отступать и даже пушки бросали. И здесь сразу какой ор подняли! Апраксин предатель, Апраксина пруссаки подкупили! Да никто его не подкупал, а просто тогда всему войску, извините за грубое слово, жрать было совсем нечего, потому что все вокруг спалили начисто. Вот он и велел оттуда отступать, чтобы мы там все не передохли. И это правильно! Ибо что такое настоящий главнокомандующий? Это у которого солдат всегда накормлен, вот что. А на голодное брюхо побед не бывает. А здесь чего! Здесь воевать не надо, здесь не знают, что такое смерть. Здесь только знай рожать! И вот они и рожают этих бедных деток, как котят, а после так же, как котят, в корзину их… Сзади послышались шаги. Иван перестал думать и прислушался. Это как будто был Шкурин. Вот кто наверняка все знает, очень сердито подумал Иван, и вот кому, небось, дали корзину с тем младенцем. А кое-кто после напился и кричит, что почему ему сперва не показали. Прости, Господи! Подумав так, Иван оборотился и в самом деле увидел Василия Шкурина, который поднимался к нему на террасу. Иван стоял и ждал. Шкурин подошел, сказал: — Вас, господин ротмистр, их высокопревосходительство видеть желают. Позвольте за мной. Какая скотина, подумал Иван, лакей ливрейный, а как рожу воротит! Но вслух ничего не сказал и пошел следом за Шкуриным обратно ко дворцу. Когда они пришли туда, там никого, кроме постового Червоненко, не было. Шкурин сказал: — Подождите. Они еще у государыни. Они велели, чтобы вы пришли заранее. Они спешат. После чего Шкурин поднялся по крыльцу и скрылся во дворце. А Иван остался ждать. Сперва он стоял рядом с Червоненко, а после сошел вниз, остановился посреди дорожки и подумал, что с этим прытким его высокопревосходительством нужно быть очень осторожным. Потому что еще совсем неизвестно, что он здесь на самом деле делает и кто его сюда послал. Ведь же нельзя быть таким дурнем и притворяться, будто ты ничего не понимаешь. Ибо что тут понимать! Он что, разве раньше этого не слышал? Слышал! Царь хочет постричь царицу в монастырь, чтобы самому жениться на другой. Но дело это непростое, и это тоже всем известно. И вот поэтому, как Иван вчера видел и слышал, царь решил начать издалека: сперва были эти его слова про младенца Алексиса, которого она как будто где-то с кем-то прижила, — и вот теперь ей за это домашний арест. Под караул ее! Господин ротмистр, ответишь головой! И сам уехал. А потом они опять сюда приедут и увезут ее уже под большим караулом, и приехать они могут в любую минуту, то есть могут хоть прямо сейчас. И что они тогда увидят? Что царица как бы под арестом, ее караулят, но у нее посторонний. И что тогда царь скажет? Да примерно вот что: господин ротмистр, а чего это вы уши развесили, вы что, желаете под суд? Или я сейчас, прямо на месте… Но дальше Иван подумать не успел, потому что тут на крыльце показался Никита Иванович, который осмотрелся по сторонам, увидел Ивана, радостно заулыбался и воскликнул: — Голубчик! А я уже было подумал, где ты подевался! После чего он быстро, паучком, сошел с крыльца. К груди он прижимал, будто добычу, свернутую в трубочку бумагу. Иван стоял и ждал. Никита Иванович подошел к нему, сразу стал серьезным и сказал: — Не завидуй мне, голубчик. Ибо чем ближе к солнцу, тем скорей можно обжечься. Вот! И с этими словами он резко и почти наполовину, снизу, развернул эту бывшую при нем бумагу. Там внизу была подпись царицы, а выше, и разбитое на пункты, излагалось нечто многословное, но что именно — Иван не разобрал. Да он и не думал разбирать. А тут еще Никита Иванович уже опять быстро свернул бумагу и сказал: — Пустяки, я говорил. А государыне не пустяки! Он же ее кровинушка. — Вы это про кого? — спросил Иван. — Как это про кого? — строго переспросил Никита Иванович. — Про цесаревича Павла Петровича. А про кого можно еще?! Иван крепко смутился и уже начал корить себя в душе по-всякому. Но тут Никита Иванович опять весело, беспечно заулыбался, даже махнул рукой — и ласково сказал: — Государыня тобой весьма довольна. Правда, она говорит, что ты ее сперва несколько напугал своими воинственными историями. Ну да теперь мир заключен, говорит, теперь это быстро пройдет. И еще вот что! — вдруг быстро сказал Никита Иванович и опять, как давеча, крепко взял Ивана за локоть. — Я же, голубчик, спешу, ты меня проводи! Они опять пошли по дорожке туда, где в глубине парка стоял экипаж Никиты Ивановича. Шли они молча и довольно скоро. После, не сбавляя шага, Никита Иванович наконец заговорил: — Спешу, голубчик, сам видишь, как спешу. Это же наследник, это же — сам понимаешь. Это же никому такого не посоветую и даже не пожелаю. Что может быть ответственней? Тут он вдруг остановился и пристально посмотрел на Ивана. Иван тоже остановился и молчал. Никита Иванович сказал: — Я ведь все понимаю, голубчик. Да и как тут не понять? Это же очевидно: цесаревич еще мал и неразумен, надзирать за ним легко. Вам же, сударь мой, стократ труднее. Ведь ваша поднадзорная в зрелых летах. — Но я здесь ни за кем не надзираю! — негромко, но очень решительно сказал Иван. — А разве я такое сказал? — тут же ответил Никита Иванович. — Я только сказал, что вам труднее. Да и разве я сейчас вообще о чем-либо говорил, когда я нем как рыба? Не так ли?! Иван выжидающе молчал. Никита Иванович перестал улыбаться и сказал: — Вы, сударь, можете составлять обо мне любое, какое вам угодно, мнение, но я при этом останусь тем, кем был. А вот утверждать подобное о вас я бы не стал. Хотя какая цена слову? Да никакой ему нет цены. Даже самому высочайшему слову, голубчик. Вот тебя сюда по высочайшему слову направили, а бумаги при этом никакой не выдали. А вдруг теперь здесь что случится! Страшно даже подумать, что может случиться, а у тебя в защиту нет ничего. А вот зато мы, старики, мы осмотрительны, мы всегда соломку подстилаем. Захворал цесаревич — я сразу сюда с докладом: так, мол, и так. И государыня сама решает, что нужно и как нужно лечить, а я это на бумагу и на подпись. А у тебя, голубчик, если спросят, кто ты такой и кто тебя сюда прислал, ты какую будешь им бумагу показывать, а? А слово что! Слово же, известно, воробей. Ну, или даже если державный орел, то все равно ведь птица и, значит, все равно улетит. И только ты не подумай, голубчик, я ничего худого тебе не желаю и в твои дела не вмешиваюсь, надзирай за кем велели, только не забывай одного… Ну да сам знаешь, чего забывать не надо! А мне крепко некогда. Прощай! И с этими словами Никита Иванович быстро развернулся и быстро пошел к карете, которая, кстати, была уже совсем недалеко. Какая шельма ядовитая, гневно думал Иван, глядя Никите Ивановичу в спину. А тот уже подошел к карете, там уже подскочил лакей и откинул перед ним подножку, открыл дверцу, Никита Иванович уже ступил на подножку… Но вдруг замер и задумался, после повернулся к Ивану и, приветливо улыбаясь, поманил его рукой. Иван аж заскрипел зубами от злости, но все же подошел к карете. Никита Иванович опять стал очень серьезным и так же серьезно и очень негромко сказал: — Жаль мне тебя, голубчик. Не знаю, почему, но жаль. Так вот, если будет какая беда и не будет тебе куда кинуться, тогда приезжай ко мне, я приму. И даже если меня вдруг дома не будет, или если тебе так ответят, что меня нет, то все равно не уходи. А скажешь: «Бедный Петр. Очень просит». Понятно? Иван молчал, не зная, что ответить. — Э! — сказал Никита Иванович. — Я же не говорил тебе, что проси у меня чего хочешь. Я же не царь. И я же не сказал: нижайше кланяюсь. А я только сказал: приму, если будет беда. Ну да лучше, чтобы совсем без беды. Чтобы мы больше не встречались. Но, чую, встретимся. А пока что все равно прощай! И с этими словами Никита Иванович сел в экипаж, лакей захлопнул за ним дверцу и только вскочил на запятки, как кучер стеганул лошадей — и они сразу понесли.ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Третий куверт
Иван развернулся и пошел обратно во дворец. На полдороге ему встретились его солдаты, они сказали, что идут в Большой дворец за обедом. Что, уже приходила та дама от царицы, спросил Иван. Приходила, даже прибегала, ответили солдаты, такая красная, что просто страсть. Тогда давайте живо, приказал Иван, и солдаты прибавили шагу, а он пошел дальше. Возле дворца Иван спросил у караульного, все ли в порядке. Караульный ответил, что все, что никто туда не входил, а выходил оттуда только Шкурин два раза и Шарогородская раз. После чего тут же спросил: а что делать, если вдруг выйдет государыня, ведь государь сказал, что ей это не положено. Или, может, есть уже другой приказ? Иван сказал, что должен быть, но он пока еще не поступил. Так что делать, ваше благородие, растерянно сказал солдат, если она вдруг что? Но Иван никак на это не ответил, потому что он уже развернулся и пошел вдоль галереи. Опять вернувшись в кордегардию, Иван снял шляпу, и в сердцах швырнул ее на стол, и походил взад-вперед, после остановился, медленно провел ладонью по щеке — и велел подать ему всего, что нужно для бритья. Так Миколкин вас побреет, ваше благородие, сказал Колупаев, зачем вам это самому? Молчать, громко сказал Иван, не рассуждать, дать всего, что надо, живо! После чего сел за стол и насупился. Они забегали и принесли всего. После он брился и думал, что они, дурни, ничего не понимают, что он всегда любил бриться сам, он даже своему денщику Мишке никогда этого не доверял, он же не баба… Ат, при чем здесь баба, бабы разве бреются», — думал Иван, ловко шваркая бритвой вверх-вниз. И он побрился сам, они только смотрели… Да, и еще только вот что: пока он брился, Рябов его разул и надраил ему сапоги, а после опять его обул. И еще: после бритья Иван встал, и ему переплели косу и почистили мундир. И только они со всем этим покончили, как пришел Шкурин и сказал, что господина ротмистра зовут к столу. И тотчас же еще сказал: немедленно! Иван сердито хмыкнул и пошел следом за Шкуриным. Во дворце Шкурин опять завел Ивана в секретарскую, а сам входить не стал. Иван теперь уже не растерялся, а снял шляпу и приветствовал царицу как положено. На что царица смущенно сказала: — Да что вы! Зачем такие церемонии? Царица, как и в первый раз, сидела на софе, только теперь перед ней еще стоял небольшой обеденный столик, сервированный очень богатой посудой. А вот зато сама царица была одета очень просто, почти как служанка. И драгоценностей на ней почти что не было. И лицо у нее было хоть и улыбающееся, но в то же время какое-то грустное. А тут она еще таким же грустным голосом сказала: — Садитесь, господин Заруба. Будем кушать. Иван прошел и сел к столу. Теперь они сидели очень близко один от другого, всего через маленький стол, и их было всего двое… Да, и еще, вдруг увидел Иван, на столе, слева от него, был заготовлен третий куверт. Царица заметила, куда смотрит Иван, но ничего не сказала, а только улыбнулась. Иван осторожно откашлялся. Царица еще раз улыбнулась и сказала: — Сейчас подадут. После чего почти что сразу растворилась боковая дверь, к ним вошла важная дама с подносом и подала им по тарелке щей. Щи были самые обыкновенные, солдатские, Иван даже поднял брови. Царица посмотрела на Ивана и сказала: — Я очень люблю щи. А вы разве не любите? — Люблю! — сказал Иван и сразу взял ложку и принялся есть. Щи были хорошие, на густом мясном бульоне, замечательные щи, просто царские, думал Иван, чтобы хоть как-то себя успокоить. Царица перестала есть, сказала: — Почему-то всем кажется, будто мы живем совсем иначе, чем все остальные. Но ничего подобного. Помню, как покойная государыня выговаривала мне, что я слишком много транжирю. Как будто мне было что транжирить! Царица покачала головой, после опять взяла ложку и принялась есть. После опять заговорила — и это уже почти сердито: — Ну да ничего! Мне это было просто. Мне было не привыкать. Остроносая дурнушка из нищего немецкого княжества, вот кто я была такая, и я этого никогда не забывала. Да мне и не давали забывать. Другое дело Питер. Ну, конечно! У него же было два престола на выбор: русский и шведский. Он выбрал шведский. Но его крепко взяли за руку и привезли сюда. А он плакал, он хотел обратно. А его тогда на горох, на колени! И Брюмер еще бил его! Брюмер — это его гувернер, ужасный человек, чудовище, каких… Но тут она спохватилась и замолчала. После уже почти спокойным голосом сказала: — О, простите. Я в последнее время стала совсем невыносимая, я знаю. А тут еще так жалко Питера. Это же… Но она опять замолчала, опять изменилась в лице, а потом решительно сказала: — Глупости! Не обращайте внимания. Для женщины это иногда так естественно. — И тут же спросила: — Вы женаты? — Нет, — сказал Иван. — А почему? — Э… — только и сказал Иван. — Но у вас, надеюсь, уже есть избранница? Иван кивнул. — А кто она? Иван опять кивнул. Царица засмеялась, после оборотилась к боковой двери и позвала: — Василий! Там почти сразу показался Шкурин. — Василий, — сказала царица, — подай-ка нам… — Но тут она полуобернулась к Ивану и спросила: — Надеюсь, вы водку не пьете? — Нет, — был вынужден сказать Иван. Царица одобрительно кивнула, опять обернулась к Шкурину, немного помолчала, а потом сказала: — А впрочем, на твое усмотрение, Василий. Шкурин важно кивнул и ушел. Царица сказала Ивану: — А еще сейчас будет горячее. Вам утром каша понравилась? — Да. — А сейчас будет еще вкусней. С шафраном! Вы шафран любите? — Да. — Прекрасно! — сказала царица. — А вот когда я была маленькой, и когда я еще жила в Штеттине, я почти не знала, что такое шафран. А зато здесь, когда о таких пустяках, как шафран, уже можно было не беспокоиться… Мне стали выговаривать за то, что я жгу слишком много свечей. И что это очень пагубно! Потому что это еще нужно проверить, говорили они, что я там такое читаю и какая будет от этого польза, а вот если я начну подслеповато щуриться, то это будет на потеху всей Европе! И мне еще раз урезали деньги. Так что я их после не имела до той самой поры, пока не родился Павлуша. Тогда, — и тут царица как-то странно скривила губы, — тогда тетушка государыня велела выдать мне за Павлушу сто тысяч рублей. Вы представляете? Сто тысяч! Мне! Единовременно! Я была богата, как Крез! Вы знаете, кто такой Крез? — Нет, — сказал Иван. — Ничего страшного, — быстро сказала царица. И так же быстро продолжала: — Так вот: мне за Павлушу сто тысяч. Это же какая будет гора денег, думала я. Что мне с ней делать, я просто не знала. Я даже просто не могла себе представить, сколько это занимает места и где я буду их держать… Но мне не пришлось заботиться об этом. Потому что уже на следующий день ко мне пришел господин Бестужев, наш тогдашний канцлер, и попросил у меня в долг, для казны… Сколько, вы думаете? Правильно, ровно сто тысяч! И я опять стала той, кем я была до того и кто я есть до сей поры… А вот зато вино! Это Василий нас угощает! С этими словами царица опять повернулась к двери и указала на Шкурина, который входил к ним с подносом. На подносе было три бутылки. Шкурин составил их на тумбочку возле стены, после открыл одну из них — и открыл очень ловко, отметил Иван, — и только уже после подошел и налил Ивану и царице по бокалу. Бокалы были, конечно, богемские, хрустальные, у Ивана был один такой похожий, он его в карты в Кенигсберге выиграл. Но это было давно… — Что с вами? — спросила царица. — Нет, ничего! — сказал Иван, сразу опомнившись. — Тогда говорите, — сказала царица и взялась за свой бокал. Иван взял свой и встал. «Ат, — думал он, с опаской глядя на царицу, — как бы не брякнуть чего лишнего!» И сказал так: — За вас, ваше величество. Ваш верный раб! — И он еще хотел сказать: «Целую ручки», — но сдержался, а просто запрокинул голову и выпил все в один дых. А царица отпила совсем немного и отставила бокал. Иван сел и засмущался. Тогда царица опять взялась за бокал, еще немного отпила, улыбнулась и сказала: — Чудесное вино. Вы не находите? — Нахожу, — сказал Иван. — Славный букет. Искрится. Это трехлетнее венгерское, похоже. Царица посмотрела на Ивана, помолчала, потом сказала: — Да, трехлетнее. А вы откуда знаете? — Так ведь же у него вкус трехлетнего, — сказал Иван. — И потом: какое тогда было лето? Нежаркое. Вот поэтому и вкус такой. Царица еще внимательнее посмотрела на Ивана и покачала головой. Иван засмущался, сказал: — Я тут, ваше величество, почти совсем ни при чем. Это у меня просто наследственное. Это у меня был такой дядя, дядя Федор, или Тодар, как он себя называл. Так вот этот дядя Тодар, он даже мог не пить, а только нюхал и смотрел на цвет, а после говорил, что это за вино, какого года и какого места. Вот это был умелец, ваше величество. Все удивлялись! — А что с ним потом случилось? — спросила царица. Иван немного помолчал, после сказал: — Умер от ран, ваше величество. В Литве. — А за кого он стоял? — А он, ваше величество, — сказал Иван… И замолчал. А потом сказал так: — А мы, ваше величество, оттого и не разбогатели, что последние триста лет стоим только за самих себя. — И много вас таких? — После дяди один я остался. — И не женат? — И не женат, ваше величество. Но уже еду к невесте. И я ей даже перстенек уже купил. И все сговорено. — А далеко она? — Пока что очень. А так как будто в Петербурге, на Литейной. — Так это два часа езды! — А откуда их взять, эти два? — А! — сказала царица. И посмотрела на третий куверт. А потом опять посмотрела на Ивана, глаза у нее стали грустные-прегрустные, и она тихо продолжила: — Я вас понимаю. Вы же присягали. И я же не могу, нет, даже просто не смею ничего подобного требовать. Вы понимаете, о чем я говорю? Иван молчал. Ему было очень неловко, но он ничего не отвечал и при этом еще не отводил глаз. И царица тоже не отводила. А глаза у нее были карие и в то же время как будто голубые, вот как это удивительно, думал Иван, просто голова кружится. И дальше уже вот что: а что, если вот прямо сейчас приедет царь, сядет к третьему куверту, нальет себе полный стаканище водки, закурит трубку и скажет: господин ротмистр, взять ее — и в Шлиссельбург, немедленно, галопом! Потом опять: взять, я кому сказал, ты что, оглох? И еще подумалось: вот что такое быть рядом с царем — это тебе не в кольбергских траншеях, там же только пригнулся — и пуля пролетела мимо, а тут куда пригнуться? Некуда!.. И тут царица позвала: — Василий! Опять пришел Шкурин. И опять налил и вышел. Царица взялась за бокал и сказала: — Сидите. Не надо вставать. Иван взялся за бокал и только открыл рот… как царица поспешно сказала: — И это тоже не надо. Потому что теперь я скажу. — После подняла бокал, кивнула, Иван свой тоже поднял, и только тогда уже царица сказала вот что: — Я давно очень хотела выпить за тех, кого мы не видим на торжественных парадах, хотя прекрасно понимаем, что именно они и есть истинные защитники трона и державы. За вас, господин ротмистр, и за ваших боевых товарищей там, в Пруссии, Мекленбурге и Померании! И тут она еще совсем немного двинула вперед рукой — и их бокалы встретились и зазвенели. Иван от этого так сильно растерялся, что уже совсем не знал, что делать. — Пейте же! Чего вы ждете! — сказала царица. — Ведь я же пью! — И она выпила почти что полбокала. Тогда и Иван тоже выпил. Ему стало жарко, он взялся за кашу. А царица ничего не ела. Ну да это и неудивительно, думал Иван, разве такая каша для нее. Он же, думал Иван дальше, тоже кое-что видел в этой жизни, да вот хотя бы в Кенигсберге в ресторациях, или даже если опять вспомнить дядю, так ведь надо сказать, что он знал толк не только в том, что пьют, но и чем закусывают… И тут же Иван подумал еще вот что: чтобы только царица его больше про дядю не расспрашивала! И про Анюту тоже. И вообще, думал Иван, поглядывая на Шкурина, который опять наливал по бокалам, лучше бы скорее кончался этот обед, приезжали бы драгуны, его бы сменяли — и он бы ехал на Литейную, а там посылал бы за Базылем… Но дальше Иван додумать не успел, потому что царица спросила, доволен ли он своей новой службой. Иван очень хотел хмыкнуть, но не хмыкнул, а просто сказал, что служба есть служба, она нам дана не в радость и не в горе, а просто она такая есть — и это все. Нет, так не бывает, сказала царица, просто вы не желаете быть со мной откровенным. Ваше величество, начал Иван. Нет, еще раз сказала царица, не спорьте. Да и разве я на вас за это обижаюсь? Вам, как я понимаю, дан такой приказ, и вы не смеете его нарушать, и это очень похвально. Иван молчал. Царица улыбнулась и сказала: — А впрочем, тут я сама виновата. Я должна была подумать об этом заранее, а не ставить вас в неловкое положение. Ну да не бывает таких положений, которые нельзя исправить. Кстати, Василий нам опять налил. За что мы теперь выпьем? Иван молчал. Он опять думал, как бы чего не брякнуть. Царица подняла бокал, сказала: — Вот так всегда! Почему это мы, слабые создания, должны брать на себя все мало-мальски ответственные решения? Питер такой же, как и вы. Совершенно такой же. Или вы такой же, как и Питер? — Э, — только и сказал Иван. Царица рассмеялась. После еще выше подняла бокал, сказала: — За ваше счастье, господин Заруба. То есть, иначе говоря, за ту, которая вас ждет. До дна! И они чокнулись и выпили. Царица опять выпила чуть-чуть, а Иван, боясь ее обидеть, выпил все. Царица кликнула Василия и приказала подать фрукты. Иван опять взялся за кашу, хотя она ему уже давно в горло не лезла. А тут еще царица вдруг спросила: — Как ее зовут? Иван отложил ложку, помолчал, потом тихо сказал: — Анюта. — А кто ее отец? — Майор Калашников. Данила Климентьич, артиллерист. И он тоже здесь, в Петербурге. На Иллюминационном дворе. — А! — сказала царица. — Вот как. — Да, да! — быстро сказал Иван, как будто это было очень важно. — Покойный граф Петр Иванович Шувалов его очень ценил. — О! — сказала царица. — Похвально. — И еще как! — сказал Иван. — Еще бы! Ведь это же из-за того, что это он, Данила Климентьич, вкупе со своим товарищем, с Мартыновым, шестифунтовую мортиру рассчитали. С конусной камерой, и от этого стрельба намного дальше производится. И с большей точностью! Петр Иванович им тогда каждому по табакерке со своим портретом выдал, портрет в каменьях, да и табакерки тоже были не пустые, вы же понимаете. И я эти мортиры потом в деле видел, это уже в Померании. И приезжал сюда, рассказывал, Данила Климентьич был очень доволен. — А! — улыбаясь, сказала царица. — Вот оно что! Теперь я начинаю думать, что вы свою курьерскую службу должны были очень любить. Вы же нет-нет да и приезжали на Литейную. Не так ли? — Так, — просто сказал Иван. — Какая счастливая ваша Анюта, — сказала царица. После немного помолчала и сказала: — Когда у меня будет такая возможность… Нет, как только у меня появится такая возможность, я сразу же сделаю вашей Анюте подарок. Э… Как это в поговорках говорится? Царский? — Да, — сказал Иван. — Вот, значит, царский. Царский подарок! — сказала царица. — А пока что, к сожалению, увы, — сказала она уже тихо. И даже как будто виноватым голосом… И заморгала, и поспешно улыбнулась, но тотчас же повернулась к двери, окликнула Василия, взяла веер, и еще раз улыбнулась, и начала обмахиваться веером, и совершенно ровным голосом заговорила: — Все это пустяки, господин ротмистр. Не обращайте внимания. Лучше развеселите меня чем-нибудь. Ведь же, я думаю, вам есть, что рассказать. Люди военные, как я слышала, часто попадают во всякие забавные… Но тут она замолчала. Теперь она только быстро-быстро обмахивалась веером и продолжала смотреть на Ивана. А в глазах у нее были слезы! Царица тихо, нет, даже совершенно неслышно плакала. То есть даже не плакала, а просто у нее по щекам текли две слезинки. Ивану стало ее очень жалко, хоть ты вставай из-за стола и падай перед ней на колени и спрашивай, чем ей можно помочь, чем услужить. Так что это еще совершенно неизвестно, что там тогда могло быть дальше… Но тут к ним вошел Шкурин с подносом. Теперь он, надо полагать, нес фрукты. Только таких фруктов Иван еще ни разу в жизни не видел. Это были три — опять же три! — здоровенные шишки, каждая с человеческую голову, там, где шея, — там торчали листья, и были эти шишки будто бы наполовину спелые, потому что в них было еще много зеленого. «Диво какое, — подумал Иван, — это уже не каша». А царица перехватила его удивленный взгляд, перестала обмахиваться веером, благосклонно улыбнулась и сказала: — Это ананасы, африканский фрукт. Это меня граф Петр Шереметев ими балует. И он их не из Африки привозит, а они у него здесь в оранжерее растут. Оранжерея — это летний сад под крышей. Пока царица это говорила, Шкурин поставил поднос с ананасами на ту же тумбочку (или комод, как правильно?) с бутылками и начал резать их ножом, опять же очень ловко. И очень ароматный дух пошел от этих ананасов! Ананасы, мысленно повторил это слово Иван, после еще раз повторил и вспомнил, что дядя про них рассказывал: это когда он ездил в Вильно на последний сейм, и они там перед тем, как наутро рубиться с Чарторыйскими, вечером пировали у Радзивилла, Радзивилл потчевал их ананасами — и они их саблями рубили, готовились. А у царицы было честь по чести — Шкурин разложил дольки по блюду и подал это к столу. Угощайтесь, сказала царица, это очень сладкий фрукт, почти как земляника. Иван взял дольку и попробовал, после сказал, что очень вкусно. Ну еще бы, сказала царица, граф в этом толк знает. После чего сразу добавила: и чего ему не знать, когда у него денег больше, чем в казне. А скоро будет еще больше, то есть в казне меньше, потому что мы же не знаем удержу и из одной войны сразу вступаем во вторую — и скоро станем так бедны, как церковные крысы. Ну да бедность — это не беда, тут же добавила царица, нам к бедности не привыкать: когда я была маленькой и жила в Штеттине, где мой отец служил комендантом… И она принялась рассказывать о своем детстве, то есть о том, сколько у нее было тогда платьев, и что у них обычно подавали на обед, и как она играла во дворе замка с детьми из соседних домов, и как мать постоянно ругала ее за то, что у нее ужасная осанка, так как она слишком задирает нос, и мать ей говорила: прекрати, держи голову прямо, а еще лучше — если будешь смотреть в землю, люди не любят зазнаек, запомни… И тут же, перебивая себя, царица раз за разом напоминала Ивану, чтобы он не забывал про ананасы и про венгерское тоже… И опять вспоминала о детстве, потом о своей матери, какой у нее был ужасный характер, как она донимала свою дочь, и как она потом приехала сюда, в Россию, и в первую же зиму перессорилась со всеми, и очень скоро, сразу после свадьбы, то есть только выдав ее замуж, ей пришлось возвращаться обратно в Германию, в Цербст. Но характер — он везде характер, и вскоре матушка перессорилась со всеми уже там, у себя дома. А тут еще эта война, матушка и здесь не смогла промолчать, и Фридрих очень разозлился на нее… Наливайте, господин ротмистр, чего вы, а мне уже нельзя, у меня уже и так голова кружится… Так вот, Фридрих разгневался — и она была вынуждена бежать из своего родного дома в Париж, где никто, даже король, такой галантный на словах, и не подумал протянуть ей руку помощи — и она умерла в нищете, а долги после нее остались такие огромные, что только покойная тетушка-императрица, и та с очень большим трудом смогла… Но, к сожалению, и это тоже далеко не все, потому что Фридрих, ослепленный своей бешеной злобой, — да и вы как человек военный, к тому же бывший там, это прекрасно знаете — он вторгся в Цербст, и мой брат, спасая свою жизнь, укрылся в Гамбурге, брат и сейчас еще в Гамбурге, пишет оттуда письма… А Цербст стоит разграбленный, Фридрих же не оставил там камня на камне. За что? Да только за то, что я на протяжении всех этих последних семи лет не уставая повторяла Питеру, что союз с Пруссией — это ловушка, что Фридриху ни в коем случае верить нельзя, что интересы России… Но тут царица вдруг резко замолчала и начала быстро моргать, после очень тихим голосом попросила прощения — и приложила платочек к глазам. После взяладольку ананаса — в первый раз, — откусила маленький кусочек, замерла на мгновение… а после улыбнулась и сказала: — Замечательно! Но это были только слова, потому что Иван прекрасно видел, что на глазах у нее опять выступили слезы. Поэтому он сразу встал и начал извиняться, ссылаться на службу и просить разрешения откланяться. Царица не сразу ему это позволила. А когда все же позволила и Иван уже пошел к двери, она его еще раз остановила и сказала, что ей очень неудобно в этом признаваться, но она не может пригласить его на ужин, так как она никогда не ужинает. Но — и тут царица улыбнулась — если господин ротмистр не против, то она приглашает его, то есть он об этом будет после отдельно извещен, вечером на партию в кампи. В кампи играете? Играю, смущаясь, ответил Иван. Вот и чудесно, сказала царица, тогда вас позовут, а пока что я вас не держу. И Иван, откланявшись, ушел, а царица осталась сидеть за столом, где третий куверт так и остался нетронутым. Иван шел и думал, что вот как иногда странно бывает: их там было только двое, а ему тем не менее все время казалось, что там есть еще кто-то третий — невидимый.ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ Опять майор
Иван вернулся в кордегардию, сел за стол, подпер щеку рукой и долго так сидел. А Колупаев стоял напротив — и стоял на просто, а во фрунт — и ждал дальнейших указаний. А Иван о них молчал. Нехорошо у него было на душе после этого царского обеда! А тут еще, думал он сердито, ему вечером идти играть в кампи, а он не умеет. То есть он, конечно, представляет, что это такое, и какие карты когда надо сбрасывать, и какие надо держать фишки, но у них всегда играли только в редут, редут — это толковая игра, а кампи — это сплошное баловство. А вот теперь играй! Если только, главное, будет игра. И вот это Ивана больше всего тревожило. А сказать об этом было некому. Тогда Иван перестал думать и спросил у Колупаева, все ли у них здесь в порядке. Колупаев сказал, что так точно. И, сказал он еще, никого здесь постороннего не было, это даже просто удивительно, потому что обязательно кто-нибудь откуда-нибудь да приезжает или хотя бы приходит из Большого дворца. А тут за весь день никого! Сказав эти слова, Колупаев даже развел руками, чтобы еще яснее показать, что никого здесь нет. Ладно, сказал Иван, пусто — это тоже хорошо, после встал и сказал, что если его вдруг будут искать, то он пошел по постам. Так он тогда и сделал — пошел и лично всех проверил. Везде был порядок. Тогда Иван пошел дальше по парку и так дошел до пруда, после повернул к Большому дворцу, после к служебным постройкам, но так нигде никого и не встретил. Как будто они здесь все вымерли, сердито подумал Иван. Или попрятались, подумал он уже совсем иначе, то есть уже без злости, но с опаской. А после развернулся и пошел обратно, прошел мимо своего дворца, то есть того, который был ему поручен, то есть где содержалась царица, и дальше вышел к морю на ту, ему уже знакомую, террасу. Там он опять облокотился на балюстраду и опять принялся смотреть на едва различимую вдалеке Петропавловскую крепость. Сначала он просто смотрел и ни о чем не думал. А после стали появляться вот какие мысли: дело тут яснее ясного, царь очень спешит, он хочет быстрее ехать в Померанию, он даже не будет дожидаться коронации, а уже на следующей неделе собирается. Уже Кронштадтская эскадра, говорят, готова. Подумав так, Иван повернул голову и посмотрел на Кронштадт. Кронштадт был виден хорошо. Одни говорят, вспомнил Иван, что царь поедет морем вместе с гвардией, а другие — что нет, что гвардия пойдет посуху, а царь приедет первым. Но те и другие смеются и говорят, что это неважно, а важно то, что хватит им здесь за бабьими юбками прятаться, а вот пускай теперь узнают, что такое есть война и все такое прочее. Подумав так, Иван не удержался и радостно хмыкнул. Потому что не любил он гвардию! И потому что никогда любить не будет! Но, тут же подумал он, это все равно еще будет нескоро. Даже пусть, если уже завтра. Потому что для него важней всего сегодня. А тут ему еще до сих пор ничего не понятно, зачем его сюда прислали и что он здесь должен делать! Обещали эскадрон — но эскадрона не дали. Обещали, что приедет царь, — и царь не приехал. А ведь царь сам же говорил, что уже, может, завтра отбывает к армии! И тогда что должно быть? А должно быть, подумал Иван, вот что: он ее на воле не оставит! Он тогда пришлет сюда Унгерна, и Унгерн отвезет ее отсюда в Шлиссельбург, и запрут ее там, в той недостроенной хоромине, о которой рассказывал Семен. А она разве этого не понимает? Понимает, и еще как! Что, он ее слез не видел? Но что она одна может сделать, когда у царя есть все, а у нее нет ничего! Подумав так, Иван даже вздохнул. Но тут же подумал вот что: нет, не может быть такого, чтобы ничего и никого у нее не было. Да вот хотя бы вспомнить те слова про того младенца Алешеньку, про которого никто не знает, кто его отец. А ведь этот отец есть! И ведь спрятал же кто-то этого Алешеньку, и спрятал так надежно, что его теперь никак найти не могут. Так почему бы так теперь и царицу не спрятать? А прятать надо немедленно, пока царь сюда не приехал. И если это он, Иван, так думает, то разве они об этом не подумали? Подумали, конечно, и давно! И уже все приготовили! И так как время уже на исходе, то, может, они уже где-то близко. Подумав так, Иван не удержался и оглянулся, осмотрелся и прислушался. Но все вокруг было, конечно, тихо. И это понятно, подумал Иван, сейчас же время для этого далеко не самое удобное, они будут ждать ночи. И даже, скорее, утра, часов пяти, когда самый сон. А он и так прошлой ночью не спал, тут же вспомнил Иван, и тогда каким он будет утром? Никаким! А надо приготовиться. Потому что он кому присягал? Не ей же, а ему! И с такой мыслью Иван развернулся и пошел обратно в кордегардию. В кордегардии он сел в дальнем углу, в том, где самое темно, снял шляпу, расстегнул ворот, передвинул шпагу, чтобы не мешала, и строго сказал Колупаеву, чтобы если вдруг что, его сразу будили. Колупаев ответил: так точно. Тогда Иван прислонился к стене, зажмурился и приказал себе вставать, как только придет смена караула. И заснул. Сон был старый, Иван его часто видел. Это ему снилось, как он в первый раз приехал в Великие Лапы. Его тогда Базыль привез из Петербурга, из корпуса, на все лето, на вакации, и дядя Тодар его встретил. Пир тогда был очень знатный, шуму и веселья было много, а после дядя Тодар встал и начал рассказывать о том, как он вместе с королем Станиславом бежал из Данцига. О, это была его любимая история. Еще бы! Ведь тогда фельдмаршал Миних, а это он командовал осадой, за королевскую голову посулил десять тысяч червонцев, а они с ним взяли и сбежали! Дядя тогда сидел с мушкетом, а Станислав на веслах, они плыли вниз по Висле, а Миних бомбил город, и от этих бомб все небо было красное, а грохотало так… А дальше дядя Тодар в тот раз рассказать не успел, потому что вдруг раскрылась дверь, вбежал Базыль и закричал, что Хвацкий наехал, что уже запалили дворы и надо спешно отбиваться! Дядя Тодар, а за ним все его гости, сразу стали хвататься за сабли и выбегать из-за стола. За окном уже послышалась стрельба. Дядя Тодар закричал, что он их сейчас всех передушит как собак, и уже было кинулся в дверь… Но после вдруг опомнился и отступил в сторону, чтобы другим не мешать, и закричал: Янка, ховайся вон туда, а то тебя еще зацепят; Базыль, ответишь головой за паныча! И только после побежал за остальными. А Базыль кинулся к Ивану и схватил его в охапку, а Иван стал отбиваться и вскочил… Иван вскочил и осмотрелся. Он был в кордегардии, в углу, а перед ним стоял Колупаев. Колупаев отдал ему честь. Иван спросил, случилось ли чего. Никак нет, ответил Колупаев, все спокойно. И у царицы тоже. А приходил ли кто оттуда, спросил Иван. Приходил, ответил Колупаев. Кто приходил, спросил Иван. Гардеробмейстер Шкурин, сказал Колупаев, но он ничего не сказал, а только посмотрел на вас, ваше благородие, на спящего, и вышел. Я сразу за ним и говорю, чего тебе, а он: мне ничего, мне только было велено спросить, не нужно ли ему чего, а если спит, то, значит, ничего не нужно. И он, ваше благородие, ушел. А вы еще с полчаса почивали. А после вдруг заругались и вскочили. Сказав все это, Колупаев замолчал. А у Ивана сна уже ни в одном глазу не было. Он уже ясно понимал: все это неспроста, ночь будет очень неспокойная! И еще: а что он может? Ничего! У дяди Тодара были паны, а у него кто? Колупаев? Подумав так, Иван крепко поморщился, застегнул ворот и поправил шпагу, надел шляпу и вышел во двор. Во дворе было тихо и пусто. И было уже довольно поздно, просто по-летнему еще достаточно светло. Иван пошел ко дворцу. Там на крыльце стоял уже другой солдат, Васильев, — значит, с досадой подумал Иван, он проспал смену. Ну да чего в жизни не случается, лишь бы только какую беду не проспать, пытаясь успокоить себя, думал Иван дальше, вступая в Парадную залу. В Парадной зале было пусто, и ни одна свеча не горела, и двери все были закрыты, даже двери в галереи. То есть они, конечно, были не закрыты, а просто прикрыты, подумал Иван, любую из них толкни — и она откроется, и это в его праве, он же здесь комендант, а все, кто здесь есть, это его поднадзорные, даже царица… Но все равно он делать этого не стал, то есть не тронул двери, а только немного постоял, после даже походил из угла в угол и очень сердито подумал, что жаль, что здесь не паркет, паркет бы расскрипелся — и Шкурин сразу вышел бы, а он бы от него потребовал отчет, что здесь да как… А так пол не скрипел, Шкурин к нему не выходил, и Иван вскоре остановился, еще немного подождал, а после вышел из дворца и пошел по постам. Посты были в полном порядке, просто даже брала злость. А особенно она его взяла, когда он пришел на главный пост, то есть под царицыно окно, где теперь стоял Маслюк. Маслюк отдал честь и доложил, что у него все в порядке. Докладывал Маслюк вполголоса, с оглядкой. Иван тоже посмотрел на то окно. Оно было задернуто гардиной, но если присмотреться, то было заметно, что там внутри горит свеча. Иван вопросительно посмотрел на Маслюка. Маслюк — и это уже совсем шепотом — сказал: — Это они книжку читают, ваше благородие. Это они так всегда. И каждый день новую! Иван спросил: — А ты откуда это знаешь? — Так ей их из города возят и возят. — Кто? Маслюк подумал и уклончиво сказал: — Ну, когда кто. Иван больше ни о чем его не спрашивал, а только еще раз посмотрел на окно, опять ничего там не увидел, отвернулся и пошел дальше. Теперь он шел просто по парку и думал, что они здесь все как будто сговорились — Колупаев, Шкурин и солдаты, все они здесь за нее, а его просто водят за нос. И это еще хорошо! А вот когда приедет тот, кого они все ждут, — а то, что ждут, так это сразу чуется, — тогда они себя покажут! И сразу всем скопом на него накинутся, если решатся, а не решатся, так просто накинут удавку — и даже пикнуть не успеешь. Или возьмут как языка… Только какой с него язык, думал Иван, сворачивая дальше, он же ничего не знает! А еще, думал Иван, чего это он такое выдумывает? Что это за разговорчики такие и откуда у него такое паникерское настроение? От безделья, от чего же еще! А вот сейчас прискачет эскадрон, и сразу все переменится, потому что бездельничать будет некогда. Он тогда сразу сдаст команду и прямым ходом в город. А там уже ночь… Ну так она же летом какая короткая, такую он в любом трактире пересидит! А утром сразу в канцелярию и подаст прошение: так, мол, и так, в силу вдруг сложившихся обстоятельств прошу отставить меня срочно. Они, конечно, сразу начнут говорить, мол-де, ты, ротмистр, что, наших порядков не знаешь? А он им тогда прямо: знаю, и еще как, но я же не к вам обращаюсь, а на высочайшее имя, и если вы сами не можете, то дозвольте только ему намекнуть — и мое дело сразу сладится! И так оно и будет, ибо царь же говорил, что любая моя просьба сразу исполняется. А тут даже не просьба, а личное право, дарованное им же высочайшим манифестом от восемнадцатого февраля о вольности дворянской от всякой военной и гражданской службы… Нет, Иван им такого, конечно, не скажет, а просто лично явится, Семен ему в этом поможет и вручит лично в руки, царь засмеется и скажет: а я так и думал, что ты будешь об этом просить, потому что мундир у тебя был не по форме, болтался балахоном, и Дружок это сразу учуял, благодари его, господин ротмистр, это он за тебя ходатайствовал — и засмеется, и подпишет! И они с Семеном сразу к лучшему портному, там в два часа управятся, переоденутся в вольное, статское, после в наемный экипаж — и на Литейную, и там Даниле Климентьевичу и Марье Прокофьевне в ноги, а Анюте перстенек — и дело сразу сладится! И где венчаться? Там же, где еще! И… О! Тут Иван даже остановился и даже головой покрутил. Потому что а царица что? Она тоже у царя спросит: а где тот ротмистр, куда он подевался? А царь ей ответит: а ты, Катрин, не знаешь, что ли? Он же на своей Анюте женится! И тогда царица им: я обещала, и я помню, господин Заруба, что как только у меня появится такая возможность, а она теперь появилась, вот я и готова сделать вашей невесте царский подарок, говорите, какой. Да никакой, мы ей скажем, нам подарок не нужен, ваше императорское величество, у нас все есть, ну разве только если такая мелочь для вас, как Виленский трибунал. И это все совершенно законно, вы не сомневайтесь, ваше величество. Даже ваш обер-гофмейстер Панин, такой бывалый, тонкий дипломат, и тот нам говорил, что это очень просто можно посодействовать, там же живые люди заседают, и у них у всех разные трудности… Ну и так далее. Царица рассмеется, скажет: воля ваша. И тут же сядет и напишет письмо кому надо. И уже, может, даже в августе, а в сентябре — это даже без всякого сомнения, они с Анютой соберутся и поедут. А Базыль поедет первым, чтобы там все приготовить к приезду молодых. И чтобы Хвацкий знал, собака, кто туда едет, и чья теперь сила, и чья сабля острей! «Ат, я ему», — думал Иван… Но вдруг встрепенулся и прислушался, услышал стук копыт — копыта были хорошо подкованы — и повернулся на звук. А после пошел ему наперерез, быстро пошел, а потом побежал… И когда выбежал на ту аллею, то сразу кинулся к ближайшей лошади и сразу ухватился за поводья! — А! — крикнул верховой. — А ты не спишь! — и засмеялся. Иван поднял голову на верхового и увидел, что это Семен. Семен смотрел на него весело и в то же время как-то очень настороженно. И еще: одну руку он держал на сабле, а во второй держал поводья второй лошади. Зачем она ему, удивился Иван, неужели такие дела начались?! — Что, — спросил Семен, — не ждал? — Нет, — сказал Иван. Потом спросил: — А зачем тебе вторая лошадь? — Это не моя, — сказал Семен. — Это твоя. Это я для тебя ее припас. — Но я здесь при исполнении! — сказал Иван. Семен молчал. Тогда Иван спросил: — А что случилось? — Так, ничего, — сказал Семен. — Офицера одного арестовали, вот и все. — Где? — У преображенцев. Капитан один такой! — Это Семен сказал уже очень сердитым голосом. — Замышлял на государя, вот что! И с ним еще один. Но этого пока еще не взяли. А как здесь у вас? — У нас, слава Богу, тихо, — ответил Иван. — Слава Богу или так тебе только кажется? — строго спросил Семен. Ивана взяла злость, и он сказал: — Не могу знать, ваше высокоблагородие. Может, чего и недосмотрел. Так вы уже гляньте сами. — Э! — весело сказал Семен. — Какой же ты горячий! Ну да посмотреть и в самом деле никогда лишним не будет. Тут он соскочил с седла и один повод передал Ивану, а второй оставил у себя, осмотрелся и спросил: — До дворца еще достаточно? — Шагов с пятьсот, — сказал Иван. — Значит, достаточно, — сказал Семен. — А караул там стоит? — Стоит. — Надежный? — С большего. — Да, — только и сказал Семен, еще раз осмотрелся и прислушался, а место там было достаточно обзорное, деревья стояли негусто… и поэтому Семен заговорил — но, конечно, тихим голосом: — Так вот, Иван, еще раз говорю, в Преображенском полку капитан арестован. Капитан Пассек. По очень серьезному делу. И мы ведем срочный розыск. Ты здесь с прошлой ночи? — Так точно. — Кто к ней… — Но тут Семен сбился, утер усы и повторил: — Кто к государыне за прошлый день являлся? Всех называй! — Да никого и не было, — сказал Иван. — Только один этот обер-гофмейстер, генерал-поручика Панина брат. — Никита Иванович? — Он самый. — Зачем? — Как зачем! Царевич захворал, вот он и приехал, я допустил его, а как не допустить, он был у государыни, а после вышел и уехал. — Так! — громко сказал Семен. После еще раз сказал: — Так! — А потом сердито сказал: — Мало! Что еще можешь добавить? Как он приехал? Что говорил? Долго ли он был у нее, то бишь у государыни? Как вышел? Или, может, тебя еще что-нибудь другое удивило? Может, что необычное, а? Иван задумался. Потом сказал: — Рецепт с ним был. Я еще подумал: как она ему не доверяет! — Рецепт? — переспросил Семен. — Какой еще рецепт? Тогда Иван подробно рассказал ему, какая была бумага с Никитой Ивановичем, когда он выходил от царицы, и что там, в низу той бумаги, была ее подпись, а сверху какие-то пункты. — А! — только и сказал Семен. Да еще усы у него очень хищно задергались. После он еще раз сказал: — А! — После: — Очень хорошо! Будет тебе графское достоинство, Иван. А мне фельдмаршал! Пойдем! И он пошел по аллее вперед, а Иван следом за ним. Иван шел и невесело думал, что он, наверное, зря проболтался, ведь же никто его за язык не тянул. И в самом деле, думал он дальше, какое ему дело до того рецепта, а вот теперь он, похоже, крепко влип. Потому что, как дядя Тодар всегда говорил, нельзя к этому и близко подходить, сторонись ты их, всех этих особ, как только можешь, и тогда будешь жить долго, весело и счастливо, а нет — они тебе весь чуб налысо выдерут! И Иван обещал дяде, что он так и будет поступать. А на деле вышло что? А то, что он теперь взял и сказал царю против царицы. И что ему теперь за это будет? Графское достоинство? Ага! И тут Иван вдруг даже засмеялся… Но тут же замолчал, потому что они были уже возле самого крыльца, на котором стоял солдат Васильев. Васильев отдал честь. Иван спросил, все ли в порядке. Васильев сказал, что в порядке. Где государыня, спросил Семен. Васильев испугался и молчал. Где, еще раз спросил Семен уже совсем грозным голосом. Васильев указал глазами себе за спину. Тогда Семен велел Васильеву держать их лошадей, Васильев взял поводья, а Семен и Иван вместе с ним вошли во дворец. Там, в Парадной зале, опять не было никакого света, Семен посмотрел на Ивана, и Иван тихо сказал, что к государыне — это налево, а Шкурин направо. Семен пожал плечами и пошел налево. Там было три двери, Иван показал, в какую нужно, и Семен туда вошел — то есть сразу же стукнул и сразу вошел. И стало тихо. Иван стоял при пороге и думал, что дела совсем плохи, так что не зря у них в Померании говорили, что теперь дома ничего хорошего. И вот так оно и есть, а то даже и хуже! И как только Иван об этом подумал, из той двери вышел Семен. Семен был очень мрачен. Он ничего Ивану не сказал, а только махнул рукой — и они вышли во двор. Там Васильев держал лошадей. Семен взял повод своей лошади, а про Иванову сказал такое: чтобы Васильев отвел ее туда, где всегда стоит его, Семенова, и чтобы ей там дали напиться, она хочет пить, и чтобы непременно размундштучили и ослабили подпругу, но и чтобы не расседлывать, потому что мало ли что еще сегодня будет. После сказал: иди, иди, а я сам здесь покуда посмотрю! Васильев с лошадью ушел. Семен недобро покосился на дворец и сделал Ивану знак рукой, что им оттуда лучше отойти. Они отошли под деревья. Остановившись там, Семен еще раз — и опять очень недобро — покосился на дворец, потом тихо сказал: — Не допустили меня до царицы. Сказали, что спит. Обезьяна эта не допустила, Шарогородская, я ее знаю. И я уже подумал: она врет. Но тут из-за двери вдруг государынин голос, она спросила, что случилось. Я сказал, что ничего, что это просто государь обеспокоился, прислал узнать, не нужно ли чего. Она сказала, что не нужно. И сказала, что меня не держит! Последние слова Семен сказал очень сердито. Теперь они, то есть Иван с Семеном, молча стояли под деревом. Семен долго молчал. А потом, когда заговорил, то сказал вот что: — Жаль мне тебя, Иван. Ох, жаль! Ну да что я могу сделать? Только одно: я тебе пригнал лошадь. Верхом же всегда легче, правда? Иван молчал. — И это правильно, — сказал Семен. — Лучше молчать, Иван. И лучше во все это не встревать. Ну да у меня такая служба! А ты кто? А ты курьер из экспедиционного корпуса, ты здесь ни по каким бумагам не проходишь, понял? Так что если что, то действуй по обстоятельствам. Ясно? Иван опять молчал. Потом все же спросил: — А что, Никита Иванович разве в чем-нибудь подозревается? Семен посмотрел на Ивана, невесело хмыкнул, а после сказал: — А это уже с какой стороны посмотреть. С одной, может, и подозревается. А с другой — он, может, напротив, герой. Так что тут, Иван, чей будет верх, тот после и скажет, кто такой Никита Иванович и кто такой я. Или ты. Понял меня? — Понял, — сказал Иван. — Чего тут непонятного. А что будет дальше? — А дальше, — сказал Семен без особой охоты, — дальше должно быть вот что. Завтра будет большая служба в Казанском соборе. Будем выступать в поход. Государь будет. И государыня с ним. Будет, так сказать, их примирение при всех. И будет гвардия. Большое будет торжество, Иван, — это последнее Семен сказал уже совсем без всякой радости, а даже почти с насмешкой. И тут же очень зло прибавил: — Но это если мы успеем! А если не успеем, тогда чего нас, дураков, жалеть? Поэтому, Иван, — сказал Семен, уже садясь в седло, — я уезжаю. У меня срочные дела. А у тебя теперь есть лошадь. И ты не дурак. А твою лошадь зовут Белка. Завтра, надеюсь, свидимся. Прощай! Тут он пришпорил свою лошадь, гикнул — и поскакал по аллее. И скрылся. А Иван пошел обратно ко дворцу.ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ Карета подана
Васильев был уже на месте. Когда Иван подошел к нему, Васильев отдал честь и доложил, что лошадь в конюшне и она там под присмотром. Иван спросил, где конюшня, Васильев объяснил. Это, оказалось, было совсем близко, сразу за их флигелем. Иван кивнул и пошел дальше вдоль дворца, то есть опять по постам. Посты опять были в порядке. И опять в царицыном окне через гардину был виден слабый свет. Маслюк сказал, что это всегда так, что они долго читают. Иван пошел дальше. После четвертого, последнего поста Иван не стал возвращаться в кордегардию, а решил еще немного походить по парку. Парк был красивый и ухоженный, ночь была теплая и светлая. «Ат — в сердцах думал Иван, — живут же люди!» Поэтому, конечно, ничего в этом удивительного нет, что они здесь царя так невзлюбили. В Померании нам что, думал Иван, шагая дальше, в Померании нам даже лучше, что царь замирился с Фридрихом и объявил войну датчанам. Датчане — это не пруссаки. Румянцев руки потирает, говорит, что это будет не поход, а одно баловство, и все остальные так же говорят, и рады. Потому что одно баловство — это, значит, малые потери, это раз, и сразу новые чины — это два, награды и трофеи — это три. А что еще нужно на войне?! И это в нашем, померанском корпусе. А у Чернышева в Силезии что? И у Чернышева тоже славно! У них же раньше было как? Они вкупе с австрийцами бились против пруссаков. А теперь вкупе с пруссаками пойдут на австрийцев. Теперь им тоже будет легче, и поэтому у Чернышева теперь тоже все довольны. То есть, получается, вся армия за государя. А недоволен кто? А недовольна только одна гвардия, которая привыкла жировать и пьянствовать в столице, брюхатить баб и в карты резаться, пока другие кровью умываются. Поэтому прав государь, если только правду говорят, что он хочет их разогнать и раскассировать по полевым полкам — и всех к нам или к Чернышеву. Пусть теперь себя покажут, пусть прославятся! Подумав так, Иван аж рассмеялся, потому что он уже представил, как эти мордатые чистоплюи помесят грязь да переночуют под телегой, а утром им тревога и кричат: «Пруссаки! Зейдлиц! Стройся! Смыкайся!». «Ат, было времечко», — гневно подумал Иван, вспоминая, как он сам тогда подскакивал и как кричал на Мишку-денщика, а Мишка уже вел Бычка, эх, Бычок — славный конь, он его в позапрошлом году у калмыка сменял. Вспомнив Бычка, Иван вспомнил и Белку. Но, правда, чего там было ее вспоминать, когда он ее толком даже не рассмотрел. Да он и не хотел рассматривать, потому что он тогда сразу подумал, что если Семен пригнал ему лошадь, то, значит, дело совсем дрянь, значит, гвардейцы совсем рассупонились. Ну еще бы! Ведь же по Семеновым словам получается, что завтра будет торжество в Казанском соборе и там же, наверное, царь объявит выступление. И что, ему одному, что ли, ехать туда? А как его любимые преображенцы? Он же у них полковник! И вот он с ними и поедет, то есть взойдут на корабли — и прощай, прощай… А дальше как? Иван задумался, пытаясь вспомнить, как там дальше было в песне. Но не вспомнил, развернулся и пошел обратно. Потому что далеко зашел, подумал, а там без него мало ли что может случиться. Вот уже, думал Иван, какого-то капитана Пассека арестовали и еще кого-то ищут. Ну да господин Клушин долго искать не будет, вспомнил Иван Семенову присказку, господин Клушин… Тьфу, тьфу, сердито подумал он дальше, ни к чему этого Клушина в такое время вспоминать, Клушин к добру не вспоминается! Поэтому больше ни о чем таком особенном Иван не вспоминал и не думал, а просто вернулся в кордегардию, Колупаев сразу же проснулся, вскочил и доложил, что все в порядке. Иван прошел и сел на свое место, немного посидел, после велел, чтобы ему подали чаю как можно покрепче и погорячей. Колупаев послал Рябова. А еще, сказал было Иван… Это он хотел сказать, чтобы ему подали книгу, он будет читать… Но передумал — и велел подать ему бумагу, перо и чернил. Колупаев молча удивился. Не про тебя, сказал Иван, не бойся, а хочу своим письмо написать, потому что давно не писал. Колупаев сказал, что он быстро, и вышел. И тут уже вернулся Рябов, подал чай. Чай был такой горячий, что еще даже пузырился, и был он черный как вакса. К чаю были сухари. Иван пил чай и ни о чем не думал, а просто смотрел перед собой. Колупаев принес все, что нужно для письма, то есть даже песочку принес для присыпки. Иван отставил чай, придвинул к себе лист бумаги, взял перо, обмакнул его в чернильницу, после занес над листом… И задумался. А что писать? И кому? Когда он еще только собирался писать, то думал, что это будет письмо к Анюте. А теперь подумал: а зачем? Он же, может, завтра уже будет у нее. И не может, а наверняка! А вот если напишет и, не приведи Господь, запечатает, тогда и к бабке не ходи — завтра получит пулю! Эта же примета всем известна, он что, с ума сошел?! Иван быстро опустил перо и еще сильней задумался. Потому что если что-то начинаешь и бросаешь, то это тоже не к добру. Тогда, может, написать Базылю и утром послать кого-нибудь из Колупаевской команды, чтобы ему отнес, это же недалеко, это же в столице, здесь, с этого краю, на третьей Петергофской версте… Но опять подумал: нет! Потому что он как будто бы на смерть собрался — письма пишет. Когда он в последний раз письмо писал? Вот то-то же! Значит, письма не надо. Тем более что завтра все будет славно. Ведь завтра же в Казанском будет служба, а потом большой парад, а царь парады очень любит, значит, он будет сильно весел — и вот тут ему и подвернуться! Он сразу засмеется, скажет: а, это ты, господин ротмистр! И спросит: ну что, придумал, чего хочешь? И ему бодро в ответ: придумал! И сразу свою бумагу ему в руки! И перо! И он подпишет. Потому что ему что! Он же в этот день сразу всю гвардию, а это три пехотных и один конный полк, забирает с собой на войну. И взамен всего одного ротмистра отпускает в отставку. Это же капля в море, значит, подписать. И рассчитать его, и с выходным довольствием. И рассчитают, и подпишут. И сами тотчас же отбудут в Померанию, а дальше в Шлезвиг и, возможно, даже и в сам Копенгаген, потому что Румянцева будет не так-то просто остановить. Ну да и Бог ему в помощь. А Иван с Анютой тихо, скромно обвенчаются… Поэтому вот что сейчас нужно писать, торопливо подумал Иван, — прошение об отставке. На высочайшее имя. И завтра же подать царю! И царь его на радостях подпишет. А мы тогда сразу к царице, и она тоже на радостях — потому что царь же уезжает, и надолго, — она тогда на радостях пишет письмо в Литву. А что! Она же, говорят, со Стасем Понятовским коротко знакома, а Стась что надо шепнет Чарторыйским, а Чарторыйские уже шептать не будут, а просто скажут в Трибунале то, что надо! Потому что это им совсем нетрудно, что им такое Великие Лапы? Для них это смешно, мелочь какая, а для Ивана с Анютой — судьба. Да и их же правда, вот что главное! Потому что сколько стоит белый свет и сколько живут на свете люди, столько паны Зарубы держат маентак Великие Лапы. И бумаги у нас все в порядке. А у Хватских ничего, кроме собачьей дерзости. И кроме судейского скотства. А Великие Лапы — это же какая красота! Иван, подумав так, зажмурился — и увидел себя на пригорке возле выгона. Это там, где если пройти ниже и чуть влево, то будет хата Кривого Савося. Кривой Савось — это ого! Он быка на себе поднимает. Но это если его раззадорить. А так он лежит по целым дням на завалинке и ничего не делает. Или уйдет в корчму. Но что Савось! А вот просто утром из палаца выйти, осмотреться, и уже подбегает Базыль и начинает докладывать, а ты его не слушаешь, ты просто смотришь по сторонам, а на тебя светит солнце и обдувает тебя ветер, по небу плывут облака, а на речке, и это видно прямо с крыльца… Ну и так далее. То есть Иван крепко задумался, представляя себе то, как они с Анютой приедут в Великие Лапы и там обоснуются, и пригласят гостей, то есть бывших дядиных приятелей, и крепко выпьют, и начнут вспоминать прошлое, и это будет все громче и громче, Иван разгорячится, вскочит, выхватит саблю и крикнет, что, мол-де, он долго ждал этого часа, а теперь этот час настал — и он Хватским это не простит, а вот они сейчас посядут на коней, поскачут, прискачут в Мактюки — и спалят их, и всех порубят! И тут Иван еще крикнет: разом, Панове! И гости тоже крикнут: разом! Ат, и начнется тут такое! Анюта к нему кинется и закричит, что не пустит его, и громко заплачет, а он… Но тут Иван вскочил и осмотрелся, и прислушался. Было уже утро и светло, потому что в середине лета так всегда. И было совсем тихо, только птички в парке посвистывали. Колупаев спал в углу. Остальные тоже спали. Вот оно, самое злодейское время, подумал Иван, берясь за шляпу. Но никого он не будил, только когда уже совсем выходил из кордегардии, то как будто невзначай наступил Колупаеву на ногу. Колупаев молча подскочил. Иван на него не оглядывался — Иван был уже во дворе и осматривался. После он стоял и слушал, он тогда даже глаза прикрыл, потому что в таких случаях глаза только мешают… А потом он повернулся и пошел по той дорожке, которая вела к той стороне парка, которая была обращена к Петербургу. Иван шел по той дорожке и думал, что сейчас что-то должно случиться, он это чует. И еще вот что: и будет это там, куда он сейчас идет. И это будет очень скоро! Так что, думал Иван, пора ему уже остановиться и приготовиться. Он так и сделал — остановился и сошел с дорожки, встал за деревом, затаился и принялся ждать. Ждать пришлось совсем недолго — вскоре вдалеке послышался цокот копыт. Это опять был четверик, запряженный в карету. Иван еще прислушался, убедился, что это уже не Никита Иванович, а кто-то другой, и на всякий случай положил руку на шпагу. Время было еще очень раннее, солнце стояло низко, в парке было много тени. Цокот приближался. Цокотали очень быстро, значит, они очень спешат, подумал Иван, и это в такую пору! И резко выступил вперед, встал посреди дороги, одну руку оставил на шпаге, а вторую поднял вверх. Из-за поворота выскочили кони, они были все в пене, карету мотало нещадно. Иван стоял не шевелясь. — Эй! — закричали оттуда. — Поберегись! Зашибу! Но Иван и не думал беречься — стоял себе столбом. И тот, который сидел там на козлах, вскочил и рванул вожжи на себя. И осадил коней уже перед самым Иваном. Кони храпели и мотали головами, били копытами землю. А тот, который был на козлах, а судя по мундиру, это был офицер-преображенец, — он сверху молча смотрел на Ивана. И еще двое таких же офицеров-преображенцев, которые соскочили с запяток, теперь стояли по обеим сторонам кареты. Иван громко спросил: — Кто вы такие, господа? Кого вам здесь надо? Но они молчали. Зато тут же открылась дверца, и из кареты вышел еще один преображенец, тоже офицер, дерзко посмотрел на Ивана и так же дерзко ответил: — Как кого? Кто здесь содержится, того и надо! Вид у этого, уже четвертого из офицеров, был весьма запоминающийся: он был очень толстый и высокий, и еще со шрамом поперек щеки. Он подошел еще ближе к Ивану, посмотрел ему прямо в глаза и спросил: — А ты что здесь делаешь, ротмистр? — Гуляю, — сердито ответил Иван. — И птичек слушаю. А что? — и руку со шпаги не убрал. — Гуляешь! — сказал толстый офицер. — Тебе, брат, хорошо. А вот у нас беда. У нас заговор! Капитан Пассек. Слыхал про такого? — Слыхал, — сказал Иван. — Что слыхал? — Что замышлял на государя. И его вчера арестовали. А второй, который с ним, его нашли? — Бредихина? — спросил офицер. И тут же сам ответил: — И его вчера тоже. Теперь они оба сидят под караулом, так что там теперь полный порядок. А что у вас здесь? Эта у вас? Иван молчал. — Ну, эта! — сказал офицер. — Поднадзорная твоя. Не баламутила? Иван пожал плечами. — Э! — весело воскликнул офицер. — Да ты это что? Веди к ней, давай! Нам некогда! — Тут он подступил совсем близко и почти шепотом сказал: — Мы к десяти в Казанском должны быть! А пока она оденется, пока мы ее довезем. Давай, я говорю, веди! Иван подумал, развернулся и повел. Они шли только двое, а те все остались возле кареты. — Ты, брат, не злись, — говорил офицер, идя рядом с Иваном. — День же сегодня сам видишь какой. Да у нас так всегда! Завидую я вам, армейским. А тут при этих всегда черт-те что! Ночью подняли, говорят: скорей, скорей! Государь велел, чтобы к десяти все было готово. Это чтобы за ней съездили, ее оповестили, ее, если что, в охапку и забрали, потому что там, в Казанском, будут же не только все наши, но и все послы, вся Европа, поэтому надо, чтобы все видели, что государь и государыня живут как голубки, только и знают, что любятся, и вот он собрался на войну, а она его провожает и плачет… Эх! — сердито сказал офицер. — Мне это вот где сидит! — и он резанул себя ребром ладони по горлу. После повернулся к Ивану, добавил: — Алексеем меня звать. Фамилия Орлов. Преображенского полка поручик. — Иван, — сказал Иван. — Заруба-Кмитский. Ротмистр из корпуса Румянцева. — А! — радостно сказал Орлов. — Румянцев! Мой брат там служил. И при Цорндорфе трижды был ранен. После его сюда перевели. — Как зовут брата? — Григорий. — Не слышал. Больше они ничего один другому не сказали, молча шли и вышли ко дворцу. На крыльце стоял уже Прищепко. Прищепко им откозырял и доложил, что все в порядке. Они вошли во дворец. Во дворце, в Парадной зале, было пусто, и все двери опять были плотно закрыты. Орлов посмотрел на Ивана. Иван очень нехотя сказал, какая дверь к царице. И тут же быстро добавил, что она не примет, что лучше сразу во вторую дверь, к Шарогородской. А царица, повторил Иван, не примет. — Примет! — сказал Орлов нарочито громким голосом. И еще добавил: — С превеликим удовольствием. Потому что куда ей деваться! После чего он подошел к царицыной двери и громко в нее постучал. Ему не ответили. Тогда он постучал еще, и это еще громче, а после толкнул дверь, вошел туда, дверь за ним сразу закрылась, стало тихо… А потом оттуда послышались довольно-таки громкие голоса. По большей части говорил Орлов, а отвечали ему редко и немногословно. Потом там стало совсем тихо, но Орлов пока не выходил. Иван стоял посреди залы, на душе у него было гадко. Потому что как-то очень странно получается, думал Иван, почему приехали какие-то поручики, а не сам царь или хотя кто-нибудь из его флигель-адъютантов? А то эти поручики! Ну и что, что они гвардия? И надо было: где бумага? Без бумаги не отдам! И ни в какую! Потому что а вдруг это заговор? Ну, заговор не заговор, тут же подумал Иван, потому что был бы заговор, тогда они за ним пошли бы все четверо и там, сразу в кустах, его и закололи бы. Втроем на одного, исподтишка, очень удобно! А так же нет, пошел только один. И не кидался, хоть Иван и ждал, даже почти надеялся… А без флигель-адъютантов потому, что у них здесь так всегда, как говорит Семен — желтый дом какой-то, а не служба! И еще вспомнил тут же: янычары! Всех развести, потом опять переженить. Порядки! Подумав так, Иван опять прислушался. Теперь опять было слышно, как за дверью говорит Орлов. Потом послышались его шаги, потом он вышел и сказал Ивану: — Вот видишь, приняла. И уже наполовину собралась. Скоро поедем. После чего Орлов прошел на середину залы, остановился там и принялся утирать руки, потому что, это было явно видно, очень волновался. Но скоро успокоился и глянул на Ивана, весело подмигнул ему и теперь сказал уже такое: — Вот тебе и царское достоинство! А будет велено — и выполняй. И, резко мотнув головой, начал ходить туда-сюда. Иван сперва молчал, а после все-таки спросил: — А что там случилось с этим Пассеком? Орлов остановился, посмотрел на Ивана, после посмотрел на царицыну дверь, а после опять на Ивана — и сказал такое: — Убить они хотели государя, вот что. Пассек и Бредихин, наши офицеры. Подкараулить ночью и убить. А после, но это уже другие, сам это понимаешь, что не Пассек, соберут Сенат и предложат наследника Павла Петровича короновать. А так как годы у него еще совсем слишком юные, то регентшей назвать вот эту, — и Орлов кивнул на царицыну дверь. Потом продолжал: — И это дело у них уже почти что сладилось, да дураки-солдаты проболтались. И майор Воейков как узнал, так сразу Пассека под караул — и сразу же начали розыск, взяли еще Бредихина, ищут еще… Э! — спохватился Орлов. — Чего это я вдруг как те солдаты? Господину Клушину такое не понравится. Розыск еще идет, поэтому как бы кого не спугнуть! И это я не про тебя, конечно, но все равно порядок есть порядок и у стен есть уши, это знаешь? И про Клушина слыхал? — Слыхал, — нехотя сказал Иван. — Клушин! — еще раз сказал Орлов. — Вот, брат, где настоящая сила! Царства рушатся, короны сотрясаются, народы бегут кто куда, и только один господин Клушин даже в ус не дует. Потому что, я еще раз говорю, вот где она, настоящая сила! — и тут он даже поднял руку со сжатым кулаком, а кулак у него был, чего и говорить, здоровенный, и он опять заговорил: — Вот где сила, а не в тех… Но тут он вдруг замолчал и оглянулся. И нехорошо заулыбался! Иван тоже туда глянул — и увидел, что это из своей двери вышла царица. На царице опять было новое платье, оно было лучше тех прежних, но все равно, подумал Иван, было оно не слишком царское, особенно не для сегодняшнего случая. И еще: царица была в сильном гневе, это было сразу видно. Она так и сказала — очень гневно, глядя при этом только на Орлова: — Вы меня простите, господа, но я не солдат, я не умею вставать по тревоге. Вы знаете, сколько нужно времени для того, чтобы собраться хотя бы к малому выходу? А тут, я понимаю, дело куда более важного свойства. Не так ли, господин поручик? Орлов на это только дерзко усмехнулся и сказал: — Да что вы, ради Бога, ваше величество, вы на меня не гневайтесь. При чем здесь я? Что мне было приказано, то я и делаю. Все ради вас, ваше величество! — и тут он опять усмехнулся. Веселый какой! А царица, та опять строго спросила: — Где Питер? — и тут же поправилась: — Где государь? — Не могу знать, — сказал Орлов, теперь уже тоже серьезно. — Да мне такое и не положено знать. А я знаю только вот что, я вам еще раз говорю, что сегодня на десять утра назначена служба в Казанском соборе. Очень большая служба, и всем известно, по какому это нешуточному поводу. А мы все еще здесь. Так что я могу повременить еще только пять минут, не больше, после чего мы сразу отъезжаем. Поэтому не смею вас больше отвлекать, ваше величество, вы прикажите своим людям, чтобы они не мешкали, а мы с господином ротмистром, если вы нам такое дозволите, пока что постоим на крыльце. Прошу вас, ротмистр! И тут он указал на дверь, и Ивану ничего другого не осталось, как выйти вон. Орлов тоже вышел, там сразу повернулся к караульному, а это был Прищепко, и велел ему сбегать вперед по аллее и сказать господам офицерам, чтобы уже подавали карету сюда. Прищепко козырнул и убежал. Теперь, когда они остались на крыльце одни, Орлов повернулся к Ивану и очень сердитым, но зато не очень громким голосом сказал: — Вот так всегда! Покуда кто-то прохлаждается… Нет, даже напротив, покуда он горячится, мы бегай как псы! И еще мы янычары! А он тогда кто? Султан басурманский, так, что ли?! И вот мы приехали в гарем, взяли под белые ручки, свезли на люди, показали, а после, что ли, головой в мешок… — Но тут он замолчал и осмотрелся, а после уже совсем тихо спросил: — А ты про Пассека откуда знаешь? Иван подумал и ответил: — Доложили по команде. Орлов тоже подумал и сказал: — Ну, может, ты и прав. Зачем лишнее болтать? — Конечно, незачем, — сказал Иван. И вдруг уже сам спросил: — А разрешите поинтересоваться, господин поручик: а бумага у вас есть? — Какая? — А на предмет государыни. Что вам велено везти ее в столицу. — А у тебя? — спросил Орлов. — Что у меня? — спросил Иван. — А у тебя у самого бумага хоть какая-нибудь есть? — спросил Орлов. — И ты вообще кто такой? — уже совсем зло спросил Орлов. И даже еще злее продолжал: — Я Алексей Орлов, Преображенского полка поручик, меня сюда прислал мой непосредственный начальник, полковник нашего полка… Кто наш полковник? — Государь… — Вот! Сам сказал! Вот кто меня сюда прислал! И еще приказал не мешкать! А тут я должен с тобой… Но тут он опять замолчал, потому что обернулся. И Иван туда тоже посмотрел — и они разом увидели, как из-за деревьев выехала давешняя карета с одним офицером вместо кучера и еще двумя на запятках. Теперь преображенцев опять стало четверо, а он по-прежнему один, почему-то вдруг подумалось Ивану. А дальше он даже подумать еще не успел, но уже велел Прищепке сбегать в кордегардию и привести сюда всех наших. Прищепко козырнул и убежал. Орлов пожал плечами, обернулся — теперь уже обратно — и прислушался. Иван тоже прислушался. Сзади, в Парадной зале, раздались шаги. Шаги были дамские, это двоих, и еще одни мужские, это Шкурина. После первой на крыльцо вышла царица, она была уже в шляпке и с пелеринкой на плечах, за царицей шла та самая служанка, которая вчера прислуживала за столом, а теперь она держала узелок с вещами, и третьим был Шкурин с сундучком. Там, надо думать, тоже былицарицыны вещи. Царица, это сразу было видно, была очень расстроена, она повернулась к Орлову и наполовину просительно, наполовину сердито сказала: — Я так не могу. Господин Мишель должен прийти с минуты на минуту. Он должен прибрать мне голову. — В столице приберут! — грубо сказал Орлов. — Садитесь, государыня, нам некогда. И вы садитесь, господа! Это последнее он сказал Шкурину и той служанке. Точнее, не служанке, а той самой Катерине Ивановне Шарогородской, царицыной камеристке. Колупаев, вдруг вспомнил Иван, говорил, что она очень резвая, ну просто как обезьяна. Зато теперь, видел Иван, Шарогородская чуть двигалась и притом была вся белая, да и Шкурин тоже был не лучше. Они подошли к карете, начали садиться. Один из офицеров откинул ступеньку, другой подал царице руку, царица благодарно кивнула ему и уже было поставила ногу на ступеньку… Как вдруг остановилась, повернулась и посмотрела на Ивана, после на Орлова, а после опять на Ивана. Она ничего не говорила, а только смотрела… Но Орлову и этого оказалось довольно — он сразу же поворотился к Ивану и сказал: — А тебе, брат, придется остаться и дожидаться государя здесь. Карета у меня четырехместная, нас как раз четверо. И на запятках тоже уже двое. Ивана взяла злость! Он оглянулся… И повеселел! Потому что как раз в этот миг из-за угла скорым шагом вышел Колупаев, ведя за собой свою команду. И все они держали ружья под курок! — Колупаев! — почти выкрикнул Иван. Колупаев отдал ему честь. Ивану стало еще веселей… Но тут Колупаев глянул на Орлова… И еще раз отдал честь — теперь уже ему. — На караул! — велел Орлов. Колупаев и его команда замерли. Орлов мельком глянул на карету — а там все уже сидели по местам и даже дверца была уже закрыта — и просто, безо всякого, сказал Ивану: — Вот видишь, я же говорил, нет места. — А зачем мне в карете? Я привык верхом, — сказал Иван. — А у тебя разве есть здесь лошадь? — Есть. — Н-у-у! — нараспев сказал Орлов. После еще раз глянул на карету, сдвинул шляпу, помолчал, потом сказал: — Колупаев! Лошадь господину ротмистру! И живо! Мы очень спешим! Колупаев побежал за лошадью. Все его ждали совершенно молча, и, мало того, пока он бегал, никто даже с места не стронулся. И еще вот что: о чем только тогда Иван не передумал! А так даже бровью не повел. После пришел, даже почти что прибежал, Колупаев, привел лошадку Белку. Ат, вот же где судьба, думал Иван, садясь в седло, в первый раз он на ней едет — и, может, в последний вообще во всей своей жизни! А тут еще Колупаев взял да и брякнул! Точнее, не брякнул, конечно, а очень тихо сказал, чтобы Орлов не слышал: — Зачем вам это, ваше благородие? Государь вам разве так велел? Остались бы! Иван ему на это ничего не ответил, и он опять даже бровью не дрогнул, а просто сел в седло, потрепал Белку по гриве, еще даже успел подумать: Отче наш… Но тут карета как рванула с места! И он тогда по Белке и по Белке! И пристроился слева к карете, к самому окошку, к тому, где сидела царица, — и поскакали они вначале по парку, а после и вправду свернули на Петербургскую дорогу, и там еще ходу прибавили! А там еще! А там еще!..ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ Жаркая встреча
От Петергофа до Петербурга дорога, как известно, неблизкая — почти тридцать верст. Но у Орлова были хорошие лошади, княгиня Дашкова в своих мемуарах после рассказывала, что она этот экипаж заготовила заранее и приказала держать его на одной из ближайших к Монплезиру дач. Так что, продолжала княгиня, как только в них случилась нужда, Орлов их взял — и успел вовремя. Иными словами, если брать мнение княгини Дашковой на веру, то получается, что это единственно ее стараниями… Однако не будем забегать (а в данном случае заскакивать) вперед, а лучше просто посмотрим на Петергофскую дорогу, на ее уже двадцатую версту — и сразу увидим там Ивана, по-прежнему скачущего с левой стороны кареты. Правда, теперь и карета, и всадник скакали уже не так быстро. Только грешно было бы их в этом обвинять. Даже скорее напротив, можно было только удивляться тому, что они до сей поры еще ни разу не останавливались. Странное дело, дивился Иван, кто бы это мог подумать, что царица позволит так гнать? Да только, тут же думал он, это как раз понятно, потому что никто у нее уже никакого позволения не спрашивает. Вот зато другое непонятно: почему государь не приехал? Ведь же это дело какой важности! Ведь тут он должен быть бы сам, или хотя бы приехал Гудович, или даже Унгерн, Унгерн по таким делам всегда… А тут являются какие-то поручики, говорят: надо ехать, и срочно, мы знаем, куда! — а Иван им: так точно! — и в стремя! Почему он, дурень, их послушался? Что ему самим царем было приказано? Никого не слушать, никому не подчиняться! И не отпускать царицу от себя! Так что еще слава Богу, в сердцах думал Иван, что он пока хоть это исполняет — и она по-прежнему при нем, он скачет рядом, и они скоро прискачут в Петербург, и там, в Казанском соборе, как вчера сказал Семен, и, значит, это правда, сегодня будет великая служба, и там их ждет царь. И они туда прибудут, они туда скачут! Ну а если это даже и не так, опять думал Иван, глядя вперед, на дорогу, то что бы он мог сделать? Их же было четверо, а он один, а тут еще и Колупаев к ним переметнулся. Так что закололи бы его, как кабана, Орлов бы заколол, вон какая у него рожа разбойничья. А шрам какой! Это сабельный шрам, у Хвацкого почти такой же, так его дядя Тодар пометил… Но хотя, тут же думал Иван, если бы они хотели его заколоть, так бы давно уже закололи. Вот бы, к примеру, выехали за ворота, остановились бы да окружили… А так все спокойно. Так что, может, зря он на Орлова всякую напраслину возводит, продолжал думать Иван, потому что этот же Орлов, и это сразу было видно, в Монплезире частый гость, его Колупаев сразу признал, и это оттого, что Орлов преображенец, а преображенцы — это царский полк, и, может, это у них такая служба — следить за царицей. И они следят. А когда Иван был у царя, их тогда рядом не было или, может, просто пьяные валялись, у гвардейцев это запросто, вот царь и отправил вместо них Ивана. А после они проспались, продрали глаза — и он опять их послал. А про Ивана забыл. А что! Он же вон как это дело любит, Иван же сам видел — он же не прихлебывает, как курица, а пьет смело, полным горлом, по-гвардейски. Тут он весь в деда своего, и у него голова не болит, а болит она у нас, у армейского траншейного офицерья. Вот как тогда думал Иван, сердито понукая Белку. Хотя при чем здесь Белка, тут же думал он, что она из этой скачки может выслужить? И кто ее, если вдруг что, пожалеет? Как, впрочем, и его. Подумав так, Иван повернулся к карете. Окошко там было плотно задернуто. Потом оно отдернулось, и в нем показалась царица. Она внимательно смотрела ни Ивана. Она не улыбалась и не хмурилась, она просто смотрела. Она, думал Иван, тоже, конечно, как и царь, о нем забыла. Она его не узнает, у нее теперь совсем другое на уме. Наверное, думал Иван, она сейчас представляет, что с ней будет после того, как кончится служба в Казанском соборе. Ее, скорей всего, уже не будут возвращать обратно в Монплезир, а сразу повезут в Шлиссельбург. Так что не будет у нее такого случая, чтобы сделать Анюте подарок, как она об этом вчера говорила. Да и от царя тоже ничего не дождешься. Потому что скажет: ты куда смотрел? Или: почему так поздно? А посему… Ну и так далее, то есть найдет к чему придраться. Ну и пусть! Потому что ничего ему от них не надо, ни от него, ни от нее, а только дали бы ему отставку, и он бы женился, забрал Анюту и уехал бы к себе, а вы тут хоть… Но дальше Иван подумать не успел, потому что тот преображенец, который сидел на козлах вместо кучера, окликнул его: ротмистр, — а после попросил глянуть, как там колеса. Иван глянул и сказал, что переднее в полном порядке, а заднее сильно вихляет. Преображенец сердито свел брови, сказал, кривая вывезет, и принялся опять нахлестывать. А Иван опять подумал: это не к добру! И опять, уже в который раз, опять вспомнил царя и царские слова о том, что он Ивану верит, что Иван его ни за что не предаст, и Дружок, его собачка, тоже в это верит. Так ведь Иван и присягал! А когда присягаешь, то ты ведь не выбираешь, кому присягать, а это такая служба и это такой твой офицерский долг, куда от него денешься?! А тут вдруг этот черт Орлов, а с ним еще трое! Ну да чему быть, того не миновать. Подумав так, Иван только мотнул головой — и опять посмотрел на дорогу. На дороге стояла коляска. Нет, она даже не просто стояла, а стояла поперек дороги, и это Ивана очень удивило. В коляске было двое офицеров — один за кучера, второй за ездока. Они стояли и смотрели на подъезжающий к ним экипаж. Экипаж, не доезжая до них, остановился. А Иван придержал Белку и, так оно само собой получилось, положил руку на эфес шпаги. Тот преображенский офицер, который здесь, в карете, был за кучера, повернувшись к Ивану, сказал: — Эти тоже из нашего ведомства. Иван молчал, смотрел на тех, которые были в коляске — там один был артиллерист, а второй опять преображенец. Вторым был князь Федор Барятинский, а артиллерист — это брат Алексея Орлова, Григорий. Тот самый! Но тогда кто его знал? Никто! И Иван на него не смотрел, а смотрел, как Алексей Орлов выходит из кареты. Выходит с другой стороны от Ивана! И туда же, то есть на другую сторону, вышла царица. А на эту соскочил преображенец с козел. И, мешаясь возле Ивана, начал осматривать колеса. Да еще и начал у Ивана то и дело спрашивать, так ладно или этак. Иван не знал, что отвечать, Иван больше смотрел за царицей. Только смотреть пришлось совсем недолго, потому что Алексей Орлов громко сказал, что таким колесам веры больше нет, что им сам Бог послал эту коляску, и повел туда царицу. И там преображенец уступил ей свое место, а артиллерист сел вместо кучера и взял в руки вожжи. У Ивана екнуло под сердцем. Но Алексей Орлов уже достал карманные часы, откинул крышку, посмотрел на циферблат и сказал, что если они еще и дальше будут так возиться, то им сегодня же поотрубают головы. Надо спешить, строго прибавил он и убрал часы обратно. А как с колесом, спросил преображенец. Завернем к измайловцам, сказал Орлов, это как раз по пути, и там починимся. Гони! Преображенец вернулся на козлы, взгрел лошадей, Иван пришпорил Белку — и они помчались дальше, держась почти что сразу за коляской. То есть пылищи наглотались просто страшно. Но зато они уже почти приехали. Иван смотрел по сторонам и видел хорошо знакомые места, потому что это была Третья Петергофская верста, и там по левой стороне, чуть в глубине от дороги, сразу за теми деревьями, был дом Пристасавицкого, и там сейчас, думал Иван, его ждет Базыль. Базыль у них остановился, и он так всегда делает, а раньше так делал дядя Тодар, когда приезжал проведать Ивана. И ох хорошо бы самому Ивану сейчас бы взять да и свернуть туда, потому что, чует сердце, от этой скачки ничего хорошего ему не будет. Ну да что поделаешь, служба есть служба, и не будет так не будет. А пока они скакали во весь дух, правда, духу было уже мало, и поэтому, когда они подъехали к казармам Измайловского полка и коляска повернула туда в ворота, то Иван тогда подумал только вот что: слава Богу, что все это кончилось! Но, как почти сразу оказалось, все еще только-только началось. Потому что дальше было вот что: коляска лихо развернулась возле съезжей и остановилась там как вкопанная, артиллерист сразу сошел с коляски, подал руку — и следом за ним сошла царица, и это прямо к караульным, у караульных глаза вот такие, и один стоит как столб, а зато второй ударил в барабан! И ударил во всю мощь! Ударил общий сбор! А тогда было еще очень рано, у них в полку еще зорю не били. Поэтому там сразу везде пошел шум, и стали открываться двери, и из казарм выбегали солдаты — кто в чем и кто куда. А караульный знай себе молотит! А преображенцы все стоят! Иван опомнился, соскочил с лошади и кинулся туда, к крыльцу, и закричал: — Оставить! Я кому сказал! Молчать! Караульный перестал стучать. Теперь он смотрел на Ивана. Иван быстро подошел к нему и оглянулся. Из казарм — изо всех — выбегали солдаты. Иван громко и очень сердито сказал: — Чего это такое?! Отставить надо их! Обратно! Но Алексей Орлов, а он уже стоял с ним рядом, сразу ответил так: — А, это ты не беспокойся. У них тут свое начальство, они с этим сами разберутся. А что колесо? — А колесо сюда! — это сказал уже тот, который был у них за кучера. — Вон его дверь! — И тут же быстро прибавил: — Господин ротмистр, не отставайте! Иван повернулся к нему, а он уже быстро пошел через плац. Шел и показывал рукой и что-то быстро, бестолково говорил про то, что здешний мастер просто как колдун, он с закрытыми глазами все починит, он дунет, плюнет — и даже железо срастается. И он еще чего-то говорил, тоже какую-то дурь… А Иван ведь шел за ним! Быстро шел, не отставал, как будто его на веревке вели, как будто его тоже кто околдовал. И даже более того — мимо него пробегали солдаты, сзади опять били сбор, а он быстро шел за тем преображением, и ему казалось, что все это легко исправить, нужно только сменить колесо и как можно скорее уехать отсюда. И в Казанский собор, а там царь! А пока они вошли в какой-то дом или, может, в какую-то службу, они не стучали, а преображенец просто пнул ногой как следует, дверь распахнулась, и они вошли, а там было темно, и душно, и еще очень смрадно, потому что все пропахло водкой и капустой, какой-то человек в одной рубахе, весь растрепанный, вышел им навстречу и спросил, чего им надо, а преображенец закричал: где Вахромеич, а Вахромеич, ответил растрепанный, спят; разбудить его, велел преображенец, велел очень зло, даже грозно, они прошли дальше, и там, за столом, спал Вахромеич, преображенец стал его трясти, Вахромеич стал в ответ мычать, а Иван стоял сбоку, смотрел на это, гневался… И вдруг услышал, что снаружи, и это уже на плацу, барабаны начали бить церемонию! Э, закричал Иван, да что это, и развернулся, и кинулся вон. Куда ты, закричал преображенец, а колесо, и кинулся вслед за Иваном, и даже схватил его за руку, но Иван вырвался и выбежал, и остановился уже только на крыльце. А дальше он бежать уже не мог, потому что то, что он увидел, его очень крепко поразило! Да это и не мудрено, там же тогда творилось уже вот что: полк был уже весь на плацу, офицеры бегали вдоль строя, пинали, если это было нужно, зазевавшихся, а царица — рядом с тем артиллеристом, и преображенцы там же сзади — а царица подходила к строю. Она была уже без шляпки и без пелеринки, и хоть одета она была просто, но смотрелась очень хорошо, чисто по-царски. А тут еще запели трубы, и тут же кто-то бойко закричал: — Встречайте государыню! Встречайте матушку-заступницу! Строй заволновался, дрогнул, а после все же закричал: — Ура! — И тут же, и уже куда стройней: — Ур-ра! Ур-ра! И только один Иван сказал: — Измена! Но кто его тогда услышал? И кто его видел? Да и вообще кому из всех них тогда до него было дело? Да никому, конечно же! Поэтому дальше тогда было вот что: царица, окруженная преображенцами, шла, улыбаясь, вдоль строя измайловцев, и время от времени негромко, с хрипотцой, восклицала: — Здравствуйте, ребятушки! А ей в ответ дружно кричали: — Ур-ра! Ур-ра! И до того им было радостно, что они даже строй не держали, строй ходил ходуном, как живой. Или как у новобранцев, со злостью подумал Иван, сошел с крыльца и, стараясь меньше суетиться, как можно быстрей пошел к съезжей. Там тогда никого из солдат не было, зато там стояла Белка. Ат, гневно думал Иван, вот так история, будешь пешим — пропадешь, надо скорей в седло! И он шел к Белке, и Белка была все ближе и ближе, а на плацу кричали все громче и громче. Потом там вдруг все стихло. Иван остановился, оглянулся туда и увидел, что это царица теперь стоит там, где обычно должен стоять командир полка, и все на нее смотрят и ждут, что она им сейчас скажет. Она и в самом деле подняла руку, подождала, пока станет совсем тихо, а потом сказала вот что: — Измайловцы! Славные слуги мои! Довольно иноземцу измываться над святым православным законом! Вспомним заветы деда нашего Петра Великого! И тут она вот так вот сделала рукой — очень решительно! И в ответ ей так же решительно солдаты крикнули «ура!» А потом еще раз «ура!» И еще! Тогда царица шагнула вперед и думала еще что-то сказать… Но почему-то не решилась, оглянулась… И Алексей Орлов тогда сразу кинулся к ней, встал с ней рядом и начал кричать вот что: — Солдаты! Братцы мои верные! Проклятый иноземец возжелал извести жестокой смертью последнюю надежду нашу, славную Екатерину Алексеевну вкупе с наследником Павлом Петровичем! Он возжелал, да мы не дали! Мы вырвали царицу из кровавых лап его и привезли ее вам под защиту! Так постоим же за государыню! Так не дадим же ее голштинцу на расправу! Так же ура! — Ура! Ура! — ответили ему. А тут еще вдруг задудели трубы! А так как дудели они вразнобой, то строй окончательно сломался, все скопом бросились к царице, обступили ее и принялись кричать что-то уже совсем бессвязное — но зато радостно и с упоением. А Иван, который стоял уже возле кареты, смотрел на это и опять молчал. Иван пытался рассмотреть, где же царица, что с ней, но этого понять было нельзя, потому что там тогда была такая плотная толпа, что просто страх. Иван так и подумал о ней: страх! Но вдруг эта толпа будто сама собой опомнилась, солдаты стали расступаться. Иван глянул туда, откуда они расступались, и сразу понял, в чем дело: это там шел полковой священник. Священник был немолодой и крепко перепуганный, его даже вели под руки. Но когда он подошел уже совсем близко к царице, его отпустили. Он тогда, чуть-чуть повременив, осенил ее крестным знамением и начал что-то говорить, вот только в общем шуме толпы его слов было не разобрать. Но так было только поначалу, потому что он довольно скоро осмелел, голос его окреп, и тогда Иван ясно расслышал: — …всероссийской Екатерине Алексеевне многая лета! Толпа тут же подхватила, закричала: — Многая лета! Ур-ра! Многая лета! Ур-ра! Ур-ра! Ур-ра! А Иван сердито прошептал: — Ат, ведь же чуял, дурень! Дубина! Пес! — а после резко отвернулся… И увидел, что почти что рядом с ним стоит красный от крика офицер, а при нем до отделения таких же красных, как и он, солдат. Офицер сердито глянул на Ивана и так же сердито спросил: — А ты чего молчишь? — И тут же приказал: — Кричи: «Екатерине, самодержице российской…» Ну? Кричи: «Екатерине, самодержице…» Ивана взяла злость, и он сказал: — Я таковой не знаю. Мой император — Петр Федорович, ему присягал. И я никому не позволю чернить его честное имя! А лживые слова о нем Екатерины Алексеевны еще… — Ах, так! — закричал офицер. — Шпион голштинский! — и, обернувшись к солдатам, скомандовал: — Вяжи его, ребята! Солдаты двинулись к Ивану. Иван выхватил шпагу и крикнул: — Не подходи! Убью! Тогда они кинулись скопом! Иван ткнул в первого — и наколол его! Тот заорал, и остальные отступили. Иван развернулся и кинулся к Белке. Офицер скомандовал: «Пали!» — это он сам себе — и выстрелил из пистолета! Мимо! Иван вскочил в седло, пришпорил Белку и погнал в ворота. В него стали стрелять — из пистолетов и из ружей. А те, которые были в воротах, кинулись из-под копыт. Иван проскакал через ворота, потом через мосток, потом осадил Белку, поворотил ее налево, к городу, к Фонтанке… Но там ему почудились мундиры на дороге — и он тогда поворотил направо и поскакал обратно, то есть опять по Петергофке. А по нему опять стали стрелять! Сперва два раза — это от ворот из ружей караульные. А после взводный залп! «Ат, вывози, — зло подумал Иван. — Или же хоть не придави!» Подумав так, он только вырвал ноги из стремян, как дали еще залп! И Белка вздыбилась! А после мордой в землю! А Иван через нее! Летел и думал: «Нет, не придавила, значит, не все еще потеряно!»ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ «Радость-то какая!»
Упал он ловко, ничего не поломал, не вывихнул, и сразу подскочил, и даже еще повернулся к Белке, чтобы забрать оставшиеся там при седле пистолеты. Но тут ему закричали стоять, он глянул — а к нему уже бежали, и он тогда тоже побежал. Но не к ним, конечно, а от них, по Петергофке. Они за ним еще немного пробежали и остановились, сержант скомандовал им заряжать. Иван бежал изо всех сил, чтобы успеть добежать до ближайших кустов… Но не успел — они еще раз стрельнули. Правда, слава Богу, не попали, потому что взяли слишком в сторону и высоко. Сержант заругался на них, закричал, они стали опять заряжать, а Иван сбежал с дороги, а там по кустам до ельника и дальше побежал по ельнику, после пошел, после совсем остановился и прислушался. Было слышно, как шумят в полку, но это было слишком далеко, это Ивана пока не касалось, а тех, которые в него стреляли, слышно не было. Иван подумал и пошел обратно. Шел он осторожно, хоронясь, и так дошел почти что до самой дороги. И только там опять увидел тех солдат и того их сержанта, они стояли на своем прежнем месте, солдаты держали ружья наизготовку, а сержант прохаживался сбоку от них и что-то очень сердито им выговаривал. А дальше, в расположении измайловцев, продолжали радостно кричать и так же продолжалась музыка. Ждут командиров, подумал Иван. А о том, что будет там дальше, Иван думать не стал. Потому что чего там гадать, подумал он сердито, так здесь однажды уже было. Только тогда это было зимой, двадцать с лишним лет тому назад, тогда Елизавета Петровна со своими молодцами посреди ночи прибыла в санях в расположение Преображенского полка и тоже остановилась возле съезжей. Правда, там караульный был не подкупленный, как здесь, и поэтому он сразу начал бить тревогу. Ну да Елизавета Петровна, известное дело, чья дочь, не растерялась, и ножом как полоснет по барабану! Барабан затих — и началось! И после она двадцать лет была императрицей. А император Иоанн Антонович эти же двадцать лет просидел в Шлиссельбурге. И он будет и дальше там сидеть. А вот чего это Иван сейчас сидит и чего ждет?! Подумав так, Иван резко вскочил, его сразу заметили и закричали, сержант скомандовал — и они стрельнули! Но Иван уже опять бежал по ельнику. И он бежал еще довольно долго, потом остановился и прислушался, ничего не услышал и сел прямо под дерево возле тропинки. На душе было очень противно. Провели его, опять думал Иван, как дурня. Царицу упустил, царского приказа не выполнил. Теперь царь спросит… Да при чем тут царь?! Может, по теперешним делам, так сложится, что он царя больше уже никогда не увидит, в сердцах думал Иван, поэтому что царь! А вот от себя куда денешься? И что теперь делать? Ведь не сидеть же так! Может, пока еще не поздно, нужно скакать обратно в Петергоф, нет, даже в Ораниенбаум, и докладывать царю, что, мол, так и так… А он скажет: а, Иван, я так и думал, что ты меня предашь — и вот и предал! И все вы здесь такие, все меня не любите и моей смерти ждете… И как туда скакать, на чем? И в Ораниенбауме ли царь? Может, он сейчас в Казанском ждет. И, может, это только одни измайловские против поднялись, а все остальные за него? А почему бы и нет! Да ведь если бы преображенцы тоже поднялись, то куда бы Орлов правил? К преображенцам, конечно, к своим, чтобы им была вся честь. А так преображенцы за царя. И семеновцы, и весь остальной гарнизон. Один Иван сидит в кустах! А если даже и не так, а, наоборот, только он один верен остался, ну и что?! Все равно чего сидеть? А нужно, думал Иван, быстро вставая, никогда ничего заранее вперед не загадывать, а убедиться своими глазами и ответить своей головой, если что. И больше ни о чем таком уже не думая, Иван еще довольно долго шел по лесу, потом свернул на тропку, потом на тропу, потом на дорожку, а потом опять на тропку, а потом даже согнулся в три погибели, чтобы его с заставы не заметили, и вышел к Семеновским казармам. Там было тихо и пусто, даже караульных на воротах не было. Иван вошел в расположение, и уже там ему сказали, что все ушли. К Казанскому? — спросил Иван. Ему ответили, что да. За измайловцами? Да. «Ат, — сердито подумал Иван, — началось», но вслух ничего не сказал, вышел от семеновцев и пошел дальше. Шел он прямиком к Казанскому собору. Тогда это был еще не нынешний, большой, а старый, маленький, немного в стороне, его потом снесли. А тогда он еще был, Иван быстро шел к нему, и вместе с ним туда же шел всякий народ, люди еще толком не знали, что случилось, только знали, что туда нужно идти, там сейчас что-то важное случилось, так им всем кто-то сказал. То есть народ валил, и уже почти валом, как на престольный праздник, думал Иван сердито. А еще он внимательно слушал, не слышно ли чего со стороны казарм Преображенского полка. Но разве тогда можно было что определить? Ну разве что стрельбы оттуда не раздавалось, и это все, о чем можно было судить наверняка. А об остальном Иван только догадывался. Догадки же у него были такие: если у семеновцев ничего о преображенцах не сказали, значит, преображенцы не с ними. Да на это еще указывало и то, что у них вчера офицера арестовали, Пассек его фамилия, и Орлов со своими дружками оттуда сразу сбежал. Значит, радостно думал Иван, у преображенцев бунтовать не дали, вот теперь эти, то есть измайловцы и семеновцы, и бегут как можно скорей в Казанский, чтобы и там царице тоже присягнуть, покуда их преображенцы не остановили. А преображенцы это могут, думал Иван, еще прибавив шагу, уже продираясь в толпе, у них же сам царь полковником, им это как бы по службе положено. А где сейчас они? Иван остановился, потому что протолкнуться дальше не было уже совсем никакой возможности, до того там была плотная толпа. А сзади народ все прибывал да прибывал! Иван расставил локти, чтобы его не задавили. Народ шумел. Впереди толком ничего нельзя было разобрать, были только стены, да купола, да небо. Небо было ясное. Кто-то прямо над ухом сказал: — На святое дело солнце светит. Слава Тебе, Господи, убился немец распроклятый! Иван обернулся и увидел, что рядом с ним стоит мастеровой. Мастеровой опять сказал: — Убился! — И еще смелей добавил: — Потому что пьяный был и поехал на охоту, а там упал с коня, и дух из него вон. И слава Тебе, Господи! Мастеровой перекрестился. За ним стали креститься и другие. И тоже стали говорить, что это правда, что царь и в самом деле вчера насмерть убился, голштинцы его подобрали и привезли отпевать в голландскую кирху. Какую кирху, возмутились слева, он же был по-нашему крещеный! По-нашему, ответили, это давно, а этой зимой, как старая царица померла и не было за ним никакого присмотра, он опять в голштинское перекрестился. Срамота, закричали, чего ты городишь! А то и горожу, ответили, что было. А вот тебе я, был ответ. И там начали волтузиться, точнее, бить один другого. Но их никто не разнимал, всем было не до них, все смотрели вперед и туда же толклись, но протолкаться было невозможно. Поэтому опять остановились и стали спрашивать у тех, кто впереди, что там сейчас, в Казанском. А как и раньше, отвечали, идет служба. Архиепископ, отвечали, служит, Димитрий Новгородский. А что, спрашивали, служит? А что же, отвечали, еще. Ектению, конечно. Провозглашают ее, вот что. Нет, не ее, заспорили, а цесаревича. Цесаревича, конечно, подхватили, а кого же еще! Отец убился с коня, а он ему родной сын, вот и он вместо отца, а она кто, такая же немка! А цесаревич наш! А мы его! А она нам никто! Вот что тогда вокруг болтали. Но Иван их почти не слушал, Иван старался протолкаться дальше, к самой церкви. Зачем это ему было нужно, он и сам не знал, а вот проталкивался, и все тут. И вскоре он протолкался достаточно сильно, уже почти что в самый первый ряд, ему уже даже были видны торчащие над толпой штыки. Про штыки в толпе рассказывали так: это измайловские и семеновские там, они стоят вокруг Казанской караулом, они охраняют царицу, которую сейчас провозглашают. А от кого, спрашивали, охраняют. Да как же от кого, сердито отвечали, от преображенцев и от конной гвардии. Преображенцы, сучьи дети, не пришли, у них же царь полковником, а у конной гвардии — его поганый дядя Жорж. И вот они теперь, это царь и его дядя, готовятся сюда ударить. И артиллерия за них, потому что кто там генерал? Такой же немец, как эти. Герр генерал Вильбоа, вот кто. И добавляли: эх, братцы мои, посекут они нас картечью, никто отсюда ног не унесет. А, смеялись на это в ответ, да чего ты такое городишь, дубина! Царь еще вчера убился, вот что. И его уже отпели по немецком обряду. Потому что он был немец! А наша государыня его не убоялась и три дня тому назад прилюдно, при сенаторах и иноземных дипломатах, осудила его за пренебрежение к исконным российским обычаям и за глумление над гвардией и духовенством. И вот его Бог покарал — свалил с лошади и прямо под копыта. А она — сюда, и цесаревич тоже с ней, живой и невредимый. А дядька его с ним? — спросил, не утерпев, Иван. Какое с ним, злобно ответили ему, дядька как узнал, что его племянник, а наш бывший царь, убился, так сразу сбежал в Кронштадт, а там сел на корабль и сбежал в свою Голштинию. А конную гвардию бросил. Иван смолчал, понимая, что здесь ни от кого ничего не добьешься. И еще вот что: что пока что еще совсем не ясно, чей будет верх, потому что гвардия же разделилась — за нее же только два полка из четырех, а остальные где, и с кем они? И тут вдруг впереди зашумели: — Идут! Идут! — А потом и вообще: — Преображенцы! И тут толпа даже отхлынула. Теперь Иван стоял уже в первом ряду, и ему все было видно очень хорошо. И это было вот что: прямо перед ним стояли измайловцы, до полуроты, не больше, а остальные налево, к углу. И там же еще были семеновцы. А преображенцы выходили справа. И это был их первый, гренадерский батальон! Конный майор на правом фланге, шпага наголо! Шли гренадеры, шаг печатали, то есть было любо-дорого смотреть! А что эти, возле церкви? Да они столпились, как бараны, у них же офицеры были в церкви, они только сейчас стали выскакивать, глаза по яблоку, руки колотятся! А конный майор, граф Семен Воронцов (это как уже после дознались), как заорет на них: — Бунтовщики! Бросай оружие! — и своим машет, что давай смелей! И батальон идет за ним! А там же все как на подбор ростом саженные, морды разъетые, ручищи как клещи! Ат, подумал Иван, да что же это сейчас будет! Да неужели, подумал Иван… И вдруг сзади, за преображенцами, даже из их же рядов — а тогда же все вокруг молчали, вся площадь! — вдруг кто-то как начнет кричать: — Виват, императрица Екатерина Алексеевна! Виват! Виват!.. И сбили строй преображенцы, и остановились! А вот уже и среди них стали кричать виват! А тут и семеновцы, измайловцы тоже виват закричали! И побежали эти к тем, а те к этим! И стали брататься. А тут еще колокола ударили, началась совсем неразбериха. Конный майор метался взад-вперед, шпагой размахивал, кричал очень сердито, очень гневно, крыл всех, прямо сказать, последними словами, но его никто не слушал, на него даже никто внимания не обращал. Тогда он вложил шпагу в ножны, крикнул: «Я с вами не буду!» — и ускакал. А Иван стоял столбом, смотрел на все это и ничего еще пока не мог понять. Люди вокруг кричали очень радостно, а он молчал. И это было не потому, что он о чем-то жалел, а вот просто не было в нем веселья — и хоть ты чего! И тут вдруг… О, подумал Иван, вот в чем оно дело, вот почему ему не веселится! Из толпы от церкви вышел офицер-измайловец, и это был тот самый офицер, который еще там, в Измайловской слободе, заставлял Ивана присягнуть, а после велел его взять. Но Иван тогда отбился. А что будет теперь? Иван ступил назад, после еще назад, после еще. Офицер увидел это, засмеялся, махнул рукой, кликнул своих — и кинулся к Ивану! А Иван — сразу в толпу и кинулся бежать! Только какое там тогда было бежать? Там же была такая теснота, что Иван только чуть продирался вперед. Так что, вполне возможно, Ивана скоро бы догнали. И оно к этому и шло, тот офицер быстро к нему приближался. Да еще и на него покрикивал и звал своих солдат! Но, правда, делал он это не очень громко, потому что не хотел поднимать лишний шум, портить праздник. И этим сгубил все дело. Потому что его тоже не очень-то вперед пускали, и даже чем дальше, тем меньше, и он скоро начал отставать, а Иван все дальше уходить. Хорошо, думал Иван, ат, хорошо! А тут еще опять ударили колокола, в толпе от церкви закричали: «Идут! Идут!» После закричали: «Государыня!» после «Ура!» а после еще и еще. И это при том, что толпа опять заволновалась и опять начала тесниться к церкви. Иван опять стоял на одном месте, крепко держал локти врастопырку, потому что там тогда была такая давка, что вполне могли задавить насмерть. А вот из-за чего, точнее, из-за кого задавить, видно не было. Иван стоял на месте, держал локти и, повернув голову, смотрел на церковь. И в той же стороне он видел того своего офицера, которого толпа уже развернула и потащила обратно. В толпе громко кричали всякое. А еще, и это уже от самой церкви, кто-то очень зло кричал: «Ожгу!», «Посторонись!» — и так громко щелкал кнутом, что будто стрелял из пистолета. Это был царский кучер, уже настоящий, Фомич, а не прежний князь Барятинский. А после кнут вдруг замолчал, и толпа за ним тоже. Это, как после узнал Иван, царица вышла из Казанской, а Шкурин шел следом за ней и нес на руках царевича Павла Петровича. Нес, как после говорили, очень ловко. Ну да Шкурин был привычен носить царицыных детей, вон как он младшенького… Тпру! Чего это вдруг! Нет, мы этого пока что обсуждать не будем, нами же уже было обещано больше вперед не заскакивать. Да и какая тут может быть скачка, когда тогда народ опять начал кричать, а Фомич еще на козлы не садился, не спешил, Шкурин с царевичем на руках чинно стоял сбоку, а царица стояла возле самой дверцы кареты, смотрела на народ и милостиво ему улыбалась. И даже, говорят, однажды ему поклонилась. Это, наверное, было тогда, когда там, слышал Иван, особенно громко закричали. А после царица села в карету, ей туда подали царевича… Да, о царевиче. Так вот, царевич был одет в домашнее и даже в ночном чепце. Его же, как котенка, из кровати вытащили, наспех одели как попало и привезли в Казанскую, он ничего не понимал, ему же никто ничего не говорил, не объяснял, что случилось, зачем и почему такая спешка, и почему мать вдруг все величают самодержицей, а где тогда отец, не случилось ли с ним чего, а то вдруг его убили?! Вон, наверное, какие мысли были тогда у царевича. Или еще мало ли о чем он тогда думал, но никто у него тогда ничего не спрашивал, а после он уже и сам никогда ничего никому не рассказывал. Он молчал! И его, молчавшего, при общем крике народном, посадили в темную карету, Фомич взгрел вожжами лошадей и двинул следом за измайловцами, которые, построившись полукареем, пошли прямо на толпу. Толпа, передними давя сзади стоявших, стала быстро расступаться на две стороны. Карета, а вокруг нее измайловцы, направились, как после оказалось, к новопостроенному Зимнему дворцу. В Зимнем дворце все уже было готово: там царицу ждали Сенат и Синод. И туда же, идя напрямик, подходили из своих казарм остальные батальоны Преображенского полка. Они, как после было объявлено, замешкались по недосмотру офицеров и, явившись, повинились перед государыней. Потом, явившись вслед за преображенцами, винились конные гвардейцы. Те и другие были высочайше прощены. Однако все равно веры им в тот день было немного, и поэтому их поставили отдельно, на площадь и дальше по улицам, а в самом Зимнем дворце и на всех его входах и выходах были поставлены только измайловцы и еще кое-где семеновцы. И царица была во дворце, она там держала совет с братьями Орловыми, а также с Сенатом и Синодом. И народ тоже частью пришел, следом за гвардией, ко дворцу и теперь ждал, что будет дальше, а частью остался на месте и там разошелся кто куда и уже даже начал пировать, не дожидаясь официального на то приглашения. Потому что, говорили, что тут ждать! Радость-то какая! Проклятый немец голштинский убился! И повалил народ по сами знаете каким местам сами знаете что делать. Так и Иван пошел за ними, потому что а иначе что, куда ему еще было идти и тащить за собой хвост? Потому что вдруг за ним еще следят! А он, что ли, опять, как дурень, на Литейную, чтобы там всех похватали? Или на Петергофку, на Третью версту? Нет, думал Иван, пора уже умнеть, и шел дальше, в толпе. И вспоминал, как в Корпусе учили, что нужно делать в таких случаях, когда один остался. Тогда вот так: первое — это чтобы сразу впопыхах в плен не попасть, второе — это уже после переждать и осмотреться, и третье — вернуться к своим. Значит, у него уже второе — переждать. И он так и сделал — прошел еще в общей толпе немного, а после свернул, зашел в трактир, там сел в дальний темный угол, взял два крючка водки, один сразу залпом выпил, после разгрыз головку лука и задумался.ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ «Когда мас на хаз…»
…Тогда и дульяс погас. Это у известных людей есть такая присказка. Но тогда тех людей в трактире еще не было, Иван сидел в самом дальнем углу, держал в руке еще полную чарку и думал. Думы были очень невеселые, потому что, как тогда считал Иван, что получилось? Что чей бы теперь ни вышел верх, царя или царицы, а он виноват перед ними обоими, так что ничего хорошего ему ждать не приходится. Но только когда это еще будет, думал дальше Иван, пытаясь себя успокоить, у них же силы почти равные: у царицы гвардия и Петербург, а у царя вся остальная армия и вся остальная Россия. А что, разве не так? Армия вся за царя. Румянцев же прямо сказал, что он передает сюда только поклон. Вон как тогда этот вельможа опечалился! Никита Панин, брат генерала Панина. А генерал за царя! И вот уже и этот его брат Никита, тоже, надо думать, от царицы отшатнулся — и у Казанской его уже не было. Так что, думал Иван не так грустно, теперь у них уже не будет все так гладко, как тогда, когда покойная царица, дщерь Петра Великого, ссаживала с трона Анну Леопольдовну с младенцем Иоанном. Так то же была дщерь против невесть кого. А теперь нужно идти против родного внука. А дщерей больше нет! Вот то-то и оно! Подумав так, Иван поднял чарку и выпил, взял еще одну головку лука, разгрыз ее и осмотрелся. Хотя чего там было осматривать? Трактир был как трактир. Там, где сидел Иван, было еще почти просторно, зато дальше вперед, ближе к прилавку, народу сидело все больше и больше, а возле самого прилавка было уже совсем не пробиться. И там больше всего шумели. Так же много шуму и толкотни было налево от прилавка, возле чана с пивом. А еще, и это уже по всему трактиру, было очень сильно накурено, а так как табак был дрянной, то и дым был такой же — очень густой и въедливый. То есть, опять же говоря, трактир был как трактир, только одно тогда в нем было необычно — это о чем шумели. А шумели, конечно, о том, что только что было в Казанской, отчего так получилось и чего теперь ждать дальше. Пораспускали языки, думал Иван, болтают всякое, а ничего не знают и не понимают! Вот первое: откуда они взяли, что будто бы сегодня ночью была битва между царем и царицей, то есть между голштинцами и гвардией, и гвардия взяла верх, царя пленили, связали и отвезли в Шлиссельбург, поэтому теперь правит царица и ей присягают. Или еще вот такое, это уже за другим столом: что царь вчера велел схватить царицу и царевича, и их схватили, посадили в бочку, бочку засмолили и уже повезли на корабль, но тут прибежали измайловцы, офицер велел бочку рубить, разрубили, царицу и царевича вывели вон и понесли на руках до Казанской, а дальше сами видели, что было. А бочка, спрашивали, что? А как что, засмеялся рассказчик, а в бочку царя! А после бочку опять засмолили и на берег выкатили, и только хотели послать за царицей, узнать, что она царю присудит, а тут ветер вдруг как дунет — и бочка покатилась, покатилась в море! И там утонула, и все. Сказав это, рассказчик утер губы рукавом. Ему поднесли, и он выпил. А в это время за третьим столом… Ну и так далее! Иван молчал, вертел в руке пустую чарку. Лук у него тоже кончился. И за его столом, кроме него, никого больше не было. Но только Иван так подумал, как увидел, что к нему от прилавка идет человек, одетый довольно прилично. В руке у человека был стакан. Человек увидел, что Иван на него смотрит, и сразу кивнул ему, как старому знакомому. Иван в ответ кивать не стал, а только медленно моргнул. Человек сел за его стол, но совсем с другого края, поставил свой стакан перед собой и на Ивана уже больше не смотрел. И Иван от него тоже отвернулся. Про человека он подумал, что это немец из мастеровых, может, часовщик какой-нибудь, потому что руки у него были для других мастеровых слишком холеные. И еще этот немец пьет пунш, а не водку, значит, боится, чтобы руки после не тряслись. Подумав так, Иван еще раз осмотрелся… И увидел, что уже совсем возле него стоит косая девка в черном кожаном фартуке. Девку звали Груня, как это Иван после узнал, а тогда она только вот так вот мазанула мокрой тряпкой по столу и спросила: может, ему еще чего подать. Иван строго сказал, что ничего пока не надо. Тогда девка уже совсем дерзко сказала, что, мол, чего это вы, ваше благородие, сидите среди этой подлой сволочи, может, вам хочется в бильярдную, так вы только скажите. Нет, не хочется, сказал Иван, отстань! Но Груня его как будто не расслышала и продолжала: или вы совсем хотите отдохнуть? Так у нас можно и это, и вам бы недорого стало. Пошла прочь, громко сказал Иван, чего привязалась? Так разве это я, не унималась Груня, я же вам не про себя, а я вам про свою сестрицу говорю, вы бы, ваше благородие, только одним глазочком на нее бы глянули — и ваше сердце сразу бы растаяло! Иван не выдержал, вскочил и даже сделал вид, будто хватается за шпагу. Груня засмеялась и ушла, вихляючись. Иван сердито крякнул и сел обратно. Немец смотрел на него, улыбался. А Ивана взяло зло! Потому что не любил он немцев! А немок еще больше. Немки, вот от кого все беды! И кто бы это мог подумать?! Вот как было с фрау Мартой: такая же была душевная женщина, просто как мать родная, прости Господи, а что потом получилось? Полный афронт, как любит говорить Семен. Вспомнив про Семена, Иван еще сильней нахмурился, потому что ему сразу вспомнился вчерашний вечер и то, как приезжал Семен, и что он говорил, и как он оставил ему лошадь, как лошадь потом убили и за что. И, главное, Иван стал думать вот о чем: а что теперь с Семеном, жив ли он, и каково ему теперь, как бы не было ему большой беды, потому что он же от царя, а царских здесь сейчас не жалуют. А где сейчас сам царь и что с ним? Но дальше думать было уже некогда — это потому, что прямо от входных дверей к Иванову столу шла большая шумная компания. Одеты они были так, что было совершенно не понять, кто это такие — мастеровые или дворовые, а то даже купцы. Главным среди них был очень крепкий и очень широкий детина, одетый в красную венгерку. С детиной было с полдесятка молодцов, тоже очень нехилых на вид, и рожи у всех зверские, а в кулаках, наверное, свинчатки, а за голенищами ножи. Тот, который из них шел впереди всех остальных, строго сказал немцу: — А ну потеснись! Немец спорить с ним нестал, а сразу боком-боком пересел ближе к Ивану. Эти расселись за столом, загыкали и затолкались, а тот, который прогнал немца, уже громко звал хозяина. Но хозяин и так уже был здесь и покрикивал на половых, половые расставляли миски и бутылки, в мисках было полно всякого, а в бутылках водка, ренское и даже полушампанское. Бутылок было полувзвод, не меньше, им столько ни за что не выпить, подумал Иван. А главный молодец уже сказал: — А почему с пробками? Комар, ты что? Пробки долой! Комар, а так звали хозяина, грозно глянул на своих. Но это было уже лишнее, его люди похватались за бутылки, пробки полетели прочь, полушампанское запенилось по кружкам (а они пили из кружек), и туда же захлестала водка, и главный радостно сказал: — Вот так уже лучше! А то какой сегодня день, Комар! Царя уели, слышал?! — А чего нам, Кондраша, царь, когда ты с нами! Главный погрозил ему перстом, перст был грязный, с черным ногтем, и сказал: — Но, но, Комар! Не зуди! После вчерашнего нет тебе веры! — И тут же добавил, обращаясь к своим молодцам: — Чего сидим? А ну, сарынь! Это он сказал, уже взяв свою кружку. Остальные тоже взяли, один из них что-то быстро, невнятно сказал, они все громко засмеялись и принялись пить. Комар, а ему тоже было налито, выпил вместе с молодцами, после чего тот, кого он назвал Кондрашей, то есть их главный, махнул на него рукой — и Комар сразу ушел, а вместе с ним ушли и его люди. Теперь там, то есть за тем столом, кроме Ивана, остались только немец и Кондраша со своими душегубами. Немец сидел как мышь, эти налили по второй, и выпили, и шумно принялись закусывать, а Иван зажал свою пустую чарку в кулаке и уже совсем собрался встать. Но тут Кондраша перестал закусывать, внимательно посмотрел на Ивана — а он сидел наискосок, то есть совсем недалеко, — и негромко, но очень серьезно сказал: — Здравия желаю, ваше благородие. — Здравствуй и ты, — сказал Иван. — Тебя как звать? Иван поморщился. Он очень не любил, когда холопы ему тыкают. Он такого даже просто не терпел! Но тут только хмыкнул и сказал: — Меня зовут Иван Заруба, ротмистр. — Славно! — сказал этот их главный. Тут он тоже хмыкнул и продолжил: — А меня — Кондрат Камчатка! Слыхал про такого? — Нет. — И твое счастье, ваше благородие, что не слыхал! — дерзко сказал Камчатка, беглый матрос, как после оказалось. — Не слыхал! — сказал он уже громче. И велел: — А ну налить ему! Будем знакомиться! Один из них сразу вскочил и налил, а точнее, набухал, в пустую ничью кружку сперва водки, а потом полушампанского, а другой эту бурду пододвинул Ивану. После они и себе всем такого же сделали, а немцу ничего не дали. Да немец и не просил, немец по-прежнему сидел как мышь. Камчатка только глянул на него и даже не хмыкнул, а сразу опять повернулся к Ивану и теперь сказал уже вот что: — Я знаю, ваше благородие, ты человек подневольный. Ты же на царской службе. Или уже на царицыной. Но на службе — это точно, офицер без службы не бывает. Но разве я тебе судья? Нет, я никого не судил и никогда судить не буду. Поэтому пей за что хочешь, ваше благородие, пей молча, я тебе мешать не буду. Нет, я даже вот что: я с тобой вместе выпью за твое! — и он поднял кружку. Иван тоже поднял. Но опять его как будто кто под бок толкнул! И он, усмехнувшись, сказал не очень добрым голосом: — А если я против тебя чего задумаю и против тебя выпью, тогда ты как? — Э! — громко сказал Камчатка. — Что ты говоришь такое! Да ты такого делать ни за что не будешь! — Почему? — Да потому что не такой ты человек. Я тех, других, сразу чую. А теперь давай загадывай и пей! А то вся пена выйдет, а в ней вся сила и весь вкус. Давай скорей! Иван сердито усмехнулся и еще выше поднял кружку, после уже даже к губам приставил — и уже только тогда подумал о том, что пусть с ним будет то, что будет, только бы его Анюте было хорошо, чтобы ее никто не обижал, чтобы она была счастлива, чтобы попался ей жених хороший… и не удержался и додумал: да вот хотя бы он сам! И тут же выпил очень быстро! Камчатка тоже выпил, но не спеша, после так же не спеша утерся и сказал: — Нет, это мы не за царя с тобой выпили. Но и не за царицу. Ну да оно и правильно! За царицу, я думаю, сейчас полным-полно охотников найдется выпить. И уже, я думаю, нашлись, и они уже пьют. Они же сразу куда от Казанской пошли? В Зимний дворец, к столам! Да там уже, небось, еще с ночи все было накрыто, я так чую. И там они уже по третьей или даже по четвертой пропустили, и уже, может, даже запели. Вот как оно по-русски должно быть! А царь, дурной немец, еще, небось, в койке валяется, дрыхнет, и ничего о том, что у нас здесь творится, не знает. Иначе говоря, продрых, проспал царь свое царство, вот что! Сказав такое, он даже ударил кулаком об стол. А Иван удивленно подумал, что и в самом деле царь, может быть, ничего еще не знает. У него же день обычно как начинается? Утром быстро, наспех кого-нибудь принял, указ подписал — и в полки. И экзерциции, то бишь муштра, до обеда, до часу дня, и никто не смей к нему тогда соваться и отвлекать его от этого. Но, правда, Семен говорил, что царь сегодня собирался к десяти утра в Казанский. Да и это не в лесу же случилось, да неужели эстафеты царю не было? А он, Иван, сидит и прохлаждается, жрет водку! Подумав так, Иван даже привстал и посмотрел на Камчатку. Камчатка засмеялся и сказал: — Сиди, сиди! Чего теперь уже? Теперь уже как есть, так есть! Иван сел обратно за стол. Камчатка негромко сказал: — Я так думаю, что так оно и есть — ничего царь еще не знает. Из города же теперь выхода нет никому. Уже по всем дорогам караулы стоят. Входить входи, а выходить нельзя. Но кому надо, тем, конечно, можно. Но мы же не те, кому надо. И ты не тот! Иван молчал. Камчатка еще раз сказал: — Никому! — После сказал: — А царь спит. — После отставил кружку, и ему еще налили, он пригубил, отпил немного, после опять отставил кружку и сказал уже совсем сердитым голосом: — Я, ваше благородие, не радуюсь. Царь же немец был хороший. Он простому подлому народу много добра сделал. Вот он хотя бы Рогервик закрыл. Ты в Рогервике был? Ты знаешь, что такое эта муля, которую там в море ведут, насыпают? А море там бездонное, ты эти камни кидай туда и кидай, от еще первого Петра кидают, между прочим, и никак не накидают. И не накидают никогда! Потому что место там проклятое! И этот Петр, немец, про это как прознал — а ему про это его немцы рассказали, — так сразу велел: нет, не позволю я свой простой подлый народ губить напрасно, а пускай он с пользой губится, а посему перевести его к чертям собачьим из Рогервика в Кяхту! А Кяхта — это хорошо, там до Китая близко. Из Кяхты, говорят, бежать куда способнее, чем из Рогервика. Там же какие стены, ваше благородие, кто через такие перескочит?! И там же мы на муле, место узкое, и караульные через каждые пять шагов, куда деваться? Только в море! А там попробуй выплыви! А караульные еще сверху стреляют. Там же, ваше благородие… Но тут он вдруг замолчал и обернулся. Сзади него стояла Груня и что-то быстро-быстро ему говорила. Камчатка сперва слушал, а потом махнул рукой, а после даже сказал: пошла вон! Груня ушла. Камчатка помолчал, поморщился, после опять заговорил — теперь уже такое: — Вот так, ваше благородие! Я царя Петра-немца любил. Он же сколько народу помиловал, когда на трон садился! Тысячи тысяч, вот сколько! Вот это доброе дело. Но, правду сказать, и покойная царица Лизавета тоже была добрая. Тоже, когда помирала, когда это почуяла, многих тогда велела вернуть и помиловать. Так и эта теперь тоже, Катерина ее звать, я знаю, тоже велит всех миловать. Потому что это ей какая радость, она же теперь царица самовластная! А когда придет ей срок, как станет помирать, так тоже опять объявит свою милость — и простой подлый народ пойдет на волю. Вот это славно! И что тогда из всего этого получается? Да вот что: что чем они скорей там, наверху, меняются, тем нам здесь, внизу, чаще милость! Разве не так? Или так? Иван молчал. Камчатка тоже помолчал, потом заговорил, теперь очень насмешливо: — Эх, ваше благородие! Да разве это непонятно… Но вдруг опять замолчал и повернулся к прилавку, к дверям. Иван тоже посмотрел туда и увидел, что это пришли солдаты, трое или четверо, опять измайловцы, и что-то громко говорят хозяину. Хозяин молчит. А тут входит еще один измайловец, теперь уже капрал, и он уже громко и внятно кричит, чтобы им подали водки — всем бесплатно! Потому что они Русь спасли от немца! Потому что матушка-царица так велела! Ну и так далее, и это уже очень дерзко. И еще они все были с ружьями — и это в такой тесноте! Камчатка сразу встал, грозно глянул на солдат, после велел своим: — А ну их вон! А то что это за разбой такой?! Почему это вдруг даром! А ну! Его душегубы поднялись и быстро пошли к прилавку. И там сразу стало совсем шумно, душегубы теснили солдат, солдаты были уже крепко пьяные, а тут еще их капрал сбил их с толку — он вместо того, чтобы теснить навстречу, стал громко, в крик объяснять, что их гнать нельзя, они на службе, они ищут злодея — и будут искать его здесь, как они его везде искали, но нигде такого зверства не было, везде им наливали, а здесь что, не православные, им что, разве не радостно, что царь поехал на охоту и убился с лошади, а царица с царевичем живы, а злодей драгунский офицер — это не иголка, а Петербург не стог сена, злодея все равно найдут, они сюда еще придут, и уже придут взводом и будут стрелять… А больше его слышно не было, потому что его вытолкали в дверь, и его солдат следом за ним, только один остался, самый пьяный, его взяли под руки и посадили за ближайший стол, подали чарку — и он выпил и запел про генерала Краснощекова. Очень хорошая песня, подумал Иван. А Камчатка смотрел на него и молчал. Вернулись его душегубы. Один из них спросил, где немец. А и вправду, подумал Иван, их немец куда-то пропал. Это ничего, сказал Камчатка, это не тот немец. Иван пожал плечами, промолчал. Тогда Камчатка вот так усмехнулся, после вот так через стол наклонился и очень негромко сказал: — А я, ваше благородие, сразу почуял, что ты не простой. — Что не простой? — спросил Иван. — А ничего! — сказал Камчатка. После резко повернулся и грозно окликнул: — Груня! Сразу откуда ни возьмись явилась эта Груня, эта кривая девка. Камчатка кивнул на Ивана и грозно сказал: — Вот что, Груня! Ваше благородие устал, намаявшись, и хочет отдохнуть. Покуда эти ваньки не пришли! Так ты сведи его в бильярдную! И быстро! — Э, нет! — сказал Иван, вставая. — Что нет? — так же спросил Камчатка, и он тоже встал. — Ты, ваше благородие, меня еще вон как вспомнишь. А пока бы отдохнул! Чего не отдохнуть? А мы их здесь покараулим. Ну! А тут еще и эта Груня подвернулась! Сказала: — А я сразу говорила, предлагала. А он не пошел! — Молчи! — грозно велел Камчатка. Груня быстро-быстро закивала и взяла Ивана за рукав. Иван шагнул к ней — и они пошли, повернули за печь, а там еще прошли по тесноте и темноте, после опять повернули — и там уже было светло, а посреди и в самом деле стоял бильярдный стол. Груня тихо засмеялась и сказала: — Можно вина накрыть, если желаете. Я принесу. Или, если голова кружится, так я вам постелю. — Постели! — сказала Иван. Груня засмеялась, не поверила. — Постели! — опять сказал Иван, и это уже грозно. — Сейчас, сейчас! — сказал Груня и быстро ушла. А Иван так же быстро обошел вокруг бильярдного стола, подошел к окну и навалился, зацепился, вынул раму и поставил ее рядом, при стене, пролез в окно и соскочил вниз, в палисадник, пригнулся и быстро, но с опаской, хоронясь, пошел вдоль стены. И он бы ушел совсем! Но вдруг его окликнули: — Герр ротмистр! Иван остановился, оглянулся…ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ Горшки
Сзади него стоял тот самый немец из трактира, который там вдруг куда-то пропал. А вот теперь он стоял здесь и улыбался. Да еще выставил руку вперед и сказал: — Вам туда нельзя, герр ротмистр. Это он показывал туда, куда вдоль стены шел Иван. Иван глянул туда. Там, между забором и стеной, был виден кусок улицы, и никого там не было. Иван опять посмотрел на немца. Немец сказал: — Там бунтовщики, их много. Зачем вам туда? Вам лучше сюда, — и он указал себе за спину. За спиной у него был сарай, там через открытую дверь было видно, что в сарае свалены пустые бочки. Мышеловка, подумал Иван. Но тут на улице раздался шум, Иван опять глянул туда. Теперь там и вправду показались солдаты. Они шли к трактиру, их было десятка полтора, не меньше, и вел их уже не капрал, а офицер. — Клаус Клямке, негоциант, — сказал немец, приподнял свою шляпу и тут же продолжил: — Всегда был и остаюсь на стороне законной власти. Пожалуйте сюда, герр ротмистр! — и он опять указал на сарай. А солдаты были уже на крыльце, слышно было, как они там на кого-то заругались. А вот уже бьют в дверь и входят! Иван шагнул к немцу. Немец, ничего не говоря, развернулся и пошел. Но не в сарай, а за него, и там, между одним сараем и вторым, они быстро перебрались на соседний двор. В соседнем дворе было пусто. Зато сзади, во дворе трактира, раздался громкий шум, как будто там началась драка, а вот уже и начали стрелять из ружей. — Глупости! — сказал на это немец, даже не оглядываясь. — Пьяные бунтовщики. А нам сюда! Иван шел за немцем. Они миновали тот двор, вошли в кусты, немец предупредил: — Сейчас будет некоторая сложность. Это он так сказал про забор. Они быстро перелезли через него и попали в следующий двор. Там два немца, хозяин и работник, разгружали подводу с досками. Иванов немец, Клямке, не сбавляя шагу, по-немецки их приветствовал. Немцы по-немецки же ему ответили, продолжая заниматься своим делом. Выйдя с того двора на улицу, а это была, кажется, Шпалерная, Клямке и Иван остановились. Там было тихо, никакой стрельбы или даже просто какого-либо шума слышно не было. Клямке улыбнулся и сказал: — Вот, собственно, и все, что я намеревался для вас сделать. Теперь вы в полной безопасности. Но я все же посоветую вам вот что: сразу ступайте домой или туда, где вы сейчас квартируете, и переждите там хотя бы… Но тут он вдруг перестал улыбаться, крепко взял Ивана за рукав и почти насильно быстро оттащил в тень под забор и деревья. Иван уже только оттуда оглянулся — и увидел, что солдаты, а это опять были измайловцы, шли через ближайший перекресток. — Черт подери! — сердито по-немецки сказал Клямке. А потом опять по-русски, и опять с улыбкой, продолжил: — Но почему это я вас куда-то отправляю? Вы любите кофе? — Люблю, — сказал Иван. — Тогда я приглашаю вас! — быстро продолжил Клямке. — На чашечку. Прямо сейчас. Я здесь живу совсем рядом. Или вы куда-нибудь спешите? Или вас что-то беспокоит? Иван еще раз глянул на солдат, остановившихся на перекрестке, потом снова повернулся к Клямке и как только мог равнодушней ответил: — Нет, ничего. А что? — Вот и чудесно, — сказал Клямке. — Тогда нам сюда. После чего они прошли еще совсем немного вдоль того забора, дошли до ближайших ворот и Клямке в них постучался. Им достаточно скоро открыли. Клямке молча поднял шляпу — и у них ничего не спросили, они прошли через тот двор, после пошли по огороду, по тропке между грядками земляного яблока, сиречь картофеля. Тропка быстро уперлась в забор, они через него перескочили — и вышли на такие же картофельные грядки, за которыми был виден еще один дом. К дому вела прямая и широкая тропинка. Но Клямке свернул на другую, узкую, вдоль самого забора. Клямке шел первым и тихонько напевал. Вдруг он остановился, посмотрел на дом. Иван тоже посмотрел туда. — Два! — по-немецки… То есть: — Цвай! — сказал Клямке, обернулся и продолжал уже по-русски: — Вот и мой дом, герр ротмистр. И нам здесь сюда. И он повел Ивана к заднему крыльцу. Там он сам своим ключом открыл дверь. Они, стараясь не шуметь, вошли, свернули по коридорчику и, миновав две двери, остановились возле третьей. Клямке открыл ее уже другим ключом, распахнул дверь и знаком пригласил входить. Иван вошел, прошел совсем немного вперед, остановился, осмотрелся и увидел, что он стоит посреди маленькой чистенькой комнатки, очень похожей на ту, которую он оставил в Померании. Только Мишки-денщика, невольно подумал Иван, здесь не хватает. Клямке снял шляпу, добродушно улыбнулся и сказал: — Надеюсь, вам здесь будет уютно. Тем более что, как я думаю, вам здесь не успеет наскучить. Вы же совсем ненадолго. — О, да, несомненно, — ответил Иван. Клямке еще раз улыбнулся и добавил: — Произношение у вас великолепное. Акцента совершенно никакого. Иван сразу нахмурился. Ат, что это он так, подумал он сердито, он же по-немецки с Клямке разговаривает! Клямке участливо спросил: — Вас что-то опечалило? Могу ли я вам чем-либо помочь? Это он сказал опять по-русски. Но Иван ответил по-немецки: — Нет, что вы, все прекрасно. Я всем доволен. — Я рад, я рад, — воскликнул Клямке, и это опять по-немецки. — Тогда располагайтесь, как у себя дома. Иван снял шляпу, вернулся к двери и повесил шляпу на рожок. После вернулся, расстегнул мундир, сдвинул шпагу и сел на софу. А Клямке подошел к окну, там в двух горшках стояли два цветка. Иван вспомнил «Цвай» и насторожился. А Клямке выглянул в окно и будто бы залюбовался тамошним видом, будто он впервые это видит. Он даже еще сказал, что обзор великолепный, видны перекресток и ворота, и даже входные двери, а это очень важно. Иван на это промолчал, продолжая наблюдать за Клямке. А тот как бы между прочим передвинул по подоконнику горшки. Передвигать горшки — это дело серьезное, это условный знак, отметил про себя Иван. Тогда куда же это он попал, к прусским шпионам, что ли? Но пруссаки теперь союзники, и получается… А дальше Иван подумать не успел, потому что Клямке уже отвернулся от окна, опять, как всегда, улыбнулся и заговорил уже, конечно, по-немецки: — Все, что мы сегодня видели, это, конечно, очень неприятно. Но думаю, что это долго не продлится. Вот в прошлый раз было намного хуже! Тогда ведь сразу началось с того, что они захватили императора. А теперь им до императора не дотянуться. Как это по-русски говорится? Руки шибко коротки! — громко и радостно воскликнул Клямке, и так же радостно продолжил: — Наш бравый Питер — это им не тот бессловесный младенец, Питер себя в обиду не даст! Я думаю, ему уже обо всем доложили, он уже отдал нужные приказы — и его верные войска уже идут нам на помощь. Скоро мы их здесь увидим, вот в этом окне! Однако как бы это быстро ни случилось, мы все равно еще успеем выпить по чашечке кофе, не так ли? Или, может, желаете пива? Или горячего пунша? — Э! — только и сказал Иван и руками показал, что ничего пока не надо. — Да, — тотчас согласился Клямке. — Я вас понимаю. Ужасный день. Просто кощунственный. Да кто бы это мог подумать, что гвардия, цвет армии — и вдруг такое предательство. А из-за чего? Да единственно из-за того, что они не пожелали идти в поход. Да это просто черт бы их побрал, вот что! — Тут Клямке даже резко поднял руку… А после медленно опустил ее вниз и уже почти совсем спокойно продолжал: — А впрочем, я не прав. Это же вполне в здешних обычаях. Ведь то же самое было и тогда, я еще только приехал сюда… Тогда их тоже хотели заставить служить. Им было объявлено идти в Финляндию. Да вы, наверное, про ту кампанию ничего не знаете, вы еще слишком молоды. Ну разве если только кто-нибудь из ваших старших вам о ней рассказывал. Отец рассказывал? — Нет, не рассказывал, — сказал Иван. — Потому что его там убили. — О, — тихо сказал Клямке, — тысячу извинений. Я не знал. — Тут он еще некоторое время молчал, а потом опять заговорил: — Так вот тогда, в ту кампанию, гвардия тоже не желала идти в поход, и они ворвались во дворец. Была ночь, никто ничего подобного не ожидал, все крепко спали. Но пьяным солдатам никакого дела до этого не было. Они вбежали в императорскую опочивальню, схватили императора, завернули его в мантию… Но завернули как попало, наспех. Император упал на пол и начал громко плакать. Но ничего страшного, казалось, не случилось, он же был жив и здоров. И государыня, а тогда была уже другая государыня, теперь, правда, уже покойная, государыня о нем сказала: какой чудесный мальчик. И только уже после, наутро, заметили, что случилось: мальчик не мог стоять на ножках! Это последнее Клямке сказал очень медленно и со значением. Иван молчал. Клямке, еще немного погодя, продолжил: — Он еще долго болел, его лечили. И почти вылечили. А сейчас он и вообще почти не хромает! Тут Клямке даже гордо улыбнулся, как будто в этом была его заслуга. Иван тоже улыбнулся, но совсем не весело, потом сказал: — Вы говорите так, как будто бы совсем недавно его видели. — Нет, это, конечно, не так, — сказал Клямке. — Да я его вообще ни разу не видел. Но я знаю одного человека, который знал, что говорил. Но я, конечно, не назову этого человека. Да вы у меня и спрашивать о нем не будете. Как, впрочем, и я не собираюсь вас спрашивать о кое-каких вещах. Например, о том, почему вас так настойчиво разыскивают эти грязные бунтовщики. Это меня не касается! Это не мое дело. Мое дело только вот какое — оказывать посильную помощь тому, кто, может быть один из очень и очень немногих, остался в этом городе верен… — Тут Клямке опять замолчал и спросил: — Вы что-то хотите сказать? — Да, — сразу же сказал Иван. — Мне кажется, что я напрасно занимаю вас. — С этими словами он даже встал с софы и продолжал: — Благодарю вас за ваши заботы, но, поверьте, мне нужно идти. Я спешу. — А! — тотчас же воскликнул Клямке. — Вы обиделись. Вы очень гордый человек, я это сразу приметил. Но что вам это даст, если вы сейчас настоите на своем? Да то, что они на вас набросятся на первом же перекрестке. А все из-за чего? Что глупый и невоздержанный на язык герр Клямке надокучил вам своей болтовней. Что ж, тогда я умолкаю. Но умолкаю не просто, а с пользой. А эта польза вот какая: пока вы здесь немного посидите и передохните, я отлучусь буквально на несколько минут — только для того, чтобы заглянуть к соседям и узнать у них, что у нас здесь творится, как нам всем, может быть, сообща лучше помочь доблестному господину ротмистру… — Тут Клямке опять замолчал, склонил голову набок, внимательно посмотрел на Ивана… А Иван еще раз посмотрел на Клямке — довольно-таки упитанного господина лет пятидесяти, беловолосого и белобрового, даже почти что белоглазого… После чего Клямке спросил: — Или вы мне не верите, герр ротмистр? Думаете, что я приведу сюда бунтовщиков и получу за вашу голову награду? — Нет! — очень сердито ответил Иван. — Вот об этом я как раз совсем не думал. — Тогда вы позвольте мне отлучиться? Для вашей же пользы. В ответ Иван только махнул рукой — мол, делай, что хочешь, чего там! Тогда Клямке сказал, что, если что, пусть Иван постучит — и показал, как каким стуком стучать, это будет знак прислуге, прислугу зовут Иоганн — после чего еще раз, как всегда, улыбнулся, любезно поклонился и вышел. Дверь за ним мягко закрылась — и не на замок, как это особо отметил Иван. И еще вот что тоже было примечательно: шаги почти сразу затихли. Клямке — шпион, это как пить дать, очень сердито подумал Иван. А он, Иван, — дурень набитый! Иван вскочил и заходил взад-вперед. И опять подумал: какой дурень! Вот теперь у него спросят: где ты был? А он скажет: у прусского шпиона. А до этого сперва предал царя, потому что упустил царицу, а после уже ее предал, потому что отказался присягать и оказал сопротивление, заколол невинного солдата — а теперь сидит у прусского шпиона и ждет пуншу! Что с таким делать? Расстрелять. Или повесить? Или еще что? Иван остановился и задумался. И опять подумал: дурень дурнем! Потом подумал: это все от суеты. Куда спешил? Зачем? А сейчас как быть, что делать? И вдруг этот чертов немец, мало ли что он задумал… Но дальше Иван думать об этом не стал, да и вообще постарался ни о чем пока не думать, а просто постоять и посмотреть в окно и успокоиться. И стал смотреть. На улице пока что никого не было видно. В доме тоже было тихо. Вот и хорошо, думал Иван, не нужно суетиться. Или вот даже хотя бы вспомнить пана Вольдемара. Пан Вольдемар в ту теперь всем известную ночь, то есть в ту самую, про которую только что Клямке рассказывал, что он тогда делал? Да вот как раз ничего! Тогда же было как? Ночь была, сильный ветер, завьюжило, и он, то есть пан Вольдемар, тогда еще простой курьер, только-только подошел к крыльцу, при нем был пакет, он спешил… Как вдруг видит — подъезжают сани, сразу несколько саней, все они разом останавливаются, и из них выскакивают солдаты-преображенцы, а впереди всех Лизка-цесаревна, будущая государыня. И сабля у нее в руке. Ну, дщерь Петрова, что тут скажешь! Пан Вольдемар перепугался, встал во фрунт. То есть не кричал, не поднимал тревогу, но и честь не отдавал и не приветствовал, а просто стоял столбом. Но и этого ему вполне хватило: он уже назавтра был ею обласкан — из простого курьера переведен в столоначальники. И он и дальше бы рос, и к нынешним временам, это за двадцать лет, мог бы очень крепко вырасти. А так весь его рост ушел в бутылку. Но, правда, пан Вольдемар и теперь еще в достаточной силе, он еще может… И тут Иван вдруг увидел солдат! Это опять были измайловцы, только почему-то в старых, елизаветинских мундирах, их было семеро вместе с капралом, они шли по огороду вольным строем, шляпы набекрень, а в руках держали палаши. Они были крепко пьяные. Иван отступил от окна. А они подошли уже к самому дому и вот прошли под окном. Иван стоял и слушал. А они поднялись на крыльцо и стали стучать в дверь. Дверь им пока не открывали. Ат, сердито подумал Иван, сейчас самое время бежать, чего он ждет?! Но продолжал стоять. Тут им открыли дверь. А, фрау карга, громко послышалось оттуда, а ну посторонись! Фрау, наверное, посторонилась, потому что дальше сразу стало слышно, что они уже вошли в дом. А Иван, опять в сердцах, подумал, что это не Клямке их привел, а это они сами пришли, и они ищут его, Ивана. А дверь к нему открыта — заходи, кто хочешь. Подумав так, он вынул шпагу. А эти, было слышно, ходили по дому, открывали двери и смотрели, нет ли где кого, никого не находили и ругались. А фрау слышно не было. Нет, еще раз подумал Иван, теперь бежать никак нельзя, побежишь — они в отместку сожгут дом, разграбят, а фрау… Ат, совсем уже в сердцах подумал Иван, ведь же еще и это! А кто она такая, эта фрау? Жена шпиона! Ну да что поделать? Значит, такая у него судьба. Иван прошел к двери и встал за нею, поднял шпагу. А эти подходили все ближе и ближе, шумели все громче и громче. Иван начал про себя молиться: Господи, не дай им меня увидеть, я же теперь уже двоих, а то и троих убью, не меньше. А они же наши, Господи, а фрау — шпионка, зачем мне это, Господи? Это же великий грех!.. Тут дверь открылась, и пахнуло крепким перегаром. Тот, который открыл дверь, сказал только: о! — и прибавил еще одно слово. И почти сразу закрыл дверь, и они все пошли дальше. Фрау с ними тоже шла и с сильным акцентом раз за разом повторяла: господа, господа! Но эти господа ее не слушали, шли дальше. Иван стоял за дверью, ждал, что будет дальше. А дальше было так: они зашли, наверное, в столовую, и им там чего-то поднесли. Они это, конечно, сразу выпили, потому что было слышно, как они стали кричать виват Екатерине Алексеевне. А потом они еще чего-то добивались, требовали, наверное, чтобы им дали с собой в дорогу. И им, наверное, дали, и дали немало, потому что они дружно зашумели и почти сразу пошли вон. Уходили они уже не у Ивана под окнами, а на другую сторону, на улицу. В доме опять стало тихо. Иван убрал шпагу в ножны, отошел от двери и опять сел на софу. И сидел он тогда долго! В голове все перепуталось, и он вначале ни о чем не думал, в голове были не мысли, а какие-то обрывки. И еще очень хотелось, чтобы скорей пришел Клямке, чтобы дальше что-то делать, а не сидеть просто так. Но Клямке не было и не было. И его фрау тоже как куда пропала. В доме было совсем тихо. Ну еще бы, думал Иван, переполошили ее вон как! Ну да это всегда так бывает, этим же в такое время только попадись. Это же какие уже люди? Им вдруг стало можно все, что хочешь, а это покрепче любой водки. И они тогда просто звереют, и им же тогда все равно, кто перед ними. Вот как хотя бы в прошлый раз, сколько тогда было императору? Да всего год с небольшим. А лейб-кампанцам что! Они вбежали к нему в спальню, няньку сразу в сторону, то есть дали в зубы, чтобы не орала, а самого его в охапку и завернули в мантию, а мантия была длиннющая и скользкая, и он упал. Они его подняли и смеялись. А государыня Елизавета, а она наутро уже стала государыней, сказала про него: какой милый мальчик. И больше его с тех пор никто не видел! Вначале говорили, что его отвезут в Германию, к его дальним дядькам и теткам, и уже даже повезли туда и довезли до Риги… И там он вдруг пропал. Потому что, говорили знающие люди, если бы он только оказался в Германии, то там обязательно нашлись бы такие люди, которые его сперва бы вырастили, выучили, а после дали ему войско, с которым он бы вернулся в Россию и опять стал императором, а дщерь Петрову бы ссадили! Потому что ему присягали, потому что он законный император — Иоанн Шестой Антонович, а дщерь Петрова рождена вне брака… А так Иоанн вдруг пропал, увезли его куда-то, спрятали, и дщерь осталась царствовать. И об Иоанне никогда никак не поминала. И также и другим поминать не велела — строжайше, а непослушным усекали языки. Вот и молчали все, да и никто толком не знал, что с Иоанном и где он… А Клямке где? Иван опять прислушался. В доме было тихо. Иван встал и подошел к окну, посмотрел на улицу, ничего особенного там не увидел, но все равно подумал, что как бы и в самом деле его немца не схватили. В прошлый же раз как их хватали! И сколько их перебили тогда, сколько их домов пожгли, лавок пограбили! А Клямке, если его сейчас схватят, ему приставят ствол к затылку и велят: веди, показывай! Но это если его схватят. А могут ведь и не схватить… И точно: во дворе от улицы послышались шаги. Это были шаги Клямке. Клямке шел один и не спешил. Иван вернулся от окна, сел на софу и подумал, что что-то очень долго Клямке не было. Ну да хорошо, что хоть живой вернулся и как будто бы один. А в коридоре что-то тихо говорили — женским голосом и по-немецки. Потом в дверь постучали. Иван, не вставая, ответил: — Открыто.ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ Иван Иванович
Вошел Клямке. Он уже не улыбался, а был очень серьезен, даже почти мрачен. Он плотно прикрыл за собой дверь, даже еще попробовал, плотно прикрылось ли, и только уже после сказал: — Вот я и вернулся, господин ротмистр. И кое-что узнал. Говорил он по-немецки. А Иван в ответ молчал. Тогда Клямке прошел мимо него к окну и посмотрел на улицу. После, как бы между прочим, опять поставил горшки так, как он их ставил раньше, повернулся к Ивану и стал говорить вот что: — Ничего хорошего сказать вам пока не могу. У них же пока все получается. Город они держат весь, и выезды из него тоже. И весь армейский гарнизон теперь тоже за них. А это еще сколько полков? Четыре? Или шесть? Иван пожал плечами, делая вид, что не знает. А сам тут же подумал: правильно, четыре здесь и еще два на Васильевском острове. — Шесть! — громко сказал Клямке. — А другие говорят, что будто даже десять. А кое-кто уже смеет кричать, что даже Ораниенбаумский и Петергофский гарнизоны присягнули Катрин, а Питер… извините, а император Петр Федорович спешно отбыл в Ревель, чтобы оттуда сразу отбыть дальше, уже совсем в Голштинию. Но, повторяю, это только слухи. Даже, точнее, пьяный вымысел перепившейся на радостной, как это правильно по-русски, на радостной дармовщине толпы. Ведь же это такой ее первый указ: поить везде всех даром! Так что только можете себе представить, чего я сейчас везде насмотрелся. Да и вы здесь, как мне сказали, тоже кое-что уже увидели! Тут Клямке замолчал и даже поджал губы. Но и Иван тоже молчал. Тогда Клямке прошелся взад-вперед, еще раз посмотрел в окно, даже еще раз поправил горшки, а после продолжил вот как: — Так что они теперь все храбрые. Особенно Катрин! Да вы ее теперь не узнали бы. Она переоделась старым русским офицером, то есть, я хотел сказать, она облачилась в отмененный высочайшим указом мундир образца прошлого, елизаветинского царствования и теперь намеревается во главе гвардии, а точнее, этой вдрызг пьяной толпы, идти на Петергоф. Они думают схватить там государя, посадить его, как зверя, в клетку… — Тут Клямке замолчал и усмехнулся, потом сразу стал серьезным и так же серьезно сказал: — Но я очень бы хотел увидеть, как их в Петергофе встретят. Миних им там задаст! Ведь Миних в Петергофе, насколько я знаю. И он настоящий солдат! Вы его видели? — Видел, — сказал Иван. — О! — тут же сказал Клямке. — Вы напрасно улыбаетесь. Конечно, он теперь не тот, кем он был хотя бы лет двадцать назад. Но смею вас заверить, господин ротмистр, и даже готов биться об заклад, что государь поручит это Миниху и только Миниху! А если он этого не сделает, то… Нет, что об этом даже говорить! Поэтому, — продолжил он уже вполголоса, — я думаю, что как только господин фельдмаршал почувствует, что дело принимает дурной оборот, он тотчас же возьмет все в свои руки, и корона будет спасена. Потому что это Миних! За которым Данциг, Перекоп, Хотин, Очаков и, да простят меня другие, Бирон. А справиться с Бироном — это было даже потруднее, чем взять Очаков. А кто такой Гришка Орлов? Гришка — это совсем не Бирон. То есть Орлов, да не орел! — Орлов? — переспросил Иван. — Орлов, — повторил Клямке. — Но не Алексей, а Григорий. Тот, который был в коляске. Вы его возле самого города встретили. — Мы? — спросил Иван. — Вы, — сказал Клямке. Улыбнулся и еще сказал: — Иван Иванович. — Потом: — Курьер из действующей армии. Вы двадцать шестого сюда прибыли. С пакетом от Румянцева на высочайшее имя. — Так вы и это знаете! — в сердцах сказал Иван. — Так точно, — сказал Клямке. Но уже не улыбнулся. Иван встал и осмотрелся. После опять повернулся к Клямке и спросил: — И что вы от меня хотите? — Только одного: чтобы вы не наделали глупостей. — А глупости, по-вашему, это что? — Это если вы сейчас выйдете в город. Да вы и до ближайшего перекрестка не успеете дойти, как вас уже задержат. Потому что вы в старом мундире. Да, да, господин ротмистр, в старом. Теперь же у них новые — это старые елизаветинские. Тех, которые являлись к нам сюда, вы видели? Иван кивнул, что видел. — Вот, и они тоже были в старых, — сказал Клямке. И тут же в сердцах добавил: — Черт знает где они их столько нашли и когда они это успели, но уже почти все солдаты в городе одеты в них! А вы в петровском. Значит, вы не присягали. Значит, вас надо задержать. И, будьте уверены, задержат на первом же углу. И доставят куда надо, а там сразу откроется, что вы тот самый ротмистр, который поднял бунт в измайловском полку и тяжело ранил или даже убил, я не знаю, солдата Ефрема Голубчикова. Ивану стало гадко, он поморщился, а после тихо, сердито сказал: — Ну так и что теперь? Я же все равно на службе. Не могу я здесь больше сидеть, мне нужно идти. — На службе у кого? — спросил Клямке. — Румянцев же в Германии! Иван подумал и сказал: — Румянцев — да. Но здесь у меня есть еще один начальник — непосредственный. И он меня ждет. Я должен быть у него. И как можно скорее! А если мне нельзя идти в этом мундире, так я могу переодеться в вольное, мне это все равно. Вы можете дать мне переодеться? Клямке улыбнулся и сказал: — Не знаю, что вам и ответить. Потому что вы же сами видите, у нас с вами совершенно разные конституции. Вам мое будет коротко и широко. А мой работник Иоганн таков, что уже ваше ему будет коротко. А его вам, соответственно, длинно и мешковато. Но главное даже другое. Куда вам спешить? Я вам еще раз говорю: Миних их проучит! И уже завтра утром он будет здесь, и тогда вам вообще не будет никакой нужды переодеваться. Пусть тогда об этом беспокоятся все остальные, которые сейчас настолько неосмотрительны, что, да вы бы только это видели, демонстративно рвут форму и сжигают ее тут же, на перекрестках. На этих перекрестках, как я вам уже сказал, сейчас везде стоят караулы. Чего они так боятся, я спрашивал. Ведь же если верить их пьяному бахвальству, то все вокруг за Катрин. И вот тогда, господин ротмистр, когда я спрашивал у них об этом напрямик, всякий раз случались ну просто необъяснимые заминки! Так что, я думаю, даже здесь, в городе, не все так для них благополучно, как кое-кто пытается нам это представить. Я даже вам больше скажу: они больше всего опасаются флотских экипажей и двух негвардейских полков с Васильевского острова. Это Астраханский и Ингерманландский, если я не ошибаюсь. И еще: Катрин ведь не решилась оставаться в Новом Зимнем дворце, они ведь все оттуда спешно перешли на Мойку, в Старый. Старый, конечно, им будет легче оборонять, когда сюда явится Миних. Ну да Старый — это все равно не Перекоп! А Миних — всегда Миних. Поэтому… — Тут Клямке замолчал, задумался или просто сделал такой вид… А после сказал вот что: — Поэтому нам не хотелось бы, чтобы вы, господин ротмистр, напрасно рисковали собой. Но если это для вас так важно, если у вас такая неотложная служба, то я готов рискнуть своим Иоганном и прямо хоть сейчас отправить его к вашему непосредственному, как вы выразились, начальнику с запиской. Или еще с какой вестью. Вот это, как мне кажется, будет наилучшим на сегодня выходом. Как вам такое предложение? Иван молчал. И молчал он довольно долго — может, минуты даже три. А после все равно сказал: — Нет, зачем это все. Лучше принесите мне его одежду, хоть какую, я переоденусь и пойду. Потому что я очень спешу. Так можно сделать? — Можно, — сказал Клямке, улыбнулся и тут же добавил: — Но для чего вам это? Вы что, мне уже больше не доверяете? Иван молчал. Тогда Клямке сказал: — Вот видите, а вы не зря молчите. Потому что прекрасно понимаете, что, во-первых, спешить вам сейчас совершенно некуда, а во-вторых, что мне нет никакого резона чинить вам какое-либо зло. Резон! — сказал он еще раз, как будто проверял это слово на вкус. И тут же спросил: — Я не утомил вас своим многословием? — Нет. — Вот и чудесно! — сказал Клямке и повернулся к окну. — Чудесно! Тогда мы еще о резонах. — Тут он мельком посмотрел на улицу. — У каждого они свои. Начнем прямо с государя императора. — Клямке быстро повернулся к Ивану и уже безо всяких улыбок продолжил: — У него какой резон? Он хотел избавиться от нелюбимой жены, которую ему когда-то навязали, и жениться на любимой женщине. Но он, неограниченный властитель самой большой в мире империи, он, оказывается, не может этого сделать. Потому что так, говорят ему, не положено. Жена наставляет ему рога, приносит, как это по-русски называется, в подоле, а все равно, говорят ему, не положено. Вот он и решил от нее избавиться. Любой ценой! Он имел на это резон? Имел. Теперь она, то есть Катрин. Она же тоже со своим резоном. Она же прекрасно понимала, что Питер… извините, император не успокоится до тех пор, пока не упрячет ее в Шлиссельбург. Поэтому сегодняшнее выступление — это ее последний шанс. И так же последний шанс гвардии, потому что иначе они уже, может, прямо сегодня получили бы приказ идти на Шлезвиг. А какой им резон идти в такую даль да и еще под пули? Вот они и заступились за Катрин, а заодно и за себя. Резон? Резон. Теперь мой… Нет, о своем я уже говорил, — поспешно сказал Клямке, еще немного помолчал, а после очень негромко сказал: — А теперь резон моей супруги. Она говорит, — и тут Клямке еще помолчал, а потом как бы очень нехотя продолжил: — Вы понимаете, она же не солдат. Для нее все это очень необычно. Кроме того, те люди, которые здесь были недавно и вели себя крайне распущенно, они еще сказали ей: ты… Ты, сказали они грубо, если ты нас обманула, ведьма, и он сидит здесь у тебя, мы тогда, знаешь что… Ну и так далее, господин ротмистр. То есть она очень волнуется и говорит мне: Клаус, может, тебе удастся уговорить господина офицера остаться у нас погостить. Зачем ему куда-то отлучаться на ночь глядя? На улице могут стрелять, его могут ранить. Скажи ему об этом, Клаус, просила она. А еще она просила вас отужинать с нами, она… О, нет, нет! — тут же перебил сам себя Клямке. — Это она так говорила, простая немецкая женщина, непривычная к кровопролитию. А так, конечно, вам решать, господин ротмистр. Присяга, я же понимаю, долг! Или все же как? Или все-таки сперва отужинаем, отведаем горячего? Потому что мало ли как оно потом сложится дальше. Так что? Иван подумал и сказал: — Ну, я прямо не знаю. — Значит, к столу! — тут же воскликнул Клямке. — А там еще посмотрим! — и сразу взял Ивана за руку. И дальше было так: они вышли и прошли в другую, соседнюю комнату, в которой стоял обеденный стол. Стол был накрыт на четыре куверта, и возле одного из них стояла еще совсем не старая немка. Про нее Клямке сказал, что это его жена, фрау Эльза, — и фрау сделала книксен. А это наш желанный гость, господин российский офицер, представил Ивана Клямке, и Иван поклонился. После чего они все трое сели за стол. Про четвертый, свободный куверт Клямке сказал, что там должен был сидеть Михель, их племянник, но он задержался по делам, после чего спросил: так, Эльза? Так, кивнула фрау Эльза. Клямке улыбнулся. Открылась дверь, служанка внесла ужин. На ужин был картофель с колбасой. — Жаль, жаль! — громко сказал Клямке, берясь за нож и вилку. — Михель был бы очень рад. — И, повернувшись к супруге, спросил: — Он сейчас на складах, на Васильевском? — Нет, — тихо сказала фрау Эльза, не поднимая глаз от тарелки. — Он не там. — А где? — строго спросил Клямке. — Я точно не знаю. — Как это?! — громко сказал Клямке. — В такое время, и не знаешь! Да мало ли что может случиться с мальчиком! — Он не мальчик, ему уже двадцать лет, — сказала фрау Эльза. — И это ведь ты же сам говорил, что мы должны знать, что вокруг нас творится. Вот я его и отправила узнать об этом. И к девяти велела ему вернуться. Иван и Клямке сразу посмотрели на часы, висевшие возле камина. Часы показывали девять с четвертью. — Вот воспитание! — сердито сказал Клямке. — Сразу видно, чей это племянник! Фрау Эльза ничего на это не ответила. Она продолжала есть картофель. — Хорошо, — сердито сказал Клямке. — Я не прав. Но ты хотя бы можешь мне сказать, куда ты его отправила? — Я велела ему посмотреть, куда они пойдут и что они там будут делать. — Кто? — Нынешняя императрица и подчинившиеся ей гвардейцы. Клямке сперва немного помолчал, подумал, а после повернулся к Ивану и сказал уже вполне спокойным, даже бодрым голосом: — Вот и чудесно! Значит, мы очень скоро все узнаем, и из самых первых уст, как здесь говорится. Михель очень умный мальчик. И внимательный. Так, может, пока по стаканчику? Фрау Эльза ничего на это не ответила, Иван тоже промолчал — и ужин продолжался вполной тишине. Они все трое ели не спеша и очень аккуратно, ни на что не отвлекаясь. Только когда уже подали кофе, Клямке вполголоса сказал, что если Иван желает, то они могут покурить. Иван сказал, что он не курит. Это очень хорошо, сказал Клямке, курение — очень дурная привычка, фрау Эльза его постоянно за нее ругает. Тут фрау Эльза улыбнулась. А Клямке сказал, что он ничего не может с собой сделать, он сейчас только и думает о трубке, и уже даже повернулся к двери. Но до трубки дело не дошло, потому что дверь вдруг открылась и в ней показалась незнакомая Ивану голова. — О! — сразу сказал Клямке. — Вот он! Чего стоишь? И так уже на сколько опоздал! Почти на целый час! Дверь растворилась полностью, и в столовую вошел высокий тощий юноша, то есть тот самый долгожданный Михель. Клямке его сразу представил, Михель поклонился. Клямке велел ему садиться, Михель сел. Клямке спросил: — Ну и где же ты был, мой мальчик? И что ты там видел? — Я был на Петергофской дороге, — сказал Михель. — Но когда они остановились, а это было уже за городом, я подождал еще немного и поспешил вернуться. Но, к сожалению, все равно опоздал. — Это плохо, — сказал Клямке. — Но ладно! Так кто это были такие и почему они остановились? — Это верные новой императрице войска, — сказал Михель. — Их не меньше пяти тысяч. Но многие из них сильно пьяны, их колонны очень растянулись, и поэтому императрица велела сделать привал и подождать отставших и артиллерию. — Так они что, выступили без артиллерии? — удивленно спросил Клямке. — Да, — сказал Михель. — Очень смешно! — сердито сказал Клямке. — И на что они надеются? Взять Миниха голыми руками? А что, кстати, слышно про Миниха? — Говорят, что он стоит впереди и у него много войска. И артиллерия там уже стоит наготове. Если, говорят, пройти еще немного, на холм, то оттуда видны их горящие фитили. — Ну еще бы! — сказал Клямке. — Миних — солдат! И, будьте уверены, он им задаст! — Но, говорят, — продолжил Михель, — что императрица уже отправила к ним парламентера, и было договорено не предпринимать никаких действий до утра. — Ха! — громко сказал Клямке. — Договорено! Но это же Миних! Надо его знать. Миних — хитрый лис, и он не станет ждать утра. Ешь, Михель, чего ты сидишь. Еда давно остыла. — После чего он повернулся к фрау Эльзе и уже совсем другим голосом продолжил: — Я еще раз говорю: я был не прав, дорогая. А ты у меня просто чудо! — Но, но, но! — сказала фрау Эльза, улыбаясь. Однако все же кликнула служанку и велела принести. Служанка принесла большую бутыль ренского. Клямке сам взялся наливать. И сам же сказал тост. Тост был такой: — Вот видите, господин ротмистр, как все чудесно сложилось! За вас, господин ротмистр, за вашу верность престолу и за сам престол! Второй тост был за фрау Эльзу, потому что, сказал Клямке, если бы не фрау Эльза, то они бы до сих пор не знали, что уже можно радоваться, и пребывали бы в печали. И они за это выпили — за радость. А после, уже даже не закусывая, Клямке спросил, где его трубка. Ах, сказала фрау Эльза, извини, я пойду распоряжусь, после чего сразу встала и вышла. Клямке тихо засмеялся и сказал, что она больше не вернется, потому что не выносит дыма. Пришел слуга, немец очень высокого роста, наверное, тот самый Иоганн, подал Клямке трубку и ушел. Клямке начал курить трубку и поглядывать по сторонам. Потом вдруг подмигнул Ивану и сказал, что сразу видно, что он не часто бывал у царя, если он не курит. Царь же не любит тех, кто не курит. Хотя царь сам долго был некурящим. До тех пор, пока не заметил, что его тетушка, покойная государыня, терпеть не может табака. И вот тогда он закурил! И до того в это втянулся, что уже и тетушку похоронил, а бросить все никак не может. А чем вы торгуете, спросил Иван. Бакалеей, сказал Клямке. Пустил дым и прибавил: и галантереей тоже. А также провизией, книгами, ворванью. После еще раз пустил дым, и очень сильно, и вдруг напрямую спросил: — А вы думали, что я просто шпион? Иван растерялся, сказал: — Нет, я так не думал! Я вообще про это… Но дальше говорить не стал, потому что Клямке замахал рукой. И велел Михелю еще налить, и сделать это по-гвардейски, то есть до самых краев. Когда они выпили, Клямке сказал, что он теперь тоже гвардеец, по крайней мере он их понимает. Потом громко засмеялся и добавил: — И они еще смеют на что-то надеяться! Да Миних в них даже стрелять не станет. Он прикажет их вязать! Иван молчал. Клямке опять заговорил: — Я знаю Миниха. Мой брат служил у Миниха. Конечно, Миних тогда был помоложе, даже сильно… И Клямке начал довольно подробно рассказывать о том, как еще во времена Анны Иоанновны Миних воевал в Крыму против турок и получил за это фельдмаршальский жезл, а брат Клямке дослужился до секунд-майора. Старший Клямке был, оказывается, очень храбрым малым. Младший Клямке с большим воодушевлением о нем рассказывал. А Иван его уже не слушал, да Иван уже не слышал ничего, Иван просто сидел, уже почти как неживой… И тут Клямке наконец это заметил, быстро встал и начал торопливо говорить: — О, в самом деле, в самом деле! Чего это я так заболтался? Мой гость устал, он хочет отдохнуть, и мы сейчас это быстро устроим в самом наилучшем виде. Да я даже думаю, что наша Лизхен вам уже постелила в вашей комнатке, вам ведь там понравилось, там ведь вполне уютно. Идемте, идемте, я вас провожу, время уже позднее, куда спешить? Тем более, как любят выражаться здешние жители, утро вечера всегда благоразумнее. А завтра нас разбудит Миних. Миних завтра будет здесь, можете не сомневаться. Да вы, я вижу, и не сомневаетесь. И правильно! Эти последние слова были им сказаны уже тогда, когда он выводил Ивана в двери. Иван молчал. Иван пришел к себе, разделся, лег — и только тогда почувствовал, как сильно он устал. Еще он подумал: сколько сегодня было всякого, а ведь ни к чему оно не привело! Как все было, так все и осталось или вот-вот останется, потому что Клямке прав — Миних солдат, он знает свое дело, и он, скорей всего, еще сегодня ночью ударит по ним, опрокинет их и двинется дальше. Или подождет утра и уже только утром выступит. Потому что это будет как-то не совсем прилично вступать ночью в свою же столицу. А утром — это уже совсем другое дело, утром их будут встречать. Народ будет стоять вдоль улиц и приветствовать героев-победителей. Потом будет служба в Казанском соборе — это нужно обязательно в Казанском! И Миних так и сделает, Миних знает в этом толк. Миних — солдат. Отец служил у Миниха. А дядя Тодар — против Миниха. Дядя любил эту историю, часто ее рассказывал… И тут Иван заснул.ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ Сапоги и еще сапоги
Иван спал, и снился ему дядя Тодар, и также снился город Данциг, в котором он теперь, по долгу службы, часто бывал проездом. И даже снился ему бывший польский король Станислав Лещинский, которого он ни разу не видел, да и видеть никогда не мог, но о котором дядя Тодар часто рассказывал — правда, одну и ту же историю. Эта история была давнишняя, еще Иван не родился, когда она случилась. Тогда умер старый король Август, Август Второй Сильный, шляхта собралась на сейм и выбрала себе новым королем Станислава Лещинского. Станислав был тестем короля французского Людовика Пятнадцатого — его дочь Мария была за Людовиком замужем, и поэтому французам такой выбор шляхты понравился. Зато российская царица Анна Иоанновна Станислава совсем не одобрила. И австрийцы тоже, и саксонцы. Поэтому они, все трое, ввели в Польшу свои войска, еще раз собрали сейм, и теперь уже другая шляхта выбрала себе другого короля — Августа Третьего, сына умершего Августа Второго. Дальше это дело продолжалось так: Август вступил в Варшаву, а Станислав отступил в Данциг, затворился там и стал ждать сикурсу из Франции. А фельдмаршал Миних, про приказу Анны Иоанновны, обложил Данциг со всех сторон и начал осаду. Осада длилась долго, французы дважды поспевали с сикурсом, и Миних этот сикурс дважды побивал. Затем у осажденных стало заканчиваться продовольствие, а городские стены, от непрерывного бомбардирования, начали мало-помалу рушиться. Но фельдмаршал Миних не спешил с окончательным штурмом, он даже заявлял, что может совсем снять осаду. Если, конечно, осажденные выдадут ему незаконного, как он его называл, короля Станислава. Осажденные в ответ молчали. Тогда Миних велел объявить, что щедро наградит того, кто доставит ему Станислава — живого или мертвого. — Вот до чего, Янка, у нас тогда в Данциге дошло! — всегда говаривал при этом дядя Тодар. — Ты представляешь, как ему тогда было? Это же хоть ты никуда из дому не выходи. Ведь же мало ли что может у кого в голове сотвориться, когда он его увидит и подумает: вот ко мне идут сто тысяч талеров! Значит, нужно было что-то срочно делать. Но никто не знал, что именно. Тогда я пришел к нему и говорю: ваше наияснейшее величество, пан государь, я знаю!.. И, по дяде Тодару, там дальше было вот что: он пошел на рынок и там купил потрепанный, видавший виды крестьянский кафтан, домотканую рубашку, старую шапку, торбу, штаны и сапоги. Все это было по мерке, король был доволен покупкой. Одни только сапоги ему очень сильно не понравились. Они, сказал король, просто ужасные, он лучше останется в своих. Но в ваших вас сразу узнают, сказал дядя Тодар. Пусть узнают, лучше смерть, сказал король, чем этот ужас. Дядя повторил свое — король свое. Они заспорили. А время шло! Да и спорить было очень трудно. Грохот же тогда, в тот вечер, стоял просто невыносимый, ибо вся российская осадная артиллерия беспрерывно, ни на минуту не умолкая, метала на город зажигательные бомбы. Город горел. Еще раз идти на рынок было уже поздно да и небезопасно. И тогда было сделано так: дядя отдал свои сапоги, а они были уже так себе, королю, а сам переобулся в сапоги Базыля, после дядя и король переоделись в крестьянское платье, и это получилось у них очень и очень похоже, после скрытно, через черный ход, вышли из дома французского посланника, а король до этого жил там, скрытно прошли по городу, никто их не узнал, их и нельзя было узнать, вышли за стены, сели в заготовленную лодку — и поплыли, и их пока никто не замечал. Ночь была лунная, но с облаками. Иван знал, что дяде это нравится, и поэтому на этом месте всегда спрашивал: — А кто сидел на веслах? Дядя тогда вот так, очень важно, оглаживал усы и отвечал: — Сперва я, а после он. А после опять я. Надо же было спешить! — А как король греб? Дядя делал очень строгое лицо и говорил: — Плоховато. Но он старался. — А после еще строже добавлял: — Потому что он был настоящий король! А дальше у них было так: они гребли примерно с час, то есть к тому времени они давно уже миновали все неприятельские посты и только уже после причалили к берегу. Берег там был низкий, болотистый. Дядя хотел идти напрямик, но король потребовал, чтобы они шли по тропинке, потому что он не хотел лезть в грязь. Они пошли так, как хотел король, и вскоре подошли к какой-то хижине. Они хотели незаметно пройти мимо нее и даже уже почти прошли… Но тут их стали окликать оттуда, и дядя сказал, что этих людей лучше не гневить. Они вернулись, вошли в хижину. — Халупа это была, а не хижина! — каждый раз сердился дядя. — Даже почти змеиное гнездо! А какие там сидели хлопцы! Все злодеи. Рожи у всех разбойничьи. И бутылки у них стояли на столе, и закуски, и сами они были уже все крепко пьяные. Вы откуда, спрашивают, будете? Я говорю: откуда надо. А они: тогда садитесь, хлопцы, у нас есть вас чем угостить. Нет, я говорю, зачем нам это, мы не голодные. Или мы что, я дальше говорю, из Данцига, что ли, что мы сала и водки не видели? Нет, говорю, мы только обогреться, и нам сразу надо дальше. А, ну тогда как хочешь, говорят, тогда кладись вон туда. Кладись, тебе сказали, говорят! И дядя, а куда ты денешься, лег, куда ему велели, а это было в дальнем углу, за печью, лег и достал нож, и так с ножом лежал и слушал. Потому что пан король спорить с теми злодеями не стал, а пошел и сел к ним за стол, они ему налили, и он выпил, ему дали закусить, он закусил. И они стали водить с ним беседы. А он стал им отвечать. Говорили они о всякой, если прямо сказать, ерунде, по крайне мере так вспоминал об этом дядя, и говорили достаточно долго, а король больше помалкивал. А дядя лежал в углу и держал нож наготове. Но все обошлось. Они загасили свет, стали ложиться спать, и король пришел за печь, лег рядом с дядей. Дядя успокоился и сразу же заснул. Спал он очень крепко, ничего ему не снилось. Так он проспал часа два или даже, может, три… Как вдруг чует — его кто-то будит. Он продрал глаза и видит — ничего не видно! Так тогда было еще темно. А его опять трясут. Тогда он уже видит, что это один из вчерашних злодеев наклонился над ним. Дядя вскочил, а тот ему вот так вот сделал знак, чтобы он не шумел, а уже после тихо-тихо шепчет: — Эй ты, не знаю, кто! Давай быстро буди короля! И давайте отсюда, давайте! Ат! Дядя аж позеленел, наверное, когда это услышал. И сразу начал трясти короля и делать ему знаки, что надо как можно скорее вставать и уносить отсюда ноги. Король быстро поднялся, злодей открыл дверь, и они все трое скоренько вышли на двор, а там через огород к кустам, за которыми почти что сразу начинался настоящий лес. — Вам туда, — сказал злодей. — Там дорога свободная, ваше величество. Король очень удивился и спросил: — А как вы догадались, кто я такой? — Э! — весело сказал злодей. — А чего тут такого хитрого? Я же вас, ваше величество, еще раньше видел в городе и хорошо запомнил. Но мало ли, думаю, на свете людей, похожих один на другого? Но когда вы всех нас за столом все время величали господами, тут мы уже наверняка уверились, кто это такой с нами сидит. И сколько за него обещано! Король как про это услышал, так сразу в лице переменился и спросил: — Тогда почему вы меня не схватили? — Потому что, — ответил злодей, — посидеть и выпить вместе с королем — это для нас большая честь, вот мы и не хотели лишать себя такого удовольствия. А теперь как вспомнишь про ту кучу денег, которую сулят за вашу голову, так прямо всего в дрожь бросает. Так что бегите, ваше величество, как можно быстрее отсюда, а то мои хлопцы уже утомились притворяться спящими! Вот что он тогда сказал. И дядя с королем его сразу послушались. И уже на следующий день они перебрались в тогда нейтральную Пруссию. А еще через два дня Миних узнал, что Станислав сбежал, — и открыл такую страшную канонаду, что уже еще через два дня город открыл ворота. Миних был в ужасном гневе и наложил на город дополнительную контрибуцию в два миллиона золотых рублей. Дядя не любил об этом вспоминать. Также не любил он вспоминать о том, что он получил от короля. Спрашивать его об этом считалось верхом неприличия. Ну а если кто иногда все же спрашивал, дядя насмешливо щурился и отвечал: — Э, мой паночек! Да я что, какая девка, чтобы мне платили? Я вольный человек. И моя сабля вольная — кого хочет, того рубит, а кого хочет, защищает. Вот какая это была история. Иван спал беспокойно, ворочался. Да и спать ему пришлось недолго: было еще, может, только часов шесть, когда он уже проснулся. За окном было светло, в доме было тихо. Пора уже вставать, думал Иван, продолжая лежать. Миних, наверное, уже разбил гвардейцев, думал Иван дальше, Миних, наверное, уже подходит к городу. Или, может, уже подошел. А Иван лежит. Это не дело! Иван сел на софе. И потянулся. И подумал: он в гостях у Клямке, у шпиона. А его товарищи всю ночь сражались, проливали кровь. А он жрал ренское, свинья! Иван соскочил на пол, начал одеваться. Черт знает что, думал Иван, что это с ним вчера такое было, он что, сошел с ума, так, что ли? Надев мундир, Иван сел на край софы и начал обуваться. «Расстрелять, — думал Иван, — повесить, четвертовать к чертям собачьим — вот что надо со мной сделать, и то будет мало!» В дверь осторожно поскребли. Иван в сердцах сказал: — Открыто! Открылась дверь и вошел Клямке. Иван сразу спросил: — Ну что, где Миних? — Миних служит императору, — ответил Клямке. — Миних солдат. И сразу же быстро добавил: — А мы приглашаем вас к завтраку. Я, извините за дерзость, позволил сделать за вас выбор и сказать, что вы желаете кофе. Я не ошибся? — Нет, — сказал Иван. — А Миних что? — А Миних, насколько мне известно, — сказал Клямке, — вообще пьет только ключевую воду и больше ничего кроме нее, дабы, как он говорит… — И тут же осекся. И поспешно продолжал: — Господин ротмистр! Иван Иванович! Клянусь, я в самом деле ничего не знаю! И никто здесь ничего не знает! Город пуст! Патрули везде исчезли! И также исчезла вся гвардия, которая вчера ушла за царицей. От них нет никаких вестей. Может, Миних взял их в плен, может, рассеял, они разбежались… То есть все, что хотите, может быть, но пока нам это точно неизвестно. Никому в столице, а не только нам. Но, — и тут Клямке опять успокоился и продолжил даже с некоторой гордостью: — мы не стали ждать оказии, а опять послали Михеля. И Иоганна с ним на всякий случай. Но это две мили за город, поэтому пока они вернутся, мы, я думаю, вполне успеем позавтракать. Так что прошу к столу! Эти последние слова были им сказаны уже с улыбкой. Да и сам он был уже опять, как всегда, весел и благодушен. По крайней мере на вид. Иван посмотрел на Клямке, после провел себе рукой под подбородком, почувствовал щетину — и сразу представил себе всякое, сильно поморщился и сказал так: — Хорошо. Я сейчас буду. Но я сперва должен побриться, чтобы иметь вид, вдруг что. А бритвы я с собой не захватил. — О, какие пустяки! — радостно воскликнул Клямке. — Будет вам бритва! Новая, английская. Я вам ее даже подарю, у нас же их на складе целая партия. Сейчас, сейчас, одну минуточку! — И, сказав это, он вышел. А Иван начал ходить по комнате и думать, что хуже, чем он, вляпаться, наверное, было нельзя. Или нет — можно, дядя Тодар же любил повторять, что нет такой грязной грязи, которая была бы грязней всех. И смеялся! А Ивану было не до смеха, и он ходил и ходил, вспоминал вчерашнее и все сильней и сильней злился — на самого себя, конечно. Пришла служанка, он остановился. Служанку звали Лизхен, как это уже знал Иван, она принесла ему бритву и все остальное, выставила все это на стол, и даже состроила глазки, и только потом уже ушла. Иван сел бриться и подумал, что это добрый знак, это он так подумал про глазки, потому что когда будут вешать… И он порезался. Нет, подумал Иван, хватит, нечего себя корить, как оно было, так было, да и если бы ему сейчас опять ехать с царицей и въехать в измайловский полк, он теперь разве бы ей присягнул? Нет, ни за что! И не потому, что царь лучше царицы или царь больше ему обещал, а потому что… И опять порезался! Правда, опять не очень сильно. Иван аккуратно замазал порез, оторвал кусок бумажки и заклеил. И подумал: это знак, довольно. И, больше ни о чем уже не думая, добрился и собрался, вышел в коридор, зашел в столовую, сел там на свое вчерашнее место, взялся за чашку с кофе, повернулся к Клямке и спросил, где фрау Эльза. Она себя неважно чувствует, ответил Клямке, у нее сегодня разболелась голова, и она осталась у себя. Или ее позвать? Нет, нет, сказал Иван, зачем же. Потом спросил: а вы чего не пьете? Клямке сказал: а я уже позавтракал, я вместе с Михелем, и это уже часа два назад. Так что если вы хотите, чтобы я составил вам компанию… О, нет, нет, зачем, сказал Иван — и продолжал пить кофе. Кофе был дрянной, намного хуже царского, или это просто ничего ему теперь не нравилось, думал Иван, продолжая пить кофе. Чертов кофе, думал он, чечевичная похлебка, а не кофе! Но когда Лизхен подала ему вторую чашку, Иван не отказался. И еще даже взял кренделек. Кренделек был жесткий, пересушенный. А вот у Анюты крендельки так крендельки, вспомнил Иван и вздохнул. И тут вошел Михель. Вид у него был не самый радостный. — Э! — только и сказал Клямке, быстро глянув на племянника. Потом сказал: — Михель! Тетушка хотела тебя видеть. Срочно! — Нет! — сказал Иван. — Сядь, Михель. Михель сел. Иван сказал: — Мы тебя слушаем. Михель медленно моргнул, но не сказал ни слова. Ресницы у Михеля были очень длинные и почти белые. Михель опять моргнул. Иван спросил: — Где ты был, Михель? — На Седьмой версте. — Это где Красный кабачок? — Так точно. — И Михель еще добавил: — Гвардейцы вчера там стояли. — А сегодня? — Их там нет. — А где они? — Говорят, что пошли дальше. — А Миних что?! Это Иван спросил уже сердито. Михель тихонько вздохнул и сказал: — А он отошел к Петергофу. Он им там готовит ловушку. — Тут Михель помолчал, а потом осторожно добавил: — И, может, они в нее уже попались, потому что никто оттуда не возвращается. — Кто тебе это сказал? — строго спросил Иван. — Фройлен Грета. Она там служит в зале, в Красном кабачке. — О! — сказал Иван и усмехнулся. А Михель сразу сильно покраснел. Иван повернулся к Клямке, немного подождал, подумал, а потом как можно спокойнее сказал: — Вот, значит, какие дела. Но, как видите, ничего ужасного пока не случилось. Однако вам все равно лучше пока поостеречься, то есть побыть дома, никуда не выходить и посмотреть, чем же все это кончится. Вы же не давали военной присяги, так что напрямую это вас никак не касается. А вот я… — Но! — тут же сказал Клямке. — Что? — спросил Иван. — Но если это правда, — сказал Клямке уже не так быстро, — это я про то, что Миних не открыл против них действия, то это ведь значит, что он и дальше их не откроет, поверьте. То есть теперь уже почти известно, чей будет верх. И тогда зачем вам туда являться? Теперь же вы, как мне кажется, раз там ничего не предпринимается, тоже должны, ничего не предпринимая, ждать распоряжения господина Румянцева. Вы же под его командой служите. Так что вот пусть он вначале… — Э! — сказал Иван, вставая. — Я же уже говорил, что тут дело вот в чем: вы не на военной службе, а я на военной, — и он одернул кафтан. — Но гвардия! — воскликнул Клямке. — Они же, как вы, тоже… И не договорил, потому что Иван поднял руку. И когда Клямке замолчал, Иван еще тоже некоторое время ничего не говорил, а после сказал так: — Так ведь на то она и гвардия, что ей все можно. А мы полевые полки, и мы всегда за все в ответе. Как и на этот раз, черт бы его побрал! Так что мне пора идти. Вы передайте фрау Эльзе все мои… — Погодите! — быстро сказал Клямке. — Что такое? — Так, сущий пустяк, — сказал, сильно смутившись, Клямке. После спросил у Михеля: — Вы принесли это? — Да, — сказал Михель, вставая. И сразу позвал: — Иоганн! Вошел их служитель Иоганн, в одной руке он держал узел. Клямке велел показывать. Иоганн поставил узел на пол и развязал его. Там, как Иван и думал, были приготовленные для него одежда и обувь. Одежда была простая, приказчичья, но зато добротная, почти что неношеная. Сапоги тоже были почти не сбитые, с подковками. Надо примерить, сказал Клямке. Но Иван молчал. Что-то не так? — спросил Клямке. Нет, сказал Иван, все правильно, вот разве что сапоги. Что сапоги? — спросил Клямке. Иван молчал. Я понимаю, сказал Клямке, и тут он даже усмехнулся, сапоги совсем не офицерские. Нет, сказал Иван, не в этом дело, сапоги как раз очень приличные, даже лучше королевских. Но я пойду в своих, мне в них привычнее. Клямке подумал и сказал: как знаете, может, их и в самом деле никто не заметит. Но остальное ведь нужно надеть обязательно! Потому что это сумасшествие, вас сразу схватят! Нет, сказал Иван, не сразу, я выйду через задний двор, так что на вас никто и не подумает. Услышав это, Клямке даже покраснел от досады, а после также с досадой сказал: — Эх, господин ротмистр! Вы еще слишком молоды, у вас слишком горячая кровь. А на войне или во время таких событий, которые сейчас здесь происходят, это очень плохо. Будьте осторожны! Иван в ответ на это только улыбнулся. — Зря! — сказал Клямке. — Очень зря! Так что нам теперь остается надеяться только на то, что Миних все же им покажет. Миних солдат! — Солдат! — сказал Иван. — Конечно. Поэтому я и иду к нему. Спешно иду! Пусть Иоганн подаст мне шпагу, я ее там оставил, у себя. Клямке пожал плечами, очень недовольно хмыкнул, но все же послал Иоганна за шпагой. Пока Иоганн ходил, Клямке и Иван молчали и не смотрели один на другого. А когда Иоганн вернулся, Иван взял свою шпагу и начал прощаться. Но Клямке не дослушал и сказал: — Конечно, конечно. Все было очень чудесно. Но я вам еще раз говорю: вы должны остудить свою кровь. Потому что никому из них, вы знаете, о ком я говорю, нет до вас ровным счетом никакого дела. Так и вам не должно быть до них. А вот теперь уже прощайте, и да хранит вас ваш Бог!ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ «Где Катрин?»
На этом они и расстались. А дальше было так: Иоганн вывел Ивана на задний двор, а там через кусты малины за сарай, где открыл узкую потаенную калитку и отступил на шаг, пропуская Ивана вперед. А на словах вообще ничего не сказал. Чертовы немцы, сердито подумал Иван, выходя на улицу. Жизнь тоже чертова, еще сердитей думал он, идя по улице, которая была ему совсем незнакома, хоть он, сколько себя помнит, жил в Петербурге. Но что ему было здесь делать? Они жили далеко отсюда, в другом месте, после переехали раз и еще раз, после Иван жил в корпусе, мать умерла, и он ходил к Пристасавицким, это же здесь у них единственные, хоть и дальние родственники. И еще есть Данила Климентьевич, отцовский боевой товарищ, очень душевный человек и, главное, отец Анюты. А Иван теперь — отрезанный ломоть, думал про себя Иван как про чужого, потому что куда ему теперь? В Ораниенбаум и сдать шпагу. И доложить: это я прозевал, это профукал, а это пропил, а после еще что? Но пока что ничего такого не случалось. А даже того больше: Иван еще раз повернул за угол и увидел, что впереди стоит трактир, а возле стоит извозчик и ждет седока. То есть на ловца, как говорят, и зверь бежит. Иван сразу повернул к извозчику, тот встрепенулся и расправил плечи. Иван сказал: — В Ранбов, и живо. Ранбов — это Ораниенбаум по-простому. Извозчик сдвинул шапку, почесал затылок и ничего не ответил. — Я заплачу, — сказал Иван. — Э, ваше благородие, — сказал извозчик. — Что деньги! Там же теперь война, кто же теперь туда ездит. И вам зачем? — Дам рубль! — сказал Иван. И даже достал его. Рубль был новенький, этого года, с царем. Извозчик посмотрел на рубль, вздохнул. Иван сунул ему рубль. — Э, нет! — решительно сказал извозчик. — Мы что? Мы не злодеи же, мы вперед не берем. И до Ранбова нет. А до Петергофа дашь? А там уже ваших полно, там на казенных доедете! — заговорил он быстро и просительно. — А нам какое подспорье! У нас же детки дома, ваше благородие. А вам рубль что! А полдороги есть! А там казенные. Извозчик замолчал. Иван спрятал рубль в карман, сказал: — Ладно. До Петергофа. После сразу сел, извозчик взгрел лошадь, и они поехали. Иван молчал, извозчик тоже. Так они проехали несколько кварталов, после чего извозчику стало, наверное, совестно, и он начал заговаривать. Сперва он осторожно спросил, что за великая нужда такая заставила его благородие ехать в такое гиблое место. Иван на это ничего не ответил. Тогда извозчик начал как бы сам с собою рассуждать о том, что военная служба — дело непростое и опасное, но зато почетное. И он военных через это очень уважает. Он же ради них на все готов. Он бы и в Ранбов поехал, и даже даром бы. Ему же этот рубль не нужен, но у него же дома детки, и их надо кормить, им надо молочка и много всякого другого. А вот вдруг его там убьют или убьют лошадку, тогда как? А он был сегодня утром в Петергофе, а дальше дороги не было. Прямой не было, а так, конечно, есть. Но за рубль кто это поедет? Только сумасшедший. Да и какой рубль, ваше благородие! Вы не обижайтесь, мы любому рублю рады, мы и этот с радостью возьмем и будем вас благодарить всем семейством. И моя, когда в церковь пойдет, так даже и свечку поставит, потому что такие щедрые седоки не каждый день нам попадаются, храни вас Господь. Но рубль, ваше благородие! Вот вы на него посмотрите внимательно, и тогда сразу как в зеркале вам весь сегодняшний день откроется. И весь вчерашний тоже! Потому что это разве на нем царь? Тощий, курносый! И это для такой нашей России, для бескрайней? Да это же просто посмешище! Нет, ваше благородие, это не наш царь. Нам цари нужны другие. Или хотя бы царицы. Вот вы на прошлый рубль посмотрите, ваше благородие. На Елизавету Петровну. Щеки какие у нее! А взор грозный какой! Берешь рубль и трясешься. Вот это наша царица. А еще раньше до нее была царица Анна. Вот тоже была значительная, прямо сказать, тяжелая царица. У меня один знакомый был, даже почти родственник, он еще тогда возил, когда мы при ней жили, так он у меня спрашивал: а ты знаешь, Сидор, а меня Сидором зовут, а ты знаешь, Сидор, почему государыня Анна Иоанновна всегда только восьмериком езживала? Потому что шестерик не тянул! А этот, который на вашем рубле, такой щуплый и заморенный, что его хоть на козе вези. И еще у нас была такая же сухая, вы ее просто по своим молодым годам не помните, царя Ивана матушка, Анна Леопольдовна по имени. Вот где тоже была щепка! И дщерь Петрова ее враз смахнула. А с ней и царя, тогда еще царевича Ивана… Тут извозчик замолчал и даже начал придерживать лошадь. Они тогда уже миновали Лифляндское предместье и подъезжали к той канаве, на месте которой теперь Обводный канал. А тогда была просто канава и мосток, а при мостке караул. Иван глянул туда и поморщился. Потому что это же опять были измайловцы! И офицер с ними был, черт его дери, тот самый! Ну, Янка, приехали, очень сердито подумал Иван и даже не стал браться за шпагу. Однажды уже взялся, думал он, и приколол человека. Как его бишь звали? Ефрем? А дальше думать было некогда, потому что они подъехали уже к самому мостку, и извозчик остановился. Теперь тот офицер стоял возле самой коляски, и Иван смотрел на офицера, а офицер на Ивана. У офицера были очень красные глаза, он вчера, небось, немало выпил. Но он же не ослеп! Он сразу узнал Ивана — и глаза у него округлилась! Но он молчал. Он, наверное, очень сильно тогда растерялся. Или не верил тому, что он видит. А тут еще Иван строго спросил: — Вы что-то хотите мне сказать? — Нет, — сказал офицер. Еще подумал и добавил: — Проезжайте. И они проехали. После извозчик понукнул лошадку, и они поехали быстрей. Иван сидел ровно, не оглядывался. Извозчик оглянулся, посмотрел на караульных и сказал: — А у всех других они пропуск спрашивают. А у вас нет. Иван ничего не ответил. И тут сзади закричали. Это офицер кричал, чтобы они остановились. Перепились, строго сказал Иван, гони. Извозчик не осмелился перечить и погнал. Офицера уже слышно не было. Но извозчик, это было ясно видно, сильно напугался. Он то и дело оборачивался и смотрел назад, как будто ждал погони. А потом, когда они уже далеко отъехали и караул пропал из виду, извозчик все равно оглядывался, но говорить уже ничего не говорил. А Иван подумал, что надо будет ему за его страх набавить полтину. Когда проезжали третью версту, Иван нарочно отвернулся в другую сторону, чтобы не видеть тот поворот, который вел к Пристасавицким и где сейчас Базыль. И так они еще долго ехали и ехали, и все это молча, пока не доехали до Красного кабачка, в котором, как говорил Михель, в прошлую ночь делала роздых гвардия. Теперь же там совсем никого не было. Иван и извозчик оба поглядывали на кабачок, но ничего не говорили. И тут вдруг оттуда, из дверей, выбежал совсем еще молодой офицерик, побежал им наперерез, замахал руками и закричал, чтобы они остановились. Но извозчик и не думал останавливаться. Он даже, не оглядываясь, сказал, подделываясь под Ивана: — Перепились! Гоню, — и еще раз огрел лошадку. — Э! — строго сказал Иван. — Остановись! Тебе же офицер велит! Извозчик придержал лошадку, та остановились. Офицерик подбежал к ним и, еще совсем не отдышавшись, сказал: — Покорнейше прошу извинить меня, господин ротмистр. Но у меня такая незадача получилась! Я очень спешу, а у меня лошадь украли. — Как это так? — спросил Иван. — А очень просто! Кто-то за Отечество радеет, а кто-то лошадей крадет. В это же самое время! Сказав это, офицерик даже засверкал глазами, так ему было обидно. Офицерик был конный гвардеец, подпоручик, еще совсем мальчишка. Иван спросил: — А вам куда теперь? — В Петергоф, к главном дворцу, — сказал офицерик. — К полудню, и никак не позже. А вы куда? Туда же? А меня с собой возьмете? — Возьмем, — сказал Иван. И пододвинулся. Подпоручик сел с ним рядом, радостно заулыбался и сказал: — Я Федор Зайцев, сын Евграфа Петровича Зайцева, полковника. — Иван Заруба, ротмистр, — сказал Иван. — Поехали. И вот теперь гони! Извозчик погнал. — Очень рад, что я вас встретил, — сказал Зайцев, продолжая улыбаться. — Мне же никак нельзя опаздывать. Сейчас же такие дела! А вы тоже туда же спешите? И, может, по тому же делу? — По какому? — А! — поспешно сказал Зайцев и насторожился. Помолчал еще немного и спросил: — А чего это вы в старом мундире? На что теперь уже Иван улыбнулся и не без насмешки сказал: — Нет, это вы, батюшка, в старом, в елизаветинском, а я как раз в новом. Зайцев совсем нахмурился, даже дернул шеей, и сказал: — Эко вы шутите! А у нас вчера одного моего товарища примерно за такие же слова отправили под арест. — Ну так у вас другое дело, — сказал, продолжая улыбаться, Иван. — Вы уже присягнули, а мы еще нет. — Кто это вы? — Экспедиционный корпус в Мекленбурге. — Румянцевский? — Так точно. — А вы как здесь оказались? — А это такая моя служба. Вожу почту. — Высочайшую? — Ну! — только и сказал Иван. Что означало: вот я сейчас начну вам докладывать, кто я такой и зачем! Зайцев это понял и смутился. И так они какое-то время проехали молча, потом Иван сказал: — Я двадцать шестого сюда прибыл, все еще было тихо. Сдал почту и поехал на квартиру. А тут вдруг все это! И я теперь еду обратно. Но дальше Петергофа, говорят, не проехать. — А вам надо куда? — В Ораниенбаум, в Петерштадт. И, согласно предписанию, я должен сегодня же ехать обратно. В штаб, в Мекленбург, к его высокопревосходительству. С реляцией. — Иван помолчал и добавил: — Но теперь, вы меня извините… Но тут он передумал и дальше ничего не сказал. Зато Зайцев засмеялся и воскликнул: — Да, вам не позавидуешь! — и продолжал: — Ну да и всем нам тоже. Это ведь какая сразу суета началась! Мы же ничего не знали, нам же ничего не сообщалось, никто не верил, что мы выступим. А вот и выступили! И еще как! Я, между прочим, — тут Зайцев даже покраснел от гордости, — я был при аресте принца Георга, дяди узурпатора. — Кого-кого? — переспросил Иван. — Узурпатора, — еще раз сказал Зайцев, очень твердо. И также твердо продолжал: — Ибо довольно сидеть на нашей шее всяким немецким выскочкам! Почему он ходит в голштинском мундире? Почему он молится в лютеранской кирхе? И даже ваш мундир, почему он пошит на прусский манер? Мы что, разве хуже пруссаков? — Нет, не хуже, — ответил Иван. Сердито хмыкнул и продолжил: — Под Гросс-Егерсдорфом мы были не хуже. И под Цорндорфом, и под Кунерсдорфом, и под Кольбергом… А вот в Берлине я не был, про Берлин молчу. А вы где были? Зайцев поджал губы и еще сильнее покраснел. Они опять поехали молча. Так они ехали, может, с версту. А потом Зайцев опять заговорил: — Принц Георг сильно перепугался. Он даже, наверное, думал, что мы пришли его убивать. Но никто его даже пальцем не тронул! Солдаты, конечно, хватали его, парик с него сбили, руки ему начали выкручивать. Но я это быстро прекратил. Мы же не варвары, правда?! И он сейчас во дворце, под арестом. Ему даже вернули шпагу. Наш батальонный командир, майор Саврасов, сказал, что меня обязательно в список внесут. Вот как все вначале славно складывалось! А потом объявили выступление, и началась всякая неразбериха. Ну да это дело не мое, а старшего начальства. А после ночь! И это был просто ужас! Я проигрался в пух и прах! И, что еще ужаснее, я начал играть в долг и проиграл четыре поручения. Теперь с самого утра верчусь с ними как белка. Или, как они смеются, скачу как заяц. Я же Зайцев! Тут он замолчал и виновато улыбнулся. Иван спросил: — А утром там что было? Говорят, была стрельба. — Нет, какая стрельба! — сказал Зайцев. — Он же велел оставить Петергоф. Да, там с вечера стоял фон Ливен с войсками. А утром, даже еще ночью, в три часа, ему было приказано отходить к Ораниенбауму. Так что когда мы подошли туда, там уже никого не было. А стояли они возле Зверинца, там даже земля взрыта, они начали строить укрепления, а после поступил приказ — и они все бросили. — Значит, теперь, получается, надо идти на Ораниенбаум, — сказал Иван. — Он там укрепился, так, что ли? — Нет, — опять сказал Зайцев и даже отрицательно замотал головой. — У него руки трясутся, он ничего не хочет. Он пишет письма государыне, он просит заключить с ним перемирие, он говорит, что готов на уступки. Только кто это ему поверит! Мы же боимся… Ну, не мы, а у нас некоторые опасаются, как бы он не сбежал… — Но тут Зайцев спохватился, сказал: — Э! — и виновато улыбнулся. — В Померанию сбежал, — сказал Иван. — Вы же это хотели сказать. То есть к действующей армии. А там ее два корпуса: наш, Румянцевский, и графа Чернышева, это девяносто тысяч. Так? — Ну, так, — безо всякой охоты сказал Зайцев. — Есть там у него один такой советчик! — Миних? — спросил Иван. — Не знаю, — осторожно сказал Зайцев. — Только я знаю, что этот советчик ему много всяких гадостей советует. Вчера, с самого начала, когда они там все еще совсем не знали, что делать, он советовал ему немедленно ехать в столицу и выступить перед войсками. И увлечь их за собой! А ночью, когда их галеру не принял Кронштадт, он советовал, не приставая к берегу, идти прямо на Ревель, а там пересаживаться на корабль и идти дальше, в Померанию, к вашему корпусу. И даже обещал, что возвращение обратно и наведение полного порядка займет не более шести недель! — Какие у вас точные сведения! — насмешливо сказал Иван. — Да уж какие есть! — не менее насмешливо ответил Зайцев. После чего полез в карман, достал часы, откинул крышку, посмотрел на циферблат и радостно добавил: — Успеваю! Иван осмотрелся. Они и вправду были уже совсем близко — они уже въезжали в Петергофский парк. — Левее забирай! — велел извозчику Зайцев. Извозчик повернул налево. Теперь они опять ехали молча. Ну да они уже почти приехали. И там, похоже, стоит много войска, подумал Иван, вон же какой гул оттуда. То же самое, наверное, подумал и извозчик, потому что он проехал еще совсем немного, потом остановился, сошел с облучка и подошел к лошади, начал осматривать упряжь. — Ты чего это? — сердито сказал Зайцев. — Так уже приехали, — сказал извозчик. — И тут уже сколько осталось? И вам это чего, а мне с коником беда, потому что вдруг стрельба какая! Ведь же правда, ваше благородие? — это он сказал уже Ивану. — Правда, — сказал Иван, сошел с коляски, полез за рублем и подумал, что надо прибавить полтину. Но не успел, потому что извозчик сказал: — Два рубля. Вас же, ваших благородий, двое. А у меня… — Ладно, ладно! — перебил его Иван, доставая еще один рубль. — Держи! Второй рубль был елизаветинский, с надутыми щеками. Извозчик быстро взял его. Зайцев сказал: — Черт с ним! А нам, господин ротмистр, насколько я это понимаю, теперь вон туда, — и он указал вперед, к дворцу, и тут же добавил: — Только как бы нам еще успеть! И он первым пошел по аллее. И Иван пошел следом за ним. А куда еще тогда было идти?! Они шли быстро, Ивану ни о чем не думалось. Шагов через сто они вышли из парка на широкую красивую площадь, где с одной стороны, на горке, стоял Большой дворец, а с другой шел целый ряд фонтанов, из них била вода. И еще, главное: с обеих сторон, то есть по низу горки и вдоль фонтанов, насколько только было видно, стояли войска. Ближе всех стоял обычный, полевой пехотный полк. Зайцев сказал о нем: — Воронежский. Герои! Не покусились на его посулы! А ведь могли! Это он сказал, не останавливаясь. То есть они шли дальше, только уже не по парку, а вдоль строя Воронежского полка. Порядка в полку было мало, Иван это сразу отметил, но, тем не менее, не прошли он и двадцати шагов, как из строя им наперерез выбежал один из офицеров и грозно закричал, что не положено и кто это они такие. «Виктория», сказал на это Зайцев, не сбавляя шагу. «Виват», ответил офицер и отдал честь. Иван и Зайцев пошли дальше. Так они прошли мимо воронежцев, дальше стояли с одной стороны астраханцы, а с другой, со стороны дворца, уже семеновцы, гвардейцы. От семеновцев из строя вышел офицер, Зайцев сказал ему «Виват», офицер сказал «Виктория». А дальше было уже совсем близко до правой парадной лестницы. Там внизу, на ее самых нижних ступеньках, стояло высшее армейское начальство. Зайцев шел прямо на них, а Иван, как на веревочке, шел следом за Зайцевым и думал, что это еще какое счастье, что начальство их не замечает. Начальство смотрело в обратную от них сторону и тоже вдоль фонтанов, туда, где опять же сколько было видно, стояли войска — преображенцы, а справа Ямбургский полк, а дальше уже было не разобрать. Зайцев наконец остановился, Иван тоже. И тут же оттуда, куда смотрело начальство, ударили барабаны. Они били тревогу. И очень быстро! Но на дороге никого пока что видно не было. Тогда Иван посмотрел на начальство и никого там не узнал, кроме двоих. Первый — это князь Никита Юрьевич Трубецкой, фельдмаршал, шеф преображенцев, а второй — генерал-поручик Суворов, Василий Иванович, бывший прусский губернатор, которого еще зимой царь перевел в Сибирь, в Тобольск. А вот не уехал, подумал Иван, и теперь стоит здесь! Только Иван подумал о Суворове, как тот повернулся к ним и поманил их рукой. Иван застыл на месте. Зато Зайцев сразу отдал честь, быстрым шагом подошел к Суворову и начал ему что-то докладывать. Но доложить не успел. Потому что барабаны загремели еще громче! А потом вдруг разом замолчали! Зато там, впереди, закричали войска. Это был какой-то очень странный крик — они не кричали «Ура!», а просто «А!» — очень протяжно и дико. Как под Цорндорфом, подумал Иван, посмотрел на дорогу… И тоже чуть не закричал! Потому что он увидел там карету, запряженную восьмериком. Карета быстро приближалась. Армейское начальство оживилось, Суворов выступил вперед, а Трубецкой, наоборот, отступил, чтобы его не было видно. Карета подъехала к армейскому начальству и остановилась. Войска сразу перестали кричать, и стало так тихо, как во сне. И так же, как во сне, Зайцев неслышно подскочил к карете, открыл дверцу и даже подал руку. Но никто эту руку не взял. Император вышел из кареты сам, остановился и осмотрелся. Лицо у императора было очень бледное, растерянное. Он смотрел по сторонам и ничего не говорил. И все молчали и не шевелились. Тогда Суворов еще выступил вперед.Император будто только что его увидел, повернулся к нему и спросил: — А где Катрин? Суворов ничего на это не ответил, а только подступил к нему еще, то есть уже совсем близко, а после резко вытянул руку — прямо к шпаге императора. Император открыл рот… Но уже ничего не сказал. И молча отдал Суворову шпагу. Суворов взял ее одной рукой, а второй взял императора под локоть и, опять же ничего не говоря, повел его по лестнице наверх. Войска снова начали кричать, и опять тоже самое «А!», а Суворов вел его и вел. Лестница же там очень высокая, ступенек очень много, Иван смотрел им вслед и думал, что это все равно как будто бы ягненка ведут на заклание. А сам он, Иван, разве не ягненок, подумал он дальше. И тут ему вдруг положили руку на плечо. Он быстро обернулся…ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ Все еще только начинается
И увидел Семена. Семен был в новом, по теперешним понятиям, мундире. Вид у Семена был строгий, и он так же строго сказал: — Господин ротмистр! Вот вы где! А я вас третий день ищу. Пожалуйте за мной. И он развернулся и пошел. Иван пошел за ним, через три шага нагнал и пошел рядом. Они шли молча и довольно быстро, Семен то и дело искоса поглядывал на Ивана, но ничего не спрашивал. А вокруг тогда творился полный беспорядок. Строй же тогда везде был сломан, все кричали, значит, царя, думал Иван, еще не завели во дворец, вот солдаты его видят и кричат. А Иван с Семеном шли через Ямбургский полк напрямик к опушке парка в ту сторону, где море и аллея к Монплезиру. Вот оно что, думал Иван, но ничего не спрашивал. А Семен, наоборот, заговорил — наверное, из-за того, что крик начал стихать, значит, царь уже скрылся, точнее, его скрыли во дворце. А Семен начал ругаться на Ивана, выговаривать его за то, что тот вчера будто бросил дежурство и отлучился неизвестно куда, а теперь явился пьян, а роту бросил на кого, на дядю, а дяде на это плевать, эх, молодежь, кочерыжкины дети, да на вас Бирона нет, и слава Богу, что нет, потому что эта немчура поганая нам, русакам, ни к чему… Ну и так далее! И замолчал Семен только тогда, когда они всех миновали и подошли к опушке. А там сразу нырнули под ветки, продрались сквозь кусты и вышли на аллею. Только там Семен в первый раз остановился, посмотрел на Ивана и сказал: — Слыхал я про твои геройства. Отказался присягать! На казенных людей руку поднимаешь. А я предупреждал! Я говорил: беги, Иван, и даже лошадь тебе дал! И ты и лошадь тоже загубил. А потом куда пропал? Где был? — У немца одного, — сказал Иван. — Какого еще немца? — Господина Клямке. Конфидента прусского. — Та-ак! — нараспев сказал Семен. — Чудесно! Пойдем дальше. Тут он и вправду развернулся, и они пошли по той аллее. Семен в сердцах сказал: — Конфидент. Час от часу не легче! И что он? Подкупал тебя? Деньги сулил? — Нет, только расспрашивал. А я больше молчал. И это все. — Какой же тогда это конфидент! — сердито сказал Семен. — Это просто послух. И что дальше? Как ты от него ушел? — Сказал, что мне нужно срочно на службу. Поехал тебя искать. И вот нашел. Семен опять остановился, Иван тоже. Семен долго, пристально смотрел на Ивана, а потом с расстановкой сказал: — А может, и в самом деле мне тебя Бог послал? И, опять же, что тебе здесь делать? Тебя же как только признают, так сразу под белые ручки и на крюк. Видел, что здесь творится? Видел, каких людей хватают?! — Видел, — сказал Иван. Помолчал и добавил: — Все кончилось. — Э, нет! — громко сказал Семен. — Здесь все еще только начинается! Идем! Они пошли. Семен опять заговорил, и с очень большой злостью: — Ну и забрал он у него шпагу! А кому ее теперь отдать? Гришке, что ли?! Иван спросил: — Какому Гришке? — Э! — очень зло сказал Семен. — Но это в другой раз. Потом все расскажу и еще за это выпьем. Но пока что нам не до питья. И, опять же, чтобы потом было, куда заливать, то есть чтобы быть при головах… Тебе нужно отсюда ехать. Срочно! А то я уже думал ехать сам. Но мне нужно и здесь оставаться. Так что, мне порвать себя надвое? Нет! Пойдем, пойдем, Иван, это дело очень спешное и важное! И они пошли еще быстрей, уже почти бегом. Ат, подумал Иван, задыхаясь, чует сердце, это не к добру! А вслух только спросил: — Это государыня велела? — Нет! — сказал Семен. — Но и не государь. — А кто? — А может, и совсем никто! — Тут Семен опять остановился, опять посмотрел на Ивана и уже спокойно начал говорить такое: — И это для твоей же пользы. Потому что вот, к примеру, тебя остановят и начнут допрашивать, что да зачем, а ты им так и скажешь, с чистой совестью: я ничего не знаю. Я, скажешь, не я и коляска не моя. Потому что поедешь в коляске. И будешь, если что, им говорить: я заблудился, я сбился с дороги, я из Петергофа еду, из полевого штаба, к обер-гофмейстеру Никите Панину, члену Правительствующего сената, доложить: свершилось! Они, скажешь, должны же в Петербурге знать такую радость. — А после добавил почти шепотом: — И другие тоже должны знать. И другие даже раньше. Поэтому пойдем скорей, и я тебе сейчас все объясню. Они опять пошли. Но очень скоро Семен опять остановился и сказал: — Я, Иван, знаю, чего ты больше всего хочешь. И я бы тоже с большим удовольствием сейчас сидел бы у себя в деревне и попивал бы вишневку. А вот не получается пока! А у тебя простое дело: тебе нужно приехать к его высокопревосходительству, ты же его знаешь и он тебя тоже, он даже твои Большие Лапы знает… Тут Семен нарочно замолчал. Иван сказал: — Великие, а не Большие. — Но все равно твои, — сказал Семен. — И Никита Иванович, ты же его видел, тоже так про это думает. А он серьезный человек. И благодарный. И вот ты к нему приедешь, скажешь, что свершилось. Он сейчас у себя дома. А дом его легко найти. Он у Воронцовых, но не у тех, что на Большой Садовой, не у Михаила, а у Романа, за Первой Измайловской ротой, в том дворце, угол снимает. — Как угол? — спросил удивленный Иван. — Угол дворца! — сказал Семен. — Правый угол. Весь! Отдельный подъезд, отдельное крыльцо. Да тебе его любой покажет. Да и это уже десятое дело, Иван. Ты же туда уже после поедешь. А сперва, не заезжая в город, ты выедешь на Шлиссельбургский тракт, и там еще тебе нужно будет проехать… И тут Семен как будто бы задумался. Но на самом деле просто подступил к Ивану совсем близко и очень тихо и быстро сказал, что ему там нужно будет сделать, а после так же тихо и даже еще быстрее прибавил, что коляска его ждет вон там, за той беседкой, возница малый верный, с ним хоть в пекло, хоть из пекла! И оказалось, когда они туда вышли, что такой малый — это Митрий, Семенов денщик. А коляска была пароконная, кони крепкие, драгунские. Митрий был одет в вольное, кучером. Увидев Ивана, он заулыбался и приподнял шапку. Когда Иван с Семеном подошли к нему, Семен строго сказал Митрию: — Вот тебе новый командир. Будешь его слушаться, как самого меня и даже больше. Если узнаю о каком баловстве, оторву голову. А теперь езжайте. Живо! Иван сел, Митрий хлестнул вожжами, они взяли с места. Семен сзади громко сказал: — С Богом! — Га! — сам себе сказал Митрий и еще раз взгрел вожжами. Они поехали еще быстрей. Ехали они еще пока что по аллее. Митрий обернулся и спросил: — Куда? От него сильно разило перегаром. Иван поморщился, ответил: — Мимо города, на Шлиссельбург. — Га! — еще раз сказал Митрий. После еще сказал: — Куда еще! С таким начальством! — Но тут же спохватился и добавил: — Это я, барин, не про вас, а про господина Губина. Погубит он меня, как пить дать! — продолжал он, погоняя лошадей. — И с ним Шлиссельбург — это что! Это только начало. А там Сибирь. И это сперва его туда, а я один что? И тогда я за ним. И барин это чует. Это про Сибирь. И оттого такой злой. И на мне зло срывает. А мне на ком? Мне не на ком! Только разве на скотине! — И он опять вжикнул вожжами, и опять. А после даже схватился за кнут… Но поленился бить — и опустил его. И дальше уже поехал молча. Иван тоже молчал и думал. А когда придумал, начал так — спросил издалека: — Так что это у вас там с барином такое случилось? — А ничего такого, ваше благородие, — сердито сказал Митрий. — Царство пало, вот и все. И вавилонская блудница… Но тут он спохватился, замолчал, начал почем зря дергать вожжами. Иван опять спросил: — Так все же что ты там такого натворил? — Я ничего! — опять сердито сказал Митрий. — А это они. Царство пало, говорю! Царя схватили, затолкали в бочку, залили смолой, погрузили на корабль и повезли в Кронштадт продавать. Просить выкупа! Но кронштадтцы посулили мало, триста тысяч. Тогда Миних говорит: нет, не годится, слишком мало. Повезли они его обратно и стали через посыльных генералов торговаться с блудни… С царской женой, сколько она даст. Она тоже торговалась, торговалась, а после посулила миллион. Эти посчитали, сколько на круг выйдет, и согласились: продаем! И, я слышал, привезли? Чего там так орали? Привезли? — Привезли, — сказала Иван. — Но не в бочке, а в карете. — Ну дык! — в сердцах сказал Митрий. — Конечно! Чтобы никто того не знал. За миллион царя продали! Сколько это у них доля получается на каждого? Митрий нахмурился и замолчал — наверное, считал. А после просто ехал молча. Иван понял, что с этой стороны ничего от него не вызнаешь, и тогда зашел иначе — сказал: — Ладно с царем. А с тобой что было, как я уехал? Чего господин майор на тебя так осерчал? — За пустяки! — очень громко сказал Митрий и опять обдал Ивана перегаром. — И даже не за мои, а за чужие. Я за Прохора Веревкина крест свой несу. А Прохор, это наш сосед, человек господина полковника Шульца, Карла Карловича. И это было так. Вот вы тогда от нас уехали, и следующий день уже почти весь прошел, и было тихо. А после вдруг к господину майору, моему барину, является курьер. Господин майор его как выслушал, так сразу начал собираться, и велел мне седлать лошадь. Я оседлал. Он говорит: еще одну седлай. Где она, барин? — Потом скажу, — сказал Иван. — Понятно! — сказал Митрий. — Семьдесят рублей! Но ладно. Оседлал я ему две лошади, он на одну сел, вторую в повод — и уехал. И как в прорубь сгинул. По летнему времени в прорубь! И ох мне сразу горько стало, боязно. И точно! Потому что на завтрашний день, а теперь это уже на вчерашний, является ко мне этот вышеуказанный Прохор и спрашивает моего барина. От Шульца. А сам без лица! Говорит: царица от царя сбежала, в Петергофе ее нет! Как, говорю. А так, он говорит, царь утром от нас собрался и поехал к ней обедать, приезжает, а там пусто. И говорят, что убежала. С незнакомым офицером! Ну, говорю, беда какая, мало ли от кого бабы с офицерами не бегали, а после их всегда ловили и пороли. А он: ага! А знаешь ли, дурак… Нет, прошу прощения, вот как: а знаешь ли, Митрий, что там не один офицер, а что за него преображенцы заступились? Все! И все измайловцы! И что теперь нам будет с нашими Карлами? И бэц на стол бутылку! И что мне, его гнать? Мы сели, стали выпивать и думать, что с нами будет дальше. А курьеры, слышим и в окошко тоже видим, так и мечутся туда-сюда. И вот уже пришел Касьян, тоже сосед, он при капитане Брауне, и мы уже знаем, что царица в Казанской короновалась, а царь сидит в Петергофе, шлет ей гонцов: одумайся, — а сам пьет горькую. И мы следом за ним! И уже ночь надвигается. К нам еще люди пришли, подсели. Видишь, барин, я все честно тебе рассказываю, я ничего не утаиваю! И вот уже ночь совсем. И тогда приходит еще один человек, Игнатом, кажется, зовут, от господина генерал-адъютанта Андрюшки-хохла… От Андрей Васильича Гудовича, я говорю! И говорит: вернулись мы! Ой, братцы! И на стол три бургонского бэц! И рассказал, как царь весь прошлый день просидел в Петергофе, очень крепко гневался и рассылал тучу гонцов во все концы, ко всем полкам и губернаторам, и кораблям и крепостям, и ждал ответа. Но напрасно ждал! Потому что ниоткуда, представляешь, барин, ваше благородие, ниоткуда ни один гонец к нему обратно не вернулся, везде его все предали! Только один курьер вернулся — это из Кронштадта. Князь Иван Барятинский. И он сказал, что там царя ждут и спасут. Тогда они все сели на галеру — и туда. Но пока они туда собиралась, потом пока туда гребли, и еще ветер был противный, там уже все переменилось, блудницыны приблудыши взяли там верх и стали грозить, что будут стрелять по галере, и уже даже стали целиться. Тогда царь развернулся и пошел обратно. И опять вернулся к нам, в Ранбов, и закрылся у себя и никого не принимает и молчит. Вот что сказал Андрюшкин человек. И мы стали пить бургонское. С горя. И я в горе заснул. Тут Митрий замолчал и некоторое время правил молча. Иван ждал. Митрий опять заговорил — очень сердито: — Только недолго я спал! Потому что вдруг чую: ой, больно! Я подскочил и вижу: это господин майор явился! И рвет меня за ухо, рвет, и страшно ругается, и еще велит срочно закладывать вот эту самую коляску, на которой мы сидим. И мы поехали. А царь остался в бочке. Потому… — Ат! — грозно сказал Иван. — Опять ты про нее! Какая бочка?! — Как какая? — сказал Митрий. — Обыкновенная бочка. Дубовая. Его туда Гудович посадил и Миних. И повезли его в Кронштадт, хотели там продать, а после, как это не получилось, почистили его, переодели, пересадили в карету, а нужно будет, и тогда его опять в боч… — Хватит! — громко перебил его Иван. И еще сказал: — Дурак! — Воля ваша, ваше благородие, — равнодушно сказал Митрий. — Но вы меня еще вспомните. И на этом он как замолчал, так после только головой покручивал, но ничего уже не говорил, вот до чего он тогда сильно обиделся. А Ивану это было только в радость, потому что ему теперь можно было в тишине и в покое как следует обдумать то, что он от него услышал, и вспомнить то, что он сам видел. И даже еще попробовать представить то, что может ждать его дальше. Но про дальше, так думал Иван, пока лучше не загадывать, потому что, думал он уже сердито, зря он на это согласился. Даже, точнее, не на это, а неизвестно на что. Потому что сгоряча он согласился! Семен вдруг сказал: езжай, и он поехал, Семен сказал: сделай там то и скажи это, и он сделает и скажет, потому что обещал. Но сгоряча. И что ему за это будет? Ноздри ему будут выдраны, вот что. И еще выжгут на лбу «ВОР», а после натрут это порохом, чтобы даже издалека хорошо было видно, кто он теперь такой. И прощай, Анюта, зря он ей тогда письма не написал, потому что после всего этого как и чем напишешь? Будет уже нечем! Потому что руку отчекрыжат. А какой у него раньше был красивый почерк! Его же из-за почерка к Румянцеву взяли, он это знает. Их же тогда, таких героев, было четверо, их пригласили в штаб, и генерал-адъютант Сивцов сказал: пишите, братцы-господа, рапорт. Они написали. У него было красивей всех, и его взяли. Ему вышел случай! А теперь, похоже, будет совсем другое. Жаль, конечно, но теперь уже ничего не поделаешь, он же обещал, Семен будет на него надеяться. Да и мало ли как оно иногда в жизни бывает. Вон как дядя про себя рассказывал! И Иван стал вспоминать о том, как дядя Тодар вернулся после Данцига домой и ничего с собой не привез, и думал всякое. И тут вдруг к нему приезжают, говорят: это, Тодар, очень хорошо, что ты ни с чем приехал, значит, ты наш. А если так, то садись на коня и поехали с нами на Вильно, будем там славно гулять! И погуляли. Дядя потом вернулся с четырьмя подводами, был очень доволен и еще отцу хвалился… И тут Митрий оглянулся и спросил, далеко ли им еще ехать. Иван осмотрелся. Они были уже на Шлиссельбургском тракте, но проехали еще совсем немного. Иван сказал, что нужно ехать еще дальше, он скажет, когда будет надо. Они еще проехали, потом еще. Иван смотрел очень внимательно, боялся, что пропустит то место. Но не пропустил. Там и вправду справа на сосне был сделан свежий затес, а через пятьдесят шагов еще один. Иван велел остановиться, но из коляски выходить не стал, потому что место было очень нехорошее: и дикое, и тесное, и мокрое. Самое место, подумал Иван. И ничего не видно, он еще подумал. Тут вдруг сразу зашуршали ветки, и из лесу вышел человек. Был он высокий, крепкий, одетый как простой мастеровой и в низко надвинутой шапке. Но из-под нее торчали букли. Да и выправка, и шаг у того человека — все это было армейское. Но не мое это дело, подумал Иван, мне было сказано — и я скажу. И он соскочил с коляски. Тот подошел, Иван ему кивнул, и тот кивнул в ответ. Иван сказал: свершилось. Тот опять кивнул. Иван сказал: скоро повезут. Тот усмехнулся и спросил: когда? Иван сказал: не знаю. Тот сказал: ладно, подождем. И сразу развернулся и пошел обратно. Когда он туда вошел, в ту чащу, так сразу там сгинул. И стало там пусто и тихо! Только вдруг как будто что сверкнуло и опять пропало. Мушкетный ствол, вот это что, подумал Иван, сразу сел в коляску и сказал: давай обратно, живо! Митрий ловко развернулся, и они поехали обратно. Но обратно — это не совсем. Иван сказал, что теперь им надо в город. Митрий спросил, куда, Иван ответил. И опять они ехали молча. Иван был очень мрачен. Ну еще бы! У него же из головы не шел тот мушкет, который он видел в кустах. Он же понимал, что это значит! И думал, что ему теперь только одной рукой не отделаться, им теперь дай две! И голову туда же. А за что? Да только за его упрямство, вот за что! Вот о чем тогда думал Иван, но Митрий ехал себе дальше, он его не останавливал и уж тем более не разворачивал. И вот они уже совсем подъехали, уже пошли городские рогатки. На рогатках у них требовали пропуск, Иван на это отвечал «Фузея», и их сразу пропускали. Так Ивана научил Семен. Так и дальше, по Семеновым словам, они, не доезжая до Фонтанки, повернули налево, проехали еще немного и остановились возле здоровенного дворца — на том углу, где было сказано. Иван сошел и велел возвращаться совсем, Митрий развернулся и уехал. А Иван поднялся по крыльцу и постучался. Ему открыли, он вошел, снял шляпу и сказал, что он по срочному делу, что его дядя прислал. Седой важный старик, который там стоял, строго спросил: какой дядя? Дядя Семен, сказал Иван. И сразу добавил: очень срочно! Старик на это только усмехнулся, и очень надменно, как будто он не лакей, а фельдмаршал. Ивана взяла злость, и он еще раз сказал: очень срочно! У старика аж челюсть задрожала! Но он все равно с места не сдвинулся, а только повернулся и велел второму, молодому, сбегать. Молодой скривился и не побежал, а нарочито медленно пошел. И долго он поднимался по лестнице! После также долго шел к двери. Зато после очень скоро вышел, перегнулся через балюстраду и замахал рукой: мол, проходите! Седой старик важно насупился и отвернулся. А Иван пригладил букли и пошел. Лестница была высокая, широкая, вся в позолоте и накрытая ковром, Иван поднимался все выше и выше и думал, что, может быть, Семен и в самом деле прав: все еще только начинается.ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ Банк
Когда Иван поднялся на второй этаж, лакей повел его дальше — сперва в одну комнату, а из нее во вторую, из второй в третью, и только перед четвертой он остановился, раскрыл ее и кивнул головой, что означало Ивану входить. Иван вошел. В той комнате было темно, потому что окна там были плотно завешены, только на столе стояли в подсвечниках свечи, и от них было немного света. Стол был ломберный, зеленого сукна, уже сильно исчерканный записями, да и на полу уже валялось не меньше полудесятка пропонтированных колод. А за столом сидели игроки. Их было четверо. Прямо напротив входа сидел сам хозяин, Никита Иванович Панин. Слева от него сидел и смотрел на Ивана генерал-поручик князь Волконский, Михаил Никитич, Иван его сразу узнал, вспомнил по Пруссии. Зато того сухого старика в длиннющем парике, который сидел напротив князя, Иван прежде никогда не видел. Это уже после, по его словам, Иван догадался, кто это — это был сенатор, конференц-министр Неплюев, тогдашний губернатор Петербурга. Но Петербург Ивану что! А вот когда четвертый из сидевших за столом, а он до того сидел спиной к Ивану, повернулся и посмотрел на него, вот тогда Иван похолодел! Потому что это был фельдмаршал Разумовский, Кирилл Григорьевич, шеф Измайловского, черт его дери, полка! Но, слава Богу, Разумовский не узнал Ивана. Или, может, Разумовский вообще не знал о том, кто такой Иван и чем он знаменит в его полку. Потому что он тогда ни слова не сказал и, больше того, даже бровью не повел. Также и все остальные игроки молчали. Один только Никита Иванович при виде Ивана радостно заулыбался и сказал: — Голубчик! Ты опять ко мне! Чем я теперь этому обязан? Иван сперва немного помолчал, еще раз осмотрел их всех, теперь уже спокойно, и после так же спокойно ответил: — Меня майор Губин прислал. Я только что из Петергофа. Проездом через Шлиссельбург. И вот тут их сразу проняло! Они все как один насторожились. Но Иван опять молчал. Его же больше никто ни о чем не спрашивал. Эти тоже еще помолчали. А потом Никита Иванович, обращаясь к гостям, сказал вот что: — Я вам об этом уже говорил. Вот видите! — После чего, повернувшись к Ивану, спросил: — И что майор нам передает, голубчик? — Майор передает, — сказал Иван, — что государь арестован. Я это сам видел. Отдал шпагу государь. И увели его наверх, в правый флигель. Эти помолчали и переглянулись. После Неплюев сказал: — Славно, — и положил свои карты. На что Никита Иванович негромко рассмеялся и добавил: — Несомненно! — После опять посмотрел на Ивана, теперь уже с очень серьезным видом, и также очень серьезно и очень негромко спросил: — А государыню ты видел? — Нет. — Почему? — Потому что ее там не было. Потому что когда он приехал и когда его карета остановилась, Зайцев открыл дверь и подал руку, а государь… — Погоди, голубчик, погоди! — сказал Никита Иванович. — Ты лучше начни с самого начала. Кто такой Зайцев? Откуда он взялся? — У него украли лошадь. И я… — Но тут Иван замолчал, потому что лицо у Никиты Ивановича уж очень сильно покраснело. Зато седой старик заулыбался. А Иван помолчал, даже еще раз пригладил букли с обеих сторон… И дальше четко и кратко, как по бумаге, изложил им то, что было в Петергофе: сколько тогда было времени, и где какие стояли войска, и где стояло начальство, когда и как дали сигнал, откуда ехала карета, что делал Зайцев, что Суворов и что государь, и куда и как он был уведен. Сказав это, Иван поклонился и больше ничего не добавлял. А эти смотрели на него и ждали. А он молчал! Тогда Никита Иванович не утерпел и спросил: — И это все? — Так точно, — ответил Иван. — А… — начал было Никита Иванович… Но, видно, тоже передумал и не стал ничего спрашивать. Вот оно даже как, очень сердито подумал Иван, даже вы, такие птицы важные, а ничего про Шлиссельбургскую дорогу спрашивать не желаете. Ну, тогда и я впредь рассказывать о ней не буду! Вот что он тогда подумал. А о чем они подумали, об этом можно было только догадываться. Потому что ничего они об этом вслух не говорили. Вслух тогда там было только вот что: старик опять взял карты и спросил, обращаясь к Никите Ивановичу, какое будет продолжение. Обыкновенное, как ни в чем ни бывало ответил Никита Иванович и вышел трефовой десяткой. И у них опять пошла игра. А Иван стоял возле двери, они о нем будто забыли. Они играли себе и играли, игра у них была какая-то мудреная, Иван такой никогда раньше не видел. Время шло, Ивану было очень скучно и, главное, обидно, но что он мог сделать? Ничего, конечно. Ему тогда только и оставалось, что по-прежнему стоять столбом в дверях, смотреть на их игру и пытаться понять, какие в ней правила. Но игра была, еще раз повторим, очень мудреная, Иван не мог в ней ничего понять. Только одно было видно, что старик, которого они называли Иваном Ивановичем (как и меня, думал Иван), понемногу их обыгрывал. Нет, даже не совсем так, а вот как: Никита Иванович, равно как и генерал Волконский, оставались почти при своих, а проигрывал фельдмаршал Разумовский. И он проигрывал все больше и больше. Но это ему не страшно, даже с некоторою радостью думал Иван, это Разумовским не беда, у них денег куры не клюют. Да и какой он фельдмаршал! Он, может, лет только на пять — семь старше Ивана, и он на войне ни разу не бывал, это ему старший брат фельдмаршала добыл. Ну да еще бы не добыть! Алешка казачок при прежнем царствии был в силе! А что будет при нынешнем? Вот о чем Иван тогда подумал. И Разумовский как будто бы это услышал! Потому что он вдруг резко развернулся и посмотрел на Ивана. Но опять ничего не сказал и опять отвернулся. Князь Волконский метал банк. После они подняли карты и посмотрели в них. А после Разумовский вдруг спросил — а раньше они ни о чем, кроме карт, разговору не водили — а тут он взял и спросил сидящего напротив него старика: — А вот скажите, любезный Иван Иванович, а что это было бы, если бы господин Суворов у Великого государя вдруг вот так же шпагу попросил? И тоже так при войсках? Иван Иванович на это улыбнулся, помолчал, потом сказал: — При каких это войсках? Да кто бы это посмел их собирать? А кто бы решился собраться? — Ну а вдруг, Иван Иванович! — не унимался Разумовский. — Вот вы только это представьте. Ну хоть как во сне. — Разве что только во сне, — сказал Иван Иванович и вышел нужной картой. Игра пошла дальше. А Иван Иванович, наверное, увлеченный предположением Разумовского, заговорил теперь такое: — Да если бы Суворов только бы увидел, кто из кареты выходит, так он тут бы и упал. Вася Суворов — это же его бывший денщик, и он его нрав крепко знает. И я не только про его дубинку знаменитую. Дубинка что! А вот, и это я сам сколько раз чуял: его еще нет, он еще не приехал, а уже как будто бы какой мороз на всех находит! Ну, думают, значит, он скоро будет. И точно! Приезжает. И спрашивает: где мой помощник верный? А это в двадцатом году было, на верфи. Я же тогда был у него в великой ласке. А сначала думал: не сносить мне головы. Я же тогда, а это еще почти в самом начале, приезжаю, а он уже там. И мне говорят: Ванька, он тебя ищет! Ванька, он весьма гневен! А я… Ну, молодой я был тогда! Я же только под утро домой приволокся, и перегаром от меня разит. Эх, думаю, скажусь больным, спрячусь, пусть они про меня скажут, что я больной… А после думаю: нет! И сам пошел к нему, пал в ноги и повинился. Он засмеялся, говорит: твое счастье, что правду сказал. А не то, говорит… Или вот еще… И тут Иван Иванович начал, не прекращая игры, рассказывать, как он с Васькой Татищевым ездил в Венецию учиться морскому делу и какие там были соблазны. А после что было в Испании. Рассказывал он очень интересно, и, наверное, в другой раз Иван слушал бы его с большим вниманием, но теперь он думал только о том, зачем они его здесь держат, отпустили бы его! Или они так боятся, как бы он, не приведи Господь, не вышел бы отсюда и не сказал бы кому, кого он на Шлиссельбургском тракте видел. С мушкетом! Да и их там, мушкетов этих, может, запрятан Целый взвод для верности, очень сердито подумал Иван… Так и Иван Иванович вдруг ни с того ни сего рассердился и, сам себя перебивая, заговорил уже вот что: — Шпагу у него забрали! Тоже государь нашелся! Срам какой! А тот, Великий государь, он не только бы шпаги не отдал, а, ничего не говоря, этой шпагой да Василия по голове! И насмерть! И сразу к генералам! И им бы тоже показал! Один! И побежали бы они, как этот Зайцев! А войска бы кричали «Ура!» А барабаны били церемонию! А он бы по лестнице наверх и во дворец! И гвардия за ним! И дальше суд! Сказав это, Иван Иванович, явно довольный собой, достал платок и аккуратно утер им губы. Все молчали. Потом Никита Иванович осторожно спросил: — А что суд? — А ничего, — строго сказал Иван Иванович. — Но сначала следствие. А это значит, что Гришку бы сразу на дыбу, там дали бы ему кнута три, больше не надо, и он бы сразу сказал, отчего это войска так взбаламутились. Потому что куплены они, вот что! Потому что где артиллерийская казна? И тогда где генерал-фельдцеийхмейстер? А подать его сюда! И Вильбоа на дыбу! И показать ему кнута, а бить не надо, он и так все скажет! И Вильбоа покажет на тебя, Кирюша! — громко сказал Иван Иванович и показал на Разумовского. — И на тебя! — тут же добавил он, указывая на Волконского. И продолжал: — И вас тоже на дыбу! Вам тоже кнута! А тут царь приезжает, выпил водки, пирогом с морковью закусил, а после из-за стола вышел, велел палачу отдохнуть, а сам взял кнут… И ведь такое тоже было, голуби, сам видел! — А самого тебя секли? — спросил Волконский. — Бог миловал, — сказал Иван Иванович. — Да и когда он мог меня сечь? Сперва я сидел в своей деревне, а это ему далеко, не достать. После меня забрали в школу учиться. От жены забрали, от детей. Мне двадцать два года тогда уже было. Забрали! А после сразу в Европу заперли. На три года. Вернулись, а над нами все смеются. Понабирались, говорят, латинской дури. Ох, нам тогда было горько! Только один государь нас жалел. И он же меня спас тогда — я же тогда один на весь Петербург умел по-итальянски… А отправили меня к султану. Резидентом. И я… — Но тут он спохватился, погрозил Разумовскому пальцем, сказал: — Нет, вы меня не сбивайте! А слушайте дальше. А дальше было бы так: Гришку на кол, ее в монастырь, тебя, Кирюша, сечь кнутом и в Сибирь, тебя, Михайло, тоже сечь и еще рвать язык, потому что ты злодей матерый, и тоже в Сибирь, а тебе, Никита, рубить голову. — А почему мне одному? — спросил Никита Иванович без всякой злости, а даже почти с любопытством. — А не одному, — сказал Иван Иванович. — Потому что мне тоже. И все мои деревни переписать в казну. Вот как оно было бы по совести. А так, как это сейчас получается, так даже как-то стыдно становится, что мы до такого дожили. Измельчал народ! И вот я опять же вспоминаю, как когда мы были в Голландии, в Амстердаме, нам там в одном доме великую диковину показывали: в банке со спиртом одного уродца бородатого, а росточку в нем было всего вот столько, вот как моя ладонь. И про этого человечка вот какую басню рассказывали: что это в дальних южных морях, в Новой так зовущейся Голландии есть такая целая держава таких… Но дальше Иван Иванович рассказать не успел, потому что в дверь вдруг тихо постучали. Стук был условный, особенный. Никита Иванович насторожился, и все за ним тоже, а после велел входить. Вошел слуга, Никита Иванович велел ему говорить, и слуга сказал, что прибыл еще один курьер из Петергофа. Никита Иванович подумал, покосился на Ивана и сказал, что пусть курьер входит. Слуга ушел. Вошел курьер. Он был одет очень просто, как маркитант какой-нибудь. Да это, наверное, и был маркитант. По крайней мере, так о нем подумал Иван, когда этот человек вошел и осмотрелся, и сразу оробел, и даже отступил на шаг, к самой двери. Никита Иванович, увидав такое, улыбнулся и очень приветливо сказал: — Говори, голубчик, не робей. Курьер сказал: — Отъехали они. Но не по той дороге. — А по какой? — спросил Никита Иванович. — На Сарское, — ответил курьер так, как будто он в этом был виноват. Ну, виноват не виноват, а Никита Иванович крепко на это разгневался! — Как это на Сарское? Почему?! — очень строго спросил он. И даже уперся ладонями в стол, как будто собрался вставать. Курьер совсем перепугался и быстро-быстро начал: — Ваше наивысоко! А что я могу знать? Я червь! Я… И тут он совсем замолчал. Потому что Разумовский быстро встал из-за стола и повернулся к нему, и уже тоже открыл рот… Но тут князь Волконский крепко взял его за локоть и потащил обратно. Разумовский сел. Тогда Волконский повернулся к курьеру, ласково ему улыбнулся и так же ласково сказал: — Ты, братец, на них не смотри. Ты на меня смотри. Тебя господин майор к нам послал? — Так точно, к вам, — сказал курьер. — И что он велел нам передать? — Что на Шлиссельбу… — начал было курьер, но спохватился и продолжил уже так: — Что по той дороге они не поехали. А поехали они на Сарское. — Кто «они»? — спросил Волконский. — Карета их, — сказал курьер уже почти без страха. — Восьмерик, четырехместная. С охраной. А охрана там была такая: на подножках, на запятках и на козлах гренадеры, все они в полном вооружении, и пол-эскадрона эскорт. И поехали они на Сарское. И очень шибко. — Это карета, это мы уже слышали, — уже не с такой лаской сказал Волконский. И строго спросил: — А кто в карете? — Не могу знать, — сказал курьер. — Не видели! Да и как там было смотреть?! Они же подали карету к самому подъезду, почти на ступеньки. И кто знал, что подадут?! Никакого знака не было. Только видим: суета какая-то вдруг начинается. И мы скорей туда! А там уже забегали. А после начали толкаться, оттирать, а кого и по зубам… И никто не видел, как его туда всадили. — Так, может, его там и нет! — рассерженно сказал Неплюев. — Может, она пустая! — Натурально, может, — сказал Никита Иванович очень задумчиво. — Нет, — сказал Волконский, — не пустая! Потому что это еще надо было бы сообразить, чтобы такое устроить — отправить пустую. А кому там соображать?! Гришке, что ли?! — И он опять повернулся к курьеру и, облизнув губы, опять почти ласково спросил: — Так пустая она была или нет? Что майор про это говорил? — Майор про это ничего не говорил, — сказал курьер опять испуганно. — Майор думал, что они поехали на Шлиссельбург. И когда они только поехали, он велел Кешке бежать за ней и посмотреть. Кешка побежал, потом скоро вернулся и сказал, что они повернули на Сарское. И ох тут господин майор разгневался! Велел ему срочно коня! Колупаев, закричал, не колупайся! И сел, и поскакал. Волконский, выслушав курьера, помолчал, подумал, а потом сказал так: — А может, они вкруговую поедут. Сперва как будто на Сарское взяли, а после р-раз! — и повернули куда надо. Может такое быть? — Может, — сказал курьер. — Господин майор так и сказал. И велел его ждать. — Где? — строго спросил Никита Иванович. — Здесь. У вас, — сказал курьер. — Он сказал, что сам сюда прибудет. Но сперва сам все точно узнает. — А! — только и сказал Никита Иванович. И даже приложил пальцы к вискам. После встрепенулся и спросил: — А про первого курьера он что говорил? — Какого первого? — спросил курьер. Никита Иванович молчал. И его гости тоже. Все они теперь смотрели на Ивана. Тогда и курьер на него посмотрел, проморгался и еще раз посмотрел… А потом только пожал плечами. — Хорошо, голубчик, хорошо, — сказал Никита Иванович без всякой радости. — Благодарю тебя. Сходи пока, перекуси чего-нибудь. У Варсонофия. А после тебя позовут. Ступай, ступай! Курьер ушел. Эти, за столом, еще немного помолчали, потом первым встал Иван Иванович Неплюев и сказал, что посидели они очень славно, он здесь всем очень доволен, но у него дела, потому что государыня может вернуться в любую минуту. А что ей тогда скажет, сказал он, если он сам ничего не знает? И я тоже ничего не знаю, сказал следом за ним Волконский и тоже встал. Тогда, правда, без слов, встал и фельдмаршал Разумовский. Ну и Никита Иванович встал, он же там был за хозяина, и сказал, а как же банк, он же не сорван, кому он. А ты, Никита, ничего пока не трогай, ответил на это Неплюев, мы, я думаю, скоро сюда вернемся и доиграем. Пусть карты лежат, строго сказал Неплюев. Или, может, он еще строже спросил, кто-нибудь хочет предложить что-нибудь другое? Но с ним все дружно согласились, и тогда они начали прощаться, после Никита Иванович провожал их до лестницы, после он вернулся, посмотрел на Ивана — а Иван стоял, где и стоял, пень пнем — и сказал примерно вот что. Что он, мол, не советует Ивану никуда из его дома отлучаться, потому что его история наделала немало шуму, а зачем еще и это? Или разве у меня вам будет неуютно, продолжал Никита Иванович очень любезным голосом, да и это будет неприлично, если вы уедете, а вернется господин майор и не застанет вас здесь. Разве это будет хорошо? Нет, сказал Иван, нехорошо. Потому что вдруг я куда побегу и вдруг кому что скажу! Э, строго сказал Никита Иванович, нельзя таким шутить, да и разве я давал для этого повод? Да если бы я вас только хоть в чем-нибудь заподозрил, так разве бы я не нашел на вас управы?! Но мне не управа нужна, а верные люди, голубчик, вот что! А вам нужно отдохнуть, а то вон вы какой бледный. Степан вас сейчас проводит. Степан! Пришел Степан, очень важный лакей, наверное, дворецкий, Никита Иванович сперва представил ему Ивана, назвав его своим другом, а после велел проводить его в левую гостиную. Степан важно кивнул, и они вышли и пошли. И это опять была лестница вверх, тоже в коврах и в позолоте, но это уже не веселило. Почему-то!ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ «Говори, что хочешь»
Также и в левой гостиной, когда они туда пришли, Ивану веселей не стало. Это была, конечно, богатая гостиная, настоящая вельможная, мебель там была французская, с кручеными и позолоченными ножками, на полу персидские ковры, на стенах голландские, скорей всего, картины. И так далее. Иван остановился посреди гостиной и начал осматриваться. Степан сказал: — Располагайтесь, сударь. Если чего будет нужно, звоните, — после довольно низко поклонился и ушел. Одному Ивану сразу стало легче. Он стал ходить по гостиной и близко все, что его интересовало, рассматривать, а то даже и брать в руки. Хорошо живут, думал Иван, он бы с таким житьем ни во что бы не влезал, ни в какие интриги, потому что а зачем интриговать, когда и так все есть? Это уже с жиру называется. И вот с такими мыслями Иван подошел к окну, осторожно отодвинул гардину и посмотрел на волю. Внизу был парк, а дальше, за Фонтанкой, начинался настоящий город, крыши, много черепицы, и там дальше где-то был Новый Зимний дворец. Но Иван его высматривать не стал, а повернулся направо и стал смотреть туда, хоть он точно знал, что Анютиного дома он отсюда не увидит. А хотелось! Подумав так, Иван полез за пазуху, нащупал там новый немецкий портмонет, еще хрустящий, а в нем колечко. Колечко было золотое, тоненькое, с маленьким камушком красного цвета. Красный — это страсть, Анюта как увидит, сразу засмущается. И закраснеет. Значит, тоже страсть! Подумав так, Иван стал дышать чаще и глубже. И все смотреть в окно, смотреть! Правда, он теперь все чаще смотрел вниз, на землю. А после даже стал прикидывать, какая там высота и сколько нужно скатертей или гардин, чтобы спуститься. Получалось, что не так и много и что охраны в парке тоже почти нет, сверху это было видно хорошо. И окно свободно открывалось, Иван его даже открыл, сразу пахнуло свежестью и волей, дышать стало легко и пьяно. Но все это дурь, вдруг подумал Иван и отошел от окна. А после даже сел в кресло и положил руку на стол, к колокольчику. Однако не звонил пока, не звал Степана, а только думал о том, что если он сбежит, то его, конечно, не поймают, потому что некому, но зато потом все будут думать, что он шпион, конфидент. Потому что а чего было бежать? И потому что если не шпион, то подожди Семена, тебе же скрывать нечего. Да и бежать теперь куда? Ни к царице теперь, ни к царю, теперь и там и там Сибирь, а к Анюте — тогда им вместе туда же. Вот и получается, думал Иван, что господин обер-гофмейстер Панин — это его последняя надежда. Ну и еще Семен. Вот поэтому и надо подождать, а не пороть горячку. И Иван ждал. Правда, делать это было очень скучно. Иван опять встал и принялся расхаживать по комнате, рассматривать картины, на которых по большей части были изображены голландские деревни, мельницы, голландцы и голландки, домашняя живность, особенно часто коровы, все очень жирные, просто на диво. Но все равно, думал Иван, в Великих Лапах лучше, даже несмотря на Хвацкого, вот только как теперь туда попасть? Да еще вместе с Анютой! А еще очень хотелось есть, Иван даже уже подошел к колокольчику. Но позвонить не успел — вошел Степан и пригласил, как он это назвал, перекусить. Перекус был в соседней комнате, в левой, как ее называли, столовой. Стол там был достаточно большой, но перекусывал Иван один. Перекус был знатный: восемь блюд, из них три мясных, очень сытных, и еще курица с грибами, Степан сказал, что это трюфели, и еще здоровущие раки гомары, и вина, тощие и сладкие, и просто белая анисовка, и еще черный бальзам. От бальзама Иван отказался, а остального отведал. После перекуса, вернувшись к себе, Иван увидел на софе шлафрок (это такой халат, как у Румянцева), мягкие домашние туфли с загнутыми турецкими носами и колпак с помпончиком. Ни до чего этого Иван, конечно, даже не дотронулся, а только расстегнул две верхних пуговицы в своем форменном камзоле, сел в кресло, взял газету, а это была немецкая, старая, он ее еще в штабе читал, но все равно, чтобы совсем не скучать, начал просматривать. И вскоре даже не то что заснул, но как будто немножко вздремнул. Так прошло еще несколько времени, а Семен по-прежнему не появлялся. Иван очнулся и смотрел в окно, там уже был поздний вечер, а Семена все не было и не было. Иван то и дело вспоминал того человека, одетого мастеровым, который прятался в засаде на Шлиссельбургском тракте и ждал, когда мимо него повезут арестованного государя. Вот зачем он там сидел! Но не повезли мимо него. Повезли в другое место. И как теперь быть? Вдруг, думают они, Иван не так прост, как это им кажется, вдруг Иван знает, куда повезли государя, которого они отбить хотели. А зачем отбить? Они же сами все это затеяли — чтобы его свергнуть, это же, как дядя говорил, даже коню понятно. А вот непонятно ничего! И как он это, и зачем он в это влип?! Ат, дурь какая, думал Иван очень гневно. И еще вспоминал про Анюту. И щупал портмонет за пазухой. В портмонете лежало колечко. Время шло, Иван скучал все сильней и сильней. И все чаще подходил к окну, и все смотрел, смотрел на парк, как будто он там что-то видел. После вдруг открылась дверь, вошел Степан, важно поклонился и сказал, что Ивана («вас, господин ротмистр») желает видеть господин Носухин Карп Львович. Велите звать? Иван сказал, что звать. Вошел Носухин, поклонился, представился первым кабинет-секретарем его высокопревосходительства, и, еще раз поклонившись, сказал, что Никита Иванович послал его, Носухина, к Ивану снять с него свидетельство. Позволите, тут же спросил Носухин и с этими словами вытащил из-под мышки портфель с чистой бумагой и всеми остальными прочими, вплоть до чернильницы, письменными принадлежностями. Что позволите, спросил Иван безо всякой охоты. Свидетельство, опять сказал Носухин. Какое, спросил Иван. О, громко сказал Носухин и даже почти засмеялся, это сущая формальность. Его высокопревосходительство так об этом и говорил, потому что никто же не требует от вас каких-то особых признаний или, не приведи Господь, оправданий. Отнюдь! Вы, господин ротмистр, просто расскажете мне о том, о чем посчитаете нужным рассказать, а я это запишу. То есть говорите, что хотите, рассказывайте в свое удовольствие. Ха, громко сказал Иван, так же мало ли что я вам могу рассказать. Я могу вам и про своего денщика Мишку много чего веселого поведать. Как, например, он пропил мои новые сапоги. Или как я поручил ему купить дров на зиму, а он что сделал, знаете? Носухин помолчал, поулыбался, а потом сказал, что тут дело, конечно, несколько другое, еговысокопревосходительство больше, конечно, интересуется событиями последних трех дней, в коих господин ротмистр имел честь принять участие. Имел честь или желает рассказать, спросил Иван. Рассказать, сказал Носухин. Даже если таковые не случались? — спросил Иван. И еще тут же спросил: тогда зачем ему все это? И потом: а откуда я знаю, что будет завтра, может, я сегодня вам наговорю, и сегодня это можно почитать за благо, а завтра это будет уже грех, рванье ноздрей и дыба. Откуда я знаю, что будет завтра? А вы знаете? А, извините, он? Носухин молчал. Иван тоже. После Носухин сказал, что он сейчас вернется, и ушел. Оставшись в гостиной один, Иван опять смотрел в окно, на парк. Очень внимательно смотрел, как будто что-то видел! Потом пришел Носухин и сказал, что его высокопревосходительство велел перенести их работу на завтра. А пока их зовут перекусить. Перекусывали они — Иван и теперь еще Носухин — в той же самой столовой, блюд было несколько меньше, но тоже вполне достаточно, вин тоже. И Носухин мало говорил, и то больше о картах и девицах. Иван совсем помалкивал, а если что и отвечал, то односложно. И только уже в самом конце, когда они уже вставали, Иван спросил, кем он здесь считается: под арестом или как. Никакого ареста, вы что, уверенно сказал Носухин. Но тут же добавил: просто его высокопревосходительство опасается, как бы кто ему, то есть Ивану, не сделал какого вреда, и вот единственно поэтому не рекомендует ему выходить в город. Ну а здесь, под окна, в сад? — спросил Иван. Конечно, конечно, воскликнул Носухин, о чем может быть речь! Благодарю, сказал Иван, и вернулся к себе. А Носухин куда-то ушел — уже по своим другим делам. Но и Иван тоже недолго сидел у себя. Вскоре он взял колокольчик, позвонил, пришел Степан. Иван подвел его к окну, показал вниз, на одну из беседок, и сказал, что он хочет туда спуститься и немного посидеть, пусть ему туда принесут трубку табаку и чашку кофе покрепче. Степан совсем не удивился и сказал, что это будет сделано. Тогда Иван спросил, как ему самому туда спуститься, где у них здесь черный ход. А зачем вам самому, сказал Степан, вас казачок проводит, Дорофейка, сейчас я его кликну, и ушел. Потом в дверь заглянул казачок и поманил Ивана, они спустились вниз и вышли в парк, а после прошли в нужную беседку. Там казачок сказал, что он сейчас все принесет, и ушел. Иван сел, закинул ногу за ногу. В беседке было хорошо. Похожая беседка, может, даже лучшая, подумал Иван, была у них в Великих Лапах. Только та была не мраморная, как эта, а деревянная, и это даже лучше, потому что дерево полезней. Жаль только, сгорела та беседка. Иван тогда сидел в ней с гайдуками, отстреливался, и ни за что бы их не взяли, потому что позиция там была просто замечательная. Но что эти собаки удумали! Подкатили воз соломы, подожгли и там сверху как толкнули — и она как пошла, а после как врезалась! И как занялось там все огнем! Иван, конечно, велел отходить. Борусю попали в ногу, а после совсем в голову. Вот какая была тогда досадная потеря. Но дядя Тодар Ивана за это совсем не ругал, потому что тут уже такое дело, сказал он, на войне как на войне. Пришел казачок, принес кофе, трубку и сразу ушел. В беседке было тихо, хорошо. Иван один раз затянулся и один раз отхлебнул, после прислушался. После еще раз отхлебнул, но уже не затянулся. А после отложил то и другое, еще раз прислушался, а после, немного погодя, оглянулся. И это было как раз вовремя, потому что он как раз увидел, как к нему входит Базыль. На этот раз Базыль был одет очень просто — дворовым. Вот только что это за дворовый такой, насмешливо подумал Иван, почему он тогда шапку перед паном не снимает? Или это чтобы его чуба видно не было? И он даже усы вниз завернул, чтобы не торчали, уже безо всякого смеха подумал Иван. А Базыль остановился и тихо сказал: — Паныч! Это я. — Вижу, — сказал Иван. — Признал. — Ат! — только и сказал Базыль. — Тихо! — сказал Иван и оглянулся. — Ага! — сказал Базыль. — А то они тебя не видят. Или меня особенно. Да они меня, паныч, еще в обед заметили! — продолжал он быстро и сердито. — Ну да и холера с ними. У нас же уже все готово: паспорт, подорожная и кони. Червонец дал собаке. Так зато какие кони, паныч! — Кони? — спросил Иван. — Какие? — Звери! — сказал Базыль. — Полетим як птушки в вырай! То есть как птички по осени в теплые страны, вот что он тогда сказал. — Зачем? — спросил Иван по-польски. — Как зачем?! — по-польски же сказал Базыль. — Они, паныч, что думают? Что вот они видят, что мы с вами здесь вдвоем. Они за нами следят, они про нас все знают. Ну и пусть знают! А мы сейчас от них через забор и вон за тот угол, — и Базыль показал, за какой, — и там тройка, и я дал ему червонец, и еще один, сказал, дам, когда проскочим Три Руки. За Тремя Руками им нас уже ни за что не достать! И там, на станции, берем другую, у нас же паспорта и подорожная, пан Вольдемар какую выправил — как царскую! Ты только посмотри! Кто нас с такой остановит? Но Иван на подорожную почти не посмотрел, а только головой мотнул, потом сказал: — А что Анюта?! — Ну-у… — только и сказал Базыль. Иван сильно нахмурился. Он же знал, что это означает: Базыль же однажды уже сказал прямо, что Литва большая и Анют на Литве много. Ух, Иван тогда разгневался, хватал его за чуб! И вот теперь Базыль только мычит, осторожничает. И это верно, подумал Иван, только у дурня все на языке, учиться надо у Базыля. И еще подумал — и сказал уже вот что, и тоже по-польски: — Ну и приедем мы, и дальше что? Нет, я так приезжать не хочу. А я хочу приехать так, чтобы Хвацкий меня еще в городе встречал, на площади, возле костела. И будет так, Базыль, увидишь! Потому что ты что, думаешь, я зря здесь торчу? Нет. А вот сейчас приедет господин майор, ты его знаешь, ему велел гетман. Гетман, слышишь, Базыль?! Я сегодня с паном гетманом в карты играл. С Кириллой Разумовским, понял! А банк метал Волконский, наш… ну, или их посол в Варшаве. Играли мы. Водку еще пили, чокались. С гетманом, еще раз говорю! — Это не тот гетман, паныч, — тихо сказал Базыль. — Тот? — громко сказал Иван. — И князь Волконский тот? И министр Неплюев! И великий маршалок пан Панин тоже тот! Много ты понимаешь, Базыль! Приеду я еще. Вместе приедем. — И приедем, — повторил за ним Базыль. — Все приезжают, паныч. Вот только для чего! Как бы мой сон не сбылся! — Какой еще? — А очень простой, паныч. Что я тебя привез. Сам знаешь, для чего! И отнесли тебя, и положили рядом с дядей. Вот что мне вчера приснилось! — Ат! — только и сказал Иван, нахмурился и замолчал. И он долго молчал! После сказал: — Я в сны не верю. Дурь это, бабьи забобоны. Делай, что тебе велели. — А что велели? — Ждать меня, вот что! — строго сказал Иван. — Но я здесь крепко занят. Так ты пока сходи к Анюте, но скрытно, конечно, ховаясь, и расскажи ей про меня, что знаешь. А что ты знаешь? — Ну, знаю кое-что, — сказал Базыль. — Будет что ей рассказать. — Но страшно не рассказывай, — сказал Иван. — И еще скажи, что я ей везу колечко. И что оно не простое, а заговоренное! Как я и обещал, скажи. Базыль молча кивнул. Иван полез за пазуху, нащупал портмонет, а после в нем колечко… И тут ему вдруг подумалось, что надо колечко отдать! Пусть, подумал, Базыль заберет и отнесет ей и отдаст. А то после убьют его, начнут обыскивать, найдут колечко — и пропьют, собаки! Разве это дело? И, думая об этом, Иван уже начал было вытаскивать портмонет наружу. Но, слава Богу, вовремя одумался, вспомнил, что это дурная примета, и не отдал кольца. Встал и сказал, что пусть Базыль идет к Анюте и говорит, что велено, и еще пусть узнает у нее, только у нее одной, вписывать ее к ним в подорожную или же нет. Базыль молчал. Я говорю, сказал Иван, это тебе для того, чтобы, если что, ты не терял времени и попросил бы пана Вольдемара сделать нам новую бумагу, чтобы и Анюта там была, ты меня понял? Понял, сказал Базыль. Тогда иди! Базыль ушел. И Иван тоже быстро оттуда ушел — не допивая и не докуривая. Поднявшись к себе, Иван еще немного походил из угла в угол, посмотрел в окно, но уже больше нигде Базыля не увидел, и стал собираться ко сну. Лег он на той софе, укрывшись шлафроком, ночной колпак под голову, шпагу в ножнах под колпак и сапоги тут же рядом поставил. Спал крепко.ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ «Не могу знать»
Утром никто Ивана не будил, он спал долго. И он спал бы еще дольше, но тут начался шум за окном. Иван поднял голову, прислушался, после даже встал и подошел к окну. Шум прекратился. Потом внизу процокали копыта, это был тот самый шестерик, на котором Никита Иванович приезжал к ним в Петерштадт, в Ораниенбаум. А теперь он куда-то уехал. Иван вернулся и сел на софу, посидел, после стал одеваться. После собрался и все прочее, а после взял колокольчик и позвонил. Пришел Степан. Иван велел, чтобы ему подали бриться, самому. Степан ушел, скоро вернулся и принес, что надо. Не уходи, велел Иван. Степан остался. Иван брился, а Степан стоял напротив и смотрел на него. Ивану было хорошо, потому что у него всегда так было заведено, чтобы когда он брился, Мишка стоял перед ним. Иван тогда не просто брился, а еще и расспрашивал Мишку, Мишка ему докладывал. Значит, соскучился он по Мишке, думал Иван, и по штабу, и по господину главнокомандующему, и даже по самой Померании. Вот о чем он думал, глядя на Степана, и молчал. Нет, он и Степана тоже пробовал расспрашивать, но тот отвечал односложно: да, нет. Вот как Иван спросил: Никита Иванович дома? А Степан просто ответил: нет. А куда он уехал? Не знаю. Не могу знать, строго поправил Иван, повтори! Степан повторил и усмехнулся. Что слышно в городе, дальше спросил Иван. Не могу знать, сказал Степан. Дурень, сказал Иван. Так точно, подтвердил Степан. Иван чуть не порезался, но удержался. Помолчал, потом спросил, когда барин вернется. Как только сможет, так сразу, ответил Степан. А где матушка царица, спросил Иван, приехала из Петергофа? Не знаю, ответил Степан. Не могу знать, грозно сказал Иван. Так точно, поддержал Степан. Иван махнул рукой — той, которая с бритвой. Степан отступил. Иван спросил, где царь, что про него говорят. Степан вообще промолчал, будто не слышал. Иван утерся и побрызгался кельнской водой. Хорошая вода, подумал. А вслух сказал: а где Носухин? Они с их высокопревосходительством уехали, в первый раз с почтением сказал Степан, они с ними всегда ездят, как же. Ступай, сказал Иван. Степан ушел. Но скоро он опять пришел и пригласил на завтрак. На завтрак была молочная кашка с изюмом и густой, как вакса, кофе с маковыми крендельками. После завтрака Иван опять скучал, слушал, не возвращается ли знакомый шестерик. Но было совсем тихо. А после вдруг резко раскрылась дверь — и к нему вошел Семен! Семен был веселый на вид, но усталый. И еще глаза у него были красные, но это не от водки, а от недосыпу. — Семен! — радостно сказал Иван, вставая. — А! — сказал Семен. — Дождался! А то я уже не чаял! Ты же вчера чуть не сбежал. Это он сказал, уже хлопая Ивана по плечам. — Куда сбежал? — спросил Иван. — В Литву, куда еще! — сказал Степан. — Тебя же Базыль звал. Но ты отказался. Сказал: буду Семена ждать. Никита Иванович так говорил. — Так ты его сегодня уже видел? — спросил Иван. — Где же я его увижу! — удивленно ответил Семен. — Это просто передали от него. А сам же он уехал к царице. И давно! Ты же еще в одном исподнем, говорят, в окно высовывался, смотрел, куда он поехал. — Не высовывался я! — сказал Иван. — Зато хотел! Ивана взяло зло, и он спросил: — А ты где был? — Так, в разных местах, — сказал Семен. — Носило меня всяко. — За той каретой? — За какой? — Которая восьмериком была запряжена. И на запятках, на подножках и на козлах гренадеры. И на Сарское! Семен на это ничего не ответил, а только как-то по-особенному посмотрел на Ивана. Но Ивану было уже все равно, Иван слишком долго молчал. И он сказал еще вот что — уже совсем зло: — Значит, не поехал он, не повезли они его туда, куда ты меня отправил. Где эти с мушкетами сидели. Отбить его. Или убить? — Эх! — только и сказал Семен. И еще покачал головой. — Я что, разве не прав? — спросил Иван. — А я что? — спросил Семен. — Я что, тебе что-нибудь дурное сделал? — Нет. — Вот и славно, — уже весело сказал Семен. И так же весело продолжил: — И пусть так же и все остальные ничего бы дурного тебе не делали, и ты бы был доволен. И женился бы ты на Анюте, подал в отставку, уехал бы к себе в Литву, в имение, выкопал бы там кубышку, съездил в Вильно, подкупил судей… — Каких судей? Какую кубышку?! — громко сказал Иван очень сердито. — А что, у вас кубышки нет? — насмешливо спросил Семен. — Не верю! Чтобы твой дядя Тодар, такой ушлый, и вдруг кубышки не оставил бы? Ну да! Тут Иван даже прикусил губу. Семен заметил это, перестал смеяться, стал серьезным и сказал: — Но это когда еще будет, та кубышка. А пока у нас другое дело. И очень важное! Как нам теперь из всего этого — сам знаешь, из чего, — живыми выбраться. Я так говорю? — Так, — сказал Иван. После чего нахмурился и сказал вот что: — Только я, Семен, если правду говорить, ничего уже давно не понимаю. Потому что… — Но тут он вначале осмотрелся и только уже после продолжал: — Ведь же это они сами сперва его ссаживали, я же это видел, а теперь что, обратно хотят посадить? Не того ссадили, что ли? Семен на это тоже не сразу ответил, а тоже сперва осмотрелся и уже только потом сказал: — Ссадили-то они того, да вот посадили не ту. — А кого надо было другую? — Другого, — поправил Семен. — Кого? — тихо спросил Иван. — Царевича, — так же тихо ответил Семен. — Павла Петровича. Понял? Иван осторожно кивнул. А Семен еще тише продолжил: — Потому что наследство как передается? От отца к сыну. И так и было договорено. Все это знали. И она тоже. Он к ней перед самым этим ездил, и ты его видел, и он подал ей манифест, и манифест ты тоже видел, она его подписала — и все началось. За царевича! А после вдруг перекрутилось. Теперь ясно? Ясно, кивнул Иван, вспоминая, как Никита Иванович показывал ему на крыльце Монплезира длиннющий свиток с подписью внизу: Екатерина. Ясно, еще раз кивнул он и еще сразу подумал, что он не жилец, раз он такое видел… И точно! Семен сказал: — Теперь эта бумага у него. А у нее сила — Гришка и вся гвардия. — И Сенат! — сказал Иван. — Ну, это еще надо посмотреть! — сказал Семен и усмехнулся. И добавил: — Да и на гвардию я еще тоже посмотрел бы. Водка же, она быстро кончается! А у кого опохмелка? И вот у кого опохмелка, Иван, тот в политике и побеждает! Это такой вечный закон! Макиавеллуса читал? — Никак нет, — сказал Иван растерянно. — Литва! — сказал Семен. — Что Литва? — строго спросил Иван. — Да ничего! — сказал Семен. — Не про Сибирь же говорю! Иван молчал. Не нравилось ему все это. Но тут Семен сказал: — Ладно, чего теперь. Еще пока что ничего не ясно. Может, она еще отступится, и тогда я зря тебя стращаю. Так что пока что подождем Никиту. Никиту Ивановича, конечно! Он сейчас на высочайшей аудиенции. Она же сегодня вернулась. — А тот где? — спросил Иван. — А тот в Ропше, — тихо ответил Семен. И тут же громко добавил: — Ладно опять же, чего там! — И громко позвал: — Степан! Степан пришел не сразу. Семен велел подать им трубки. Степан принес. И вот когда он ушел, Семен еще следом за ним сходил к двери, закрыл ее, вернулся, сел и закурил — и только тогда стал говорить. А говорил он тогда вот что: — Тот, говоришь! Вот как оно все быстро меняется. Ведь же еще совсем недавно, да хоть три дня тому назад, ты еще и в мыслях не смел его так называть. И ты, Иван, не обижайся, потому что не один ты был такой, а и все остальные не смели. И я тоже не смел. Потому что всем казалось, что это как стена — гранитная, толстенная! А после ты вот так руки развел, пропустил его, это я про Алешку Орлова, и все началось. И развалилось. А не пропустил бы, было бы иначе. На этом Семен замолчал, и затянулся, и пустил в Ивана дымом. Ивана взяла злость, и он сказал: — Так это я, что ли, по-твоему, во всем виноват? — Нет, не один ты, конечно, — медленно и со значением сказал Семен. — Но и без тебя тоже не обошлось. Я Колупаева допрашивал, он мне все рассказал, без утайки. И Рябов, и другие тоже. Сказав такое, Семен опять затянулся, еще крепче. А Иван еще сильнее разозлился и подумал: ловко придумано, вали все на меня, я им всю империю похерил! И тут еще Семен, как нарочно, добавил: — Да! А ты как думал! Ведь же тут, как и везде в других делах, главное — это самое начало. И вот у вас начало могло быть такое: ты бы взял и его заколол! Это я опять про Алешку. Заколол бы, как того солдата невинного. Чего ты на солдата накидывался? А чего Алешку не колол? — Так я же тогда еще ничего такого не думал! — жарко сказал Иван. — А надо всегда думать! — строго сказал Семен. — Я не думал, что они задумали! — сказал Иван. — Вот-вот, — сказал Семен. — Опять не думал! Но ничего, — продолжил он уже без всякой строгости. — Всякое в жизни бывает. Конечно. Но все равно представь! Сколько их там всего было? Ну, самое большое четверо. А что это тебе такое? Тьфу! Ты же ведь Кунерсдорфский герой! И ты шпагой Алешке х-ха! в брюхо! А он тебя! Или Чертков, или Баскаков, кто из них проворнее, — тебя х-ха! сбоку в ливер! И ты упал, кровью залился. Пал геройски. За царя! И вот тут уже совсем другая диспозиция, потому что это уже бой. И я у Колупаева про это спрашивал, и он без запинки ответил: так точно, ваше благородие, конечно, если бы они только на него набросились и он упал, так мы бы по ним стрельнули! Нам господин ротмистр, Колупаев мне сказал, по сердцу пришелся. И Колупаев бы стрельнул! Тут Семен еще раз затянулся. А Иван сказал презрительно: — Это он сейчас так говорит. — И имеет право! — строго сказал Семен. — И, я думаю, он так тогда и сделал бы. Потому что чего не стрелять? Но, правда, поначалу ему даже, говорил, не целилось. В своего же! При бескровном деле. А потом уже совсем другое дело было бы, если бы тебя убили. Тогда стреляй! И правда была бы на их стороне и на нашей. И положили бы они тех всех одним залпом. И на эту стрельбу прибежали бы из главного дворца, и всех, кто бы остался живой, повязали. А так теперь нас повязали. Почти! Эти последние слова Семен сказал очень сердито. Но почти сразу успокоился, опять начал курить и вскоре опять заговорил — даже с улыбкой: — Да ты не грусти, Иван. Ты же кто? Просто ротмистр. И какая у тебя была власть? А тут вон даже фельдмаршал Миних, Христофор Антонович, до чего стратег и человек до чужих смертей черствый, и тот ничего не сделал! Все профукал! Потому что такова судьба. От судьбы еще никто не уходил. Они же когда позавчера из Ораниенбаума к вам в Монплезир приехали, а это было уже ближе к обеду, так им там говорят: а ее нет. Как, спрашивают, нет? А вот так, отвечают, уехала. То есть я уже не говорю, что куда смотрел Унгерн, куда Овцын, куда все другие из тех, кто за такие вещи должен отвечать. А я еще только хочу спросить, почему никто из Петербурга ничего им не сообщил? Вот это власть самодержавная! Государь, конечно, разгневался, начал кричать. И стали рассылать курьеров. А что курьеры? Миних же сразу говорил: ваше величество, это не дело, нельзя терять время, вы должны сами туда ехать, и я с вами, если вы позволите, и прямо к полкам! Явиться и сказать: я государь, я Петр, внук Петра Великого… Но не послушали его, потому что стали говорить, что это очень опасно, что государя могут захватить и задержать. И дальше гнали курьеров. И говорили: что нам Петербург, у нас есть Ливония и есть Кронштадт, в Ливонии вон сколько полков, и они все нам верны! На что Миних смеялся, говорил: Голицын верен? И говорил: государь, не тратьте время зря, у нас есть надежда только на Кронштадт, нам надо срочно переправляться туда и закрепляться там, пока еще не поздно! Но дождались, пока стало поздно. То есть пока не наступила ночь и отовсюду им был отказ, кроме, как Миних сразу говорил, Кронштадта. И их галера пошла на Кронштадт. Но пока они пришли, там уже тоже все переменилось, и по ним дали предупредительный выстрел. Можешь себе представить, каково им это было, когда над самой головой ядро! Но Миних и тут не растерялся. Он его почти хватает за грудки и говорит: ваше величество, ничего страшного, у нас же есть галера, и мы сейчас командуем грести прямо до Ревеля, а там верная эскадра, и мы уйдем дальше, в Германию, к Румянцеву, а там… Но никто его не слушает, а все кричат, что на галере им до Ревеля ни за что не дойти, гребцы этого не выдержат. Ну и что, кричит им в ответ Миних, мы сами сядем на весла, я первым сяду! А ему восемьдесят лет, Иван, и он бы сел, и греб бы, я ему верю. А они ни один не поверили! И они вернулись в Ораниенбаум, государь сказал, что он очень сильно проголодался, побежали на кухню, а там никого, ему дали кусок холодной курицы, тогда он еще велел… Но тут Семен замолчал. Теперь он просто сидел и курил. Иван тоже молчал. Так они сидели чуть не пять минут. Потом Семен опять повернулся к Ивану и сказал: — Я знаю, почему она так осмелела. Потому что все слишком легко у них получалось. Ведь же никто не ожидал, что измайловцы так легко поднимутся. Сам Разумовский не ожидал. Очень волновался, говорят. А сколько ему это стоило, так лучше даже не считать! Как и английскому послу. — Английскому? — спросил Иван. — А я что сказал? — спросил Семен. — Английскому. — Оговорился я, — сказал Семен. — А надо было как? — спросил Иван. Но Семен этого как будто не расслышал. Он опять взялся курить. Вдруг постучали в дверь. Семен велел входить. Вошел Степан и, не обращая никакого внимания на Ивана, сказал, обращаясь к Семену: — Вернулись. Срочно зовут вас к себе. — Скажи, что сейчас буду, — сказал ему Семен. Степан вышел. Семен встал, оправил на себе мундир, сказал: — И славно! А то я боялся, как бы они его не взяли. — За что? — спросил Иван. — Не могу знать, — сказал Семен, нахально улыбаясь. Потом сразу еще сказал: — Да ты чего, Иван?! Разве я это со зла? Это я наоборот: чтобы когда тебя возьмут, тебе было проще отпираться. Сразу скажешь: ничего не знаю. И это будет правда, хоть зарежь, а за правду страдать легче. Вот видишь, как я о тебе забочусь?! Иван на это промолчал. И Семен, тоже молча, ушел. И опять началась эта тянучка со временем! Никто к Ивану не входил, никто о нем не вспоминал. Его даже на обед не позвали. Он, конечно, мог сам взять колокольчик и позвонить, и пришел бы Степан, Иван бы ему приказал — и нашли бы они чем его покормить, даже гомаров бы нашли или даже ананасов, как в Монплезире у царицы, вспоминал Иван, расхаживая из угла в угол. Или стоя возле окна. Или сидя во французском кресле. А в колокольчик не звонил. Потому что аппетита совсем не было! Ат, в сердцах думал Иван, как это Семен ловко представил! Это, мол, ты, Иван, не так руки развел — и проскочил Алешка, и разрушил царство! А вот убили бы тебя, Иван, и тогда бы всем было хорошо. А так нехорошо, а так царицу упустил. Тогда чего ты, Семен, такой умный, не пойдешь к Орловым и их не упрекнешь, зачем они лезли?! Но у Орловых власть и гвардия, к Орловым Семен не суется. Поэтому вали все на Ивана: и что царицу упустил, а еще прежде допустил к ней Никиту Ивановича и, больше того, вместе с ним стращал царицу и заставлял ее подписывать пункты в той чертовой бумаге! А что, думал Иван, еще и это они вспомнят и тоже на него свалят, он же эти пункты видел. А если видел, почему не остерег?! Почему не отнял, не порвал? То есть какой он тогда Кунерсдорфский герой, если опять развел руки и упустил пункты?! Вот как далась ему тогда та чертова бумага! Вот что более всего не давало тогда Ивану покоя! Ведь уже были одни пункты, и он про них слышал! И также слышал про то, что из-за тех прежних пунктов двух фельдмаршалов в Сибирь уперли и там сгноили. И всю их родню с ними вместе. А кого не в Сибири сгноили, того в Шлиссельбурге. Вот какие были в старину дела! Да и не в такую старину, думал Иван, еще сильней мрачнея, а всего-то тридцать лет тому назад, когда юный Петр Второй Алексеевич, сын Алексея Петровича, убиенного царевича, умре и некого было садить на царство. Тогда позвали Анну Иоанновну, герцогиню курляндскую, тетку того Петра. Но позвали с оговоркой, с так называемыми пунктами, в которых было сказано, что ей войны не начинать, мира не заключать, казну не трогать, армией не командовать, законов не издавать и еще много разного подобного. Она те пункты подписала, приехала… И дальше говорили разное, каждый по-своему, но в конце все сходились в одном: царица принародно пункты порвала — и стала править по-старинному, самодержавно. А тех, кто пункты составлял и ей на подпись подавал, тех всех сперва на дыбу и под кнут, а после в железа и в Сибирь! И Долгорукие в Сибирь, Голицыны в Сибирь… Нет, эти в Шлиссельбург. Или в Сибирь? Иван задумался. А после даже встал, перекрестился. Потому что Анна Иоанновна, да кто же этого не знает, была царица строгая, Тайная канцелярия при ней ни дня без дела не скучала, ноздри рвали — только свист стоял! А сколько заводов в Сибири построили! А сколько народу туда заселили — своим ходом! А начинали скромно, с пунктов: имения не отнимать, живота не лишать. Так и теперь, думал Иван, расхаживая взад-вперед, Никита Иванович приехал, подал пункты, Екатерина Алексеевна их сразу подписала. А после как пошло, пошло! То есть как поперла карта, так сразу ходи ва-банк! Ну, и она сходила, взяла себе всю власть! А поначалу, небось, договаривались, что государем будет цесаревич, а она при нем регентшей до его зрелых лет. Но тут вдруг такая карта, кто удержится! И Панина в Сибирь за его пункты! И этого, как бишь его, который рядом с ним стоял, ротмистр этот, драгун… С ним тоже не возиться! Содрать с него шкуру, сварить в кипятке, скормить собакам и забыть! Вот до чего Иван тогда додумался. То есть извелся весь тогда, не находил себе места. И не то чтобы он чего-то боялся, а просто было ему очень обидно. Он же ничего для себя не искал, ничего ему не было нужно, никаких выгод, он только одного хотел: приехать и подать в отставку, жениться и уехать в Великие Лапы, и это все. А тут вдруг на тебе, сколько всего навалилось! Сперва предал царя, после царицу, после заколол невинного солдата, после снюхался с немецкими шпионами, после замышлял цареубийство, а еще до этого, в самом начале, покушался на святая святых — на государственное устройство, ибо участвовал в подаче пунктов, ограничивающих самодержавие. Иван потрогал шею, сел, взял трубку, потянул, но трубка не тянулась, не горела. Иван отложил трубку, он же не курил. Так только, иногда. И выпить тоже иногда, и только после службы. А теперь какая служба! Теперь будут так называемые государевы работы — вечные, думал Иван. Но, также думал, унывать нельзя. Потому что вот взять того же Миниха Христофора Антоновича. Кто он был такой при полтавских героях фельдмаршалах Голицыне и Долгоруком? Рядовой строевой генерал. Но потом из-за тех пунктов с Голицыным и Долгоруким случилась беда — и Миних сразу пошел в гору, Бирон дал ему фельдмаршала. Немец немцу, разве жалко!? И Миних возымел большую силу. А после сожрал и самого Бирона, встал у самого кормила, это при младенце императоре Иоанне Антоновиче, и уже собирался произвести себя в генералиссимусы. Но тут дщерь Петрова на санях приехала, по барабану ножом х-ха! — и Миних поехал в Сибирь догонять Бирона. И пропал на двадцать лет. Думали, ему оттуда не вернуться, ему же сколько уже было, восемьдесят. Но тут дщерь умерла, взошел ее племянник, Миниха вместе с Бироном вернули из ссылки, и Бирон тихо сел под веник, а Миних вон что вытворял! И вот тут Семен прав: Миних греб бы на галере, и догреб бы до Румянцева, и вернулись бы они оба сюда, и что тут тогда было бы! Но и так, думал Иван, еще неизвестно, что будет с Минихом, может, его еще помилуют за храбрость вкупе с древними годами. Вот такие тогда были мысли у Ивана, а время шло и шло, Семен не возвращался. А после вдруг открылась дверь, вошел Семен, встал при пороге и сказал: — Ф-фу, какая скукотища! Не надоело тебе здесь, Иван? Иван насторожился. — Не надоело, говорю? — опять спросил Семен, закрывая за собой дверь и уже направляясь к Ивану. — А что ты еще задумал? — спросил Иван. — Я ничего, — сказал Семен, садясь рядом с Иваном. — А он чего? — спросил Иван. — Никита? — спросил Семен. — Никита тоже не очень чего. Не до нас ему теперь! Он же был у государыни. У государыни! — еще раз повторил Семен. — И она на него гневалась. Ну, не совсем еще гневалась, потому что, во-первых, не научились еще этому — гневаться по-настоящему, по-царски… Но и, думаю, она и после громко гневаться не будет. Такая она! Тут Семен помолчал, посмотрел на Ивана. Иван подумал и спросил: — За что гневалась? За пункты? — Э! — весело сказал Семен. — Дались тебе эти пункты! Про пункты можно уже не вспоминать. Проехали пункты! — И добавил тише: — Уже в первый день проехали. Когда все это случилось, еще в самом начале, ну, когда они еще были в Казанской, присягали, Никита Иванович протиснулся к ней и говорит на ушко: матушка, а как же наш уговор, я волнуюсь, гетман тоже, также и другие братья… — Братья? — спросил Иван. Но Семен как будто не расслышал, продолжал: — Он говорит: матушка, вот, я принес с собой, чтобы не делать лишней работы, секретарей не утруждать, здесь все записано по пунктам. А она улыбается, берет эту бумагу, держит ее в руках и говорит: ах, любезный Никита Иванович, вы же видите, люди просто сошли с ума, сейчас им будет не до этого, зачем им лишнее смущение, мы это им после представим, и даже в расширенном виде, а пока, говорит, извините. И х-ха! — Что «х-ха»? — спросил Иван. — Надорвала, — строго сказал Семен. — Свою подпись под пунктами. И говорит: ах, незадача! Но, говорит, ничего, мы к этому еще вернемся. И отвернулась от него. А там же что тогда творилось! Все же рвались к руке, все присягали. Ей, конечно. Про цесаревича забыли! Только один раз, и это уже в Зимнем, она вышла на балкон, это между тостами, и подняла его на руки, показала толпе. Как игрушку. И это все. — А пункты что? — спросил Иван. — Он их увез с собой, — сказал Семен. — И больше о них не вспоминал. И она тоже. А сегодня утром его вызвала и, когда они одни остались, говорит: а где наши пункты, вы их привезли с собой? Он говорит: зачем? Она: ну, мало ли. Он ей тогда: я их помню наизусть, давайте позовем секретаря, и я их ему продиктую, а вы еще раз их подпишете. Она засмеялась и сказала: вы шалун! И стала говорить о совсем других делах. А после скоро отпустила. — Хочет порвать? — спросил Иван. Семен молчал, и он добавил: — Как царица Анна. — Ну! — сказал Семен очень сердито. — Тоже вспомнил! Теперь другие времена. То давно было и прошло и не вернется никогда. И у нас с тобой дела. Проголодался я, вот что! И ты, я так думаю, тоже. Поэтому мы сейчас переоденемся, а особенно ты, потому что кто это сейчас ходит в старой форме, и поедем в одно место, очень интересное. Или, может быть, ты мне уже не доверяешь? Якшаться не хочешь… — Хочу! — очень зло сказал Иван. — Тогда собирайся.ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ От двух бортов
Сборы у них были недолгие. Потому что, как оказалось, у Степана все уже было готово, он сразу принес мундир — синий, старого привычного покроя, просторный в плечах. Иван не удержался и даже попробовал рубить. Семен, на это глядя, засмеялся и сказал, что им уже пора. Иван убрал шпагу, быстро глянул в угол, на икону, и они пошли спускаться. Внизу, сзади, за домом, уже стояла коляска. Они сели и поехали, выехали через черные ворота, а дальше взяли вдоль забора. А там на мост и в центр города. А там налево и кварталов через пять попали в самое начало Галерной. Им туда и было надо, Семен по дороге сказал, что они едут к Карлу Шнапсу, был там такой в те времена довольно-таки дорогой трактир. Зачем нам туда, спросил Иван. Перекусить, сказал Семен, немного выпить, и еще там хороший бильярд. И девки, добавил Семен, с радостью наблюдая за тем, как Иван засмущался. Да ты не бойся, продолжал Семен, я Анюте не скажу. Иван только сверкнул глазами. Ладно, сказал Семен, без девок так без девок, но тогда нам будет надо много водки, а у меня очень важное дело, как мне с ним пьяному управиться? И засмеялся. Но так как они тогда уже почти приехали, то есть времени уже почти совсем не оставалось, то Семен опять стал строгим и тихо сказал, что дело у них и вправду очень серьезное, поэтому когда Семен будет с тем, кто к ним подойдет, беседовать, Иван должен смотреть в оба, и если что, не теряться. Понял меня? — спросил Семен. Понял, сказал Иван, теперь я знаю, для чего меня переодели. Для чего? — спросил Семен. Чтобы легко было махать, очень сердито ответил Иван, потому что, подумал, что его чем дальше, тем сильней заносит и скоро ему будет обочина. Но не отказался же Иван! А вышел вместе с Семеном, и они вместе вошли к Шнапсу. У Шнапса было шумно, весело и непривычно тесно для такого еще, прямо скажем, непозднего времени. Иван с Семеном прошли через весь первый зал, и только уже во втором им нашли свободный угол. Они там сели. Им принесли того, сего и закусить. А накурено тогда там было! И уже даже кричали. Но ведь какой тогда был день! Виктория — она и есть виктория, и офицерство ликовало. Да там только одно оно тогда и было. У Шнапса же простой подлый народ даже до крыльца не допускался. Семен раз посмотрел по сторонам, потом еще раз, а потом повернулся к Ивану, взял чарку и поднял ее. Без слов! Это Ивана крепко удивило, но он, конечно, ничего на это не сказал, они молча чокнулись и выпили. Так оно дальше и пошло — пили без лишних слов. Но понемногу, под хорошую закуску. И еще два раза вставали, ходили бить шары в бильярдную, после возвращались, опять пили и закусывали. И чем дальше, тем сильней Семен мрачнел. Они же ждали человека, а тот никак не приходил. А потом то ли Семену это надоело, то ли еще что, но, чарка за чаркой, он про это как будто забыл. А потом даже совсем, наверное, забыл и стал таким, как всегда, то есть мало-помалу разговорился, начал рассказывать о своей любимой тамбовской деревне, о своих, как он их всегда называл, ворах, потом о том, как его дед пытался отучить их воровать, но бесполезно, потом о том, как тот же дед, еще до своей отставки, служил в Семеновском полку и был в Москве, когда туда приехала царица. На этом Семен замолчал и многозначительно посмотрел на Ивана. Иван молчал. Приехала, опять сказал Семен, и разодрала пункты. А, подумал Иван, вот оно что, Семен об этом тоже думает! А Семен еще раз осмотрелся, вокруг всем было не до них, но все равно налег на стол, чтобы быть ближе к Ивану, и очень сердито сказал: — Ничего ты про это не знаешь, болтают вам всякую дрянь! Будто, болтают, Васька Долгорукий с Митькой Голицыным хотели больше власти. Да у них и так была вся власть! А им хотелось конституции, закону, двухпалатного парламента. Ты понимаешь, о чем я говорю? Иван молчал, он растерялся. А Семен на это криво усмехнулся и продолжил: — Вот так и мой дед промолчал. Тогда их собрали в Кремле и начали читать бумагу. Потом начали читать другую. По-русски, дед рассказывал, читали, а ничего не понятно. Зато Митька Голицын рядом с государыней стоит и ухмыляется. А младший его брат Михайла, фельдмаршал, смотрит ему в рот и ждет: что Митька скажет, то он и исполнит. Вот как Митька Михайлу держал! А Михайла держал армию. А второй фельдмаршал, Долгорукий, держал гвардию. Да вот не удержали! Потому что не по-русски это было сказано. Потому что, закричали генералы, что это такое, за кого кровь проливать? За верхнюю и нижнюю палату? Или за помазанницу Божию?! Или — и тут Сенька Салтыков вперед выскочил — или, он кричит, ребятки, сколько нам это терпеть? Да я и терпеть не буду, и вы со мной также! А переломим руки-ноги всякому, кто покусится на наши святые вековечные традиции! И, сказав это, Семен ударил кулаком об стол. И еще даже растер туда-сюда. После еще налил обоим и взял свою чарку. — А после было что? — спросил Иван. — Закричали господа гвардейцы. — А что фельдмаршалы? — Молчали. — А потом? — А потом она велела подать пункты. — И она их порвала? — Зачем? Это не царское дело! Она их Салтыкову сунула. И Салтыков их порвал, своеручно. И вот так их швырнул, и они разлетелись. — И это все? — Почти что. Митька Голицын вернулся домой, взялся за сердце и сказал: «Мне-то, слава Богу, жить мало осталось, а им еще хлебнуть придется». И хлебнули! Тут Семен вот так вот мотнул головой и очень недобро засмеялся. А после вдруг застыл, потом тихо сказал: — О, наш пришел! Дождались! Говоря эти слова, Семен смотрел Ивану прямо за спину. Но Иван не оборачивался, потому что же Семен тоже пока что не вставал, а продолжал закусывать. А Ивану кусок в рот не лез, Иван просто смотрел на Семена. Семен быстро закусывал. А после вдруг перестал, торопливо проглотил закуску, быстро встал и так же быстро сказал: — Осип! Иван тоже встал, обернулся и увидел, что это к ним подошел морской офицер. Офицер был еще молодой и в новеньком мундире. — Осип! — еще раз сказал Семен и развел руки. — Илья! — сказал Осип Семену. Тут они даже обнялись. Иван быстро сказал: — Вот кого, братец, не ждал! Но рад! Но рад! Садись! Они сели. И Иван сел тоже. — Игнат! — сказал Семен Ивану. — Чего сидишь? Наливай! Ему в мою! — И тут же велел служителю: — Подать этого еще! — Это про водку. — И еще чарку живо! — После чего, посмотрев, как Иван наливает, и кивком одобрив, как он это делает, Семен опять повернулся к моряку и сказал: — Это Игнат со мной. Ротмистр! Тоже, между прочим, в прошлом году был под Кольбергом. Вот за это мы и выпьем! — продолжал он, принимая от служителя новую чарку. Иван в нее налил, они все трое громко, почти с треском, чокнулись, Семен еще раз помянул Кольберг, и они выпили. Семен сразу же сказал: — И со знакомьицем! Поэтому еще раз было налито и выпито. — Ф-фу! — после этого сказал Семен. — Теперь закусывать! Они взялись закусывать. И больше так быстро не пили. Но и разговор у них тоже был неспешный. Вначале морской офицер, а если точно, то капитан-лейтенант, очень вежливо, но безо всякого интереса, спросил, где Иван (а по разговору Игнат) был при Кольберге, не в десанте ли при Рюгенвальде. Нет, сказал Иван (Игнат), он тогда был уже при штабе. Осип на это усмехнулся. Иван покраснел. Ну, ну, ну, быстро сказал Семен-Осип, не задирайся, а то я за тебя галеты не поставлю, ни одной. И посмотрел на Ивана. Осип тоже посмотрел. Семен сказал: ну, это ладно, а сам ты как, я вижу, ты теперь весь такой новенький. Осип смолчал. Как ваш «Принц Жорж», спросил Семен, что теперь с ним делать, после всего этого. Осип усмехнулся и сказал, что, как люди шутят, его теперь хоть перекрещивай. Ну да, сказал Семен, вот до чего дожить приходится! И вот тут они еще раз выпили, а после принялись закусывать — конечно, молча. Иван закусывал и думал о Семеновых словах, о «Принце Жорже». «Принц Жорж» — это, что теперь почти никто уже не помнит, был в том году только что спущенный на воду новенький фрегат на семьдесят пушек, и назван он так был в честь принца Жоржа, точнее, Георга, дяди Петра Третьего. Был, кстати, и еще один фрегат, и тоже на семьдесят пушек, тоже тогда же спущенный, так тот вообще назвали «Король Фридрих». Их оба десятого мая спустили, как раз на день заключения мира с немцами. Такой был фейерверк, такая радость! А теперь что, думал Иван, теперь затопить «Фридриха», что ли? А государя… что? И он посмотрел на Семена. Потом на Осипа. И тут Семен опять спросил: так ты еще на «Жорже» или уже как? Нет, не на «Жорже», сказал Осип, у меня теперь свой вымпел. О, весело сказал Семен, ты теперь прямо адмирал какой-то! Адмирал не адмирал, с достоинством ответил Осип, а на своей лохани. Как ее звать? — спросил Семен. «Меркуриус», ответил Осип. Сколько рыл? Шестнадцать. Рыл — это пушек, подумал Иван. Да и знал он этого «Меркуриуса», это пакетбот двухмачтовый, он его то в Кенигсберге видел, то в Данциге. А теперь, раз Осип здесь, то и «Меркуриус» здесь. И, значит, он скоро — а то и прямо хоть сегодня — пойдет обратно, в действующую армию. К Румянцеву. А у Румянцева еще не присягали. А… Вот о чем он тогда думал. Но дальше думать не стал, а опять посмотрел на Осипа. Если его, конечно, звали Осипом. Ведь откликается же Семен на Илью, а он, Иван, на Игната. То есть вот кто такой этот Осип, очень тоскливо подумал Иван. А потом еще тоскливее подумал, что ну почему ему чем дальше, тем круче? А теперь вообще как бы не было шторму какого! И точно! Семен вдруг спросил: — А что почта? — Почта уже была, — сказал Осип. — Туда? — спросил Семен. — Туда, — ответил Осип. — Эх! — только и сказал Семен. А Осип усмехнулся. Тогда Семен спросил: — Письмо было одно? Или их два было? — Два, — сказал Осип. Но, правда, прежде чем ответить, он вначале как бы ненароком осмотрелся. Дыба, подумал Иван, ох, дыба нам всем будет, дыба, и нахмурился. Зато Семен, наоборот, повеселел и велел Ивану наливать. Иван налил. Они подняли чарки, Семен сделал знак, они застыли, Семен сказал: — Братцы, за нас. Потому что им что! А за нас! Иван подумал: хорошо сказал, и разом выпил. На сердце стало хорошо, хоть и по-прежнему тоскливо, Иван взялся за голову, задумался. А эти, Семен и Игнат, заговорили по-французски. Говорили они очень тихо, ничего нельзя было расслышать, да Иван и не думал их слушать. Он же опять думал про Анюту. Да и по-французски он почти не знал. Да и, опять же, думал про Анюту. Черти что, сердито думал он, да он бы давно здесь все бросил и сразу к ней бы, и забрал бы, и они уехали. Вот только отец уже однажды так уехал, и что после было? Так что, думал Иван, теперь то же самое сделать Анюте? За что?! Нет, не годится! И Иван опять сел ровно, прямо, посмотрел на Осипа с Семеном, они замолчали, и он им сказал: может, еще нальем? Семен подумал, усмехнулся и сказал: нальем. После спросил: а ты, Кузьма? Осип, ответил Осип, усмехаясь. После быстро посмотрел на дверь, перестал усмехаться, сказал: за мной пришли, но мне пора, так вы уже их сами встретьте! И тут же быстро встал и еще быстрей нырнул за занавеску — и пропал. А Семен тихо сказал что-то недоброе и неприличное. Ат, медленно подумалось Ивану, и еще раз: ат! И он повернулся. И увидел: через зал к ним уже шли в армейских епанчах. А в зале было, и об этом уже было сказано, накурено и тесно, а теперь еще темно, поэтому Иван их даже не считал, тех епанчей, а только затаился. Потому что он же сидел с краю! Поэтому с него все будет начинаться — как всегда! И так и началось. Эти, которые были в епанчах, подошли к их столу, остановились, даже сгрудились, и стали смотреть то на Ивана, то на Семена, то на третье, бывшее Осипово, а теперь пустое место. А самих их было четверо, они пока молчали. Зато Иван молчать не стал! Он громко, и нарочно крепко пьяным голосом, сказал: — Чего, государи, уставились? У нас не подают! — Ты! — грозно сказалглавный епанчинный. — Помолчи! — И спросил: — Кто здесь сидел? С тобой! Только что! — А ты мне не тыкай! — ответил Иван. — А то как бы тебе не заткнуться! — Что?! — совсем грозно спросил епанчинный. — Ты мне указывать?! А ну! И тут он схватил Ивана за плечо. А Иван другой рукой, свободной, как тырцанул ему в зубы! И тот пал на своих! А Иван подскочил. А они все скопом на него! А он им по мордасам, по мордасам! В кучу! И они в ор и тоже на него! Но тут и Семен вскочил и тоже давай их учить! И потеснили они их! И прямо на соседний стол! Стол опрокинулся! А те, кто там сидел подскочили и на этих, епанчинных, тоже, сзади! И началось месилово! Люди же там были крепко разогретые, то есть совсем уже горячие, они не стали разбираться, спрашивать, кто на кого и за что, а просто махать так махать! Крик, топот, ругань, клинки засверкали! А вот кто-то уже и выстрелил из пистолета, у Ивана щеку обожгло, Иван схватился за нее, нет, вроде обошлось, и тогда по морде епанчинного, по морде! И он еще бы ему дал!.. Но тут Семен крепко схватил его под локоть и потащил прочь, в темноту, за занавеску и за печь. А оттуда уже побежали. А сзади битва еще только разгоралась. Но они уже по коридорчику на черное крыльцо, в светлую летнюю ночь! Но там уже какие-то стояли, дожидались с тесаками наголо — и сразу на них кинулись! Но Бог спас — они отбились, только шпаги скрежетали, искры во все стороны летели. Одного пырнул, второго, третий отскочил. Семен крикнул: «За мной!» — и через двор они, через забор, по закоулкам, через дровяной сарай, по крыше, спрыгнули, еще немного пробежали, завернули за угол… А там их ждала их коляска! Они в нее вскочили, Семен велел гнать — и возница погнал. Семен утер рукой лицо и сердито сказал: — Ну ты, Иван, и бешеный! Зачем ты так?! — А что? — спросил Иван. — А то, — сказал Семен еще сердитее, — что я с тобой больше на серьезные дела ходить не буду! — Вот и славно! — ответил Иван. — А то я будто бы просился. Семен совсем сердито зыркнул на Ивана, но вслух ничего не сказал. А в это время они очень быстро ехали, ночь была ясная, возница погонял и погонял… И вдруг аж вскочил с облучка и стал тянуть вожжи на себя, и только так остановил. И очень испуганным голосом, не оборачиваясь к седокам, сказал: — А это еще что нам за беда такая?! Зрелище и вправду было не совсем обычное — им навстречу шла толпа пьяных солдат, и это опять были измайловцы. Они шли без знамен, без строя и без офицеров, конечно. — Осади! — быстро сказал Семен. — Вон туда! Живо! Возница быстро развернул коляску и съехал в проулок. Толпа приближалась. Раньше было непонятно, о чем это они кричат, а теперь мало-помалу становилось ясно, что это они то возглашают здравицы в честь матушки Екатерины, то грозят смертью тем бунтовщикам и смутьянам, которые только посмеют покуситься на ее жизнь и покой. Совсем мозги поотпивали, сволочи, сердито сказал Семен. А Иван вообще ничего не сказал. Толпа пьяных солдат приближалась. Потом они шли мимо. Офицеров в толпе не было ни одного. Только однажды вдоль толпы, вперед, проехал конный офицер, который раз от разу восклицал: «братцы!» да «братцы!» а напоследок, уже проезжая, прибавил: «головы вам всем поотрубать!» — и ускакал вперед. А Иван с Семеном еще подождали, а потом, когда измайловцы прошли, Семен велел во всю мочь гнать домой, возница огрел лошадей — и они помчались обратно, домой, то есть к Никите Ивановичу. Мчались они молча, хмеля почти не осталось, Иван был крепко задумчив, Семен крепко злой. Так они мчались всю дорогу, и только уже въезжая в ворота, Семен сперва сказал что-то сердито по-французски, а после добавил по-русски, и тоже в сердцах: — Потому что а разве иначе?!ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ Про озорство
И больше в тот день, а точнее в ту ночь, ничего такого не случилось. Они приехали и поднялись наверх, к Семену (а это было рядом с Иваном, через коридор, и остальное там было очень похожее), и немного посидели там, подождали, после пришел Степан и сказал, что их высокопревосходительство уехавши к царице и велели их не дожидаться. А что это измайловцы задумали, спросил Семен, что это за шум у них такой? Слыхали, ответил Степан, и послали туда человека, чтобы посмотрел и доложил. Семен кивнул и отпустил Степана, и уже только потом сказал Ивану, что тот может идти отдыхать, но если что, Семен его сразу поднимет. Но Иван сидел, не поднимался, смотрел на Семена, а после спросил, что это за человек был такой — Осип. А, сказал Семен, вот ты о чем! Потом сказал: только он не Осип, а Кузьма. А дальше, сказал, правильно: капитан-лейтенант, командир «Меркуриуса», завтра уходит в Данциг. А вчера, вдруг продолжил Семен, улыбаясь — а он улыбался оттого, что Иван его больше не спрашивал, а он все равно отвечал, — а вчера ушел «Курьер», ушел на Кенигсберг, и повез личный рескрипт Катрин (Семен так и сказал: Катрин), предписывающий Петру Панину, брату нашего Никиты, принять командование над экспедиционным корпусом вместо твоего Румянцева. Потому что Румянцеву она не доверяет. А Петру, брату Никиты, доверяет, ду… Но дальше он не досказал, а только усмехнулся и, помолчав, добавил, что он очень хотел был видеть, как это Петр Панин будет сменять Румянцева, если Никите, его брату, Румянцев вот так нужен — позарез! И что? — спросил Иван. А то, сказал Семен, что Петру Панину поэтому еще одно письмо отправлено, кроме рескрипта — братово письмо, Никитово. Вот так, гордо сказал Семен, одно от Катрин, а второе от нас — и оба ему, пусть выбирает. Я, продолжал Семен, и ты со мной, затем туда и приходили, это я про Кузьму и трактир, чтобы он нам там сказал, пошло наше письмо или нет, не остерегся ли Сажин. И Кузьма сказал: не остерегся, взял ваше письмо! А Сажин, чтобы ты и это тоже знал, это командир «Курьера». «Курьер» тоже двухмачтовый и на шестнадцать рыл. Знаю, сказал Иван. Вот и хорошо, сказал Семен, улыбаясь, потому что ты теперь знаешь еще вот что: что мы от тебя ничего не скрываем. Мы же, продолжал он, знаем, что ты к ней не побежишь и нас не выдашь, ты наш человек, Иван, и когда наше дело выгорит, а их прогорит, мы тебя не забудем — и будет у тебя все то, чего ты хочешь. А чего я хочу? — спросил Иван. Ладно, ладно, со смехом перебил его Семен, не придирайся к словам, да и уже поздно, а тебе еще нужно успеть хорошо отдохнуть, а то вдруг тебе завтра с самого утра нужно будет срочно скакать в Померанию или совсем в Шлиссельбург. Ступай, ступай, и засмеялся. И Иван ушел к себе. И там лег и лежал без сна, потому что сон не брал, думал о всяком разном. Но больше, конечно, об Анюте и, привязалась же, о фрау Марте. А после опять об Анюте! После о Великих Лапах, как они сидят с Семеном, выпивают, и вдруг вбегает Базыль, голова разбита, и кричит: «Хвацкий во дворе! Хвацкий!» Они сразу вскакивают, выхватывают сабли и вбегают в сени! А там темно, дым, кашель, дышать нечем!.. И Иван проснулся. Было уже утро, даже уже довольно позднее. Иван сел на софе, взял колокольчик, побренчал. Пришел Степан. Иван велел докладывать, и Степан доложил, что господин майор Губин уехал по срочным делам, и их высокопревосходительство тоже уехали и тоже срочно, а вам, ваше благородие, велели их ждать. А так все хорошо? — спросил Иван. Все, ваше благородие, сказал Степан. А что с измайловским полком — спросил Иван. Степан сразу помрачнел и сказал (понятно, что с чужого голоса), что вот до чего доходит дело, когда подлому народу дают много воли. Дело говори, велел Иван. Тогда Степан сказал, что дела там как раз никакого и не было, а было одно воровское озорство, а именно: они перепились как свиньи и пошли будить царицу. И разбудили! Зачем, спросил Иван. Так спьяну же, опять сказал Степан, пьяные они тогда все были. Сколько они уже пили без просыпу? И вот допились! А тут еще у них в казармах кто-то пустил слух, что-де убили государыню и цесаревича тоже. Или идут убить! Вот они и собрались всем скопом, и повалили к царском дворцу. И привалили. А дальше что? — спросил Иван, потому что Степан замолчал. А дальше, нехотя сказал Степан, мужичье они все сиволапое, вот кто, а никакая не гвардия! Пришли под окна, начали орать, где, мол, наша заступница и где ее дитя, а то они обеспокоились. Ну и куда деваться? Собралась она, облачилась и вышла к ним показаться с балкона. И даже сказала им речь. Но им уже и этого стало мало! Им, кричали, покажи Павла Петровича. Тогда и его облачили, и его к ней на балкон. Он тоже жив, они это увидели, ну и конец театру. Пора знать честь! И их стали просить расходиться, возвращаться нести службу. Но они же пьяные как свиньи, и они же подлой крови, мужичье они вчерашнее, поэтому они еще долго куражились, и она даже изволила спуститься к ним под окна, и цесаревич с ней, и они их там внизу опять благодарили, а после даже пошли провожать и уже только с полдороги вернулись. Вот как полночи эти кончились. А что вторые полночи, спросил Иван, тоже, что ли, что-то у них было? Да уже почти что ничего, сказал Степан. Только еще сменили караулы по всему дворцу, а где их и удвоили. Боялись, что ли, что они опять придут? — спросил Иван. Да нет, сказал Степан, про них уже и разговора не было. А уже только про него: чтобы он к ней не прошел, вот что. Кто он — спросил Иван. Как кто, удивился Степан, ее бывший супруг, кто же еще. И усмехнулся. Супруг, переспросил Иван, так он же арестован! Может, и так, сказал Степан, и даже точно так. Но все равно простой народ болтает, что его вчера в трактире видели. Он пил водку с матросами, курил табак и кричал, что он внук Петра Великого и этой дуре еще косы выдерет! Простите, ваше благородие, тут же сказал Степан, но это не я придумал, а это они так болтают — что она дура и ей косы. И все равно, сказал Иван, надо полегче! Но тут же не утерпел и спросил, в каком трактире это было. Так вот в том-то и беда, ваше благородие, нехорошо улыбаясь, ответил Степан, что это многие люди такое болтают, потому что многие его там видели. Вот только одни видели его на Охте, другие на Васильевском, третьи в Адмиралтейской части, а кто и в совсем других местах. Но все божатся, что они не врут. И еще говорят: а если он не там, тогда где он? Пусть, говорят, тогда его супруга нам сама про это скажет! А она молчит. Так, может, и она тоже ничего об этом не знает, говорят. Потому что ведь как оно было? Вы же сами это видели, что когда он от себя, из Ораниенбаума, приехал, его в Петергофе возле правого флигеля сразу схватили, посадили в карету — и он сразу пропал. Ну, это мы-то с вами знаем, куда он пропал, но ведь народ не знает. Да и зачем народу правда? Народу нужны басни! И вот басня уже есть: уже болтают, что из той кареты он сбежал. Верный солдат, говорят, его выпустил, солдат на запятках стоял, а после открыл дверцу, и государь из кареты и выскочил. Иван поморщился, сказал: какая дурь. Может, и дурь, сказал Степан, а подлому народу очень нравится. А то, что мы им говорим, они и слушать не хотят, смеются. Говорят: какая это дурь, да где это такое видано, чтобы царь от престола отрекся. Сам по себе! Да быть такого никогда не может, говорят. Не отрекался он, а убежал и спасся, а теперь сидит в трактире и грозит ей косы… Но тут Степан замолчал, спохватившись. Иван строго сказал: иди. Степан пошел к двери, но при пороге вдруг остановился, потому что вспомнил, повернулся и сказал, что завтрак готов. Иван встал и пошел следом за ним на завтрак, на эту чертову кашку и кофе. А после кофе ему было сказано, что господин майор вот-вот вернется, просил не скучать. Иван поднялся и сказал, что подождет его в бильярдной. Как пожелаете, сказал Степан и повел его в бильярдную. Бильярдная у Никиты Ивановича была знаменитая. То есть она Ивану сразу и очень понравилась. Там же было просторно и светло, и стол был какой-то очень ловкий, к нему так прямо и тянуло. И лузы были, как говорится, луженые, шары бегливые, кии киястые. Киев там, кстати, было как мушкетов в оружейной — полстены. Иван их перепробовал штук пять, и все были хорошие. И гонялось тоже очень хорошо: Иван подряд сделал три партии, а играл он в рокруа, и при этом совсем не устал, потому что за час справился, не больше. После позвонил, пришел Степан, Иван спросил про Семена, Степан сказал, что они скоро будут, и спросил, не нужно ли чего. Иван подумал и сказал, что пока ничего. Степан ушел, а Иван, еще немного посидев и посмотрев в окно, на облака, опять стал играть. И сделал еще два рокруа, прежде чем пришел Семен. Семен был задумчивый, тихий, он, как вошел, вначале просто смотрел на Ивана, как тот играет, и молчал. И Иван ничего у него не спрашивал, потому что не было у него такой привычки — лезть вперед. И он доиграл партию, положил кий на стол и посмотрел на Семена. — Ловко! — сказал Семен, который играл плохо, Иван это знал. — Ловко, — еще раз сказал Семен. После усмехнулся и сказал уже такое: — А кто знает! А может, я и вправду скоро к тебе приеду и мы с тобой там сыграем, в твоих Лапах. И еще на Хряпского наедем! — На Хвацкого, — сказал Иван. — Точно так, на Хвацкого, — сказал Семен. — Но про это, — сказал он, — пока что еще рано загадывать. У нас еще есть время. Выставляй! Сыграем! И Семен пошел к стене за кием. А Иван вывалил шары на стол и начал готовить новую партию. После бросили монету, разбивать выпало Семену. Семен разбил — как всегда, криво. А Иван положил первый шар. — Ловко! — опять сказал Семен. Иван продолжал бить. То есть ходил вокруг стола, выбирал и бил, перебивал, а Семен стоял, смотрел на это, улыбался и помалкивал. А потом вдруг заговорил — как будто сам с собой. Вначале он сказал такое: — А что, может, вполне поедем. Будет куда ехать, вот что главное! Иван перестал целиться и посмотрел на Семена. Тогда Семен сказал еще: — Я его хорошо знаю. Значит, я знаю, что говорю. Он что пообещает, то и сделает. Это она сперва одно пообещает, а после говорит: я тогда ошибалась! Это теперь не годится, она говорит. Это зачеркнуть и надорвать для верности! А он не такой. Он же над этим давно думал. Двадцать лет думал! И со шведской моделью сравнивал, и с английской. И посчитал, что шведская модель нам более всего подходит. Да ты играй, играй! Иван опять стал целиться, ударил и попал. Семен молчал. Иван опять походил вокруг стола, нашел еще одно хорошее место, долго примерялся, ударил — и промазал, да так сильно, что свой вылетел за борт. Но Семен его поймал и выставил. Иван опять стал целиться. А Семен опять заговорил: — Я знаю, что про него говорят. Что он насмотрелся на чужое и теперь хочет у нас это насадить и привить. А не привьется, потому что чужое! У нас своя земля, свои законы и свои порядки. Бей! Иван ударил — и попал, заколотил даже — и пошел целиться дальше. А Семен продолжал: — Как тогда было, когда Бой-баба всем нам на шею садилась. Как? А вот: тогда, говорят, и дед мой тоже говорил, тоже были такие же умники, князь Василий с князем Дмитрием, они же тоже думали сделать почти что такое же: конституцию и две палаты, верхнюю и нижнюю. Очень красиво все было задумано, а как полезно! Там же и вольности тоже давались, это еще тогда, и неподсудность, и запрет на конфискации земель. То есть чего бы не радоваться?! Но только зачем чужому радоваться, стали говорить. И вообще, зачем нам чужое?! Вот царица, говорят, это да, это по-нашему! Казнить и миловать! И стали орать за царицу, что давай ее сюда, хотим царицу, а этих умников в железо и в Сибирь! Бей, чего смотришь! Иван ударил и промазал, забил своего. Семен обидно засмеялся. Иван покраснел. Семен сказал: — А зачем меня слушал? А вдруг я дурак? — После сказал: — Играй, играй! А я не буду. Я лучше посмотрю, как ты играешь, у тебя же ловко получается, играй. Иван выставил шары и опять походил вокруг стола, но удобного места нигде никак не находилось. Сперва Иван не мог понять, в чем тут дело, а после понял: он теперь больше смотрел на Семена, чем на стол, и все ждал, что Семен скажет дальше. Но Семен молчал. И Иван сперва забил еще два шара, прежде чем Семен опять заговорил — и теперь уже вот что: — Я не знаю, как надо правильно. Да и мне, если честно сказать, все равно, что у нас будет — две палаты, или одна, или вообще все останется по-старому, казнить и миловать. Да, мне все равно! Потому что я же все равно как был майором, так майором и останусь. И деревня моя какой была, такой останется. Государь мне ничего не прирезал, и покойная государыня тоже. И новая, которая сейчас хочет садиться, чую, тоже не прирежет и не собирается. А он прирежет! И я это точно знаю. И прирежет не потому, что это ему так шведская модель парламентаризма подсказывает, и не английская тоже. А потому, что я, Семен Губин, еще как в прошлом году к нему прибился, так его и по сей день держусь. Держусь, к слову сказать, крепко и неподкупно. А если бы тогда же, то есть в прошлом году, я ухватился бы за шлейф Катрин, так бы и за шлейф держался, даже зубами бы впился, покрепче Орловых. И выпала бы мне деревня от нее. А так шиш с маслом, извини за прямоту. Бей, почему не бьешь?! Иван глянул на Семена, усмехнулся и отыграл своего. — За меня давай, — сказал Семен. — Я посмотрю. Иван сыграл за Семена — и забил. — Ловко, — сказал Семен. И пока Иван опять начал ходить, высматривать, Семен сказал такое: — Он, как только вернется, сразу призовет тебя к себе на разговор. Хотя уже все обговорено! Но ты все равно скажи ему что-нибудь такое, вроде того, что ты давно об этом думал и что у меня спрашивал… Ну, про законность эту спрашивал! И скажи, что ты и сейчас сомневаешься, не знаешь ничего. Они же, и он с ними, они же, эти мудрецы, они же все равно где-то в своем уме сомневаются, и поэтому когда ты говоришь, что ничего не знаешь, и у него ответа ищешь, ему, как и им всем таким, это всегда очень нравится, и он станет тебе объяснять. — Про что? — спросил Иван. — Э! — только и сказал Семен, потому что вдруг что-то услышал и сразу повернулся на звук. И тут открылась дверь, вошел Степан, учтиво поклонился и сказал, что их высокопревосходительство желают видеть у себя господина ротмистра. И тут же строго добавил: как можно скорее! Семен сказал: с Богом! И они, Иван со Степаном, пошли. Никита Иванович был у себя в кабинете. Кабинет у него был величественный: кругом шкафы с книгами до самых потолков, а потолки высоченные, стол, извините, как в трактире, то есть такой широченный, а так, конечно, деловой: на нем раскрытые книги, дописанные и недописанные бумаги, золоченый письменный прибор (а может, и просто золотой), пук фазаньих перьев, статуэточки, по правую руку глобус, по левую бронзовая нимфа с корзиной, в корзине виноград. А между ними, то есть между глобусом и нимфой, сидел Никита Иванович и очень внимательно смотрел на Ивана. Иван остановился и сделал поклон. Никита Иванович сказал: — Проходи ближе, голубчик, садись. У нас же не присутствие. И не канцелярия какая-нибудь. Иван прошел и осторожно сел к столу по другую сторону от Никиты Ивановича. Никита Иванович еще раз улыбнулся и сказал: — Вот теперь хорошо тебя вижу. Глаза стали слабы. Беда! Иван молчал и только подумал о том, что зачем тогда было окна гардинами завешивать. Никита Иванович как будто это услышал и повернулся к окнам, посмотрел на них, а после опять посмотрел на Ивана и сказал: — Господин майор Губин очень лестно о тебе отзывается. А вы не родня. — Тут Никита Иванович некоторое время молчал, разглядывая Ивана так внимательно, как будто еще раз проверял, нет ли в нем какой похожести, а потом вдруг спросил: — А как ты попал в Россию? — Я не попал, — сказал Иван. — Я здесь родился. — А, да! — сказал Никита Иванович. — Верно. А отец? Приехал ведь? И весьма поспешно, как я слышал. — Да тут попробовал бы он не поспешить! — сказал Иван в сердцах, потому что очень не любил про это рассказывать. А вот Никите Ивановичу об этом, напротив, очень хотелось послушать! И он так и сказал: — А вы, — и тут он даже перешел на «вы», — а вы не могли бы об этом поведать подробнее. — И тут же, чтобы Иван не успел отказаться, добавил: — Тут же вот какое дело: я об этом уже слышал. Но от таких лиц, которые могли… Ну, как это! Могли представить вашего отца не в самом выгодном свете. — Ну и что? — сказал Иван. — Пусть представляют. А нам оправдываться не в чем. И отец, пока был жив, никогда не оправдывался, и его брат, мой дядя, тоже, и также я. А другие пускай говорят, что им взбредет. Лишь бы только я этого, им на беду, не слышал! Сказав это, Иван почувствовал, как у него левый ус задергался. Иван огладил его пальцами, ус успокоился. А Никита Иванович сделал очень доброе лицо и сказал теперь уже вот что: — О, зачем же так! Разве я говорил, что я им доверяю? Если бы я им доверял, то я бы сейчас с ними и беседовал. А так я беседую с вами. И вот мне вспомнилось, что мне о вашем отце рассказывали, и я решил спросить у вас. Потому что кто же лучше вас об этом знает? Никто! Иван, выслушав такое, усмехнулся. Он же не такой был дурень, чтобы такому верить. Но все равно сказал — чтобы знали: — Да ничего там такого особенного не было. Просто когда все это кончилось, это я про то, как брали Данциг и король Станислав ушел в Пруссию, а король Август остался в Варшаве, у нас шляхта съехалась в Вильно на примирительный сейм. И мой отец туда приехал, в Вильно. — А дядя? — быстро спросил Никита Иванович. — А дядя еще был со Станиславом, — сказал Иван, нахмурившись. — А отец поехал в Вильно. И у нас так часто бывает, это иногда даже нарочно делается, чтобы как бы оно потом не повернулось, а в роду хоть кто-нибудь да и остался. И вот отец приехал в Вильно, был на заседаниях, голосовал. А потом, уже на третий день вечером, был в одном месте пир. И панство заспорило о том о сем. А после повскакало с мест и похваталось за сабли. И пошли рубиться. И мой отец — сгоряча — чуть не убил Радзивилла, Виленского воеводу, князя Слуцкого, Великого подчашего Литовского и прочее и прочее. И у него еще имений пол-Литвы и четверть Польши. А отец его саблей вот так! Сгоряча! И после этого как моему отцу было там оставаться?! И вот он и уехал. — Но ведь он же его не убил? — спросил Никита Иванович. — И даже не поранил! — слишком громко и в сердцах сказал Иван. — А почему так? — Да потому что пан Боровский из-под них скатерть выдернул. Они сразу стали падать, и отец ударил мимо. — Какую еще скатерть? — Шелковую, скользкую. — Откуда скатерть?! — Как откуда? На столе она лежала, где еще скатертям лежать. Они же бились на столе. И когда отец его уже вот так, Боровский дернул скатерть — и они упали. И тут уже все на них! Точнее, правильней сказать, все за Радзивилла на отца! И отец тогда в окно, по крыше, а там сверху прямо в седло, там стояла его лошадь, и со двора на улицу, а там в галоп и в галоп. И ушел. — И за ним никто не гнался? — спросил Никита Иванович. — Как же не гнались! — сказал Иван. — До самых Великих Лап гнались. На две версты всего отставали. Отец влетел во двор, сразу велел закладывать коляску, была осень, мать в охапку, бумаги в другую, сам в коляску — и погнали. И пока эти, радзивилловы, с нашими во дворе разбирались, там еще стрельба была и прочее, так отец с матерью успели далеко отъехать. После приехали сюда, отец поступил в службу. А там дядя Тодар вернулся домой и поклонился Радзивиллу, Радзивилл сказал, его не тронет, а зато брата, то есть моего отца, хоть под землей достанет. Но не достал. Достали его шведы. — Это я знаю, — сказал Никита Иванович тихо и сделал знак рукой, чтобы Иван пока ничего не говорил. Иван молчал. Так прошло немного времени, потом Никита Иванович сказал, как будто бы сам к себе обращаясь: — Тогда это был Героним Радзивилл. А теперь там Кароль Радзивилл, его племянник. Так? — спросил он у Ивана. Иван кивнул, что так. Никита Иванович еще некоторое время подумал — или сделал вид, что думал, а обдумал он это давно, — и сказал теперь такое, и уже опять на «ты»: — Я хорошо знаю, голубчик, как обстоят твои дела. Мне об этом рассказали. Я, может, даже сперва это узнал, а потом уже тебя увидел и заговорил с тобой. И это правильно. Я же не царь, который может говорить: проси, что хочешь. Также и говорить о свадебных подарках твоей невесте я тоже, как это могли некоторые, не могу. Потому что я же, если окажусь на вашей свадьбе, то только как приглашенный с твоей стороны. Правда? Поэтому я говорю совершенно определенно: я напишу Воейкову Федору Матвеевичу и лично скажу Кейзерлингу Карлу Петровичу, потому что, как вчера нам было сказано, Карл Петрович сменит Федора Матвеевича, Карл Петрович уже собирается… Полномочным министром в Варшаву. Да и кого бы туда ни послали, я буду его лично просить, а уже он, и это со всей своей убедительностью, напишет в Виленский трибунал. И тогда разве Радзивилл нам не уступит в такой для него мелочи, как Великие Лапы? Ведь я правильно понимаю твою главную заботу? Ведь это Великие Лапы, не так ли? — Так, — с трудом, без всякого желания, сказал Иван. — Вот и чудесно! — воскликнул Никита Иванович и даже потер ладошкой об ладошку. — И мы напишем письмо, и они его внимательно прочтут, и примут верное решение. Ведь же, насколько я понимаю, да и это очевидно всякому, это ведь ваше родовое имение? — Иван кивнул. — И ты дядин единственный племянник? А Хвацкий никто? Вот, сам видишь, как все чудесно! То есть никто не будет кривить совестью, а это просто замечательно. То есть вот что такое вовремя протянутая рука помощи — она сразу же помогает увидеть, на чьей стороне правда. — Тут Никита Иванович сделал многозначительную паузу, после чего быстро добавил: — И сила! Иван усмехнулся. А Никита Иванович, тот, наоборот, сделался очень серьезным и негромко, но очень твердо сказал: — Вот такие мои перед тобой, голубчик, обязательства: добиться в Виленском Трибунале того, чтобы уже в самое ближайшее время, то есть когда ты только женишься, получишь отставку и соберешься домой, он был бы уже твоим домом, законным. Я все правильно сказал? — Правильно, — сказал Иван. — Вот и еще раз чудесно! — сказал Никита Иванович строго. — Значит, тогда по рукам! Но руки, конечно, не подал. Да и Иван своей руки не тянул, потому что это просто были такие слова. А что теперь, думал Иван, вставать, что ли, и благодарить? И он бы, может, так и сделал, потому что тогда очень сильно растерялся, то есть радости совершенно никакой не было, а была только одна дурацкая растерянность — про эти Лапы и про эту свадьбу скорую… Как вдруг Никита Иванович, как будто откуда-то издалека, сказал: — А теперь самое главное. Теперь можешь, голубчик, спрашивать о самом важном, а я тебе отвечу. Ну! А Иван молчал. Потому что он еще сильнее растерялся. Ему только одно помнилось, о чем ему Семен недавно говорил: скажи, что ничего не понимаешь, ищешь у него совета! И он поискал — спросил: — А вы, Никита Иванович, я слышал, думаете совершить перемену правления. Так? — Что? — строго спросил Никита Иванович. — Какую, сударь, перемену? — и нахмурился. — Правления, — тихо сказал Иван, уже понимая, что зря об этом спрашивает. И еще даже прибавил, правда, уже совсем растерянно: — Две палаты, верхняя и нижняя, по-шведски. Я… — Глупости! — сердито сказал Никита Иванович, быстро перебивая Ивана. — Какие палаты, голубчик?! Здесь палаты?! Это озорство, голубчик! И опасное! — Тут он даже поднял палец и даже им погрозил. На пальце был перстень с вот таким вот камнем, просто с голубиное яйцо. — Правление, нам подобающее, может быть только одно — самодержавное. А все остальное от лукавого. И к чему он, лукавый, приводит? Вспомни верховников, голубчик. Тоже в гордыне вознеслись: конституция, палаты, священное право собственности, независимый суд! И что еще? И много еще такого же. А чем все это кончилось? Да тем, что Дмитрия Михайловича упекли в Шлиссельбург, где он от тоски и помре, а Василия Лукича и того строже — на плаху. И что в этом хорошего, скажи? Кому от этого стало лучше? Молчишь? И это правильно, разумно! Поэтому зачем нам это, эти выдумки? А кому они еще нужны? Ты разве где-нибудь, даже пусть в самой задушевной беседе, от кого-нибудь слыхал, что ему конституции хочется? Или парламента какого? Или свободной печати? Нет, не слышал ты никогда! И не услышишь. Ну, может, только твои вну… А! — Тут же сказал Никита Иванович. — Заболтался я с тобой совсем. Нет, это ты меня сбил. Потому что ты же сам подумай: о чем тебе нужно было у меня спрашивать? Я тебе что, за просто так обещаю хлопотать о твоих Кривых Лапах? Прости, оговорился, о Великих. Нет, конечно, не за просто так. И поэтому ты вот о чем должен был о самом важном спрашивать: чего я от тебя хочу, не много ли, и не опасно ли это. И я сразу и прямо скажу: не много. И все по закону. То есть ничего такого злодейского мы с тобой замышлять не собираемся. Ты просто будешь при мне состоять, и, может, совсем недолго. И за это время я, может, тебя только раз и отправлю сам знаешь куда с письмом. Или, может, тебе нужно будет кого-нибудь сопроводить туда же. — В Померанию? — спросил Иван. — Э! — сказал Никита Иванович. — Экий ты горячий, голубчик. Да этакую честь еще заслужить надобно. И за такое дело тебе графское достоинство причиталось бы. А тут… — И тут Никита Иванович задумался. Или просто сделал такой вид. Потом сказал: — А тут разве что скажешь наперед! Тут, голубчик, так все перепутано… Тут же даже кто царь, неизвестно! — Как неизвестно?! — сказал Иван. — А кто? — спросил Никита Иванович. — Скажи мне, олуху! Я же не знаю! Петр Федорович как в своем отречении написал? Ты когда-нибудь какие-нибудь завещания или даже просто дарственные видел? Так вот там, голубчик, пусть хоть какую захудалую деревеньку, пусть хоть даже корчму какую, обязательно кому-нибудь да завещают. Или дарят. А здесь великую державу, представляешь? И он написал: «Отрицаюсь. На весь свой век. От правительства». А в чью пользу? Это не указано. Но ведь если не указано, то, значит, в силу юридических обычаев, в пользу законного наследника. А кто здесь законный наследник? Не слышу! И Иван, помолчавши, сказал: — Павел Петрович. Цесаревич. Никита Иванович едва заметно улыбнулся и сказал: — Верно. — После еще сказал: — Чего ты такой белый? Ты это так за правду побелел? Или так робеешь? — Иван опять молчал, и он тогда добавил: — А если робеешь, тогда уходи. — Как это?! — спросил Иван. — А очень просто, — сказал Никита Иванович. — Я никого не неволю. Иди, иди! — сказал он, улыбаясь. — И там чего тебе робеть? Там государыня, которую ты спас вместе с Алешкой Орловым, как же она это забудет! А то, что ты в Измайловской слободе солдата приколол, так, скажи, бес попутал. Да и тот солдат жив остался, он сейчас лежит в лазарете и всем говорит, что ты не виноват, потому что он первым на тебя накинулся. Он, говорит, хотел тебя убить, заколоть штыком насмерть, а ты только отбивался, и поэтому… — Нет! — громко сказал Иван. — Нет! — Что «нет?» — тихо спросил Никита Иванович. — А то, — сказал Иван уже не громко, — что мы уже сказали с вами: по рукам. И пусть так оно и будет! Никита Иванович насторожился, свел брови и опять, как в самом начале, стал долго и очень внимательно смотреть на Ивана. Потом тихо сказал: — А зачем тебе это? — Как зачем? — сказал Иван. — Мы же уже договорились, чего теперь пятиться? — Ну, мало ли! — сказал Никита Иванович. — Можно и не пятиться, а просто передумать. Вот твой дядя, как я слышал, несколько раз передумывал. То за одних стоял, то за других. То за Станислава, то за Августа! — Так ведь он так сам решал! — сказал Иван. — А не потому, что робел. — Подумал и еще сказал: — У него такая натура была — переменчивая. — А у тебя? Иван молчал. — Ладно! — сказал Никита Иванович. — Тогда вот как: обманул тебя тогда Орлов, я знаю. А если бы не обманул, тогда что? — Убили бы они меня, — сказал Иван. — Я же тогда погорячился и без пистолетов к ним выскочил. А их четверо, и с пистолетами. Со всех сторон! И что бы я ними сделал? — Значит, какой получается вывод? — спросил Никита Иванович. — Горячиться нельзя! — Вот и чудесно! — весело сказал Никита Иванович. — Так что ступай пока и отдыхай, а после Семен скажет, что вам дальше делать. И это, может, только к самой ночи будет нужно, а то и вообще завтра утром. А ты еще, поди, и не обедал, голубчик. А обед у нас сегодня знатный! Тут Никита Иванович даже привстал за столом. Значит, разговор совсем закончился. Иван тоже встал, поклонился, развернулся через левое плечо и вышел.ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ «Как скажешь, так и будет»
А дальше было просто, скучно и даже немного обидно. Это потому что никто Ивану ничего не объяснял, даже Семен. Но Иван, конечно, не сразу стал Семена расспрашивать. Вначале он вернулся в бильярдную, а там, кроме Семена, был еще Степан. Как только Иван вошел туда, Семен сразу отложил кий и сказал, что они его уже давно ждут, пора обедать. И Степан повел их в столовую. Обед был и вправду знатный: поросенок был, гомары, индейский петух и еще много всякого другого, только одних супов целых три. А для питья был херес, доброе испанское вино, и хиосское было, это уже греческое, и обычное венгерское, и еще много чего другого. Но Семен сказал, что им, на службе, лучше не мешать, и они пили почти одну только белую, хлебную. Иван было сказал: — На службе! Так она, может, еще только завтра начнется. И это он так сказал не потому, что ему очень хотелось хересу или мадеры, а просто думал так разговорить Семена. Но Семен на это только как-то неопределенно пожал плечами, сказал, что, мол, возможно, так оно и есть, но все-таки лучше пока не горячиться. Опять горячиться, подумал Иван, далось им это горячение, и первым больше уже не заговаривал. Зато Семен опять стал рассказывать о своей тамбовской деревне. Правда, он теперь рассказывал о ней совсем не так, как раньше. Он же теперь говорил о том, как, если это ему вдруг удастся, он прикупит лесу, как поставит мельницу, как заведет новых лошадей, собак. И как, может, даже женится, потому что, говорил он, усмехаясь, это раньше на него так смотрели, а теперь будут смотреть совсем не так! И еще много чего подобного говорил тогда Семен, и Ивану было ясно, что это Семен говорит ему для того, чтобы Иван понял, как славно они заживут, если все у них здесь сейчас сладится. Но почему сладится, из-за чего, Семен на это даже не намекал. Как будто это само собой на них вдруг свалится. Так они сидели, может, с час, больше Иван не выдержал — и сказал прямо: — Я у него спросил о том о сем, — и Иван кивнул на дверь, — а он ничего не ответил. — О чем? — спросил Семен. — О том, что ты мне говорил. О том, что он задумал. Последние слова Иван сказал совсем негромко. — Ну и правильно, — сказал Семен тоже вполголоса. — И тебе так даже лучше. Зачем тебе все это? Если вдруг что, так сразу скажешь: ничего не знаю. — Но мы же будем что-то делать! — Будем. Но ведь не законы писать. А вот, может, съездим куда, может, кого проведаем. — Кого? — Ну, мало ли. — А далеко? — Нет, близко. Вот, к примеру, в Ропшу. Сказав это, Семен взял бутылку и налил им обоим с горкой. После сказал: — Бери. Иван взял очень осторожно, чтобы не расплескать, потому что это плохая примета, потом посмотрел на Семена, прямо ему в глаза, и сказал: — Но ведь там, небось, сколько охраны! — Так мы же не к охране едем, — ответил Семен. — Чего тебе они? И только же поговорить и сразу обратно. Давай! Они чокнулись и выпили. Иван сидел и не закусывал. Ему же тогда стало зябко. В Ропшу, думал, вот куда они поедут. К царю! И не вернутся, потому что а как тут вернешься, если в такое сунешься. А скажешь, не поеду, что это тогда такое будет? Ведь же сказал, что согласен, что по рукам ударили. Ат, дурень, зло подумал он и очень крепко стиснул зубы. А Семен негромко засмеялся и еще налил, но пить пока не предлагал, а просто смотрел на Ивана. Тогда и Иван посмотрел на него, еще подумал и сказал: — А говорят, что он сейчас не там. — А где? — спросил Семен. — Здесь, в городе, — сказал Иван. — В трактире его видели, переодетого. С матросами сидел, пил водку. — Нет, — сказал Семен, — это неправда. Он там, где я сказал. Говорят, под крепким караулом он сидит. Ну да ты их знаешь: Алешка Орлов, Федька Барятинский. Кто там еще в карете был? — Не знаю, не знакомились, — сказал Иван. — Вот тогда завтра и познакомишься! — сказал Семен насмешливо. После сказал: — Давай пока! Они еще раз чокнулись и выпили. Семен утер губы, сказал: — Хлопотное, конечно, дело. Зато быстрое! Это тебе не двадцать лет служить, как я служил, и какой я свинячий хвост выслужил? А Орловым уже вон сколько всего упало! Они уже графья. А мы чем хуже, а? Иван молчал, закусывал, кусок в горло не лез. Семен сказал: — Не знаю, как мы, а он лучше. Это я про нашего, который ничего тебе не говорит. Потому что пожалел тебя! И еще: он слово держит. Вот увидишь! — А если вдруг не увижу? — спросил Иван. — Ну, тогда и я тоже уже ничего не увижу, — сказал Семен, — а он и подавно. И тебе некому будет завидовать. — Успокоил ты меня! — Как мог! После они еще какое-то время примерно так же говорили, препирались ни о чем, а после встали и пошли в бильярдную. А что им еще было делать? И они играли. Семен вошел в азарт и уже хотел играть на деньги или даже на деревни, но Иван не захотел. Потом пришел Степан, принес кофе, кренделей, они пили кофе, играли, потом опять пришел Степан и сказал, что господина майора срочно требуют к его высокопревосходительству. Семен встряхнулся, выпил еще кофе, подмигнул Ивану и ушел. Иван остался в бильярдной один. Одного совсем взяла тоска! Иван ходил вокруг стола, бил рокруа за рокруа, думал о всяком, а Семен не возвращался. Было уже совсем поздно, вечер почти что кончился, Иван уже не знал, что думать… Как вдруг вошел Степан и, плохо скрывая ухмылку, сказал, что к господину ротмистру пришли. — Кто это? — спросил Иван. — Не говорит, — сказал Степан. — Говорит: по-нашему не понимает. Звать? — Звать, — сказал Иван, а сам подумал: вот, и еще это, как он мог про это забыть? И отложил кий, потому что понял, что теперь ему будет уже не до игры. И так оно и было. Потому что открылась дверь и в бильярдную вошел Базыль. Он опять был одет просто, как чей-нибудь дворовый человек, только, в отличие от прошлого раза, был он какой-то весь взъерошенный. Иван смотрел на него и молчал. Базыль тихо, но очень сердито сказал: — Ат, холера на них! Иван опять молчал. Тогда Базыль утер усы и продолжал уже почти спокойным голосом: — Вот я, паныч, и пришел. Как договаривались. И привели меня сюда. — А где ты раньше был? — спросил Иван. — А здесь рядом, под окном, — сказал Базыль. — Стоял и тебя дожидался. Скромно стоял, в кусточках. Чего, думаю, людей тревожить? Постою, думаю, подожду. Потому что куда мне спешить? И я стою… Сказав это, Базыль недобро усмехнулся, и быстро шагнул к Ивану, и уже тихо и быстро, по-польски продолжил: — А я тебе еще в прошлый раз говорил, что они все видят, паныч! А теперь знаю: так оно было! Потому что только я через забор и только затаился, как эти собаки на меня! А я без сабли! А они… — Ладно, ладно, будет врать! — громко сказал Иван по-русски. — Пропил все, что я тебе давал, собака! А еще дам, еще пропьешь! — Паныч! — сказал Базыль. — Ты что это?! — И это уже опять по-русски. — А то! — по-русски же сказал Иван. — Ладно, ты за это мне еще ответишь. А у Данилы был? Базыль надул щеки, но молчал. — Сядем, — сказал Иван. — Садись, — и показал на оттоманку при стене, в самом углу, за шкафом с запасными шарами. Они прошли туда и сели. Иван тихо сказал: — Теперь рассказывай. Но Базыль сперва посмотрел по сторонам, после сердито усмехнулся и только уже после так же сердито сказал — опять по-польски: — Где ты видел стены без ушей? — Ну, мало ли, — по-польски же сказал Иван. — Ладно, — сказал Базыль. — Чего там. Мы же никого не продаем. И нам ни от кого ничего не нужно. У нас все свое! С этими словами он полез за пазуху и достал оттуда пакет, а потом из пакета бумагу. Бумага была не простая, а с гербом. Это, Иван сразу догадался, подорожная, и ему сразу стало жарко. — Новая? — спросил Иван. Базыль кивнул. После сказал: — Вольдемар Адамович старался. Только час тому назад добыл. И я сразу сюда. — А что Анюта? — спросил Иван и напугался, потому что сердце очень-очень сильно застучало. — Здесь она, — сказал Базыль. — На, посмотри. Иван взял подорожную, развернул и стал читать. Руки у него сильно дрожали, но он все же прочитал, что господин майор Кмитский с супругой… — Почему майор? — спросил Иван. — Так написано, — сказал Базыль. — А с супругой, потому что где же вы сейчас здесь обвенчаетесь? Сразу возьмут же! — А что… — сказал было Иван и замолчал, потому что не решился спрашивать. — А это не она, — сказал Базыль. — Это Даниле Климентьевичу было решать. И Марье Прокофьевне. И они дали добро. — А! — только и сказал Иван. После облизал губы и все-таки спросил: — Но она хоть что-нибудь же говорила?! — Говорила, да, — сказал Базыль. — Сказала, что как скажешь, так оно и будет. И тогда я, паныч, это уже я сам, по своей охоте, спросил у нее: а вот если прямо сегодня, спрашиваю, надо будет ехать, ты тогда что?! И она, паныч, как роза заалела! Но смолчала. Это ей честь! Иван опять взялся читать. Там было написано, что майор Кмитский с супругой срочно следуют на место его новой службы, место службы — Кенигсберг, это, понял Иван, для того, чтобы их на границе сразу, без лишних вопросов пропустили. А там — сразу домой. А там Хвацкий. Ну и что, что Хвацкий, сердито подумал Иван, они что, эти Хвацкие, только теперь объявились? Нет! А уже лет двести или даже больше. И он читал дальше, про Анюту: лицо чистое, волосы русые, глаза карие… А дальше не смог читать, зажмурился, сразу увидел Анюту, она улыбалась. — Паныч, — сказал Базыль очень тихо. — Уходить нам нужно, вот что. — Как уходить? — спросил Иван, быстро открыв глаза и посмотрев на Базыля. — А вот так, — сказал Базыль уже совсем почти шепотом. — Потому что все готово. Ты же, паныч, сам говорил, что как только будет новая подорожная и чтобы там была пани Анюта прописана, так сразу едем. Ну! Иван молчал. — Ат! — шепотом сказал Базыль. — И мне, паныч, чего! Но это же ты сам этого хотел! А что теперь? Она теперь согласна, и даже отец с матерью, ты, паныч, только подумай, согласны, чтобы ты их дочь увез. А ты чего тогда сидишь? Но Иван опять не шелохнулся. Тогда Базыль сказал: — Пан Данила человек уже, конечно, старый. Но, я думаю, он завтра пришлет к тебе людей. Или даже сам приедет! И он тебе голову срубит! И это будет справедливо! Иван поморщился, подумал и сказал: — Завтра он меня здесь не застанет. Завтра я буду не здесь. — А где? — спросил Базыль. — В Ропше, — совсем шепотом сказал Иван. — А что это за место такое? — А это такое место, где сейчас сидит бывший царь под арестом. И вот я с паном Семеном туда еду. — А царь вас ждет? —спросил Базыль. — Нет, он про это и не знает. И охрана его тоже. И я на этом слово дал, Базыль, что я туда поеду! — быстро продолжал Иван. — И если у нас там все сладится, я не то что майором, а сразу полковником стану. Или генерал-поручиком! И сам его высокопревосходительство у нас на свадьбе дружкой будет! И цесаревич нас благословит! И я тебе, Базыль, такого коня подарю, какого сам выберешь! Любого, сколько бы ни стоил! Потому что денег у меня тогда будет сам знаешь сколько! И чего ты на меня так смотришь? Не веришь? Думаешь, что поскуплюсь?! На что Базыль усмехнулся и тихо, и очень невесело ответил: — Я, паныч, про это уже слышал. — Когда? От кого? — А! — сказал Базыль. — Зачем сейчас об этом говорить? Я же не ворон, паныч, чтобы каркать. А только бы я на твоем месте сейчас вот что сделал. Окно открыто, а под ним внизу клумба с цветами, земля мягкая, я проверял. Мы бы сейчас с тобой спрыгнули, паныч, и побежали бы, и на углу через забор, а там дальше опять тройка. И на Литейную, там быстро собрались, да там и так все уже давно готово, и домой! — Базыль! — сказал Иван. — Я слово дал! Да и куда теперь! И я же говорю: два дня, Базыль! Скажи ты ей, Базыль! А пану Даниле пади в ноги! Скажи, за меня падаешь, Базыль! Я же, Базыль, хочу как лучше! — Отдай! — сказал Базыль. Иван отдал ему подорожную, Базыль молча спрятал ее в пакет, пакет спрятал за пазуху, встал, очень сердито сказал, что не знает, что теперь и говорить, ведь же позор какой, а после быстро развернулся и ушел. Иван ему вслед сказал: — Скажи ей: я ее люблю! До смерти! Но Базыль как шел, так и вышел, дверь за ним закрылась, стало тихо. А дальше было что? Да вот в том-то и дело, что ничего дальше не было. Семен больше не появлялся, Степан тоже. Тогда Иван пошел к себе в свою гостиную, снял сапоги, лег на софу и задумался. Хотя чего тут думать, думал он, когда и так все ясно, и что это только Базыль, старый дурень, верит в то, что они могут отсюда сбежать и их никто не поймает. Да еще как поймают, потому что не такие бегали, а добегали до первой рогатки. Это если бы еще один Иван бежал, тогда, может, другое дело. Или вдвоем с Базылем. А с Анютой далеко не убежишь. С Анютой — это только если бы Никита Иванович им поспоспешествовал. Но такое еще нужно заслужить, и тогда, думал Иван, будет так, тогда они, конечно, убегут, потому что Никита Иванович — это здесь не кто-нибудь, а воспитатель цесаревича. А если, вдруг подумалось и сразу стало жарко, а если в самом деле цесаревич будет коронован, что тогда? А тогда вот что — Никита Иванович станет уже воспитателем самого государя! А Иван его, Никиты Ивановича, правой рукой! Тогда и вообще хоть не беги, сразу быстро подумалось дальше, ведь же зачем тогда бежать от всего этого?! Подумав так, Иван вздохнул, зажмурился, подумал: нет, о таком лучше не загадывать, а лучше… И дальше он еще подумать не успел, а ему уже привиделась Анюта. Она улыбалась. Иван ей тоже в мыслях улыбнулся и с гордостью вспомнил, что он велел Базылю передать Анюте, что он будет любить ее до смерти. Да, до смерти, еще раз подумал Иван, а что! И он ее всегда крепко любил, уже даже не помнит, с каких лет, потому что сколько он себя помнит, столько и любит Анюту, потому что Данила Климентьевич — это старый боевой товарищ его покойного отца, а когда отца убили, мать перебралась к Пристасавицким, к пану Вольдемару, а дом Данилы Климентьевича был тогда напротив, они тогда еще не переезжали на Литейную, и Анюта у них тогда еще не родилась. А потом родилась, и они переехали. А Ивана зачислили в корпус учиться, Данила Климентьевич очень помог. А после прошло время, и Анюта выросла, пан Вольдемар и Данила Климентьевич сговорились. Нет, конечно же, сперва сговорились Иван и Анюта. Да он ее всегда любил! Только один раз всего… Иван лег на спину. Да, только один раз, подумал он опять, было как наваждение. Нет, даже просто колдовство какое-то, очень сердито подумал Иван, околдовали его немцы, вот что! Прошлой зимой это случилось. Его тогда перевели по долгу службы. Городок был маленький, красивый. Он себе и квартирку такую нашел — тоже красивую. И квартирная хозяйка там была очень из себя внимательная, предупредительная. Звали ее фрау Марта. Была она вдова в двадцать четыре года. Ну и что тут дальше рассказывать? Иван же живой человек — и закружилась у него голова! И до того закружилась, что стал он уже о таком серьезном деле подумывать, что его вслух лучше даже не упоминать. Тем более что Иван сам об этом молчал, никому не говорил и даже не намекал. А когда в Петербург приезжал, то и подавно — даже вида не показывал. Но любящее сердце не обманешь! И поэтому дальше было так: возвращается Иван обратно в Померанию — и началось! Только голову на подушку положит, только веки смежит — и сразу видит Анюту, как она сидит, пригорюнившись, и на него с укором смотрит. Тут разве улежишь?! Иван подскочит и сидит. А фрау Марта смотрит на него, молчит. Тоже смотрит, как Анюта, только не с укором, а с испугом. Он у нее спрашивает: ты чего испугалась? А она молчит. Долго она молчала, может, целую неделю, а после сказала: я боюсь, что ты уйдешь, Иван. И ведь ты уйдешь, я знаю, чувствую! К кому? — Иван спрашивает. О, нет, отвечает фрау Марта, ты знаешь, к кому. Иван ничего на это не сказал, лег и закрыл глаза. Утром ушел на службу. А вечером остался в штабе и там ночевал, пока Мишка-денщик искал новую квартиру. А потом, когда он в следующий раз сюда приехал и сразу пошел к Даниле Климентьевичу, то есть, конечно, к Анюте, она крепко взяла его за руку, долго смотрела на него, прямо в самые глаза, а после радостно заулыбалась и сказала: а та змея уползла! Какая змея? — спросил Иван как будто удивленно. А та самая, ответила Анюта — и прямо засветилась вся! А он ее тогда вот так вот обнял… Но тут вошла Марья Прокофьевна, и он вскочил. А Марья Прокофьевна спросила: ты чего это? А он сказал: я ничего. И покраснел, как после сказала Анюта. И это же надо, подумал Иван, как она его держит! Прямо как на цепи! А говорит: как скажешь, так и будет. Да, конечно, подумал Иван, усмехаясь, да если бы не Базыль, а она сюда к нему пришла и сказала бы: едем, Иван, срочно, прямо сейчас! — и он бы поехал, ни о чем не думал бы, ни о каких своих прежних кому-то словах и обещаниях не вспомнил, потому что околдовала она его, присушила, и ничего он с этим поделать не может. Да и не хочет! Вот только хочет одного — чтобы сейчас у него с Никитой Ивановичем все самым лучшим образом сладилось, и тогда бы он купил Анюте шубу белых соболей — такую, какую он однажды видел на государыне Елизавете Петровне, когда она к ним в корпус приезжала на экзамены. Ах, какая была шуба, Господи, вот бы Анюте такую! Но это еще нужно заслужить, думал Иван, вот сейчас Семен вернется, и они поедут в Ропщу, а там бывший царь… А зачем им этот царь?.. И тут Иван крепко заснул.ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ Как было
Летом в Петербурге ночи почти не бывает. Поэтому когда Иван проснулся и открыл глаза, он никак не мог понять, сколько сейчас времени. Может, думал он, пора уже вставать и ехать в Ропшу. Или, может, еще рано? Ат, дрянь какая, сердито думал Иван, никогда с ним такого еще не было, он раньше всегда был при часах, а тут, уезжая, забыл. Или оставил в штабе на столе. Или на квартире, когда собирался, а Мишка ему не напомнил. Или просто где украли? Вот тогда совсем жаль! Часы же у него были завидные, французские, мастер Андре Карон, золотые. За полгода только на секунду убегали, а что такое секунда! Но, правда, тут же подумал Иван, за секунду пуля долетает. Это ядра летят долго, особенно если работает осадная артиллерия, они же бьют навесом, из укрытий. А пуля — это почти всегда рядом. Это смотришь в черную дырку и думаешь, что там сейчас нажмут на курок — и оттуда вылетит пуля, и это так быстро, что ты ее и не заметишь. И дыма тоже не увидишь, потому что ты уже будешь убит. А вначале видишь дырку — очень черную… Ат, привязалась же, очень сердито подумал Иван и даже проморгался, а после даже лег на другой бок, к стене, и зажмурился… Но так стало только еще хуже, потому что Иван теперь увидел, что вокруг него болото, очень топкое, то есть настоящая дрыгва, гиблое место, а он стоит себе, держит в руках ружье наперевес. А рядом с ним стоит Варьят, это такой пегий, ласковый песик, очень чуткий. Варьят крутит носом, нюхает. Ат, думает Иван, нужно открыть глаза, не нужно смотреть это дальше, он же один раз это уже видел, зачем ему еще раз смотреть, судьбу испытывать! То есть думает он совершенно правильно… А вот открыть не может! То есть он стоит как раз с открытыми глазами и все вокруг видит, но он же понимает: это все не настоящее, это сон, ему нужно проснуться!.. Но не получилось — и он стоял дальше. Варьят тоже стоял и нюхал. А после вдруг заскулил, быстро оглянулся на Ивана, а после вдруг радостно взвизгнул — и побежал по кустам, по дрыгве. И Иван за ним побежал, как только мог быстро. Долго они бежали по дрыгве, Иван крепко устал и уже хотел крикнуть Варьяту, чтобы тот остановился. Но тут Варьят как кинулся — и поднял уток. Иван вскинул ружье, прицелился, бабахнул — и еще успел увидеть, как одну из них аж подбросило вверх, перья из нее посыпались, а остальные кинулись вбок! А Варьят загавчил — и туда!.. И больше ничего не видно, все стало в дыму. Иван опустил ружье и принялся ждать. Думал, что Варьят сейчас опять загавчит, как только найдет утку. Но Варьят молчал, как будто в дрыгву провалился. А дым уже рассеялся. Иван стоял посреди дрыгвы, дальше впереди, он знал, было озеро, утки туда улетели. Улетели три, четвертая упала, Варьят за ней побежал и вот что-то никак не возвращается. Иван еще немного подождал, после начал звать: «Варьят!», «Варьят!» Варьят не отзывался. Ивана взяла злость — и он пошел вперед. Шел, шел, после опять остановился, начал опять звать Варьята, но Варьят опять не отзывался. И по сегодняшнему разумению Иван сел бы на кочку и принялся бы ждать Варьята, потому что место там было не очень доброе, там же уже много всякого случалось. Но тогда Ивану было сколько? Семнадцать лет всего, то есть самая дурь! Он тогда уже без Базыля, сам, приехал к дяде на вакации, и эти как только про это узнали, сразу, конечно же, наехали, и была славная, как это называется, потычка. И так все лето после было славное, потому что скоро была еще одна потычка, это уже на Карпицком лугу, и после еще одна, возле запруды, Ивана тогда даже лошадь сбросила, но он ловко упал, дядя его хвалил. И так, одно дело к другому, лето почти кончилось, нужно было уже собираться обратно, на учебу в корпус, браться, как говорил дядя, за ум. И вот уже завтра нужно было ехать. Но Иван с вечера сказал, что он еще раз сходит один, сам, на уток, и недалеко, он же не дурень. И вот встал еще затемно, взял Варьята и пошел. И ходил, ходил, ходил — но ничего не выходил. Куда все утки подевались, непонятно! И вдруг Варьят поднял, Иван выстрелил, попал, Варьят побежал подбирать. А вот теперь нет его, и нет, и нет! Иван стоял, смотрел, посматривал, после еще прошел, после еще, и дальше дрыгва уже кончилась, началось озеро, тоже Карпицкое, оно там, с того края, все сильно заросшее, там ничего не видно. Но вдруг как будто Варьят гавкнул! Иван пошел туда, остановился, потому что трава громко шуршала, ничего другого слышно не было… И опять услышал: Варьят гавкнул! Да что это такое, сердито подумал Иван, кого он там так напугался? Варьят — и напугался! Что его там, Цмок схватил, что ли?! Ат Цмок! И Иван шагнул было вперед… Но там было очень топко, Иван сразу крепко провалился, ему стало жалко ружья, он обернулся, положил ружье на кочку, чтобы оно не замочилось, и пошел дальше, к озеру. Шел, шел, прошел шагов с десяток, даже больше… И вдруг слышит — сзади шум! Он обернулся… И только подумал: ат! Потому что а что еще думать, если он увидел, что сзади, на той самой кочке, где он положил свое ружье, стоит пан Хвацкий, а рядом с ним Гардусь, его каштелян, и они оба с ружьями наперевес. А его, Иваново, ружье у них под ногами! Нет, даже еще хуже: Хвацкий на него наступил, оно уже наполовину в дрыгве утопилось. А Хвацкий смотрит на Ивана и усмехается. А Иван смотрит на Хвацкого. И Хвацкий начинает поднимать, точнее, наводить свое ружье. И вот он уже навел совсем, взял, как говорится, правильный прицел, и теперь стоит и усмехается. И рядом с ним Гардусь, и этот тоже усмехается, но он свое ружье не поднимает, потому что он не пан, ему вперед нельзя… Да Иван на него и не смотрит! А смотрит на дырку в ружье Хвацкого. И ни о чем не думает. Потому что а чего тут думать! Это же не сегодня началось, думал тогда Иван, а это уже двести лет идет, и сколько уже за это время с нашей и их сторон славных панов полегло! Тогда чего он ждет?! И чего у него руки дрожат?! Вот о чем тогда думал Иван, глядя в проклятую дырку!.. И вдруг она вверх кинулась! И сразу же бабахнуло! И Хвацкий закричал: — Чего уставился?! Никогда меня не видел, что ли?! А сам уже скрылся в дыму! Иван его уже не видел. И Гардуся тоже. Только было слышно, как Гардусь закашлялся. А после зачавкали шаги. А после шаги стихли. Иван постоял еще немного, послушал, но уже не было слышно ни Варьята, ни Хвацкого с Гардусем. А после, когда дым рассеялся, он их и не увидел. Он тогда вернулся к кочке, вытащил из грязи свое, загвазданное ими ружье, и начал его обтирать. А после сел на кочку, положил ружье на колени и ни о чем не думал, а просто смотрел перед собой и вспоминал о том, как это было. После вдруг показался Варьят — выбежал из кустов. Варьят был без утки и поэтому близко не подходил, чувствовал свою вину. Но Иван на него не ругался, а просто встал, сказал идти за ним — и они пошли обратно, в Великие Лапы. Там дядя Тодар крепко удивлялся и выпытывал, не падал ли Иван перед Хвацким, не валялся ли в грязи и не просил ли пощады. Иван сказал, что ничего такого не было. Дядя тогда долго молчал, думал, к чему бы это такое, но так ничего не придумал. А на следующий день Иван уехал. И так получилось, что с того раза он больше в Великих Лапах не был. А после будет ли? Подумав так, Иван сел на софе и прислушался. А так как времени уже прошло достаточно, то в доме уже что-то слышалось: ходили люди, открывались, закрывались двери, кто-то кому-то что-то громко говорил, наказывал. И по двору, слышал Иван, тоже ходили, спрашивали, где дрова и особенно — где Кешка-подлец. Значит, уже совсем утро, подумал Иван, значит, пора в Ропшу. А что там будет? Иван поднял руку, медленно перекрестился. А только опустил ее — сразу же за дверью, далеко по коридору, заскрипел паркет. Иван сел ровненько. Открылась дверь, вошел Семен. Семен был одет кучером, Иван молча удивился, поднял брови. Зато Семен молчать не стал, сразу сказал: — Барин, вставай. Не то спозднимся. — Куда? — спросил Иван. — В Хропшу, куда же еще, — сказал Семен, нахально улыбаясь. И тут же нахально прибавил: — За рыбой! — И поднял руку, и, не давая Ивану спросить, продолжал: — За форелью, барин, за какой же еще рыбой. В Хропше знатная форель! А нам за полцены отдают, барин, потому что ты ловко с ними сторговался. Торговался, торговался, барин! — продолжал Семен уже совсем настойчиво. — Да и какой ты барин? Ты хозяин! Ты — Хромов Фрол Спиридонович, перекупщик, у тебя склады на Выборгской, ты рыбный поставщик двора! Ну, — тут Семен как бы задумался, потом сказал: — Ну, не двора, это ты врешь, а на Выборгской тебя все знают. По трактирам. На, держи! И он подал Ивану паспорт. Иван развернул его и стал читать. Это и вправду был паспорт на Хромова, купца двадцати семи лет, лицом чистого, нос продолговатый, и так далее. Иван прочел все это и опять сложил, и повертел, не зная, что с ним делать, а потом положил на софу. — Степан! — позвал Семен. Вошел Степан, принес переодеться. Одежда была новая, добротная, подобранная точно на Ивана. Иван, переодевшись, подошел к стене и посмотрелся в зеркало. И усмехнулся! Потому что ему сразу вспомнился Кондрат Камчатка. Ведь же и венгерка у него была почти такая же, и такие же шнуры, такой же пояс. Только еще кистеня не хватает, подумал Иван. Или у Семена есть? И оглянулся. Семен строго сказал: — Барин, надо спешно ехать. И еще же надо подхарчиться. Степан! И они пошли в столовую. В столовой тогда тоже все было иначе: была только гречневая каша с салом и чай с кренделями, и это все. Семен сказал, что он уже поел, и поэтому просто сидел рядом, пока Иван ел. А после подмигнул Степану, и тот поднес Ивану стопку простой белой. Иван понюхал и поморщился. — Давай, давай! — сказал Семен. — Пусть будет дух. С духом тебе будет больше веры. Иван выпил, постаравшись не кривиться, утер губы салфеткой и встал. Семен тоже сразу встал, заторопился, и они пошли вниз. Внизу, во дворе на задах, их уже ждала коляска. Семен сел на козлы, Иван седоком и спросил: — Тебя как теперь звать? — Устин, Фрол Спиридонович, — сказал Семен. — Поехали! И он резко дернул вожжи, они тронулись. Иван молчал. Они выехали со двора, проехали вдоль своего забора, и, выехав на улицу, Семен уже хотел было поворачивать направо, к Трем Рукам. Но Иван вдруг грозно приказал: — Налево! Я кому сказал! Семен от неожиданности растерялся и взял налево. А после было уже поздно выправлять, и они так налево и поехали, и взъехали на мост, переехали через Фонтанку и дальше поехали пока что прямо. Впереди стояли караульные. Их, кстати отметить, тогда было везде по городу. Семен сказал, не оборачиваясь: — Ты, Фрол Спиридонович, что, охренел? Вот нас сейчас возьмут! Куда мы едем? — На Литейную, — сказал Иван. — А нет, так я сойду. Семен что-то тихо пробурчал себе под нос. Они проехали еще и миновали караульных. Но уже на следующем перекрестке был виден новый караул. — Чего это они сегодня здесь везде? — спросил Иван. — Не могу знать, хозяин, — очень сердито ответил Семен, так же сердито дергая вожжи. — Люди всякое болтают! Одни болтают, что это после вчерашнего, когда эти перепились и пришли ночью к царице и трясли ее как грушу. А вот теперь везде порядок! Теперь не пройдут! А еще люди болтают, что не так все тихо, как хотелось бы, что кое-где по казармам уже пошли разговоры, что за полпива отца продали, куда это годится, надо ее обратно ссаживать. Понятно? — Тут Семен даже обернулся и сказал совсем сердито: — А нам надо за рыбой, срочно! А ты: Литейная, Литейная! — Караул! — сказал Иван. Семен сразу развернулся, взялся править. Миновали караул, еще проехали, после Иван тихо сказал: — Теперь направо. — Знаю, — сказал Семен и повернул направо. Теперь они ехали прямо к Литейной. Семен в сердцах сказал: — Литейная! Да никакая не Литейная, а съезжая нам будет, вот что! И ноздри! — и хлестнул вожжами. Теперь Иван с Семеном ехали быстрей, оба молчали. Иван смотрел вперед и ни о чем не думал, не загадывал. Они опять проехали мимо еще одного караула, теперь им было уже близко, Иван сунул руку за пазуху, туда, где у него был спрятан портмонет, а в портмонете заговоренное колечко с красным камешком. Красный, подумал Иван, — это страсть. Но и кровь, тут же подумал Иван, осматриваясь по сторонам. По сторонам было пусто. Хмель тогда уже из всех вышел, да и караулов было слишком много, чтобы у подлого народа была охота просто так болтаться по улицам и заходить в питейные, где можно было встретить сами знаете кого — так говорили! А вот Иван о нем тогда совсем не думал, и когда они еще раз повернули, он сказал: — Я же не дурень, Сеня, я все понимаю. И заходить к ней я не буду. А мы с тобой только под окна подъедем и остановимся. Я на нее только гляну — и все, и уезжаем, куда скажешь! Семен ничего не ответил, а только прищелкнул вожжами. Они еще молча проехали, улица была пустая, только впереди, на следующем перекрестке, был виден новый караул. Семен через плечо сказал: — А она что, в окне будет сидеть, так, что ли?! — Ну, мало ли, — сказал Иван. — Не мало ли! — сказал Семен. — А у меня колесо вдруг слетит, что тогда?! — И он еще раз огрел лошадей. А после опять и опять. Лошади побежали быстрее — это уже, конечно, после караульных — и завернули, выехали на Литейную, там Семен их придержал, и они опять поехали чинно. А потом, когда совсем подъехали, и Семен остановил коляску, и сошел, и начал ходить вокруг нее и постукивать сапогом по колесам… Иван сидел ни жив ни мертв и сперва даже боялся поднять голову, думал, что его и так сейчас признают и окликнут. Но не окликнули. Тогда он осторожно поднял голову. И увидел в окне Трофимовну! Трофимовна сразу узнала его, радостно заулыбалась и уже хотела было кричать, но Иван сделал ей вот так рукой — и она согласно закивала, закивала головой, а потом быстро исчезла. Это, Иван догадался, она побежала к Анюте позвать ее к окну. Иван опять полез за пазуху, к колечку… Но тут Семен сердито чертыхнулся, быстро сказал: — Иван, держись! — и кинулся на козлы, схватил вожжи — и принялся хлестать, хлестать, хлестать по лошадям, лошади взвились, помчались! А сзади, от перекрестка, за ними следом бежали солдаты с офицером, офицер что-то кричал, грозился… А в окне, вместо Трофимовны, показалась чья-то голова. Нет, не чья-то, а Анютина! Иван ее не рассмотрел, конечно, но он знал — это была Анюта! А она знала, что это он в коляске, он к ней ехал, и его могли убить, да по нему уже стреляют! Только разве им попасть?! И они мимо, мимо, мимо! А Семен стегал, стегал, стегал — и они умчались, скрылись за углом, они остались живы, невредимы. Семен сел на козлы и поправил букли, стер пот со лба и сказал: — Пока что еще живы. Но это только пока что. — А после добавил совсем строго: — И хватит валять дурака, едем за рыбой! И они поехали. А так как бумаги у них были выправлены справно, а также и вид у них у самих, то есть у Ивана с Семеном, был очень даже убедительный, то их нигде особо не задерживали, и они ехали себе и ехали, мотали, как говорил Семен, версты и мало-помалу приближались к Ропше. Но не напрямик, конечно, приближались, а взяли вокруг Сарского, через Горелово, и уже только после опять прямо. Клушин не дремлет, сказал тогда Семен, когда съезжал с главной дороги. А мы, прибавил, не спешим. И он и вправду щадил лошадей. Но Иван знал, зачем это ему: чтобы потом, если вдруг что, можно было гнать во всю мочь. Но пока такой необходимости не было, их, повторим, никто особо не задерживал и, уже тем более, никаких подозрений не выказывал. Да у них же тогда с собой никакого оружия не было, по крайней мере у Ивана, и он из-за этого чувствовал себя очень неловко, будто он был голый, что ли. А Семену вроде было хорошо. Он сидел себе на козлах, правил и насвистывал. А разговора между ними никакого не было. Да вначале, то есть сразу после всего того, что с ними приключилось на Литейной, Ивану было не до разговоров. А потом Семен был мрачен, говорил, что подожди, сперва отъедем, а после Иван и сам опять задумался, и это, конечно, опять про Анюту, а после про все остальное. И так получилось, что пока Семен не свернул с тракта на проселочную, то есть на дорогу на Горелово, они молчали. А зато теперь Иван вдруг сразу вспомнил Клушина. Очень дурацкая, сердито подумал Иван, присказка. Клушин, повторил он про себя, ну и что, что Клушин? А вслух сказал: — А ты его когда-нибудь видел, Клушина этого? — Видел, — сказал Семен, не оборачиваясь. — Ну и в каком он звании? — спросил Иван. — И сам он какой из себя? — Этого тебе пока лучше не знать, — сказал Семен. — Почему? — спросил Иван уже сердито. — Да потому, что мы по делу едем, а это тебя сильно отвлечет. — А он что, такой страшный? — Зачем страшный? Просто строгий. Скажет: отсечь голову — и отсекут. — За что? И вот тут Семен не выдержал и обернулся, посмотрел на Ивана, а после спросил: — А зачем мы туда едем, знаешь? — Нет. — А зачем тогда соглашался? — Ат! — только и сказал Иван, потому что это было уже слишком, даже для Семена! Да тут и сам Семен понял, что он это зря, и поэтому сразу сказал такое: — Ладно, ладно, ты не обижайся! Ну, я сказал! Ну а ты сразу, будто барышня. Или ты и вправду думаешь, что это Клушин про тебя так скомандует? Нет, про меня! Потому что ты кто? Ты мой подчиненный. А я тобой командую, отдаю тебе преступные приказы. И меня колесовать за это! А тебя только повесить. Справедливо? Иван усмехнулся. — Значит, вижу, справедливо, — продолжал Семен, снова поворачиваясь к лошадям. — Потому что тебе что? Тебе майор Губин велел: ехай со мной! И ты поехал. Без шпаги и без пистолетов. Даже без ножа, я думаю. А у меня все это есть, — и тут он похлопал по сиденью, на котором он сидел. — На обоих хватит, не волнуйся. И мне отвечать. И когда пойду, тебе сидеть. — Куда пойдешь? — спросил Иван. — К царю, — сказал Семен. — Ты же должен знать, зачем мы едем. Потому что вдруг со мной что? Вот сейчас возьмут и вон из тех кустов пальнут по нам, и я с дырявой головой в обочину. А ты тогда что дальше должен делать? Иван молчал. Он еще смотрел на те кусты, про которые сказал Семен. — А ты должен вот что, — продолжал Семен. — Ты на меня даже не смотришь, а быстро едешь дальше, и там, где сбоку будет стоять дуб, ты заезжаешь в кусты и оставляешь там коляску, идешь мимо прудов, и там, и это тоже сбоку, будет стоять сторожка. А в сторожке должен сидеть человек, который тебя сразу признает. А ты ему скажешь, что тебя прислали вместо меня. — И он мне поверит? — Поверит! И даст тебе одну бумагу. Или попросит подождать и пойдет за той бумагой. Ты ее возьмешь и повезешь обратно. И не читай, что в ней! Когда возьмут, скажи, что ты неграмотный, или скажи, что крепко пьяный, буквы прыгают. Или еще что хочешь выдумай! Только сделай, Иван, так, чтобы они тебе поверили, что ты не читал. А не поверят, плохо тебе будет. Даже хуже, чем ты можешь себе представить. Ты даже будешь кричать: отпустите меня к Клушину, к Клушину, пусть лучше он меня пытает, только отпустите! Сказав это, Семен замолчал. Иван тоже задумался, потом спросил: — Так что же там будет написано? — А то и будет! Завещание его! Понятно?! Иван молчал. Потому что а чего тут уже было спрашивать? Потому что и в самом деле, подумал Иван, лучше сразу к Клушину, чем в такое дело ввязываться. Ну да чего теперь уже вздыхать, поздно уже теперь. Так и Семен сказал: — Потерпи, уже совсем мало осталось.ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ «Ловись, рыбка, мала и велика»
И так оно тогда и было — они еще совсем немного проехали, а после опять повернули и выехали на тракт. А по тракту там чего, там же уже совсем близко. И еще лошади спрытно бежали. Но не до самой Ропши, а версты за две не доезжая, они опять свернули на проселок и затряслись по колдобинам. После повернули раз и еще раз, Семен велел запоминать дорогу, Иван запоминал. После, уже в лесу, Семен сказал, что если вдруг какая беда, но уже настоящая, тогда лучше домой не возвращаться, а просто гони, Иван, куда попало, а после молчи как рыба, а Никита Иванович тебя за это не забудет и хоть из пекла вытащит. А вот, кстати, сказал Семен, и наша рыба! Но указал на дуб. И они подъехали к нему, а там был еще пень, они сошли, Семен закинул за пень вожжи и еще захлестнул для пущей надежности, потому что, подумал Иван, если начнется стрельба, кони могут сорваться и унести коляску неизвестно куда. Но пока их, как говорится, Бог миловал, никакой стрельбы не открывалось. Да и они сами никакого оружия с собой не взяли, а пошли налегке. Прошли они тоже совсем немного, лес сразу сильно поредел, а потом совсем почти что кончился, остался только мелкий подлесок (очень удобный, подумал Иван), тропа еще вильнула раз, другой, и вдруг справа показался пруд. Пришли, сказал Семен. Но они еще прошли, обогнули весь тот пруд и подошли ко второму, там повернули, куда надо, и вышли к сторожке. — Сторожат! И это правильно, — тихо сказал Семен. — Здесь же вот такие форели! А народ жаден! Они подошли к самой сторожке, очень тихо, после Семен глянул туда, тоже с большой опаской, и сказал: — Нет его. А я думал, он будет дрыхнуть. — Стоять! — грозно сказали сзади. — Убью! — а после клацнул курок. Тульский, узнал Иван и тут же подумал: он один, значит, надо спокойно! И, поднимая руки, повернулся посмотреть… И сердито плюнул под ноги! Потому что это был Митрий, Семенов денщик, одетый вольно. И без ружья! Да это же, вспомнил Иван, его любимая шутка такая — клацать языком, очень похоже. — Дурак! — сказал Семен. — Десять суток! — Есть! — сказал Митрий. Семен стер пот со лба, потому что он же тоже не железный, и строго сказал: — Докладывай. — А чего докладывать, — сердито сказал Митрий. — Здесь все тихо, ваше благородие, спокойно. Означенный субъект содержится надежно. Караул несется справно, никого к нему не допускают. Да никто про него и не знает. — А про тебя? — спросил Семен. — И про меня тоже, — сказал Митрий. — Только этот знает. — Часто ты с ним видишься? — Как вы отъехали, так только один раз. — И что? — А то, что я ему сказал, что как вы вернетесь, я дам ему знать. — Хорошо, — сказал Семен. — А он что говорил? Субъект все сделал? — Нет, — тихо сказал Митрий и еще даже мотнул головой. Потом прибавил: — Этот сказал, что субъект говорил, что делать этого не будет. — Почему? — Не знаю, — сказал Митрий. — Потому что а кто я такой? Он, что ли, мне будет докладывать?! — Ладно, — сказал Семен очень спокойным голосом, вот только смотреть на него было страшно. — Иди, зови этого. Митрий сердито утер нос, развернулся и ушел в кусты. Семен сказал садиться, они сели прямо на траву. День был жаркий, солнце было еще высоко. Семен молчал, и Иван тоже. Так они еще долго сидели, может, с четверть часа, после Иван не утерпел и спросил, далеко ли отсюда дворец. Недалеко, сказал Семен, пять минут ходу. Но не всякому пройти, тут же добавил он, потому что дворец оцеплен. Караулят гренадеры, преображенцы, первый батальон, поротно. Так, может, он и не пойдет, сказал тогда Иван. Может, и нет, не стал спорить Семен. А что нам тогда делать? — спросил Иван. Там будет видно, ответил Семен, и они опять замолчали. После еще примерно через четверть часа Семен встал, велел Ивану никуда не отлучаться, ждать, и ушел — тоже, как понял Иван, в сторону дворца. Оставшись один, Иван лег. Дело было уже к вечеру, вокруг было тихо, спокойно. Иван закрыл глаза, но тут же испугался и повернулся ухом к земле, после опять закрыл глаза и начал думать об Анюте, как он в следующий раз уже не будет сомневаться, а возьмет любую подорожную и они уедут отсюда как можно скорей. А в Лапах что! И там тоже живут люди, и он поэтому… И он заснул. Спал он немного, может с полчаса, и проснулся оттого, что прижатым к земле ухом почуял шаги — и сразу сел, одернул на себе одежду, будто он был в мундире. Шаги были свои, он их узнал. И не ошибся, потому что к нему вышли Семен с Митрием. Митрий нес полкаравая хлеба и бутылку, а Семен был с пустыми руками. Семен сел рядом с Иваном, а Митрий полез в сторожку накрывать, как он сказал. Сторожка — это слишком громко называется, а на самом деле это был просто шалаш. Митрий вытащил оттуда скатерть, расстелил, поставил на нее бутылку и три кружки и стал резать хлеб. При этом он еще сказал, что если кто придет, то скажем, что вы пришли за форелью, за ворованной. Скажем, сказал Семен. А где тот человек? — спросил Иван. Придет, сказал Семен. Митрий налил по половинке, они выпили и закусили хлебом с луком. Лук у Митрия был свой, как он сказал. Митрий еще налил, и они еще выпили. А тот человек все не шел и не шел! А после вдруг пришел. Но не совсем вдруг, потому что Митрий вначале застыл, прислушался, а после поднял палец и повел им по кустам, кусты раздвинулись, и из них вышел маленький человек в лакейской ливрее. Подходи, садись, сказал Семен. Человек подошел, сел. Семен посмотрел на Митрия. Митрий взял еще одну кружку, но человек сказал: нам этого нельзя. Семен сказал: ладно, и Митрий убрал кружку. Маслов? — спросил Семен. Маслов, ответил человек, после добавил: Нил Маслов. Нил, сказал Семен, — река такая, знаю, после строго посмотрел на Маслова (а это так звали того лакея) и с большим значением спросил: — Что у вас здесь нового? — Ничего, — ответил Маслов, — все по-старому. Государь жив-здоров. — Как же здоров, — сказал Семен, — когда он вчера просил прислать ему врача?! — А вы откуда это знаете? — тут же спросил уже Маслов. — Письмо читал! — сказал Семен. — А письмо было не вам, — сказал Маслов, — а государыне написано. Так вас что, государыня сюда прислала? — Дурак! — в сердцах сказал Семен. Маслов ничего на это не ответил. — Ладно! — сказал Семен. — Можешь мне верить, можешь нет. И он тоже как хочет. Пусть верит другим. Пусть Алешке Орлову! Алешка из него душу еще вытрясет! Вот ты это еще увидишь, Нил! Маслов опять ничего не сказал, а только укоризненно нахмурился и посмотрел на Ивана. Тогда и Семен повернулся к Ивану и очень сердито сказал: — Нет, ты только послушай, Иван! Я в прошлый раз им говорю: так нельзя делать! Я говорю: если он ничего не напишет, так это тогда ей все достанется! Или еще кому! А он что на это ответил? Тут Семен опять повернулся к Маслову. Маслов пожевал губами и сказал: — Государь сказал, что это ему теперь безразлично. Что Россия никогда его не любила и любить не будет. И поэтому он уезжает, он больше не хочет ее знать, и, в силу этого, ему все равно, кого она теперь предпочтет, с кем свяжет свою судьбу — с Катрин, или с Паулем, или даже с кем-либо еще. И он так государыне и написал. Вы это, второе письмо, тоже читали? — Нет! — сказал Семен. — Но какая разница… — и замолчал, только махнул рукой. А вот зато Маслов продолжал: — И он написал государыне именно вот что: что ему здесь ничего не нужно, а он хочет только одного — чтобы ему позволили как можно скорее уехать отсюда домой, в Голштинию. — И дать ему с собой арапа Нарцисса, песика Дружка, скрипку и Екатерину Воронцову! — быстро закончил за него Семен. — Да об этом уже весь Петербург знает, ты знаешь об этом?! И все над ним смеются. Отпустить его, ага! В Германию, к Румянцеву. К шестидесяти тысячам войска. Да она что, белены объелась, чтобы его отпускать?! Да лучше она его своими руками задушит, если что! Если… Но тут Иван схватил Семена за плечо, и Семен замолчал. Потом тихо сказал: — Да, я что-то раскричался. Но ладно. Так вот слушай еще раз, Нил Маслов! Известный человек ему еще раз говорит: пусть перепишет отречение на имя Павла Петровича. Я знаю! Он опять будет кричать, что это не его ребенок. Ну и что? А он чей? А все мы? Не это главное, скажи, никто не видел, как его рожали, а главное то, как это и где после было прописано. Так вот! Напоминаю: Павел по всем бумагам, законно его родной сын и наследник. А не будет царем Павел Петрович, будет тогда, скажи, Алешка! И я не шучу! А это известный человек только вчера доподлинно узнал, она сама ему это сказала: что когда его убьют, она выйдет за Гришку, а ихнего Алешку, прижитого с Гришкой, которого Шкурин украл и до поры до времени припрятывал, они официально объявят наследником! Он этого желает, да? Чтобы на трон его деда Орловы сели, да?! Тогда пусть так и передаст: желает! Ты, Маслов, сбегай к нему, сбегай, а мы пока посидим, подождем, бутылочку уговорим и за второй пошлем… А ты принесешь ответ. Или сразу манифест, понятно?! И не сиди, иди отсюда! К нему! Я кому сказал?! И тут Семен даже вскочил. Маслов тогда тоже вскочил, быстро поклонился и ушел. Семен сказал: — Ну вот! — и замолчал. И Иван тоже молчал. А Митрий и подавно, потому что когда Семен бывал так серьезен, Митрий его побаивался. Поэтому он только взял бутылку и хотел еще налить. Но Семен покачал головой, и Митрий не стал наливать. Так они еще немного помолчали, может минут пять, потом Семен сказал: — Ничего они не понимают. Думают, она их пожалеет. Ага! Иван еще немного помолчал, потом спросил: — А Шкурин — это тот самый Василий, которого я знаю? Семен пожал плечами. Потом повернулся к Митрию, сказал: — Сходи-ка посмотри за ним. И вообще, как бы нас здесь, как глухарей, не взяли. Иди! Митрий поднялся и ушел. Семен тихо сказал: — Тот самый Шкурин, да. Он теперь в большой силе! Но это я тебе потом об этом расскажу, не здесь. Здесь не до этого. — А манифест какой? — спросил Иван. Семен в ответ только вот так вот поднял брови: ну ты и спросил! И Иван больше ничего не спрашивал. А еще поел хлеба с луком, потому что на природе всегда есть хочется. А Семен не ел и даже не смотрел в ту сторону. Семен сидел как каменный и думал думу. А время шло! А Маслов не возвращался. Иван лег, полежал. Отлежал бок — сел, размялся. Вдруг Семен заговорил — тихо, но очень сердито сказал: — Напугал я его крепко. Убить его, ага! Нет, они этого боятся. Вот, думают, если бы он сам вдруг чего. Вот форельки ему дай, а он костью подавился. А он не давится! И еще потребовал врача. Доктор Лидерс, немец. Ему говорят: поехали. А он: нет, ни в какую. Потому что он знает, что так уже было с принцем Антоном Брауншвейгским. Тогда их всех заслали: и принца, и его жену — правительницу Анну, и детей, и нянек, и врача, и кого там еще — всех. И до сей поры не возвращают. А теперь Лидерсу: ехай! А он не дурак! Ну, да, я думаю, ему ствол в зубы сунут — и он поедет, куда денется. — Зачем поедет? — А затем! Кто-то же должен писать заключение! Вон как государыню Екатерину, не эту, а еще ту, первую, грушей угостили — и чего? Написали: заворот кишок. Бывает! Сказав это, Семен очень нехорошо усмехнулся. Иван молчал. — А тут, — тихо продолжал Семен, — ему только один выход: бежать. И вот мы ему и говорим: мы пособим тебе. А ты пособи нам! Ну, не нам с тобой, конечно, нам известная особа пособит, вы с Анютой обвенчаетесь, поедете к себе в имение на сундуке с червонцами, и меня тоже они не забудут… А сами составят Совет. При юном императоре. И схватятся! Одни будут кричать: английская модель, другие — шведская! И с улучшением! И будем мы тогда такими передовыми, что все другие, вся Европа, просто слюнями изойдет от зависти! Известная особа тебе об этом уже рассказывала, рисовала уже кущи райские? — Нет, — сказал Иван, и ему даже стало обидно. — Он со мной только про наше имение говорил и спрашивал про отца. — Вот и хорошо! — сказал Семен. — Это по-честному. Я меня просто измучил! Потому что никому это не надо. Да ты сам подумай: конституция! Что я с ней буду делать, чем ее закусывать? А эти сидят, умничают. Да ты их видел! Они еще как будто в карты играли, а на самом деле это у них такие заседания, они возводят храм. Артель у них такая, понимаешь. Смех! Но, правда, смеяться он не стал, а отвернулся. И больше уже ничего не говорил, пока не пришел Митрий. Митрий сказал, что у них там все спокойно, Маслов прошел и уже делал оттуда знаки, что скоро будет обратно. А с каким ответом? — спросил Семен. Этого он не показывал, сказал Митрий, потому что там же везде караул. И караулят зорко! Всем же им выдали по полугодовому жалованию вперед и обещали еще. Так они же с таких денег перепьются, насмешливо сказал Семен. Не все, сказал Митрий, их там много, и у них с этим сейчас очень строго. А где государь? — спросил Семен. Этого мне видеть не довелось, сказал Митрий, но в том же самом окне те же самые гардины — очень толстые, зеленые, за ними ничего не видно. В опочивальне он, прибавил Митрий, боятся они его куда-нибудь переводить. Потому что если потом вдруг что, так в землю же живьем закопают! Да, кстати, вдруг сказал Семен, а там ты был? Нет, сказал Митрий, только смотрел издали. И что? И все в порядке. Семен на это закивал, и их разговор на этом кончился. Митрий отломил кусок хлеба и стал его есть, всем своим видом показывая, что хлеб очень сухой. Но Семен не обращал на это никакого внимания — Семен ждал Маслова. Маслов пришел нескоро — когда уже темнело. Пришел, и опять остановился в нескольких шагах от них, и поклонился. — Принес? — спросил Семен. — Ну, — сказал Маслов, — это как сказать. — Говори прямо! Но Маслов ему теперь вообще ничего не ответил, а повернулся к Ивану, внимательно посмотрел на него и спросил: — Вас зовут Иван? — Иван кивнул. — Вы ротмистр? — Иван опять кивнул. А Маслов улыбнулся и сказал: — Тогда государь сказал, что он вам верит. Вы его не предадите. Он только на одного на вас надеется. — И только после этого Маслов опять обернулся к Семену и сказал уже такое: — Тогда я принес. И он подошел к ним и сел, после медленно и с важным видом вынул из одного бокового кармана маленькую чернильницу-непроливашку и дал ее Митрию, а из другого — огрызок пера, и это дал Ивану, и уже только после достал из-за пазухи свернутый в трубочку лист… Лист сразу же схватил Семен — и сразу развернул! И чертыхнулся! Потому что лист был пустой, чистый. Семен быстро глянул на Маслова и строго спросил: — Это что такое значит?! — А это значит, — так же строго сказал Маслов, — что государь с вами согласен. Пауль родовитей, он сказал, чем Алексис, и поэтому пусть будет Пауль. И еще, он это сказал отдельно, пусть будет не так, как Катрин хочет! И смеялся. — Тогда почему он ничего не написал? — спросил Семен. — А потому что как ему писать? — сказал Маслов. — Они же все время при нем. Так и толкутся! И у него же только опочивальня и гостиная, больше его никуда не пускают. У него все там! А они: восемь солдат в гостиной и офицер в опочивальне. Сегодня господин Чертков дежурит, они каждый день меняются. А старшим, и он всегда здесь, это господин Орлов, Алексей Григорьевич, майор. — Уже майор? — спросил Семен. — Майор, — повторил Маслов. — И он еще говорит: ты, скотина! Это он так говорит: ты, скотина, на меня еще посмотришь, на фельдмаршала, ты… — Тпррр! — грозно сказал Семен. — Стоять! — И продолжал уже спокойнее: — Значит, я так понял, государь сам написать не может, потому что он все время под надзором, но подписать подпишет. Так? — Так, — сказал Маслов и кивнул. И сразу добавил: — Отречение в пользу Пауля, то есть Павла Петровича, подпишет. И гарантий никаких не требует. Потому что ваши гарантии, он так сказал, это господин Иван, ротмистр. Он ему, сказал, всецело доверяет. То есть вам, — сказал Маслов, поворачиваясь к Ивану. Иван засмущался. — Ого! — сказал Семен. — Так, может, ты, Иван, еще вперед Орлова в фельдмаршалы выскочишь! Если мы, конечно… И замолчал, потому что посмотрел на пустой лист и задумался. А после посмотрел на Маслова и спросил: — А как это писать? — А как и было написано прежнее, — сказал Маслов. — Только вписать про Пауля. То есть там, где стояло «на весь мой век отрицаюся», сразу за ним, вместо «не желая ни самодержавным, ниже иным каким-либо образом» и далее — это все опустить, а после «отрицаюся» поставить: «и передаю наследие свое сыну своему Великому князю Павлу Петровичу и благословляю его на вступление на Престол Государства Российского». И дальше сразу подпись. Подпись мы поставим. То есть вы сейчас все остальное напишете, а после я это возьму, сбегаю к нему и подпишу, и верну вам. И все дела. — Все! —строго сказал Семен. — А сразу нельзя было подпись поставить? — Сразу нельзя, — так же строго сказал Маслов. — Потому что мало ли. — А вот гарантия! — сказал Семен и указал на Ивана. — Гарантия, это когда прямо при нем, — сказал Маслов. — А так мало ли. Ну и опять же, давайте пишите. Сами же говорили, что времени нет. — Нет, конечно, — сказал Семен, разворачивая лист. — Да и я того текста не помню. — Я помню, — сказал Маслов. — Я буду диктовать. Семен вздохнул, после велел, чтобы Митрий дал ему дощечку подложить, после расстелил на ней лист, лист был гербовый, казенный, Иван дал Семену огрызок пера, Митрий держал чернильницу, а Маслов начал диктовать: вначале быстро титул, потому что нужно было спешить, а после так: «В краткое время правительства моего самодержавного Российским Государством самым делом узнал я тягость и бремя, силам моим несоглас…» Но дальше он не договорил! Потому что от дворца ударил барабан! Он бил тревогу! Маслов вскочил и побелел лицом, руки у него затряслись. — Хватились! — жарко сказал он. — Убьют! Убьют! Но тут уже вскочил и Митрий, и крепко дернул его за руку, велел: — Садись! Маслов сел. — Держи! Маслов взял кружку. — Пей! Маслов выпил ее всю и в один почти дух! Митрий сунул ему хлеба закусить, сказал: — Сейчас еще налью, ешь быстрей! — и повернулся к Ивану с Семеном, сказал: — Живо отсюда! А мы их задержим! Ну! Я кому сказал?! Иван с Семеном быстро встали, Семен сунул манифест за пазуху. Барабана уже слышно не было, зато была слышна перекличка — это они пока что шли по саду. Они — это гренадеры, преображенцы, первый батальон. — Сенька, беги! — сердито сказал Митрий, почти выкрикнул. — А ты, — сказал Маслову, — на еще, на! — И сунул ему еще кружку. Маслов послушно пил. А Митрий говорил ему: — Скажешь, всегда сюда ходишь. А я угощаю. А что! А я и им налью! У меня этого добра на всю их роту хватит! Вон как в Персидском походе — видел, как слоны пьют ее сколько? С утра по ведру! А после, днем… Но сколько пьют слоны днем, Иван так и не узнал, потому что он уже побежал следом за Семеном. Сзади было тихо, только голоса какие-то. Иван с Семеном добежали до коляски, Семен сразу начал отвязывать вожжи, а Иван стоял и слушал. С той стороны, откуда они прибежали, были слышны голоса, но чьи это они были, разобрать было трудно. Иван стоял и слушал. Семен тоже не спешил. Так они стояли и слушали чьи-то далекие голоса, которые то становились громче, а то совсем и даже иногда надолго затихали. И вот когда бывало тихо, Иван каждый раз вспоминал, что там было, — и его брала злость. Вот, думал он, как ловко: теперь все на него надеются! Царь отрекается в пользу царевича, потому что так Иван велит! Иван прямо вершит судьбами! Иван династию укрепляет! Иван, Иван! А где все эти Унгерны, Гудовичи и прочие Воронцовы всякие?! Нет никого, разбежались! А ты, Иван, как самый верный, подставь спину, подсунь свою шею! А после мы тебя за эту шею, если не получится, повесим. А если вдруг получится, тогда опять зови всех этих Унгернов, а Ивана в шею, он же ее уже выставил! Ат!.. И вдруг бабахнул выстрел! Там! Одиночный. После кто-то дико завизжал, это как будто был Маслов, а после сразу стало тихо — это ему заткнули рот. Иван с Семеном постояли, подождали — было тихо. Это Митрий, подумал Иван и повернулся к Семену. Семен был черный-черный и молчал. А после вот как вот дернул кадыком и очень невнятно сказал: — Шутка это чья-то. Самострел. Поехали. И они сели и поехали. Семен лошадей не погонял, лошади бежали медленно, скотины. А на душе было хоть задавись!ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ Царь, царевич
Обратно они на всякий случай поехали другим путем. Или это Семен просто запутался? Тогда же всякое могло случиться, Семен же тогда был очень мрачный и думал о чем-то своем, а Иван не решался его отвлекать. И ехали они другим путем. И скоро приехали в Стрельну. Там они остановились и зашли в трактир, Семен набрал много водки и много закуски, они долго пили, закусывали, и Семен с очень серьезным видом рассказывал про то, как Митрий ходил в Персию и брал там в плен слонов. А после однажды сам заснул, и забрали его самого. Но он сбежал. А куда прятаться? Кругом же Персия! И он тогда через забор и в сад. А сад там просто сказочный! И павлины там, и фонтаны с вином, но это и в других местах бывает, а там еще везде деревья с золотыми яблоками. И под деревьями скамеечки, а на них красавицы сидят и спрашивают: ты кто таков, солдат? А он им говорит: я Митрий. А они: а ты нам полюбился, Митрий, оставайся. И он остался. Он же не знал, что это он в шахский гарем забрался. А гарем там здоровущий, конца-краю не видно, Митрий там три года жил, как сыр в масле катался. И вдруг облава! Ударил барабан, он из сторожки выскочил… Но тут Семен сбился, почернел еще сильнее прежнего и сказал: давай, не чокаясь. И они выпили. После они еще достаточно долго пили и закусывали, но Семен уже ничего не рассказывал. А после он вдруг сказал: а нас ждут, надо спешить, Иван! Они тогда встали, как могли, вышли, сели и поехали. И приехали, куда хотели! И даже сам Никита Иванович вышел их вниз встречать. Семен его как увидел, так сразу как будто бы его ведром ключевой воды окатили! То есть сразу стал способный к службе и сказал: дозвольте доложить? Никита Иванович обрадовался, засуетился и сказал: пойдем наверх. А твой товарищ пускай пока что отдохнет. Иван так и сделал — сразу пошел к себе, лег и заснул. Утром Иван проснулся тяжело, голова сильно болела. Так ведь и было отчего болеть, думал Иван, продолжая лежать и вспоминая Стрельну. А после вспомнил Ропшу и подумал, что и без Стрельны вчера было всякого. После Иван еще лежал и думал уже о своем, то есть об Анюте, о Базыле, о Великих Лапах и о дяде Тодаре, которого в прошлом году застрелили на Карпицкой дрыгве. А вчера, думал Иван, пришел черед Митрия. Как будто это было ему нужно! То есть как будто было Митрию не все равно, кто станет царем или царицей. А вот убили, Иван слышал. Ат, думал Иван дальше, не уберегся тогда Митрий, попал под облаву — и пришлось ему бежать из Персии, а то бы, может быть, и по сей день как сыр в масле катался. А так, наверное, они снесли его в кордегардию, а это на первом этаже, и положили на спину, рядом поставили Маслова и стали говорить: признавайся, кто это такой, и что ты там делал? А Маслов дрожит от страха, зуб на зуб не попадает, и визжит, что он его знать не знает! А ему ствол в зубы! Между прочим, сам Клушин, а что! И грозит: сейчас нажму на курок, признавайся, покуда не поздно! И Маслов совсем побелел и упал. Они тогда: воды ему, воды! Тут вдруг открылась дверь, в ней показалась голова, это был Степан, и он сказал, что пора, ваше благородие, вставать, завтрак уже готов. Иван начал вставать, опомнился, схватился за грудь, после полез под подушку, нашел портмонет, а в портмонете колечко, достал его и посмотрел на камешек. Камешек был точно как кровь. Ну и выбрал же, сердито подумал Иван, куда глаза смотрели?! Но тут же вспомнил Анюту, задумался. После опять спохватился, подскочил и начал переодеваться в форму. Никогда бы раньше не поверил, думал он, что можно так соскучиться по форме — и так быстро. Когда Иван пришел в столовую, Семена там не было. Зато был Носухин. Иван, садясь за стол, спросил, где Семен. У их высокопревосходительства, сказал Носухин, они там уже давно, сказали их не ждать. А что у вас здесь нового? — спросил Иван. Пока что ничего, сказал Носухин, поправляя на груди салфетку. Иван пододвинул тарелку, усмехнулся, потому что там опять была овсяная кашка, и со значением сказал: — Английская модель! — А вы какую модель предпочитаете? — тоже со значением спросил Носухин. — Я ничего не предпочитаю, — уже просто сердито ответил Иван. — Потому что — что модели! Вот мой отец жил в стране, в которой не то что как в английской, а даже совсем почти что никакой власти у короля не было. Ну и что? Хорошо отцу там жилось? Не думаю! Потому что быстро он оттуда уехал. Прямо даже чуть успел. И что? Носухин улыбнулся и сказал: — А то, что я совершенно с вами согласен. Ибо и действительно суть сего явления вовсе не в том, сколь ограничена власть монарха. Чем она ограничена, вот о чем надо в первую голову спрашивать. Ибо можно оную ограничить законом, а можно и интересами какой-либо фамилии или же даже пусть нескольких фамилий, весьма родовитых. Или даже вовсе передать всю власть, а и этому тоже есть немалое число примеров в древней истории, передать всю полноту законодательной и исполнительной власти, и даже и судебной тоже, демосу, сиречь народу, сиречь черни. И что будет? Да ничего хорошего! Потому что вспомните хотя бы Геродота, книга третья, глава, если я не ошибаюсь… — И вдруг спросил: — Вы Геродота читали? Иван замялся и сказал: — Давненько. — Жаль, очень жаль, — скучным голосом сказал Носухин. — Ну да это сейчас не так важно! — продолжил он уже бойчей. — Важно, чтобы у вас руки не опускались. После вчерашней незадачи. — И это вы называете незадачей? — опять со значением спросил Иван. Носухин помолчал, потом ответил: — Если и со мной случится что-либо подобное, а вы после назовете это незадачей, то я на вас не обижусь. Оттуда! — и он посмотрел наверх. — Хорошо, если оттуда, — сказал Иван. — А если наоборот? — и он посмотрел вниз. — Э! — заулыбался Носухин. — Вот этого нам с вами опасаться не нужно. Потому что даже вспомните свое вчерашнее. Вы о чем там хлопотали? Чтобы отец передал свое имение сыну. Так что же в этом преступного? — А преступные, значит, они? — спросил Иван. — Ну, не обязательно так прямо! — быстро сказал Носухин. — Они, во-первых, могут просто заблуждаться. Или горячиться. Или входить в соблазн. Или как еще это назвать? Да и, опять же, ведь даже сам государь не претендует на то, чтобы ему вернули корону. Государь же понимает, что правление такой огромной и своеобразной державой, как наша, дело весьма нешуточное. И он поэтому и передает свою власть в руки наследника, сына своего Павла Петровича, дабы тот, не утруждая себя, да и это по его малым летам никак невозможно, передал ее, не всю, конечно, а лишь частично, Правительствующему совету в числе девяти наилучших и наичестнейших своих подданных, которые, под верховенством закона… Ну и так далее! — закончил он уже почти сердито. И добавил: — Да вы ешьте, ешьте, каша совсем остыла! — Так я сыт, — сказал Иван. — Э! — сказал Носухин. — Мало ли! А вдруг вам срочно в дорогу? И это еще хорошо, если опять в ту сторону, куда вы вчера ездили. А если не туда и не по Московской дороге, а еще в третью сторону, тогда это ого! Там вы уже нигде не остановитесь, там трактиров по дороге нет. Так что, пока не поздно, ешьте, ешьте! Иван взял ложку, начал есть. На Шлиссельбург намекает, думал Иван, даже не намекает, а точно знает, но пока молчит, потому что не велели говорить. Ну и не надо, сердито подумал Иван, Ропша так Ропша, Шлиссельбург так Шлиссельбург, и даже Кяхта так Кяхта, а ноздри так ноздри! И он молча съел всю кашу, встал, поблагодарил за компанию, развернулся и пошел к себе, и его никто не останавливал. А у себя что было делать? Иван сперва ходил, как волк по клетке, из угла в угол, а после позвонил. Пришел Степан, Иван спросил, не приходил ли кто к нему, не спрашивал ли. Нет, сказал Степан, не приходил тот человек. А почему, спросил Иван, где он? Степан на это ничего, конечно, не ответил, а только посмотрел на Ивана как на сумасшедшего и даже слегка усмехнулся. Ивана взяла злость, и он громко сказал: где мое вольное? Степан ответил: унесли, отдали чистить. Иван грозно велел: подать другое! Степан молчал, но и не уходил, ждал. Тогда Иван совсем в гневе сказал: и заложить коляску, я тогда сам туда поеду! Но сперва переодеться дай, дай вольное, я кому говорю! И только тут он замолчал, потому что сам почуял, что он слишком раскричался. И вот как только он замолчал, Степан спокойно и даже нарочно медленно, как малому, сказал, что, мол, мне, ваше благородие, этого делать не велено, а мне только велено содержать вас здесь в покое и в неге. Мне, мол, еще было велено гардины поменять на толстые и их плотно задернуть, но я этого не делаю, ибо я же понимаю, ваше благородие господин ротмистр, что вам это будет не по нраву — сидеть как в норе, без свету. И он усмехнулся. А Иван очень мрачно спросил: так что, я здесь уже как в тюрьме? Никак нет, также мрачно ответил Степан, упаси Бог такое говорить, какая здесь тюрьма, вы, видно, тюрем еще не видали. Видал, сказал Иван сердито, двадцать суток в Кенигсберге, в ордонанс-гаузе. Так это что, сказал Степан, это баловство, а не тюрьма, это почти как домашний арест… — Молчать! — почти крикнул Иван. А потом, переведя дух, сказал почти спокойно: — Дай сюда Носухина. Степан поклонился и вышел. Потом пришел Носухин, и довольно скоро, — и сразу же, с порога, начал: — Иван Иванович, не стоит беспокоиться! Вы хотите видеть вашего Василия? Нет ничего проще! Мы сейчас пошлем за ним и даже привезем его, чтобы быстрее, и говорите с ним сколько хотите, никто вам мешать не будет. А если вы еще кому-либо что-либо желаете передать, на словах или какой подарок, так тоже вы только скажите — и это тоже мигом. Иван удивленно посмотрел на Носухина. Тот повторил: — Да, и подарки. — Потом удивился: — А что? Я разве вам этого еще не говорил? Что у Никиты Ивановича здесь для вас не только стол накрыт, но и кошелек открыт. Если вы вдруг в стесненных обстоятельствах. И тут Носухин замолчал, и даже в некотором ожидании слегка склонил голову набок. Но Иван тоже молчал. — Ах, да! — сказал Носухин. — В самом деле, что слова! Мы же не соловьи, чтобы стихами питаться. У нас же дела! — и он обернулся к двери. И как раз, как оказалось, вовремя, потому что дверь тотчас открылась, вошел Степан и подал Носухину его портфель. — Вот и дела пришли, — сказал Носухин и, не спросившись, подошел к столу, там сел и начал раскладываться для работы, то есть для письма. Иван смотрел на это молча. Носухин, продолжая раскладываться, сделал ему приглашающий жест. Иван сел напротив Носухина. — Итак, — важно сказал Носухин, — начинаем. Это, конечно, чистая формальность, ибо все будет решаться иначе и в совсем других местах, однако мы все же должны иметь хотя бы какое-то представление о вашем деле, то есть когда ваш род вступил во владение вашим поместьем, и каким это случилось образом, иначе — было ли это наследование, или акт купли, или пожалование, или… Ну и так далее. И подобных же еще два-три, ну, от силы пять вопросов касательно вашей фамильной истории. Из ваших уст. Вы понимаете? Иван кивнул, что понимает. — Тогда начнем, — сказал Носухин. И начал спрашивать, а Иван начал отвечать. Записав первый вопрос, Носухин задал второй. За вторым третий. И так далее. И много, даже очень много далее! Ибо о чем он только не спрашивал! А память у него была какая! Он все сразу на лету хватал, а после вдруг ни с того ни с сего, к примеру, спрашивал, когда Карпицкую запруду подновляли, в пятьдесят втором? А жернов кто менял на ближней мельнице, Власюк? Иван морщился и вспоминал, отвечал и, глядя, как Носухин пишет, злился. Потому что думал, что не нужно это никому, а это его просто водят за нос, никаких этих писаний им не надо, а только удержать бы его здесь, пока Никита Иванович куда-то съехал, может, даже к государыне, или Семен отправлен, может, даже опять в Ропшу. То есть у них сейчас идут какие-то свои дела, секретные. А ты, Иван, пока давай, вспоминай, как твой дед Михал межевал Чмурский клин, а Хвацкие наехали, и была там славная потычка. Сколько с вашей стороны было потеряно, спрашивал Носухин, Иван отвечал, Носухин записывал, после опять спрашивал о чем-нибудь. А время шло себе и шло, бумаги было переведено уже достаточно, но Носухин смотрел бодро, даже весело, Иван же, напротив, устал… И тут вдруг, ему на радость, явился Степан и пригласил господ к столу, обедать. Иван сразу встал и пошел, а уже следом шел Носухин. И так же быстро и с охоткой Иван ел, хоть обед был так себе, тогда же ведь была среда, обед был постный. И уже только допивая кофе, Иван опять помрачнел, потому что подумал, что его сейчас опять начнут пытать. Но тут он не угадал, потому что Носухин, утираясь, вдруг сказал, что теперь неплохо бы и отдохнуть. В бильярд играете? — спросил Иван почти безо всякой надежды. Но Носухин взял да и сказал, что играть-то он играет, но с ним только двадцать рублей. Так и со мной только четырнадцать, сказал Иван, а как, если под стол? Ну, можно и под стол, немного подумав, ответил Носухин. И они пошли в бильярдную. И там была славная игра, потому что, против всяких ожиданий, Носухин оказался очень ловким игроком: хотел — забивал, хотел — нет, а после еще говорил, что это он не притворяется. Но Иван же видел, что он врет, и очень злился, и оттого играл все хуже и хуже. Но после успокоился — это когда он вспомнил, как дядя Тодар заложил в Вильне мельницу и зарезал, как он говорил, стадо коров. А вспомнил — и пошла игра. Шар в шар! Только треск стоял! Ух, они тогда вошли в кураж!.. Но после вдруг пришел какой-то незнакомый Ивану человек, и это был не лакей, кивнул Ивану и сказал что-то Носухину. Сказал очень быстро, невнятно, но Носухин сразу его понял, тяжко вздохнул, покачал головой, положил кий на край стола и вышел следом за тем человеком. То есть ничего он не сказал — будут они дальше играть или нет, надолго он уходит или нет, и что это вообще такое, как все это надо понимать. Развернулся и ушел — и думай что хочешь. Ивана опять взяла злость. Опять, подумал, водят за нос! И постоял, сердито посмотрел на стол, на незаконченную партию, которую вполне можно было выиграть… И отвернулся, отошел к окну и как-то сразу успокоился. Вид из окна был славный, потому что это было прямо над подъездом, внизу были видны экипажи. Их было несколько, точнее восемь, лошадки просто загляденье. Да и упряжь какова! И вообще, думал Иван, глядя на все это богатство, конечно, если у тебя всего четырнадцать рублей, а хоть было бы четыреста, и что с того?! Столько стоит хорошая лошадь? А что такое хорошая? Тут тоже у каждого свое понятие. Потому что если ты покупаешь ремонтную лошадь и знаешь, что этой осенью вы там, где сейчас стоите, так и дальше будете стоять, и никаких винтер-квартир вам не видать, а еще сап, а еще черт знает что, а живешь ты на одно жалованье, ну и еще на рокруа, то разве ты будешь покупать вот такую красавицу, которая вон там стоит?! Вот то-то же! Ну и так далее. То есть Иван тогда стоял возле окна, любовался на лошадей, и больше ему ни до чего не было дела. И это очень хорошо, когда нет дел… А после Иван вдруг услышал, как резко открылась дверь, кто-то вбежал в бильярдную, закрыл дверь за собой и затаился! Иван так же резко развернулся и увидел, что это какой-то мальчик, одетый по-взрослому, даже со шпагой, стоит возле двери к нему спиной. Мальчик его, наверное, и не заметил, подумал Иван, мальчик с кем-то играет, мальчик вбежал сюда и спрятался. А еще, и это уже непонятно почему, Иван вдруг очень оробел. Он даже отступил к окну. Мальчик услышал это, обернулся… И Иван узнал его — это был Павел Петрович, цесаревич. Увидев Ивана, Павел Петрович вначале сильно испугался. Но это только на миг! А потом он сразу стал очень серьезным, даже грозным, если можно так сказать о мальчике, и громким голосом спросил: — Ты кто такой? Ты что здесь делаешь?! Иван молчал. И он стоял на месте, не шевелился. Он разве что только немного приподнял руки, показывая, что у него в них нет ничего, то есть ничего дурного он не затевает. Павел Петрович еще некоторое время внимательно смотрел на Ивана, а потом спросил уже такое: — Ты кому служишь — моему отцу или Никите? Иван молчал. А что он мог сказать? Тогда Павел Петрович очень громко, почти в крик, сказал: — Все вы такие! Предатели! — и быстро пошел на Ивана. Подошел почти вплотную, посмотрел на него снизу вверх очень гневно и так же гневно сказал: — Когда я стану царем, я велю тебя повесить! Понял?! — Понял, — сказал Иван. — Но за что? — А за то, что вот из-за таких, как ты, все это и случилось! — строго сказал Павел Петрович. — Ванька Куракин мне рассказывал, я знаю! И молчи! Иван молчал и думал, что еще вот только этого ему не хватало! Теперь еще царевич! А царевич опять посмотрел на него и сказал: — Мне говорят, что ничего такого не случилось, что все хорошо, что они еще помирятся. Но это неправда, я знаю! А еще я знаю… — Но тут он замолчал и все смотрел на Ивана, смотрел, смотрел, будто хотел что-то высмотреть… а после тихо спросил: — А они с ним ничего не сделали? — Ничего, ваше высочество, — сказал Иван. — Вот как Бог свят. — А ты его живого видел? — Нет, сейчас, в Ропше, не видел. Но знаю… — А! — сердито перебил его Павел Петрович. — А когда ты его видел? Когда в последний раз? — В Петергофе, когда его арестовывали. Когда он шпагу отдавал. — Кому?! Иван молчал. — Кому?! — грозно спросил Павел Петрович. — Кто брал у него шпагу? Кто посмел?! — Не помню. Забыл. — Повешу! — закричал Павел Петрович. — Вот только стану царем… И заплакал. Но не как другие дети, а неслышно, и слезы текли и текли, просто ручьем, как говорится. Иван быстро сказал: — Ваше высочество, что же такое?! Вам так нельзя! Не плачьте! А он еще сильней заплакал, и при этом уже в голос. Иван сразу присел перед ним, обхватил его за плечи и начал уговаривать: — Ваше высочество! Вы же при шпаге, вы солдат! Разве солдаты плачут? Вы знаете, какие у нас были потери при Цорндорфе? Горы! И товарищей моих скольких побило! А я не плакал! И ваш отец, когда у него шпагу отнимали, разве плакал?! Нет! Он только грозно засмеялся и сказал: канальи, я вам еще покажу! Вы у меня еще попляшете, ножками подрыгаете, когда я вас всех… Но тут Иван замолчал, потому что увидел, как резко открылась дверь и в бильярдную вошел Носухин. А за ним сразу вошли еще двое каких-то господ. — Э! — только и сказал Носухин, глядя на Ивана и Павла Петровича. И едва ли не бросился к ним. Иван сразу отступил, Носухин подскочил к Павлу Петровичу, взял его за руку, спросил: — Что с вами, батюшка Павел Петрович? Разве вас кто-то посмел обидеть? Так мы с такого шкуру снимем, только повелите! Но Павел Петрович ничего ему на это не ответил. Он даже вырвал свою руку из его руки и отвернулся от него. — Павел Петрович! Батюшка! — опять запричитал Носухин. И тут же этим: — Чего встали?! Тогда эти двое господ подскочили, тоже стали что-то говорить Павлу Петровичу, но очень быстро, да и Иван их не слушал, Иван смотрел на то, как Носухин опять взял Павла Петровича за руку, на этот раз очень крепко, и заговорил по-французски, и повел, точнее поволок, его к двери. Двое господ пошли за ними. Так они и вышли из бильярдной — скопом, в толкотне, — только последний из господ в самых дверях повернулся к Ивану и наложил руки себе на горло, и сдавил, и скорчил рожу — и пропал, закрыв за собой дверь. А потом и их шаги затихли. А Иван стоял, смотрел на дверь и думал, что этот последний господин прав, конечно, — не будет от всего этого добра, а будет только смерть. Но смерть так смерть, а что тут сделаешь, тут же подумал Иван, потому что куда ему теперь деваться? А раз ничего не изменишь, подумал Иван, тогда чего печалиться? Только сердце зря томить! И чтобы этого не делать, он подошел к столу, взял кий и начал играть по переменке за себя и за Носухина. За себя совсем не получалось, а за Носухина наоборот — шары сами в лузы катились. Бывает же, думал Иван, и еще: да если так пойдет и дальше, то и у Никиты Ивановича денег не хватит. Озолотится Носухин, как пить дать! Но тут вдруг внизу, под окном, послышалось движение, шаги. Иван отложил кий, утер руки и подошел посмотреть, что же там такое происходит. А там, как оказалось, просто разъезжались гости. Самого Никиты Ивановича видно не было, был слышен только его голос, как он прощался с гостями. А потом гости пошли к своим каретам. Одних гостей Иван видел впервые, а других сразу узнал. Это он так узнал князя Волконского, после следом за ним вышел фельдмаршал Разумовский. А после сенатор, кабинет-министр Неплюев с Павлом Петровичем за руку. Павел Петрович шел немножко сгорбившись, и еще он быстро-быстро семенил ногами, потому что у Неплюева шаг был достаточно широкий. Чего это он делает, подумал Иван, разве так можно, он же его не в съезжую ведет! И тут Павел Петрович оглянулся на ходу, поднял голову, увидел Ивана, обрадовался — и замахал ему рукой. Но там уже была карета, его подсадили, он сел — и исчез. А следом за ним исчез Неплюев. После карета развернулась и уехала. Ну вот, тоскливо подумал Иван, теперь я еще и ему обязан! И стоял, смотрел на ту карету, она уже совсем уехала, а он все стоял и стоял.ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ Как на духу
Заскрипела дверь. Иван обернулся и увидел, что это пришел Степан. Чего тебе еще? — спросил Иван. Зовут вас, сказал Степан, к самому. И они пошли. Степан отвел Ивана на третий этаж и дальше вперед по коридору до самого конца. Там они остановились, Степан постучал в одну дверь, после открыл ее и отступил на шаг. Иван вошел и оказался в большой комнате, даже, скорее, в зале, в которой вдоль стен стояло несколько диванов, обитых очень дорогой материей, и возле одного из них, рядом с камином, стоял сам Никита Иванович, одетый как на торжество — в мундир и с полной кавалерией, то есть с Андреевской лентой и еще какими-то, неизвестными Ивану, орденами. Никита Иванович смотрел на Ивана и улыбался. Иван поклонился. — Проходи, голубчик, проходи! — ласково сказал Никита Иванович. Иван подошел ближе. — Садись! — велел Никита Иванович. — После вас, — сказал Иван. — Садись, садись! Я насиделся! — сказал Никита Иванович. — Слышишь, как накурено? Это все Неплюев накурил. Садись! Иван сел. А Никита Иванович, продолжая стоять, начал махать рукой, разгонять ладошкой воздух и при этом еще говорить: — Фу! Дышать нечем! Этот табак, говорят, у него еще от Великого государя остался. Вот уже кто курил, так курил! Однажды французский посланник… как бишь его?.. Упал в обморок! А у Петра Федоровича табак уже не тот. — Никита Иванович перестал махать рукой и многозначительно улыбнулся. Но тут же вроде спохватился и сказал: — Но что нам до французских посланников! У нас есть и свои. И я же тебя, голубчик, не для этого велел позвать, — продолжал он, садясь на диван и глядя Ивану прямо в глаза. — А вот для чего. Я сегодня был у государыни и встретил там Карла Петровича. Графа Кейзерлинга, Карла Петровича. Так вот, этот наш Карл Петрович, как я и раньше тебе говорил, едет в Варшаву и сменит там Федора Матвеевича. Да мы многое думаем там сменить! Но это нашего с тобой сегодняшнего дела никак не касается. А нам тут важно вот что: что Карл Петрович как приедет туда и осмотрится, так после сразу же отпишет в Вильно, в Трибунал. И будем надеяться и молить Бога, что тогда это наше с тобой дело скоро и благополучно разрешится. Носухин толково тебя расспросил? И записал? — Да, — сказал Иван. — Толково. — А больше почему-то ничего не говорилось. Нельзя молчать, думал Иван, нужно сказать хоть что-нибудь!.. А вот язык будто присох. Тогда Никита Иванович покачал головой, улыбнулся и опять заговорил: — Вот, голубчик, и все! Одно только письмо! Ты, я вижу, даже онемел от радости. А велико ли это твое имение, эти Великие Лапы? — Иван кивнул, что велико. — А душ много? — И Иван опять кивнул. — Больше сотни? — Иван не кивал. — Э! — нараспев сказал Никита Иванович. — Так, может, ты, голубчик, погорячился? Может, тебе еще рано в отставку? Может, немного подождешь еще, а после мы с тобой вместе падем перед Павлом Петровичем, и он тебе что-нибудь другое подыщет? Своей, так сказать, властью. Душ этак на пятьсот, на тысячу, и чтобы землица была черноземная, жирная. А?! Иван опять молчал. Никита Иванович весело заблестел глазами, помолчал, после опять принял серьезный вид и так же серьезно спросил: — А там у вас, в этих ваших Лапах, земля, небось, один песок? Так, нет? Иван стал смотреть в сторону. — Э! — опять сказал Никита Иванович. — Ну да как знаешь. — Помолчал, потом сказал уже такое: — А Павел Петрович, когда его из бильярдной сюда привели, про тебя спрашивал. И я о тебе наилучшими словами отозвался. И господин фельдмаршал, это Кирилл Григорьевич, уже не знаю за что, тоже тебя хвалил. Так что смотри, голубчик! — И вдруг быстро спросил: — А о чем ты говорил с Павлом Петровичем? — Ни о чем, — сказал Иван. — Как это ни о чем? А почему он тогда плакал, когда к вам вошли? — Сам не знаю, ваше высокопревосходительство. — А подумай! — А что думать! Он только спросил, не знаю ли я, где сейчас его отец и жив ли он, и я сказал, что не знаю. — А еще? — А еще, — сказал Иван, — а еще я сказал, что его отец никого не боится, он храбрый, и он, когда у него отнимали шпагу, грозился, что это им еще припомнится и что он их потом всех повесит. — Зачем вы такое сказали? — очень сердито и на «вы» спросил Никита Иванович. — Не знаю, — ответил Иван. — Эх! — только и сказал Никита Иванович. — Кто вас просил?! Нельзя ли разве было помолчать? Он же у вас совсем недолго был! Значит, можно было бы и помолчать! И это было бы с вашей стороны умней всего, голубчик! Сказав это, Никита Иванович встал, вышел на середину залы и остановился. После повернулся к Ивану и сказал уже спокойно, без всякого зла: — Он очень смышленый мальчик. Он же все понимает, все видит. И я ему не нужен, и вы не нужны. И даже его собственная мать ему не так нужна. А тот человек, который ему нужен, говорит, что он не его сын. И сын это знает. Но мало этого! — продолжал Никита Иванович уже не так спокойно. — Вчера или, может, позавчера, ему кто-то рассказал про Алешу. Про того самого Алешу, его брата. Сына того самого Орлова, который ждал вас в коляске в двух верстах от города. И знаете, что ему еще при этом сказали? Что теперь, когда его отец низвергнут, его мать выйдет замуж за Орлова, а их сыночка Алешеньку поименуют цесаревичем-наследником, вот так! А его, то есть Павла Петровича, ни в Голштинию не возьмут, потому что его родной отец от него отказался, ни здесь не оставят, потому что отчим этого не позволит. Каково?! Иван молча встал с дивана. — Сидите, сидите, — сказал Никита Иванович. — Вам торопиться некуда, ваш друг еще не возвращался. Иван сел обратно. Никита Иванович, и это уже совсем в сердцах, продолжил: — Госпожа Орлова! На престоле! А Шкурин — камергер! А что! А почему бы и нет? — Почему камергер? — спросил Иван. — А вы что, и в самом деле не знаете этой истории? — спросил Никита Иванович. И так как Иван отрицательно покачал головой, то Никита Иванович начал рассказывать — очень сердито: — Была здесь одна комедия. В апреле месяце, на Пасхальной неделе, в четверг. Только переехали в новый дворец, и ей пришел срок. А государь во дворце. Как быть? Он же может и войти в любой момент, если ему вдруг вздумается! И тогда этот каналья Шкурин что придумал? Он поджигает, вы представляете, свой собственный дом! И что тут начинается! Шум, крики! Все бегут! А государь, вы же знаете — наверное, не раз слышали, — просто обожает подобные зрелища! И он тоже туда! И он тоже бегает, хватает ведра, распоряжается, хохочет! Одним словом, балаган! На полдня. А в это время, покинутая всеми, его супруга разрешается от бремени. То есть рожает мальчика, Алешу. Его кладут в бельевую корзину, выносят из дворца, вывозят из города… И, насколько мне известно, он до сих пор еще там. — Где? — спросили Иван. — Здесь, недалеко, — сказал Никита Иванович. — Тридцати верст не будет. А точнее мне откуда знать? Это вы уже лучше у Шкурина спросите, тем более что вы же его знаете, голубчика… Да и довольно об этом! — продолжил он уже весьма сердитым голосом. — Этим можно пугать только Павла Петровича. Алешенька — это смешно. Это даже она понимает. А вот… А вот… — И тут Никита Иванович стал очень и очень серьезным, даже почти зловещим на вид, и так же зловеще продолжил: — А вот что она еще придумала! А мы этого даже в расчет не брали, потому что это просто невозможно. Но бабий норов, это знаешь как? Это когда уже никто ее не остановит и не переубедит. Поэтому, — и тут он даже наклонился, весь подался вперед, ближе к Ивану, и продолжил уже совсем тихо: — Помочь нужно Павлу Петровичу. Срочно! Ибо что он один, мальчонка, сделает? А эти уже плетут свои сети, плетут! И уже, я тебе даже скажу, и уже даже Гришку Орлова они скоро другим Гришкой выставят — Отрепьевым! Если, конечно, у них это получится. Но кто им это даст? Да никто! И сам Гришка не даст, и также мы. И даже особенно ты, господин ротмистр. Встань! Иван встал. Никита Иванович мягко, по-отечески, хлопнул его по плечам и, не убирая рук с его плеч, продолжал своим обычным добрым голосом: — А я видел, как он на тебя оглянулся. Тогда, от кареты. Эх, высоко взойдет твоя звезда, Иван! Да только что звезда! Звезды горят и гаснут. А мальчонку бросить — это какой грех! Вот ты Анюту ни за что не бросишь, ведь так же? А Павлушу? Иван растерянно молчал. Никита Иванович наконец отпустил его плечи, грустно улыбнулся и продолжил: — А ведь у Анюты отец с матерью. Мать — женщина набожная, душевная. Отец на службе всеми уважаемый, мортиру изобрел. А какой у Анюты жених! А что у Павлуши? Да ничего! Только одна черная зависть вокруг. И это уже сейчас, а что будет дальше? Мы же думали, что все будет просто: вы туда съездите, и вам там подпишут, мы ей это предъявим — и все. И тут вдруг такое известие! И нам уже пока что не до Павлушиного батюшки. Ехать к нему пока еще не надо, хоть бумага уже и написана… А нужно будет тебе, голубчик, сперва съездить в еще одно место. Вместе с господином Губиным, конечно. Губин там все знает — и дорогу туда, и крепость. — Крепость? — спросил Иван. — Какая крепость? И спросил он почему-то очень тихо. Никита Иванович на это понимающе кивнул, еще немного помолчал, потом сказал: — А это тебе, голубчик, уже твой товарищ объяснит. По дороге. И ехать вам туда уже давно пора, да вот он никак не возвращается! Или уже вернулся? О! И тут Никита Иванович поднял вверх указательный палец. А и верно, подумал Иван, шаги, это Семен идет! И он повернулся к двери. Дверь отворилась, и вошел Семен. Но в каком он был виде! Иван его чуть узнал. Еще бы! Семен же теперь был бородатый, подстриженный в скобку, и еще в старообрядческом кафтане. И с парой грубых холщовых рукавиц в правой руке. — Доброго здоровьичка! — сказал Семен, но по-холопски кланяться не стал, а только оскалил зубы. Зубы у него были хорошие: большие, крепкие и белые. — Вот и наш богатырь пришел, — радостно сказал Никита Иванович. — Наш витязь! Ну что, витязь? Ехать пора! — Пора! — сказал Семен, теперь уже нарочно налегая на «о». — Очень пора, господин! — и опять показал зубы. — Ты, Семен, крепко выпивши, что ли? — озабоченно спросил Никита Иванович. — Никак нет, ваше высокопревосходительство! — уже своим нормальным голосом сказал Семен. — А ехать и вправду надо очень скоро. — Тут он повернулся к Ивану и велел: — Давай, иди переодевайся, там тебе все уже готово. И пусть тебя покормят тоже, и быстрее, и сразу спускайся вниз, там кони уже ждут. Давай! Вот и все, что ему тогда было сказано. И Иван пошел оттуда. Пришел к себе, а там — только уже не на софе, а на нарочно принесенном стуле — лежала его новая одежда: вольная, простонародная. И к ней под тем стулом стояли такие же простые сапоги с сильно стоптанными каблуками. Но, делать нечего, Иван переоделся и переобулся, а из своего прежнего взял с собой только портмонет с колечком для Анюты, спрятал его за пазуху, сел на тот стул и задумался. Хотя чего тут было думать, когда и так все было ясно, что им нужно ехать в Шлиссельбург. И добровольно!.. Но, тут же подумал Иван, какой Шлиссельбург, кто его туда в этом ошметье пустит. Да чтобы туда ехать, нужно быть хотя бы флигель-адъютантом с бумагой с личной подписью, или самим Унгерном, а то и вообще Шуваловым. А холопу что там делать?! Или Семен уже что-то придумал? Или… И тут Иван вспомнил, как дядя Тодар уходил из Данцига вместе с его величеством. А здесь… И тут Иван даже зажмурился, и даже в мыслях не стал называть это имя, потому что он знал, что за это бывало и не таким, как он. И дальше подумал уже вот что: что ноздри! И даже что голова! А просто ничего от него не останется, вот что, и поэтому когда Данила Климентьич придет о нем спрашивать, то господин секретарь сделает вот такие глаза и скажет: сударь, да вы что, да у нас таковой нигде, ни в каких списках-реестрах не значится, может, вы что-нибудь напутали, нет такого ротмистра с такой фамилией, может, не ротмистр, а вахмистр или, может, не Заруба, а Поруба? Или, может, не Иван? А после так усмехнется, и так склонит голову, и так многозначительно прищурится, что о чем тут еще спрашивать? И воротится Данила Климентьич домой, и, ничего никому не говоря, сядет за стол на свое место и начнет вот так вот барабанить пальцами. И тогда Марья Прокофьевна сразу мигнет, Тимофеевна поставит стопку, а рядом на блюдечке хлеба и луку, Данила Климентьич возьмет стопку, поднесет к самым губам и еще сильней нахмурится. И тут вдруг войдет Анюта. И как увидит батюшку, так сразу… Ну и так далее. И неизвестно, до чего бы еще тогда Иван додумался, но тут вошел Степан и сказал, что нужно срочно перекусывать и ехать, пойдемте, я вас провожу. И провел, но не в столовую, как это раньше всегда было, а в какую-то каморку при кухне, там посадил за какой-то колченогий стол на колченогую же лавку, тут подвернулся поваренок, сунул миску гречки, хлеб и кружку кваса. Иван спорить не стал, съел все быстро и с ожесточением, встал и сказал: куда теперь?! Степан, а он был рядом, сразу повел его вниз. Внизу, во дворе за конюшней, стоял грязный возок, запряженный парой ладных лошадей. Господин майор сейчас придут, сказал Степан, развернулся и ушел обратно. А Иван походил вокруг тех лошадей, еще раз осмотрел их и опять подумал, что кони ладные, даже весьма. И они нарочно такие нечищенные, чтобы никто не удивлялся, что у таких хозяев вдруг такие кони. Значит, дело затевается весьма непростое, думал Иван, залезая на козлы. Только зачем это ему? Ну а отказаться как? Семен тогда начнет смеяться и говорить всякое. А Никита Иванович… А Екатерина Алексеевна… А солдат Ефрем Голубчиков, который лежит в лазарете, потому что он его еще в самом начале пропорол насквозь… Это все как? Это все ноздри и Сибирь! Так что держись, Иван, Семена, а там, глядишь… Но дальше думать не хотелось, потому что, и это Иван знал точно, можно сглазить. Поэтому он просто, ни о чем не думая, сидел на козлах и в одной руке держал кнут, а вторую нет-нет да и прикладывал к груди, где под кафтаном лежал портмонет, а в портмонете колечко. Так он сидел минут с десяток, а после к нему быстро вышел Семен, быстро сел и быстро приказал ехать, держать опять через Литейную. Иван понимающе кивнул и сразу тронул лошадей. Но тут Семен сказал: — И не надейся! Не как в прошлый раз! А возьмешь два квартала левей. — Почему? — Да потому что нельзя! — строго сказал Семен. — А вдруг кто сглазит. Левей возьмешь, я говорю! — Иван сильно нахмурился. Но Семен нахмурился еще сильней! И очень мрачным голосом добавил: — Сон мне сегодня был гадкий. Нет, просто очень гадкий сон. Гони! И Иван погнал, насколько это было можно. Везде же были караулы! Может, их стало даже еще больше. Но, правда, уже мало кто из них кого останавливал. Они просто стояли, и все, больше для виду. Поэтому Иван с Семеном достаточно быстро выехали на Литейную (но не к Анюте, конечно) и там сразу повернули к реке, на Воскресенский перевоз, плашкоута же там тогда еще не было, а моста и подавно, и перевезлись на ту, на Выборгскую сторону, и все это молча. А дальше мимо каменных госпиталей и артиллерийской лаборатории — и там опять вспомнился Данила Климентьич, но, слава Богу, хоть не встретился — и, через рогатку, выехали за город, на ту дрянную дорогу. Иван правил и помалкивал, Семен сидел за седока и тоже ничего не говорил. Так они проехали еще, может, с версту, а потом Иван не выдержал и, обернувшись к Семену, спросил: — Так и куда это мы едем? И зачем? Семен — а он, мы забыли сказать, был одет уже вполне прилично, по-приказчичьи, — Семен важно сказал: — Едем на мызу Морье. Это скоро будет поворот направо, на Ржевку, и мы туда повернем. А потом еще раз повернем, уже на саму Морью. Понял? Иван на это только усмехнулся, потому что так разве поймешь. И он опять отвернулся, стал смотреть вперед, на дорогу, и править. Тогда Семен теперь уже сам заговорил, и уже вот как: — А почему все должны знать, зачем я туда еду? Это же моя коммерция и моя прибыль. Вот так я вам сейчас все расскажу! Тогда же все туда поедут. Так, Ваня? Ваня Хлыст тебя зовут, запомни. Двадцать девять лет, неженатый. А мне тридцать три! Никифор Аверьянович Гольцов, тоже запомни. А едем мы в Морью. Ну, не в саму Морью, конечно, потому что нам там нечего делать, а, не доезжая до нее, и еще даже до господской усадьбы, Фридериксовых палат, повернем налево, и там, через поле, стекольный завод. Вот нам туда, к Ерофееву. Поташ хотим ему продать задешево. Не верите? И правильно! Потому что не поташ, а глину. А глина хороша! Как масло! Что, и в глину тоже нет? Тогда печь ему сложим! Старая печь у них лопнула, а я печник. По заводским печам. И в печника не верите? Ну и не верьте. А я больше ничего вам говорить не буду, потому как мы с ним так сговорились, с этим Ерофеевым: чтобы никто к нам не совался и нашу с ним коммерцию не рушил! Где сговорились? В «Любеке», за третьим столом с краю, там, где сверху попугай сидит. А мы под ним сидели, пили чай. Да я о нем, о Ерофееве, и раньше слыхивал, Фрол Севастьяныч мне еще в прошлом году говорил: «Никишка, а ты не зевай! Это самое твое место, этот Морьинский стекольный завод, он же…» Ну и так далее. Семен как начал говорить об этой Морье и об этом заводе, а потом о Ерофееве, потом о Фридериксах, сколько они дерут с того Ерофеева аренды, и как вообще к этим Фридериксам денежки сами плывут, а после опять про Морью, а после об их соседе Остермане и какие там рыбные места, у Остермана этого, это же, Ваня, море, а не озеро, Ладога эта, ты на Ладоге бывал?.. И еще раз так далее! Семен говорил не умолкая, Иван его вначале слушал, потом перестал, потому что, думал, зачем ему все это, все эти заводы и бароны, Ерофеевы и Фридериксы с Остерманами, какой из Семена Никифор, дурь все это, болтовня. А правда где? Но Семен все говорил и говорил, Иван помалкивал, время было уже совсем позднее, ночь, они уже давно проехали Ржевку, а потом еще какую-то деревню, где на горке был виден добротный господский дом, и опять въехали в лес, просто в дремучую, даже будто заповедную чащобу, но дорога была хороша, Семен это тоже заметил и тут же сказал, что это Ерофеев постарался, он же стекло возит, ему нужна хорошая дорога, гладкая, и им это тоже с руки, потому что им нужно как можно скорей. — И еще, — сказал Семен, — нам же надобудет съехать в таком месте, чтобы на обочине следов не осталось. Они же сзади едут и зорко смотрят, понял? И вот только тут он замолчал. После еще раз спросил: — Понял? И это он сказал хоть и сердито, но вполголоса, как будто боялся, что их услышат. И это при том, что они после Ржевки ни одной встречной подводы не видели. Иван думал, они здесь одни. А вот и нет! А вот, как говорит Семен, за ними еще кто-то едет! Но кто? И Иван вместо «понял» спросил: — Кто «они»? — Они! — опять сказал Семен, только теперь уже значительно. И еще раз так же сказал: — Они! — И еще: — Ты ехай! Ехай! Они проехали еще немного, но тут Иван опять не удержался и сказал: — А Никита Иванович мне совсем по-другому говорил: не про мызу, а про крепость. И я подумал, что это он про Шлиссельбург. — А в Шлиссельбурге что? — спросил Семен. Иван молчал. Семен хмыкнул и сказал: — Вот то-то же! Тогда Иван, подумав, сказал так: — Но теперь я вижу, что это не Шлиссельбург. А это мы на Кексгольм едем, так? Ведь там тоже крепость, и почти такая же, как Шлиссельбург. Ну, тоже надежная и крепкая. И это Никита Иванович мне про нее говорил, так, что ли? — Мало ли про что он говорил! — очень нехотя сказал Семен. — Может, сперва думали, что на Кексгольм. А после передумали! И поэтому едем туда, куда едем. В Морью! А это, я должен тебе заметить, как раз на полпути между Шлиссельбургом и Кексгольмом, если брать по берегу. Теперь понимаешь? Иван ничего не ответил. Семен сердито сказал: — Ладно! Все равно мы уже слишком далеко заехали. Тогда как на духу! Так вот: едем мы на одного человека посмотреть. Но он не хочет, чтобы на него смотрели. Даже нет, не так: это другие не хотят, чтобы на него смотрели. Поэтому мы будем смотреть тайно и издалека. И еще вот что: а вдруг что со мной случится? Мне же такой сегодня дурной сон приснился! Поэтому запоминай: этот человек высокий, худой, белокурый. Не в парике, еще раз говорю, а волосы у него такие от природы белые. Да ты его и так сразу узнаешь, даже если он будет в шляпе, потому что вид у него очень величественный. Голову держит не то что очень прямо, а даже как будто назад несколько откидывает. Капитан Овцын у него спрашивал: чего это, мол, вы так голову держите? А он отвечает: а мне иначе нельзя, вы же знаете, кто я такой?! И Овцын оробел, и ничего не стал дальше спрашивать. Тут Семен на некоторое время замолчал, потом тихо добавил: — А я его, этого белокурого человека, только издалека видел, а голоса его совсем не слышал. — А как его зовут? — спросил Иван. — Безымянный колодник, — ответил Семен. Они еще молча проехали, потом Семен опять заговорил: — И вот этого безымянного колодника велено перевести из Шлиссельбурга в Кексгольм. То есть освободить то место и занять другое. Так надо! И повезли уже его. Водой! Чтобы на берегу никто его видел. А дальше то ли у них на воде что приключилось, то ли это было сразу, нарочно, задумано, но на полпути к Кексгольму они вдруг пристали к берегу и там теперь сидят и ждут. Ждут комиссии из Петербурга. — Какой комиссии? — спросил Иван. — Этого мы пока что не знаем, — сердито ответил Семен. — И это ты лучше спроси, как мы про колодника узнали! И про его остановку! Это же… Да ладно, помолчим пока. И вот теперь главное: мы с тобой, Ваня, должны раньше их приехать и, затаившись тихо-тихо, глянуть, что же они будут делать с этим белокурым человеком, с этим безымянным колодником. Это же очень важно, Иван. Это, может, даже важнее всего, что мы с тобой до этого делали. Потому что… Ну да ладно! Как бы чего не сглазить! Такой же был мне сон! Гони, Иван, гони! Мы должны до них успеть и затаиться. А еще место для этого нужно выбрать. Гони! И Иван погнал. А была ночь. Но летом там какие ночи? Светлые! Вот только на душе было черно. А как же иначе! Это же, бывало, кто-нибудь только заговорит об этом, даже не заговорит еще, а только намекнет на это, как все сразу вот так каменеют, уши ничего уже не слышат, и глаза не видят! Потому что это сразу смерть! А тут Семен вдруг тихо засмеялся и сказал: не бойся, все рассмотришь, мы же с собой взяли трубу! И полез, достал из-под сиденья и раздвинул и опять засмеялся, сказал, что у них завтра будет как в сказке: высоко сижу и далеко гляжу! И что у них еще закуска есть и выпивка. А Иван молчал и думал. О чем он думал, он не говорил, но руку то и дело подносил к груди — туда, где под кафтаном у него был спрятан портмонет с колечком.ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ Белая голова
Они еще долго ехали, проехали еще одну деревню, а после еще верст не меньше семи, и только тогда уже доехали до поворота на Ерофеевский стекольный завод. Но поворачивать туда они, конечно, не стали, а, проехав еще, может, саженей с сотню, свернули в другую сторону, Семен сказал, что это к ямам. Поехали к ямам. Там, сказал Семен, ерофеевские раньше брали песок, но он дрянной песок, они только иногда его подмешивают, когда с хорошим песком туго, и вот такое стекло брать нельзя. Обо всем этом и о еще других похожих подробностях Семен рассказывал очень серьезным голосом, как будто это его в самом деле интересовало или даже беспокоило. А Иван молча правил. Дорога к тем ямам была очень плохая, разбитая, поэтому они проехали по ней совсем немного, лишь бы только их с главной дороги видно уже не было, и остановились. Приехали, сказал Семен, дальше пойдем пешком. Они сошли с возка, Семен приподнял сиденье, велел Ивану принимать и начал подавать ему: сперва погребец на четыре бутылки, не меньше, после увесистый узел с провизией, после подзорную трубу в чехле, после палаши, две штуки, после два подсумка… И сказал: — А это я сам понесу, — и один за другим, со звяканьем и скрежетом, вытащил два коротких драгунских мушкета. После распрямился, осмотрел всю эту их поклажу, взял мушкеты за ремни и ловко закинул их за плечо, после еще подумал и сказал: — Погребец тоже я понесу. А то у тебя рук не хватит. И он взял погребец. А Иван собрал все остальное, и они пошли. Семен шел впереди — и так уверенно, как будто это его лес и он по нему с детства ходит, носит мушкеты и сидит в засаде, думал Иван, идя за ним следом. А еще он думал о Базыле, о Варьяте, о Карпицкой дрыгве и о том, как Хвацкий взял его там на прицел, держал, держал… И мог бы выстрелить! А почему не выстрелил? А им теперь зачем мушкеты? Неужели только для того, чтобы просто в кого-то прицелиться, а после передумать? Например, прицелиться в того безымянного колодника… которому его отец, тоже Иван, когда-то присягал как императору. А потом отца убили, а того младенца-императора как посадили в Шлиссельбург, так до сей поры держали. То есть вся Иванова жизнь, все в ней хорошее и нехорошее, вмещается в то время, когда этот безымянный колодник с очень удобной для прицела белой головой сидел в Шлиссельбурге. А теперь его везут куда-то. А они несут мушкеты. Для кого? Для колодника? Или для тех, кто его караулит? Вот примерно о чем, и о другом похожем, Иван тогда думал и шел, ничего вокруг не видя, следом за Семеном по лесу. Шли они немало, с полверсты, а то и дольше, лес был густой, сырой, мрачный. Они шли, молчали. Вдруг Семен остановился и сказал вполголоса: пришли! И сделал знак стоять. Иван остановился, посмотрел вперед. Впереди было светло, потому что леса там уже почти что не было. Семен прошел туда шагов с десяток, остановился и пригнулся, оглянулся на Ивана и сделал другой знак: можно подойти. Иван, тоже пригнувшись, подошел. Впереди, между деревьями, был виден склон, а дальше на склоне деревня, а за деревней, почти сразу, вода, очень много воды. Это была, понял Иван, Ладога. А деревня, значит, та самая Морье. Деревня была совсем маленькая, Иван пересчитал дома — их было девять. А возле крайнего дома, и он же был самый богатый, возле берега стоял кораблик, тоже маленький, с убранной мачтой. А за корабликом — вода. А дальше, прямо из воды, от горизонта, поднимался яркий свет. И тот свет все краснел и краснел, наливался красным, наливался… И вот вышло солнце. Оно тоже было красное-прекрасное. Но в то же время и какое-то недоброе. Иван посмотрел на Семена. Семен спросил: — Видал? — Иван кивнул. — Лодку, говорю, видал? — уже строго спросил Семен. Иван опять посмотрел на кораблик. Семен сказал: — Раз лодка здесь, то и он здесь тоже. Тогда привал, располагаемся. И он сперва поставил на землю погребец, после положил рядом мушкеты, а после и сам сел там же. Иван тоже разложил свое и тоже сел. Кораблика, когда садишься, видно не было. Семен сказал: — Первым делом нужно закусить. Давай! Иван развязал узел, расстелил его. Там оказалось много чего всякого: и колбаса, и сало, и вареные яйца, и головки лука, и хлеб, и еще раз колбаса, но уже другая, и еще сало, но уже копченое, и еще лук, и соль, и даже перец. — А этого только для бодрости, — сказал Семен и раскрыл погребец, достал оттуда два серебряных стаканчика, плеснул в них из фляги, один подал Ивану, второй взял сам, опять сказал: — Для бодрости! — и они выпили. После взялись закусывать и делали это усердно, потому что есть очень хотелось. Потом, когда с этим покончили, но убирать не стали, Семен привстал и посмотрел на берег, на кораблик, после опять сел и сказал: — Ты, я думаю, знаешь, кто это такой, этот белоголовый. Или догадался, да? Иван кивнул. Потом даже сказал: — Иван Антонович. — Не Иван, а Иоанн! — строго поправил его Семен. И еще прибавил: — Иоанн Шестой Антонович. — После невольно осмотрелся и продолжил уже вот как: — Иоанн Пятый Алексеевич — это его прадед. А это старший брат Петра Великого! Так что, если смотреть по старшинству, то Иоанн Антонович, — и он кивнул в сторону берега, — то Иоанн Антонович стоит выше Павла Петровича, за которого мы с тобой, Иван, радеем. И тут он вдруг посмотрел на мушкеты. Иван тоже посмотрел туда же. — Э! — насмешливо сказал Семен. — Вот о чем ты подумал! Нет, это не для этого совсем. — А для чего? — Так, мало ли, — быстро сказал Семен. И сразу продолжил: — Так вот! Старший он по старшинству. И по закону тоже законнее! Потому что ты же знаешь, и все это знают, что хоть государь Иоанн Пятый был, как говорят, на голову слаб, но, тем не менее, никто из его потомства от права на престол не отрекался! А царь Петр, младший его брат, был великим императором, это мы все знаем, а Неплюев это даже видел, ну и что? А то, что одна его дочь, это Елизавета, по себе никакого потомства не оставила, а вторая дочь, старшая, Анна, эта и сама от всяких прав на российский престол отказалась, и за своих всех потомков в этом поручилась. Письменно! И эта бумага хранится! А теперь еще и сын ее, Петр Федорович, во второй раз в их роду отрекся. А вот Иоанн Антонович не отрекался никогда! Сперва это было, может, просто по его малолетству, а потом, когда он достиг совершеннолетия… Тут я не знаю, почему он не отрекся. Я же с ним не разговаривал, ничего у него об этом не выспрашивал. А другие мало ли что говорят! Вот, говорят, что он не в себе. Совсем не в себе! И поэтому нельзя такому доверять правление. Так покажите нам его! Пусть все увидят, что это так и есть на самом деле. И тогда всякие зловредные слухи сами собой разом прекратятся. Но не прекращаются! И он и дальше сидит в крепости. А теперь его оттуда, из той крепости, переводят в другую, поглуше. Потому что в ту крепость, в как бы главную, столичную, переводят еще одного, тоже не способного к правлению. Из Ропши его переводят туда. Хотят перевести! А этого, — и он опять кивнул в сторону берега, — в Кексгольм. Ладно, хорошо, пусть будет так. Надо же их куда-то раскассировать, этих двух бывших, чтобы было меньше слухов. И вдруг что такое?! Почему, никто не знает, остановка?! В Морье! «Задержать его» была команда, держать под караулом до поры. Скрытно, секретно, до комиссии. Комиссия скачет! Комиссия, говорят, желает его осмотреть и составить свое мнение. А на предмет чего? И где эта комиссия?! Тут Семен встал, но не во весь рост, конечно, прошел немного вперед и, остановившись, опять стал смотреть на деревню и на тот кораблик возле крайней избы. Иван тоже привстал и тоже смотрел туда же. Но никого там видно не было. — Подай-ка мне трубу, — велел Семен. Иван подал. Семен глянул на солнце, встал в тень (это чтобы зайцев от стекла не было) и начал смотреть на деревню. Долго смотрел, потом сказал: — Караулы стоят скрытно. Значит, он точно здесь. И славно! Тут Семен сел на землю и хлопнул рядом с собой. Иван подошел к нему, сел рядом. Так они сидели и молчали, смотрели вперед. А впереди было много чего: и деревня, и тот кораблик (или лодка, а на самом деле шербот), и дальше уже лодки деревенских, и там же сети висят на просушке, а еще дальше Ладога до самого края, до горизонта… И никого нигде там не было — ни в деревне, ни на озере. А время было самое рыбацкое! И оно даже уже проходило, солнце вставало все выше и было уже не такое красное. — А их нет как нет! — сказал Семен. И объяснил: — Это я про комиссию. Значит, они вчера не выезжали. Или заночевали в дороге. — И сказал уже сердито: — А куда им спешить! Главное же уже сделано. А остальное можно не делать! — Что остальное? — спросил Иван. — Ну хотя бы то, — сказал Семен, — о чем столько было крику: голштинец с Фридрихом снюхался, мир заключил! Голштинец над нашими славными викториями насмехается! А вот мы придем, и мы тогда Фридриху сразу покажем! А что показали? Голый зад! Тут Семен даже плюнул с досады, опять взял трубу, но наводить ее на деревню не стал, а просто держал в руке. Иван спросил: — А Никита Иванович что, сразу откроет действия, если Павла возведут? — Не возведут, а возведем, это первое! — строго сказал Семен. — А вот второе: такими мелочами, как войны и замирения, Никита Иванович голову себе не забивает. Он же мыслит гисторически! Он мыслит, сколько должно быть представителей в Верхней палате, и как их избирать, и сколько в Нижней. Вот! А ты почему молчишь, ты почему не спрашиваешь, не беспокоишься, сколько?! И остальные также почему не спрашивают?! Почему их беспокоит только то, какая карта ляжет налево — их или банкометова?! И где их стакан, и полон ли, это их тоже тревожит! И где мой карман, и так далее. Эх! Тут Семен даже махнул рукой, отложил трубу и лег на брюхо, пригладил перед собой траву так, как будто теперь ему станет удобней смотреть на деревню, и мрачно замолчал. Иван тоже хотел лечь и даже уже начал моститься, но Семен строго сказал: — Э, нет, ты сиди. Ты смотри пока туда, а я пока малость сосну. А ты смотри! Иван опять сел прямо. Семен закрыл глаза, сказал: — Такой сон вчера был гадкий! Надо его перебить. И после сразу буди! И стало совсем тихо. Семен лежал не шевелясь, с закрытыми глазами, и мерно дышал. Иван сидел, смотрел на берег. Никого там не было. Деревня будто вымерла. Нет, не вымерла, конечно, думал Иван, а это просто им запретили выходить из домов. Еще бы! Тут же у них такой постоялец — бывший император Всероссийский, правнук царя Иоанна. Говорят, когда солдаты его из императорской опочивальни вынесли и отдали Елизавете Петровне, так она сказала: бедное дитя! — и взяла его на руки, стала его укачивать, гугукать ему — и он перестал плакать, и даже засмеялся радостно, и стал к ней тянуться. Он же не знал тогда, не понимал, что это последний раз над ним гугукают, а теперь отныне на всю жизнь ему сидеть в тюрьме и никого не видеть. Ничего у него не останется — совсем. Даже его имя у него отнимут и другого взамен не дадут. И даже караульные солдаты не будут знать, кого они караулят, будут бояться спрашивать, кто это, а только знай ходи под дверью да помалкивай, шаг печатай четко, но с опаской, как бы тот, который за дверью сидит, не подошел к двери и не начал чего говорить, ибо же на это есть приказ: стрелять или колоть штыком! А кому хочется колоть невинного? А он и есть невинный, это же сразу видно и даже просто чуется. Вот что рассказывали люди, что они будто слыхали от других людей, которые будто бы знали солдат, служивших сами знаете в какой фортеции… Ну и так далее. Вот примерно о чем Иван тогда думал и сам удивлялся, почему это он все время думает об этом человеке с белой головой, он же никогда его не видел и никакого добра от него тоже не знал и узнать не ожидал. А вот только о нем думал! А после, когда, наконец, опомнился, то сразу поспешно осмотрелся — и успокоился, потому что увидел, что там, на берегу, по-прежнему нет никого. А после он посмотрел на Семена — и удивился, потому что увидел, что тот лежит с открытыми глазами. — Уже не спишь? — спросил Иван. — А я и не спал, — сказал Семен. — Не спится мне, и все тут. Лежал как дурак и думал о всяком дурацком. А этих нет и нет. — Может, их и не будет? — сказал Иван. — Будут, и еще как будут! Куда денутся! — сердито сказал Семен и сел, взял подзорную трубу… И замер! Потому что тут уже и так было видно, что из леса на дороге показались двое верховых. А за ними еще и еще, и всего их было с десяток — кто в мундире, кто в партикулярном платье, а кто и в епанчах. А следом за ними выехал крытый возок, запряженный четверней, за ним сразу пароконная коляска, в ней двое седоков вроде судейских, а за коляской еще верховые, опять одетые кто как. — Приехала! — сказал Семен и стал наводить на них подзорную трубу. А они уже подъезжали к деревне. Там от сарая сразу вышли караульные (появились как из-под земли) и взяли ружья на караул. Эти въехали в деревню, проехали через нее и, остановившись возле крайней избы, сделали так: одни из них спешились, а другие еще шире разъехались в разные стороны. После двое вышли из коляски. А после — тоже двое — из возка. Первым вышел некто в статском, Теплов, сказал Семен, а после вышел еще кто-то в обер-офицерском преображенском мундире — такой невысокий, плотный и широкий снизу. Он осмотрелся и пошел вперед, к избе. И сразу началась большая суета: кто-то забежал вперед него, кто-то быстро пошел сзади, а кто-то и с боков. А это кто? — спросил Иван. Она, сказал Семен, глядя в подзорную трубу. Она? — переспросил Иван. Она, она, уже сердито ответил Семен, не узнал, что ли?! И отложил трубу, потому что смотреть было уже почти что не на что — она уже вошла в избу, и кое-кто из ее свиты тоже. Она — это Екатерина Алексеевна, царица, мать Павла Петровича, так тогда подумалось Ивану. А больше ни о чем не думалось! Он просто смотрел туда, на ту избу, и голова была пустая-препустая. И тут Семен вдруг сказал: — А нашего там нет! — Кого нашего? — спросил Иван. — Человека нашего, кого еще! — уже очень сердито ответил Семен. — Нет его там почему-то! Эх, как бы чего не случилось! И он опять стал смотреть в трубу. А без трубы ничего толком видно не было. Так, ходили, сидели, стояли козявки. Хорошо еще, подумал Иван, что у того безымянного узника голова очень приметная, белая. И еще он, говорили, немного прихрамывает. Это же тогда, когда его хватали из колыбели, ногу ему испортили. Да и где ему после было ходить? По каземату много не находишься! И как было в Шлиссельбурге, так почти что будет и в Кексгольме. Вот о чем думал Иван, глядя на тот дом, в который вошла царица. А Семен, глядя туда же, сказал вот что: — А Орловых нет. Ни одного! Может, они и не знают! — Тут Семен хмыкнул, помолчал, после добавил: — И что она им сказала, особенно Гришке? Да только что теперь Гришка! — Семен убрал трубу, повернулся к Ивану, и продолжал почти что громким голосом: — А что, разве не так? Да я теперь уже не знаю, если бы они сейчас все начали сначала, пошли за ними или нет! Вот Разумовский не пошел бы, он так и сказал. И, значит, измайловцев сбрось. Целый полк! Который все это начал! Теперь смотрим дальше. Преображенцев тоже сбрось. Ну, первые два батальона хотя бы. Я во втором сам был вчера. А другие были в первом. И в конной гвардии были. Конечно, — продолжал Семен уже не так жарко, — нам теперь непросто. Теперь же нет того азарту. Тогда люди крепко истомились, рвались в дело. А теперь они как будто что-то сделали, переменили правление. И что, опять менять, уже через неделю, удивляются. А за кем теперь идти? И почему?! Кто такой Павел Петрович? Сын голштинца! Семен замолчал и со значением посмотрел на Ивана. Иван подумал и сказал: — А тогда и она кто такая?! — Вот то-то и оно, — сказал Семен еще значительней. — И получается: менять шило на мыло. Многие так говорят. И она видишь как сразу! — продолжал он хищным голосом, опять беря трубу и наводя ее на тот дом. — Видишь, может, что надумала! Может, она сказала ему: Гриша, ты не беспокойся! И что нам, Гриша, привыкать, что ли? Питеру рога наставили? Наставили! А Иоанну что, не сможем?! — Кому?! — переспросил Иван, не веря тому, что услышал. — Иоанну, — повторил Семен очень сердито. — А что? Ты будто с луны свалился. Да все только об этом и говорят: «Кто такая наша немка? Никто! А вышла бы за Иоанна, так вот была бы партия!». И разве нет? Иоанн — прямой наследник. И какая у него родословная! Прадед Иоанн царствовал, бабка Анна Иоанновна тоже, а мать хоть и регентшей была, но тоже почетно, тоже не в обозе шведском маркитанткой, правда?! И вот они, комиссия, приехали. И не смотри на меня так! Ты хоть знаешь, что покойная царица, та самая, которая его когда-то низложила и сколько лет после над ним ругалась, все бумаги с его именем велела сжечь, а рубли перечеканить, и даже самое упоминание его имени строжайше запретила… А перед смертью напугалась же! И привезли Иванушку — тайно, конечно, — к ней во дворец, и она с ним имела беседу, никто при той беседе не был… А после его обратно увезли. И был такой слух, что она будто бы хотела корону на него переписать, а Питера отставить… Но не заладилось у них чего-то, и все осталось по-прежнему. И тишина об этом. Полная! Только вдруг пошел слух, неизвестно откуда, конечно, что Иоанн не в себе, не способен к правлению. И может, оно так, а может, и не так. Что я об этом знаю?! Да только вот что. Этой весной я ездил с Овцыным в то место. Овцын — это капитан один гвардейский. И Овцын заходил туда, а я стоял снаружи. Его во дворе, в отдельной казарме, содержали. Там каземат. Там только пушкой можно прострелить! Но и пушку не подкатишь, потому что каземат стоит в низине. Это как въезжаешь в главные ворота… Но тут Семен спохватился, быстро сказал: — Ну да теперь это зачем?! Теперь это забудь. Теперь ему или в Кексгольм, или… Но не договорил, не захотел, а только опять лег на брюхо и стал смотреть на тот дом. Там было все по-прежнему: никто туда не входил, но и не выходил оттуда тоже. А караул стоял. И было там тихо-претихо. Семен лежал, смотрел в подзорную трубу и молчал. А Иван сидел рядом. Шло время. Солнце поднялось уже совсем высоко, уже даже в лесу стало жарко. Иван не удержался и сказал: — Так тогда что получается? Что, если по закону, то надо Иоанна Антоновича возводить, а не Павла Петровича, так? — По закону! — насмешливо повторил Семен, не отрываясь от трубы. — Вот то-то и оно, что нет у нас никакого такого закона. Поэтому если с одной стороны смотреть, то получается Иоанн Антонович, а с другой — Павел Петрович. Потому что наш великий государь в свое время почему-то… А, точнее, потому, что когда он сына своего, несчастного царевича Алексея, осудил на смерть, тогда он бывший до этого закон о престолонаследии похерил, а нового не написал. А только велел так: на кого монарх, лежа на смертном одре, перстом укажет, тому и быть наследником. — А если не укажет? Или не успеет указать? — Тогда деритесь! Рвите одна другой космы! Или еще так: кто раньше встал и палку взял, тот и капрал. Понятно?! Иван молчал. — Вот то-то же! — почему-то даже с гордостью сказал Семен. И так же гордо продолжал: — И поэтому Никита Иванович говорит, что первым законом, который подпишет Павел Петрович, будет закон о престолонаследии. — А пока, — сказал Иван, — мушкеты все решают, да?! И они оба посмотрели на мушкеты, лежавшие рядом. Посмотрели, ничего не говоря. После Семен сказал сердито: — Э! Да что ты! Да они даже не заряжены еще! — Так ведь недолго зарядить. — Недолго! Да, может, и не нужно будет вовсе! И не для этого они, может, совсем! — А для чего? И Семен уже открыл рот, чтобы ответить… Но вдруг опять глянул на берег! И сразу вскочил! Иван тоже вскочил и посмотрел туда же, и увидел, что из той избы начали выходить. Но кто выходил и сколько их там было, понять было невозможно, потому что они шли очень плотно, плечо к плечу. Все они были в темном, почти в черном, и шляпы на всех были черные. И только один был без шляпы, он шел в самой середине, и Иван его ни за что бы не рассмотрел, если бы не те белые-пребелые волосы! А так — это он, сразу понял Иван и посмотрел на Семена. А Семен смотрел в трубу и улыбался. Иван опять посмотрел на деревню. Там того белоголового человека уже вы-вели со двора и повели к воде, к кораблику. А возле кораблика уже суетились люди, уже толкали его в воду, уже поднимали на нем мачту. А из того дома больше никто не выходил. Царица там осталась. А бывшего царя вели к воде. Иван вдруг вспомнил глупый слух, что будто кого-то схватили, затолкали в бочку, бочку засмолили и скатили ее в море. А здесь не так, здесь повезут на кораблике, думал Иван. — Слава Тебе, Господи! — сказал Семен. — Обошлось! И правильно! И я бы так сказал! — Что сказал? — спросил Иван, повернувшись к Семену. — А то, что недостоин, вот что! — радостно сказал Семен. — Не способен править! Бог не выдал! И, опустив трубу, быстро продолжил: — Вот и ладушки! В Кексгольм его! А у нас тоже дела, и нам тоже некогда! Ну, собираемся, поехали! И он уже наклонился к земле, к разложенному там добру. Но спохватился, глянул на Ивана и сказал: — А, ну, конечно. На, посмотри пока. И протянул трубу Ивану. Иван ее почти схватил и сразу повернулся к берегу, навел ее на тех людей и стал смотреть. Иоанн Антонович шел в самой куче и отвернувшись спиной, поэтому Иван его почти не видел. И еще он никак не мог понять, как тот идет — ровно или прихрамывает. И даже когда они повернулись и пошли боком, вдоль воды, Иван и тогда этого не понял, потому что очень кучно они шли. Зато он увидел, что Иоанн Антонович и в самом деле голову немножко запрокидывает назад. А лицо у него было худое, кожа очень светлая, нос прямой, лоб высокий, а губы даже будто улыбались. На парадах он был бы хорош, вдруг подумал Иван. Семен же со спины сказал: — Давай, давай, досматривай. А то они сейчас соберутся и поедут. А нам до наших лошадей еще сколько идти! Но Иван не шелохнулся, продолжал смотреть. Эти подошли к кораблику и начали садиться. Вот уже и Иоанн Антонович ловко, сам, без чужой помощи, залез туда, ему только руку подали. А вот они уже отчалили. — Или, — сказал Семен, — можно и так: пускай они проедут, а после уже мы за ними, по холодку. Спешить нам теперь нечего. Это же наши боялись, вдруг она возьмет его с собой обратно. Ну, тогда я и не знаю, что тут надо было делать! А так миновала сия чаша, миновала! Иван молчал, Иван смотрел на воду, на кораблик. Кораблик хлопал парусом, корабельщики дергали веревки, чтобы этот парус развернуть как надо, парус не слушался, кораблик рыскал носом. Дурачье, думал Иван, ничего не умеют. Или, он еще подумал… Но тут Семен воскликнул: — Мать честная! Да что они, собаки, делают?! Иван от неожиданности обернулся. — Иван! — уже почти крикнул Семен. — Они же обратно пошли! На Шлиссельбург, Иван! Хватай это! И к лошадям! Скорей! И начал хватать все подряд: погребец, узел с закуской и все остальное — и приговаривать: чтоб без следов, чтоб без следов! — и побежал! А Иван — с мушкетами и палашами — следом! Скорей, покрикивал Семен, скорей, покуда еще живы! Так они бежали и бежали, добежали до возка, вскочили в него, развернулись и скоро, как только могли, погнали к дороге, там Семен глянул в сторону Морьи, сказал: успеваем, гони, — и они погнали дальше, к Петербургу.ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ Голуби и голубица
Так они гнали версту, может две, а после Семен сказал, что хватит, потому что мало ли что у них сегодня еще будет. Иван придержал лошадей, и они побежали рысцой. А Семен, было слышно, достал из-под сиденья погребец, налил первому Ивану и подал, сказал, что это за Анюту, а то она, небось, заждалась. И добавил: пей скоро! Иван скоро выпил. Это хорошо, сказал Семен, это верная примета, значит, скоро встретитесь. После налил еще, что-то пробурчал себе под нос и с расстановкой выпил. Так они еще проехали, Семен еще два раза наливал и становился все веселее. А после вообще заговорил. И разговор его был вот какой: — Могло и хуже кончиться! А так все хорошо. Это, конечно, странно, даже просто непонятно, чего они его обратно повезли. Но главное, что не с собой. Тогда бы как оно могло бы быть? Вот бы привезли они его, тайно, конечно, а после как бы неизвестно откуда, будто как из-под земли, пошел бы по столице слух: а Иоанн-то Антонович жив, и он-то не скуден умом, а он, напротив, им крепок! И он-де веселого нрава и ни на кого из нас гнева за прошлое не держит… Ну, это для простого, подлого народа, конечно, басня такая. Про доброго царя, они про это любят. Что сидел тридцать три года сиднем… Тьфу! Двадцать лет сидел в Шлиссельбурге на собачьей цепи, а ныне это брось! Ныне всем скоро воля будет! А пока воля только ему. И как он нашей матушке-государыне глянулся! Какая пара: голубь с голубицею! Эх, надо бы налить за это! Семен замолчал и забряцал стаканчиком. А Иван через плечо сказал: — Так какая они пара, если она и так уже замужем. И муж, слава Богу, жив-здоров. — Да! — мрачно сказал Семен. — Твоя правда. Есть такая досада. Ну так они никого оттуда и не повезут. То есть с собой не повезут. Но и в Кексгольм же тоже никого не повезли! — продолжал Семен уже просто сердито. — Что у них там такое случилось? Почему там не заладилось? Гони, Иван, гони! Иван погнал. Семен немного помолчал, после опять заговорил: — Но если Иоанна опять в Шлиссельбург, то Питера тогда куда? Не сидеть же ему век в Ропше! Вот чего мы не знаем, Иван: не знаем, что они затеяли с Питером. И вот где наше главное: в Ропше. Не надо было сюда ездить вообще! Я так ему и говорил, что не надо! А надо, я говорил, в Ропшу, и Ивана к нему подослать, это значит тебя, он же тебя жалует, и ты бы ему дал манифест, он подписал бы, и мы сразу обратно, и он, Никита, сразу бы в Сенат, и там, чем пустыми руками размахивать, предъявил бы: на, Неплюев, зачитай! И Неплюев зачитал, и эти бы одобрили. А Разумовский вывел бы измайловцев, а Трубецкой — преображенцев. И что? И пусть бы они тогда здесь миловались, тешились, а прилетели бы обратно, голуби, а у нас уже сокол сидит, соколенок. Так нет! Убоялся Никита! Заробел, прямо сказать. Невоенный человек, чего и говорить. А мы, военные, теперь расхлебывай. А тут еще мало чего! И тут Семен замолчал, после возок резко дернулся — это, понял Иван, Семен встал и оглянулся назад. После он так же тяжко сел и сказал, что надо поспешать. Иван погнал еще скорей. Тогда Семен сказал: — А перед деревней придержи. Через нее проедем чинно. Вдруг они там кого оставили присматривать? Иван молчал. Лошади бежали хорошо. Скоро будет деревня, подумал Иван. И только он так подумал, как сразу же, за поворотом, увидел рогатку, а при ней несколько солдат с сержантом. — Эх! — громко воскликнул Семен. И сразу же велел: — Гони, гони, Иван! А эти уже подскочили, расхватали ружья. Сержант поднял руку. А Иван огрел вожжами лошадей, еще огрел! И засвистал, затикал! И даже привстал на козлах! Сержант крикнул, ахнул залп! Пули завжикали! Рогатка опрокинулась! Лошади скакали дальше, Семен смеялся и ругался очень грязно, Иван хлестал вожжами, сзади еще ахнули! И еще раз мимо, остолопы! Учишь таких, учишь, а все без толку, думал Иван, не преставая хлестать лошадей, а порох казенный, не жалко, а из своего бы лучше целились! Семен сзади крикнул: — Садись! Иван сел и намотал на руку вожжи, после оглянулся. Рогатки видно уже не было. Семен сказал: — Живые, Ваня! Оба! А мне такой был гадкий сон! И я их как увидел, так сразу подумал: это моя смерть стоит. А вот и не смерть! Иван сказал: — Теперь будет погоня. — Не обязательно, — сказал Семен. — Они же не знают, кто мы такие. Может, мы просто разбойники, душегубы какие-нибудь, конокрады, а никакие не сам знаешь кто. И, потом, откуда им погоню брать? Эти, на рогатке, были пешие, такие не годятся. А отнимать кого от высочайшего эскорта, это, знаешь ли, дело опасное. Потому что вдруг нас здесь таких много, за каждой елью? И тогда только эти за нами, как остальные наши — сразу на нее! И от голубицы только перья полетели! Нет, брат, так не бывает. И поэтому перед деревней придержи, пусть они и дальше думают, что мы не по их душу. Ехай! И они еще проехали, а после, придержав лошадей, миновали ту деревню. Это Ириновка, сказал Семен, теперь ровно тридцать верст осталось. Помнишь, ты царицу эскортировал, тут же добавил он, так вот там тоже было ровно столько же. И как вы славно приехали! Вот так и нам сейчас бы. Но так не получилось. А было вот как. После Ириновки они опять погнали, хоть за ними никто и не гнался, а потом, когда подъехали к еще одной деревне, там где господский дом (и не тот, который там сейчас, а еще старый, одноэтажный), то от него к дороге кто-то побежал, размахивал руками и показывал, чтобы они его подождали. Но они, конечно, ждать не стали, а даже немного прибавили. Тот стал кричать, тогда они еще прибавили. Тогда тот повернулся к дому и стал кричать уже туда. Тогда Иван начал хлестать уже нешуточно. И правильно сделал, потому что не успели они еще перевалить через пригорок, как уже увидели, что из того дома, от Всеволожских, выезжают две тройки одна за другой. — Дай теперь я! — сказал Семен, вставая. Как будто бы Иван устал! Но Иван не спорил, они поменялись, и теперь правил Семен, а Иван сидел сзади и время от времени оглядывался, наблюдая, не показались ли те тройки, та погоня. Но пока все было хорошо. И оставалось уже совсем мало, они уже даже миновали Ржевку, и там их никто не сторожил, не окликал, и они уже опять погнали. И уже даже так тогда все казалось ловко и складно, что Семен опять достал стаканчики и они два раза приложились, после Семен сказал, что те тройки, может, были не за ними, а за голубицей, и они туда поехали, в ту сторону. — Потому что кто мы им такие, Иван! — сказал Семен в сердцах. — Да никто совсем, вот как! Это же мы только думаем, что мы все решаем. Вот как сейчас у нас было: вышли измайловцы, вышли преображенцы, стали кричать: этого долой, а эту возвести. Так не про себя же думали, а про него и про нее. И Никита Иванович это быстро сообразил! И он уже не говорит про конституцию, про две палаты или про свободу слова. Потому что — что такое конституция? Кто ее видел? Никто! И мало этого — и видеть не желает. Не доросли мы еще до нее. Вот, может, только наши внуки, и уже при сыновьях Павла Петровича, эти уже могут чего-то захотеть. И вот уже тогда они выйдут на площадь, например, перед Сенатом, и скажут: давай конституцию! А Павла Петровича сын — скажем, Александр или пусть даже, скажем, Николай — на это сильно разгневается. И скажет: ах, вам конституция надобна? А картечи не желаете? А ка-ак даст по ним залп! Они ка-ак побегут! И на Неву, на лед! А он еще раз — по льду! Вот такое вот побоище потомкам в назидание… А это что там такое? Иван оглянулся и увидел, что это опять те две тройки. Они скакали очень быстро, как во сне, когда нет никакого спасения. Но Семен сказал: — Ишь ты! Ну, тогда ладно! Тогда кривая вынесет! Не унывай, Иван! Уйдем! И он стал еще, еще нахлестывать. А до города, до первой городской рогатки, оставалось, может, версты три. Ну, или четыре, не больше. Семен хлестал. А Иван сидел, оборотившись на погоню, смотрел на них во все глаза и думал: хоть бы колесо у них слетело, что ли! Или занесло бы их! Или еще чего! А после опять про колесо, про занесло, про упряжь, про возницу… И вдруг первая тройка как рыскнет! Как резко завернется в сторону! А возок как занесет вперед — и поперек поставит! А вторая тройка лошадьми в него! Хряск! Грохот! Крики, ржание! И пыль, пыль столбом поднялась! — Семен! — крикнул Иван. — Смотри! Семен оглянулся. И даже невольно придержал своих. А там, у них, кто-то уже поднялся, бегал, кто-то кричал, командовал. Да и всякой другой суеты там было предостаточно. Семен уже не погонял, и лошади, почуяв слабину, сразу перешли на рысь, а потом и совсем на рысцу. А Семен с Иваном все молча смотрели туда, где сшиблись те две тройки. После Семен сказал только: — Да! — и сел обратно на козлы, тронул вожжи, и лошади побежали немного быстрей. Семен сказал еще раз: — Да! — А после, сдвинув шапку на глаза, осторожно добавил: — Бывает. Но и нам надо смотреть, Иван. Смотреть! И они еще проехали. До городской рогатки перед перевозом было уже совсем немного, им оставалось еще раз подняться на горку, и оттуда бы они ее увидели. И оттуда же уже была бы видна и артиллерийская лаборатория, там часто бывал Данила Климентьевич. Может, он и сейчас там по делу, подумал Иван… Но тут Семен вдруг сказал: — Нет, мы прямо не поедем. Зарогатят нас там, чую! — После чего он резко встал и осмотрелся, сказал еще: — Береженого Бог бережет! — и повернул налево, на проселок. Еще проехал и сказал: — Так мы на Охту выедем, на Ниеншанц. Там тоже хороший перевоз, и, главное, нас там не ждут. А там, — и он кивнул назад, — там сейчас, может, сам Гришка Орлов стоит. С Алешкой. С Федькой. С кем еще? Сколько их всего, этих Орловых, братьев? Иван молчал. Они еще проехали, теперь уже по той, прямо сказать, очень дрянной дороге. Места же там были совсем глухие, рядом с самой дорогой какие-то ямы накопаны, какой-то вырубленный лес, и, конечно, грязь, болото. А Семен поглядывал по сторонам и удовлетворенно кивал головой. После сказал, что скоро они выедут на лучшую дорогу. Но тут же спохватился и добавил: — Нет, я один. — И обернулся на Ивана, повторил: — Один, я говорю. А ты сойдешь. Вон там сойдешь, под той сосной, — и он показал вперед. И продолжал: — И вот твой паспорт, Иван Хлыст, двадцать девять лет, холост. — Тут Семен полез за пазуху, за паспортом. Сказал: — Вот тебе он, держи, и я тебя больше не знаю. А ты меня. Понятно? Иван молчал и паспорта не брал. — Иван! — строго сказал Семен. — Я не шучу. Бери. Иван взял паспорт и убрал к себе. Семен улыбнулся, сказал: — Вот это славно. Вот как ты мне веришь — на слово! А вот и наша сосна. Сказав это, Семен остановил возок и первым соскочил на землю. Следом соскочил Иван. Семен сказал: — Теперь ты пойдешь вон туда, и вон за тем домом, а это от каменной фабрики что-то, сарай там какой-то, так ты мимо него сходи к воде. И там, возле воды, будут сидеть три человека, мужики такие, и играть в карты. В квинтич! Ты подойдешь к ним и скажешь: перевезите на ту сторону, я заплачу. Они спросят: а зачем тебе туда? Ты скажешь: хочу спрятать краденую лошадь. Они спросят: а где она у тебя? Ты скажешь: а вот здесь — и по груди себя похлопаешь. И это все. И они тебя на тот берег перевезут, и дальше не бросят. Это наши люди. — А ты куда? — спросил Иван. — А я, — сказал Семен, — на Охту, я же говорил. И меня там тоже встретят. Так что, я думаю, не ты, так я, или не я, так ты, но переедет кто-нибудь. И это хорошо. А то что получилось бы? Что мы зря столько хлопотали? Иван молчал, смотрел по сторонам. Вокруг было тихо и пусто. — Э! — насмешливо сказал Семен. — Ты это не смотри. И даже не слушай. А это чуять надо. Ну, давай! Тут он быстро потрепал Ивана по плечу, весело заулыбался, после вскочил на козлы, огрел лошадей — и поехал дальше, к Охте. А Иван сошел с дороги и пошел по буеракам к тому дому. Шел долго, изгваздал все сапоги, но все же нашел тропку и начал спускаться к Неве. И там и вправду в указанном месте сидели трое и играли в карты. Одеты они были очень просто, и лодка возле них стояла тоже очень простая. Иван подошел к ним и поприветствовал их по-простому. Они ему так же ответили. Потом он сказал им то, чему его учил Семен, а они ответили тоже его словами, после чего их главный встал и спросил у Ивана, а где его второй. Мне про это ничего не было говорено, сказал Иван, мне только про лошадь. Ладно, сказал их старший, пусть так, и велел своим людям вставать. Они встали, взяли весла и подошли к лодке. Там сперва сели Иван со старшим, а эти оттолкнули лодку, и только уже после сели сами и взялись грести. Гребли они на редкость ловко и легко. Службу знают, подумал Иван и краем глаза глянул на их старшего, который сидел на корме. Старший был уже без шапки, он держал ее в руке. Волосы у старшего были очень и очень светлые, почти что белые. И голову старший держал очень прямо. Иван повернулся к старшему. Старший смотрел на Ивана. Взгляд у старшего был очень удивительный — как будто бы он все о тебе знает. Иван растерялся и спросил: тебя, братец, как звать? Лейтенант Сухотин, сказал тот. А, только и сказал Иван, потому что понял, что сглупил. И больше он уже ничего не говорил. И ни на кого уже не смотрел, а только вперед — на то, как лодка шла через Неву прямо к конногвардейским казармам, точнее, к тому их краю, где начинался пустырь. И скоро там, на пустыре, они причалили. Сухотин надел шапку, встал, первым вышел из лодки и велел гребцам ждать, а Ивану сказал, что им тут совсем недалеко. Иван вышел за ним следом, и Сухотин повел его дальше, мимо казарм и провиантских магазейнов, а потом совсем за магазейны. Там уже были жилые дома и возле одного из них стоял извозчик. Они подошли к нему и, не спросившись, сели — первым Сухотин, а за ним Иван, потому что Сухотин кивнул, а после Сухотин приказал «гони» — не говоря, куда, — и извозчик погнал. Да и никакой это не извозчик, думал Иван, глядя на его холеные щеки. Ну да и я не Ванька Хлыст. А кто такой Сухотин? Иван опять на него покосился. Сухотин сидел очень прямо. Так и тот, вспомнил Иван, держался. А где тот теперь? Может, он уже опять в своем каземате, который стоит очень низко, и поэтому его, как говорил Семен, никак не взять, потому что нужно бить только из пушки, а пушку еще нужно подкатить, но сперва ее нужно добыть, то есть поднять там бунт и захватить орудия… И ведь, может, так оно когда-нибудь и будет, подумал Иван, потому что если нашлись братья Орловы для Екатерины Алексеевны, то почему никому не найтись для Иоанна Антоновича? Значит, найдутся обязательно и, может, уже даже нашлись. Ведь же нашлись уже даже для юного Павла Петровича, сколько ему всего лет, восемь неполных, кажется, а у него уже Иван с Семеном. И Сухотин с ними. И еще, зачем перечислять, другие, и их много. Да и неважно это совершенно, в сердцах думал Иван. И сразу дальше: Господи, как это раньше было просто! Их было только двое: царь и царица. А теперь еще царевич, Господи, и еще тот безымянный колодник. И ведь совершенно непонятно, Господи, кого больше жалеть и за кого становиться. И почему, Господи, это от меня должно зависеть? Кто я такой? Армейский ротмистр, и я хочу в отставку, и жениться, и уехать. И мне только та корона и нужна, и я только о той беспокоюсь, которую Семен будет держать, когда мы будем с Анютой венчаться… А, кстати, где Семен, что сним? И дальше почему-то стало получаться так, что ни о чем другом Иван думать уже не мог, как только о Семене. И молчал. И так же молчал Сухотин. Только иногда, когда их останавливали на рогатках, Сухотин называл пароли — и опять молчал. Так они доехали до Воронцовского дворца — все время молча, — и Иван никак не мог понять, отчего это у него вдруг такое беспокойство за Семена. И только тогда, когда они уже совсем приехали, и уже даже остановились и сошли на землю, а на крыльце уже стоял Степан… Иван вдруг понял, отчего! Сухотин ему что-то говорил, но Иван его уже не слушал — Иван быстро шел к крыльцу и думал только о том, что Семену снился очень гадкий сон и он его очень боялся. Так неужели он это не зря?!ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ Конца-краю не видно
Поэтому Иван, как только взошел на крыльцо, сразу спросил у Степана, не приезжал ли господин майор. Еще нет, сказал Степан спокойным голосом. Иван кивнул и подумал: и верно, Охта, она же вон где, вот Семен и задержался, — и, уже больше ничего не говоря, следом за Степаном вошел в дверь. Дальше они прошли мимо лакеев и стали подниматься по лестнице. Вначале поднимались молча, и уже только почти что на самом верху Степан вдруг тихо сказал Ивану, что его Карп Львович очень ждет. Карп Львович, повторил Иван, это Носухин, что ли? Точно, он, сказал Степан. Они к этому времени уже поднялись на второй этаж и остановились. Чего стоишь, строго сказал Иван, веди меня к его высокопревосходительству, я очень спешу. Или ты что, этого не видишь?! Вижу, как же, еще как, быстро сказал Степан, отводя Ивана в сторону от лестницы. Потом опять остановился и добавил, тоже быстро: — Но его высокопревосходительство вас сейчас принять никак не могут. Они сейчас на высочайшей аудиенции. У государыни. — У государыни? — переспросил Иван. — Она что, разве уже вернулась? — Значит, вернулась, раз они туда поехали, — сказал Степан. — Так! — строго сказал Иван. — Ладно. А про меня он что велел? — Ничего, — сказал Степан. — Они тогда очень спешили. Только Карпу Львовичу чего-то наказали и сразу уехали. А потом, когда они уже уехали, Карп Львович мне велел, чтобы как только вы явитесь, я вас сразу же провел к нему. Потому что так ему велели их высокопревосходительство. — Так, — еще раз сказал Иван. Потом еще раз сказал: — Так! — А после усмехнулся и добавил: — Так да не так, Степан. Потому что вот беда какая. Не могу я с Карпом Львовичем беседовать. Потому что господин майор Губин, мой прямой воинский начальник, мне строго-настрого велел о том, что нами было видано, докладывать только лично их высокопревосходительству. И больше никому ни в коем разе. И я на том ему дал слово. — Так как же теперь быть? — спросил Степан. — А подождем пока, — сказал Иван. — И тогда или господин майор сюда прибудет и снимет с меня свой запрет, или даже сам Никита Иванович от государыни вернется, и тогда я ему лично доложу. Степан молчал. Тогда Иван еще сказал — и тоже улыбаясь: — И еще вот что, братец. Я же, сам видишь, с дороги. Проголодался я. И господин майор сейчас вернется. Поэтому вели срочно накрыть нам два куверта. И проводи меня, а не томи в углу! Степан на это молча поклонился, развернулся, и они пошли в столовую. В столовой их как будто уже ждали, потому что не успел Степан распорядиться, как уже было нанесено всего, чего душа желает. Иван сел, Степан налил ему в стакан, сказал, что это капское, пожелал приятно отдохнуть и вышел. А Иван отведал капского, точнее, просто выпил и пожал плечами, посмотрел на стол, там было много всякого, но он взял только огурчик, надкусил его и отложил. Потому что аппетита совсем не было. Черт знает что, думал Иван очень сердито, сперва гонят неизвестно куда, суют под пули, а после возвращаешься, а их нет, им это уже неинтересно! Они как будто бы уже у государыни. Только какая государыня, когда Иван вон как гнал, и то только явился. А она? Да никогда она так… И вдруг опять подумалось: а где Семен? Вот за Семена тогда, чтобы ничего с ним не случилось! И Иван опять налил. Но выпить не успел, потому что вдруг вошел Носухин в мундире и со шпажкой. Вид у Носухина был очень важный, и от него еще крепко пахло кельнской водой. — А вот и вы! — насмешливо сказал Иван. — Садитесь, угощайтесь. — Благодарю, — сказал Носухин. — В другой раз с великим удовольствием. А нынче я очень спешу. Да еще по делу первейшей важности. — А что такое? — спросил Иван. — Да вот, — сказал Носухин, — мне сейчас нужно срочно ехать к его высокопревосходительству, ибо… — О! — перебил его Иван. — Вам, значит, известно, где он. Тогда передайте ему, что я уже вернулся и мне есть что ему доложить. Или, может, мне самому с вами поехать? — Э! — растерянно сказал Носухин. — Понимаете… Тут, понимаете, дело такого свойства, что вам лучше никуда не отлучаться. Я к нему еду, конечно, но я могу его там и не застать. Он ведь давно уже должен был вернуться, а его ищут. Вот я и еду. А вы его здесь подождите. И если что, то передайте, что его Иван Перфильевич очень желает увидеть. По очень важному делу, сказал, просто по очень важному! Так ему и передайте. А если я его первым найду, то что мне ему от вас передать? Ведь у вас же тоже очень важно и срочно. Ведь так? Иван подумал и сказал: — Вести и в самом деле важные. Даже настолько важные, что мы с майором разделились, и я дальше пошел пешком, а он поехал в объезд. Чтобы хоть один из нас вернулся и смог доложить. Так он сказал. — А… — начал было Носухин. — Увы! — сказал Иван и даже развел руки. — Не могу. Дал слово! — Эх! — в сердцах сказал Носухин. — Ну да ладно! — и, не кланяясь и не прощаясь, вышел. А Иван остался за столом, еще раз выпил и еще раз закусил. А дальше у него уже кусок в горло не лез, потому что время шло, а Семена все не было и не было. То, что Никиты Ивановича долго еще не будет, Иван не сомневался. Да и что с ним случится, с этим Никитой Ивановичем, сердито думал Иван, Никита Иванович человек осторожный, мушкетов в карете не прячет и поддельных паспортов караульным не показывает, за что его хватать? А Семену уже давно было бы пора вернуться. А вот его все нет и нет. А тут еще тот сон, думал Иван, Семен же говорил, что ему приснилось что-то гадкое, а это уже совсем дрянь дело. И вот Иван сидел и ждал Семена, и ни о чем другом думать не мог, даже об Анюте. И так прошло довольно много времени. После Иван не выдержал, встал, взял с собой бутылку капского и два стакана и пошел в бильярдную. Там он вначале играл сам с собой, левой рукой против правой, а после, когда это надоело, сел, налил капского в оба стакана, из своего отпил совсем немного и поставил и задумался. Да не о том опять! Потому что хотел думать об Анюте, а подумалось опять о дяде Тодаре, как тот спасал короля и что за это потом получил. И как он после, когда крепко выпьет, говорил: Янка, дурень, Янка, не суйся туда никогда, не наше это там! А он… А что он? А как он мог иначе? Ему царь сказал: поехали — и он поехал. А потом сказал Орлов — но кто ему этот Орлов?! А Никита Иванович кто? Чем Никита Иванович лучше? Так ведь же Павел Петрович, наследник, у него же все права! А Иоанн Антонович тогда, что ли, не в счет? А… И так далее. И загрустил Иван, подпер ладонью голову, закрыл глаза, еще крепче задумался… И так и заснул. И спал крепко, и довольно долго, потому что проснулся уже только посреди ночи, и то уже только тогда, когда к нему в бильярдную вошел Степан, растолкал его и сказал, что их высокопревосходительство желают срочно его видеть. Иван встрепенулся и сразу спросил, вернулся ли Семен. Еще нет, сказал Степан, после сказал: пожалуйте сюда, за мной. И они пошли. Никита Иванович опять сидел у себя в кабинете за столом, между глобусом и нимфой, и одет он был уже по-домашнему, в дорогущий щегольской халат, которому бы, наверное, сам персидский шах позавидовал. Подумав о шахе, Иван сразу вспомнил Митрия, которого убили в Ропше, и нахмурился. А вот Никита Иванович, тот, наоборот, заулыбался и сказал: — Рад тебя видеть, голубчик, живым и здоровым. Садись. Иван сел к столу. Никита Иванович еще раз улыбнулся и сказал: — Говорят, у вас там было дело жаркое. — Ну, это как кому, — уклончиво сказал Иван. И замолчал. Никита Иванович подождал еще немного, понял, что Иван больше ничего говорить не собирается, и уже улыбаться не стал, а, наоборот, сказал очень серьезным голосом: — Знаю, о чем ты думаешь, голубчик. Знаю! Что я вот здесь сижу себе и в ус не дую, а ты скачешь по лесам, мотаешься, ночей не спишь, подставляешь лоб под пули, и что тебе за это будет? Ничего. Только три аршина казенной земли. А мне канцлерство, мне десять тысяч душ и сто тысяч рублей. И что еще? Иван молчал. Он растерялся. Зато Никита Иванович опять заулыбался и продолжил: — И еще мне ноздри, дыбу и четвертовать, вот что ты еще забыл, голубчик. — Как? — спросил Иван. — А очень просто, — ответил Никита Иванович. — Так мне они вчера сказали, братцы эти, Гришка да Алешка. Когда она уехала, и ты, я думаю, ее там видел, они остались здесь, все четверо. И их старший, Гришка, мне сказал: а ты что думаешь, дядя, мы ничего не видим? Нет, видим все, сказал. И шкуру с тебя спустим, дядя, и на барабан натянем, чтобы было цесаревичу на чем играть. И играть ему в это всю жизнь, потому что того, что ты затеял, ему не видать никогда! Иван молчал. — Но это еще что, — сказал Никита Иванович уже совсем нерадостным голосом. — А хуже было то, что Неплюев при том стоял рядом. И смеялся, пес! Негромко, но я слышал. Неплюева помнишь? — Помню, — сказал Иван. И сразу живо увидел, как Неплюев вел Павла Петровича к карете, тащил его за руку. — Неплюев битый пес! — тихо сказал Никита Иванович. — Неплюева так просто не проведешь. Даже Бирон Неплюева не взял. А ведь Неплюев был тогда вместе с Волынским. И после Волынского на плаху, а Неплюева к чинам! Вот как он тогда вывернулся, даже, еще раз говорю, Бирон его не удержал. И так и теперь он хочет, чую, чтобы его опять к чинам, а нас, грешных, куда? Вот какие здесь дела творились, покуда вы ездили в Морью. А сегодня, уже в ночь, когда ты уже вернулся, я из Сената к государыне поехал, а меня там не приняли. Сказали: легла почивать. И усмехались весело! А стоят сегодня там преображении. Значит, что я теперь должен думать о Трубецком, ведь это его полк?! Иван, не отвечая, смотрел в стол, как будто он был в этом виноват. А Никита Иванович встал и медленно прошелся взад-вперед по кабинету, потом остановился и сказал: — Что-то там случилось, чую. Что-то очень важное. Рассказывай. Иван начал рассказывать. Никита Иванович слушал его очень внимательно, ничего не уточнял, не переспрашивал, и только когда Иван уже совсем замолчал, он медленно провел руками по щекам и сказал: — Беда какая! — и опять прошелся к окну и обратно, остановился и еще сказал, теперь уже спокойнее: — Ну а может, это даже к лучшему. Но тут нужно хорошо еще подумать, даже очень хорошо! И он опять взялся руками за щеки. Иван встал. Никита Иванович улыбнулся ему и сказал: — А ты, голубчик, отдыхай. И ни за что не тревожься. Это уже пусть моя голова болит об этом. — И замолчал, потом спросил: — Ты что-то хочешь сказать? — Нет, ничего, — сказал Иван. Потом все же добавил: — Да, и еще вот что. Иван Перфильевич вас спрашивал. О нем Карп Львович говорил… — Я про это уже знаю, — поспешно перебил его Никита Иванович и тут же сердито добавил: — Это господин Елагин, ее новый секретарь, это я о государыне. Ума не приложу, зачем это я ему вдруг так срочно понадобился! — И тут же поспешно продолжал: — Да ты, еще раз говорю, ни о чем не тревожься. Ты лучше иди, отдыхай. А то вдруг у тебя завтра хлопотный день выдастся. Вдруг, к примеру, надо будет какую-нибудь бумагу отвезти на подпись. Вот только Губин вернется и тоже передохнет маленько, так после сразу собирайтесь ехать. Чтобы Иван Перфильевич ко мне больше не бегал. А пока ступай, ступай. Иван чинно откланялся и вышел. На душе у него было гадко. Он шел к себе и думал, что какая получилась кутерьма, и ей еще конца-краю не видно. А добра не видно и подавно! Эх, лучше бы ему бы совсем сейчас из Померании сюда не ездить, а оставаться в штабе при Румянцеве. Тем более, ведь же Сивцов говорил, что у тебя, Иван, Бычок крепко хромает, сводил бы ты его к Феликсу, не оставляй это на Мишку, а я вместо тебя Жукова пошлю. И пусть бы ехал этот Жуков, пусть бы сейчас скакал туда-сюда, вертелся, а Иван сидел бы в Померании вместе со всем корпусом и ждал курьера с пакетом, а в пакете новая присяга. Кому надо! Так нет, думал Иван, входя к себе, нет же, купил это колечко! Переплатил втридорога. Потому что, как ему сказали, это не простое колечко, а заговоренное. Всегда будете вместе: что бы где бы ни случилось, а вам все равно. Потому что вы только посмотрите, господин ротмистр, какой чистый камень, какая красная кровь — как настоящая! И он поверил и взял. И сказал: не надо Жукова, я сам поеду. Подумав так, Иван сел на софу, достал из-за пазухи портмонет, а из портмонета то колечко и принялся его рассматривать и думать об Анюте. Долго он его рассматривал и также долго думал, а после тяжко вздохнул, убрал колечко, наполовину разделся и лег. Лежал, ворочался, а сон не брал. Долго не брал! А после как-то вдруг сморил — совершенно неожиданно и незаметно.ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Пуля летит быстро
Спал Иван крепко, ничего ему не снилось. А когда утром проснулся, то первым делом позвал Степана и спросил, не слышно ли чего про господина майора. Степан сказал, что ничего. Иван нахмурился, потому что было уже совершенно понятно, что с Семеном что-то случилось. Но говорить об этом не хотелось, и Иван молчал. Зато Степан сказал: — Да вы не беспокойтесь, ваше благородие. Их высокопревосходительство вашего товарища в обиду не дадут. Они или скажут кому надо, или где-нибудь не поскупятся. Будете вы еще с ним водку трескать. За милую душу! Иван строго глянул на Степана, потому что очень не любил, когда холопы себе много позволяют… Но после и сам усмехнулся, подумал: ерунда все это, встал и подошел к окну, глянул во двор. Во дворе стояли две кареты. Опять гости, подумал Иван — и спросил, а что их высокопревосходительство, не спрашивал ли он чего или не передавал ли. Нет, сказал Степан, куда там, столько кутерьмы сегодня, даже больше, чем вчера. Так и снуют они! Кто они? — спросил Иван. Господа, сказал Степан многозначительно. И тут же вдруг спросил: — А чего это вы, ваше благородие, о своем человеке совсем забыли, о Василии? Не интересуетесь совсем. Иван сразу застыл. Базыль, подумал он, а ведь и правда! А Степан продолжал важным голосом: — Так вот, ваше благородие, пока вас тут не было, пока вы отъезжали по важным делам, ваш человек сюда два раза приходил. Первый раз постоял и ушел. А во второй раз его их высокопревосходительство к себе потребовали и долго с ним беседовали. И после ваш человек как ушел, а уходил — весь светился, так больше́ что-то не показывается. Вот я и удивляюсь этому. Иван задумался. После сказал: — Хватит болтать. Иди вели накрыть на стол. Нет, сперва дай побриться. Степан ушел. А Иван переоделся в свое офицерское. Степан принес побриться, он побрился. Брился он долго, тщательно. Ну так еще бы, думал он, глядясь в зеркало, может, бумагу повезу на подпись, а меня там самого возьмут и повезут к Шувалову. Или кто там сейчас этим заправляет? Привезут, а я небритый, Шувалов разозлится и начнет орать: собака, что за вид, как тебя клеймить такого заросшего, да ты клейма не достоин, клеймо казенное, а ты, вор, чей?! И тут Иван порезался, стал это место утирать, примазывать и, что всего хуже, думать, что такое не к добру. Но и додумать даже не успел, как в дверь заглянул Степан и пригласил его к столу. Иван быстро убрался, встал и вышел следом за Степаном. Стол был небогатый, потому что была пятница, и кашка была на воде. Но Иван все равно ее съел, запил жидким кофеем и уже хотел было вставать. Как вдруг опять показался Степан и сказал, что ваш человек пришел, Василий, так его что, сюда звать или как? Сюда, сказал Иван, только найдите еще что-нибудь, а то что это одна каша! Слушаюсь, сказал Степан и вышел. Иван сидел, смотрел на дверь и ждал. Принесли вина и гречки с салом. А потом уже вошел Базыль. Он был одет уже по-здешнему, и все это сидело на нем достаточно ловко. Да и сам он имел вид весьма довольного собой человека, даже, правильнее, господина. — О! — только и сказал Иван, вставая. — Га! — радостно сказал в ответ Базыль. — Что, паныч, я ладно смотрюсь? — Еще как! — сказал Иван. — Ты теперь прямо как нобиль какой-нибудь. Или совсем магнат. Ну так садись, магнат, рассказывай. И выпьем! — Посидеть — это с огромным удовольствием, — сказал Базыль, садясь напротив. — А выпить нет. Я же теперь на службе, паныч. — У кого?! — поразился Иван. — У господина графа Кейзерлинга. — У кого, у кого? — переспросил Иван, но уже не так громко. — У господина графа Кейзерлинга, — повторил Базыль. — У Карла Петровича. — Кем? — Переводчиком. Он же в Варшаву едет, этот Карл Петрович, его же ваша царица туда посланником назначила. А по-польски он не понимает. И вот он берет меня. Для понимания. Все это Базыль сказал спокойным, ровным голосом, а потом так же спокойно замолчал. Иван еще раз осмотрел его всего, потом спросил: — Это что, это Никита Иванович тебе в этом поспоспешествовал? — Да, он, — сказал Базыль. — Но ты, паныч, так на меня не смотри. Что мне этот Карл Петрович и что Варшава. Я же там, может, только какую-нибудь неделю посижу, а потом мне дальше надо будет ехать. Да и они там другого переводчика себе найдут. Но сперва, как мне было говорено, они туда приедут и представятся, после напишут письмо, и я его сразу в зубы и поехал в Вильно, в Трибунал. И Лапы сразу наши, паныч! Иван молчал. — Паныч! — сказал Базыль. — А я же тебе еще от одной панночки поклон привез. Я говорил: а что еще? А она как покраснеет, паныч. Как та роза, что у нас возле крыльца, если ты помнишь. И я засмеялся. Все равно, я ей сказал, скажу ему, как ты краснела. А она: только посмей! Вот я и не смею, молчу. Тут он и вправду замолчал. Иван тоже молчал. Иван боялся спрашивать. Тогда Базыль сказал: — А как ты напугал ее тогда, когда вы под окном остановились. Ну да ты ее тогда не видел, не успел, там же тогда солдаты на вас набежали. А она вас видела. И очень жарко молилась, чтобы по вам не попали. И не попали же! Все пули пролетели мимо. А они быстро летят! А теперь… Она опять сидит и ждет тебя. И опять будет молиться, если что. И тут Базыль замолчал. Иван нахмурился, подумал и спросил: — Когда вы с графом едете? — Послезавтра, — ответил Базыль. — В воскресенье. Представляешь, как они спешат, если в такой день едут? Так ведь же здесь теперь такие перемены, что сам черт… — Но тут же спохватился и продолжил: — Но это не наше дело, наше дело — письмо в Трибунал. И мы его доставим! И Хвацкие свое получат! А мы свое! — Да, — сказал Иван. — Конечно. — Помолчал, потом спросил: — А как это все было у Никиты Ивановича? Как он тебя принимал, о чем спрашивал? — Принимал с почетом, даже удивительно, — сказал Базыль. — А спрашивал о чем? О Лапах спрашивал, что там растет и сколько там душ. И сколько гайдуков у Хвацких, а сколько у нас. На что я сказал, что дело не в числе. А после о тебе он спрашивал, конечно, и я тебя хвалил, конечно. Но и не захваливал, а осторожно, чтобы словам была вера. — И она была? — спросил, улыбаясь, Иван. — Конечно! — сердито воскликнул Базыль. — Га! Велика наука! Да во мне семь пуль сидит, и об меня пять сабель затупилось! А тут просто слово сказать! — Верю. Верю! — перебил его Иван. После спросил: — А что теперь? — А теперь, — сказал Базыль, — верчусь как жернов. Послезавтра уже уезжать, а этот немец, этот Карл Петрович, мне и туда велел сбегать, и туда, и туда. Так что я к тебе, паныч, только на минутку заскочил, только сказать, где я и где меня искать. А где тебя? А то панночки интересуются. И когда ты к ним заявишься, а то уже им как-то даже неудобно у меня об этом спрашивать. А мне об этом молчать. Ну так что? Иван подумал и сказал: — Я сегодня должен буду съездить в одно место и сразу вернуться. И тогда завтра сразу к ним. Или… Нет! — сказал Иван. — Скажи: завтра обязательно. Потому что, — и тут Иван даже улыбнулся, — уже хватит этой службы. Вот как! — И это правильно, — сказал Базыль. — Так я ей и передам. И мне уже пора идти. Потому что ты уже вон сколько служишь, а я только вчера начал. Мне еще нужно себя показать! С этими словами Базыль встал, сказал «до скорого» и вышел. А Иван остался за столом, и напротив стояла бутылка. Эх, подумал Иван, жаль, что Данилы Климентьича нет рядом, Данила Климентьич бы не отказался, особенно по такому случаю. С этой мыслью Иван взял бутылку и налил себе, после представил напротив Данилу Климентьича, а дальше представил, как тот поднимает свой стакан, — и поднял свой. И они как будто чокнулись, и Иван начал пить. Теперь он не спешил, не хлопал, как перед атакой, а смаковал, катал по языку и даже щурился от удовольствия. И думал: это опять капское. А какое славное винишко! Неужели это из такого далека везут, с Капской земли? С края света! Чтобы Иван налил и выпил. За здоровье Никиты Ивановича. А что! Как тут за него не выпить, когда он как обещал, так уже и начал делать — посылает Базыля в Варшаву вместе с Кейзерлингом, а оттуда Кейзерлинг напишет в Трибунал, и Трибунал начнет рассматривать их дело. И рассмотрит в самом наилучшем виде, можете не сомневаться. Тут Иван не удержался и еще налил. И теперь уже представил напротив себя Никиту Ивановича — и чокнулся и выпил уже с ним. На душе было светло и радостно. И даже когда вспомнил про Семена, то подумал, что верно Степан говорил — Никита Иванович не даст Семена в обиду, а замолвит за него словечко или хотя бы просто его выкупит. И будем еще вместе водку трескать. Или капское. Тут Иван хотел еще налить, но вовремя вспомнил, что день еще только начинается и что когда вернется Семен — а Семен вернется, никуда не денется, — они опять поедут в Ропшу. И тут вдруг вспомнился Павел Петрович, как он, когда его вели к карете, на Ивана оглядывался и даже махнул ему рукой. Жалко мальчонку, подумал Иван, ну да не все еще потеряно, Семен вернется и поедем, и подпишем. А пока что Иван встал, одернул на себе мундир и подошел к окну. Во дворе стояли уже три кареты. Кутерьма, вспомнил Иван слова Степана, усмехнулся и подумал: значит, им пока что не до нас — и не спеша пошел в бильярдную. Там он пробыл почти что до самого полудня, никто о нем не вспоминал — и он играл себе в свое удовольствие, играл плохо, потому что постоянно думал о своем, представлял, как они с Анютой приедут в Великие Лапы и Базыль поведет их показывать тамошние места, но, конечно, до этого скажет, что Хвацкие теперь уже не те, что были прежде, теперь они сидят как мыши. Так что, Базыль, скажет Иван, может, нам теперь поехать их проведать, нагрянуть, так сказать? А что, скажет Базыль и засмеется, а почему бы и нет. Вон, паныч, посмотри, какие у нас теперь хлопцы, один к одному. И тогда они уже оба радостно засмеются, а Базыль даже начнет потирать руки от предвкушения. Но тут Анюта грозно скажет: что это такое, что я слышу, прекратите немедленно, какое варварство! И чтобы я такого больше никогда… Ну и так далее. Иван играл и думал о своем, а об остальном совсем забыл. Но тут вдруг к нему вошел Степан и сказал, что их высокопревосходительство желают его видеть. Вид у Степана был мрачный. Но Иван уже заметил, что у Степана всегда так: когда к хорошему, он мрачный, а когда к недоброму — веселый. Значит, сейчас к хорошему, думал Иван, идя следом за Степаном, значит, Семен уже вернулся и нужно срочно ехать в Ропшу. А потом, значит, срочно обратно, а завтра срочно на Литейную, к Анюте. Вот о чем тогда думал Иван и улыбался. А на самом деле получилось так, что Степан провел Ивана в новое, прежде им не виданное место — наверное, в библиотеку, — где кроме шкафов с книгами ничего почти что не было, только в одном углу стоял один маленький диванчик. А на диванчике сидел Никита Иванович, одетый очень просто, по-домашнему, и держал в руках раскрытую книгу. Когда Иван вошел, Никита Иванович отложил книгу, улыбнулся и сказал: — Здравствуй, голубчик. Иван поклонился. — Проходи, чего ты там остановился, — продолжал Никита Иванович. Иван прошел. Теперь Никита Иванович смотрел на него снизу вверх и молчал. Вид у Никиты Ивановича был такой, как будто он всю ночь не спал. И это было не от радости, потому что глаза у Никиты Ивановича были очень невеселые. Это только губы у него улыбались, это он только хочет казаться веселым, подумал Иван, значит, не заладилось у них там что-то. И тут же поправился: у нас! И даже уже хотел было начать благодарить Никиту Ивановича за то, что он так удачно похлопотал за Базыля перед Кейзерлингом… Но Никита Иванович вдруг поднял руку, давая понять Ивану, чтобы тот молчал, и вдруг сказал такое: — Тебе, голубчик, Гриша кланялся. — Какой Гриша? — с удивлением спросил Иван. — Алешин старший брат. Орлов. Иван молчал. После опасливо спросил: — За что? — Как за что? За весточку, — ответил Никита Иванович и даже улыбнулся. Но тут же опять стал серьезным и продолжил: — Я ему про Морье рассказал. И Гриша поначалу очень опечалился. Прямо белым стал как полотно. А после быстро отошел и даже изволил смеяться. И чарку выпил, и сказал, что-де низкий поклон тому, кто… Э! — громко сказал Никита Иванович, перебивая сам себя. — Да кто Гришу не знает! Гриша горяч. Но! — и тут Никита Иванович даже поднял вверх указательный палец. — Гриша слов на ветер не бросает. И теперь уже того не будет, что было раньше: Иоаннушкина карта бита. Намертво! Гриша сказал, что Иоаннушке оттуда никогда уже не выбраться! Замуруем, сказал, дверь, а надо будет, так и окна тоже! Иван опустил глаза, потому что смотреть на Никиту Ивановича ему уже совсем не хотелось. Никита Иванович тут же сказал: — Молод ты еще, голубчик. Очень молод! А здесь так нельзя. А надо так, как Гриша, хоть он и подлец. Но не может быть в одной державе столько государей. Была у нас уже однажды смута, и довольно. И Иоаннушка пускай смирно сидит, все его карты биты. И также Петр Федорович тоже пусть сидит и не играет. Да он и с самого начала не хотел играть, он первым бросил карты и отрекся. Теперь кто еще остался? Только государыня. Но государыне теперь нет веры, даже у Гриши. Гриша, я думаю, сегодня ей сцену устроит. И остается кто? И тут Никита Иванович вдруг замолчал. Иван поднял голову и посмотрел на него. Никита Иванович широко улыбнулся и продолжал почти что нараспев: — И остается только кто? Павел Петрович. — И уже строго, почти грозно продолжал: — Потому что он кто? Он Петру Федоровичу законный наследник, единственный сын. То есть вот кто наша слава и надежда — это он, Павел Петрович! И мы должны ему в этом помочь. Ибо вся наша держава и мы в ней все, чьи мы? Его! Разве не так это? Чего молчишь? Ведь так? — Так, — тихо сказал Иван. — Вот то-то же! — радостно воскликнул Никита Иванович. — И так же о тебе, о твоем деле теперь по закону можно говорить и даже требовать. Ведь это имение, эти Великие Лапы, они же триста лет были вашими, и, значит, они и дальше должны только вам принадлежать, и мы вам в этом поможем, и не отступимся, пока своего не добьемся, точнее, вашего. И так же… — Но тут Никита Иванович вдруг как-то странно поморщился, однако почти сразу же опять заулыбался и продолжил: — И так же Макьинская Грива должна быть возвращена своим законным владельцам. И я уже велел Носухину срочно написать об этом Аграфене Павловне, дабы она не беспокоилась, что мы ее забудем. Я… — Аграфене Павловне? — спросил Иван. — А почему не Семену? Потому что Макьинская Грива, разве он о ней не слышал?! Это же была Семенова земля, исконная, еще его отец сколько за нее судился, и все без толку. А Аграфена — это Семена младшая сестра. А что тогда Семен, что с ним? Вот о чем Иван тогда успел подумать, глядя на Никиту Ивановича. А тот молчал. Тогда Иван сказал: — Так что же это такое тогда? Где Семен? — Не знаю, голубчик, не видел, — тихим голосом ответил Никита Иванович. — Он же так до сей поры и не вернулся. И я не знаю, что и думать. — Да как не знаете?! А зачем тогда Аграфену Павловну беспокоить? Вдруг Семен вернется! Вот прямо сейчас! Но это Иван так только говорил, а на самом деле он уже все понял, просто верить в это не хотелось. Так и Никите Ивановичу тоже не хотелось прямо говорить об этом. И поэтому он сказал так: — Да ты не кричи, голубчик. Чего тут кричать. Майор Губин как уехал, так и не вернулся. Никто не знает, где он. И мы уже в полиции справлялись. Нет, говорят, ничего такого вас интересующего вчера не случалось. Вообще, говорят, день вчера был на редкость тихий, не разбойный. Только, говорят, на Охте был один случай. Ехал там какой-то человек, ему велели остановиться, а он как даст, как даст ходу! И, согласно последним распоряжениям, по нему стали стрелять. Но он и тогда не остановился, а погнал лошадей прямо в реку. Так они туда и въехали, и уже только по брюхо в воде остановились. К ним подбежали, посмотрели, а он уже готовый. А кто он такой и откуда, неизвестно, потому что никаких бумаг при нем не было. Только одет был как приказчик, и это все, что они о нем знают. — А дальше что? — тихо спросил Иван. — Пока что ничего, — так же тихо ответил Никита Иванович. — Я велел Носухину распорядиться, но чтобы без лишнего шуму. А то ведь отвезут на Смоленское и зароют в общей яме. А он же офицер! Разве такое можно допустить?! Иван молчал. Да и Никита Иванович не хотел больше об этом говорить и поэтому тоже молчал. В дверь постучали. Да, сказал Никита Иванович. Вошел Степан, подошел к Никите Ивановичу и подал ему какой-то маленький листок. Никита Иванович прочел, что там написано, и, ничего не говоря, только согласно кивнул головой. Степан вышел. — Этого еще нам только не хватало! — сам себе очень негромко сказал Никита Иванович. И тут почти сразу же открылась дверь, и к ним вошел какой-то господин в простом сером кафтане и без орденов, и с лицом тоже простым и неприметным. Дверь за господином сразу же закрылась, но он дальше не пошел, а остался стоять при пороге. — Иван Перфильевич, голубчик! — как будто бы в великой радости воскликнул Никита Иванович, быстро встал с дивана и пошел навстречу гостю. Но гость ему в ответ только кивнул и уже повернулся к Ивану, и начал смотреть на него очень пристально. Тут уже и Никита Иванович остановился, тоже повернулся к Ивану, всплеснул руками и воскликнул: — А я его тебе и не представил! Забыл! Да это же наш тот самый… Но тут этот его гость, Иван Перфильевич, сильно поморщился и что-то быстро сказал по-французски. Никита Иванович развел руками и ответил, тоже по-французски. Иван Перфильевич поморщился еще сильней и опять что-то сказал. Никита Иванович что-то ответил. После чего они оба посмотрели на Ивана — и теперь Иван Перфильевич уже изволил даже улыбнуться, но как-то совсем не любезно, а Никита Иванович тихо, но твердо сказал: — Ты не обессудь, голубчик, но мы тебя ненадолго покинем. Ты не скучай! И они прошли мимо него, после прошли дальше, за камин, за дальний шкаф, потом там что-то скрипнуло — и уже после стало совсем тихо. Значит, там потаенная дверь, и они через нее вышли, подумал Иван, стоя посреди библиотеки. И так он еще постоял, подождал. А потом подошел к одному из шкафов. Там за стеклами стояло много книг, но какие это были книги, Иван читать не стал. Иван Перфильевич, опять подумал он, фамилия его Елагин, Никита Иванович о нем говорил, что это новый кабинет-секретарь царицы. И он не просто так сюда пришел! Им же одного Семена мало! Им же еще дайте этого ротмистра, он же Семенов приятель, их двоих в том возке видели. Но того уже убили, а этого еще нет. И тому, кто убил, за меткий выстрел рубль дали или даже пять — расщедрились. А Аграфене Павловне напишут, что-де ваш любезный брат, гвардии майор Семен Павлов Губин, в шести кампаниях бывавший, трижды раненный… Или ничего писать не будут? А так: просто приедет туда к ней Носухин, сядет за стол, напротив Аграфены Павловны, выставит перед собой шкатулку, возьмет ключик, откроет замочек, а замочек с музыкой, — и заиграет музыка, он откроет крышку и достанет оттуда бумагу, развернет ее, а там печати, подписи, и он начнет ей объяснять: вот это, Аграфена Павловна, банковское поручительство на ваше имя, это очень ценная бумага, и вы по ней в любом торговом доме или в банковской конторе, но только в Европе, конечно, можете получить как проценты, так и сразу всю сумму. Вот она, эта сумма, смотрите, вот здесь. Но лучше брать проценты, потому что… Но тут Аграфена Павловна вот так вот быстро-быстро заморгает, после достанет платочек, аккуратно утрет слезы, а после тихо спросит: а где Сеня? что с ним? И что Носухин ей ответит? А что он ответит Анюте? Или он не ей, а кому… А и в самом деле, подумал Иван, а ведь у него, у Ивана, никакой родни не остается, кому они повезут шкатулку? Или им так даже выгоднее, потому что економия? Иван сердито хмыкнул и поморщился. И как раз тут его окликнули: — Голубчик! Он оглянулся и увидел Никиту Ивановича. Никита Иванович был уже один, без своего гостя, и уже не улыбался, а был, напротив, очень грустен над вид. И так же грустно он сказал: — Ничего не поделать, голубчик. Ехать тебе надо, вот что. Иван молчал. — Да, — продолжал Никита Иванович, — опять туда. А бумага уже там. Тебя дожидается. И известная особа тоже. Но надо спешить, голубчик, а не то твой приятель, Алешка Орлов, какие-то весьма странные письма оттуда пишет. Государыня волнуется, ночей не спит! — Так разве мы… — начал было говорить Иван. — Нет, нет! — перебил его Никита Иванович. — Государыня об этом ничего не знает. Да и зачем ей знать? У нее и так сколько хлопот! Вон как Христофор Антонович, а он вчера здесь был… Христофор Антонович, он самый, — повторил Никита Иванович и улыбнулся. — А как ты думал, голубчик! И фельдмаршал Миних, Христофор Антонович, у нас тоже бывает и сиживает. А вчера, сидевши, рассказывал, как государыня ему намедни жаловалась, что ей по шестнадцати часов приходится работать, вот сколько. А какое же материнское сердце столько выдержит, он говорил, нельзя нам такого допускать, иначе потеряем государыню-кормилицу, надо что-то делать, господа, подавать руку, подставлять плечо, становиться у кормила… Ну и так далее, голубчик, и так далее! — продолжал Никита Иванович уже совсем своим привычным бодрым голосом. — И ты, голубчик, тоже не сиди без дела. И не стой. Тебя уже ждут во дворе. Только ты переоденься! Не в карете же поедешь. А там береги себя! И помогай тебе Бог! Тут Никита Иванович враз стал серьезным и широко перекрестил Ивана. Иван в ответ на это молча поклонился, а после развернулся, вышел и пошел к себе.ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ Шведская модель
У себя Иван переоделся, но уже не во вчерашнее, а в новое, которое ему принес Степан. Хотя, конечно, новым оно не было, а это просто тоже было вольное, только другое, и теперь уже совсем простое, крестьянское. Хорошо еще, думал Иван, переобуваясь, что дали сапоги, а не лапти. Переобувшись, он встал и потопал, проверяя, хороши ли эти горе-сапоги, не жмут ли. А в зеркало не стал смотреться, не хотелось. И ничего с собой из своего не взял, а только портмонет с колечком. Степан попросил показать. Иван показал. Степан сказал: красивое. Иван кивнул, убрал колечко, Застегнулся, и они пошли. Выйдя на крыльцо, Иван увидел, что на этот раз его ждет простая крестьянская телега. На передке сидел некто в крестьянской одежде, но с благообразным, холеным лицом. И он был молодой еще совсем. Иван сердито хмыкнул, а так ничего не сказал, сошел с крыльца и подошел к телеге. Некто кивнул ему. Иван кивнул в ответ, после легко подпрыгнул и сел сбоку, на солому, свесил ноги вниз и велел трогать. Возница тронул. Они выехали со двора и поехали вдоль забора к улице. Возница, наполовину обернувшись к Ивану, спросил: — А вас, сударь, как зовут? — Иван, — сказал Иван. — А! — сказал возница. — Ясно. — Хлестнул вожжами и добавил: — А меня тогда зовите Яковом. Или даже вообще никак не называйте, — продолжал он, выворачивая на улицу. — Мы же один другого знать не знаем. Я еду по своим делам, а вы ко мне просто подсели возле Морского рынка. Вы спросили, мне куда, и я ответил, что в Гостилицы, и вы стали ко мне проситься. Сказали, с вас за это водка, два крючка. Первый в Стрельне, второй в Ропше. И мы поехали, и это все. Так, сударь? Тут возница опять обернулся к Ивану. Но Иван опять молчал. Возница подождал еще немного, после пожал плечами, отвернулся — и дальше они поехали молча. И так они долго, даже очень долго молчали. Они уже выехали за город и миновали Третью версту, а еще ни единого слова между ними говорено не было. Да Иван и не хотел ни о чем говорить. Вначале он все время думал о Семене, вспоминал о нем разное, а потом, когда они стали подъезжать к Третьей версте, Иван вспомнил уже Пристасавицких, как он у них жил, когда был еще мальчишкой и учился в Корпусе. И почти сразу вспомнилось совсем недавнее — как пан Вольдемар выправил им подорожную, и, наверное, думал Иван, нужно было им тогда сразу ехать, а там уже как-нибудь, глядишь, и решилось бы в Трибунале. Может, думал Иван дальше, Радзивилл уже забыл про ту историю со своим дядей, когда тот с Ивановым отцом рубился на саблях. И вот сейчас приехал бы Иван с Анютой в Лапы, и встретил бы их там только Хвацкий, ну и что? Да что Хвацкий теперь Ивану после Цорндорфа, Кольберга и после всего остального? Да просто смех! Да и опять же, подумал Иван, если бы они тогда уехали, так, может, и Семен сейчас был бы живой. Потому что это он только Ивану так тогда сказал: иди, а я поеду, — а другому мог сказать наоборот: я сойду, а ты езжай. Ведь же что Семену был бы кто-нибудь другой?! Вот как сейчас Ивану что этот Яков? Да ничто он ему, и никто, и знать он его не хочет! Вот о чем тогда думал Иван, глядя на Якова, на его спину. А Яков смотрел только вперед, на дорогу, и на Ивана больше не оглядывался. Так они ехали и ехали, все время совершенно молча, и доехали до Стрельни. И там надо же было такому случиться, что когда они вошли в трактир, то сели за тот же самый стол, за которым Иван три дня тому назад сидел с Семеном! И Семен, с тоской вспомнил Иван, тогда рассказывал про Митрия, только про Митрия и еще раз про Митрия. А теперь, думал Иван, заказывая два крючка, уже в самый раз вспомнить самого Семена — и тогда, глядишь, и этот Яков в следующий раз вспомнит Ивана… Только зачем это Ивану? Незачем! И он промолчал. Они просто выпили и закусили, встали, вышли, сели и поехали дальше, теперь уже к Ропше. И Иван и дальше бы молчал. А вот зато его вознице, Якову, крючок язык развязал. Но, правда, не сразу, а это когда они уже выехали из Стрельни на опять же пустую дорогу, Яков еще немного помолчал, а потом, по-прежнему глядя вперед, то есть на Ивана не оглядываясь, заговорил вот о чем: — А в этом есть даже некоторая прелесть, не так ли? Это я о нашем с вами нынешнем положении — будто бы простонародном, крестьянском. Ведь что в этом худого? Ровным счетом ничего. Даже, напротив, так как-то свободнее! — И он огрел вожжами лошадь. И тут же сказал: — Ибо что такое все эти ранжиры, весь этот этикет, эти условности, эта зависимость бедных от богатых и неродовитых от родовитых? Да это не более, чем неудобные, сковывающие наши естественные движения, одежды. А под ними мы все совершенно одинаковые и такие же дикие, как африканские готтентоты. — И он опять огрел, и тут же продолжал: — Готтентоты! Слово-то какое! Все сразу кривятся от брезгливости. А что в них дурного, я хотел бы знать, в этих будто бы ужасных готтентотах. Они же прекрасно сложены, они здоровы, они сильны и ловки. Там любой уважающий себя мужчина выходит один на один с простой дубиной на льва. Льва! — повторил он громко и даже повернулся к Ивану. — А как я вспомню, сколько у моего батюшки одних только псарей! Это же уму непостижимо! — И он опять повернулся к дороге. — И вот мы выезжаем этой кавалькадой, — продолжал он сердито, — даже, я бы сказал, этаким эскадроном выезжаем гоняться за каким-нибудь одним-единственным несчастным вепрем. Которого тот самый готтентот один бы выследил и так же один бы и убил. Одним ударом кулака, между прочим. То есть на этот раз он даже без дубинки обошелся бы. А у нас… Вот у вас сколько душ? — И тут он опять оглянулся. Иван усмехнулся и сказал: — Немного. — Так у кого их много! — сказал Яков. — Этого всегда всем мало. Но все равно мы с вами все же непростые люди, не подлый народ. Не готтентоты. А вот как сегодня нарядились! Ну да это еще что. А вы слыхали, что позавчера в трактире Пыжина царя убили? Сперва ножом ударили, а после сверху два раза скамейкой — и труп. И какой еще труп! В рваном кафтане с чужого плеча, порты в заплатах, а про сапоги и вообще лучше молчать. Вот в каком он виде был, куда похуже нашего. А царь! — Кто-кто? — переспросил Иван. — Царь, — повторил Яков. — И что потом по всему городу творилось! Хватали всех подряд! А кто пытался убежать, в тех, как в бешеных собак, стреляли. Иван вспомнил Семена и еще сильней нахмурился, но вслух ничего не сказал. Яков же опять заговорил: — Царь! Самозванец, конечно. Но, говорят, очень похож был. И сколько он уже, целую неделю, наверное, по трактирам шастал и народ баламутил. А народ что! Народу, конечно, очень хочется верить, что царь будто бы и в самом деле может вот так, как мы сегодня с вами, в подлое переодеться, а потом еще сидеть с ними за одним столом, жрать одну и ту же с ними водку, луком закусывать и говорить: я ей космы еще выдеру, а всем генералам усы, а вам, мой простой милый народ, все ихнее раздам — и владейте, пропивайте в ваше удовольствие! Ну, и ловили его, конечно, с ног сбились, нам сильно мешали. Но так и не нашли. И только случай им помог, а то бы этот Фрол раньше нас ее низверг бы. Потому что, — тут Яков немного помолчал, разбираясь с запутавшимися вожжами, — потому что подними он эту чернь, а ее только в одной столице сколько, и тогда это же не приведи Господь что было бы! Это тебе не измайловский полк. А так заспорили, повздорили, а после нож в брюхо и сверху скамейкой. Прибежал квартальный, набежали остальные, кликнули лекаря, а он уже готовый. И кто он такой и откуда? Только между этими пальцами порохом помечено, что рекрут, и все. И еще вот здесь наколот якорь. Значит, говорят, беглый матрос. И уже дальше говорят: Фрол Головешкин. А может, и не Фрол. Но зато теперь тихо. До поры, конечно. Но тьфу, тьфу! Так что теперь вы чувствуете, сударь, какая на нас великая лежит ответственность? Ибо ежели, не приведи Господь, мы не успеем или еще что нам помешает… Нет, я уже болтаю что-то совсем лишнее! — перебил сам себя Яков, помолчал, а потом сказал уже совсем другим, спокойным голосом: — Да нам-тоуже и осталось совсем мало. Может, версты три, не больше. Иван молчал. И Яков тоже больше уже ни о чем не заговаривал. И опять они ехали себе и ехали, пока Яков вдруг не придержал лошадь и не повернул ее с дороги на проселок. Иван осмотрелся и увидел, что они уже почти доехали до Ропши и это Яков берет в сторону прудов. И тут сразу вспомнилась та сторожка, точнее, тот шалаш, и Семен с Митрием. Иван вздохнул. А Яков сразу же сказал, что им уже совсем недалеко. Они еще проехали, и это было уже лесом, до развилки. Там Яков сказал, что вот они уже почти на месте, после чего остановил лошадь и соскочил на землю. Тогда и Иван соскочил. Яков хлестнул лошадь вожжами, сказал: пошла домой, — и бросил вожжи на телегу. Лошадь пошла сама. Она выбрала правую дорогу. Яков сказал: верно, иди, иди, — и лошадь пошла дальше. А нам не туда и не туда, сказал Яков, а нам вот куда, — и пошел прямо в лес, прямо в чащу. Иван пошел за ним. По чаще они шли довольно долго, может, целую версту, и теперь Яков опять помалкивал. Он только однажды сказал, что лошадка не заблудится, она ученая. А потом не удержался и еще добавил: и это полезная наука! А то у нас что, у нас же люди в лесу как слепые, их без карты в лес пускать нельзя. И даже с картой. Вон как под Гросс-Егерсдорфом обмишурились — прямо на них вылезли, под пули! Вы про это слыхали, про Гросс-Егерсдорф? Иван ответил, что слыхал. И что он даже это видел, потому что он там был. А, сказал Яков скучным голосом, понятно, тогда вам объяснять не надо. И больше уже ничего не говорил до той поры, пока они не подошли к здоровущей куче хвороста. Даже не здоровущей, а просто громадной, высотой сажени в полторы, никак не меньше. Ведьмино гнездо какое-то, подумал Иван, останавливаясь следом за Яковом. А Яков оглянулся на Ивана и сказал, что им сюда. И он в самом деле подошел к той куче и начал разгребать там ветки. Под ветками открылся ход. Прошу, сказал Яков, за мной, — и пошел первым. Иван пошел за ним. Так они прошли шагов с десяток, после отдернули кусок рогожи — и очутились в как бы такой хижине, или в пещере, в куче хвороста. Там было, конечно, не очень светло, но тем не менее Иван сразу увидел, что напротив него, в дальнем углу, сидит, по-татарски подобрав под себя ноги, какой-то толстый седой человек в сером крестьянском армяке. Увидев этого человека, Яков, который шел первым, остановился, снял шапку и сказал: — Вот мы и прибыли, ваше сиятельство. Вот тот самый человек. — А! — грозно сказал его сиятельство. — А ну покажись! Иван выступил вперед и тоже снял шапку. — Хорош! — насмешливо сказал его сиятельство. — Прямо Вильгельм Телль какой-то. — Потом строго велел: — Садитесь. Иван и Яков сели, тоже по-татарски. Его сиятельство сказал: — Благодарю за службу, это первое. Но вот сразу второе: рановато вы пришли. Ибо пока что ничего не получается. Там новый караул поставили! И теперь там смена будет только в восемь вечера. — Тут он полез за пазуху, достал часы, откинул крышку, посмотрел, сказал сердито: — Туча времени еще! Так что, с одной стороны, что нам теперь здесь делать? А с другой — рассмотрим диспозицию. — После строго осмотрел Ивана и так же строго продолжил: — Так вот, господин ротмистр, я, кроме вашего звания, больше ничего о вас не знаю, ни кто вы такой, ни откуда. Да и зачем мне это знать? Я знаю только одно: что та высокая особа, о которой сейчас столько везде говорят, вам доверяет. Одному вам! Это, конечно, удивительно, ну да эта особа, этот господин вообще буквально соткан из сплошных противоречий. То он утверждает, что совершенно здоров, то срочно требует лекаря. Послали за лекарем. За Лидерсом, насколько мне известно. И этот Лидерс завтра будет здесь. Лидерс спешит. А он ему уже не нужен! И мало этого, он — сами знаете, кто — говорит: мне ничего от вас не нужно, совсем, а я прошу, нет, я просто требую от вас Нарцисса, это его негр-слуга, Амати, это его скрипка, Лизу, это его сами знаете кто, и еще эту мерзкую шавку Дружка. Да-да, сударь, мерзкую. Потому что вы просто себе представить не можете, насколько это гадкая, злобная, мерзкая тварь. Или вы что, о ней иного мнения? Да или вы ее что, лично знаете? — Знаю, — сказал Иван. — И что? — спросил его сиятельство. — Да как будто тихий песик. — А! — радостно сказал его сиятельство. — Вот оно что! Вот где разгадка! Его песик вас признал! Вот почему он вам так доверяет. Ну что же, спешу вас поздравить. Вы первый, кого эта тварь не закусала. А теперь вы рискуете еще и… Да! — Сердито сказал он. — Времени у нас, конечно, предостаточно, однако это не означает, что мы должны транжирить его на всяких Дружков. Так вот, господин ротмистр, возвращаясь к нашей службе, говорю: поручение вам дано наисерьезнейшее. Та бумага, которую вы должны будете подать не будем повторять кому, уже в условленном месте. И там же фонарь. Когда будет смена караула, мы проводим вас туда и, если будет нужно, отвлечем солдат на себя. А вы беспрепятственно войдете туда и, будем надеяться, так же беспрепятственно проследуете дальше, до нужного места. А это уже в самом конце, это наверх, второй этаж. Вы понимаете, о чем я веду речь? Иван подумал и сказал: — Понимать-то понимаю. Но раньше мне про это никто ничего не говорил. Его сиятельство нахмурился и помолчал… После сердито сказал: — Ладно! И еще раз обернулся, пошарил среди веток и вытащил оттуда сперва помятый лист бумаги, а потом свинцовый карандашик. А Яков подал дощечку. Его сиятельство положил эту дощечку себе на колени, на дощечке разложил бумагу и начал рисовать чертеж. Вначале он начертил пруды, затем парк, затем дворец. Его сиятельство чертил довольно ловко, чертил и кратко объяснял, дальше чертил и дальше объяснял. После того как чертеж был закончен, его сиятельство прямым крестиком пометил то место дворца, в котором содержится известная особа (так он сказал), а после косыми крестиками начал помечать все те места, в которых были расставлены караулы. Таких мест оказалось немало, Иван только головой покачивал, когда его сиятельство начинал отмечать новый крестик. Но вот наконец крестики кончились, и в одном месте парка (пока что неважно, в каком) его сиятельство нарисовал кружочек, сказал, что это грот, и начал проводить от него прерывистую линию к дворцу. Это, он сказал, подземный ход. — А это караул, — добавил он, — их новый пост, — и возле самого кружка добавил еще один косой крестик. Иван посмотрел на его сиятельство. Его сиятельство самодовольно усмехнулся и сказал, что в восемь часов должна заступать другая рота, новая, и у них там есть свои, точнее, наши люди. — Но это уже моя забота, — сказал его сиятельство, — как нам с ними быть. А ваше, господин ротмистр, дело, это только взять известную бумагу и доставить ее вот сюда, — и он указал на прямой крестик посреди дворца. — А там сколько охраны? — спросил Иван. — И где она стоит? В ответ на это его сиятельство перевернул бумагу и начал на ее обратной стороне рисовать чертеж дворца, достаточно подробный. После отметил крестиком ту комнату, в которой, как он опять выразился, содержится известная особа, а после, и это уже в другой комнате, сбоку, нарисовал еще один кружок и сказал, что здесь снизу выход и здесь же вынимается кирпич, и здесь же его будут ждать. — Кто? — спросил Иван. — Наши люди, — сказал его сиятельство и сразу же вокруг прямого крестика начал рисовать косые. Иван молчал. — Видишь, сколько их, — сказал его сиятельство. Иван кивнул. — Но ты не обращай на них внимания, — продолжал его сиятельство. — Среди них тоже есть наши люди. — Маслов? — спросил Иван. — Да, и он, — сказал его сиятельство без всякой охоты. — А где Митрий? — вдруг спросил Иван. — Какой еще Митрий? — ненатурально удивился его сиятельство. — Просто Митрий, человек такой, бывший солдат Петра Великого, — сказал Иван. — Он с ним был в Персидском походе. А после здесь был, в сторожке, за большим прудом. Три дня тому назад. — А! — сказал его сиятельство и даже улыбнулся с облегчением. — Так то когда было. Три дня. А мы тут только со вчерашнего. А те, которые здесь были до нас, вчера сменились и уехали. — А Митрий с ними был? — спросил Иван. — Нет, — сказал его сиятельство, — солдата с ними не было. Там были только офицеры, тоже двое. — Ладно, — сказал Иван и отвернулся. — Э! — сказал его сиятельство. — Ты мне это брось! Смотри сюда. И стал тыкать пальцем в чертеж и опять объяснять, где что и как устроено и где какие караулы, но все это ерунда, господин ротмистр, потому что это же живые люди и не без слабостей. — Не без! — еще раз сказал он и даже негромко засмеялся. И добавил: — И они же все время меняются, всем им только поскорее отдежурить и бегом оттуда. Ведь же никто не хочет там мараться, все же они прекрасно понимают, что это оно только сегодня так, а завтра все может перевернуться, точнее, вернуться на прежнее место, и тогда как им быть? И поэтому там только кто опасен? Только Алешка Орлов. Ну, и еще этот бойкий малый, Алешкин приспешник, Гришка Полуношников. — Потемкин, — сказал Яков. — Пусть и Потемкин, — повторил за ним его сиятельство, — можно и так. Но он все равно еще сопляк. И нам только одного Алешку надо опасаться, не зря у него такая рожа разбойничья, располосована до уха. Так что только его обойти — и дело сделано. А ему что, много надо? Нет! Ему налить побольше или сдать карту покрупнее, чтобы он увлекся, — и мимо него на подпись! И чтобы непременно только вы ее подали, ту бумагу, господин ротмистр. Вот сюда, через дыру, через вынутый кирпич. И вы туда бумагу, Маслов ее возьмет и передаст. Маслов вас лично знает, он только от вас ее возьмет. Так было оговорено. Ну, или, в крайнем случае, возьмет мосье Брессан вместо него. Брессана знаете? Иван молчал. — Узнаете! — сказал его сиятельство. — Потому что иначе уже некогда. Этот Алешка совсем озверел. Я за него даже боюсь. Но ладно! Все это глупости. Это сейчас у нас так. А после, когда вы вернетесь оттуда, так сколько после будет смеху! Потому что вы еще увидите, как они все, эти верные Катькины люди, сразу совсем другое запоют, когда сами знаете кто в Сенате нашу бумагу предъявит. И не сомневайтесь, будет так. Вы оба просто еще совсем молодые, и вы такого еще не видели. А я видел. И не раз! Сперва видел, как Бирона взяли за холку и пинками под зад из царских хоромов выперли. А после так же выпирали Миниха. А после и саму Анну Леопольдовну, Иванушкину матушку. Неприлично так про даму говорить, к тому же еще и покойницу, но что было, то было: под зад ее коленкой вниз по лестнице! — И тут его сиятельство даже взмахнул было рукой… Но тут же то ли спохватился, то ли еще что, однако быстро убрал руку, виновато улыбнулся и сказал: — Нет, это я, конечно, больше для поэзии, для красоты образа добавил. А на самом деле никто ее и пальцем не посмел тронуть, а все было чинно. Брат… Ну, брат мой, да, первым заходит к ним в опочивальню, а они лежат и почивают. Брат к ней наклоняется и говорит: ваше высочество, вы арестованы. А она, Иванушкина матушка, правительница Анна Леопольдовна, на моего брата смотрит и ничего еще не понимает. Тогда он ей так говорит: ваше высочество, ее величество Елизавета Петровна изволила вам передать, что вы арестованы. И вот тут она сразу как вскочит да как начнет орать! И брату в лицо когтями как вопьется!.. Или это он опять приврал? — как будто бы сам у себя спросил его сиятельство. И замолчал, задумался. И Яков тоже молчал. А Иван вдруг спросил: — А как вы считаете, Иоанн Антонович имеет право на престол? Его сиятельство подумал, усмехнулся и сказал: — Я считаю! — И продолжил: — Мало ли что я считаю. А сам он что считает? Молчите? Вот то-то и оно, что никто этого не знает. А хоть бы он и считал, что имеет, и что с того? Но он же один, у него нет партии. А без партии он власти не получит. Вот как его бабка Анна Иоанновна: вначале была кто? Приживалка, больше не бери. А после получила партию — и сразу получила власть! А Дмитрий Михайлович с Василием Лукичом, то бишь Голицын с Долгоруким, эти, Боже мой, всесильные верховники, которые ее, эту, как они думали, приживалку пригласили посидеть куклой на троне, они, напротив, сразу партии лишились, потому что она к ней перебежала, — и они сразу лишились всего. И сразу все вверх тормашками! Салтыков порвал кондиции, или пункты, или, как теперь это стало модно называть, конституцию, и куда надо с ней сходил. Вот тебе и вся их шведская модель в отхожем месте оказалась. Так что вот как бы, — и тут он стал очень серьезным, — вот как бы и сейчас не получилось бы чего похожего. Потому что много говорим, но мало делаем. И еще потому, что какая она шведская?! Зачем людей этим пугать? Не нужна им шведская, а им нужна исконная! А она разве не исконная? Я же Никитке говорил: ограничение самодержавия на Руси было всегда, не надо ничего нового городить и из-за моря везти. Ибо как было раньше? А вот как: сперва бояре что-нибудь придумают, а после царь постановит. Это как при Алексее Михайловиче было. А при сыне его Петре Алексеевиче как? Царь, а после император, и Сенат вместе думали думу. А когда император куда уезжал, он на кого власть оставлял? На жену, на дочерей? Нет, опять же на Сенат. И даже когда уже лежал при смерти, он даже тогда — и я так думаю — нарочно никакого завещания не написал, чтобы, сама по себе, власть после него перешла к Сенату. То есть вот кто первым задумал самодержавие ограничить! Так что когда Дмитрий Михайлович с Василием Лукичом составляли кондиции, они делали верное, правое дело, зря их Пашка Ягужинский предал, пес. И все равно же по-ихнему вышло! Потому что никакого самодержавия все равно не получилось. Потому что кто правил? Не одна царица Анна, а вкупе с Бироном со товарищи. А после не одна Елизавета, а вкупе с Бестужевым с компанией. И теперь тоже кто-нибудь найдется. Или найдутся несколько, а то даже и более, потому что никогда никому одному с этакой махиной не управиться, даже великий государь, и тот один не успевал, а опирался на Сенат. Ну так и давайте издадим такой закон, пересмотрим формы… Но тут его сиятельство вдруг замер, замолчал, после похлопал себя по груди, полез за пазуху, достал часы, посмотрел на них и сказал: — О! Скоро уже начинать! — и опять развернул лист и стал показывать и объяснять Ивану, как устроен ход, как по нему идти, как подниматься на второй этаж и что там делать. Долго он это объяснял, с повторами, а после опять посмотрел на часы и сердито сказал: — Время пришло! И мы пойдем. Вставайте.ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ На высочайшую подпись
Говорят, что подземелья в Ропшинском дворце были устроены еще при его первом владельце, страшном князе Федоре Юрьевиче Ромодановском, которого сам царь Петр Великий опасался. Царь утверждал, что когда князь на него смотрит, то как будто крюк под ребро загоняет. Ну да это и неудивительно, ибо, как известно, привычка — это вторая натура, а князь Федор Юрьевич по долгу службы много лет заведовал печально известным Преображенским приказом, этаким пыточным тех лет департаментом, и это дело так любил, что даже у себя дома, в Ропше, в подземелье устроил тюрьму, в которой содержал особо дорогих ему преступников. Правда это или нет, никто теперь не знает, ибо после смерти князя никого постороннего у него в доме обнаружено не было. А вот подземелья и на самом деле открылись преогромные! И, что особо любопытно, от этих подземелий во все стороны вели подземные ходы разной длины и сохранности. Эти ходы оказались настолько сложны и запутаны, что до сих пор никому доподлинно неизвестна вся их протяженность, и это обстоятельство позволило кое-кому утверждать, что один из ходов ведет будто бы до самой Стрельни, а второй до Сарского. Но это, конечно, сильное преувеличение, ибо тот ход, который нам известен, заканчивается не так уже и далеко от дворца. Если вы хорошо помните тамошний парк и недавно выстроенный там фонтан Рушник, то вы представляете, о каком примерно месте я говорю. Рушник — это с одной стороны, а со второй… Однако мы слишком отвлеклись. К тому же наш герой, то есть Иван, ровным счетом ничего этого не знал. Да он и самого Ропшинского дворца до этого ни разу не видел. Правда, и на этот раз ему его увидеть тоже не пришлось. По крайней мере, снаружи. Потому что тогда было так: они все трое вышли из той горы хвороста и некоторое время шли лесом, потом — и это уже хоронясь — шли вдоль берега пруда и зашли в парк. Там его сиятельство вскоре велел остановиться, и они стояли, слушали, услышали барабан, это был сигнал к смене караула, и подождали еще. Потом его сиятельство сказал: пора! — и они пошли дальше. Шли гуськом, пригнувшись. Там было много кустов, идти было легко. Да и никто им там не встречался. После они, по знаку его сиятельства, опять остановились, а после, по его же знаку, легли. После немного проползли вперед, опять остановились и прислушались. Вокруг было совсем тихо. Тогда его сиятельство выпростал руку вперед и осторожно отвел ветку в сторону. Иван, а он лежал рядом с его сиятельством, увидел впереди себя, шагах в двадцати, грот, точнее, дверь в него. Дверь была красивая, решетчатая, а сам грот как будто бы ушел наполовину в землю, словно это очень древнее строение, еще с римских времен. А на двери был виден навесной замок. Но Иван знал, ему об этом уже было сказано, что замок перепилен, его просто берешь и снимаешь, входишь туда и идешь куда надо. Но пока идти было нельзя, потому что рядом с гротом, шагах в каких-нибудь пяти, стоял солдат, преображенский гренадер. Его сиятельство смотрел на солдата и хмурился. Наверное, подумал Иван, это не тот солдат, которого они ожидали увидеть. И Иван правильно подумал, потому что тут его сиятельство повернулся к нему и сокрушенно покачал головой. А после сдавил себе горло пальцами и закатил глаза. Иван понимающе кивнул. Тогда его сиятельство повернулся в другую сторону, к Якову, и толкнул его в бок. Яков пополз от них в кусты. Полз Яков очень осторожно, солдат ничего не слышал. А потом из тех кустов, куда уполз Яков, свистнула птичка. Солдат насторожился. Птичка еще раз свистнула, а после хрустнула ветка. Солдат сделал шаг вперед и даже выставил ружье. В кустах быстро-быстро зашуршало. Солдат — вод где дурень, подумал Иван — пошел к тем кустам. Подошел и стал рассматривать, что там. Как будто там жар-птица, сердито подумал Иван, или, еще подумал… Но дальше додумать не успел, потому что солдат вдруг молча и очень быстро рухнул вперед, в кусты, дрыгнул ногами и затих. А потом и его ноги быстро заехали туда же, то есть их кто-то заволок туда. Яков, конечно, а не кто-то. И стало совсем тихо. Давай, тихо сказал его сиятельство. Иван вскочил и, пригибаясь к земле, подбежал к гроту, снял замок, открыл дверь, вошел, закрыл, высунул руку наружу, навесил обратно замок, закрыл дверь совсем — и осторожно, но как только можно быстро пошел вперед, по каменному полу, было темно и душно, дышать просто нечем, а он шел, держась правой рукой за стену, искал поворот, нашел его и повернул… И, оступившись, упал. Сел, чертыхнулся и начал ощупывать вокруг себя пол. На полу ничего не было. Тогда он сдвинулся еще вперед, поискал еще и что-то нащупал. Это был фонарь. Тогда он стал искать дальше — и скоро нашел мешочек, в котором, как он знал, лежат трут и огниво. Иван развязал мешочек, после снял стекло с фонаря, добыл огонь, зажег свечу, вернул стекло на место, поднял фонарь и осмотрелся. Подземелье было, если можно так сказать, довольно ухоженное, Иван обычно видал худшие. Иван встал и поднял фонарь еще выше, после прошел вперед, увидел на стене условный знак, подошел туда, засунул руку в щель — и вытащил оттуда негнущийся холщовый пакет. Иван разорвал пакет и вытащил оттуда лист гербовой бумаги, развернул его, прочел: «передаю наследие свое сыну своему Великому князю Павлу Петровичу и благословляю его…» — и сразу же опять свернул, потому что стало страшно. Иван даже опустился на пол, сел, поставил фонарь рядом, убрал бумагу за пазуху… И когда убирал, то почувствовал, как быстро-быстро бьется сердце. Он тогда сдвинул руку дальше и нащупал портмонет, подумал о лежавшем в нем колечке… И тут же подумал другое — что Анюта бы ему сейчас сказала: Янка, что ты делаешь, зачем мне те Лапы, мне же нужен только ты живой! И заплакала бы сразу, она это может. А он когда в последний раз плакал, подумал Иван, он уже и не помнит, вот как! И это правильно, и дядя Тодар всегда говорил, подумал Иван дальше… Но тут же спохватился, что не до этого ему сейчас, а ему нужно спешить, ведь это же нешуточное дело: они караульного сняли! А если его скоро хватятся?! Да и там, на втором этаже, Ивана уже тоже, наверное, ждут! Подумав так, Иван поспешно взял фонарь, встал, осмотрелся и пошел вперед. Идти пришлось долго, потому что это только на чертежах всегда все просто, а на самом деле тут тебе и повороты, и ямы, тут и много всякого другого. Да и чем дальше Иван шел, тем теснее становился ход, а потом он еще начал раз за разом разделяться надвое, и нужно было не ошибиться, не свернуть куда не надо. А потом погас фонарь. Но это было уже в самом конце, перед скобами, поэтому Иван просто поставил погасший фонарь на пол, а сам полез вверх, по скобам. Скобы были крепкие, но узкие, сапоги на них сильно скользили. А после скобы кончились, Иван соступил в сторону, нащупал под ногой карниз и пошел по карнизу. Что было под карнизом, он не знал. А сам карниз был небольшой, длиной в сажени три, не больше. После него была площадка, по тамошним местам даже удобная, так как на ней можно было стоять без опаски — вокруг были стены. Иван остановился на площадке и прислушался. Откуда-то издалека будто бы раздался чей-то голос и сразу затих. Иван подождал еще, но голос больше не слышался. Тогда Иван стал шарить по стене — и нашарил крюк, вкрученный в один из кирпичей. Иван подергал крюк — и кирпич зашатался. Это хорошо, подумал Иван, значит, здесь все исправно. Значит, дальше будет так: нужный человек, скорее всего Маслов, перед ужином пойдет в кладовую, а это в том закутке, рядом с той известной комнатой, помеченной кружком, и в закутке у них шкаф с провизией, и колбасы там висят, и сундуки стоят, и прочее. И вот Маслов будет набирать провизию и стукнет, будто бы случайно, по этому кирпичу с той, с его стороны. Это условный знак, кирпич нужно сразу вынимать и делать уже свой условный знак. Тогда Маслов сует в дыру руку. В руку даешь бумагу. Рука убирается, Маслов уходит, ты ставишь кирпич на место и ждешь, когда тебе вернут бумагу. Но с бумагой не так просто! Там же с ней будет вот что: Маслов возвращается обратно и как будто начинает собирать ужин. Но государь вдруг говорит: нет, я еще не голоден, оставьте меня в покое! И почему от нее нет письма? Почему она молчит?! У меня нет аппетита. Я напишу ей письмо, новое, я буду жаловаться на вас, дайте мне бумагу, дайте перо! Они засмеются и дадут. А если не дадут, тогда он начнет перед ними заискивать, говорить, что он на все согласен, он подпишет любые ее требования, только пусть она позволит ему поскорее выбраться из этого ужасного места, где его каждую ночь донимают страшные привидения замученных здесь людей, он готов хоть в Шлиссельбург, только бы скорей отсюда! И опять потребует бумагу и перо. И вот тут они уже ему это дадут. Он сразу сядет за стол, возьмет бумагу и начнет требовать теперь уже вот чего: чтобы ему не заглядывали через плечо, он не хочет, чтобы они знали, о чем он пишет государыне, потому что это, в конце концов, их семейное дело, и не нужно скалить зубы, граф Орлов! Какой вы, к черту, граф! Отвернитесь, я сказал! И Алексей Орлов еще сильней оскалится и демонстративно отвернется, скажет, что он плевать хотел на всю эту потеху и на тебя, урод! Вот как он ему ответит! И повернется к Маслову, а Маслов подаст ему полный стакан водки, Орлов поморщится, но тут ему один наш человек… Но как его зовут, его сиятельство говорить не стал, сказал, что какая разница, как его зовут. Да за такие деньги, он сказал, которые ему за это плачены, любой на это согласился бы! На что, спросил Иван. Да на то, ответил его сиятельство, что этот человек поднимет свой стакан и чокнется с Орловым, всего-то делов, и они начнут пить. А в это время Петр Федорович (так его назвал его сиятельство) быстро подпишет манифест, Маслов сгребет его со стола, спрячет себе под кафтан, а Орлов с тем человеком все еще будут пить, а Петр Федорович громко постучит пером в чернильницу и начнет писать примерно вот что: Мадам! Ваше величество! Если вы совершенно не желаете смерти… Ну и так далее, и это, конечно, по-французски, он же ей всегда пишет по-французски, так и теперь будет писать. А Орлов с тем человеком спросят закусить. Маслов скажет, что он мигом, и опять пойдет в тот закуток, сунет манифест в дыру, сорвет с крюка круг колбасы, пойдет с ним обратно, а там… Но что будет там дальше, это Ивану уже совершенно неважно — Иван должен будет сразу срочно возвратиться, пока не хватились караульного. Вот о чем думал Иван, стоя на той площадке и прислушиваясь к голосам, которые теперь почти уже не умолкали. Но о чем именно там говорили, Иван не слышал. Как не слышал Иван и другого — шагов Маслова. То есть Маслов не шел и не шел! Что с ним такое случилось? Или его что, перекупили, что ли? Вот о чем уже думал Иван, потому что, как ему казалось, он стоит здесь уже очень долго, может, час, а может, и все два, у него же уже ноги затекли! А Маслова все нет и нет. А там, в известной комнате, разговор идет все громче и громче. И вот уже, Иван это слышит хорошо, государь почти кричит: канальи! А вот он еще что-то добавил, тоже очень громко, но не по-русски и не по-немецки, а по-французски, что ли? И эти ему в ответ уже тоже что-то кричат! Как бы не было какой беды! Подумав так, Иван не выдержал, рванул крюк и вытащил кирпич. И ему сразу стало все слышно. А слышно было вот что: вначале чей-то незнакомый голос очень громко и очень серьезно сказал: — Довольно. Вы и вы! И вы, Петр Федорович, тоже! Вы тут не орите. Тут же не казарма и не голштинский трактир. А это царский дворец, между прочим. — А я, между прочим, тоже царь! — в тон ему ответил государь. — Царь! — повторил тот же голос. — Да какой ты царь! Ты немецкий урод, вот ты кто. И тот голос рассмеялся. И еще кто-то рассмеялся вместе с ним. Зато еще один, уже третий голос, очень серьезно сказал: — Господа! Господа! Так нельзя. И я вообще не понимаю, с чего все началось. Да с сущего пустяка. Не так ли, Петр Федорович? — Нет, это совсем не пустяки! — ответил государь сердито, но уже не так громко, как прежде. — Это грубое насилие, а не пустяки. Я сказал, что я не хочу пить. А почему он меня заставляет?! — Помилуйте, да разве я заставлял?! — удивился первый голос. — Алексей Григорьевич, вот вы, как бесстрастный свидетель, скажите: разве заставлял? — Ну, не знаю! — ответил Алексей Григорьевич (Орлов — сразу узнал его Иван). — Заставлял! — Насмешливо передразнил Орлов. — Что-то я не узнаю вас, дражайший Петр Федорович. Или вот вам уже и наша водка поперек горла становится? Да-да, вот вам уже и даже наша водка не по нраву, вот до чего вы Россию не любите. — Да при чем здесь Россия?! — воскликнул крайне раздраженный государь. — Я же про водку говорю. — А водка русская! — вскричал Орлов. — Почему вы русской водкой брезгуете?! — Да не брезгую я! Я же одну рюмку выпил! — Ну так выпей и вторую, черт! — Я не хочу! — А перед ужином! Для аппетита! — Какой аппетит? Она отравлена! — Что? Как ты сказал?! — Яд! Там яд! — закричал государь. — Вы хотите меня отравить! Негодяи! Я не хочу! — Пей! — Нет! — Пей! Держите его! — А! — Держите! Дави!.. А дальше было уже совсем ничего не понятно. Крик там стоял просто невообразимый! И еще грохот был! Топот! Потом криков почти совсем не стало, да и грохот прекратился, была только одна возня какая-то. А потом и возня стихла. Потом чей-то незнакомый голос очень испуганно воскликнул: — Господи! Как теперь быть-то? Никто ему ничего не ответил. После Орлов мрачно сказал: — А вот так и быть! Потом тот самый первый голос, который все начал, спросил: — А где этот Нил? — Какой Нил? — спросили у него. — Ну, его лакей, — ответил этот голос. — Мне, что ли, теперь с ним возиться? А я покойников боюсь. — Не крестись! — строго сказал Орлов. — Он не православный был. Чего ты крестишься?! — И добавил уже грозно: — Чего ты крестишься, скотина?! А где этот дурак, подавало его?! А ну ищите! Время идет, а вы стоите, будто… И добавил резко неприличное. Там тогда сразу затопали. Кто-то из них подошел к закутку. Иван сразу сунул кирпич в стену. Стало тихо. Иван постоял, перекрестился, после постоял еще, послушал, но уже ничего толком расслышать было невозможно… И вдруг подумал, что здесь уже ничего не поделаешь, а вот там остались Яков и его сиятельство, и их могут убить. Надо туда спешить! И он развернулся и пошел к карнизу, очень быстро.ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ Колечко
Идти обратно по карнизу было совсем легко. Так же легко было спускаться по скобам. А спустившись, Иван сразу наклонился, на ощупь поискал фонарь, нашел его и засветил, встал и пошел дальше. И довольно быстро, только один раз ненадолго сбившись, пришел к выходу. Точнее, самого выхода видно тогда еще не было, а это просто от него уже потянуло свежим воздухом, и Иван остановился и прислушался. Было совсем тихо, казалось, можно было идти дальше. Но что такое тихо, Иван знал хорошо — когда засада, тоже всегда тихо. А тут он еще и с фонарем, значит, взять его будет совсем легко, думал Иван, продолжая прислушиваться. И вот, думал Иван, он сейчас выйдет, и его сразу возьмут, обыщут и найдут манифест. И за такое сразу плаха! И не только одному ему, но и тому, кто этот манифест писал, и тому, кто его сочинял, и кто советовал, и также всем тем, кто об этом знал, но не донес. Подумав так, Иван присел, поставил фонарь на пол, открыл боковое стекло, после достал из-за пазухи манифест и поднес его к свече. Манифест горел долго и плохо, потому что, во-первых, он был писан на плотной бумаге, а во-вторых, потому, что тяги там почти что никакой не было, Иван боялся, что свеча погаснет. Но не погасла, манифест сгорел весь. Иван разметал пепел, после загасил фонарь, убрал его к самой стене, встал и пошел дальше, теперь уже очень медленно, потому что ничего не видел. И ничего он тогда о манифесте не думал, и о Павле Петровиче не вспоминал, и ни о его отце, ни об Орлове, а только думал одно: надо скорей выйти, и чтобы его там никто не караулил! Так оно там и оказалось: когда Иван наконец добрался до той решетчатой двери и посмотрел через нее наружу, то ничего подозрительного не увидел. И так же ничего особенного не было слышно, то есть ночь была как ночь — спокойная. Но все равно Иван еще сперва немного подождал, потом перекрестился, потом осторожно открыл дверь и, пригнувшись к самой земле, выбрался наружу, быстренько перебежал через поляну и сразу занырнул в кусты, в те самые, в которые вечером упал караульный. Но теперь там никого уже не было — ни караульного, ни Якова, — Иван присел там, затаился и опять прислушался. От дворца как будто бы шел шум. Ну еще бы им теперь не шуметь, очень мрачно подумал Иван. И он еще раз перекрестился, а после даже начал читать «Отче наш…» Но тут вдруг от них ударил барабан, били неправильно, три дроби. Ох, прихватило же их, торопливо подумал Иван, вскочил и побежал по парку. Бежал и думал, как бы ему там не заблудиться, теперь же совсем темно, а он еще очень спешит. Но тут прямо впереди, и не так уже и далеко от него, шагах, может, в трехстах, бабахнул ружейный выстрел! Иван сразу остановился. Впереди больше не стреляли, но зато там теперь слышались чьи-то очень громкие голоса. Иван сунул руку за пазуху, нащупал портмонет, а в нем колечко, после убрал руку и еще постоял, и хоть впереди продолжали кричать, он, еще раз перекрестившись, пошел туда, прямо на крики. Он шел осторожно, хоронясь. Крики впереди затихли, теперь там просто очень громко разговаривали. А потом и разговор затих, а просто был какой-то непонятный шум. Иван подходил к тому месту все ближе и ближе, он уже видел свет факелов между деревьями. Потом он уже видел солдат, их было с десяток, не меньше. Иван повернул в сторону и начал обходить солдат. Потом Иван зашел в кусты, и лег на землю, и пополз к солдатам. Он полз и смотрел вперед. Полз до тех пор, пока вдруг не увидел лежащего на земле человека. Это был его сиятельство. Голова у него была вся в крови. Она была прострелена, его сиятельство был мертв. Его труп лежал на траве посреди поляны. И там же, на той же поляне, стояли вольно и без строя с десяток солдат, все это были преображенцы, первый батальон, гренадеры. И с ними был их офицер, а перед ним стоял Яков без шапки. Офицер держал Якова за грудь, за рубаху, и тряс его как грушу. Яков молчал. Губы у Якова были разбиты в кровь, нос тоже. — Скотина! — громко сказал офицер. — Отвечай! Яков что-то негромко ответил. Офицер опять сказал: — Скотина! — и ударил Якова кулаком по щеке. Иван поморщился и подумал, что у него ничего с собой нет, даже засапожного ножа, и у Якова, наверное, тоже. — Отвечай, кому сказал! — закричал офицер. — Куда вы его девали? Где он? Куда ушел? Когда?! Яков опять ему что-то ответил и развел руками. Офицер опять его ударил. Иван зажмурился. Яков тут же громко крикнул: — Господин офицер! Я не знаю! Господин офицер! Я… — и дальше уже что-то по-французски. — Врешь! — еще громче крикнул офицер, не дослушав его. — Врешь! — и еще раз ударил, очень крепко. Иван открыл глаза. Яков теперь уже сидел на земле, закрыв лицо руками. Рядом лежал мертвый его сиятельство. А над ними обоими стоял офицер и очень гневно говорил: — Заговоришь! Никуда не денешься! И твой приятель, если захочу, тоже не будет молчать! У меня и не такие говорили, а этот еще даже теплый! И тут со стороны дворца послышался собачий лай. Там лаяла целая свора, и этот лай становился все громче и громче. — О! — радостно воскликнул офицер. — Слышишь, скотина?! Вот сейчас мы и проверим, ты врал или нет! — и он обернулся на лай. А Иван сразу вскочил и быстро пошел прочь, а потом побежал. Сзади слышался лай. Лай приближался. Иван бежал все быстрей и быстрей, он помнил — впереди мостки через ручей, вот к ним он и бежал. А добежав, вбежал в ручей и побежал по нему, пробежал по ручью, может, с сотню шагов и только после этого выбежал на его другой берег и побежал дальше вдоль ручья до самого пруда, там вошел в пруд, прошел там по воде тоже немало, потом вышел на берег и пошел уже по сухому, по лесу. А бежать он уже не мог, потому что совсем выбился из сил. Да и собачий лай стал тогда уже почти не слышен. Но Иван все равно шел, не останавливаясь. Только когда он уже совсем выбился из сил, тогда остановился, сел под деревом, закрыл глаза и сразу же заснул. И тут же проснулся! Потому что совсем не спалось, голова просто огнем горела! И он пошел дальше. Шел он все медленней и медленней. Просто удивительно, как у него тогда силы быстро кончились. Вот просто вдруг не стало никаких сил, и все тут! Но он все равно шел. Шел только лесом, а через встречные дороги и тропки перебегал быстро, как волк по сторонам оглядываясь, и сразу забивался в чащу. И опять шел себе дальше. Уже ночь кончилась, стало светло, а он все шел и шел. Вот только куда было идти? В город, он понимал, идти ему нельзя, Яков уже все сказал, у Якова язык как помело, да они и так, без Якова, все знают. Поэтому, думал Иван, у него осталось только одно место, но и это еще не известно. Но он все равно шел к тому месту, шел как можно быстрей, потому что понимал, что и этого места он скоро может лишиться. Но что было, думал он, то было, и он ни о чем не жалел. Жалел он только об одном: что обещал Анюте быть сегодня утром у нее, да вот теперь никак не получается. Ну да чего только в жизни не бывает! И так он шел и шел и наконец дошел до Стрельни и там опять до того самого трактира, вошел туда, нет, даже просто ввалился как пьяный, но тут же собрался с силами, встряхнулся, прошел мимо прилавка в глубину, туда, где потемнее, и там сел опять за тот же самый стол, за которым уже дважды сиживал! Сел, снял шапку, положил ее рядом с собой и осмотрелся. Но так как время тогда было еще достаточно раннее, то народу там было немного. Люди сидели себе вольно, выпивали и закусывали и никакого внимания на Ивана не обращали. Иван повернулся к прилавку. Там стоял хозяин и, как это у них всегда заведено, протирал чистой тряпицей посуду. Иван полез в кошель, достал оттуда монету — кажется, пятиалтынный — и негромко постучал ею по столешнице. Хозяин отложил работу, вышел из-за прилавка и подошел к Ивану. Иван спросил один крючок и закусить. Хозяин кивнул и ушел. После пришел обратно и принес крючок и гречки с салом. Иван был очень голоден, он одним разом хлопнул крючок и начал быстро есть кашу. Хозяин стоял рядом, не уходил. Иван перестал есть и посмотрел на хозяина. Хозяин спросил: может, еще чего принести или просто повторить. Иван сказал: — Нет, повторять пока не надо. А мне надо вот что. Рубль хочешь заслужить? — Хочу, — сказал хозяин. — Только смотри! — строго сказал Иван. — Я после вернусь и проверю. И если что, ох, тебе будет! Хозяин смотрел на Ивана и ничего не говорил. Тогда Иван еще подумал и сказал: — Это дело простое. Я только что из Петербурга. И я очень оттуда спешил. А у меня там осталась одна, понимаешь? И я ей не успел кое-чего передать. Так вот, у тебя есть кто-нибудь, чтобы туда сбегать и это снести по адресу? — Смотря что снести, — сказал хозяин. — Вещицу мелкую, — сказал Иван. — Колечко для одной девицы. Ну? — Покажи, — сказал хозяин. Иван сердито хмыкнул, полез за пазуху, достал портмонет, а после из него достал колечко и повертел его в руке так и сяк. — Красивое! — сказал хозяин. — Ну так! — сказал Иван. — И ты не бойся, оно не краденое, а это я его вчера в карты выиграл. — Свезло тебе, — сказал хозяин. — Ну! — только и сказал Иван. После спросил: — Так пошлешь кого? Ну, говори! И это за рубль серебряный. Рубль прямо сейчас! Хозяин пожевал губами, обернулся и сделал вот так вот пальцем — поманил. И сразу из двери в кухню вышел мальчишка лет десяти, но все равно уже сильно похожий на хозяина. Хозяин сказал: — Это Федька, мой старший. — Добро, — сказал Иван. После показал Федьке колечко и сказал: — Слушай внимательно! Это колечко надо срочно отнести вот куда: Санкт-Петербург, улица Литейная, от вас по правой стороне, после шляпной лавки Расторгуева, там над дверью шляпы нарисованы, пройдешь еще три дома, дальше будет трехэтажный дом с белым высоким крыльцом, это дом бригадира Машкова, зайдешь за него за угол и повернешь во двор, первый отдельный вход, спросишь внизу Анюту, и когда она выйдет, ей это передашь, и больше никому, и скажешь: это от Ивана — и больше ничего не говори, сразу беги, понятно? И за это рубль серебром! А теперь повтори! Федька повторил, ни разу не ошибся. — Головастый! — одобрительно сказал Иван, после убрал колечко в портмонет и отдал портмонет Федьке. После полез в кошель, достал оттуда рубль, рубль был новый, с Петром Третьим, и передал его хозяину. Хозяин взял рубль, рассмотрел его и усмехнулся. После сказал Федьке: — Беги. Федька сунул портмонет за пазуху и быстро пошел к входной двери. А Иван велел подать еще один крючок и еще каши. Хозяин кивнул и ушел. Второй крючок Иван пил с расстановками. Вторую кашу тоже ел уже не быстро. Да и на душе уже было спокойно. И еще: ни о чем думать, а тем более вспоминать, не хотелось. Иван думал только об одном: этот допью и возьму еще третий, а там будет видно. Но получилось по-другому: хозяин опять вышел из-за прилавка, подошел к Ивану и тихо сказал: — Ваше благородие! Иван вздрогнул, но головы не поднял, то есть сделал вид, что будто не расслышал. Тогда хозяин сказал так: — Ваше благородие, они опять приехали. Это те самые люди, которые сюда уже третий раз приезжают и всякий раз про вас спрашивают, ваши приметы называют. Что им сказать? Иван поднял голову и посмотрел на хозяина. У хозяина лицо было совершенно такое же, как и прежде, — оно не улыбалось и не хмурилось. — Так! — сказал Иван. — Понятно! А где мое колечко? — А про колечко вы не беспокойтесь, ваше благородие, — сказал хозяин. — Колечко здесь ни при чем. Колечко Федька отнесет, куда надо. А не отнесет, я ему голову оторву. Вот как на духу говорю! — Благодарю, — сказал Иван. — А эти люди что? — сказал хозяин. Иван спросил: — Где они? — Во дворе. — Тогда скажи: сейчас доем и выйду. Хозяин развернулся и пошел, вышел во входную дверь, к тем людям. А Иван доел кашу, допил крючок, утерся, полез в кошель, выгреб оттуда все, что там было, и высыпал горкой на стол. После встал и даже не крестясь — потому что разве здесь открестишься?! — вышел следом за хозяином во двор. Во дворе стояла здоровущая четырехместная карета, запряженная шестериком, а возле нее стояли офицеры гвардии. Никого из них Иван не знал, только одного Алексея Орлова. Орлов тоже сразу, конечно, узнал Ивана, радостно заулыбался и, выступая Ивану навстречу, воскликнул: — Иван! Вот ты мне и попался наконец! А то я уже и не чаял с тобой свидеться! — И тут же добавил своим: — Обыскать! Ивана кинулись обыскивать, а он стоял ровно и смотрел на Орлова. Орлов, и это теперь уже безо всякой улыбки, быстро спросил: — Был там? — Где? — спросил Иван. — А! — хищно сказал Орлов. — Ну, ладно! Сажайте! Ивану сразу завернули руки за спину, завязали глаза черной тряпицей и повели к карете. Вот и все, думал Иван, ну да и ладно, чего теперь себя корить, все равно ничего не изменишь.ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ Тысяча душ
Ехали они недолго, меньше часа. И приехали не в Петербург, а в какое-то довольно глухое место, может, на чью-нибудь дачу. Или даже опять в Ропшу, в тот дворец. Так это было или нет, Иван не знал, потому что повязку у него с глаз не снимали. И везли его, конечно, тоже безо всяких разговоров. С ним были трое в карете. Они, эти трое, и между собой ни о чем почти не говорили, только кратко «да», или «нет», или «нет, не забыл». Иван вначале к ним прислушивался, ждал, что начнется разговор, но после понял, что сейчас с ним никакого разговору не будет, а разговор будет только потом, когда приедут, и разговор известно с кем и известно о чем. Но думать об этом, если честно, очень не хотелось, и Иван ждал только одного — чтобы они скорей приехали, а там будь что будет. Так что ничего удивительного в том нет, что когда они наконец остановились и им открыли дверь, Иван сразу вышел из кареты и начал дышать полной грудью. Ему было хорошо. Но тут послышались шаги, потом кто-то хмыкнул — и Иван сразу узнал, что это Орлов, и не ошибся, потому что тот громко сказал: — С приездом, ваше благородие! — Благодарю, — сказал Иван, а про себя подумал, что Орлов крепко пьян. И точно: Орловрассмеялся так, как всегда смеются крепко пьяные люди, — громко и глупо, — и сказал уже такое: — Рано ты меня благодаришь, приятель. Вот когда живым отсюда выйдешь, и если еще выйдешь, вот тогда будешь благодарить. — А с чего это мне вдруг не выйти? — сказал Иван. — А что, вчерашнее уже забыл?! — спросил Орлов. — А что вчерашнее? Орлов молчал. Потом очень сердито сказал: — Ладно. У меня тут много других дел сейчас. И ты знаешь, каких! Но если я их переделаю, опять приду к тебе, а ты опять будешь молчать… Тебе тогда не жить! — и тут же велел своим: — Ведите! Ивана взяли под руки и повели. Ввели в дом и повели по коридору, потом свели вниз по лестнице и повели по уже другому коридору, потом открыли дверь и завели еще куда-то, оставили стоять, а сами вышли и закрыли за собой дверь. И слышно было, что совсем ушли. Иван снял повязку и осмотрелся. Это была какая-то мрачная каморка, в одном углу лежанка, в другой табурет, на табурете кружка. Над табуретом, и это уже под самым потолком, зарешеченное окошко. Напротив окошка обитая железом дверь. Справа от двери отхожий угол. И это все. Нет, не совсем: на лежанке тюфяк, на тюфяке одеяло, и вот теперь точно уже все. Иван подошел к лежанке, сел на нее, еще раз осмотрелся и подумал, что в ордонанс-гаузе в Кенигсберге, где он однажды сидел, было попросторнее и посветлее. Ну так там же Европа, подумал Иван и прилег на лежанку. И там, думал он дальше, остался Мишка, его верный денщик. И Мишка должен был отвести Бычка к Феликсу, чтобы тот его посмотрел и поправил. И уже сколько времени прошло, как Иван оттуда уехал, больше двух недель. Бычок, наверное, уже давно здоров, Мишка его теперь каждый день выводит прогуляться, потому что нельзя допускать, чтобы лошадь застаивалась, особенно боевая лошадь. Но Мишка такого не допустит, Бычку будет хорошо. А когда у Мишки кончатся деньги, он знает, где их взять, ему было указано, и Мишка не пропадет. А когда отсюда к ним придет бумага и Мишке скажут… Ну, известно, что скажут, говорят всегда одно и то же!.. То и тогда Мишка не пропадет, думал Иван, потому что Жуков всегда завидовал Ивану и говорил: если тебя убьют, я твоего Мишку к себе возьму, а своего дурака выгоню. Вот, значит, как Мишкина судьба дальше устроится, думал Иван, то есть за Мишку можно не беспокоиться. Да Мишка и один бы не пропал, Мишка хитер! И Мишка всегда говорил: ваше благородие, зачем вы вчера так высовывались, а если вдруг пуля? А пуля первых любит, ваше благородие! Чужая пуля — первых, а своя — последних. Поэтому вот вы бы, ваше благородие… А Иван всегда, когда такое слышал, грозно восклицал: молчи, собака! И Мишка замолкал. Ну и что? А вот теперь Жуков возьмет его к себе, и он будет пить водку и посвистывать. У него же один зуб выбит, левый верхний впереди, и он хорошо свистит от этого. А Ивану что? И сомневаться даже нечего! Потому что если они даже государя не помиловали, то чего им теперь перед каким-то ротмистром смущаться? От ружья ремень отстегнут, на шею набросят, вот сюда упрутся и потянут. То есть легче легкого! Тут даже Павлу Петровичу дай… И Иван замотал головой и нахмурился, потому что вспоминать о Павле Петровиче ему очень не хотелось. И о безымянном его сиятельстве тоже. И о Якове, и о Маслове, и о Семене, и об Иоанне Антоновиче, и даже о плохо запомнившемся ему гвардии солдате Ефреме Голубчикове, которого он в первый день возмущения проткнул шпагой в расположении Измайловского полка. За что проткнул? За то, что вышеупомянутый Голубчиков выполнял команду своего непосредственного командира. Так что еще слава Богу, что оный Ефрем жив, потому что кто-то говорил — а кто именно, Иван уже не мог вспомнить, — что Ефрем лежит в лазарете, выздоравливает и никакого зла на Ивана не держит. Потому что он тоже, наверное, прекрасно понимает, что и Иван не сам же по себе на него кинулся, а тоже чей-то приказ выполнял. А без приказа Иван разве бы стал кидаться? Нет, конечно! Без приказа он подал бы рапорт об отставке и уехал бы к себе, в свои Лапы, вместе с Анютой, конечно, и вот только там, и уже без приказа, он на Хвацкого бы кинулся! Потому что там уже не по приказу, а по семейному обычаю действуешь. И действие одно: с вечера собираешь гайдуков и велишь накрыть им стол, после сидишь с ними всю ночь и выпиваешь, а дозорные сидят на крыше и зорко высматривают, не появился ли где Хвацкий со своими помогатыми. И как только такое высмотрят, сразу отправляют человека вниз, к столу, предупредить… Ну и так далее. И об этом Иван больше всего думал — о том, как они будут в следующий раз отбиваться от Хвацкого. Потому что как иначе! Не думать же о том, как его завтра будут душить ружейным ремнем. Или ствол ко лбу приставят, скажут: лети, душа! — и выстрелят. Или еще чего-нибудь похожего придумают. То есть о чем только тогда Иван не думал! А потом заснул. Во сне ему снился Орлов, Орлов спрашивал: вспомнил? Иван отвечал: нет. И Орлов в него стрелял, Иван падал, Орлов подбегал к нему и помогал ему встать, приставлял спиной к стене, отходил на пять шагов, поднимал пистолет, брал прицел и опять спрашивал: вспомнил? Иван опять отвечал: нет. Орлов опять стрелял… И так продолжалось долго. А потом Иван вдруг услышал, что в двери скрипит ключ. Иван открыл глаза. В каморке было темно. Открылась дверь, вошли люди. Кто они были такие, рассмотреть было невозможно, потому что тот, который держал фонарь, стоял позади всех, и поэтому Иван видел только их черные тени. Одна из теней строго сказала: — Поднимайтесь! Живо! Иван встал. Эти почти подбежали к нему, схватили его под руки и быстро повели вон из каморки. Потом так же быстро повели по лестнице, потом по коридору повели к входной двери. Возле входной двери стоял какой-то человек, похоже, Маслов, Маслов глупо улыбался. Ивана вывели мимо него во двор, подвели к карете, подсадили, сели рядом с ним, закрыли дверь, задернули на окошках гардины — и поехали. И опять они ехали молча. Этих, которые с ним сели, было трое, все они были в партикулярном платье, но повадки у них были офицерские, Иван это сразу заметил. В лицо он никого из них не знал. Они молчали. И только уже на половине дороги двое из них стали время от времени переговариваться между собой по-французски. Потом один из них сказал Ивану: — Да, прошу нас извинить, но есть такая формальность. Позвольте! И они повязали ему на глаза черную тряпицу. Тряпица была мягкая, Иван поднял руку, потрогал ее и понял, что это бархат. И тут же вспомнил, что Анюта очень любит бархат. А его везут на смерть!.. Но тут же тряхнул головой и подумал, что заранее думать про смерть — это дурная примета, и опять стал думать про Мишку, про Бычка, про Жукова. А их карета тем временем въехала в город и застучала по хорошей мостовой. Иван начал считать повороты. Получалось, что они едут в центр. Неужели в Петропавловку, удивленно подумал Иван, откуда такая честь? Карета вдруг остановилась, открылась дверь, Ивану помогли сойти, провели в подъезд, потом вверх по лестнице, потом по коридору, потом остановились, и кто-то сказал, что вы свободны, и те люди ушли, а подошел кто-то другой и начал чистить Иванов кафтан щеткой. Веселые дела, настороженно думал Иван, может, они ему сейчас еще и чарку поднесут? Но чарки не было. Зато тот, который чистил, остановился и сказал знакомым голосом: — Хорош! — Потом сказал: — Прямо иди, там дверь. Иван пошел прямо. И нащупал дверь. Голос сказал: — Сними повязку. Иван снял. — Входи! Иван вошел. И увидел будто очень скромный, но в то же время очень богато обставленный кабинет. Света в кабинете было мало, только на рабочем полированном красного дерева столе горела свеча в подсвечнике. И с той стороны стола, в темноте, была видна чья-то тень. А потом эта тень вдруг шагнула вперед… И Иван увидел государыню Екатерину Алексеевну! Она была в очень опять же как будто бы скромном, но на самом деле в очень богатом царском платье. Иван смотрел на нее и молчал. Он тогда как будто язык проглотил. Царица улыбнулась и сказала: — Вот мы с вами снова встретились. Вы меня узнали? — Да, — тихо сказал Иван. И больше он ничего не сказал. И царица тоже молчала. Но она больше уже не улыбалась, а только очень внимательно смотрела на Ивана. А Иван смотрел на нее и вдруг вспомнил, как в первый же день его армейской службы прапорщик Ухин сказал: никогда не радуйся, если тебя вызывают к начальству, и чем оно выше, тем хуже тебе. А тут куда выше, подумал Иван, да и еще из-за чего он вызван! И он опустил глаза и стал смотреть на стол, на свечу, на подсвечник. — О! — вдруг сказала царица. — У вас такое усталое лицо! Или вы чем-то очень обеспокоены? Иван опять посмотрел на царицу. А она опять улыбнулась и спросила: — Или это вы о своей невесте так беспокоитесь? — Почему? — спросил Иван. — Как почему? — ответила царица. — Вы же ей колечко передавали. Вот теперь, наверное, и беспокоитесь, дошло колечко или нет. Ивану стало тяжело дышать, но он уже не опускал глаза. Царица перестала улыбаться и сказала: — Это ваше счастье, господин ротмистр, что судьба надоумила вас отправить это колечко по этому адресу. Иначе как бы я узнала, куда вы пропали? Неужели вы думаете, что господин Орлов сообщил бы мне об этом? Нет, конечно, ничего не сообщил бы. Он же в последнее время стал очень скрытный. Такой скрытный, просто ужас. Ничего от него не добьешься. Вы позволите, я сяду? Иван растерянно кивнул. — Благодарю вас, — сказала царица и села. После чего теперь уже снизу вверх еще раз осмотрела Ивана и продолжала уже вот как: — Какой на вас странный наряд! Вы как будто прямо с машкерада. Этакий пейзанин. — Потом вдруг быстро спросила: — Кто вас надоумил так переодеться?! Иван молчал. Царица сердито сказала: — А я знаю, кто. Но я бы хотела, чтобы вы сами назвали этого человека. Это было бы как знак доверия с вашей стороны. Иван опять промолчал. Тогда она сказала: — Хорошо. Тогда начнем с другого. То есть начнем с самого начала. Почему вы, когда все это началось, эти события, то вы оказались там, где оказались, а не с моими друзьями? Иван подумал, что все время молчать глупо, и сказал: — Потому что мне так царь велел. — Так, хорошо, — сказала царица. — Вы ему присягали, понятно. Ну а когда он был уже низложен, почему вы… ну, скажем так… почему вы продолжали то, что начали? Что вас подвигло на это? — Друг попросил, — сказал Иван. — Друг! — насмешливо повторила царица. — Очень хорошо! Просто чудесно! И дальше все время тоже он просил? — Нет, только вначале, — ответил Иван. — А потом просто за друга было обидно. Его же убили. — Кто? — Неважно, кто, — сказал Иван. — И как его звали, это тоже неважно. — Я знаю, как! — Тогда зачем было спрашивать? — А вы дерзки! — Виноват, — сказал Иван. — Не гневайтесь. Царица улыбнулась, помолчала. А потом сказала так: — Хорошо, пусть что было, то было. Время было очень непростое, у меня у самой голова постоянно шла кругом. Да и у тех, кто надоумил вас на все это, тоже многое тогда перепуталось. А теперь мы забудем об этом. Закроем, как книгу. И теперь я только вот о чем хочу у вас спросить: где вы были вчера ночью? Иван молчал. Царица нетерпеливо поморщилась и продолжала быстро, даже раздраженно: — Хорошо! Тогда спросим вот так. Вчера ночью в некотором месте произошло, скажем так, весьма серьезное, очень непростое событие. И мне о нем было доложено. Вашим большим недоброжелателем! Вы понимаете, о ком я веду речь. И вот он мне доложил об этом, но я имею очень веские причины не доверять его словам. А вот вам я бы сразу поверила. Если бы вы только заговорили. Иван молчал. Ему было очень страшно молчать. Но говорить было еще страшнее. И противно! — Хорошо, — сказала царица. — Я вас понимаю. Я знаю: вы мечтаете об отставке, о женитьбе, об имении. — И тут она быстро спросила: — Хотите тысячу душ?! Иван подумал, усмехнулся и ответил: — Тысячу! Да тут с одной своей не знаешь, как справиться. — А две тысячи? — спросила царица уже медленно и со значением. И так же со значением прибавила: — Я не шучу. Иван молчал. Тогда она спросила: — А на дыбе вы бывали? — Нет, — сказал Иван. — А что? Она помолчала, ответила: — Так, ничего. Это я просто к слову. И больше она уже ничего не говорила, а только смотрела на Ивана. А Иван смотрел на нее. Потом он сказал: — Я ничего нигде не видел. И ничего не знаю. А если вы хотите со мной что-то сделать, то делайте. Ибо на то ваша монаршая воля. Но только со мной! — Вот даже как! — сказала она тихо. — Вот вы какой чистенький да благородный. А я какая низкая и гадкая. Глупец! Вы ровным счетом ничего не понимаете! Эти мерзкие паркетные шаркуны, эти букашки, втянули вас в эту грязную, подленькую игру, в которой они не видят дальше собственного носа! Но их тьма и тьма, их легион. А я одна! И что я могу одна против них всех?! Это же только так говорится, будто я самодержавная владычица! Какая я самодержавная?! А вы, конечно, в это верите! Ведь верите, что я самодержавная и всемогущая?! Нет, отрицательно покачал головой Иван, нет, не верю… И вот тут она вскочила и закричала ему: — Вон! Вон отсюда! Немедленно! И чтобы я вас больше никогда не видела! — и указала на дверь. И Иван, а чего было делать, развернулся и пошел к двери.ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ Триста лет
И больше никто его не видел. А на следующий день пропала и его невеста Анюта. Случилось это так: она вдруг быстро собралась и пошла в церковь, а из церкви уже не вернулась. Про церковь же рассказывали вот что: Анюта там была, молилась, потом к ней подошел какой-то господин и что-то ей сказал, она сразу закрыла лицо руками и некоторое время так стояла, а потом убрала руки, что-то ему ответила, еще раз перекрестилась, низко поклонилась образам — и вышла вслед за этим господином. И как вышла, так сразу пропала. Говорили, что возле церкви ее ждала тройка — ее и того господина, который отвез ее неизвестно куда. Точнее, тут же добавляли знающие люди, ее отвезли туда, куда прежде отвезли ее жениха, а оттуда, как известно, еще никто не возвращался. А что натворил ее жених? — спрашивали другие люди. А что, им отвечали, вы разве не знаете? Ну так вам тогда лучше и не знать, ибо чем дальше от такого держитесь, тем вам спокойнее. И, возможно, так оно на самом деле и было, откуда нам знать. А по поводу спокойствия можно сказать только одно: здесь успокаивало только то, что, как опять же говорили знающие люди, Данила Климентьич и Марья Прокофьевна, то есть родители Анюты, в церкви, поминая свою дочь, свечи ставили всегда только во здравие и никогда за упокой — и так до самой своей смерти. А вот уже потом, то есть после их смерти, никто, насколько нам известно, свечей в память Анюты, равно как и Ивана, не ставил — ни за упокой и ни за здравие. То есть что с ними случилось дальше, догадаться уже никак невозможно. Белый свет, как известно, велик. Живы они или нет, как узнать? И где искать, у кого спрашивать? Так что тут с уверенностью можно сказать только одно: в Великих Лапах ни Анюты, ни Ивана не было, они туда не приезжали. Не было там и Базыля, который, кстати будет вспомнить, тоже потерялся непонятно где и уже даже к Кейзерлингу не явился, и тот уехал в Варшаву один. Так что не стоит даже говорить о том, что рассматриваемое в Виленском Высоком Трибунале дело о законном наследовании маентка Великие Лапы вскоре пришло в крайнее расстройство, крестьяне, лишенные твердой руки, начали понемногу бежать кто куда, что вскоре привело к тому, что даже корчмарь оттуда съехал. И так эти места стояли в полном запустении до той самой поры, когда, по Первому разделу Речи Посполитой, они, вкупе с другими местами, не перешли во владение генерал-аншефа Пассека, Петра Богдановича. Помните такого? Того самого когда-то капитана Пассека, из-за неосторожного слова которого братья Орловы были вынуждены срочно начать выступление. Которое, к их счастью, закончилось полным успехом. Да и Петр Богданович, как вам теперь уже нетрудно догадаться, тоже не мог пожаловаться на свою последующую судьбу, ибо одна ночь, проведенная им в ордонанс-гаузе Преображенского полка, вывела его в великий случай, который, в свою очередь, возвел его в генералы, посадил в кресло главы Могилевского и Полоцкого наместничества, а также даровал еще и владение вышеупомянутыми Великими и Новыми Лапами, которые он велел заселить крестьянами соседнего имения, бывший владелец которого, некто Юлиан-Бонавентура-Людвиг Хвацкий, был осужден за укрывательство мятежников и сослан в Кяхту. Вот как порой непредсказуема наша судьба! Кого-то она возносит до небес, а кого-то низвергает в пропасть. Или у кого-то вдруг опускаются руки, и он, как, например, фельдмаршал Разумовский, подает в отставку и уезжает в дальнее имение. А кто-то, как Никита Иванович Панин, упорно продолжает начатое — и вот он уже расследует дело двух молодых офицеров, Ушакова и Мировича, тщетно пытавшихся возвести на престол Иоанна Антоновича. Никакого заговора не было, утверждает Никита Иванович, Мирович действовал в одиночку, на своей страх и риск, а Ушаков здесь и вовсе ни при чем, Ушаков утонул, а Иоанн Антонович убит своей же собственной охраной — и Мирович казнен, дело закрыто, братья Орловы снова в гневе, Неплюев снова усмехается, государыня пьет крепкий кофе и молчит… Ну и так далее. То есть совсем как у нас. Нет, у нас было даже проще — у нас даже и дела не открывали. У нас все тихо. Ну, разве только кто убит, а кто исчез, кто, как Василий Шкурин, дослужился до камергера, а кто, как его названый племянник, которого он, как говорят, вынес из огня, впоследствии поименован Алексеем Бобринским, возведен в графское достоинство, а после даже — вот где случай, — правда, уже после седьмого ноября, сиречь после кончины государыни — самим государем Павлом Петровичем прилюдно назван братом. То есть некоторые тайны со временем все же перестают быть таковыми. Но это семейные тайны. А вот зато тайны иного рода порой хранятся много дольше — например, триста лет. И если эта цифра, сообщенная мне людьми, вполне отвечающими за свои слова, верна, то нам предстоит еще довольно много времени гадать, что же было дальше с нашими героями — Иваном и Анютой. С одной стороны это, конечно, очень досадно. Зато с другой — нам представляется полнейшая свобода даровать им все, что пожелаем. И только потом уже, когда минуют эти триста лет… Да только когда это еще будет! Вот, собственно, и все, о чем я хотел вам поведать. Кого я еще забыл? Ах, да, Кондрат Камчатка. Так вот: сей вор и злодей был казнен в Москве на Болоте вместе со своим сообщником Емелькой Пугачом, который имел дерзость именовать себя чудесно спасенным государем Петром Федоровичем, хотя нисколько на него не походил, в отличие от того безымянного матроса, о котором Ивану рассказывал Яков (на самом деле, конечно, не Яков), поручик, переведенный из гвардии, ныне, без выслуги, в отставке. Ну и совсем уже последнее. Если кто вдруг захочет спросить, откуда мне известна вся эта история, да и еще со множеством подробностей, то я на это отвечу следующим образом: я таковою ее слышал на Камчатке, в Большерецком остроге, весной 1772 года, от одного весьма уважаемого господина. Ни имени, ни фамилии его я не знаю, да и никто этого там не знал, ибо все большерецкое начальство, включая господина коменданта, капитана Нилова, обращалось к нему не по имени, а единственно по воинскому званию с обязательной прибавкой «господин». Это и впрямь был настоящий господин! Он жил с семьей в отдельном крепком доме на Главном Пригорке рядом с домом господина коменданта. И жены их были дружны, и дети. Жену его звали Сударыня (и только так!), а детей уже обычно: старший Иван и младший Федор. Дети были весьма просты в общении. Да и сам тот господин, невзирая на некоторые знаки, коих он был обладателем, тоже нисколько не чурался нашей компании, в которой, не могу об этом умолчать, он выделял особенно меня — и частенько приглашал к себе на чай или даже просто посидеть при настоящей свечке. Почему из всей нашей компании был избран именно я? Боюсь, что лишь из-за того, что я еще с раннего детства отличался исключительной любовью слушать любопытные истории, а потом их пересказывать. Что я сейчас и делаю. И я, поверьте, рассказал бы вам намного больше, но, во-первых, я дал слово кое о чем из мною услышанного не упоминать ни при каких обстоятельствах, а во-вторых, кое-чего я просто не успел услышать, так как уже летом вышеупомянутого 1772 года я имел неосторожность примкнуть к дерзкому бунту, поднятому нашим товарищем по заключению, неким Веневским, после чего злосчастная судьба по воле слепых волн забросила меня вначале в Японию, затем на Мадагаскар, а затем и вовсе во враждебную нам Францию, где я по сей день и нахожусь. Так что, как сами понимаете, никаких известий из Большерецка я не имею и даже представить себе не могу, жив или нет мой любезный рассказчик и желает ли он или нет, чтобы я вам еще о чем-то рассказал… А посему я лучше умолкаю, напоследок еще раз напомнив, что триста лет — это не так уже и много, они же ведь тоже когда-нибудь кончатся.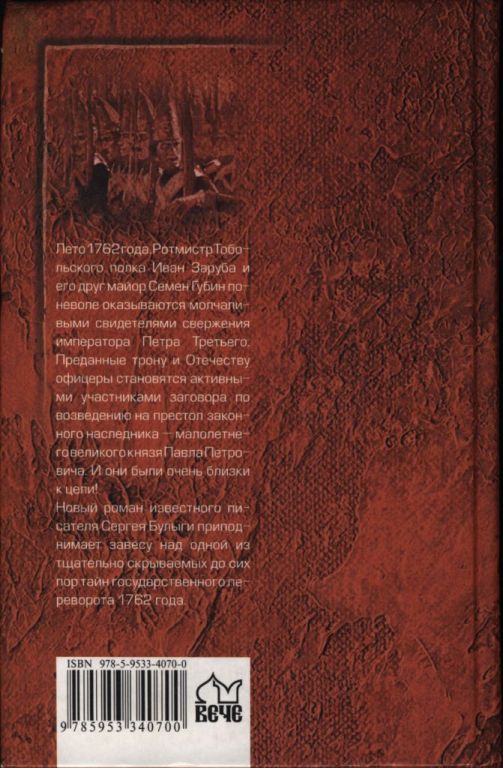
Лето 1762 года. Ротмистр Тобольского полка Иван Заруба и его друг майор Семен Губин поневоле оказываются молчаливыми свидетелями свержения императора Петра Третьего. Преданные трону и Отечеству офицеры становятся активными участниками заговора по возведению на престол законного наследника — малолетнего великого князя Павла Петровича. И они были очень близки к цели! Новый роман известного писателя Сергея Булыги приподнимает завесу над одной из тщательно скрываемых до сих пор тайн государственного переворота 1762 года. Внимание! Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения. После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий. Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Последние комментарии
5 часов 51 минут назад
10 часов 55 минут назад
18 часов 44 минут назад
21 часов 14 минут назад
21 часов 22 минут назад
2 дней 8 часов назад